Даниэль Орлов ДОЛГАЯ НОТА (От Острова и к Острову)
Издательский дом «Выбор Сенчина»
© Даниэль Орлов, 2017
ISBN 978-5-4485-9349-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1. Я и Лёха
Уникальность этого придурка в том, что ему всё прощается. Прощаются выходки на днях рождений, деньги, занятые двадцать лет назад под стипендию, уведённые у друзей и сгинувшие в киселе времени любовницы, разбитые тарелки, раскачанные и сломанные стулья, забытые встречи, потерянные книги, звонки среди ночи и храп. Храп, от которого никуда не скрыться, даже если его источник в самой дальней комнате с закрытой дверью, опущенными шторами, отгороженный шумом колонки на кухне, музыкой из стереосистемы и тиканьем старых ходиков. Храп тоже прощается.
— Лёха, оставайся! Куда ты среди ночи?
Он лыбится, скалится, отводит глаза. Он лукав и сосредоточен одновременно. Останавливаю его, долго толкаюсь возле дверей, отнимаю куртку, вешаю в гардероб. Усаживаю за стол, ставлю чайник, наливаю водки.
— Мосты уже разведены, женщины спят, а мужчины, если не спят, то пьют. Посторонние злые мужчины. А я не посторонний. Я свой. Я стелю тебе в кабинете, а утром кормлю завтраком. Яичница с грибами и гренками. Кофе из страны Финляндия. Свежее полотенце. Душ.
И он остаётся и храпит. И утром курит на кухне. И на цыпочках пробирается по квартире. И шуршит курткой в прихожей. И возвращается с победным лязганьем замка и звоном пивного стекла. И опять курит на кухне. Я слышу, как он выдыхает дым вверх. Слышу шелест, это он листает томик японской поэзии, время от времени с хрустом переламывая переплёт. Я просил его быть аккуратнее с книгами, но он как Самсон, мечтающий разорвать пасть чужих правил и собственного страха. Я могу валяться в кровати и не спешить. Ему там хорошо среди сакур и самураев.
Неожиданно его понесло. Позвонил в понедельник уже из вагона.
— Куда это ты? — спрашиваю.
— Знаешь, надоело всё как-то. Валю на Севера.
— С какой целью?
— А без цели. Что найду, то и привезу. Если хочешь, присоединяйся. Бери на работе за свой счёт на недельку.
И ведь знает, сволочь, что я готов сорваться и сбежать. Столько раз с ним об этом говорили, планы строили. Но не сейчас. Сейчас никак. У меня отчёт по проекту. У меня с Иркой всё вдруг сложно. Отец с матерью к себе зовут. А это уже север — севернее не бывает. Ромка в больницу с воспалением лёгких попал. Халтура наклёвывается. Бред…
Вот так осядешь в городах, в каменных домах далеко от земли, в сухих жилищах с просеянной от камней землёй, где растут оливы, почти без воды. Прорастёшь по берегам рек, проносящих вчерашний день. Опоишь себя правилами, опутаешь законами. И, духа своего не стесняясь, живёшь от деда к правнуку. Что не так? Азия внутри. Скачет куда-то, гонит, подхлестывает.
И тому, как на грех, просторы приданы тысячами километров, чтобы мог русский человек сбежать от мыслей своих из дома своего, да так, чтобы забыть дом. Из конца в конец в вечном блуде паломничества, в зависти к свободе цыган, не имеющих родины, в ненависти к иудеям, делающим родиной любое место, где пришлось поселиться, в тоске по славянскому своему берегу, к которому никогда уже не пристать. Как же с такой тягой к побегу собрались в один народ? И что в том народе, кроме споров о том, куда идти? Раскидало семя по окраинам, оно взросло, а выходить некому. Лишь бедой да стыдом держимся. Век к веку в неверии и удивлении Богу своему, что не понимает язык, на котором с ним говорят. Может, не слышит он с того места, откуда кричим? Может быть, с той горы крикнуть, из-за того леса, с берега того озера или с холма на том острове? Может быть, там ближе до него?
И уходишь — уезжаешь в места без людей. Не для того, чтобы сказать, нет — сказать нечего, крикнуть да эхо услышать. Забираешься в чащи, в болота, в долгие белые дни. А всё одно — глохнешь от тишины, слепнешь от белого света и неба. И никогда не обжить эти края, как дикость эту внутри никогда не сделать пашней. Загадить, завалить железом и пластиком, но не сделать домом.
К четвергу меня уже знобит дорогой. Утром места себе в Иркиной квартире не нахожу. Чмокнул в щёку, сел в машину, но не на работу, а домой. Дома покидал в сумку свитер, рубашку, носки, пару футболок. Спиннинг у меня короткий, удобный, в жёстком чехле. Привязал его мотявочками к ручкам, поднял сумку — вроде удобно. Отогнал джип на стоянку, а сам в метро и на Ладожский вокзал. Думал купить билет на дневной, а получилось только на вечерний. И хорошо, что так. Всё правильно. Сдал шмотки в камеру хранения, поехал на работу. Кое-как уломал ребят, чтобы подстраховали на недельку. Раскидал письма, расписал все работы по пунктам, чтобы вопросов ни у кого не возникло. Покурил с шефом, пообедал с бухгалтершей. Вроде всё нормально. Куртуазно. За свой счёт. Срочно. Без объяснения причин.
В больницу к шести приехал. Натянул на ботинки голубые гондончики, прошёл на отделение. Ромка сидит на кровати и собирает конструктор. Худенький, бледный, вспотевший. Волосики ко лбу прилипли. Меня увидел, обрадовался. Я его переодел в сухое, перевернул подушку. Очистил грейпфрут, накрошил в стакан, засыпал сахаром.
— Мама была?
— Была.
— Давно?
— Сегодня была, завтра придёт.
— Про меня спрашивала?
— Нет, не спрашивала. А ты принёс что обещал?
Я достаю из пакета коробку, передаю ему. Он смеётся, лезет обниматься. Мне кажется, что это он ко мне пришёл, принёс зефир, переодел. И теперь я могу спокойно заснуть, взяв его за руку.
— Скучаешь здесь?
— Не-а. Мы сегодня смотрели мультики, а завтра с Пашкой будем рисовать весь день.
— Это хорошо. Скоро уже выпишут. Хочешь домой?
Он молчит, и я чувствую, что сейчас заревёт. Я всегда это знаю за несколько секунд, по тому, как у него чуть морщится нос.
— Слушай! Я совсем забыл! Тут такое дело…
Я ещё не придумал, что сказать. Но знаю, что нужно любым способом отвлечь его. Нельзя было про дом спрашивать. Он ещё в прошлый раз мне сказал, что хочет, чтобы, когда он вернется, там был я. Ну, а как такое сделаешь? Так уже нельзя.
— Я еду на Север. Путешествовать еду. В командировку. Что тебе привезти?
— А что там есть?
И верно, что там есть? Не копчёную же рыбу ему везти. Всё, что там есть, тому там и место. Это не перевозится. Это не живёт отдельно. Разве что иголки еловые, ракушка с побережья, окатыш с дырочкой. Но это надо самому найти, в карман спрятать, теплом своим согреть.
— Трансформера хочешь?
— Нет. А собаку можешь?
— Собаку мама не разрешит.
— А мы ей не скажем.
— Она сама узнает, когда собака залает.
Привезу ему игрушку красивую. Какую-нибудь большую, красивую игрушку. И он будет знать, что это «с севера». И пока он не подрастёт, будет думать, что там, «на севере», много игрушек и потому там хорошо.
— Дед Мороз всегда с севера игрушки привозит. Вот и я тебе привезу.
— Деда Мороза не бывает.
— Кто тебе сказал?
— Я сам знаю.
— А если он есть, а просто ты его не видишь?
— Если я его не вижу, значит, его нет.
— Помнишь, как он приходил на Новый год и подарил тебе железную дорогу?
— Это был не Дед Мороз, это был специальный дядя такой, который приносит подарки, потому что его просят родители.
— Возможно, что ты прав. Но где-то же есть настоящий. Иначе было бы неправильно.
Мы ещё болтаем, когда приходит медсестра делать уколы. Ромка странный мальчик. Он не боится уколов, не боится зубного врача. Ему почти шесть лет, но он не хочет в школу, не хочет быть лётчиком и не любит рисовать. Зато он умеет читать толстые книжки, лихо подбирает мелодии на детском электрическом пианино и обыгрывает маму в карты.
Медсестра у Ромки хорошая, внимательная. И вовсе не потому, что я в первый свой приход сунул ей пятьсот рублей. Наверное, зря я ей эти деньги всучил. Вдруг обидел? Я здороваюсь, встаю со стула. Ромка машет мне рукой — мол «иди уже у меня дела».
Ночью вагон, как спутанная бечевой лошадь. То вздохнет, дёрнет, стукнет подковой о камень, а вот уже опять стоит, и лишь прожектор безымянной станции светит в окна плацкарта. Моя полка нижняя. Сверху свисает простыня — не мешает, но раздражает. Пока ехали, не раздражало. А как встали, так словно не простыня это, а лист оцинкованной кровли.
В дороге нельзя стоять. Дорога ритм теряет, распадается на части, кружит мыслями без цели, дребезжит под веками глупой песенкой. Той, что в кафе на вокзале, по радио, между второй стопкой водки и «американо» без сахара. И не слушал же, о другом думал, а словно нарочно учил. Два куплета в голове и мотивчик. И не уснуть. И не встать. И простыня эта.
Теперь точно уже не нагоним. Часа на три опоздаем, а может быть, и больше. Куплю молока и пирожков с яблоками. Буду сидеть на причале, есть пирожки и смотреть на море. И никуда не стану торопиться. Не стану забегать каждые полчаса к диспетчерше с вопросами про очередной катер. Для тех, кто смотрит на море, не существует времени. Позволение смотреть на море — это форма прощения грехов. В реальность этого моря надо прежде поверить, допустить его в свою душу и мысли, привыкнуть к тому, что оно есть. Море без кабинок для переодевания, лежаков и надувных матрасов, скутеров и чурчхелы, облепленной мухами. Море без объявлений «сдаются комнаты», без черешни в полиэтиленовых пакетах и кукурузы на пляже. Море, к которому приходишь либо поговорить по душам, либо умереть. Заснул.
В Кеми холодно. Ветер немилосерден. Пирожков не купить. Оба магазина на площади закрыты. Коричневая «четвёрка» с водилой, сухим и скользким, как густера.
— За двести не повезу.
— За четыреста не поеду.
— Иди пешком.
— Стой дальше.
— Бензин дорогой.
— Мир вообще несправедлив.
— Садись за триста.
Блатняк из магнитолы неведомый редактор словно специально подбирал к дороге. Здесь это к месту. Здесь этому можно. Тут джаз не прокатит, классика не услышится, рок не докричится.
— На Соловки?
— Туда.
— «Косяков» ушёл уже.
— Так будет же ещё что-то?
— Должно. Автобус за паломниками приехал, значит, будет. Отдыхать аль по работе?
— По работе, — зачем-то вру я.
Водила кивает. Если по работе, то как-то правильнее. Я же не отдыхать еду. И не в монастырь. Зачем? Хрен меня разберешь. Но не отдыхать.
Расплатился возле шлагбаума, подхватил рюкзак и пошёл к причалу. Издалека приметил зелёную рубку «Святителя Филиппа». Почему-то меня эта монастырская флотилия умиляет. Не могу себе объяснить. Катера вполне современные, построены в семидесятые. Но что-то в облике их такое, что кажутся они старше своих лет. Словно родились они на архангельских верфях уже стариками, чтобы сразу впасть в юродивость. А с юродивого какой спрос. Он от людей дальше, нежели от Бога. Потому коль не утопнуть вместе с ним, так вроде как милостыней одарить.
Примостился на корме за гальюном. Там не дует. Это на причале жарко. Как выйдем из бухты, так засвистит вдоль бортов. Паломники тут же на ящике пузырь распечатали, колбасу на газете режут, яблоки на четыре части. Треснули за отплытие, сразу по второй за «семь футов». Лица у всех чиновничьи, муниципальные. Обрывки фраз долетают. То про «зампреда» что-то, то про «этого хмыря из района», то про «суку Федотова, что никак на пенсию не спровадить». Шумные, весёлые, искренние в своей хмельной радости. Но как вкусно мужик впивается передними резцами в толстый бутерброд с колбасой! А до этого пил, как целовал. Глаза прикрыты, в пальцах страсть.
Усатая морда нерпы появилась над водой совсем близко. Загомонили, заголосили, заохали. Куски булки полетели в воду, да всё чайкам.
Телефон звенит. Странное это чувство. Вокруг море, а телефон звенит. Здесь меньше электричества в воздухе, нежели в городе. Но и сюда оно пробралось вслед за короткими волнами, шипеньем чужих голосов и музыки.
— Ты где?
— Не поверишь. Верстах в пяти от Кеми.
— Где это?
— На Белом море.
Ирка смеётся. Хорошо смеётся, словно прощает. Не смех, а журчание. Ради такого смеха можно и дальше забраться, или вообще никуда с места не двинуться.
— Слышишь, чайки кричат?
— Слышу, как двигатель шумит.
— Слышишь чаек? Слышишь?
— Слышу. А ты надолго?
— Нет, правда слышишь?
— Правда, слышу. Ты надолго?
— Дней на десять. Извини, что не предупредил. Я и сам не знал.
— Ты не знал, а я знала. У тебя лицо такое было, словно сбежать собираешься. Думала, что от меня, а оказалось, что от себя.
— Не обижаешься?
— Уже нет.
Связь пропала. Сунул телефон глубже в карман, застегнулся под самый подбородок, капюшон на нос натянул. Качает, того гляди закемарю. На море туман, как морок, чайки сквернословят, пыль водяная на щеках. Ещё чуть-чуть чего-то простого, и впаду в ересь счастья. Отдыхать поехал? Нет. Может быть, в паломничество? Нет. Как назвать это перемещение во времени, когда идёшь от себя в настоящем к себе настоящему? Это что-то на санскрите. Слово какое-нибудь, которого и не выговоришь, а только выдохнешь из себя без звука. Вдыхая небо, выдыхаем землю. И не чернозём, а песок, суглинок, супесь неплодородную. Пусть берега из них себе море выстроит, мне это ни к чему. Меня от этого не больше.
Ирка с Лёхой поначалу общий язык не нашли. Пугал он её. Шумный, размашистый, словно всегда на ветру. Говорит громко, слова по всей квартире разносит, сквозняками на лестницу выдувает. А она не такая. Она как за верёвочку держится, ступает аккуратно, в глазах детство детское. Я её впервые увидел, так сразу беззащитность её почувствовал. А получилось так, что она меня защитила. Сидела на скамейке в парке. Рядом сумка вязаная огромная. На коленях книжка. Возле ног такса жёсткошёрстная, потешная. А я пьян был третий день. Мы с женой только-только развелись официально. По жизни ещё год назад как разошлись. Уехал я к себе и решил, что никогда больше не вернусь. В квартире ещё пусто было, книги перевязанные, диван бабушкин, трюмо старое, довоенное, за раму фотокарточка моя вставлена в школьной форме. Я когда по дурости квартиру продавал, всю мебель на помойку вывез. Из шкафов всё выбросил. Только диван да трюмо оставил. Я как в том трюмо отразился, так сразу понял, что напьюсь. И напился. И в этот раз напился. Вернулся из суда и напился. И звонил потом кому-то, что-то объяснял, убеждал, каялся. Потом засыпал, просыпался, стыдился вчерашнего звонка, опять выпивал, опять звонил. В конце концов просто вырвал телефон из розетки, из сотового аккумулятор вытащил — и в окно. Махнул сразу стакан, и как расстрелян. Сутки проспал. На душе так скверно, что знобит даже. Душ. Чай горячий. Кое — как себя в порядок привёл. Но всё равно колотит внутри, корёжит. Порылся по ящикам, аспирина не нашёл. Решил в аптеку сходить. Аптека прямо в доме, на первом этаже. Да вот только её ещё при бабушке на ремонт закрыли. Взял себя за шкирку, оделся, пошёл к рынку в аптеку Пелля. А на улице тепло, весной пахнет. Люди по Пятой линии прогуливаются, собаки по своим делам спешат, машин мало. Суббота, что ли?
Аптекарша на меня посмотрела с участием. Дала аспирин. Предложила микстуру какую-то. А мне все равно. Я вообще с трудом понимаю, то ли с бодуна, то ли вправду заболел. В ларьке банку джин — тоника купил, две таблетки запил и понял, что не могу я домой идти. Совсем там загнусь. Вроде и мой дом, вроде прожил в нём жизнь после бабушки. А только место моё там, где Ромка, где стол мой, кресло перед телевизором, где полочки деревянные на кухне, моими руками сделанные, где шесть лет моих в обойном клее на стенах, в скрипе пружин тахты, в лязганье задвижки в ванной, в стёртом линолеуме в прихожей. И как теперь себя выдирать оттуда? В каких сумках уносить?
На углу в лабазе ещё банку пойла купил. Дай, думаю, в Соловьёвском садике посижу. Прошёл сзади Академии художеств мимо детей с колясками, мамаш с детьми, собак с мамашами. А в садике все скамейки заняты. Там компания какая-то с гитарой, там старушки, там мужики нетрезвые. Только у самой эстрады девушка одна на скамейке сидит, книжку читает. Собака рядом. Такса. Смешная такса. И девушка с лицом таким… С хорошим лицом. Вскинула на меня глаза, а в них опасение, что сейчас плюхнется рядом это чудовище. А ей так уютно было на солнышке, с книжкой, с собакой. Она даже по сторонам оглянулась, словно ища место, которое меня примет.
— Простите, — говорю, — не бойтесь. Я вам мешать не стану. Я просто посижу.
— Сидите, — отвечает, — вы мне не мешаете.
— Вы уж меня извините. Но правда больше сесть некуда. А мне очень тут нужно. Я недолго.
А она уже не отвечает. Уткнулась в книжку. Ногой собаку свою придерживает. А та носом кожаным ко мне тянется. И понимаю, что помешал я им здорово. Никак девушка на книжке сосредоточиться не может. Минуты три читает, а страницу всё не переворачивает. Тут замечаю, что смотрю на неё в упор беспардонно, кажется, не мигаю даже. Отвернулся. Банку с хлопком открыл и вдруг застеснялся этого хлопка, банки этой, вида своего. Закрыл глаза, чтобы себя не видеть, выпил. И слёзы из-под ресниц сами потекли. Да так потекли, что не остановить их. Закашлялся, рукой прикрыл лицо, а не могу сдержаться. Три дня держался, ни слезинки. Только сигарета за сигаретой, глоток за глотком. И всё. Кончился завод. Сижу как дурак на солнышке, плачу. Уткнулся локтями в колени, голову обхватил. И вдруг язык собачий: в нос, в глаза, в губы. Мягкий, тёплый, щекотный. Всё лицо мне вылизал. Нос кожаный сопит, глаза — две пуговицы мультяшные. А девушка меня за плечо трогает.
— Возьмите, — говорит и салфетку мне протягивает.
— Простите. Сейчас уйду. Простите. Честное слово, не хотел вам мешать.
— Всё нормально. Всё хорошо. Не волнуйтесь.
Высморкался, выдохнул резко. Головой потряс.
— Всё, — говорю, — спасибо. Что-то расклеился. Погода, наверное.
— Вам плохо? — спрашивает.
— Да уж. Не очень хорошо. Пройдёт.
— Что-то случилось?
А мне ведь выговориться нужно кому-то. И не друзьям-приятелям, не Лёхе, не родителям по телефону, а Кому-то. Если бы в Бога верил, то ему бы сказал, но только не знаю как. Не в церкви же говорить. Как там скажешь? Какими словами? Там теми словами, которыми говорить хочется, разговаривать нельзя. Не принято это. Там людно, суетно. Там Бог словно бы на работе, словно на службе — до меня ли ему? Сам с собой внутри уже наговорился, по кругу мыслями в мозгу тропу вытоптал. По краям тропы траву пожёг. Всё в саже черной, в пепле.
Девочка эта меня лет на пятнадцать младше. Совсем ребёнок. Студентка, наверное. Тебе ли мою слабость видеть? Иди, милая. Иди, не спрашивай. У тебя ещё будут свои слёзы, ещё наплачешься, ещё посветлеешь глазами. Я уже нормально. Я уже в порядке. Я уже ого-го как!
— У вас что-то случилось? Что-то произошло?
Не выдержал. Заговорил, закашлял, слова с дымом из меня то вверх, то в кулак. Фразы с языка срывваются, как парашютисты. Долю секунды назад страх. Нет! Разобьются! И вот уже ветер унёс. Освободились от меня, а я от них. И легко. И такса смеётся, как смеются только собаки — глазами.
Потом шли вдоль набережной. Мимо Меньшиковского дворца, мимо университета, где она учится, мимо института Отто, по Биржевому, по Кронверкскому, по Малой Посадской, по Чапаева. Потом сбегал с работы пораньше, чтобы встретить её после учёбы. Ждал в машине, слушал музыку. Потом тащил деревянные ящики с фруктами от вокзала: она со своей мамой впереди, я сзади. Потом провожал их вдвоём в аэропорту. Потом встречал её с ночного рейса и вёз через весь город, и стоял перед разведённым Троицким мостом. Потом Новый год в зимнем Сочи, с домашним красным вином. Потом бумажные кораблики вдоль по Карповке, беседка в Ботаническом саду, такса, которому надоело сидеть на одном месте и который дёргал меня за штанину.
— Не жёсткошёрстный он, а жёсткосердный!
— Дурачок ты.
— А он?
— И он дурачок. Два моих дурака.
И смеётся. Хорошо смеётся. Ручеёк звенящий.
Остров появляется, как всегда, неожиданно. Только что туман, плотный, как божье семя, а вот и солнце на куполах. Секунда — и уже бухта, глянцевый отпечаток с белой каймой стен. «Василий Косяков» у пристани, катера вдоль берега, у дока яхты борт к борту. Раньше яхт тут не было. Собор свежей побелкой фасонит, Купола заново перекрыты. Людей-то! Людей сколько!
Лёха встречает меня на причале. Вид у него местный, аборигенский, островной: треники, армейский бушлат поверх футболки, на голове выгоревшая кепка с эмблемой игр доброй воли. Сидит на лавочке, в руках коньяк, на горлышке бутылки пластиковые стаканчики. Я позвонил ему ещё из Кеми, разбудил, предупредил, что на «Косякова» не успеваю. Он понёс какую-то дичь, не то спросонья, не то с похмелья, но я не слушал, отключился: роуминг, дорого.
— Привет участникам Второй международной конференции работников деревом подрабатывающей промышленности! — орёт Лёха. — Молодая Россия ждёт от вас подвигов! Пламень ваших сердец согреет северные просторы!
На него косятся. Я машу ему рукой, косятся на меня. Но Лёху это только подзадоривает. Он вообще склонен к эпатажу. Как-то ещё на третьем курсе, зимой, он с микрофоном приставал к прохожим на углу Шестой линии и Среднего.
— Здравствуйте! Радио «Васильевский остров на средних волнах». Что вы можете сказать по поводу жестокого убийства Симона Боливара? Какую оценку вы дадите этому событию?
Провод от микрофона тянется к огромному, сверкающему хромом магнитофону JVC у меня под мышкой. Кто-то «не в курсе», но большинство опрашиваемых оказываются «гневно возмущены». Им тут же предлагают сдать по рублю в фонд помощи родственникам Симона Боливара. За пару часов насшибали кучу денег. Поехали в аэропорт. В тот же вечер улетели в Крым на выходные.
Схожу по трапу. Матрос подхватывает под локоть.
— Эй! Он уже на ногах не стоит? — Лёха ржёт.
Обнимаемся, бьём друг дружку кулаками в грудь. Он делает приглашающий жест к скамейке.
— Немного красного вина? Немного ласкового мая?
— Солнечного, — поправляю я.
— Июня, — уточняет Лёха
— Тогда уж коньяка, — смеюсь.
— Я ждал этого слова! — кричит Лёха и разливает по стаканчикам. — Хочу тебе сказать, что тут всё изменилось. Вообще всё. Туристов полно. Ощущение, что курорт. Анапа, мать её! Велопрокаты, гостиницы, приём платежей сотовых операторов. Думаю, что нам теперь точно куда-то дальше.
— Я же только приехал.
— Вот и хорошо. Пару дней тебе хватит. К Ваське зайдём, тётку Татьяну проведаем и свалим.
— Не был у них ещё?
— Тебя ждал. А если честно, не решался. Столько времени прошло! Боюсь, что не признают. Вон, у тебя борода, у меня лысина. И расстались тогда нехорошо, не попрощавшись. Ещё история эта с Кирой…
Расстались мы действительно странно. Поплыли в Кемь на карбасе за продуктами и не вернулись. Семнадцать лет назад. Но кто ж знал, что так у нас получится. Молодые были, дураки. Потом всё порывались написать, на Новый год открытку отправить. Так ведь не послали.
Идём мимо монастырских ворот. Девочки-художницы этюды красят. Двое работяг из траншеи камни наверх кидают. Тётки в платках, послушники в рясах. С пригорка группа туристов спускается. Перенаселение какое-то. Мимо дока с казанками и «резинками», мимо бывшей монастырской электростанции, на тот берег бухты. Двухэтажный деревянный дом, покрашенный суриком, напоминает опустившуюся помещичью усадьбу. Лохматый пёс на крыльце. Не то лайка, не то просто барбос.
— По двести в день всё удовольствие. Договорился ещё на пароходе. Тут сейчас никто не живёт. Старые хозяева квартиру продали, в Архангельск подались, а новые всё никак ремонт не доделают. Купили за пять копеек, а теперь не знают зачем. А я, представляешь, как раз с хозяином плыл. Он сюда плиту газовую вёз. Ещё выгружать ему помогал, потом пёр всё это расстояние, — Лёха оборачивается и проводит ладонью по горизонту. — Оказалось, правда, что не зря. За неделю вперёд уплатил — и живи, дорогой Алексей, наслаждайся! Сейчас увидишь, там хоромы просто. Не то что наш барак в Савватьево.
Переступаем через псину и входим в пахнущий сыростью и котлетами полумрак. Дом этот я знаю. Тут музейные жили. А раньше, в двадцатых, лагерное начальство обитало — офицеры с семьями. Теперь просто люди. Лестница в обе стороны. Ступени деревянные, перила крашеные. Кошачий корм в пластиковой тарелке. Лёха открывает ключом обитую дерматином тяжёлую дверь.
— Вэлкам ту зе хоум, камарад!
Кидаю рюкзак. Заглядываю в комнату. Два дивана, холодильник. На стенке календарь за две тысячи третий с модным певцом-педрилой. В кухне плита новая, стол. На столе тарелки с аккуратно нарезанными сыром и ветчиной, плошка с маринованными огурцами, печенье. Салфетки в стаканчике. Солонка. Перечница. Лёха проявил чудеса гостеприимства. Иногда на него находит. А вообще, он лентяй. Дома у него что-то среднее между магазином электроники и пунктом приёма вторсырья. Раз в месяц приглашает уборщицу из своей фирмы, чтобы та за тысячу рублей разгребла его кавардак. После каждой такой уборки дня три Лёха вешает рубашки в шкаф, а грязные носки помещает в специальную корзину. Моет за собой чашки и вытряхивает пепельницы в мусоропровод. На четвёртый день, как правило, завод кончается. Выбегает из дома, не застелив постель и не убрав колбасу в холодильник, вечером приходит с кем-то из друзей смотреть футбол на своей «плазме», сжигает пельмени в кастрюле, проливает пиво и, уже успокоившись, перед сном швыряет грязную рубашку на шкаф.
— Дорогой друг! — Лёха поднимает чашку с коньяком. — Позволь мне выпить этот бокал просто так!
— Поехали!
Если выпить, то с ним нет молчания. Иногда мне кажется, что он боится тишины, как боятся её все, кто торопится жить. Ему необходимо ежесекундно сообщать действительности о своём существовании. Он словно отталкивается от каждого слова, как отталкиваются от воды, плывя саженками. Он отмахивается от тишины. Он готов менять вектор своего словесного движения и следовать за своими словами, иногда оглядываясь: — не отстали собеседники? Я отстаю. Вначале даже забегаю вперёд, заглядываю с глаза, смеюсь. Но вот уже фонетическая одышка, икота местоимений. Я не стайер разговора. Для меня эти дистанции невозможны. Плетусь где-то далеко сзади, иногда поднимая вверх руки, заметив, что он обернулся. Беги, Лёха, беги. Я срежу где-то тайной тропой, встречу тебя выдохшегося, раскрасневшегося, с последней полсотней граммов в чашке с отбитыми краями. Я подниму её за твою победу, за твою постоянную победу. Если смотреть на собор, то кажется, что шутник-декоратор специально придумывал коллаж. Сараи, заборы, жёлтый угол дома. Между рамами — братское кладбище насекомых. Потёки краски, фантики от конфет, пивная пробка. Оконное стекло не мыли несколько лет. Трещина. Кто смотрел в это окно? Хорошие люди? Скверные? Зачем они сюда? Как отсюда? Какими именами их называли жёны? Какими прозвищами их кляли в спины?..
— По последней! Чтобы были мы здоровы и неприлично богаты!
— Поехали!
Лёха выдыхает, дёргает небритым кадыком, фырчит, тянется за сигаретой, но лишь щёлкает пальцами над пачкой. Как выпьет, так забывает, что бросил. Иногда даже поджечь успевает. Сидит, смотрит на меня, как на результат своего труда — оценивающе, с гордостью, с удовлетворением.
— Ну, всё прекрасно, брат! Ты тут сам, а я пойду вздремну. Ключи на гвоздике в прихожей.
Интимность человеческого жилья. Хруст замка — хруст стариковских колен. Всю жизнь дом на корточках перед бухтой: сквозняки в коридорах, туман в вентиляции. Скрипит чем-то, гулкает, шепелявит. Не то испугать пытается, не то пожаловаться. Вздорный старик, мстительный, жалкий.
Помню другой дом. Амдерма. Улица Центральная. Раскисшая дорога к Пай-Хою. Крыльцо на балясинах, медная ручка двери, до которой так щекотно дотрагиваться, лишь сними варежку. «Би-би-си» из приёмника на качающейся волне. Пахнет борщом и касторовым маслом от отцовской куртки. Куртка на вешалке — коричневая, лоснящаяся, уютная. И ветер с Карского моря из-под штапика с дребезгом и руганью. Отец в клетчатой ковбойке, в брюках со штрипками, раскрасневшийся в жарко натопленной кухне. В зубах «родопи», очки высоко на лбу, что-то печатает на портативном «Консуле». Такая же кухня, комната. Прихожая, где я стою в углу, после того как сбежал смотреть медведя. Тоже Север, но море иное, люди другие, другая история. И дом будто старичок-проказник: спрячет под лестницей, подставит перила под выжигательное стекло, самолёт в окошке покажет. Лбом к его стенке прижмёшься, глаза закроешь: «От пятнадцати до трёх всех я знаю наперёд. Мне тут долго не стоять. Мне уже пора искать. Десять. Девять. Восемь. Семь. Оставайтесь насовсем. Пять. Четыре. Три и два. Открывать глаза пора!» Вон Лизкина куртка торчит из-за сарая: «Туки-туки. Палочка за Лизу!» Вон Серёжка Бубенцов опять в трубе. Пока вылезет, я успею добежать: «Туки-туки. Палочка за Серёжу!» Ладошкой по досточке, по тёплой, по шершавой. И дом форточкой зайчики пускает, смеётся. Он глаза не закрывал, он видел, как Димка за дверью спрятался.
С этим не поиграешь. Разве что в карты на деньги, но с ним, что с уркой, — смухлюет, сдвинет, шестёрку сбросит. Того гляди разденет, по миру пустит. А может быть, и не так всё. Просто я пришлый, чужой, хрен с бугра, понтяра питерский. Да и нетрезв до полудня. Под нос мне тряпку кислую, дверь на пружине — пендель, гвоздём за локоток: «Подождите, гражданин! Вы к нам откуда? По какому делу?» Рванул локоть. Вырвал клок. Отвянь! Сам кто такой? Вышел на крыльцо — он в спину дышит. Но нет у него власти. Стой, кряхти, смерди подвалом. Я свои права знаю: за неделю вперёд уплачено, не тебе меня колоть. Тоже мне, ветеран органов… И вот он уже сдал. Отступился. Пахнул котлетами, кошкой из окна сплюнул. Кошка серая, полосатая, деловая. На меня взглянула и в траву по своим делам: «Ну-ну, как знаешь. Ишь, какой обидчивый, гордый. Уж и поговорить нельзя».
А ведь и правда, совсем цивилизация: в магазине курицу гриль готовят! Продавщица смешливая, молодая, вниманием не обделена. Мужики похмелившиеся анекдоты ей травят. В углу телевизор новостями бредит. Мороженое, йогурты, колбаса, заморозки всякие. Одной водки два десятка наименований. Раньше только консервы по полкам стояли да хлеб кирпичиками. Помню, как мы тут яблочный сок в трёхлитровых банках брали. Пока Ваську с почты ждали, на брёвнах грелись, сигаретка на двоих. Банку открыли, отхлебнули, а там не сок, а вино молодое, чудо пищепрома. Спиртного на Острове в тот год не сыскать было, разве что бражку или самогон у кого, а тут вино кислое. Три литра за полтора рубля! В ушах щекочет, больше обманывает, нежели хмелит, но вино. Пока к себе доехали, растрясло на камнях, разморило на солнце. Вечером за водорослью идти, а тут и на берегу штормит. Васька нас из кузова сгрузил, к себе отвёл, уложил вповалку. В бригаде сказал, что мы молоком траванулись, животами маемся. Поверили, проверять не стали.
По совести сказать, в Ребалде были мы на хорошем счету. Работали лучше местных синяков, да и здоровьем отличались. Пока драгу потаскаешь, накачаешься. Организмы молодые, всякий труд на пользу. Слепень и на воде кусает. Не примеривается, налетает сразу — и в спину. А мы по пояс голые, «дэтой» умытые, бицепсы, трицепсы, кубики на животе. Девчонки из студотряда московского млели. Только-только пуки на берег перетащим, на проволоку покидаем, оседлаем велосипеды, и до Савватьево. Бешеной собаке семь вёрст не крюк. Мы же красавцы, гусары, струны рвём, про Крым голосим, про ветер и костёр. До трёх ночи иной раз на трезвую голову на одной своей дури. Утром же — карбас и «салаты стричь». Откуда только силы брались?
Стою в очереди, на курицу вожделяюсь. Вдруг звонок.
— Привет, мужчина! Приютишь у себя? Давно не видела тебя и любимый город. Скажи своей Ирине, что ты ангажирован до вторника включительно. Будешь моим эскорт-боем на выходных. Самоотводы не принимаются.
— Машенция, ты, что ли?
— Нет. Это певица Алсу. У меня третью неделю задержка. Папа-олигарх грозится из дома выгнать. Я ему всё про тебя рассказала. Двадцать человек с автоматами уже выехали.
— Маш, я не в городе. Я на Соловках.
— Где?!
— На Белом море. На Соловках.
— Ого! Похоже, что всё-таки судьба мне там оказаться. Стой где стоишь! Никуда с этого места не отходи. Скоро буду!
— Да ты с ума сошла, — смеюсь, — тебе сюда добираться…
— Стой, я тебе говорю! Я уже разворачиваюсь. Через час буду в Шереметьево. Всё. Отбой.
Дурында! Сколько её знаю, а всё привыкнуть не могу. То она строительную фирму организовывает, то кино снимает, то в Твери предвыборную сочиняет: Шива шестирукий, в каждой руке по трубке телефонной. Подралась с полицейским в Турции, познакомилась с Барышниковым в Риме, в позапрошлом году чуть за грека замуж не вышла. Там вообще цирк. Он программист какой-то. Машка академку взяла, со всеми, кроме родителей, попрощалась. Мне даже позвонила. Грек родственникам рассказал, свадьбу назначил. Поехал с сестрой знакомить, так она в сестру ту влюбилась и укатила с ней обратно в Москву. Грек следом прилетел, возле подъезда их дожидался. Машка же, поганка такая, в милицию позвонила, сказала, что маньяк её сутками караулит, проходу не даёт, на непонятном языке говорит. Беднягу десять часов в обезьяннике продержали. Потом фотографию его мне показывала. Молоденький совсем, невысокий, лицо длинное, глаза чёрные, глупые, как у скотч-терьера. А сестрёнка чудо, таких в кино снимают. Студенточка. Впрочем, обоих она спровадила.
И легко у неё всё. Всё между дел. Всё словно так и надо, словно живёт она не от весны до весны, как все в наших широтах, а своим, иным ритмом. Ей ещё только пятнадцать исполнилось, а она уже в университет поступила. Вундеркинд. Вандерчайлд. На кафедре роман с доцентом закрутила. Да так лихо, что тот от жены ушёл, или жену прогнал. Или не прогнал, а просто у них как-то всё слишком бурно стало происходить. Доцентова жена вроде как на факультет прибежала. Истерики. Слёзы. Угрозы какие-то. Опять слёзы. А Машкин отец там замдеканом. Вытащил дуру с лекции, прямо в кабинете у себя всыпал указкой по худой попе и пригрозил отчислить. Потом доцента вызвал, что ему говорил, не известно, но адюльтер после того прекратился. Это всё, правда, с Машкиных слов. Она тогда на отца обиделась, в Питер сбежала — моя бывшая ей тёткой приходится. Ромка полгода как родился. Пелёнки, подгузники. А отношения уже странные: лукавства, звонки, глаза в сторону. Машка смотрела-смотрела, а через неделю заявила, мол, влюблена в меня по уши. Переводится на местный филфак. Ей, дескать, и место в общаге уже готово. Жена, не будь дура, купила ей билет и сама отвезла на вокзал. Что характерно, попало мне. Машкина мнимая влюблённость мне в каждом скандале потом припоминалась. Потом, конечно, случилось и у нас с ней что-то такое глупое, но всё не всерьёз, от отчаянья.
А как я боялся её с Иркой знакомить! Скрывался, что подпольщик. Двадцать третьего февраля звонок в дверь. Как на грех, Ирка у меня. Открываю — на пороге эта коза с огромным букетом лилий.
— Дорогой, мне всё равно, что у тебя с этой женщиной, но ребёнка я хочу только от тебя!
Оборачиваюсь на милую свою, а у той глаза в полнеба. И небо то растерянное, опрокинутое. Машка просекла, что переборщила, букет мне сунула, сама к Ирке бросилась, обняла, затараторила.
— Я передумала-передумала! Вы прекрасны-прекрасны! Бросайте-бросайте этого бородатого хмыря, и со мной на фестиваль в Венецию! Там солнце, климат средиземноморский, там место для любви и жизни. Мария я. Это имя такое. Мария. А ваше имя дома у нас используется для названия счастья. Простите-простите! Я сама не местная, с созвездия Девы. Сюда по ошибке. Нас тут двадцать семей, все на Московском вокзале. Ждём, когда распределят.
— Не верь, любимая! — кричу. — Не с созвездия Девы она, а с Альдебарана. И не двадцать семей там, а все сто. Скоро плюнуть будет некуда — попадёшь в альдебаранца или в альдебаранку.
Ирка заулыбалась. Что-то в ответ пошутила. Но весь вечер нет-нет, да поглядывала на незваную гостью, пока та шлялась по квартире в моей рубашке вместо халата. Когда же «инопланетянка» угомонилась (предварительно истоптав клавиатуру компьютера и уничтожив содержимое холодильника), Ирка мне на ухо: «У неё что-то случилось. Ты бы помягче с ней». А что с ней могло случиться? Очередная любовь, очередная душевная травма — истерика в стиле «танго». Она на год Ирки младше. Но у Ирки диплом только следующим летом, а эта уже в прошлом мае защитилась. Пижонит. Зарабатывает не меньше моего, а то и больше. Именами-фамилиями сыпет, посмеивается, глазки закатывает. Девчонка-девчонкой. Смешная, угловатая, очки на кончике носа «под училку», веснушки, челочка, ушки торчат. Ирка её слушает скорее из вежливости, сама о чём-то своём думает. Но улыбается. И на том спасибо. Мне только скандалов не хватало.
Сидим на тёплом шершавом камне. Я и курица в бумажном пакете. Я курю, курица пахнет. На другой стороне банного озера девочки купают собаку. Они намыливают её шампунем так, что собака превращается в комок манной каши, а после сбрасывают с мостков. Собака барахтается в воде, плывёт к берегу. Забирается на мостки, трясётся от ушей и до хвоста. По озеру плывёт пена. Смех. Крики. Лай. Мужик удочку закинул, рыбу ловит. Давно стоит. Закинет, вытащит, наживку поправит. Опять закинет. Напрасно, мужик, время тратишь. Нет в этом озере рыбы. Дышать ей здесь нечем. Вдоль стены группы туристов. С пригорка мимо башни стадо коров, как процессия из Гамлета. Медленно. Неотвратимо. Оперно.
АН-24 с наглым воем идёт на посадку. Вспомнил, что никогда не был в местном аэропорту. Интересно, какой он? Какое-нибудь распластавшееся на камнях сооружение под жёлтой штукатуркой. Зал ожидания с рядами деревянных кресел. На креслах ножом вырезано «Митя и Оля. Соловки 2000» Нет. Неинтересно. Не пристало этому месту чего-то ждать с неба кроме дождя, снега и ангелов. Оксюморон. Или я просто ревную небо к самолётам? Ну, правильно: не умеешь любить, не смей и ревновать. Да и какая любовь? Растерянность одна. Монастырь для меня — всё тот же музей. Все тропинки внутри исхожены, все ступеньки нажаты, как клавиши. Когда шли утром мимо ворот, почувствовал, что нет для меня внутри места. Что там теперь? Туристы и братия. У одних любопытство, у других подвиг. А мне с которыми?
На мой прошлый день рождения Лёха с Биржевого моста сиганул. Все уже разошлись, только он да барышня его очередная задержались. Барышня весь вечер молчала, ресницами хлопала да кукурузу из салата вилкой выковыривала. А у Лёхи песни, у Лёхи стихи, у Лехи голос, как у рок-певца из кассетного магнитофона. Нота к ноте и под потолок, аж пыль с лепнины сыпется. Ирка с ногами в кресло забралась, такса обняла, слушает. Соседка зашла «на послушать»: стопочку за стопочкой, огурчик, пирожок. Кивает, зарумянилась. А барышня, гляжу, мается. Стыдно ей за кавалера. А может, и за себя, что вроде как не знает, где регулятор громкости, где перемотка. Наконец засобиралась, в телефоне кнопки нажала, в сумке своей закопошилась. Словно поводок к ошейнику пристегнула, тянет. Лёха пошумел, руками помахал, тост произнёс, но всё равно сдался. Вышли проводить их, прогуляться. Соседка увязалась.
На улице туман, морось. Фонари запонками. Машины за мост что окурки закатываются. Компании вдоль всей набережной ждут, когда разводка начнется. Вспышки, стекло бутылочное под ногами звенит, девицы с независимым видом из кустов порхают. Час ночи, а суета, радость.
Смотрю, выдохся друг мой, сник. Барышня, напротив, раздухарилась, вещает что-то, смеётся. Ей Лёхино молчанье на пользу, чуть ли не пританцовывает. Соседка вторит. Идут спереди, кудахчут. Как первый пролёт миновали, Лёха меня за руку.
— Думал, что обойдётся. Ещё утром решил, что не буду, а чувствую: нужно.
— Не понял, — говорю, — что нужно?
Он сумку мне в руки. Брюки скинул. Рубашка джинсовая на кнопках дробью выстрелила. Руки в стороны, вверх. Качнулся. Присел. Плечи развернул. Подтянулся и на парапет. Люди только ахнули. А он замер на миг атлантом, выдохнул громко и вниз, вслед дыханью. А вода чёрная, тяжёлая, в бурунах. Прожектора в глаза бьют, ни рожна не видать. Морось.
— Вон он! Вон! Вынырнул! Вон голова! — Как на салюте. Задние подпирают, им не видно. — Плывёт!
— А кто это?
— Парень какой-то прыгнул.
— Как прыгнул? Где?!
— Вон, плывёт к Петропавловке!
Уже из виду его потерял, но голоса то слева, то справа:
— Вон-вон! У самого берега уже!
Захлопали, засвистели, закричали. Выбрался — доплыл. Силуэтом вдоль стены промелькнул, тенью по камням. Ветром через шлагбаум.
— Мужчина, остановитесь!
— Некогда мне. Мёрзну.
— Мужчина!
Куда там. У охранников иная работа, им проблемы не нужны. Ну, прошёл мимо мужик в трусах, вода с него капает, — так не в крепость же, в обратном направлении. В обратном можно. В обратном хоть бегемота на шлейке ведите, слова не скажут. Что возьмёшь с такого? Денег в трусах не схоронишь.
Тут и мы подбежали. Рубашка. Джинсы. Туфли.
— Холодно?
— Терпимо.
— Течение сильное?
— Ерунда. Дип Пёрплом над водой пахнет. А вы орать, однако. Подумал, что мне вслед броситесь. Спасай вас потом. А где?..
Оглядываемся. И точно! Нет её. Ушла, сгинула. Не то на мосту, не то раньше. В гордости своей растворилась. А эта сволочь лыбится. Счастливый. Дурной.
Пока я курицу покупал да на солнышке медитировал, Лёха перед домом снасть развесил. Через полметра поводочки с жестянками, как гирлянда новогодняя. Жестянки на ветру качаются, зайчики солнечные во все стороны. Пацанята местные велики свои побросали, на дровах примостились, советы дают. Лёха их слушает, переспрашивает.
— Сюда грузики? А тут узелок контрольный? Не коротковато будет? Не крупные крючки?
Мальчишки в роль учителей вошли. Ещё бы! Дядька взрослый, лысый, а мнением их интересуется. Тут все секреты раскрываются, все тайные места сдаются, все приметы. И про ветер, и про течения, про балки и грядки подводные. Во сколько выходить, куда идти, да с какой стороны троллить, да на какой скорости. Всё, что от родителей слыхали, всё как на экзамене. Весомо говорится, как бы лениво, с достоинством. Я подошёл, на меня зыркнули с недоверием — как бы не разрушил идиллию, как бы не ляпнул чего. Нет-нет, ребята, не бойтесь. Я не сам по себе. Я с ним. Он капитан, я матрос-практикант. Мне тоже послушать полезно.
— А что, — интересуюсь, — на воблера не идёт?
— Кто?
— Ну, хоть кто-то. Селёдка, например.
Мальчишки крутят пальцем у виска.
— На воблера разве что треску. Селёдка — та на крючок блестючий. И не время для селёдки ещё.
— Когда ж время?
— В июле, в августе.
— А сейчас?
— Сейчас тоже можно, но не так. Мы с дедом в июле пять мешков тягаем. Сейчас не так. Вон ему рассказали, — пальцем на Лёху, — посмотрим, что наловит.
— На каникулах здесь?
— Живём. — Снисходительно, с превосходством. Важные. Хранители традиций. Местные. Этот остров их: от бухты Благополучия до Ребалды, от Ребалды и до плотины. От первого подзатыльника до первой украдкой выкуренной сигареты. Им даже не интересно, кто мы. Мало ли тут пришлых шляется.
Сижу на пирсе, жду катер. Кремль на закате, как партия в шахматы — проигранная и оставленная стоять на доске в назидание потомкам. Хоть сотню раз вокруг обойди, а не поймёшь, какой фигурой мат поставлен. Видимо, на другой доске искать надо. Не здесь, и даже не на побережье середь треснувших маковок забытого гамбита. За души играли, а получилось, что на деньги. Одним теперь вечно долги отдавать, другим каяться.
На Белом море всякий звук одинок: будь то бурчание мотора, будь то благовест. Ни в один аккорд те звуки не поставишь, как не старайся. Вывернул карманы, вытряхнул монетки, крошки, свёрнутые в трубочку бумажки, скрепки. Накормил тишину с ладони. Слетелась тишина плесками, собачьим лаем, чайкой, подхватила подаяние и в небо. Сел на доски, руки на коленях, спина прямая. Мысли прочь гоню, ищу внутреннего безмолвия. Йог интегральный. Дурак на берегу. То нос зачешется, то в боку заколет, то зевота от скул пойдёт. Греки сбондили Елену по волнам, ну а мне — солёной пеной по губам… Откуда это в голове? Ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли, всё равно. Ангел Мери, пей коктейли, дуй вино… Сейчас приедет «Ангел Мэри», сейчас ворвётся. Полтора часа назад звонила из Кеми. Реактивная моя, интегральная.
Лёха остался рыбу жарить. Выловил-таки, но не селёдку, а треску. Две огромных рыбины. Упорный. Восемь часов на воде провёл. Лоб обгорел, нос обгорел, руки обгорели, губы обветрились. Мотора ему не дали, как не просил. Денег в залог предлагал — не взяли. Хорошо, хоть лодку надыбал. Ушёл на вёслах, все руки стёр. Прислал сообщение на телефон: «готовь сковородку, возвращаюсь». Вернулся взъерошенный, шумный. Пока до дома шёл, со всеми встречными переговорил, не то хвастал, не то жалился. Не поймёт, удача это либо провал. Местных не расколешь — взгляд ленивый, а туристам что селёдка, что треска, что навага: «Смотри, Мишенька, дядя рыбку поймал!»
Я с Лёхой без мотора идти отказался — укачивает меня. Захватил из квартиры одеяло, расстелил у самого шлюза. Ворочался на солнце, катал во рту орешки и читал найденный в квартире детектив. Никогда детективы не читаю, а тут не оторваться. Сюжет никакой, предложения как из фанеры вырезаны, понимаю, что ерунда, но читаю. Видимо, это нервное. Мозг на холостых оборотах перегревается, воду в него залить надо, вот и заливаю. Этот ему хрясь, тот ему бах, из машины боевики, с вертолёта спецназ. Майор предатель, жена героя наркоманка, полковник из центра — не полковник вовсе, а шпион. И только герой — настоящий: бьют его, жгут, взрывают, а он всё никак не даётся.
Даже когда в госпитале с ранением лежал, и то на такую муть не зарился. Драйзера прочёл всю трилогию, Мориака, Пруста. По тому в день проглатывал. Сестра мне перевязку делает, ногу бинтует, а я страницы переворачиваю. Будь на месте этой старой клизмы кто помоложе, может быть, и не до чтения было бы, а так буквы, слова, предложения, первая глава, десятая, эпилог, — следующий! Главврач, подполковник, как-то зашёл с обходом, на тумбочку мою взглянул, а там книги стопкой. У всех остальных как у людей: кроссворды, сигареты, бутылки из-под кефира, а у меня книги. Головой покачал, температурный лист посмотрел, ушёл. А через десять минут вернулся, принёс мне лампу настольную и роман-газету с Айтматовым.
Прапор из роты охраны за три рубля на станке железо, что из нас вынимали, просверливал, медальоны делал. Если цепочку хочешь, ещё пятёрку гони. У кого автоматная пуля, тому хорошо — аккуратненько, у кого пистолетная (экзотика), так он молоком плющил, а у кого осколок, острые края надфилем обтачивал. Все себе заказали, один я, как мудак последний, завернул в подшиву, денег пожалел. Решил, что не поеду домой в форме, куплю какую-нибудь «гражданку». Парадку-то мне из части прислали, да не мою. На размер больше и не новую. Совсем не дембельская парадка, позорная. А из госпиталя вышел, в универмаг зашёл, так всё в книжном отделе и оставил. Средняя Азия, вокруг песок и говно, а на полке трёхтомное репринтное издание толковой Библии Лопухина. К тысячелетию крещения Руси издана. Красивая, переплёт дорогой, бумага рисовая с иллюстрациями. Так и ехал домой пугалом с красным дерматиновым дипломатом, в котором зубная щётка, бритва, Библия, дембельский альбом недорисованный и осколок восьмидесяти двух миллиметровой мины в подшиве. Ощущал себя миссионером. Подданным Её Величества. Термез-Петербург-Лондон транзит.
Как уходил в армию — помню, а как возвращался — нет. Ни вокзала не помню, ни дороги домой. Встречал меня кто, обнимал, плакал? Выключено. Потёрто. Уже декабрь, сессия скоро, а меня восстановили. Пришёл на лекцию по математике. На доске формулы, закорючки какие-то, интегралы. А я ничего не понимаю, не соображаю. Раскрыл тетрадку и под темой занятия печатными буквами вывел: «Хочу быть прапорщиком». Так я ту математику и не постиг. В деканате пожалели, уговорили преподавателя, поставил мне четвёрку. И Библию так ни разу и не открыл. Стоит на полке за стеклом. Красивая, основательная, респектабельная.
Время от времени поглядывал на дорогу. Послушники туда-сюда ходят, туристы, велосипедисты, собаки то по одной, то стаями. У всех свои мотивы движения. А я в стороне, на завоёванном одеялом берегу и благодаря этому одеялу вписан в декорацию, зачислен в штат с испытательным сроком.
Пока страницы мусолил, день и скончался. Последнюю страницу перевернул, сплюнул в камни кислятиной, поднялся с земли. Тут как раз Лёха с уловом.
— Ты посмотри, какие лапти!
— Браконьер.
— Никак нет, вашество! Честная снасть. Натуральное единоборство со стихией. Хемингуэй в чистом виде. Так бились, думал, что лодку перевернут. Сгинул бы в хладных волнах под колокольный звон.
— Что-то маловато словил.
— Тебя не поймёшь. То «браконьер», то «мало словил». Уж определись. По мне и эти две прекрасны, тем паче что мы больше не съедим. Или эта твоя московская герлица отличается изрядным аппетитом? Если бы предупредил сразу, я бы динамит захватил или сеть. Вообще, я сейчас выступаю в роли добытчика, мужчины, охотника. А ты со своими, — Лёха наклонил голову и прочёл название на обложке, — «похождениями худого» вообще имеешь право только сторожить наш сон у входа в пещеру.
— Это чей это «ваш»?
— Мой сон охотника и сон моей женщины, которую я украду из соседнего племени для рождения здорового потомства.
— На баб потянуло?
— Всё ясно. Книжку ты себе выбрал соответственно интеллекту.
— Послушайте, мужчина-добытчик, в вашем каменном веке дуэли уже распространены?
— В нашем веке распространены обычаи чистить рыбу тем, кто не ходил на промысел. И обычаи эти не обсуждаются. Или дуэль? Вместо дуэли скоблил рыбу на берегу, кидая кишки и головы в море. Не уверен, что это правильно. Требуха болталась у самого берега, портя глянец бухты. Но вылавливать уже было поздно — не лезть же за ней в холодную и мокрую воду. Не поднимаясь с корточек, огляделся. Вроде никто моего безобразия не заметил. Ну и ладно тогда. Ничего страшного, смоет всё.
Подошёл небольшой частный катер с десятком пассажиров. Машка прыгнула на пирс первой, молча вручила мне сумку, чмокнула в щёку и, ни слова не сказав, быстро пошла по настилу. Я некоторое время постоял, ожидая, что мне помашут рукой, но она проскользнула мимо ряда опрокинутых лодок и скрылась за ангаром. Когда с сумкой на плече я выбрался на дорогу, она уже поднималась на холм.
Вот ведь коза! Опять какая-то игра. И идёт так уверенно, словно знает куда. Не удивляюсь, что у неё вечные проблемы с поклонниками. Редкий мужик сможет принять эти эмоциональные импровизации. В её сутках двадцать четыре обиды и двадцать два примирения. Вечно отрицательное сальдо в её пользу. Ровесники с этим редко мирятся, страдая, ревнуя и учиняя выяснения отношений. Она всякий раз выметает из своей души все следы пребывания там посторонней воли, прибивая на стену очередной скальп. Это Саша, это Роберт, это ещё кто-то. Все, кого я видел, были субтильны и нервичны. Сама она таких мальчиков находит или это они к ней липнут, не знаю. Впрочем, влюбляется она всегда честно и навсегда — удивительное качество.
Сидит на камне неподалёку от входа в Кремль. Руки на коленках — школьница-переросток. Впрочем, почему переросток? Её, поди, ещё в кинотеатр по детскому билету пускают.
— Привет!
— Здравствуйте.
— Как тебя зовут, девочка?
— Меня зовут Маша. Я приехала из Москвы. Меня укачало, и я заблудилась.
— Ну, пойдём, Маша, раскачаю тебя обратно и отблужу. — Я смеюсь: — Похабненькое предложенице получилось.
— Нормальное. Слушай, ты можешь мне пообещать три вещи?
— Хоть четыре. Излагай.
— Три «НЕ»: мы не будем трахаться, не будем рано вставать и мы не будем говорить о Боге. Хорошо? Обещаешь?
— Первое можно было даже и не упоминать, как абсолютно исключённое.
— Все вы так говорите.
— Заниматься сексом с бывшей родственницей — это извращение и инцест.
— Подумаешь, какая цаца! Раньше тебя это не смущало. А вот захочу и будем.
— Машка! Прекрати сейчас же. Вставай и пошли. Нас уже Лёха заждался.
— А кто у нас Лёха?
— Мой друг.
— Опаньки. У нас тут ещё и друг какой-то. Ты теперь из «этих», что ли? Что годы с людьми делают… Что делают…
Я сделал вид, что собираюсь дать ей подзатыльник. Машка с визгом вскочила и, хихикая, побежала по дорожке, чуть не сбив выходившего из ворот молодого дьякона. Тот успел отпрыгнуть, притворно вытер со лба испарину и заулыбался.
— Дочка?
— Хуже. Племянница бывшей жены.
— Тогда аккуратнее.
— Куда уж аккуратнее. Но за совет спасибо.
— На исповедь сюда или так?
— В отпуск.
— Одно другому не мешает.
— Вы тут всех грешников у ворот караулите?
Дьякон заулыбался пуще прежнего.
— Не всех. Только тех, кто сам под ноги бросается. Если решитесь, приходите. Только натощак и не пейте ничего спиртного накануне.
— Это как кровь сдавать в поликлинике на биохимию. Там те же рекомендации.
— Тут не сдавать, тут менять её на Христову. Приходите.
Я поблагодарил и побежал вслед за Машкой, крича ей, что не туда свернула. Догнал, шлёпнул по попе, взял за руку и повёл по тропинке к дому.
— Что хотел служитель культа?
— Хотел изгнать из тебя бесенят, но потом решил, что во всём монастыре ладана не хватит.
— Это правильно. Мои бесенята! Я их по всему миру в оркестр собирала не для того, что бы в этом климате бросать. Они тут захиреют, скуксятся.
— Жалко?
— Очень!
Лёха возник на пороге квартиры в тельняшке, фартуке и с шумовкой в руках. Для завершения образа корабельного кока не хватало только шапочки.
— Прошу к нашему столу, о девушка Мария из далёкого города Москва! — пропел он басом.
— Не Мария, а Марина, — игриво пропела Машка. — А вы, стало быть, и есть тот мифический Лёха?
— Что ты ей про меня наплёл? — Лёха нарочито строго сдвинул брови.
— Только правду, мой друг! Только правду.
— В таком случае прошу отужинать с нами. Сегодня алемантер бон кюве из свежепойманной трески.
Машка захохотала. Обняла Лёху и чмокнула в небритую щёку.
— Алексей, вы чудо! Что это вы такое сказали?
— Не знаю, но мне кажется, что по-французски. А что? Звучит вполне аппетитно.
— А пахнет как… Всю мою укачалость этим запахом сразу выгнало. Ведите же скорее к столу!
Рыба и вправду оказалась восхитительна. Лёха натёр её специями, переложил луком и запёк в фольге. В качестве гарнира он нажарил целую сковородку картошки с укропом. Стол накрыл красной бумажной скатертью. В центре — бутылка «Абсолюта». Вместо давешних кружек стоят хрустальные стопки. Салфетки аккуратно заправлены под тарелки, приборы у каждой. В большой алюминиевой миске нарезанные розочками яблоки. В довершение всего посередине стола горела свеча, укреплённая в импровизированном канделябре из загнутой спиралью куска толстой проволоки.
— Вот это я понимаю! Класс! Учись, дядюшка! — Машка дала мне пендель и прошмыгнула в угол. — Самая крутая сервировка на всём побережье Белого моря. Точно. Удивили Вы меня, Алексей. Я, если честно, ожидала увидеть бутылку портвейна, пельмени, банку зелёного горошка и шпроты.
Разговаривали о ерунде, пили «по маленькой». Лёха что-то про Каракумы нёс, про верблюдов. Вспоминал своё детство на границе с Китаем, байки травил. Да и Машка раздухарилась, расчирикалась, кокетничая то с Лёхой, то со мной. Пыталась было по своему нынешнему обыкновению рассказывать о персонажах из телеящика, но, не найдя в Лёхиных глазах узнавания имён, перевела тему на своих мальчиков. Все у неё прекрасные. Все талантливые, гениальные. Все её любят, хотят, плачут и умоляют. Стихи ей посвещают, картины пишут. Лёха на «стихах» напрягся. Словно собственный взгляд сглотнул и подавился. Зажигалку в пальцах завертел. Пальцами защёлкал.
— …компания очаровательная. Ваши питерские интеллектуалы. Там такие мальчики! Очень умненькие. Очень хорошенькие. Там столько всего в них хорошего! Даже не знаю, в кого и влюбиться. Придётся, видимо, во всех по очереди, но понарошку.
— Не люблю интеллектуалов, — неожиданно выдохнул Лёха.
— Что вдруг?
— Неважно. Не люблю и всё. Враньё сплошное.
— Алексей, — Машка курила очередную сигарету от поданной Лёхой зажигалки, — отчего же? Хорошее образование, хорошее воспитание, разве это плохо? Тем более что это я их мальчиками называю, а им уже под тридцать.
— Ого, — говорю, — просто дедушки, а не мальчики.
— Не иронизируй, дядюшка! Так что у вас против интеллектуалов, Алексей?
— Трендят они много. — Лёха щелчком выбил из пачки сигарету и всё-таки закурил. — Всякий раз пытаются мир под какую-то схему подогнать. Перебирают, комбинируют. Словно бы внутри формулы находишься. Зазеваешься, а тебя уже за скобки вынесли, поделили, интеграл взяли, бирку нацепили — и на полку. Бодрийяр — хулияр. Я как слышу это всё, так сразу нарываться начинаю. От их словесного поноса у меня в мозгах вонь. В общаге, в комнате на полке пятнадцать томов стояло: Лосев, Юркевич, Флоренский. Франкл заместо подставки под чайник, Берн под ножкой кровати. Интересно? Не то слово как интересно! Я даже на практику с собой брал читать. Возраст такой: от восемнадцати до двадцати. Веришь, что в книжках мудрость какая-то, истина. Ещё не научился мир напрямую познавать, не через слово. От абстракции к абстракции. А потом это проходит. У нормальных людей это проходит, как прыщи. Когда же взрослые мужики при мне начинают гнать эту муть, я вижу, что нет в них ничего. Пустота и понты. Им никто не даёт, вот они и ловят на эту кашу малолеток. А вы ведетесь. Там тухляк сплошной и гонорея. О чём они разговаривают? Это не разговоры, это домино и перемигивание. Слово им поперёк не вставь. И где тот поперёк? Там же не река, там меандр. Ах, вы не понимаете! Ах, вы не владеете терминологией! Ах, вы примитивны! А мы все такие, бля, сложные, такие герметичные. Разговор о киношке какой-то заведут, о говне посмодернистском, так и здесь сплошные консервы из языка. Километры плёнки изведены, чтобы показать, как человеку хреново трахать одну и ту же бабу изо дня в день! А у них тут «имплицитно-репрессивные техники, социогенетические средства, самотождественная субъективность»… Я это слушаю и зверею. Предметная навигация у персонажей, дескать, нарушена, точка сборки равноудалена от границ не помню уже чего. Как можно столько слов высирать в минуту?
— Лёха, некуртуазно! — я поперхнулся яблоком.
— Да прекрати ты! Это же болезнь. Была у меня подруга, у которой все приятели такие. Собирались на кухне, водку мою жрали, когда их чекушка текилы заканчивалась. И вот так — часами. Часами! Сперва меня это веселило, потом я начал ощущать свою неполноценность. Чуть сам себя не выжрал изнутри в самокопании и ничтожестве. А потом однажды выгнал их всех вместе с подругой. А тому, кто упирался, начистил бубен. И всё сразу стало хорошо. И никаких рефлексий. Вот так. Поехали! — Лёха вкусно опрокинул стопку, хлопнул ладонью по колену и сочно, одними губами принял нежную мякоть трески. — Ценность людей не в их умении складывать малопонятные слова в предложения и надувать щёки. Восточные мудрецы вообще мало разговаривали — больше молчали. А болтает чаще всего глупость и пошлость.
— Красиво излагает, бродяга! — Я поднял стопку. — Предлагаю не ссориться, а простыми словами выразить нашу с тобой, Лёха, радость от того, что в эту прекрасную белую ночь, посреди Белого моря скромную мужскую трапезу разделяет прекрасная девушка, которая терпит наше сквернословие, нашу необразованность, серость, тупость, отсутствие должной галантности и предупредительности. И скажем ей теми же простыми словами, что если бы не она, мы бы уже спали, напившись до фиолетовых скворцов. За тебя, Машенция!
Лёха достал из холодильника вторую бутылку, и нам вдруг стало тесно на кухне. Распихали по карманам яблоки и вышли на улицу. Прошли мимо террикона свеженаколотых дров, мимо напитанных росой простыней, мимо остова армейского грузовика, нырнули в цветочное безумие у здания школы, вынырнули у ржавого шлагбаума, закрытого на замок. По камушкам перебрались через смущённую отливом бухточку, зачавкали по влажной небритости берега краем узкого как подиум мыска. Туда, где у самого моря в экстазе языческой пляски корчились чахлые северные берёзки.
Среди камней тревожился дымком забытый кем-то костер. Лёха набрал плавника, бросил на угли. Костёр зашипел, словно набирая воздуха, хлопнул в невидимые ладоши, хохотнул пламенем и подкинул в небо россыпь фальшивых звёзд.
Стопки захватить не догадались. Пили из горлышка. Машка с бутылкой в руках стала похожа на нашкодившую ученицу. Застеснялась, повернулась спиной, глотнула, поперхнулась, замотала головой. Я вынул из кармана яблоко.
— Закусишь?
— Погоди. Потом. И так хорошо. Яблоко — это очень шумно, такой треск в ушках, что ничего не слышно. А надо услышать. Сейчас-сейчас. Сейчас услышу.
— Что ты там такое слушаешь?
— Тихо. Тсс… Небо.
Она закрыла глаза, подняла вверх руки и замерла статуэткой нимфы.
— Поставьте ноги на ширину плеч! — изрёк Лёха. — Начинаем дыхательные упражнения.
— Ах ты поганка такая! — Машка оглянулась в поисках чего-то, чем можно было запустить в Лёху. — Ну погоди у меня! Сейчас тебе от всех интеллектуалов попадёт!
Она подняла с гальки выбеленную солью суковатую корягу и погналась за Лёхой. Вначале они кружили вокруг деревьев, а потом помчались по узкой полоске отмели.
— Детский сад, — хмыкнул я, сделал несколько глотков, завинтил пробку и опустился на корточки у самой кромки воды. Из бурой, пахнущей йодом пряди водорослей брызнула мошка. Путанное эхо ойкнуло спросонья Машкиным смехом и затихло в можжевеловых зарослях. Понюхал яблоко: воск и табак. Покрутил между ладоней, помял, как сминают снежок. Передёрнул плечами, размахнулся и запустил по высокой дуге в море. Яблоко с сочным клёканьем порвало тугой шёлк моря, на долю секунды скрылось под водой, и вот уже красным зрачком удивлённо заморгало в небо. Я набрал в ржавую жестянку воды, затушил костёр, сунул бутылку во внутренний карман и побрёл заикающейся морзянкой Машкиных и Лёхиных следов.
Здоровенная псина высунула покусанную мошкой морду из-за камня. Остановился. Достал последнее яблоко. Псина пристально посмотрела на меня, зевнула и деловито заклацала зубами, выгрызая из шерсти блоху.
— Ты тут так или по делу?
Собака поднялась, завиляла хвостом. Я откусил от яблока и предложил огрызок собаке. Та обнюхала, аккуратно взяла передними резцами, отбежала вверх.
— Извини. Колбасу не захватил. Если хочешь, пойдём со мной, я тебе трески дам. Только учти, она с луком и перцем. Будешь?
Мне показалось, что псина кивнула. Она аккуратно примостила огрызок на кочку и потрусила вперёд, словно показывая дорогу. То и дело останавливалась, ожидая, пока я обойду мокрое место или вскарабкаюсь по склону. Удостоверившись, что я преодолел препятствие, собака мотала мордой и бежала дальше. Вдоль тропы, на болотине, подобно стае кудрявых болонок лежал туман. Стало зябко, я застегнулся и поднял воротник. Мы вышли на дорогу, но тут собака задумалась над каким-то запахом, плюхнулась в пыль и забила себя задней лапой по уху. Я подошёл ближе.
— Ну что? Идём?
Собака ткнулась в мои колени, затрясла ушами, но вдруг потеряла ко мне интерес, повернулась и быстро потрусила обратно. «Что-то все меня сегодня покидают, — подумалось мне, — Ну и ладно. Спать. Пора спать».
Дверь в квартиру оказалась незапертой. Стараясь не шуметь, в сумраке прихожей на ощупь задвинул щеколду. Комнатная дверь, напротив, плотно прикрыта. Прошёл на кухню. Стол сдвинут к раковине, вдоль окна раскладушка. Застелена аккуратно, край одеяла красноречиво отогнут — мол, «тебе сюда». Ну, сюда так сюда. Эх, Машка! Вот ведь зараза такая! Хищница.
Утром в лабазе за десятку купил лупу китайскую. Рассматриваю комара. Комар корчит рожи и не хочет показывать, чем он так противно пищал всю ночь. Брюхо у него тёмно-бордовое, кровью моей наполненное. Сидит спокойно, нагло, считает, что теперь брат он мне кровный, что хоть и не люблю его, а убить стесняюсь. Притулился на локте — хобот в эпидермисе застрял, глазки в кучу, причёска растрёпана, борода клочна, видать, о постмодернизме размышляет. До пяти утра его не было. Поди, у соседского фумигатора кейфовал, а потом уже ко мне прилетел. Песни горланил над ухом, о стекло бился, рубаху на груди рвал, пока не заснул. Теперь, смотри-ка, похмелиться решил.
Минут десять сидит. Другой бы давно треснул стопку да улетел, а этот что-то медлит. Может, поговорить хочет, да не знает о чём, либо знает, да стесняется первым разговор начать. Одно дело — крови напиться, а другое дело — дружить начать.
С друзьями всё проще. А вот с теми, кто «по делу», совсем иначе. Вроде сто лет их знаешь, уже и печень болит, а они всё так в знакомых и ходят, сколько бы крови ни выпили. Нет, мне не жалко — пусть пьют, только бы за глаза гадостей не говорили. А для иных, хоть бы и гадости, всё прощено заранее, только бы не забывали. Звонишь по телефону:
— Ало-ало, это я! Помнишь, как мы с тобой? А как потом я тебя на себе? А как потом под одной шинелькой?..
А там не помнят, там совещание, там важные переговоры, там «извини, друг, сам понимаешь», там просто «абонент недоступен». Развело-раскидало, вымыло всё крупинки золота, один песок оставило. И ни в часы его не насыпать, ни куличик слепить.
Однажды были и мы совсем молоды, в меру умны, в меру талантливы. Пришли к нам люди незнакомые и посторонние, пересчитали на первый-второй-третий. Первым галстуки повязали и увезли не то в Москву, не то за границу. Вторым правду рассказали и научили врать себе, а третьих в суете забыли. И сидят эти третьи где-то в глубокой… прошлой жизни, смотрят в телевизор и верят всему, что видят. И живут счастливо.
Но были и те, кого сосчитать не смогли. То ли в шкафу они прятались, то ли в командировке были, то ли за сигаретами ходили. И плевать им теперь на телевизор, и на деньги плевать, и на глупости всякие в галстуках. Они себе цену знают. И картины у них пусть не в рамах, но краски чистые. И книги пусть не в супере, но из слов простых. И кино, не в сорока сериях, но цепляет. Позвонишь им в пять утра в воскресенье, так не пошлют же, а спросят, что случилось. Ничего, ребята, не случилось, просто соскучился.
— Соскучился? — говорят. — Приезжай!
Лёха на кухню выполз. Вокруг лысины волосы венчиком. Лицо виноватое, но довольное, как у щенка овчарки.
— А я думаю, кто там на кухне шерабобится?
— Удивительное дело, — говорю, — кто это может быть? Чай, домовой или участковый. Как спалось, растлитель малолетних?
— На себя посмотри!
— На себя уже неинтересно. К себе я привык. А кое-кого, на правах экс-дядюшки, призову к ответу. Можешь уже начинать просить у меня руки и сердца этой неразумной фемины. Только учти, никакого приданого. Как раз наоборот — с тебя калым.
— Большой?
— Плазменная панель твоя вполне подойдёт. Тебе теперь всё равно её смотреть некогда будет.
— Это ещё почему?
— Эй! Принесите мне попить! — раздался из комнаты Машкин голос.
Я налил из банки молока и протянул кружку Лёхе.
— Иди уже. Неси, рыцарь дурацкого образа! Герой-любовник.
— Сейчас-сейчас, сударыня! Тут крестьянин молока свежего принёс. Велите принять, или погнать паршивца со двора? — дурным окающим голосом заорал Лёха.
— Принять-принять. Веди его вместе с молоком!
— Иди, — Лёха вернул мне кружку и пропустил вперёд, — барыня требуют. Да поклониться не забудь, как в покои-то войдёшь.
Машка сидела на постели в гнезде из одеял. Лёхина тельняшка с завёрнутыми рукавами. Очки на кончике носа. Солнечный луч из окна запутался в двух шкодных белобрысых хвостиках. Ничего не скажешь — само очарование и невинность. Я протянул ей молоко.
— Тебя уже сейчас пороть начинать или отложить на после завтрака?
— За что же меня пороть, дядюшка?
— Что ж ты друга моего до греха довела?
— До какого такого греха? Не было ничего.
— Ты на рожу свою довольную посмотри. Не было… Акселератка чёртова!
— Какой же ты, дядюшка, неделикатный. Воспитанный человек сделал бы вид, что всё нормально, тем более что всё и так нормально. Или ты ревнуешь? Дядюшка, да ты ревнуешь? Ну прости, мой милый, мой хороший, мой родственник любимый!
— Дурында ты. При чём тут ревность?
— Тогда в чём дело-то?
Машка сложила губы потешным хоботком и присосалась к кружке. Чёлочка, хвостики, худые ключицы в широком вырезе тельника — нимфетка.
— А не в чём уже. Это у меня с похмелья приступ дидактического настроения. Нужно либо похмелиться, либо поесть хорошенько. Но если ты, жопа с ручками, другу моему будешь голову дурить, я тебя не только выпорю, но и… — я задумался, придумывая вид экзекуции, — но и наябедничаю твоему папе, что ты куришь.
— Нет-нет! Только не папе! Я же не по-настоящему курю, не взатяжку. И никому я голову дурить не собираюсь. Я вообще самая бедная и несчастная, брошенная всеми девушка. Меня надо защищать и любить. А все требуют, чтобы я их защищала. У меня и сил уже нет, и желания.
— Ладно. Считай, что я просто поворчал для профилактики. И брысь на кухню готовить завтрак!
— А что благородные доны привыкли есть на завтрак?
— Что приготовят. Есть яйца, молоко, сыр, помидоры и остатки маринованных огурцов. Если ты добавишь к этому любовь, вдохновение и немного труда, то благородным донам хватит сил, чтобы дойти пешком да Ребалды.
— Пол помыть не надо?
— Это уже на собственное усмотрение. Я предполагал, что мы будем завтракать за столом. Но если ты предпочитаешь на полу…
К полудню вышли из дома. Лёха сбегал в лабаз и купил для тётки Татьяны огромную коробку конфет «Летний сад», бутылку армянского коньяка, набор прихваток для кухни и сковородку.
— Ты полагаешь, что у тётки Татьяны нет в хозяйстве сковородки? — скептически изрёк я, наблюдая, как Лёха запихивает сковородку в маленький рюкзачок.
— Есть наверное, но что-то же надо в подарок. Не очень разбираюсь в этикете, но полезные подарки завсегда лучше бесполезных. Там тазик был красивый и доска гладильная. Но я подумал, что тащить неудобно.
— Понятно. Тогда конечно. Тогда идеальный выбор.
Лёха с Машкой оторвались от меня шагов на тридцать. Лёха голый по пояс, с рюкзаком, в армейских ботинках и широкополой «афганке». Машка налегке, лишь с ольховой веткой, которой погоняет шуструю стайку слепней. Они то и дело оглядываются на меня, не отстал ли. Машу им рукой, мол, идите, не ждите меня. Каюсь, но надоело мне слушать их щебетание. И эта их почти родительская снисходительность! Смотрят, как на любимое, но никчёмное дитя. Мол, они делом важным заняты, а тут «этот». Может быть, и вправду я ревную? Возможно. Возможно, что ревную свою дружбу к их интрижке. Надо последить за собой, понаблюдать. Выпустить из себя соглядатая, пусть чуть в стороне идёт, все мои ужимки да приколочки записывает, все мои опущенные долу взгляды, все мои нервные смешки. А вдруг уши краснеют? Пусть и про уши пишет. Всё потом прочту, проанализирую, на параграфы разобью, по кодексу пропечатаю. Виноват? Отвечу перед собой. Наложу на себя епитимью жуткую, лютую: три дня не буду носки стирать и зубы чистить. Авось полегчает.
Очередные велосипедные девушки обгоняют с весёлой матершинкой. У той, что сзади, коса толстенная. Теперь таких уже не носят. Спина от пота влажная. Слепень сидит. А коса из стороны в стороны тяжёлым маятником. Эх, лица не рассмотрел. Вряд ли красавица, конечно, но коса знатная. Серебрякова себе такую косу пририсовывала. Помню, как увидел её автопортрет в Русском музее, так влюбился. Классе в четвёртом это было. Стал одноклассниц под образ примерять. А всё не то. Неделю влюблённый проходил, потом как-то забылось. После уже лежала у меня под стеклом на письменном столе открытка дореволюционная с девичьим личиком. Художник Каульбах. Картина «Задумалась». Столько слёз над этой открыткой было пролито. Казалось мне, что нет никого в мире прекраснее. И тоже как-то ушло. А может быть, и не ушло? Ирка моя ей-ей, но чем-то на неё похожа. Или мне уже кажется?
Дорога вся в горбылях. Булыжники вроде и ровно уложены, а норовят за подошву зацепить, притормозить. Как попадаю на эту дорогу, так словно что-то услышать пытаюсь, почувствовать. А что, не пойму: — не то мат конвойных, не то монашьи молитвы. И те и другие в землю этапами втоптаны, промеж булыжников затырены. От того и дорога недобрая. Помню, возвращался по ней с почты на велосипеде. К багажнику коробка проволокой привязана, в коробке хлеб и «славянская трапеза». Остановился по нужде, велосипед к берёзе прислонил. А уж солнце зашло. Сумерки. Туман над лугом. И вдруг жутко мне стало. Да так, что под лопаткой засвербило. Хотел песенку насвистать, да свист к губам прилип. Не то взлететь захотелось, не то в землю зарыться. И не знаю, что вдруг осенило, — достал буханку из коробки, переломил пополам и половинку на камень положил. И отпустило. Словно задобрил кого-то неведомого, либо задобрил, либо рассмешил. Но дунуло мне в спину тёплым ветерком, пахнуло в лицо разнотравьем, а не сыростью с болота. Приехал в посёлок, никому не рассказал. Да и что рассказывать — страшилка пионерская. А сейчас вдруг вспомнил. Где то место? Может быть, уже прошли, и не узнал. Солнце. Жара. Слепни.
Справа меж деревьев озеро замигало. Эти двое, не оборачиваясь, припустили бегом купаться. Уже и плеск слышен, крики, смех. Дорога вильнула — и вот берег, пляжик песчаный, купальня. Автобус у обочины. Двери открыты, из нутра пекло адово. Школьники, туристы из Архангельска в воде бултыхаются. А почему из Архангельска? Может, и не из Архангельска вовсе, а из Питера или ближе — из Петрозаводска или из Кеми. Экскурсоводша молодая сидит на перилах, курит. Чувствуется, что ей тоже в воду хочется, но, видать, купальника нет, стесняется. Лёха уже на середине озера. На середине глубоко, вода только у поверхности тёплая. Машка плавает плохо, осторожно. Голову в воду не опускает. Эдакий женский недобрасс. Лёха что водяной. Скользит тяжёлой струёй по озеру. Уверенно. Мощно. Без брызг. Как беличьей кистью по свежезагрунтованному холсту. То в одну сторону мазков двадцать, то в другую пятьдесят, то в третью десять. И уже подмалёвок: рябь леса, строчки деревьев, мозаика облаков.
Машка мне рукой машет, зовёт присоединиться. А мне в воду лезть не хочется. Вроде и спёкся, пока шёл, а сейчас в теньке, так и полегчало. Да и плавок не захватил. С голым задом при детях некуртуазно. У них там визги, хохот, оклики. Хороший шум. Праведный. Пожалуй, что только такой шум этому месту и прописан. Чем ещё острожность содрать? Она как сажа к образам прилипла, не различить, кто там с нимбом. Мудрено ли, столько боли на остров вылито, столько сосудов с надеждой разбито. И как ни копи в себе благость, не ангелы между деревьев мерещатся, а тени зэков. Видать, покинули ангелы архипелаг до иных времён. Тут хоть криком молись, а через шёпот проклятий не пробиться. Сперва небо расчистить надо. А детский смех — он до неба достаёт. Потому как без дум и без просьб — чистое счастье, начало жизни. В детях ведь ни добра, ни зла нет ещё. Души ещё целиковые, первобытные, моралью людской не испорченные, проповедями не залеченные.
Лёха из воды вышел. Стоит античной статуей на солнце. Машка на траве растянулась — любуется. Видать, и вправду влюбилась. Долго ли ей… Всегда к этой каторге готова. И всегда всерьёз, без остатка. Да и Лёха такой же. Последний рыцарь. Широк, обаятелен, галантен, но словно стесняется силы своей внутренней, не даёт ей разгуляться. Или боится, зная, какую бурю удерживает. Но иной раз хлопнет внутри какая-то форточка, захолонёт ветром вокруг, и тогда зови-не зови, все едино не услышит.
Влюбился он как-то в девочку из Новгорода. На свадьбе у наших общих друзей познакомился. Влюбился по-серьёзному, как только он и может. Каждый вечер на машине из Питера мотался. Приедет, букет лилий подарит, в кафе её сводит, стихов почитает и обратно. А ведь зима была. Дорога ужасная, да и концы немаленькие. Лёхе всё нипочем. «Волга» его за ту зиму тысяч пятнадцать намотала, если не больше. Мы все ему почти хором: «Оставь ты эту дуру. Сдалась она тебе! Это же не роман, а какое-то роуд-шоу» А ему всё равно — знай себе подвиги совершает во имя прекрасной дамы. С парнями какими-то в кафе из-за неё подрался, в милицию попал. Девочка, похоже, Лёху побаивалась. Ей не принц на зелёной «Волге» был нужен, а обычный местный паренёк из техникума. Капризы какие-то, кокетство, упрёки. Измучила она его за три месяца, издёргала. Видать, в себе всё разбиралась. Хорошо, что так и не разобралась — не успела. Однажды сломалась машина где-то в районе Чудова в двадцатиградусный мороз уже на обратном пути. Пока ловил машину, околел не на шутку. Курточка лёгкая — пижонская, рубашка белая, галстук. Ни шарфа, ни шапки. Ночь. Мороз. Снег. И как назло, никто не останавливается. Наконец подобрала его какая-то вахтовка, довезла почти до Новгорода. Там пешком добрался до общежития, где дама его огромного сердца проживала. Добрался вконец замерзшим: в усах иней. А она не пустила. Даже дверь ему не открыла. Через замочную скважину разговаривала. Мол, вставать ей рано. Мол, девочки уже спят. Мол, неприлично это. И всё. Сплюнул Лёха все свои чувства между передних зубов на лестничную ступеньку и пошёл в гостиницу. Дома потом собрал листки со стихами, фотографии — и в мусоропровод. Как освободился. И опять счастлив! Влюблён — счастлив, не влюблён — опять счастлив. Удивительный человек.
Машка бумажную скатерть на камне расстелила, бутерброды достала. Уплетают за обе щеки. Болтают с набитым ртом, смеются. И тут из-за угла давешний дьякон появился на велосипеде. Возле купальни затормозил, спешился. Повёл велосипед подле. Сам в линялом подряснике, в чёрных джинсах, на ногах ботинки наподобие Лёхиных. Велосипед допотопный — руль с таким изгибом, который только в фильмах про тридцатые годы увидишь. К раме удочки приторочены. Удочки, что характерно, современные — ширпотреб китайский. Но что-то в виде его мне напомнило. Словно внутри меня эхом аукнуло.
Так ведь и я привязывал дедовские удочки к раме велосипеда. Бамбуковые удочки — старые, с самодельными кольцами из толстой медной проволоки, с выточенными из бруска бронзы тусклыми ладными втулками. Сколько лет тому бамбуку? Откуда вообще его брали? В магазинах продавали? Это в какие же годы — в двадцатые? Хранились они без чехла, просто перетянутые красной тесьмой. Стояли в самом углу кладовки дедушкиной квартиры на Северном Кавказе. Вначале стояли анонимно, тихо, затаившись, пока я их однажды не заметил в шестилетнем возрасте, прячась в кладовке от бабушки. Заметил и вожделился.
— Не трогай! Это деда!
— Почему нельзя?
— Потому что дед запретил. Ты ещё маленький.
— Я уже большой! Большой! А что это?
— Снасти это. Рыбу ловить.
Ещё не понимал, что это такое, но уже глаз не мог отвести от тусклого металла втулок, от тонких, фасонящих щербатым красным лаком кивков. От тонкой медной проволоки, которой кольца прикручены. От чёрного барабана катушки с клеймом на «ненашем» языке. Как я в тот раз ждал деда из командировки! Как считал дни, как бегал утром отрывать листки у календаря на кухне! Скорее бы! Скорее бы он вернулся и позволил мне взять это богатство. Разложить аккуратно на огромном диване, собрать, держать в руке, представляя, что на конце лески рвётся что есть мочи огромная рыба. Великолепная, сверкающая чешуёй на солнце рыба. Такая, чтобы Витька рассказал брату, а брат бы его подошёл ко мне и похлопал по плечу: «Молоток!» И я горевал, что сейчас не лето, а только февраль. Но может быть, можно где-то ловить? Например, в Тереке! Терек же не замерзает! Да! Конечно! В Тереке. Я же слышал рассказы про то, как бурлит Терек. Если он бурлит, значит, он не замёрз, особенно в такую тёплую зиму. И я представлял, как обязательно упрошу деда, чтобы в следующий раз он взял меня с собой в командировку в дальнюю часть. В ту, что на самом берегу незамерзающей зимой реки. И пока Дед будет гулко разговаривать с другими такими же дядьками в погонах и кожаных портупеях, я стану ловить рыбу. Рыбу… Бабушка позволила мне взять с полки тяжёлую книгу в зелёном кожаном переплёте «Ловля озёрной и речной рыбы для души и промысла». Я к тому времени уже достаточно бойко читал, и впился в рассказы о ленивых карпах, шустрой густере, жадном окуне. Иллюстрации в книге сплошь цветные, переложенные тонкой папиросной бумагой. Рыба на картинках казалась изумлённой. И я смеялся, когда уже узнавал её без того, чтобы прочитать внизу страницы. И бегал с книжкой к бабушке
— Ну, спроси меня! Спроси! Спроси, как называется!
— Неужели всех рыб выучил?
— Всех до одной! Даже тех, которые из моря приходят!
И бабушка вытирала руки о висящий на гвоздике передник, надевала очки и, аккуратно переворачивая страницы, показывала карандашиком на картинки. Мне и сейчас видится бабушка, сидящая на добротном довоенном стуле и кивающая моему рассказу взахлёб о ловле какого-нибудь сига.
Дед вернулся в середине марта, когда мы с бабушкой острыми квадратными лопатками пробивали каналы в ледовой корке. По каналам спешила весёлая хихикающая вода, унося вниз по склону то кораблик из бумаги, то пароходик из спичечного коробка. Мы заранее договорились с бабушкой, что про удочки спросит она. Спросит как бы невзначай — мол, убиралась в кладовке, нашла твои удочки, может, выкинуть их или Игорёчку отдать? И мы оба были совершенно уверены, что дед скажет: «Отдать, конечно!» Но не тут-то было. По его мнению, я был ещё слишком мал для рыбалки. Слишком неаккуратен и рассеян. Доверять мне удочки ещё нельзя: я запутаю леску, прищемлю палец катушкой, сломаю тонкие кивки. Надо подождать, когда мне исполнится хотя бы семь лет. Как я обиделся на деда! Я заперся в ванной комнате и плакал, наверное, часа два, прекрасно понимая, что, во-первых, дед своих решений не меняет, а во-вторых слёз терпеть не может. А удочки… Удочки оставались недоступными. Лишь через год, когда я уже жил с родителями у склонов Пай-Хоя и приехал на свои первые летние каникулы, дедушка торжественно вручил мне тяжёлую, гладкую связку. В тот же год он взял для меня в прокате велосипед «Школьник» и довольно быстро научил меня на нём кататься. Он учил меня так же, как учил в своё время отца. Я крутил педали, а он бежал сзади своим лёгким спортивным бегом и придерживал рукой за прикрученную под седло скобу. На второй день я уже сам катался по двору, а на третий доехал до стадиона и обратно. И в одну из суббот он достал из кладовки в подвале огромный тяжёлый велосипед «ХВЗ» с двойной гнутой рамой. Толстым чёрным насосом накачал шины. Спустил велосипед во двор и проехал круг.
— Теперь и я готов.
— К чему, деда?
— Едем с тобой на рыбалку.
Я поверить не мог своему счастью. С дедом! Вдвоём! На рыбалку! Да не просто так, а на велосипедах! Он нарезал коротких бечевок и привязал две из трёх удочек под раму. А одну — самую лёгкую, ту, которая мне нравилась больше всего, принайтовал к раме «Школьника». Если и были в моей жизни мгновения безоговорочно счастливые, то это одно из них. Мы ехали по Осетинке, мимо знакомых с самого детства домов, в каждом из которым жил кто-то из моих приятелей. Ехали вдвоём с Дедом. Мы ехали на рыбалку, на очень серьёзное и ответственное мужское дело. И я мечтал, чтобы все мои друзья именно в этот момент смотрели в окно, стояли на балконах или играли в саду. Мечтал, чтобы они видели нас и завидовали. Потому что я сам себе в тот миг завидовал.
Помню, многие годы спустя я разбирал ту кладовку. Это было уже после бабушкиной смерти, перед самой продажей квартиры. Запах мыла и старых вещей. Я нашёл в самом дальнем углу тяжёлый деревянный ящик, доверху забитый мыльными брусками. Мешок с гречневой крупой. Несколько полотняных мешочков с мукой. Спички. Их было коробков двести. Они заполняли собой сшитые из старых наволочек мешки, что висели под самым потолком. Свечи в жирной крафтовой бумаге. Ровными рядами, как снаряды. Готовые к сражению. Посвятившие своё будущее огню. Соль в брезентовом тубусе. Старики хорошо помнили войну. Особенно бабушка, пережившая и оккупацию, и последующий после освобождения голод. Теперь думаю, что она всю оставшуюся жизнь прожила, ожидая начала новой войны. Иной раз она даже недоумевала, почему же эта проклятая война никак не начинается, когда наконец, к ней готовы. Жили б мы чуть южнее и на восток, глядишь, бабушкины запасы и пригодились бы. А так всё это вызывало у меня только улыбку. И вещи. Множество вещей, которые я помнил с детства. А некоторые помнили маленьким ещё моего отца. Полотёр в сером полотняном чехле, плетёный сундук, обитый коваными лентами. Огромный парусиновый чемодан, с которым Дед вернулся из Австрии в сорок пятом. Другой, кожаный: жёлтой потрескавшейся кожи, с которым они втроём с моим отцом отправлялись в Монголию. Потом, когда я уже родился и уже что-то помнил, дед ездил с этим чемоданом в столичные командировки. У него тогда болела спина, и кто-то из его подчинённых подарил целую бутыль змеиного яда, заткнутую пробкой. Дед взял бутыль с собой в Москву. И там в метро ему стало плохо, он потерял сознание и выпустил чемодан из рук. Бутыль разбилась, на долгие годы пропитав внутренности чемодана характерным запахом.
Полотёр. В сером полотняном чехле на завязках. Я до икоты боялся его в детстве. Этот совершенно потусторонний, враждебный механизм, этот огромный череп с выпуклыми лобными долями на длинной ручке. Воплощение зла! Настоящий фашизм. Когда при мне произносят слово «фашизм», я вначале представляю этот полотёр из моего детства, а потом уже свастику. Перестав бояться полотёра, я впервые преодолел в себе сильный страх. Было мне тогда лет пять. Теперь я не боюсь полотёров, как и другой техники. Теперь меня страшит что-то другое, чего не то что не победить, а и названия не подобрать.
Я разбирал вещи, вынимая их на свет, и дивился тому, как много в моей памяти для них места. И мне было жалко даже разобранной железной кровати, её спинки с набалдашниками в виде шаров. Но всё это невозможно было вывезти, потому что-то дарилось соседям, а что-то отправилось на помойку. Как я теперь жалею! Все эти громоздкие старые вещи, которые вместе с моей семьёй бродили по волжским городам (Ярославль, Кострома, Рыбинск, Тутаев), обтирались на перронах, скрипели в контейнерах, прятались на чердаках и кладовках. Нажитое между бесконечными переездами. Сбережённое и хранимое заботливыми бабушкиными руками. Она регулярно протирала касторовым маслом чемоданьи бока, просеивала через сито муку от жучков, перебирала на расстеленной газете крупу, смазывала из швейной маслёнки подвижные части полотёра. Ручки чемоданов, впитавшие тепло сухой и крепкой ладони деда, да, пожалуй, что и нетерпеливый жар детской руки отца. Старики-чемоданы. Теперь их просто вынесли на безразличные помойки, где на них сразу запрыгнули кошки. Чемоданы жались друг к другу, словно подслеповатые бродяжки, не понимающие, что за дорогу для них выбрали. Вскоре к ним добавилась панцирная сетка кровати, полотёр, пылесос «Ракета», тюки с бабушкиными платьями и дедовскими пиджаками. Мундиры я заботливо упаковал и положил вместе с коврами на дно багажника своего джипа. Туда же отправились картины, альбомы с фотографиями, коробочки с орденами, пачки праздничных адресов и наградных грамот.
Швейная машинка «Зингер», на которой вряд ли кто уже будет шить, но выбросить которую или подарить у меня не поднялась рука. Бабушка любила эту машинку, разговаривала с ней, как с живой. Оглаживала морщинистыми руками её блестящее колесо. Это уже член семьи. Ей судьба ехать со мной в Петербург. В квартиру другой моей бабушки, той, что всю жизнь ненавидела шитьё.
Удочки. Они уже совсем растрескались, замотаны синей изолентой, но ещё гордо фасонят красным лаком кивков. Я достал их из кладовки последними, из самого дальнего угла. Я разложил их на паркете гостиной. Собрал. Пощёлкал ногтём кольца. Потрогал подушечкой пальца острие кованых крючков. Потёр ребром ладони потускневшие втулки. И вдруг, повинуясь какому-то непонятному порыву, стал одну за другой ломать о колено. И лишь на последней, той, самой лёгкой, что любил больше всего, словно очнулся от наваждения и заплакал. Сидел на паркете, держал в руках чёрную немецкую катушку и плакал. Мне было жаль эти вещи, эти запахи, этот дом. Я чувствовал себя предателем, варваром. Мне чудились голоса деда и бабушки, отчитывающих меня за то, что я вернулся позже положенного, да вдобавок к тому с изодранной рубашкой.
— Во! Ловец человеков пожаловал, — Машка приподнимается на локте и поверх очков смотрит в сторону дьякона, — сейчас наловит себе на ужин.
— У тебя, как я посмотрю, совсем с религией дела плохо обстоят, — Лёха хмыкает и откусывает половину огурца.
— Они вечно пытаются дать мне ответы на вопросы, которые я не задаю.
— Это как это? Ну-ка, поясните, барыня. Мы люди все необразованные, нам ваше учение впрок пойдёт.
— А нечего пояснять. Ерунда это всё. Было мне как-то плохо совсем. Запуталась, что ли, или запутали меня. Решила либо в алкоголики податься, либо в церковь сходить. Про церковь меня мама надоумила. У неё на этом деле какой-то пунктик. Сама не ходит, ни одной молитвы не знает, а всех поучает. А я что? Я примерная дочка. Пошла в церковь. Пришла. Нашла там попа какого-то. Говорю ему, что плохо мне, что причаститься хочу.
— С утра не ела?
— Понятное дело! Даже вечером не ела. Всё как полагается.
А он меня ну расспрашивать про то, как я живу, с кем живу. Не про то, зачем живу, а с кем. Будто это его касается. Курю ли я, выпиваю ли, медитирую… Вы представляете? Спросил меня, не занимаюсь ли йогой. Ну, думаю, продвинутый поп. Про медитации что-то понимает. А я же занималась немного. Скорее для здоровья, чтобы похудеть.
— Куда тебе дальше худеть? И так одни кости. — Я наливаю себе чай и передаю термос Лёхе.
— Ты, дядюшка, всё-таки неделикатный. Вроде и воспитанный человек, интеллигентный, а как ляпнешь, то если бы на моём месте какая другая оказалась, то обиделась бы на тебя по гроб жизни. Кто ж так девушке говорит — «одни кости»? Сказал бы что-то вроде «Ты и так в прекрасной форме» А то — кости…
— Ты в прекрасной форме. Кости так и торчат. Куда тебе худеть?
— Всё. Прекрати. Ну вот… Говорю ему, что да. Что занималась йогой, что курю, но немного меньше половины пачки в день. Что хожу в бассейн.
— Что только что соблазнила сестру своего жениха…
— Игорь! Я серьёзно. Прекрати. Или я уеду сейчас.
Машка как-то вдруг подбирается. У скул её колышется обида, а на шее проступает маленькая нервная венка.
— Сейчас кое-кого кое-кто вызовет на кое-что, — Лёха сдвигает брови и изображает рукой движение, словно он протыкает меня шпагой.
— Машка, прости. Больше не буду. Того гляди рыцарь меня забралом загрызёт. Это я от ревности, жары и похмелья.
— Ну вот, — она тянется к Лёхе, который подставил ей щёку для поцелуя, — рассказала я ему всё как на духу, упомянув, что у меня ещё и месячные, кажется, не пришли. Тут этот поп начал на меня шипеть, что я неправильно живу, что всё у меня в жизни неверно, что он меня до причастия допустить не может. Что мне нужно делать то-то и то-то, читать молитвы такие-то и такие-то, ходить на службы чуть ли не каждый день и тогда, может быть, он меня причастит. Ну не свинья ли? Я что, к нему, что ли, пришла? Я к Богу пришла в кои-то веки. Я, может быть, ночь не спала, волновалась, ждала. А он мне такое.
— А они могут до причастия не допустить? — Я киваю на дьякона, который как раз примостился на досках купальни и расшнуровывает ботинок.
— Хрен их знает, — Лёха задумчиво трёт подбородок, — я в православии фигово разбираюсь. У католиков вроде не имеют права не допускать. Помнишь, как в кино? Приходит убивец, садится в кабинку и ну рассказывать, как он замочил семью Фаринетти, потом Спагетти, потом Чипполино. А ему в ответ полное прощение грехов и наказ больше так скверно не поступать.
— Во! Прекрасный сервис.
— Это ты, конечно, хватил, Лёшечка. В кино — это же символ. — Машенция ласково гладит Лёху по лысине.
— Символ чего? — осведомляюсь я.
— Скажем, несовершенства человеческого общества. Или продажности католической церкви…
— Кризиса буржуазной морали и скорого наступления всеобщего рокенролла. — подхватывает Лёха.
— Символ засилия массовой культуры и девальвации человеческих ценностей. Во! А также символ кризиса западной аврамической парадигмы, предрекающий скорый конец современной урбанистической цивилизации вместе с её кредитно-денежной системой.
— Дураки какие! — Машка вскакивает, расплескав вокруг себя песок. Потешно топает ногой, и вдруг прыгает на одной ноге прямо к дьякону.
— Дяденька! Дяденька священник! Они меня обижают! Я маленькая, а они вон какие большие. Наложите на них епитимью! Да потяжелее. А если есть какая-нибудь вонючая епитимья, то давайте им вонючую.
— Здрасьте. Меня Маша зовут, — выпаливает она, доскакав до купальни и нависнув прямо над дьяконом, который к этому времени справился со шнуровкой на правом ботинке и теперь сосредоточенно рассматривает что-то у себя на пятке.
Он улыбается и манит Машку пальцем. Та присаживается на корточки, ухватив себя руками за коленки и склонив голову набок. Дьякон что-то говорит ей, но слова заглушает чавканье двигателя отъезжающего автобуса. Видимо, он о чём-то её спрашивает, на что та даёт отрицательные ответы. Это видно по тому, как энергично летают хвостики из стороны в сторону. Дьякон поднимается, протягивает руку Машке, помогает встать. Не отпуская Машкину ладонь, он ведёт её к берегу. Тоненькая фигурка в красном купальнике рядом с долговязым дьяконом в чёрном подряснике смотрится оксюмороном. Надо же, какая появляется эротичность от полуобнажённого женского тела на фоне строгой одежды священника. Бесстыжая она, конечно. Но красивая. Очень красивая. Особенно сейчас. Свезло Лёхе. А ведь точно ревную. Как-то это помимо меня происходит. Ирке, что ли, позвонить?
— Искушение святого Антония, — хмыкает Лёха.
— Скорее, покаяние святой Марии.
— Сейчас ведь утопит её к чёртовой матери.
— Ерунда. Тут мелко, а глубоко он не пойдёт. Штаны, смотри, у него только до колена закатаны.
— Вот ведь затейник! Слушай, а он монах или не монах? Если не монах, то, может быть, мне уже стоит начинать волноваться?
— Брось ты, Лёха! Ты посмотри на него. Поверь, он тебе не конкурент. Машке такие не нравятся. Я тебе как родственник говорю.
Тем временем дьякон отводит Машку от берега на десяток метров. Он останавливается, черпает в горсть воды и поливает Машкины волосы, перекрестив. Потом так же поступает с Машкиными локтями. После этого они уже оба поворачиваются лицом к противоположному берегу и, трижды перекрестившись, кланяются.
— Во дают! — только и выдыхает Лёха. — Это что ещё за обряд такой на пленере?
— Даже и не знаю, но думаю, что немного благости ей не помешает. Вот что мне интересно — их учат такие штуки вытворять, или это всякий раз импровизация? А наша-то! Всё на полном серьёзе. Ты заметил, какое у неё было лицо, когда он её водой поливал?
Машка выскакивает на берег и бежит к нам, улыбаясь даже кончиками своих шкодных хвостиков.
— Всё! Мне было плохо, а теперь мне так хорошо. Мне так хорошо!
Достаю из рюкзака полотенце. Протягиваю ей.
— Насколько я помню, ты цвела и пахла всё утро. Если это называется «плохо», то я начинаю опасаться за свои оценочные критерии.
— Нет! Ты не понимаешь! Мне утром было прекрасно. Мне и вечером было прекрасно, но на самом деле мне было очень плохо ещё с Москвы. Уже давно. А теперь мне и так хорошо, и эдак хорошо. Понимаешь? Лёшечка, ну а ты понимаешь?
Лёшечка понимает. Он вытирает Машкину голову полотенцем. Наклоняется и подаёт футболку. Пока та, сидя на траве, пытается втиснуться в джинсы, подходит дьякон.
— Здравствуйте, — нам по очереди ладонь. — Георгий.
— Победоносец? — громко спрашивает Лёха.
— В каком-то смысле. Мария попросила на вас епитимью наложить. Вы как, готовы?
— Мы завсегда подпишемся. Что делать-то надо, Гоша?
— Георгий, — мягко поправляет дьякон. — Тут такое дело. Привезли доски на Секирную, а наверх не смогли подняться. Сбросили возле бани. Поможете наверх перетащить?
— За это нам прощение грехов?
— Прощение не обещаю, а обедом накормят.
Лёха вопрошающе смотрит на меня. Чувствуется, что ему очень хочется потаскать доски. В предложении дьякона он чует столь необходимую его характеру авантюру. Вернее, не авантюру, а ту неожиданность, в правильность которой он сразу уверовал.
— Нам вроде как не по пути. Мы, собственно, в Ребалду, — неуклюже пытаюсь отмахнуться от предложения, но слышу в своём голосе нотки неискренности. По всему выходит, что и мне вдруг приспичило на Секирную таскать доски.
— Много досок?
— Сороковка. Полтора куба. И вагонки половинка. — Дьякон глядит добродушно. Улыбается.
— Ну, что, Лёха, совершим неожиданный трудовой подвиг?
— Ребята, пойдём на Секирную. Пойдём-пойдём! Я хоть посмотрю, что за место такое. А то когда ещё сюда выберусь. — Машка прыгает на месте от возбуждения. Никакого смирения в глазах. Только радость торопливая.
Знаю я этот склон на Секирной горе. Там подъём градусов под сорок пять, метров на двести. По жаре самое то. Сердце спасибо скажет. Но уже всё решено. Решено ещё до того, как этот «велосипедист» подъехал. Надо подчиниться Острову. Он редко просит, а уж если просит, значит, так и надо.
Машка позаимствовала у дьякона велосипед. Тот с радостью отдал. Заботливо опустил сиденье, помог Машке залезть.
— Аккуратнее только. У него иногда цепь прокручивается. И передний тормоз совсем не работает. Тормозить только ножным.
Но Машка уже уверенно крутит педали, удаляясь вдоль по брусчатке. Всё ей всегда удаётся. Всё дают, что ни попросит. Мало есть мужиков, которые не поддаются её очарованию. Лёха, бедолага, попал. Втрескался в малолетку. У него даже черты лица поменялись. Какие-то внимательные складочки на лбу. Что-то сторожевое, охранное.
— На службу утром так и не пришли? — Дьякон громыхает рядом со мной военными ботинками.
— Напились вчера на радостях. Сегодня как-то не до церкви было.
— Так никогда времени не найдёшь. Это всё бесы его у человека воруют. А человек и поддаётся.
— Может, и бесы. Но утром мне пива хотелось, а не молитвы. Так что я сомневаюсь, что Богу нужна была моя похмельная молитва. Если уж совсем быть честным, не воспринимаю я это место как Храм. Как музей — да. Как архитектурный объект — да. А как место для молитвы — нет. Бог вообще задолжал этому месту. Слишком долго не замечал, что тут происходило.
— У Бога никаких долгов нет. Человек Богу должен. Своим существованием и своим спасением. И для человека важно те долги отдавать. Если долги отданы, то и умирать не страшно. Вот вы, небось, в глубине себя только хорошее думаете. Чувствуете Божье начало. Слова правильные говорите. Идеалы имеете. А человек всегда живёт между своими идеалами и своими поступками. И подвиг его не в том, чтобы те идеалы в себе копить, а в том, чтобы за поступки ответ нести. Это и есть долг.
— Перед кем это?
— Перед людьми и перед Богом.
— На том свете?
— Про тот свет ничего не скажу. А на этом свете человеку совесть дана. Вот и нужно вослед за совестью идти. Совесть — это дыханье вашей души, а не вашей личности. Личность может совсем неверными дорожками блуждать, а у души дорога всегда одна: от Бога и к Богу. И чем ближе дороги души и личности, тем легче человеку живётся, тем счастливее он внутри себя.
— Рекомендуешь блюсти моральный облик?
— Мораль — это то, что между тобой и людьми. Это мораль. Она вроде как и должна быть светлой, но всякое бывает. — Дьякон, похоже, сел на любимого конька. Чувствовалась отрепетированность текста. — Важнее морали — нравственность. Нравственность — это Божий закон, а совесть — её мерило. Они вроде как и близки — мораль с нравственностью, а не одно и то же. Вы деньги зарабатываете. Вы продаёте-покупаете. Морально это? Да. В обществе это морально, потому как законно. А нравственно? Не всегда. Общество законы устанавливает согласно своей морали. Для нравственности законов общество не придумывает. Если и пытается, то гомункулы выходят. Бесовским духом напитаны. Гордынью бесовской. Попыткой быть таким же, как Творец.
— Погоди, Георгий! А как же десять заповедей?
— Это да. Это законы. И дал их Бог. А общество нравственных законов изобрести не может. Нет у общества такой силы. Нравственные заповеди — это, друзья мои, высшая ступень Божьего творчества.
— А если общество такое дурное и неправильное, то за каким лядом перед людьми-то ответ нести?
— Это просто. Занимаешь ты в долг у людей, а отдаёшь Богу. Что тебя подвигает отдавать? Совесть.
— Или паяльник в заднице, — вставляет Лёха.
— Это для тех, кто совсем оглох и совесть свою не слышит.
— Стало быть, паяльник в заднице — это тоже Божий промысел?
— Всё Божий промысел.
— Странная это логика. Не понимаю я её. Какой — то в этом обман. — Лёха скинул с себя тельняшку, смотал её в тюрбан и водрузил на голову.
— А причащаться надо. Тогда и обмана никакого не будет.
Доски лежали чуть выше каменной бани, возле щита со схемой, сваленные на самой дороге. Пахли свежим спилом. Сосновые. Сырые. Тяжёлые. Блестели смоляными каплями на глазницах сучков. По прикидке получалось никак не меньше трёх кубов. Обманул Гоша. Или просто не знал. Лёха повёл Машку к колодцу пить, а я с удовольствием рассматривал небольшое картофельное поле за проволочным заграждением. Грядки неровные, но аккуратно окучены. С такого поля мешков двадцать собрать можно, если не больше. Видно, что теперь здесь не реставраторы, а монахи. Реставраторам не до хозяйства было. Вообще, чувствовалась обжитость, основательность. Скамеечка для отдыха. Покошенная трава по краям тропинки. Калитка в ограде. Информационный щит на фоне этого огорода смотрится выскочкой, наглой Nota bene на полях древнего трактата о бытие и подвиге. «Зона рискованного земледелия» — фраза из какой-то книжки мельтешит в сознании. Рискованного. Картошка на делянке среди леса — какой тут риск? Что раньше сажали, до того как появился тут этот американский агроинтервент? Репу? Злаки какие-нибудь? Судя по тому, что ещё осталось, у монастыря было обширное хозяйство, рассчитанное на то, чтобы кормить и братию, и паломников. Поля, стада коров, теплицы. Возле шлюза до сих пор стоит остов электростанции с ржавой германской турбиной. Дорогая вещь была. Видать, что не на пожертвования купленные. На доходы от промысла сельди. Целая флотилия у монастыря имелась. Торговля. Промысел. Есть ли в промысле да торговле то богосозерцание, ради которого приплыли на архипелаг первые подвижники? Не суета ли это? Чем больше братия, тем комфортнее она пытается жить. И вот уже интриги, доносы, высочайшие инспекции. И откалываются самые строгие, уходят на дальние скалы, мастерят среди болот скиты. Там иной ритм, иная планида. Хотя могу ли я судить, если даже не понимаю? В двадцатые годы и монастырских и скитских повыгнали. Где канавы рыли, где лесозаготовки устроили. За дерево лесу человеческой данью платили. Тысячами. Здесь, на Секирной горе, карцер был. Страшное место. Тот склон, где лестница Савватьевская, сплошь костями покрыт. Ещё в шестидесятых, когда музей-заповедник начали устраивать, косточки дождём из земли вымывало. Расстреливали ведь прямо на склоне, так трупы вниз и падали. И никто их не закапывал, не хоронил. Как теперь монахам на этом месте служится? Это же невозможно, когда столько боли. Или возможно? Или ушла та боль через иголки хвойные, через песок и супесь до самого гранитного лба острова? Ушла и затаилась там во тьме слюдяными слезами. А снаружи как сейчас — солнце, слепни, жара. А может быть, для того и служат здесь монахи, чтобы отмаливать души замученных? Несут скорбную вахту. Надо у дьякона спросить. Авось расскажет. А то ведь только кивнул нам на доски, поднял брошенный Машкой велосипед и молча упёрся куда-то.
Носили по одиночке. Первой ходкой подхватили по паре штук, но уже на половине подъёма залились потом. Лёха шёл впереди меня. Я чувствовал, как он считает каждый шаг, встречает ботинком каждый камень, нажимает на каждый корень. Слепни и оводы норовили спикировать на шею. Спасибо Машке, усиленно размахивавшей пушистой ивовой веткой. Последние метры от сарая со ржавым остовом генератора до крашеной стены обители уже на пределе. Всё с непривычки. Жизнь кресельная. Кресло в конторе. Кресло в машине. Диван дома. Лёха к концу подъёма далеко вперёд оторвался, но и ему тяжело. Скинули ношу. Отдышались и вниз. Потом по одной доске брали. Ходок больше, а нести легче. Через час работы втянулись. Ритм почувствовали. Уже и дыхание ровное на четыре счёта. Да и пот весь вышел. Камни и корни уже узнавали. Ступали по своим следам, по удобным ложбинкам. Машенция поначалу разговаривать с нами пыталась. Но почувствовала, что задыхается, умолкла. Ходила молча, сосредоточенно размахивая веткой. Однако вскоре умаялась. На какой-то раз осталась наверху. Уселась по-турецки на деревянном помосте, не то медитировала, не то просто вдаль смотрела. Пока работали, никого из монахов не видели. Казалось, что здесь и нет никого. Разве что занавеска в одном из окон вдруг оказалась задёрнутой. Дьякон вернулся. Понаблюдав за нами полчаса и покрутившись вокруг Машенции, опять уехал куда-то на своём велосипеде. Удочки так и не отвязал.
К четырём часам закончили. Свалили с плеч последние доски и уселись на груду колотых дров. Обедать нас никто не приглашал. Ломиться в двери и требовать еды не хотелось. Просто сидели, слушая, как внутри по инерции громко и часто бухает сердце. Где-то внизу раздался рёв перегазовывающего двигателя и лязганье тяжёлого металла. Слышно было, как с хрустом неведомый водила переключается на пониженную передачу и пытается штурмом взять склон. Наконец движок взвыл параноиком и в тот же миг заглох. Послышался отчаянный мат. Хлопнула дверца кабины. Немного погодя на поляне с генератором показался растрёпанный мужик в линялом танковом комбинезоне. Он поднял голову и заметил нас.
— Эй, работнички фуевы! Кончай курить! Принимай вагонку. Опять, сука, эта вафля заглохла! Радуйтесь, что в этот раз повыше дотянул. Кончай жопу о трусы тереть! Взяли, скинули, потом бакланьте. Мне ещё к катеру успеть надо.
Он запустил пальцы в нагрудный карман, достал смятую пачку космоса. Зубами оторвал фильтр и захлопал руками по карманам в поисках зажигалки.
— И огня дайте. Есть зажигалка-то, мазута?
Лёха рассмеялся. Вскочил на ноги.
— Как был ты, Васька, мудаком, так мудаком и остался. Только теперь ещё и старым мудаком стал. Как тебя люди терпят, не пойму. Здорово, калымщик! Не узнаёшь, что ли?
Это был Васька собственной персоной. Старший сын тётки Татьяны. Мы шли к нему в Ребалду, а он нашёл нас на Секирной. Чудеса, да и только. Впрочем, никаких чудес. На Острове не так много грузовиков, а грузовиков на ходу тем паче. Васька же шоферит с девятого класса. Пятнадцать лет назад он был приписан сразу к трём бригадам артели, да ещё успевал подхалтуривать.
— Дуть меня в ухо! Двоешники! Уж кого тут не ожидал встретить, так это вас.
Васька взбежал по тропинке и бросился обниматься. Пахло от него так, как пахнет от всех настоящих северных шоферюг: густо, кондово. Он и раньше не был фактурен, а теперь как-то ссохся. Сквозь растрёпанные редкие волосы виднелась покусанная комарами лысина. Красная морщинистая шея в вороте фланельки. Огромные голубые глаза. Нос в угрях. Свёрнутый на сторону знакомый Васькин нос.
— Экие вы здоровые вымахали! И ты, Лёха, лысый, как мой фуй! Тебя, что ли, полотенцем вафельным в армии брили? Или на реакторе жопу грел?
— Васька, ты за базаром следи. Мы тут не одни, с нами дама. — Я кивнул головой в сторону сидящей на помосте Машки.
Он вытаращил глаза и в показном ужасе зажал обеими ладонями рот. Я уже начал забывать Васькин лексикончик и ужимки, а было время, когда мы с Лёхой звонили друг другу по телефону и начинали разговор Васькиным: «Дуть мне в ухо, баклан фуев! Ты что ли? Але!» Приставучая у него манера разговора. Гортанное такое кряканье. Подобным голосом озвучивали сказочных негодяев в фильмах для детей младшего и среднего школьного возраста. Однако ничего негодяйского в характере Васьки не замечалось. Разве что ходили по Ребалде слухи о его сексуальных похождениях. Но львиная доля тех слухов распускалась самим Васькой для поднятия авторитета. Жил Васька вместе с матерью в большом двухэтажном доме, построенном из добротных брёвен ещё в начале пятидесятых. Был он вечно матерью понукаем за лень и тихое пьянство, но так же нежно опекаем ей и любим. Те два сезона, что работали мы на водоросли, взял он над нами что-то вроде шефства. Обучал промыслу. Возил за продуктами. Да и просто любил он сидеть вечерами в нашем бараке и часами радостно проигрывать нам в преферанс. Он разговаривал с картами, крякал от удовольствия, если получалась длинная масть, и вообще весь расклад читался на его лице. Проигрывая, он смеялся, бежал ставить очередной чайник и начинал травить нам истории своих флотских похождений. Был Васька нас на десять лет старше, в то время уже отслуживший. Три года провёл он в Североморске на минном тральщике. Насмотрелся людской глупости, на своей шкуре испытал многие подлости, да сам от того не очерствел. В свои двадцать девять любил смотреть мультфильмы. Таскал из тётки-Татьяниного буфета варенье, которое намазывал на толстые ломти булки и поглощал в неимоверных количествах. Но больше всего на свете любил спать. Стоило на несколько минут оставить его без дела, как он тут же засыпал в самой причудливой позе.
— И чья дама? Жена? Полюбовница?
— Дама теперь вроде как Лёхина. — Я потёр переносицу и показал Лёхе язык. — Полюбовницей её не назовёшь, женой тем паче: подруга.
— Дама сердца, — поправил Лёха.
— Таких люблю. Такие самые хорошие. Зовут как?
— Маша.
— Хорошо, что не Наташа, — заржал Васька, — не люблю Наташ. Дуры они все и бляди.
— Кто тут блядь? — Машка подошла и встала за Лёхой, обняв его за талию.
— Не вы, — Васька ощерился крепкими жёлтыми резцами, — другая.
— А то я подумала, что мужики, по обычной своей манере, обсуждают меня за глаза.
— Это, Машенька, легендарный Васька — друг нашей дурной юности и повелитель всей тяжёлой техники в округе.
Васька выступил вперёд и деланно поклонился.
— Василий Леонидович Головин. Местный. Водитель автомобиля ЗИЛ.
— Марина Семёновна Эскина. Москвичка. Филолог. Прав на управление грузовым транспортом нет. — Машка сделала жеманный реверанс.
— Семёновна? Сеструха! — Васька сграбастал девушку в охапку.
— Машенька, ты с ним поосторожней, — Лёха высвободил девушку из Васькиных объятий. — Ходят слухи, что он известный сексуальный террорист. Студенток перед практикой на Острове на его счёт особенно тщательно инструктируют.
— Я уже не студентка давно. И я не думаю, что такой симпатичный молодой человек окажется сексуальным маньяком. Маньяки обычно невзрачные, пришибленные, а Василий Леонидович — орёл!
Васька зарделся от такого неожиданного комплимента. Похоже, что орлом его ещё никто не называл. Зная Васькин характер, можно было предположить, что хитрая Машка мгновенно покорила его сердце, превратив в преданного рыцаря.
— Что, Вась, очередных досок привёз, что ли? — спросил Лёха.
— Привёз. Жорика по дороге на велике встретил. Он и сказал, что подрядил бичей на разгрузку.
— Бичей? — у Лёхи от возмущения раздулись ноздри. — Сам он бич! Дьякон хренов. Служитель культа.
— Да какой он дьякон… Он и не дьякон вовсе. — Васька достал очередную сигарету и откусил фильтр. — Он вообще не священник. Дядя его в монастыре на хозяйстве. А Жорик к нему третье лето приезжает в отпуск. Ну и подхалтуривает на стройке.
— Не понял! Как не дьякон? А подрясник? Шапочка эта?
— Это у него вроде спецодежды. Ну и любит, сука, за студентками приударить. Вначале проповеди им читает, а потом сами понимаете. — Васька сплюнул меж зубов и залыбился.
— Ну что, просветлённая ты наша? — Я заржал, глядя на выражение Машкиного лица. — Поп-то оказался поддельным. А ты уже и растаяла. Вот, оказывается, кто у нас маньяк.
— Ну жучара! — Лёха с шумом выдохнул. — Я уж, между делом, подумал, что мне какие грехи за этот трудовой подвиг спишутся. А он, мерзавец такой, нас на халяву пахать подрядил. Под попа вырядился. И ведь верные слова говорил, мазолик! Очень верные слова говорил, надрючился проповедовать.
— Это он умеет. Треплется не хуже профессора.
— Эх, в морду ему дать не успел, когда он Машку лапал.
— Рыцарь ты мой! — Машенция обняла Лёху и поцеловала в нос. — Он не в моём вкусе, да и священник.
— Так не священник же.
— А я же не знала. Мне, если честно, всё равно, священник он или не священник. Мне полегчало, когда он молитву надо мной прочёл и в воде перекрестил. И даже не важно, что он ненастоящий. Молитва была настоящая. И вода настоящая. И почувствовала я всё по-настоящему.
— Какая замечательная у вас Маруся! — Васька посмотрел на неё огромными своими голубыми глазами.
— Замечательная, — говорю, — но легкомысленная.
— Так я же девочка. Мне положено быть слегка легкомысленной. Разве я не очаровашка? — Машка наклонила голову набок и заморгала ресницами.
— Маруся, вы самая очаровательная девушка на всём Острове. Это я Вам говорю как абориген. Если бы не Лёха, я бы срочно сделал вам предложение руки и сердца!
— Васька! Не нарывайся. — Лёха шутливо погрозил кулаком.
— Всё-всё! Передумал. Тем более что я убеждённый холостяк. От баб одна суета.
— Мы, кстати, к твоей маме в гости шли. Даже с подарком. Как там тётка Татьяна поживает? — Я достал из рюкзака сковородку и продемонстрировал Ваське.
— Поживает? Отлично поживает. Она сейчас в Лебящине поживает. Каждое лето теперь катается. Валентин жениным родичам дочку на лето сдаёт. Больная она у него. А там места целебные. Сосны. Хорошо для лёгких. Ну, мать туда катается, чтобы тоже, стало быть, с внучкой побыть.
— Валентин-валентин-валентин-валентин! Ау! Где ты, мой Валентин? — неожиданно закричала Машка, облокотившись о парапет, словно вытянувшаяся вся навстречу эху.
— Что это с ней? — удивился Васька.
— Не обращай внимания. Она у нас девушка с подвывертами, хотя и хорошая, — Лёха хлопнул Ваську по плечу. — А где эта Лебящина?
— Вёрст триста отсюда. На Онеге. Это, если от Медвежьей горы, то чуть в сторону по дороге на Великую. Хорошие места. Дом прямо на озере. Вот как дочке их, стало быть, моей племяннице, три годика стукнуло, так она болеть начала. Ну, врачи рекомендовали климат сменить. Теперь там с ранней весны и до осени. Я к ним ездил, мать на машине отвозил. Ничего такая племянница. Румяная уже. Болтает без умолку. А матери тоже там хорошо. Они все вместе. И Валентин и Ольга, Ольгины родители, папашка мой. Ну и правильно, что тут на Острове торчать…
— О как, — Лёха казался явно озадаченным, — Во дела. А я, грешным делом, извиниться хотел. Да и должок отдать надо.
— Извиниться решил? Вот ведь баклан! Знаешь, как она на тебя тогда обиделась? Уехали, не попрощавшись, и баллон с собой забрали. Я когда вернулся, меня мать спрашивает про вас, а я отвечаю, что уехали. Сели на поезд и уехали. Она мне: «Как уехали? А баллон где? Вот засранцы!»
— Баллон же мы в карбасе оставили.
— Ну да, оставили. Вы бы его ещё посреди Кеми на улице оставили! Свистнули его. Я вообще подумал, что вы вместе с баллоном и смотались. Но потом почесал репу и решил, что вряд ли вы такую тяжесть потащите. Да и за каким лядом вам сральники рвать и его волохать? Хоть бы написали. Или открытку прислали. Она почему-то была уверена, что пришлёте поздравление на Новый год.
— Я хотел написать, да что-то… — Лёха погрустнел.
— Хотел-мател. Хотелка у тебя в другом месте была. Это ведь вас Кира увезла? А? Признавайся, Дон Жуан долбаный.
— Кто у нас Кира? — Машка просунула голову под Лёхин локоть.
— Кира у нас… — Лёха замялся — дела давно минувших дней.
— Сестра моя родная, которой этот саксаул голову задурил, а потом помчался за ней в Ленинград. Ну и этого с собой прихватил. Как же без этого. Одна шайка.
— Так-так. Я ревную. — Машка насупила брови.
— Машенька, тебе тогда было пять лет. И ты ещё даже в школу не ходила.
— Неважно. Мне всё равно обидно, что я у тебя не первая женщина.
Лёха пропустил Машкино высказывание мимо ушей. Он нахмурил лоб и покусывал губу.
— Кирка через два года потом приезжала. Мама у неё про вас расспрашивала, а та как партизанка молчала. Что, Лёхыч, не срослось у вас с ней?
— Не помню. Наверное. Я вообще плохо помню, что у меня там и как до армии было.
— Ну-ну. Она, кстати, в Германии живёт. Уехала с мужем.
— За немца замуж вышла?
— Почему за немца? За еврея. На хрен бы она какому немцу сдалась. Двое детей у них. Дом. Все дела. На компьютере работает.
— Программистом? — встрял я.
— Не знаю. Говорю, что на компьютере. Я в этом деле не разбираюсь. Что там на нём делают, мне до одного места. Были тут в прошлом году. Фотокарточки показывали. Хороший такой дом. Все дела. Машина — джипарь. Нормально. Он — мужик правильный, пьющий. Гришей зовут. Литрушечку с ним усидели. Наш парень, без выгибонов. На гитаре горланит, как вон Лёха. Кирка же на гитару ведётся. Толстая стала, как кобылища. Они тоже, оказывается, не знали, что мать к Вальке на лето уезжает. Ну, покрутились тут у меня пару дней, по монастырю полазали, покупались да и на Онегу двинули.
— А что, Лёха, поехали на Онегу! — Я вдруг почувствовал непреодолимое желание к перемене мест. — Надо реабилитироваться перед тёткой Татьяной. А то вон, смотрю, харя у тебя совсем скисла. Стыдно, что ли, стало?
— Есть немного. — Лёха попросил у Васьки сигарету, так же, как он, откусил фильтр и прикурил от плюющейся огнём пальчиковой зажигалки.
— Может быть, так оно и правильно. Хотя, честно говоря, мне не особенно хочется ехать.
— А что изменилось со вчерашнего дня?
— Как — что? — Машка обхватила Лёху руками за плечи и попыталась запрыгнуть на спину. — Я появилась. Вся такая прекрасная, вся такая замечательная. Самая лучшая на свете я. Но и я готова ехать с вами хоть на край света. Не в Москву же мне возвращаться. Я теперь, может быть, вообще в Москву не вернусь. Возьмёшь меня, Лёшечка, к себе жить? Я хорошая. Я даже посуду умею мыть. И готовлю я очень вкусно.
— Жить к себе? — Лёха покраснел. — Возьму.
Васька хлопнул себя руками по коленкам.
— Вот это я понимаю! Совет да любовь. Вот как теперь женщины поступают. От мужика предложения не дождёшься. Да и мужик измельчал. У тебя, Лёха, жены-то другой не имеется? А то конфликт выйдет.
— Не имеется. И не имелось никогда.
— Ты моё солнышко милое! Ты, значит, убеждённый холостяк? Вот свезло! — рассмеялась девушка.
Мы еще немного поболтали, потом спустились к Васькиному грузовику и помогли ему скинуть доски на землю. Таскать наверх уже не стали.
2. Татьяна
Валентин родился на Острове. Море штормило уже неделю, и Татьяна побоялась плыть до больницы в Кеми, когда подошёл срок. «Ты уж, Андреич, меня тут освободи от живота. Что делать я знаю. Подстрахуешь только, а я уж сама», — говорила она фельдшеру. Фельдшера, двадцатипятилетнего парня, иначе как Андреичем никто на Острове не называл. Безоговорочным уважением и авторитетом стал он пользоваться ещё за год до того, как доктор Кирьянов уплыл на материк. В отличие от последнего, Андреич не считал ниже своего достоинства «тащиться» в Ребалду, если кого-то из тамошних бичей скручивали печёночные колики. Кирьянов по-первости недоверчиво читал в медицинских картах поставленные фельдшером диагнозы, но вскоре понял, что тот доктор от Бога, а поняв это, со спокойной совестью запил. Узловатый суставами, кряжистый рельефом своей мускулатуры, раскидистый в движениях как можжевельник-переросток Андреич по несколько раз в неделю пересекал Остров из конца в конец. Чаще всего пешком, поскольку больничный газик привычно чинился, напоминая поперхнувшуюся человечиной рыбу-людоеда. Фельдшер за полгода познакомился на Острове со всеми жителями и их болезнями. Он одинаково легко брался лечить застарелый пиелонефрит или удалять больной зуб. Однако роды Андреич принимал впервые. На практике в архангельском медучилище, ещё не Андреичем, а просто Сергеем, стоял он вместе со всеми студентами в родильной палате. Но одно дело теория, а другое дело — настоящие роды. Здесь пятёрка на зачёте по акушерству как-то не успокаивает. Это не клеща вытащить и не шрам на ноге зашить. Даже полостная операция по удалению перитонированного аппендицита его не пугала, а тут что-то замандражировал. Словно ища поддержку у природы, он посмотрел в окно, но белые барашки до самого горизонта оптимизма не прибавили.
— Конечно, Татьяна Владимировна. Не волнуйтесь. Дело нехитрое, — успокоил он скорее себя, нежели роженицу и подумал, что Кирьянов, пусть похмельный, сейчас очень бы пригодился. Но Кирьянова уже с декабря на Острове не было. Не было и старшей медсестры больницы — она неожиданно для всех отпросилась в отпуск и уехала с мужем в Сочи. Оставалось брать себя в руки и принимать роды самостоятельно при помощи одной только санитарки Ирочки, у которой опыта в медицине меньше чем у портрета поэта Есенина. Портрет тот, аккуратно вырезанный Ирочкой из «Огонька», с некоторых пор украшал стену процедурной. Два дня Андреич штудировал справочник практического врача и найденное в книжном шкафу «наставление по родовспоможению» четырнадцатого года издания. А на третий день родился Валентин. Всё прошло быстро, спокойно и правильно, как в реферате третьекурсника. Выскочив из палаты, Андреич на радостях совершил должностное преступление — выпил среди рабочего дня стопку неразведённого казенного спирта. Ему вдруг захотелось раскинуть руки и побежать вдоль монастырской стены, крича что-то вроде «Человек родился!» Вместо этого Андреич вышел на террасу, засунул в род сложную комбинацию из пальцев и издал продолжительный заливный свист.
— Ух ты! Научи так! — раздалось откуда-то из-за стоящего в углу ржавого несгораемого шкафа.
— Вылезай, научу.
Десятилетний Васька, старший (теперь уже старший) сын Татьяны, выбрался на свет и доверчиво прошлёпал сандалиями к фельдшеру. Под свою заячью губу Васька запихал аж четыре пальца и теперь усиленно надувал щёки, брызгая слюной.
— Неправильно. Ты губы загни внутрь, так чтобы зубы видны не были. И вынимай свои грабли из пасти. Пальцы надо только до первого сустава класть в рот и придерживать ими губы над зубами.
— Как загинать-то? — Васька смотрел, по-щенячьи наклонив голову.
Андреич присел на корточки и стал демонстрировать Ваське технологию свиста. У парня оказался явный талант к этому делу. После нескольких неудачных попыток он издал такой наглый разбойничий свист, что у фельдшера заложило правое ухо.
— Вот это да! Молодец! — он протянул Ваське ладонь и тот пожал её мокрыми от слюны пальцами. — Научился свистеть в день рождения брата. Теперь никогда не забудешь!
— А можно в день рождения-то? Мать говорит, что если свистишь, то денег не будет. Вдруг у него от моего свиста денег не будет?
Андреич удивился парадоксальности детского мышления. Надо же. Такой маленький, а уже заботится о будущем благосостоянии только что рождённого брата, которого ещё и не видел.
— Думаю, что это всё суеверия. Ты в Бога веришь?
— Не-а. Кто ж в него верит-то? В космос летают, нет там никого. Не верю, конечно.
— Ну вот. А почему веришь, что если свистишь, то денег не будет?
— Говорят же.
— Много всяких глупостей говорят. Ты свисти, если тебе нравится и если ты никому своим свистом не мешаешь. Я же не боюсь свистеть.
— А у тебя много денег?
— Ну, не особо. У фельдшера зарплата небольшая.
— Вот! А может быть, всё потому, что свистите, — Васька никак не мог выбрать, как обращаться к Андреичу: на ты или на Вы. — Не свистел бы, так и зарплату повысили, или были бы не фельдшером, а профессором, как дядя Боря. Знаешь сколько он получает?
— Сколько? — заулыбался Андреич.
— Много. У него в Москве есть «Волга». Он мне фотографию показывал. Классная машина. И не такая, как такси. Такси другие. А это новая «Волга», у неё не только кузов другой, но и мотор, — Васька осекся, — ну, то есть двигатель другой совсем. Называется ЗМЗ 24Д. Девяносто восемь лошадиных сил. У неё скорость сто сорок пять километров в час. Там передняя подвеска на пружинах с поперечными тягами и этими, — Васька наморщил лоб, — телескопическими амортизаторами.
— Здорово в технике разбираешься. Нравится?
— Ага.
— Инженером будешь, когда вырастешь?
— А инженеры на машинах ездят?
Андреич представил себе инженерскую зарплату и покачал головой.
— Ездят, но редко.
— Не. Не буду я инженером. Да там и учиться надо долго. Математика эта дурацкая. Вообще-то, я уже давно выбрал, ещё когда маленький был. Буду шофером, — Васька сделал ударение на первый
слог. — Они ого-го как заколачивают. И свисти не свисти, а деньги всегда будут.
Фельдшер в очередной раз поразился рассудительности парня в денежных вопросах. Ему подумалось, что, выбирая профессию врача, сам он о деньгах вовсе и не помышлял. Ещё в детстве до щекотки в носу нравился запах, который исходил от их участкового, когда тот совсем не больно и необидно, а так по-дружески щелкал Сергея по носу. Участковый снимал в прихожей шубу и в белом накрахмаленном халате проходил в комнату бабушки. Проходил мимо него, прижавшегося к кухонной двери, и щелкал по носу. И всё. Ничего больше. И уже мечта о таком же белом халате, о таком маленьком, словно детском, кожаном чемоданчике. «Дышите. Не дышите. Задержите дыхание. Покашляйте. Где болит? Принимать по столовой ложке перед едой. А эти таблетки после еды три раза в день», — это из бабушкиной комнаты доносится. И там спокойно всё. И всем в доме спокойно. Врачом он, впрочем, пока не стал. Стал фельдшером. Но здесь, на северах, между этими понятиями давно поставлен знак равенства. А практика, которую Андреич уже успел набрать на Острове, стоила и тех трех курсов первого медицинского в Ленинграде, что он закончил, и тех трёх, которые ещё остались на потом.
Учиться всегда успеется. Лечить надо, а то люди болеют.
— Андреич, а Этот будет долго с матерью в больнице? — Васька длинно сплюнул между широко разбежавшихся передних зубов и склонил голову набок.
— Три дня. А тебе зачем?
— Как зачем? Я, пока мать тут лежит, в Петрик к отцу смотаюсь.
— Мать всё равно узнает. Попадёт тебе.
— Не, ей не до этого будет. Попадёт, конечно, но скорее для порядка. Большого скандала она мне не закатит. И дома точно не запрёт. Кто ей для Этого продукты отсюда возить будет? Так что дело беспроигрышное. Если, конечно, не заложишь.
Фельдшер пообещал, что сохранит его планы в тайне, и ушел к себе заполнять медкарту. Оставшись один, Васька набрал воздуха в лёгкие и свистнул от души.
С первым своим мужем, отцом Васьки, Татьяна развелась уже давно. Развелась и вернулась обратно на Остров, не найдя повода и возможности остаться в городе. Петрозаводск ей не нравился. Когда выходила замуж за своего Лёнчика, про быт да работу особенно не думала. Мнилось ей, что после свадьбы всё должно у неё быть хорошо, или не хуже, чем у других. Лёнчик — красавец, даже заячья губа его не портила. Высшее образование — ленинградская «Макаровка». Дом, полный дефицита и заграничной красивости, нажитой в те времена, когда Лёнчик ходил в загранку. «Времена» оказались совсем короткими: всего-то пять рейсов (списали по состоянию здоровья), но и их хватило, чтобы дом казался респектабельным.
Познакомились они на Острове. Лёнчик завербовался на сезон в артель и среди остальной шатии выделялся особенной статью, за которой чувствовалась если и не белая кость, то уж точно какая-то трагическая история. История была. Не такая трагическая, но была. По неуравновешенности характера набил он как-то лицо парторгу в Роттердаме на глазах всего порта. Весь рейс тот придирался, а молодой третий помощник копил в себе брезгливое отвращение. Потому на справедливое замечание о «расхристанном внешнем виде в порту капиталистического государства» ответил Лёнчик серией профессиональных боксерских пассов, приправленных сочными матюгами. Поставил на чистый асфальт полные ливайсов и адидасов спортивные сумки и врезал. И слева врезал, и справа, и даже снизу, разбив парторгу нос, сломав челюсть в двух местах и повредив ухо. После чего поднял сумки, аккуратно сплюнул жвачку в урну и поднялся по трапу. Если бы не старпом, который уговорил капитана замять дело, договорился с врачом и уложил Лёнчика в изолятор с липовым диагнозом «психопатия», светило бы парню что-то очень нехорошее из меню, предлагаемого уголовным кодексом. Прямо с парохода отвезли Лёнчика в клинику на освидетельствование. Вбили диагноз в справку и отправили на ВТЭК получать третью группу инвалидности из-за проблем с головой. Из пароходства списали окончательно, но с хорошей характеристикой. Даже парторг уверовал в Лёнчикову болезнь, ибо какой человек в здравом рассудке, по трезвости и по собственной воле порушит себе карьеру? Парторг ходил по Мурманску с гипсовой повязкой, завязанной бантиком на макушке, и по поводу произошедшего сетовал, что, дескать, жаль ему парня. Хороший, мол, парень, перспективный, но слетел с катушек. Пусть теперь на берегу лечится. Лёнчик собрал манатки и уехал домой в Петрозаводск. Как раз освободилась дедова квартира. С работой Лёнчик решил особенно не спешить, благо деньги были, а бюллетень ему выписали аж на полгода. Но приятели уговорили завербоваться в артель на Соловки. Там они с Татьяной и сошлись.
За три года до того закончила она Архангельский техникум. Могла работать хоть бухгалтером, хоть в плановом отделе. В Ребалду, в артель, попала по распределению, да так и осталась. Нравилось ей простая и понятная жизнь поселка. Нравился Остров с его неспешной колготней. А в Петрозаводске её тяготила суета и общая никчемность существования. Не чувствовала она в городе того внутреннего смысла, что пульсировал, скажем, в Архангельске или Мурманске. И даже розовый родонитовый берег Онеги казался ей издёвкой, подменой другого — морского. Детство Татьяна провела в приюте небольшого поселка на Белом море. До этого детства было что-то ещё, но в памяти на его месте лишь громоздились цветные бесформенные облака, обрывки запахов, звуков.
Родителей Татьяна не помнила. Даже не знала, как их зовут. Когда повзрослела и стала что-то понимать, поняла и общую причину этого своего сиротства. В пятьдесят пятом ей исполнилось шестнадцать. Вместо метрики для техникума выдали справку о том, что Соловьева Татьяна Владимировна поступила в Кандалакшский детский дом четырнадцатого апреля сорок первого года в возрасте двух лет. День рождения — четырнадцатого апреля тридцать девятого. Место рождения — Кандалакша. Она и праздновала свой день рождения четырнадцатого. Лишь только после того, как получила справку, задумалась о том, что, может быть, она и не Татьяна вовсе.
Люди возвращались из лагерей. Трех её подружек по детскому дому отыскали отцы. Самую любимую — Ленку, ту с которой они сидели рядом в классе, забрал с собой высокий тощий человек с такими же, как у Ленки, огромными серыми глазами и длинными пальцами. Он вошел в класс во время урока химии вместе с директрисой. Из двадцати девочек сразу нашёл глазами Ленку. И та вскочила, хлопнула крышкой парты и бросилась, рыдая, к нему. Как поняла, что он — отец? Откуда? С таких же двух лет сиротою жила, ничего про родителей не знала.
Очень глубоко внутри сознания Татьяна надеялась, что и к ней вот так же однажды приедет некто. Обнимет, потреплет по светлым её волосам, прижмет к небритой сухой щеке. Почему-то именно эта небритая щека представлялась ей главным в родительском существе «отец». Или папа? Она никогда не говорила «мама» и «папа». Всегда «мать» и «отец». Обезличенно, вне эмоций, не от своего имени. Что-то непонятое, из жизни других людей, существующее как абстракции или свойства персонажей литературных произведений. Стоит ли печалиться и сожалеть о том, чего у тебя никогда не было? Татьяна не знала, что значит «хотеть к маме», никогда не испытывала этого иррационального чувства, или испытывала, но забыла. Было много взрослых, так или иначе принимавших участие в Татьяниной судьбе. Иногда авторитеты этих взрослых сталкивались в сознании девочки, заставляя выбирать между чужими правдами. Но рационально. Холодно. По-детски меркантильно. И только когда уехала Ленка, когда сдуло дегтярным перронным ветром с Татьяниной щеки щекотку Ленкиных волос, только тогда и появилось неоконченность, одиночество.
Лёнчик кочевал с одной работы на другую, особенно нигде долго не задерживаясь. Одно радовало, что почти не пил. На каждом новом месте он браво принимался за дела, начинал ходить на собрания, делать рационализаторские предложения. Получал премию, вторую, третью, вывешивался на доску почета. Но вскоре задор пропадал. Лёнчик впадал в апатию, ленился, забывал ходить на службу и увольнялся по собственному желанию, когда с ним уже готовы были распрощаться за прогулы. Потому регулярным кормильцем в доме получалась жена. Ей повезло — подружка по техникуму устроила в плановый отдел геологического института. Платили хорошо. Вместе с регулярными надбавками выходило в месяц до двух послереформенных сотен. На эти деньги можно было прожить с сыном и с мужем — лоботрясом. Лёнчика такое положение дел устраивало. Он мог месяцами жить на диване перед телевизором «Грюндик» с белыми кнопками, смотреть дневные обучающие программы, курить дорогие болгарские сигареты в твердых пачках и рассуждать о том, что на лето опять завербуется в артель либо поедет с геологами в партию. Но планы так и оставались планами, только в трудовой книжке стремительно заканчивались страницы. Татьяна приноровилась брать халтуры по перепечатке научных работ и диссертаций. Она использовала для этого рабочую пишущую машинку, потому задерживалась допоздна.
У института имелся свой детский сад. Каждое утро Татьяна отводила туда маленького Ваську, а Лёнчик забирал его вечером. Эту трудовую повинность выполнял он с охотой. Забрав сына, Лёнчик шёл в любимую кафешку на Куйбышева, где давали сосиски и бутылочное пиво. Там отец с сыном проводили полчаса, после чего спускались до набережной, смотрели на Онегу, а после уже отправлялись домой. Лёнчик с Васькой разговаривал. Он находил в сыне замечательного собеседника, который не спорит и не противится вечным Лёнчиковым рассуждениям о жизни, о тщетности подневольного труда и необходимости внутренней и внешней свободы. Впрочем, речи те окружающим тоже не казались речами якобинца, а походили на инфантильные мечты фрондёра и романтика, повесившего у себя над кроватью портреты Хемингуэя и Че. Васька же был настолько мал, что смысла не улавливал, а просто млел от потрескивающего морозцем отцовского голоса. Он смотрел на автомобили, едущие по улицам Петрозаводска, и говорил или «мафына», или «пабеда», или «гузовик». Принюхивался к запаху выхлопных газов и норовил поднять с земли ржавую гайку. Жизнь механизмов интересовала его много больше жизни людей. Домашние скандалы тоже его не трогали. Васька забирался на огромный желтый шкаф, где у него был оборудован плацдарм, и в сотый раз откручивал колеса игрушечного грузовика.
Скандалы случались все чаще. Инициатором всегда выступала Татьяна. Она понимала мелочность своих претензий, но ничего не могла поделать с ежедневно поднимающейся в ней волной раздражения. Лёнчик сперва отшучивался и называл Татьянины всплески «самоиндуцированием», потом стал спорить, а к концу их семейной жизни только огрызался и замыкался. Иногда, в самом начале скандала, предупреждая первый шквал, он подхватывал Ваську и уходил с ним гулять в парк или на горку. Татьяну такая реакция возмущала ещё сильнее. Она нервно кружила по квартире в тщетном поиске немытой посуды, невыброшенного мусора или оставленных «не на месте» вещей. Искала, чтобы сорвать на них злость. Не находила и плакала, понимая, что по большому счету неправа. В квартире Лёнчик поддерживал флотский порядок. Всё лежало на своих местах, кроме самого Лёнчика, конечно. Татьяна плакала, но облегчения слезы не приносили. Единственная петрозаводская подружка, видя Татьянино состояние, называла Лёнчика козлом. Но каких-то аргументов, которые могли бы эту формулировку подтвердить, не приводила. Сама Татьяна тоже не могла понять, что именно её не устраивает. Лёнчика ей было жалко. Но ещё более жалко ей было себя и Ваську. Ваську жалко из-за того, что она не додавала ему материнского общения. А себя она жалела, потому что жизнь свою представляла иначе, осмысленнее. Когда во время очередной тягучей и никчемной кухонной склоки Лёнчик в сердцах предложил «Может быть, лучше разведёмся?», Татьяна аккуратно поставила на полку чистую тарелку, вытерла руки полотенцем, повернулась к мужу и сказала, что да — она согласна. Лёнчик сказанное в шутку не перевёл. Она тоже.
Никогда позже она не жалела о своем решении, хотя о бывшем муже с годами вспоминала всё теплее и теплее. Узнавала у знакомых о его жизни. Писала поздравительные открытки на Новый год и на день рождения. С оказией передавала в Петрозоводск копченую треску. Когда Лёнчик приезжал на недельку, всегда отпускала с ним Ваську. Они бродили по Острову, ловили рыбу в озерах, шарились по монастырю или отправлялись встречать рассвет. Даже когда в её жизни появился Борис, она не переставала помнить о Лёнчике и мысленно о нём заботиться. Идеи их познакомить, впрочем, не возникало.
Борис возник неожиданно. Огромный. Раскатистый. Щедрый на себя. Умный неместным парадоксальным умом. Никак не принц. О принцах Татьяна не мечтала — не умела. Король из чужой страны, собирающий народы, одаривающий землями, вершащий историю. Словно древние властители со страниц всех прочитанных книг выписали охранные грамоты и обеспечили его армиям проход по своим территориям. Во главе арьергарда гвардии — ремесленников ума, подвижников, горлопанов, в зените любви юных студенток-одалисок. Археолог. Профессор. Сразу на ты, а не обидно.
Татьяна влюбилась, и это её напугало. Напугало не то, что Борис был на двадцать пять лет старше, не то, что женат, что сын его лишь немного младше самой Татьяны, не то, что могут как-то не так посмотреть окружающие. Она просто испугалась чувства — незнакомого, сильного, всю ее себе подчиняющего. Единожды прижал он её к своей шершавой и щекотной щеке, и всё. Почувствовала она себя женой, пленницей, женщиной. И всех прав-то у неё оказалось: любить и дожидаться, встречать и провожать. С сентября, когда уезжали экспедиции, пропадали с Острова залетные работяги, отправлялись в Петрозаводск и Мурманск сезонники, начинала она писать письма. Письма до востребования на московский Главпочтамт. Письма на листочках в клетку, аккуратно вынимаемых из скрепок толстой тетради. Писала она округлым своим красивым почерком. Слова запирались в лёгких этих бумажных клетках, чтобы навсегда оставаться там и рассказывать далёкому и милому её Борису о всём, что казалось ей важным. Татьяна писала об Острове, о сырой манке тумана, скрывающей ржавые купола монастырского храма. Писала о северо-западном ветре, нагоняющем на Остров низкие и тяжёлые долгой водой облака. О собаках, вырывающих себе ямки в пыли у магазина и смотрящих вслед каждому, кто спускался вниз с холма, ласковым прощающим взглядом. О сухом и хлопотливом клёкоте воды между ржавыми карбасами в шлюзе. О другом, отчаявшемся стремиться в небо и рушащемся в шхерах брызгами эха звуке пароходного колокола. О чертинках дождя на стекле в конторе. Сверху слева, вниз направо, потом сверху справа, вниз налево: крестики. О вкусе можжевеловой ягодки, которую она катала во рту, пока шла от Ребалды до посёлка. И о вкусе карамельки «дюшес», сменявшей ягодку на обратной дороге. Татьяна не старалась показаться умнее и лучше, чем она есть. Она просто почувствовала, что может и должна теперь делиться всем своим самым важным с другим человеком. И этот человек, её человек, её великий и всепрощающий, всепонимающий государь готов читать Татьянину жизнь в строках и между строк.
Первым их летом она раз в три дня садилась в лодку и плыла на Заяцкие, где стояла лагерем партия. Она появлялась под вечер, когда все студенты уже сидели на сооружённых из высохшего топляка скамьях вокруг костра и, слегка покачиваясь, протяжно пели что-то красивое. Татьяна проходила под тент, накрывающий импровизированную столовую, кивала дежурному, доставала амбарную книгу и делала вид, что сверяет количество продуктов на складе с каким-то ей одним ведомым реестром. Дежурный уходил, и почти сразу появлялся Борис. Он деловито потирал ладони и спрашивал нечто вроде: «Ну, что тут у нас?» Они какое-то время вели «деловую» беседу, после чего Борис брался проводить Татьяну. Скрывались за перегибом каменистого берега и оставались одни. Только гладкое, розовое море, только стелящийся у самого берега дымок и больше никого. Руки, губы, плечи, глаза. И ещё слова, которые шептались. И шепот этот вплетался в остальные шорохи летнего берега Белого моря, как вплетается праздничная лента в косу девочки. Ай, умница… Ай, красавица…
Потом она плыла к посёлку, ловко работая вёслами, и внутри у неё ещё жило теплом, ещё кипело, дышало. Она привязывала лодку возле ангара, забирала спрятанный в сарае велосипед и ехала к себе в Ребалду. Ехала по притихшей лесной дороге, вдыхала щедрый запах разнотравья и улыбалась. Лязг провисшей цепи, скрип пружин под седлом старой «Украины», хлопоток ветра на концах шёлкового платка и небесный оркестр тишины и счастья. Пусть женат. Пусть есть сын. Но сын уже взрослый, ему Борис уже не нужен. А Татьяне нужен. Татьяне никто никогда в её жизни не был так нужен, как этот мужчина. В нём за такой короткий срок сошлись все Татьянины тайные желания, все нереализованные мечты, все фантазии, сны, надежды. Быть рядом, пусть не всегда, пусть рядом только душами, но рядом. Словно бы свет жизни, которой она заслуживала, для которой была рождена и которую у неё отняли вместе с родителями, вдруг проник в её сознание и сердце. И стала она иной. Не той маленькой девочкой и не той, что училась в техникуме, и вовсе не той, что выходила замуж. Она стала незнакомой даже для себя, но такой, за какую и сама порадовалась бы.
Три года прожила она здесь в умиротворении с собой и с сыном. В работе на полторы ставки, в строчках артикулов и столбиках цифр. Три года на понимание, что её судьба — это судьба матери-одиночки, женщины для уважения, а не для чувственности. Она с самого своего возвращения на Остров смогла поставить себя в стороне от интриг и чужих матримониальных троп. Строгость с сезонниками, подчеркнутое уважение к местным. Никаких взглядов, никаких шуток, никаких танцев. Серьёзная молодая женщина, занимающаяся важным делом, ответственный работник, хороший товарищ, надёжный сотрудник. Самообразование: книги из библиотеки, журналы «Наука и религия», «Химия и жизнь», заметки в тетрадках, выписки, цитаты. Сын всегда под присмотром, даже когда она в конторе. Раз в два часа она проходила сто метров до их дома, проверяла, как он там. А по вечерам — чтение книг вслух, игры. На выходных — гуляние по островным лугам, сбор гербария.
Первый гербарий они собирали, когда Ваське исполнилось пять лет. Собирали всё лето, засушивали между страницами толстенного кирпича полного математического справочника. Искали каждое растение вдвоём, по двухтомному определителю растений, взятому в библиотеке. Пришивали суровой ниткой к листочкам картона, подписывали. Подписывал сам Васька. Татьяна просила его вначале тренироваться на отдельном листочке выводить сложное латинское название, потом только аккуратно вписывать шариком в разлинованные графы на картоне. К пяти годам Васька уже свободно читал детские книжки и мог даже произнести латинские названия, хотя и не понимал, что это такое. Запомнить и связать латынь и цветы Васька оказался не в состоянии. Для него тысячелистник был тысячелистником, шалфей шалфеем. «Ничего, — думала Татьяна, — главное, чтобы хорошим человеком вырос. А вырастет хорошим. Я это чувствую. Я его не отпущу». Ей казалось, что только выберется он из под материнской опеки, так сразу начнётся непрекращающаяся война за его душу. С кем? Со всеми, со всем миром, которому на Ваську наплевать. Как наплевать было на неё. И даже все эти пионерские сборы её детства в Кандалакше, комсомольские собрания в Архангельске — это всё было ложью и неправдой. Много-много слов, от которых она не становилась лучше. И ей всегда казалось, что, последуй она всем советам, что давались ей в течение жизни, стала бы она отменной стервой.
Но что поделать, в школу она отдала Ваську, когда тому ещё не исполнилось семь. Однако самым маленьким в классе он не оказался. Учились ребята и младше. В школе был один первый класс, один второй, один третий, два четвертых и дальше вплоть до восьмого класса по одному. Детей в школе на Острове совсем немного. Да и откуда им здесь взяться в достаточном количестве? Молодых среди учителей не водилось, разве что на время приплывали практиканты из педагогических вузов. Но те считали дни до своего катера. Самой молодой — химичке, она же биологичка, — недавно исполнилось сорок три. А первой учительницей у Васьки случилась вдова бывшего заместителя начальника СЛОНа, «вечная девушка» Василина Яковлевна. Ей было под семьдесят, но она носила голубого цвета парик, густо красила брови и пахла духами. На последнем в году родительском собрании она привела в пример Василия Головина, как мальчика, наделенного многими талантами, но вместе с тем разгильдяя, каких свет не видывал.
— Чувствуется, что ребёнок растёт без мужской руки. Одним материнским воспитанием сделать из человека Человека очень трудно, — Василина Яковлевна грузно нависала над учительским столом. — Вы, мамаша, не ограничивайте общение мальчика с отцом, тем более я в курсе, что он имеется и в здравии. Вот, каникулы наступают. Думаю, что ребёнку будет полезно повидаться с родителем, пообщаться. Польза от такого общения обширная. И, прежде всего, она заключается в том, что ребёнок копирует социальное поведение отца и тем самым готовит себя к адаптации в обществе. Если ваша жизнь не сложилась, — тут учительница посмотрела на Татьяну с излишним значением, — это не повод лишать мальчика полноценной социальной роли, которую ему придётся в дальнейшем играть. Ваш Василий не по — мужски несобран, рассредоточен в собственном внимании. Дети в его возрасте уже прекрасно знают всю свою жизнь вперёд, имеют мечты. Ваш же пока, как мне кажется, питает иллюзии. Ребёнок полагает, что с выбором жизненного пути торопиться не следует. Это пассивная, инфантильная, явно наведённая женская жизненная позиция.
Татьяна с трудом удержалась от того, чтобы не сдерзить. Вся эта проповедь решительно ничего не стоила. И она прекрасно понимала, откуда что берётся. Сын Василины Яковлевны в первый год по возвращению Татьяны на Остров имел на неё виды. Приезжал в Ребалду через день и пару часов проводил в плановом отделе, распивая чаи и травя байки. Но безрезультатно. Татьяна этих ухаживаний демонстративно не замечала. Подруги-коллеги качали головами, понимая, как малы у мужика шансы. Татьяна — высокая, статная, фигуристая, с собранными в аккуратный пучок светлыми волосами — и неказистого вида рябой мужичонка — заведующий ремонтной мастерской на пару не походили. И когда он в трюме идущего в Кемь баркаса попытался прихватить Татьяну за талию, то получил такую осмысленную и отрезвляющую оплеуху, что все находившиеся рядом даже не засмеялись, а зааплодировали.
Но в то лето она всё же отправила Ваську к отцу. Лёнчик сам приехал за сыном, с огромными планами посетить Ленинград, Таллин, Ригу и Калининград, где жили и работали Лёнчиковы однокурсники. Потом он намеревался поехать на родительскую дачу, что на другом берегу Онеги, к бывшей Татьяниной свекрови — Васькиной бабушке. Свекровь во внуке души не чаяла, баловала как могла. Всю жизнь она отработала учительницей в школе и имела тягу к домашнему воспитанию. Впрочем, в годы совместной с Лёнчиком жизни Татьяна старалась к добровольной помощи родственников не прибегать — подсознательно боялась упрёков. А теперь Татьяна рассудила, что мальчику нужны новые эмоции да впечатления, и после недолгих колебаний отпустила.
— Ты только не позволяй ребёнку копировать твоё социальное поведение, — сказала она бывшему мужу на прощанье, когда тот стоял на борту готовящегося отчалить катера, чем привела Лёнчика в недоумение.
— Это ты к чему сейчас?
— Ни к чему, — отмахнулась Татьяна. — Это я так, сама с собой разговариваю. Не корми его мороженным, не позволяй не спать после девяти вечера и…
Мотор катера заработал, раздался гудок, и Татьянины наставления разметало вместе с брызгами по причальной стенке. Васька долго-долго махал рукой стоявшей на берегу матери, пока катер не скрылся за островом. И в тот же день появился Борис. В тот же час появился Борис. Он уже был рядом. На уходящий катер он только что посадил двух своих аспирантов, отправляющихся в Москву, в университет, с деревянными вьючниками камней и косточек. Теперь он стоял у начала пирса и о чем-то оживлённо беседовал со старшиной милиции Чеберяком.
— А, вот, Головина вам поможет! — Они заметили медленно идущую по дорожке Татьяну. — Татьяна Владимировна, подойди к нам, разговор есть. Ты же у нас и плановик, и бухгалтер — профессионал, а здесь проблема образовалась у археологов. У них три отряда работает, а отчётность общая. Надо помочь. И деньги платят. А тебе как матери-одиночке деньги никогда не помешают. Вон, Ваське форму школьную надо покупать новую. Он за год вымахал, руки из куртки торчат. Правильно я говорю, Борис Аркадьевич?
Высокий, огромный, с рельефным обветренным лицом, седыми волосами, аккуратно подстриженной (под Хемингуэя) бородкой. Мужчина из фильмов про мужчин, из журналов «Юность» про мужчин. Мужчина, которого старшина назвал Борисом Аркадьевичем, вдруг неожиданно бросился к Татьяне, схватил её за руки, заглянул в глаза.
— Будьте нашим бухгалтером, Татьяна Владимировна! Умоляю! Прошу вашей руки, вашего опыта и совсем немного вашего времени! Взамен требуйте чего угодно! Всё исполню.
И что тут случилось с Татьяной, она и сама потом не могла определить. Как сорвалось у неё с языка то, что сорвалось. Какие бесы или какие ангелы её устами заговорили. Но только, не вынимая своих рук из рук этого невесть откуда взявшегося чужого, пока ещё совсем чужого мужчины, она твёрдо и уверенно произнесла: «Хорошо. Если можно просить всё что угодно, то прошу вас быть моим мужем».
Чеберяк с удивлением вскинул на Татьяну взгляд и покачал головой. А Борис раскинул руки в стороны, обнял её и прижал к шершавой и щёкотной своей щеке. На мгновение. На малую секунду. На ту самую, после которой всё стало иначе.
3. Валентин
В Москву Валентин приехал в июне восемьдесят седьмого. Приехал один, выдержав многодневное сражение с матерью, уговаривающей ехать вместе. Ей так спокойнее, когда она рядом, да только помочь вряд ли чем сможет, а позору будет… Нет уж, взрослый человек — значит, взрослый человек. Ему же только один экзамен сдать, школа-то с золотой медалью. Сдавать надо специальность — историю. А историю он сдаст. Историю он лучше студентов пятого курса знает, лучше аспирантов. Для него история не «было», для него история сейчас и вокруг него, он внутри неё. Каждый свой день от княжих грамот считает. Зря, что ли, он год просидел над университетскими учебниками? Он с восьми лет на раскопе, с двенадцати в монастыре на реставрации. Он трёхтомник Ключевского ещё в пятом классе прочитал, самое интересное выписал в тетрадку. Выписал своим мелким, скопированным с отцовских писем почерком. Потом за два года всего Соловьёва, параллельно европейскую историю средних веков, потом новую. Дядя Сеня его лично в прошлом году экзаменовал, когда к матери в отпуск приезжал. Часа два мучил на глазах у семьи. Гонял по всей линейке вниз и вверх, по всем странам вдоль и поперёк. Везде Валентиновы полки стоят, везде гарнизоны знаний, крепости прочитанного, форты понятого, секреты угаданного. Мать с Кирой на диване сидят, лица счастливые, чуть ли не в ладоши хлопают. Васька к дверному косяку прилип, глаза таращит. Гордится братом. Звёздный час, ей-богу! Дядя Сеня тогда из-за стола встал, к Валентину подошёл, поднял его за плечи, лицом к матери повернул: «Вот, Татьяна, Борис бы порадовался. Весь в него парень. Память феноменальная, упорство грандиозное. Ещё бы мускулов нарастить на эти кости, а то щуплый он какой-то, как городской». Ну, про щуплого дядя Сеня, конечно, перегнул. Валькин скелет оплетали упругие, сухие мышцы йога. Ежедневно в течение четырёх лет тренировал он своё тело специальными дыхательными упражнениями, гимнастикой из перепечатанной и переснятой на фотобумагу американской книжки про восточные практики. Умел расслабляться за считанные секунды, скидывая с себя усталость и напряжение, и за такие же секунды превращаться в электрический разряд, в шаровую молнию. Через день вечерами бегал от Ребалды до монастыря без остановки и передышки, не замечая расстояния. Да и в драках мог за себя постоять. Впрочем, драки случались редко. Было во всём Валькином облике что-то столь цельное, такое монолитное, дремучее, что чувствовали даже отпетые бузотёры. Чувствовали и лишний раз не заводились.
Пообещал дядя Сеня помочь при поступлении. А что теперь Валентину эта помощь? Он и сам всё сделает. Сам. С вокзала поехал сразу в Университет, в приёмную комиссию исторического факультета. Сдал документы, заполнил анкету, получил талон на поселение в общежитие. Секретарь комиссии Валентину понравилась. Приятная молодая женщина, чем-то похожая на его мать, только ниже ростом, да и моложе, много моложе. Взяла она Валькин красный диплом, раскрыла, посмотрела на вкладыш, покачала головой.
— Много в этом году к нам медалистов. Очень много. Вы, Валентин Борисович, готовьтесь к тому, что специальность сдать будет очень сложно. Конкурс велик. Конечно, к медалистам особое отношение, но здесь Москва. Тут всё не так просто. Очень я вам рекомендую внимательно отнестись к самой новейшей истории. У Вас ещё две недели до экзамена. Так вот, за две недели вы должны все последние пленумы и съезды знать так, словно сами на них были. На них всех резать будут. По опыту прошлого года знаю. Такие ребята талантливые срезались. Кто все экзамены прошёл, кто, как и вы, с медалью, а как начинается борьба за места, тут уже все средства хороши. По секрету скажу, что есть списки «своих». Кто не «свои», на вопросы билета отвечают, а на дополнительных очки теряют. Медалистам сложнее, медалистам этот экзамен нужно только на пятёрку сдать. Других оценок не существует. Или, если хотите, можете на общих основаниях проходить все экзамены.
Сдавать всё Валентин не хотел. Одно сражение всегда лучше, нежели четыре. Этому как раз история и учит. «Хорошо, что мать не поехала», — подумал тогда Валентин. Если бы мать была тут, точно заставила бы дяде Сене звонить. Он ведь замдекана, правда, на другом факультете — на филологическом, но разве это важно? Они тут все друг дружку знают. Всё так. И пошёл бы в списках «своих». Но это неправильно. Это по-московски. А Валентин приехал побеждать Москву, а не подстраиваться. Сам понимал наивность этого желания победы в честном бою, но ничего поделать с собой не мог — сущность.
Просидел Валентин десять дней кряду в библиотеке с брошюрками пленумов, партийных конференций да с материалами двадцать пятого съезда в твёрдом красном переплёте. Чтобы уж совсем быть уверенным, просмотрел подшивку «Московских Новостей» за последний год и все речи Горбачёва в «Известиях». Сплошная перестройка с ускорением да интенсификация с гласностью в разных вариантах и во множественности своих перестановок. Ничего интересного. Соседи по комнате тоже медалисты. Один парень из Горького, другой из Свердловска. Тот, что из Свердловска, — огромный, медведеподобный, с лицом свирепым. Но это только внешне. В первый же вечер принёс он бутылку кислого вина «Ркацители», разлил в граненые общежитские стаканы и оказался милейшим парнем Илюхой Полушкиным. А второй, Андрей Воскресенский, в общежитии и не ночевал. Жила у него в Москве тётка где-то в районе Чистых прудов, так он туда сразу и переселился. Хотя чемодан для виду оставил, мало ли что — «пусть будет».
Илюха оказался из списка «своих». Родственник одного из завкафедр. Дальний, но всё же родственник.
— Ты, Валька, зря своему дяде Сене не позвонил. Мне мой дяхон сразу сказал, чтобы я не бздел, мол, впишет меня куда надо. Ты посмотри сам, сколько народу в этом году попёрло в инситуты! А знаешь, почему так?
— Почему? — Валентин не видел в этом никакой системы. Просто случайность.
— Ну и куда же ты, Казбич, в историки идёшь? Ты прикинь. Сейчас восемьдесят седьмой год. Значит, большинству родителей наших должно быть сейчас лет сорок. Так? Ну, или чуть меньше. Это если всё как у людей: школа, институт, ну, там, у кого как, и где-то посерединке этого «у кого как» дети рождаются. А родители получаются послевоенные. Как раз те самые, что с сорок четвертого по сорок восьмой годы понародились. А понародилось после войны ого-го как. Мужиков мало было, а баб до хрена. Вот один мужик и долбил в восемь дырок, выполняя указание Родины. А мы уже их дети.
И нас до эдакой матери. Демографическая волна, так сказать. Понимаешь? Количество мест в институтах не увеличилось, абитуры прибавилось. Конкурс везде зашкаливает. А тут МГУ, а не писюн мокрый. Сюда со всей страны едут. Те едут, кто в себе силу чувствует, кто знает, что у себя там был лучше всех, круче всех, понтовее всех. С хера ли мне, к примеру, в свердловский универ поступать?
— А что не поступить? У вас там хорошая школа.
— Да и ладно! Хоть вообще, супервысшая школа. Что мне тот Урал? «Наутилус» я и тут послушаю. А в родные места на каникулы съезжу. В Москве во сто раз возможностей больше. Я же хочу как минимум Трою откопать. А для этого нужно в международные программы вписаться какие-нибудь. А ты полагаешь, что у нас они там есть? Нет ни хрена. Это в Москве да в Ленинграде перестройка, то да сё. А у нас там как был застой, так и остался. Нет, Валька, ты же и сам зачем-то сюда поперся, а не остался у себя где-нибудь в Мурманске или Петрике. Хотя не знаю, есть ли там чего. А кстати, почему сюда, а не в Ленинград?
— Это как раз просто. Мать хотела, чтобы я учился там же, где и отец.
— А он у тебя МГУ заканчивал?
— Ага, — Валентин отхлебнул вина и закусил варёной картошкой, — здесь на кафедре работал. Заведующим. Но давно. Умер он.
Илюха выпустил струю дыма в потолок и хлопнул своей лапищей по клеёнке.
— Сочувствую. Но, с другой стороны, так ты вообще должен быть суперблатной тогда. Чего же ты весь книжками обложился? Тебе путь просто ковровыми дорожками выстлан: вперёд, дорогой человек, мы тебя давно ждём! Или там всё не так просто?
— Вот-вот, — Валька уже пожалел, что сказал про отца, — не всё так просто. Даже совсем непросто. Ты извини, но я уж тебе не буду всего рассказывать. Поверь, что так надо, что я всё делаю правильно. Чувствую, что всё делаю правильно.
— Всё, с вопросами не пристаю. Мужчина! Уважаю! — Илюха разлил остатки вина по стаканам и встал во весь свой огромный рост. — Хочу выпить этот бокал замечательного сухого вина за то, чтобы все хорошие мужики вроде нас с тобой поступили и доучились до пятого курса, а все гондоны неприятные завалились бы уже на первом экзамене. Ты мне, парень, сразу понравился, потому предлагаю тебе дружбу свою. Ты как?
— Я за. Ты мне тоже по душе. Молодец. Сечёшь. Нормально. Поехали!
Волновался, как оказалось, Валентин напрасно. На вопросы билета ответил он без подготовки, чем изрядно комиссию порадовал. И поскольку смотрелся он эдаким орлом, то никаких дополнительных вопросов уже никто не задавал. Грех такого парня валить, пусть и не блатной, но медалист, умник. Учись, дорогой Валентин Борисович Соловьёв, занятия не пропускай, зачёты сдавай вовремя.
Вечером того дня на радостях напились они с Илюхой до икоты. Вначале хотели дождаться третьего, но Воскресенский не появился. Видимо, сразу после экзамена опять отправился к тётке. Сдавал их сосед одним из последних, потому результата они не знали. Да и не нужен он им был. Ну его! Чужой. Сидели друг напротив друга за столом в комнате и улыбались. Чемодан Воскресенского привычно лежал под кроватью. И чемодан этот друзей не волновал.
Талоны на постоянное поселение в общежитии факультета им выдали в профкоме. Комендант внимательно посмотрел на Илюху, видимо, сравнивая образ этого человека-медведя со своим внутренним реестром безобразников.
— Значит так, Полушкин. Сразу предупреждаю, что если будет пьянство, то выселю в двадцать четыре часа без предупреждения, поскольку предупреждения уже получили. Вопросы?
— А мы вообще не пьющие. Можно нас сразу в «люкс»?
— Поднимитесь в комнату, потом распишитесь за сохранность имущества и противопожарную безопасность. После этого спуститесь ко мне за бельём. Найдёте на этаже ответственного, попросите, чтобы вписал вас обоих в график дежурства. Тут не гостиница, убирать за вас некому. Про «люкс»… Вы первую сессию сперва сдайте, а потом уже шутите. Пятнадцать процентов вылетают в свои Мухосрански в багажном отделении после зачётной недели. Всё. Вперёд. Лифт не работает. Лестница в конце коридора. Остальное вам покажут.
— Урод, — прошипел Илюха, взваливая на плечо свой «Ермак», — Хрен он кого выселит. Синдром вахтёра. Пупырь волосатый. Московский государственный университет, проспект Вернадского. Москва, блядь, столица нашей родины, центр просвещения! А тут такое чмо. Нет чтобы «Здравствуйте, Илья Вадимович, здравствуйте Валентин Борисович! Позвольте предложить вам комнату с прекрасным видом, светлую, чтобы глазки свои не портили, когда будете науки постигать». Ну, Валька, скажи, что у меня, на лице, что ли, написано, что я алкоголик и дебошир?
Валентин поставил чемодан, повернулся к приятелю и демонстративно осмотрел его с ног до макушки, обошёл вокруг, пристально вгляделся в левое ухо, сморщил лоб, изобразил, что что-то подсчитывает.
— Если честно, Илья Вадимович, то написано, что Вы будущая звезда советской, да что там говорить, мировой исторической науки. Лауреат всех академических премий, почётный член обществ и конгрессов. Думаю, что сей недостойный муж проникся к вам исключительной завистью, потому и позволил себе столь уничижительные публичные предположения.
— Хорошо излагаешь, академик! Аж дух захватило. Твои бы слова да Богу в уши.
Москва Валентина приняла. И он к ней сразу потянулся, не находя внутри себя заранее ожидаемого раздражения многолюдностью и суетностью. Всё сразу показалось на своих местах и в порядке вещей. В прошлые свои, ещё детские, приезды, когда передвигался он по столице не собственной волей, а волей матери или Васьки, Москва Валентину не нравилась. Не понимал он её, всякий раз оказываясь в самой толчее и давке, проходя торными туристическими маршрутами. Мать город не знала совсем, стеснялась его размеров и постоянно боялась заблудиться. Спрашивать дорогу почему-то не хотела, потому всякий раз, как чувство пространственной ориентации у неё начинало сбоить, она спускалась в метро и ехала до Пушкинской или Чеховской, чтобы начать движение заново по местам, которые условно казались знакомыми. В каждый свой приезд жили они в гостинице «Минск», в той самой, в которую мать, по её рассказам, поселил давно, ещё до рождения Валентина, отец. Окна номера всякий раз выходили на шумную улицу Горького с невообразимым количеством людей и машин. Валентин часами мог наблюдать движение внизу, находя развлечение, например, в счёте красных жигулей: сколько в одну сторону проехало красных жигулей, сколько в другую. Сам болел за тех, что едут слева направо, от Кремля.
Васька, как правило, каникулы проводил у своего отца в Петрозаводске, но перед самой армией приехал вместе со всеми. Его интересы с интересами восьмилетнего Валентина никак не стыковались. Васька исследовал Москву с утилитарной точки зрения, выискивая в ней исключительно магазины автозапчастей. Ходить с ним было неинтересно, так как все эти магазины оказывались почему-то на окраинах или в районах, где ничего примечательного для Валентина не наблюдалось. Когда же Валька приехал сюда вместе с классом на весенние каникулы уже пятнадцатилетним подростком, то всё, что он запомнил, так это вкус жареного пирожка с Ярославского вокзала, которым он отравился. Он лежал, скрючившись, на одной из пятнадцати раскладушек, установленных в спортзале какой-то школы в новостройках, и мечтал только о том, чтобы живот наконец унялся. Живот перестал болеть через три дня, когда все уже собирались на вокзал. Он вышел из дверей школы и почувствовал сладкий-пресладкий запах распускающихся липовых почек. И запах тот Валентину чрезвычайно понравился.
Теперь же Москва кружила переулками на Маросейке, аукала подземными переходами под Площадью трёх вокзалов, шелестела листвой Гоголевского бульвара, дула в затылок тёплым ветром на Патриарших. На «Патриках» они с Илюхой приноровились пить вино у самой кромки воды, всякий раз пряча бутылку в рюкзак, когда показывался милицейский патруль. Закатное солнце отражалось от поверхности пруда, по которому лениво плавали селезни, и попадало через зелёное стекло в бутылку — последнее «прощай» лозе.
Москва щедро делилась секретами круглосуточных пельменных для таксистов в районе Лубянки, блинных и пирожковых на Садовом кольце. Завлекала стеклянным звоном автоматической пивной на Таганке и поражала широкой вольницей Старого Арбата. Из ниоткуда появившиеся новые приятели, в большинстве своём такие же пришлые студенты, водили Валентина смотреть подъезд Булгакова, читать стихи на могиле Пастернака, купаться в Измайловском парке. Он проводил вечера, слушая хиппанов у памятника Свердлова, «на Яшке». Забирался на крыши и в ротонды, пил кофе в «торшере» и «бисквите», обедал в кафешке под рестораном «Прага». И денег для этого вовсе не требовалось. Достаточно было утром встать в семь утра, пройтись по абитуре и собрать пустую посуду, чтобы в девять часов сдать её через квартал в железном ангаре. Маячившая с сентября стипендия в тридцать рублей казалась невообразимо огромной суммой, на которую можно было бы купить мир. Полтинник, который мать прислала «на поступление», был разменян в сберкассе по пятёркам, разделен на две части. Одну Валентин спрятал в полой ручке своего чемодана, а на другую купил у фарцовщика не новый, но ужасно модный варёный пятьсот первый «ливайс» на болтах. В клетчатой пакистанской ковбойке с погончиками и голубых американских джинсах Валентин казался себе настоящим москвичом, а уж никак не гостем столицы. Он ходил переулками, не оглядываясь по сторонам, уверенно и вместе с тем неторопливо. Он запросто мог рассказать, как попасть с Автозаводской на Авиамоторную, даже не заглядывая в схему метро. Он был тут дома. Удивительно, но дома.
К дяде Сене Валентин пришёл спустя месяц после поступления, предварительно позвонив и сообщив о своём намечающемся визите. Дядя Сеня обрадовался, обозвал Валентина раздолбаем, но похвалил за успешную сдачу экзамена. Оказалось, что мать уже сообщила ему телеграммой. Договорились на субботу к обеду.
— Как добраться, разберёшься?
— Не волнуйтесь, дядя Сеня, я уже чувствую себя москвичом. Не заблужусь.
— Молодец! Уверенности в тебе, как в отце. Генетика!
В субботу Валентин встал пораньше, отпарил брюки, погладил выстиранную загодя парадную голубую рубашку, в которой ходил на экзамен и которую после, торжественно скомкав, запихнул в чемодан. Он решил выйти пораньше, чтобы пройтись пешком через весь центр до Новой Басманной. Москва в субботу — это праздник души. Илюха, проснувшись от позвякивания ложки в стакане, ошалело уставился на приятеля.
— Ты куда в такую рань? На свидание, что ли? И кто она?
— Она — мать наук филология. Иду к приятелю отца с официальным визитом. К обеду не ждите, к ужину, возможно, вернусь. Может, что сообразим под вечер, — Валентин сделал характерный жест у горла.
— Академик, ты бы прекратил это дело. Сюда спортсменом приехал. Ни пил, ни курил. Ещё учиться не начали, а у тебя уже замашки алкоголика. Ты с меня пример дурной не бери. Лучше у тебя чему хорошему научусь. Йоге, например. Научишь меня своим упражнениям? Я ведь вижу, как ты по утрам медитируешь и дышишь через уши. Оттого, наверное, и спокойный такой.
— Спокойный я, друг Илюха, от того, что я абсолютно счастлив, ни к чему не привязан, ни от кого не завишу и никому ничего не должен. И осознание этого вселяет в меня благость и силу.
— А йога тогда для чего? — удивился Илюха.
— Для совершенства тела и духа. Тебе нужно совершенство тела и духа?
Приятель потянулся и сел на кровати, рассматривая большие пальцы ног.
— Мне необходимо много вещей, среди которых, несомненно, на первом месте совершенство тела и духа. Кстати, сообщаю тебе первому, что с сегодняшнего дня я прекращаю всякие отношения с алкоголем. С сигаретами пока продолжу общаться, но держу себя в подотчётной сознанию строгости: только болгарские, только «ВТ», только в твёрдых пачках и только десять штук в день.
— Откуда такое решение?
— От верблюда, — Илюха заржал, — а вот так! Сидел я вчера вечером и думал, что не знаю ни одного всемирно известного ученого-алкоголика. О чём это говорит? Правильно: пусть в большую науку лежит через отречение от всего наносного и второстепенного. Уверен, что это нам скажут на самой первой лекции. А мы с тобой, друг академик, за месяц выжрали сухого винища, рождённого виноградником размером с Лужники.
— Сильное сравнение. Ладно, вечером всё обсудим, — Валентин улыбнулся, пожал другу руку и вышел из комнаты.
Троллейбус высадил его у метро «Университет». Валентин быстрым шагом миновал площадь, пересек проспект Косыгина и вышел на смотровую площадку Ленинских гор. Августовское утро ещё не задохлось выхлопными газами и маревом раскалённого асфальта. Туристы из Средней Азии фотографировались на фоне панорамы. Интеллигентного вида бездомный алкаш в потрёпанном кримпленовом костюме собирал пивные бутылки в пластиковый мешок. Парочка хиппи взасос целовалась с задней стороны кооперативного ларька. Валентин деликатно отвернулся, облокотился на каменный красный парапет и залюбовался уже ставшим родным видом. Ему в очередной раз показалось, что Москва внизу похожа на огромную оркестровую яму перед началом репетиции. Да-да, утром — перед репетицией, вечером, когда стемнеет, — концерт. Гудки, звонки, стук, скрежет, мелькание огней. Трубы, скрипки, фаготы, клавишные и прямо внизу — овальный барабан стадиона имени Ленина. Он представил себе футбольное поле, заросшее виноградниками, и улыбнулся. Оркестровая яма.
Он был в театре три раза в жизни. Первый раз в Ленинграде, в совсем ещё детстве с Сергей Андреичем, в Кировском: «Руслан и Людмила». Второй раз с матерью в Москве в двенадцать, в театре «Современник». Правда, там он оркестровую яму не помнил. Была или нет? Не заметил — смотрел на сцену. А третий раз уже в Архангельске. Туда ездили с классом. Оркестровая яма там не такая, как в Ленинграде, но тоже ничего себе. Красиво. И всё же в Ленинграде было лучше. И Черномор совсем нестрашный. И лимонад «Саяны» в буфете после каждого антракта. И Сергей Андреич в костюме, в тонких тонированных очках на узком носу. И ещё мост, который вдруг лопнул посередине и развалился на две части. Красота. Только ночи не белые. Сизые.
Он спустился по ступенькам вниз, в утреннюю сырую прохладу деревьев, и бодрым шагом направился в сторону Нескучного сада. Здесь гуляли ранние собачники. Студенты и жители близлежащих домов занимались физкультурой. Валентин подумал, что прав Илюха, нельзя так себя распускать. С завтрашнего дня нужно начать бегать. Здесь хорошо. Не так, как на Острове, но тоже хорошо. Конечно, воздух не сравнить, но по утрам вполне прилично для многомиллионного города.
Ркацители, Вазисубани, Киндзмараули, Хванчкара, Саперави, Ахашени, Цинандали. Что растёт в Лужниках? Футбол среди виноградников. Интересно. Нужно придумать такой вид спорта. Лабиринт виноградников. Как на Гераклидском полуострове в Крыму. Во втором веке до нашей эры некий геометр разметил весь полуостров на ровные квадраты, ориентировав их по розе ветров. Тысячи эллинов выдолбили в известняке канавы, засыпали их просеянной землёй и устроили виноградники. И скифская конница была вынуждена вытягиваться в колонны вдоль лозы. И эллинские лучники пускали стрелы. И всадники падали один на другого. И скифы не могли захватить Херсонес. Сотни лет. Скифы с раскосыми глазами.
— Молодой человек! Помогите, если не сложно.
Валентин обернулся на голос. Обращались к нему. На обочине перед поставленным вверх колёсами велосипедом «Спорт» склонилась высокая темноволосая девушка и безуспешно пыталась надеть на каретку слетевшую цепь. Руки её были испачканы в масле, а на колене багровела свежая ссадина.
— Привет! — Валентин подошёл ближе, — Упала?
— Грохнулась.
— Больно?
— Терпимо, но неожиданно. Прямо в скамейку затормозила. Ещё боялась колесо погнуть, так руль вывернула, ну и приложилась коленом о землю. Сможешь помочь?
— Наверное. А что, не надевается? Там же всё просто.
— Я знаю, что просто, но из-за этой переключалки скоростей у меня никак не получается. Минут десять уже бьюсь. Злая, как зараза.
Валентин расстегнул манжеты рубашки и стал закатывать рукава. Но одумался, решил, что одними рукавами может не обойтись, снял рубашку и примостил её на спинку скамейки.
— Ого! Мужчина уже раздевается, — рассмеялась девушка.
— Мужчина идёт в гости и не хочет быть похожим на слесаря после смены. А рубашка чистая у меня одна.
— Ничего-ничего, любимая поймёт, а нелюбимой так и надо.
— А замдекана филфака поймёт?
— Эскин? Ты к Эскину, к Семёну Эдуардовичу? Ого! — в глазах девушки зажглись лампочки крайней заинтересованности.
— К нему самому, — Валентин аккуратно расправил цепь, отогнул тангету и поместил цепь на зубцы самой маленькой каретки, — к Семёну свет Эдуардовичу, поскольку является он старым другом нашей семьи, можно сказать, что родственником.
— Какое удивительное совпадение! Семён, как ты выразился «свет Эдуардович» — мой научный руководитель. Я у него курсовую пишу. Вернее, ещё не пишу, но буду писать на третьем курсе после каникул. А ты, молодой человек, где изволишь обучаться?
— Я изволю обучаться на истфаке. Правда, я изволю, но пока не обучаюсь, поскольку только что поступил. Вот, — Валентин крутанул педаль, и цепь послушно встала на место, — порядок. — Он наклонился, поднял газету, лежащую на скамейке, и тщательно протёр ею руки. — Я Валентин.
— Ольга, — девушка наклонила голову набок и оценивающе оглядела своего помощника. — А ты молодец. Просто так, без выпендриваний взял и починил. Ты ведь не москвич?
— Почему ты так решила?
— Ну, вообще, дедукция. Помнишь, как там у Шерлока Холмса? Элементарно, Ватсон! Во-первых, у тебя брюки зауженные книзу. А сейчас носят прямые и с отворотом. Но брюки новые. Если бы ты был москвич, то такие точно не купил, поскольку это немодно. Во-вторых, у тебя фонема «о» — это чистая «о», без московского горлового придыхания, следовательно, последние несколько лет ты жил не в столице. В-третьих, ты сказал, что учишься на истфаке и только что поступил. Идёшь утром по направлению к ЦПКиО, значит, скорее всего, из общежития. Тем более твои слова про единственную рубашку.
— Извините, Холмс, но я не сказал про единственную. Я сказал, про одну чистую, — рассмеялся Валентин.
— Ценное замечание, Ватсон, но оно ничего не добавляет к картине. Итак, идёшь утром по направлению к ЦПКиО, значит, скорее всего, из общежития, которое здесь рядом.
— Это спорно. Я могу идти с Винницкой или со Столетова переулка.
— Можешь, но тем не менее ты идёшь из общаги, потому что на Винницкой и Столетовом живут одни уроды, а ты не урод, а очень даже ничего себе молодой человек из русской глубинки. Могу даже поспорить, что откуда-то с Севера. Верно?
— Браво! — Валентин захлопал в ладоши. — Браво, Холмс! Я с Соловков.
— Вот это да! Чудесно! А я с Онеги. Город Медвежегорск знаешь?
— Ну, есть станция «Медвежья гора».
— Правильно, где станция, там город, а я от этой станции ещё пятьдесят километров. Вот. Соседи. И живу я с тобой, по всей видимости, в одной и той-же ДСВ.
— Удивительное совпадение.
— Знаешь, Валентин, совпадений не бывает. Есть неосознанные закономерности. Кто-то это называет судьбой, кто-то статистикой, но совпадений всё равно не бывает. Сдаётся, что придётся нам познакомиться поближе.
Валентин почувствовал, что краснеет. Он всегда краснел фатально, как краснеют только чистые блондины: от шеи до корней волос.
— Засмущался? Ой, Валечка… Можно я тебя так буду называть? Ты такой смешной. Ты что, с девушками не знакомился? Хотя чего там тебе знакомиться. На ваших Соловках вы всех с рождения знаете. А хочешь, покажу, как знакомятся в Москве?
— Покажи.
— Смотри!
Ольга отошла на несколько шагов назад, сделала вид, что засовывает руки в карманы штанов, и пошла на Валентина такой развязной и дурашливой походкой, что тот прыснул со смеху.
— Короче, герла, слы сюда. Сёдня классный сейшн. Типа рок там и всякое такое. Ты чё, типа, втыкаешься в тему? Подём оттопыримся. Я, кстати, Валет. Погонялово такое. Ну ты чё? Идёшь, что ли? Тебя как зовут-то, бэйби?
Валька согнулся от смеха и упал на скамейку. Ольга плюхнулась рядом и тоже расхохоталась.
— Вот, а ты смущаешься. Привыкай, сосед, к столице нашей Родины. Чего ржёшь-то? Похоже показала?
Они болтали ещё минут тридцать, время от времени раскидывая вокруг шариковые бомбы хохота. Ольга рассказывала про свои злоключения на абитуре два года назад, а Валентин тут же сочинил леденяющую душу историю про таинственный чемодан в их с Илюхой комнате. Про хозяина чемодана гражданина Воскресенского тоже упомянул, приврав, что абитуриента с такой фамилией в списках поступающих не оказалось. Как-то само собой получилось у них договориться встретиться вечером.
— Сегодня у тебя, похоже, присутственный день. Судьба ходить по гостям. Давай, Валечка, к восьми вечера жду тебя вместе с товарищем к нам. Форма одежды раздолбайская. С собой иметь две бутылки сухого вина, рот, чтобы есть, и уши, чтобы слушать, как поёт моя соседка по комнате. Зовут Надя. Не обижать. И приятелю скажи своему, что если попытается мне девушку обидеть, я его выкину с восьмого этажа. Я могу. Я в Москве два года тхеквандо занимаюсь. Хочешь мускулы потрогать? — Ольга согнула локоть, продемонстрировав вполне пристойный бицепс, — Вот так. Ну, пока.
Она села на велосипед, махнула рукой и укатила. Валентин, словно в ритме какого-то южного танца, ринулся по своему маршруту. Ему была так необъяснимо хорошо, что щекотало в носу. Незаметно для себя он спустился на набережную, миновал Нескучный сад, проскочил мимо Дома Художника на Крымском валу и ощутил себя вновь только переходящим Кузнецкий мост. Валентин пытался представить себе лицо Ольги и не мог. Голос её с лёгкой хрипотцой и не до конца изжитыми характерными северными интонациями слышал, смех слышал. Видел волосы: тёмные, почти чёрные, схваченные сзади заколкой. Фигуру: ладную, с узкими бёдрами и весьма заметной под свободной футболкой грудью. А лицо не запомнил. Мерцание какое — то, калейдоскоп. Стёклышки цветные. Он подумал, что выглядел как мальчишка, когда покраснел, и от этих мыслей покраснел вновь. Но на солнечной набережной Москвы-реки его румянец никого бы не смог рассмешить.
Откуда у него эта дурацкая особенность? Мать вроде так не краснеет, хотя цвет волос тот же. Может, отец? Но мать бы рассказала. Она всегда подмечала в Валентине отцовские чёрточки. Подмечала и словно бы вносила в каталог, указывала на них, радовалась. Иной раз она деликатно молчала в присутствии Сергея Андреича, но по тому, как вспыхивали её глаза, Валентин чувствовал, что мать опять что-то заметила — жест, интонацию, поворот головы. И радовался вместе с ней. Он не помнил, да и не мог помнить отца, но почему-то очень хотел походить на него — походить на этого красивого спокойного человека с фотографий из синего альбома в коленкоровой обложке. И главное — на того, с самой главной фотографии, с официальной, висевшей в большой комнате над сервантом. Эту фотографию отец привёз на второе лето их знакомства уже в рамке и подарил. На ней он снят за огромным письменным столом в светлом пиджаке, в рубахе с расстегнутым воротом. Волосы подстрижены не так коротко, как на «семейных» карточках, а борода, напротив, несколько длиннее. В руке трубка. Смотрит прямо в объектив, внимательно и как бы с вопросом. Отец трубку не курил, но любил с ней фотографироваться, эксплуатируя своё сходство с Хемингуэем. «В моей науке так много романтики, что грех не писать романы. К сожалению, ещё столько же отчётности, потому на романы времени совсем не остаётся», — говорил он матери. Когда Валентин повзрослел, он почему-то решил, что фраза эта у отца была явно дежурная, рассчитанная на понятный эффект. Но, разгадав, вовсе не обиделся за мать, а только стал больше понимать отца. Удивительно, что вывод этот Валентин сделал, подметив такую особенность за собой. Некоторая доля пижонства, даже позёрства, но уравновешенная самоиронией — точно отцовское. Таким он представлял отца по рассказам матери и дяди Сени. И чем старше становился, тем больше «отцовского» он в себе ощущал.
Сергей Андреич не такой: внимательный, дотошный в мелочах, уютный, основательный, без толики авантюризма. Он, будучи абсолютно положительным человеком, тем не менее никогда не позволял себе кого-либо осуждать или критиковать. Люди, даже самые скверные, по его убеждению, заслуживали не критики, а внимания и понимания. Отчима, за эту его особенность, да за профессиональную неутомимость и грамотность, на Острове любили.
Маленькому Вальке нравилось вместе с Кирой сидеть на пирсе и встречать прибывающий из Кеми баркас с Сергей Андреичем. Нравились все эти уважительные «Здравствуйте, Андреич!» и «Как поживаете, доктор?» Нравилось смотреть, как Кирка повисает на его шее и обхватывает ногами. Он жмурился от удовольствия, если отчим трепал его, словно послушного щенка овчарки, за волосы и чуть ли не лаял от восторга, если и его подхватывали на руки на глазах всего причала. Но он понимал, что отец у него совсем другой человек — учёный, профессор, мировое светило. Пусть умер, но его помнит мать, его помнят на Острове, его, в конце концов, помнит Сергей Андреич.
— Я тебя, Валентин, только воспитываю. Люблю и воспитываю, а жизнь тебе дал другой человек, от него ты берёшь своё начало, помни это, — говорил отчим, когда Валька уже подрос и учился думать самостоятельно. — В тебе живёт кровь многих поколений предков Бориса Аркадьевича, и кровь строит твою судьбу. Прислушивайся к себе, находи самое лучшее, самое громкое, самое ясное и следуй ему. Знаешь ведь, говорят: «На роду написано». У тебя на роду написано стать хорошим человеком, самостоятельным. Внутри тебя тропинка, по которой идёт душа. По ней шёл отец, отец твоего отца и его отец. Если ты её почувствуешь, заметишь, то никто тебе уже в жизни не помешает, будешь самим собой. А это, Валентин, гораздо важнее, нежели быть академиком, профессором, артистом или писателем. Быть самим собой — значит продолжить движение предков, продолжить путь, на который единожды кто-то в глубине веков встал.
— А если этот кто-то встал не на ту дорогу?
— На ту, дружок, на ту самую. У тебя же есть карта и компас. Карта — это твои мечты, а компас — твоя совесть. Мечты только на часть твои собственные. Ты же не знаешь, как они возникают. Они появляются ниоткуда, и даже не замечаешь как. Просто со временем привыкаешь к ним, считаешь своими. На самом деле может быть, что-то большее, чем ты сам, их тебе незаметно подсказывает. И ты идёшь в их направлении. И вовсе не обязательно, чтобы мечты эти стали реальностью. Может быть, появятся другие мечты, и ты пойдёшь за ними. Но всякий раз оказывается, что идёшь ты по той самой тропинке, которая проложена для твоей души.
Валентин пытался понять, что говорит ему Сергей Андреич.
— Что-то большее, это Бог, что ли? Я в Бога не очень верю. В космосе никого не нашли.
— Ты сейчас как брат твой рассуждаешь: рационально, механистично. Не в космосе ищи, а внутри себя.
— Между печенью и селезёнкой?
— Между прошлым твоих родителей и твоим будущим.
— А как я пойму, что нашёл? Может, я не замечу. Или мне не нужно это замечать. Васька замечает? Васька живёт как живёт. В армию сходил, вон, вернулся. И ни о чём таком не задумывается.
— Один раз не заметишь, другой раз не заметишь, а на третий раз поймёшь, что «вот оно». И почему Васька не задумывается? Откуда ты знаешь? Может быть, если бы он не задумывался, всё у него совсем иначе было.
— Имеете в виду тот случай, когда они сарай на берегу ограбили?
— Хотя бы и это. Ведь приятели его потом на краже склада в Кеми погорели, а Васька не пошёл с ними. Отказался. Рассказывал, что и его звали, на слабо брали, а он отказался. И не от страха попасться отказался, а прислушался к себе и понял, что не его это, что хочется ему ехать в техникум поступать, что машины и механизмы для него важнее дураков-дружков с их блатной романтикой. Он же, когда какой-нибудь агрегат разбирает-собирает, светится весь. И я за него спокоен и мать спокойна, потому что есть у человека дело, есть путь. Для кого-то он покажется неинтересным или недалёким, а для его души — это самая правильная тропинка, единственная.
— А у отца какая тропинка? У него же и семья была другая, и вообще, наверное, не очень это всё правильно.
— Что не очень правильно?
— Ну, там, семья другая. Я не осуждаю его, но мне кажется, что всё должно было быть иначе.
— Почём ты знаешь, как должно было быть?
— Вы же сами, Сергей Андреевич, сказали, что тропинка внутри. Ведь и его жена, и сын — они оба на этой тропинке ему встретились, а потом вдруг мама. Потом я родился. Он же с первой женой не развёлся, ничего ей про нас с мамой не рассказывал.
— Может, и рассказывал.
— Не рассказывал. Я знаю.
— Откуда?
— Откуда-то. — Валентин задумался, — чувствую.
— И тебя это обижает? Не вини отца. У него своя жизнь, а у тебя будет своя.
— Но тропинка-то его. Вы же мне говорите, что я иду его тропинкой.
— Ты идёшь своей тропинкой. И только своей. Но она у тебя, как бы тебе это объяснить, она у тебя вроде как определена тем, как он прошёл внутри себя, что пережил, что прочувствовал, что испытал, до того как ты родился. И если ты себя станешь слушать, то и его в себе услышишь, и всех остальных, чья кровь в тебе.
Валентину эта метафизика казалось непонятной и, что самое главное, не требующей его понимания. Но разговоры с отчимом он любил, воспринимая их как признаки своего собственного взросления. Если с ним говорят о чём-то абстрактном, значит, принимают за равного. Пусть он ещё совсем маленький, но уже мужчина. Помимо любви, исходящей от Сергей Андреича, чувствовал он уважение и внимание этого очень хорошего человека.
В подъезде дома уютно пахло борщом и пирогами. Валентин поднялся на четвёртый этаж и остановился перед массивной, окрашенной синей краской дверью с тремя кнопками звонков. Под нижней блестела никелированная табличка «Эскины». Нажал кнопку и услышал, как в глубине квартиры раздалась бодрая и жизнерадостная трель. Почти сразу треснул замок, и на пороге возник Дядя Сеня в фартуке и с обувной щёткой в руках.
— А, отличник! Молодец, вовремя! — Дядя Сеня отступил в сторону и сделал театральный приглашающий жест рукой, совмещенный с таким же театральным поклоном. — Заходи, о волнитель приёмных комиссий, обувь можешь не снимать.
— Здравствуйте, дядя Сеня. Почему это волнитель? — Валентина позабавило слово.
— Ибо велик умом, строен знаниями и прекрасен ликом, о чём нам сообщила Инга Михайловна.
— Это секретарь комиссии, что ли?
— Абсолютно верно! Инга Михайловна на мой смиренный вопрос, не подавал ли документы некий сэр Соловьёв, рассыпалась вам, юноша, комплиментами. Чем это ты так сразил сердце одинокой незамужней тридцатипятилетней девушки?
— Не знаю, дядя Сеня, я вроде и не говорил ничего такого.
— Не говорил он. Ну, значит, наша Инга Михайловна не зря кандидат наук. Она, надо сказать, редкого ума женщина. После моего вопроса мгновенно провела анализ и сходу вычислила, что ты не просто Валентин Борисович Соловьёв фиг знает откуда, а Валентин Борисович очень даже понятный Валентин Борисович. Особенно понятный Борисович. Она же, отличник, у папы твоего студенткой была на кафедре, да и на Соловки с ним ездила. Подозреваю, что и мать твою, Татьяну, помнит. Роман-то на глазах студентов протекал. А от студентов, друг мой, вообще ничего не скроешь, уж поверь мне. Да и похож ты на отца, хоть и блондин белобрысый, как Татьяна. Ладно, вперёд, в палаты!
Семён Эдуардович швырнул щётку в угол, туда же отправил фартук и, взяв Валентина за локоть, повёл по длинному плохо освещённому коридору.
— Тут, отличник, огромные хоромы, раньше принадлежавшие профессору Невину и отнятые у него возмущёнными массами трудового народа. Читал Булгакова? Швондера помнишь? Вот, такие Швондеры уплотнили замечательного профессора права, а потом и сослали вместе со всем семейством. Куда — не знаю, может быть, куда-то к вам на Соловки. И стали в квартире жить нормальные пролетарии, включая моего батюшку. Но профессорский дух так просто не выветривается. Местные валлары посчитали, что в квартире должен быть свой профессор. Пошаманили там что-то у себя в параллельных реальностях, и нас теперь аж трое. Ваш покорный слуга (не профессор — пока доцент, но это дело скорое), потом профессор Волгин из МФТУ и профессор Бакеева из того же МФТУ, — произнося фамилии, он указывал на закрытые двери. — Все, как и полагается преподавателям, в отпусках, на югах да на дачах, потому квартира вся в нашем распоряжении. Никто тут тебя смущать не будет, не стесняйся. Чужих нет. Только свои.
— Проше, пан Соловьёв!
За крайней дверью, которую распахнул Семён Эдуардович, оказалась огромная квадратная комната в четыре окна, разделённая книжным стеллажом на две неравные части. Жёлтый паркет, бликующий солнцем. Зачехлённые хрестоматийные кресла. Большой письменный стол у центрального окна с компьютерным монитором. Кожаный диван с высоким подголовником. Посредине блестел приборами круглый стол.
— Людок, ты где? Отличник прибыл.
— Сейчас, Сенечка, погоди. Я Маринку покормлю. Здравствуйте, Валентин! — голос раздавался из-за стеллажа. — Извините, у нас внеплановое кормление диких детёнышей. Капризничает. Вы там располагайтесь. Можете сразу за стол садиться. Сеня, поухаживай за гостем, налей пока нашей наливки в качестве аперитива. Валентин, вы наливки домашние пьёте?
— Спасибо, Людмила… — он замялся, спохватившись, что не знает, как полностью зовут жену дяди Сени.
— Просто Людмила, без отчества.
— Спасибо. Я не знаю, пью или нет. Наверное, пью. Мы обычно сухое вино.
Семён Эдуардович достал из серванта графин толстого стекла и налил себе и Валентину густой коричневой жидкости.
— Рискую показаться брюзгой, но вина эти ваши — кислятина заводская. В Москве сейчас вин нормальных нет. Потому рекомендую попробовать этот замечательный напиток. Рецепт, отличник, хранится в тайне даже от меня. Здесь настой на всяких травках. Вроде как кофе присутствует и ещё что-то. Какие там травки, Людок?
— Какие надо, радость моя.
— Вот! — Семён Эдуардович скроил дурашливую гримасу обиды, выпятив нижнюю губу. — Не говорит. Мужу единоутробному не говорит! Я к ней и так и эдак, а она как секрет верескового мёда хранит. Ну, Валька, давай! Из вереска напиток забыт давным-давно. Поехали! За тебя, за твоё поступление. Только тссс… Это чудо пьётся медленно-медлленно.
Он стал пить маленькими глотками. Валентин поднёс рюмку к губам и почувствовал густой пряный аромат наливки. Запах сразу защекотал где-то за ушами. Валентин выпил и отметил, что наливка явно больше сорока градусов.
— Ух ты!
— А ты говоришь! Чудо, а не напиток! Плохое настроение смывает, хорошее настроение проявляет. Волшебство сплошное. На медицинском спирту готовится, а не на каком-нибудь «Рояле».
— А вот и мы. — из-за стеллажа показалась невысокая стройная рыжеволосая женщина с ребёнком на руках. — Мариша, скажи дяде: «Привет, дядя!»
Ребёнок заулыбался.
— Пивет, Ядя!
— Привет! — Валентин протянул к девочке ладонь, и та обхватила его указательный палец своими маленькими влажными пальчиками.
— Это Мариночка, а это Валентин. А я Людмила. Люда.
— Мариночка у нас ещё питается людьми, хотя не отказывается от каши и и от пюре мясом, — Семён Эдуардович поцеловал девочку в щёку. — Долго мы ещё будем маму пить, ребёнок? Нам два с половиной уже. Да, Мариночка? Два с половиной маленькой москвичке. А мы уже предложениями разговариваем, когда нет посторонних. Мы всё понимаем, всё соображаем. Только никак от груди отвыкнуть не хотим. Прямо как настоящая эскимоска. Всю маму уже выпила. Посмотри, Мариночка, какая мама худенькая стала.
— Сеня, ты так волнуешься, словно это тебя пьют. Погоди, вырастет, будет из тебя деньги на заколки всякие сосать да на куклы новые. А я к тому времени со своим молоком ей уже стану неинтересна.
Людмила посадила девочку на диван и дала ей в руки белого пластмассового медведя. Девочка взяла медведя, повернула его головой вниз и протянула Валентину.
— Ядя, мидедь. Восьми, Ядя, мидедя и игай.
— Дядю зовут «дядя Валя», — улыбнулась Людмила.
— Игай, ядя Аля, в мидедя с Маиной.
— Вы ей понравились. Теперь она не отстанет, пока не возьмете медведя. А как только медведя возьмете, она его обратно потребует. И так до бесконечности. Ей такая игра не надоедает, а нам нужно за стол садиться. Рекомендую сделать вид, что про медведя ничего не поняли. Иначе есть у нас будет один папа. А у папы и так живот растёт.
Людмила разлила в большие широкие тарелки золотистый бульон из старинной фаянсовой супницы. Положила в каждую тарелку аккуратные фрикадельки и накрошила руками укроп.
— Как бывшая студентка, очень советую налегать на супы. Сама на сухомятке три года просидела и гастрит заработала. Так что, Валентин, не ленитесь и иногда готовьте себе супчики. А если нет времени готовить, то ходите в университетскую столовую, там молочный суп прекрасный. Мама какие супы готовит?
— Щи из кислой капусты, летом щавелевый, крапивный. Ну, там, ещё всякие куриные.
— Люд, Татьяна у него готовит прекрасно. Она пироги делает с рыбой и курицей — закачаешься. Ты, когда беременная была, а я к ним с матерью ездил, так Татьяна каждый день что-то там изобретала.
— Это значит, что ты на самом деле не о родах моих молиться ездил, а пироги жрать? — Людмила дурашливо нахмурила брови. — А я, наивная, решила, что у меня муж на религиозной почве умом тронулся. Оказывается, что всё нормально — на прокорм катался. Ну, Сенечка, ты меня успокоил. Он же тут всех эпатировал, — Людмила отложила ложки и, обращаясь к Валентину, взяла его за запястье, — крестился. Теперь посты всякие соблюдает. Впрочем, на его фигуре это никак не отражается.
— Да ладно тебе, — Семён Эдуардович рассмеялся, разлил по стопкам наливку и чокнулся с Валентином. — Я к вопросам веры отношусь философски. А крестился из соображений этапности. Как бы прошёл очень большой период в жизни, некий этап. Раньше ведь знаешь как, этапы взросления отмечались внешними социальными проявлениями: в октябрята приняли, потом в пионеры, потом в комсомол вступаешь. Везде некая общая конфирмационная идея, но своя инициация. И чем ты взрослее становишься, тем инициация сложнее, серьёзнее требования. А года три назад стали меня уговаривать вступить в партию. Вернее, уговаривали давно, но три года назад что-то активизировались. Не знаю, что там такое на них повлияло, андроповские речи или что ещё. Решили, что полуеврей Семён Эскин для них самый прекрасный партайгеноссе будет. А мне эта партия совсем не сдалась. Я же вижу, что в стране происходит. Думаю, что ещё пару-тройку лет — и не будет никакой партии. Ну, я и так тянул это дело, и сяк, меня даже завкафедрой, так сказать, авансом сделали. Короче говоря, дотянул до того, что началась вся эта наша перестройка. И я им сразу не нужен стал. Но, веришь, внутренне я, оказывается, уже к какому-то изменению приготовился. Вот и решил, что этот этап надо отметить. И отметил тем, что крестился.
— Ты бы лучше в синагогу пошёл, друг мой милый, — Людмила убрала пустые тарелки и теперь накладывала второе. — Представляете, Валентин, какой шок был у моего свёкра?
— Люд, да брось ты! Не было у него никакого шока. Ему вообще на все эти дела наплевать. Он же яркий пример абсолютно обрусевшего атеиста еврея-алкоголика. А еврей-алкоголик свои духовные проблемы решает не у ребе, а как всякий нормальный русский человек — с друзьями за бутылкой водки. А то, что он наговорил тогда, так это просто с похмелья. Ну так вот, — Семён Эдуардович обновил рюмки, — поехал я на научную конференцию по древнеславянской литературе в Белград. Город мне категорически не понравился — какая-то недомосква, и не запад, и не восток. Грязно, как на востоке, при этом суетно, как на западе. Но не в этом дело. Познакомился там с одним профессором, коллегой из Белградского университета. Фамилия у профессора говорящая — Злобич. Совершенно ему не подходит: пухленький такой, толще меня, лысоватый, вокруг лысины кудряшки седые. Забавный персонаж. Пригласил меня в гости. А профессор живёт в домике на окраине. Знаешь, небольшие такие частные домики, как у нас на юге. Сосед у него священник. Мы на лужайке перед домом сидим, ужинаем со сливянкой, а сосед кусты подстригает. В джинсах, в футболке какой-то красной. Я бы и не подумал, что священник. Профессор его к нам в компанию позвал. Там это принято: соседи друг к другу в гости постоянно ходят. Пока тот собирался, профессор мне кратенько рассказал про то, что сосед священник, что родители у него при Тито сидели в тюрьме. Что священник перед тем, как принять сан, работал у них в университете долгое время, а десять лет назад что-то у него стряслось в душе, начал служить. Говорил, мол, мужик хороший, футбол любит. Священник пришёл с женой, очень красивой женщиной. Она меня всё время «доктор Эскин» называла. Очень приятно. Я же тогда ещё докторскую не защитил, а у них кандидатов не бывает. Нашему кандидату у них, как на западе, соответствует «пи эйч ди» — доктор философии. Она мне «доктор Эскин», а я млею. Ну, значит, выпивали, кушали. Замечательно проводили время. По большей части обсуждали переводы древнехристианских текстов на славянские языки. Там неточности в переводах накапливались веками, особый внутриконфессиональный колорит. И когда начинаешь позднейшие всякие цитаты сверять с латинским или греческим вариантами, до анекдотов доходит. Но не об этом речь. Само собой, разговор у нас с литературы перешёл на положение в мире, на Советский Союз, на Югославию. Я, по своей интеллигентской привычке, начал ругать совдепию, бардак наш вечный. Может быть, слишком эмоционально ругал, но от души. А священник (его, кстати, Константином звали) слушал это всё, слушал, а потом и говорит: мол, по его разумению, никакого бардака нет, а всё идёт своим естественным путём. Весь этот путь, дескать, угоден свыше и свыше начертан. И что если бы не было этого пути, то души православные погрязли бы в сытости и праздности. Потому, мол, всяческое испытание для народа — это испытание богоугодное. И знаешь, так он это спокойно сказал, так уверенно, что я и спорить-то не решился. До самого вечера досидели. Стали прощаться. Тут я Константину ни с того ни с сего ляпнул: мол, ты же священник, покрести меня!
— И покрестил он нашего Семёна Эдуардовича, — закончила за дядю Сеню жена.
— И покрестил. Да. На следующий же день. Утром. На окраине Белграда в небольшой церквушке. Такая домашняя обстановка, ладаном пахнет. Супер! И я тому крайне рад. Не скажу, что я вдруг верующим стал. Просто все мои метафизические наклонности приобрели новый вектор, вдоль которого я по мере своих сил продвигаюсь. А пост держу только Великий, и скорее из диетологических соображений. Однако сдаётся мне, что всё правильно. И нечего смеяться, Людок, — он протянулся через стол и легонько щёлкнул жену по носу.
— А я и не смеюсь. Когда ты поехал на Соловки, сказав, что помолишься там за меня и за нашего будущего ребёнка, мне было приятно. Не просто в отпуск поехал, а по делу. Непривычно несколько, я тебя религиозным совсем не знаю, но приятно. Это я сейчас смеюсь, поскольку оказалось, что ты туда ездил трескать пирожки к маме Валентина. Валентин, он там вас сильно объел?
— Нет вроде, — Валентин смутился, — дядя Сеня у нас и не был почти. Они с Васькой на неделю рыбу ловить уезжали.
— Кто копчёную рыбу у меня просил привезти? Кому я целый мешок тащил? На весь вагон так пахла, что все только слюнки глотали.
Семён Эдуардович вскочил из-за стола, подбежал к жене, обнял и громко чмокнул в макушку.
— Ну, скажи, Валька, как тебе Москва? Осваиваешься?
— Освоился уже. Всё как бы нормально.
— Как бы нормально… — передразнил Семён Эдуардович, — это ваше модное «как бы» — сиречь активизация категории неопределённости. Полное отражение происходящего в обществе: бардак в обществе рождает бардак в языке.
— Почему это? — удивился Валентин, уже привыкший за месяц к этому выражению.
— Это «как бы», товарищ отличник, ты употребляешь вне норм русского литературного языка и вне норм языковых традиций. «Как бы» может использоваться в качестве смысловой частицы и уподобительного союза при определенной ситуационной мотивированности.
В твоей фразе я такого не замечаю. Ты старайся следить за своей речью. Она у тебя правильная. От того, что начнёшь говорить «как все», москвичом не станешь, а качество речи потеряешь. Понял? Помни, суржик был всегда и всегда будет. Но говорить на суржике — удел людей неграмотных.
— Сенечка, не заводись, — Людмила дотронулась до руки Семёна Эдуардовича. — Не заводись. Твоя дидактика дома неуместна. Молодой человек вращается среди таких же молодых людей, где языковые несуразности считаются нормой, неким кодом. Они подчеркивают иллюзорность мира, его нестабильность. И по большому счёту всё это является выражением обычного для юношества нигилизма. Это пройдёт.
— Людмила! И ты туда же! Это не нигилизм, а небрежность. Словесный мусор. Чем неправильнее человек говорит, тем неправильнее думает, и наоборот. Процесс двунаправленный. Ты вспомни, как Борис говорил! Он как говорил, так и жил — уверенно, стройно, даже лихо. А Валентин его сын. Сын! И обязан иметь правильную речь.
Семён Эдуардович прошёл к стеллажу, покопался среди книг и достал коробку с магнитофонной бобиной.
— Вот! Это раритет, Валька. Запись с открытия сессии конференции межфакультетского гуманитарного студенческого научного общества почти двадцатилетней давности. Шестьдесят девятый год. Отец твой, Борис Аркадьевич, говорит вступительное слово. Кто-то из аспирантов записал. Только-только на их факультет магнитофоны купили. За это выступление ему тогда здорово попало. Обвинили в субъективизме и непонимании материалистического подхода к науке. Кажется, схлопотал выговор по партийной линии. Хорошо ещё, что не попал под какую-нибудь кампанию по борьбе с ревизионизмом в науке, хотя времена уже не те были. Ну что, хочешь послушать?
Не дожидаясь согласия, Семён Эдуардович вынул плёнку из коробки и снял пластиковую крышку со стоящего на тумбочке гигантского бобинного «Шарпа».
— Сейчас-сейчас. Я сам, если честно, очень давно не слушал. Теперь же всё кассеты, а катушечный магнитофон у нас в качестве мебели. Нужно старые бобины переписать, а его в комиссионку отнести.
Он заправил плёнку, щёлкнул тумблером переключения скоростей. Колонки ожили лёгким свистом. Семён Эдуардович пустил запись.
…каждого человека. И вы все исполнены прекрасным свойством юности — дерзостью. Без дерзости научная мысль тщетна и бесплодна. Само по себе знание не имеет ценности. Не в том смысле, что «знание бесценно». Эта формулировка превратилась в постамент памятника прошлым заслугам науки. Цена возникает только в сравнении. Знания, не употребляемые в научном поиске, не приводимые в движение научной мыслью, становятся лишним грузом… А они должны быть топливом, должны способствовать постоянному движению вперёд в поиске истины. Для человечества в целом и для каждого из вас в отдельности, движение к истине самоценно и необходимо. В контексте понимания невозможности достичь абсолютной истины научный поиск становится творчеством, формой свободы.
В гуманитарных дисциплинах, в отличие от естественно-научных, нет формального эксперимента. И, как следствие, нет явного отрицательного результата. Это накладывает на учёного дополнительную ответственность, требует руководствоваться в поиске не только соотношением синтеза и анализа, но и чувством гармонии. Все проявления человеческой жизни и человеческого духа, изучаемые гуманитарной наукой, основаны на гармонии, частным случаем которой является диалектика. Диалектические принципы — метод вашего поиска, ключ. Это необходимый инструмент, но отнюдь не достаточный. Даже исходя из основного постулата диалектики можно утверждать, что рациональному всегда соответствует иррациональное: дух, интуиция, любовь к своему делу, чувство творца. Преисполнившись этим, вы станете частью великого целого, того, что есть Мир.
Валентин впервые слышал голос отца. Он не вдумывался в смысл произносимых фраз. Взволновал сам голос — уверенный, объёмный, дышащий. Валентин ловил интонацию, прислушивался к тому, как в груди что-то откликается на тембр, разворачивается, наполняет сердце иным ритмом, встраивается в дыхание. Ощущение своего, родного, того, на что имеешь право и что имеет право на тебя. И не то счастье, не то испуг, не то и другое вместе, но что-то сильное, большое захлопало внутри, забилось, заклокотало в лёгких. Вдруг тягуче и неуютно защемило в локтях и накатила тошнота.
— Ну, как тебе? — Семён Эдуардович щёлкнул тумблером и плёнка остановилась. — Я смотрю, впечатлился. Ты если…
Окончания фразы Валентин не расслышал. Стало горячо в затылке, и он потерял сознание.
— Впервые слышишь голос Бориса Аркадьевича? — Валентин лежал на полу, под головой у него было что-то мягкое, а Людмила сидела перед ним на корточках. — А мы смотрим, на тебе лица нет, побледнел весь. И вдруг шлёп… Напугал. Налить тебе чаю? Ничего что на ты? У тебя бывают обмороки?
— Нормально. Так даже лучше, — выдавил из себя Валентин, — Спасибо вам. Нет, раньше такого не случалось.
— Отличник, извини, не подумал, что это на тебя так подействует. Всё нормально. Это то, что люди называют «голос крови». На самом деле всё биохимия с биофизикой. Механизмы, созданные для того, чтобы узнавать своих. Они у человека практически атрофированы, но иногда, как сейчас, неожиданно пробуждаются. В литературе это описано многократно. Голос никогда не слышал, а на подсознательном уровне признал. Произошло сличение с записанной на генном уровне информацией. Загадочные, конечно, механизмы, но ничего сверхординарного в этом нет.
— Спасибо, дядя Сеня, — Валентин почувствовал, что тошнота отступает. — Я что-то… Очень уж это неожиданно. Такое ощущение, что я стал как бы не я.
— Вот здесь употребление «как бы» вполне контекстуально оправдано.
— У тебя вообще как со здоровьем, не бывает проблем? — Людмила участливо смотрела на Валентина.
— Спасибо, всё нормально со здоровьем. Я йогой занимаюсь.
— Ядя Аля заболел, — неожиданно подала голос девочка.
— Заболел дядя. Да. Сейчас мы дяде нальём крепкого индийского чая, и дядя сразу поправится. Индийского чая для индийского йога.
— Индийские йоги: кто они? По последним исследованиям советских учёных, они не индийские, а соловецкие, — засмеялся Семён Эдуардович.
Валентина усадили на диван, где ему на колени моментально забралась девочка. Она вцепилась обоими ручками в рукав рубашки и стала раскачиваться.
— Если хочешь, Валька, я тебе как-нибудь покажу дом, где отец твой жил.
— Конечно! — Валентин оживился. — Мама говорила, что возле Чистых прудов.
— Неподалёку. Там теперь сын Бориса живёт. Старший. Но, думаю, что знакомиться с ним тебе не нужно. Он о твоем существовании не подозревает. Взрослый человек, мой ровесник. Для него такие открытия могут инфарктом закончиться. Хотя, — Семён Эдуардович отхлебнул из чашки, — с другой стороны, это же твой брат.
— Нет, дядя Сеня, спасибо, но знакомиться не стану. Мне прошлая отцовская семья неинтересна. И маме неинтересна. Она рассказывала, что они с папой жили так, словно и нет никакой другой семьи. И отцу так было проще, и ей.
— Значит, и правильно. Мы с твоим сводным братом общий язык не особо нашли. Мне казалось, что он отца ко мне ревнует. Борис Аркадьевич, по его мнению, чересчур много времени мне уделял. И ничего в том странного, конечно, нет. Действительно, каждый день с ним занимались. Диссертация с трудом выходила. Вначале вроде и ничего шло, когда материал систематизировался, а как дело до выводов дошло, так полный караул начался. Стык двух наук — филология и история. Казалось бы, черпай отовсюду, пригодится, но всё что-то не шло. Вот и возился он со мной. Вообще, мы с твоим братцем даже внешне чем-то похожи. Вон, носы у нас одинаковые, лбы, даже цвет глаз. Только я рыжий, а он шатен. Точно ревновал! Я же на дачу к ним ездил, жил там неделями, в то время как Михаил…
— Его Михаил зовут?
— Михаил. Миша. Мишка-каторжник. Его так Борис Аркадьевич за упорство и усидчивость прозвал. Михаил в городе оставался, работал. В КБ каком-то суперсекретном. Попал сразу после распределения и сразу соискательство оформил.
За полтора года кандидатскую защитил. Конечно, талантливый, в отца. Но вот характер… Важный ходил, вечно угрюмый, насупившийся, словно обязаны ему все. Это он в жену Бориса. Она… — тут Семён Эдуардович, хлопнул себя по коленям, — так. Кажется, я неделикатен. Пусть их. Нет никакой другой семьи. И не было никакой другой семьи. А на тебя, отличник, смотрю и вижу Бориса Аркадьевича. Честное слово. Думаю, что молодым он точно таким как ты был — целеустремлённым и очень ранимым. С возрастом ранимость пройдёт, придёт уверенность, — Семён Эдуардович положил руку Валентину на плечо, — Будешь всеобщим любимцем, душой компании. Девушки юные и прекрасные тебя, конечно, своим вниманием избалуют. А то как же — такой красавец. Но думаю, что женское внимание тебе не повредит. Небось, уже роман с москвичкой завёл? А? Признавайся.
Валентин вспомнил о сегодняшней утренней встрече и испугался, что опять покраснеет.
— Это у меня пока не в планах.
— Не в планах у него, — передразнил Семен Эдуардович, — Это, Валька, редко у кого в планах бывает. Случается само собой. Думаешь, я планировал с Людмилой?
— Так-так, прошу не выдавать семейных секретов, — Людмила появилась на пороге комнаты с чайником и тарелкой беляшей. — Я полагаю, что планировал, причём давно. Ещё когда лекции нам на втором курсе читал, уже тогда посматривал в мою сторону.
— Конечно посматривал! Такая симпатичная девушка. Я на всех симпатичных девушек посматривал. Но ничего особенного не планировал. Оно само случилось.
— Нахал! — Людмила демонстративно ударила Семёна Эдуардовича полотенцем. — Конечно, завидный жених. Кандидат наук, живёт в центре. Я за него сама всё спланировала. И видишь, как всё прекрасно вышло? Правда, он десять лет не мог мне предложение сделать, поскольку забыл о моём существовании. Я уже закончила и к себе в Ленинград уехала в Пушкинском доме работать.
— Среди старпёров одних.
— Не обижай моих дедушек. Эти дедушки меня за тебя, между прочим, и сосватали. Если бы они меня на конференцию в Киев не послали, мы бы с тобой и не поженились.
— А что в Киеве? — Валентину стало интересно.
— А в Киеве у нас с Семёном Эдуардовичем случилось незапланированное им и желаемое мной. Ты уже большой, тебе можно про такое. Через неделю он прискакал ко мне в Ленинград. А через три месяца я уже была Эскина и переехала к нему в Москву, в коммунальную квартиру… Из отдельной двухкомнатной в Купчино. Ужас!
— Представляешь, отличник, — Семён Эдуардович обнял жену за талию, — эта чудесная женщина убедила меня, что была в меня влюблена со студенческих пор. И я поверил. А папе она моему как понравилась!
— Папа у тебя золотой.
— Папа у меня золотой. И жена у меня золотая. И дочка золотая. Валентин, ты жениться не торопись. Женишься на Мариночке. Она подрастёт, станет красавицей-раскрасавицей, а ты станешь моим зятем. И будет у меня зять золотой. Устраивает такой вариант? Ты ей понравился. Мы все свидетели.
— Обязательно, Семён Эдуардович, — Валентин принял нарочито серьёзный вид, — надо только у мамы спросить. Вдруг не позволит…
4. Татьяна
Молва про Татьянин роман по Острову разнеслась быстро. Ну и правильно, судили тётки в очереди, довольно ей одной с ребёнком мыкаться. Местные сплошь алкаши да бывшие уголовники. Толковые все на материк уехали. Тех, что остались, давно разобрали. А Татьяна женщина заметная, эффектная. И уж не девочка — замужем побывала. Этот же московский профессор — мужчина «сурьёзный», обеспеченный. Женится, увезёт с собой в Москву.
Москва казалась островитянам местом неземного изобилия, стороной полукопчёного сервелата, растворимого кофе и бадаевского шоколада, традиционно привозимых из поездок в столицу. О Москве сплетничали, Москвой попрекали, на Москву пеняли. Сравнивали с Ленинградом, всякий раз в пользу последнего, но продолжали ездить «за покупками».
Татьяну огромный город не манил. Конечно нет-нет, да и закрадывалась против всякого здравого разумения мысль, что, даст Бог, и сложится у неё с Борисом что-то до такой степени вечное, что заберёт он её к себе: женой ли, любовницей — только ближе к себе. Но в своих фантазиях видела она их с Борисом в четырёх стенах, за которыми позволялось быть всему что угодно. И это «всё что угодно» её не волновало и не звало. Москва, Ленинград, посёлок, Петрозаводск — не важно. Она чувствовала, что уже живёт в одном с Борисом пространстве, где только их электричество и только их воздух. «Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю», — тихонько напевала она услышанную от студентов песенку на простоватый, щемящий мотив, заклеивая на зиму стёкла вымоченными в крахмале полотняными лентами или перебирая гречневую крупу. Уложив Ваську, она обычно принималась за работу по дому, на которую не чувствовала прав отвлекаться, пока сын делал уроки или играл. Она словно боялась сыновней ревности и старалась не обделить мальчика вниманием и заботой, стесняясь сильного своего женского чувства. И когда Васька засыпал, уютно обняв и уткнувшись носом в игрушечного мохнатого пса, у неё захватывало дух не от нежности к сыну, а от другой, выпестованной разлукой и письмами. Стыдясь и коря себя, она иной раз не выдерживала и ласкала своё тело в темноте на горячей и влажной от пота постели, скрытая от остального мира цветастой занавеской. И потом, выгнувшись, разметавшись, той же ладонью зажимала себе рот, глуша выходящее со слезами и стоном вожделение. И потом долго-долго шептала: «Боренька», пока тяжёлый сон не смаривал и не спасал её исстрадавшееся сознание.
Перед окончанием навигации поплыла она в Кемь затариться на зиму консервами. В вокзальном ресторане администратором работала Лидка, вдова бывшего Соловецкого участкового. Она придерживала для островитян дефицитный венгерский компот и зелёный горошек в ребристых глобусовских банках. Летом у неё всегда можно было купить апельсины и пахучие, краснобокие персики. Через Лидку обычно передавали «оказии» родственникам. Начальство на её негоцианство смотрело сквозь пальцы. Шутка ли, двое детей. Государство не обеднеет, а под праздник всегда можно поставить на стол что-то вкусненькое.
Ноябрь выдался ветреный. Катер мотало по волнам на час дольше обычного. Плывущим в трюме сезонникам было не до обычных шуток да скабрёзностей. Они сизыми нахохлившимися голубями сбились в ряд на лавке и курили, положив ноги на рюкзаки. Татьяну душил кислый дым дешёвых овальных сигарет, от которого мутило сильнее, чем от качки. Но на палубе находиться было невозможно. Волны то и дело с грохотом ударяли в борт и рушились солёными брызгами на ржавое, небрежно крашеное железо. Она достала из сумки восковое яблоко и поднесла к носу, надеясь, что яркий яблочный дух перебьёт подкатывающую тошноту. Кемарящий в углу пожилой механик с дизеля порылся где-то во внутреннем кармане и протянул Татьяне горсть карамелек в ярких обёртках с надписью «Aeroflot».
— На, Татьяна, пососи. Эти кисленькие и с мятой. Специально от укачивания.
— Пососи-пососи, очень хорошо от укачивания, — осклабился один из сезонников, но вдруг посерел, опрокинулся взглядом внутрь и, зажав рот рукой, бросился наверх, грохоча подошвами кирзачей по скользким ступенькам. Дверца трюма распахнулась, и бедолага вытравил прямо на палубу. Татьяна улыбнулась, достала из сумочки платок и протянула неудачливому остряку.
— Спасибо. Извините. Это всё качка проклятая. То-то распоганило меня, и вчера ещё за отъезд браги выжрали. Не обижайтесь на меня. Я платок себе оставлю, можно? А то неудобно прямо.
Татьяна кивнула и махнула рукой, давая понять, что не жалеет о платке. Она вновь прижала яблоко к носу и прикрыла глаза, вызывая в памяти летний берег с курящимся дымком костровищем. Ей стало немного обидно за короткое лето и за себя в этом коротком лете. Подумалось, что есть же места, где лето постоянно, где тоже море, но тёплое, где горы, пальмы, где люди живут легче и возможно, что счастливее. Она никогда не была на южном море или в горах, никогда не видела пустыню, степь. Только тундра с карликовой берёзкой, ельники, ивовые берега шустрых северных речек. Только белое неуютное море да вечно дождливая и хмурая Онега. Но зато здесь такое низкое небо, что им можно дышать. Так говорил Борис. Она представила себе его на выбеленном солью бревне, упершего руки в колени, глядящего на розовеющую полоску у края моря.
— Разве ты не видишь, какое оно низкое? Низкое даже тогда, когда нет облаков.
— Да я и не видела другого. Разве в Москве не так?
— В Москве не так. Там почти как на юге — далёкое. Впрочем, ночью его не видно из-за огней, только на даче и замечаю.
— А как на юге стрекочут цикады — как кузнечики или как сверчки?
— Как сверчки, но громче.
— А как там пахнет?
— Как дома, когда маленький, когда хорошо и спокойно, и завтра праздник, и пекли пирог с изюмом, и клали туда корицу и ваниль. А потом, ночью, ставили этот пирог на столе, накрывали салфеткой и уходили спать. И ты лежишь под одеялом, и чувствуешь этот запах, и тебе хорошо.
Катер пришвартовался, из рубки позвали на выход. Перед самым причалом осел задним колесом в яму грузовик со свежими досками. Несколько штук кто-то уже проложил в виде мостков через вязкую глиняную жижу двора. Их тёплый пунктир поднимался до самого шлагбаума, где в облаке сизого едкого выдоха трясся ознобом старости жёлтый «пазик». Внутри уже сидели, но автобус терпеливо дожидался замученных качкой пассажиров катера. Расписание в Кеми всегда весьма условно. Торопиться здесь не принято, поскольку торопиться некуда. Даже к отправлению проходящего мурманского поезда автобус приходит минут за двадцать. Боишься опоздать — иди пешком, — полчаса. Не боишься — жди всех.
Татьяна уселась сзади водителя на пустую ободранную лавку. Гармошка двери немузыкально взвизгнула, и автобус тронулся. Затрясло и замотало по скверной дороге. Татьяна машинально теребила лямку рюкзака, уткнувшись носом в краешек мехового воротника. Печка в автобусе не работала. Из щели рядом с кабиной гудно дуло бензиновым воздухом от двигателя, только дразня теплом первые два ряда пассажиров. В замызганное лобовое стекло уныло таращилась нелюбимая Татьяной Кемь. Серые стены бараков, дома, никогда не знавшие краски, ржавые останки сдохшей в мучениях техники, уже ушедшие по верхние траки в болотину. Места с остановившимся единожды недобрым временем. Окна бараков, немытые лет двадцать: слепые, запотевшие сивушным выдохом отчаянья и беспредельного равнодушия к миру. Лишь цветастые пятна белья, вымораживаемого неведомыми хозяйками на провисших верёвках, обозначали присутствие какой-никакой, а жизни.
Вначале вытекла из этих улочек с деревянными мостовыми крепкая поморская да финская кровь. А как замостили брусчаткой, так по ней дурная кровь потекла, хоть и сильна была ссыльными да их конвоирами, да и она по капле, — по капле. А новая жидка. Разве что Дом культуры на месте стадиона, что ещё зеки строили, как овощ среди сорняков — румяный.
Автобус сломался, не доезжая вокзала, со стоном ухнув чем-то под днищем. Водила открыл двери и жестом показал семерым пассажирам, чтобы не ждали, а шли пешком. Татьяна закинула за спину рюкзак с десятком копчёных рыбин и, наклонившись, чтобы скрыть лицо от острых ледяных капель, побрела по разбитому асфальту. Снег в этом году уже несколько раз выпадал, но таял под трёхдневными ливнями, приходившими с западными циклонами. Обочина раскисла, и в тех местах, где на асфальте зияли особо крупные выбоины, стала похожа на гнилую раздавленную булку со следами протекторов.
У вокзала работяги выгружали из кунга «зилка» мешки с цементом. Подслеповато таращился желтушный глаз фонаря, не выключенный дежурным по станции. В предбаннике кемарила рыжая мохнатая псина. Она изгваздала мокрой шерстью синюю крашеную стену и теперь дышала в лапу тревожно и сипло. Татьяна прошла мимо рядов пустых скамеек до ресторана. Обеденный зал вздохнул в дверь щами и жареной рыбой. Желтые скатерти на столиках, стеклянные солонки, салфетки треугольничками. У буфета сидела Лидка в наброшенной поверх кримпленового платья кацавейке и заполняла какие-то бумаги. За столиком в углу, несмотря на достаточно ранний час, гуляла компания. Командировочный в мятом костюме говел над графином с коньяком у самого окна. Завидев Татьяну, он вскочил и сделал приглашающий жест. Она улыбнулась, кивнула головой на Лидку. Мол, по делу. Командировочный развёл руками и опять принял позу расслабленного уныния.
Лидка Татьяне обрадовалась. Считались они не то что совсем подругами, но очень добрыми знакомыми. Ещё и в техникуме вместе учились. Когда Лидкиного мужа убили, Татьяна на поминках помогала, готовила на всех. Потом и переезд Лидкин организовала: через артель устроила в заготконтору в Кеми. Это там уж Лидка сама подсуетилась по-бабьи: сперва при гостинице бухгалтером, а потом и в ресторан администратором. Ходил к ней, тихорясь, второй секретарь райкома. Жениться не обещал, но, страсть и свою и Лидкину удовлетворив, всегда что-то детям подкидывал, да и с работой он помог. Связь эту они уже третий год тщательно скрывали, справедливо полагая, что любовь любовью, а выговор за «аморалку» по партийной линии в любой момент схлопотать можно. Тем паче что законная жена у секретаря имелась.
Лидка Татьяну провела в свой кабинет. Сбегала в горячий цех, принесла тарелку картошки с гуляшом, налила чаю и рюмку розового вина. Рыбе обрадовалась. Она её знакомым проводникам с московского скорого по трёхе сдавала. А те уже кто в вагонах у себя барыжил, кто домой в столицу вёз.
— Про профессора твоего уже наслышана, — Лидка отпила глоток вина и щелчком выбила из пачки «Явы» сигарету. — Говорят, не мужик, а киноактёр. Что у тебя там с ним — всерьёз или для здоровья?
— Лид, ты же знаешь, не люблю я о личном.
— Тут, подруга, если легла с кем, это уже не личное, это уже общественное. Новостей же нет. Ни черта же не происходит. Либо кто напился, морду кому набил, либо магазин грабанули. Счастье, если кто у кого бабу увёл больше чем на неделю. Потому твой профессор — это событие. Ну скажи, как он, московский? Ебливый поди? У них же там всякие штучки-причуды городские. Не то что наши. Мой Николай Иванович, вон, поставит раком и давай долбить, как шахтёр в забое. Вся жопа потом в синяках от его костей.
Лидка расхохоталась, ткнула покрасневшую Татьяну в плечо.
— Да брось ты жеманничать! Это же счастье! Ты же у нас самая красавица-раскрасавица. В артели, я же помню, все мужики на тебя в лопухах дрочили. А в техникуме как тебе все завидовали. Сидим как дуры, папильотки накручиваем перед танцами. А ты обруч сняла, волосами тряхнула — вот и локоны золотые. Ах, ты моя красавица! Дай я тебя поцелую, девочка ты моя, — Лидка наклонилась, обхватила Татьянино лицо своими руками и чмокнула в губы, — тебе, девочке, давно пора в Москву или в Ленинград. Лёнчик твой, я тебе сразу говорила, что не пара тебе, — трепло. Треплом и оказался. Тебе культурного надо. Всё-всё, не перечь — в Москву! Ваську там в интернат отдашь, а сама заживёшь как человек. А ещё и при мужике, ну это же счастье. Вот мне, посуди, куда соваться? Это повезло, что Николай Иванович нашёлся, так помогает. А так кому я сдалась с двумя детьми? Я ж не Софи Лорен. Ну, ебсти-то и с двумя можно, да толку с этого… А для чувства или для счастья какого — уже некондиция, третий сорт, протухла.
— Ты на себя не наговаривай, — Татьяна взяла Лидкину ладонь в свою, — посмотри: пальцы в перстенечках, грудь, причёска модная «бабетта». Ты ещё и с тремя и с четырьмя невестой будешь.
— Ой, подруга, ну до чего же я тебя люблю, до чего же я тебя обожаю! Я бы сама на тебе, Танька, женилась. Моих двое да твой охламон, зажили бы. Всё ты мне комплименты говоришь незаслуженные. Я про себя, Танечка-девочка, всё сама знаю. И про то, что кровь моя дурная цыганская, и про то, что учи меня жизнь, учи, а всё едино бабой-дурой помру, знаю. И про то, что пока ещё есть за что мужику подержаться, так нужна кому, а потом, если сейчас сама себе не урву, не откушу, не отплачу, на простыне не отработаю, то вытрет об меня жизнь ноги. Вон их тут сколько! Насмотрелась. До слёз иной раз их жалко. Ходят тут, ходят. Им уж и всё равно кого, хоть бича, хоть проводника, хоть алкаша последнего. А ведь тоже нормальные бабы были. И дети их — бандиты уже. Того гляди зарежут кого, потому что нет и не было на них нормальной мужской руки, чтобы всыпать когда надо. Всыпать до крови, чтобы говно из головы обратно в жопу свалилось. А себя жалеть не позволю никому. Хватит, нажалелись, когда Митьку убили. Веришь, Тань, как вспомню нашу с Митькой жизнь, так вот тут горячо становится, — Лидка положила руку на затылок, — словно там что-то тяжёлое вдруг. Это, девочка-моя подруженька, память о нём.
— Митя у тебя хороший был. Честный.
— Честный. Лучше бы нечестный был, глядишь, сейчас так и жили бы. Он ведь у меня…
Лидка отвернулась вдруг, смахнула слезинку, поднялась, шумно переставила стакан с чаем с одного края стола на другой, поправила карандаши в пенале, повернулась к шкафу, вынула бутылку армянского.
— Будешь?
— Мне ещё назад три часа плыть. Поплохеет в трюме. Качка сильная.
— От этого не поплохеет. Пять звёздочек. Для проверок держу. Приходят, бляди, носом по углам шарят, где чего не так лежит, не тем пахнет, а сами либо меня хотят, либо четвертной. Повадились чуть ли ни каждую неделю. Проверяльщики. Пожарник тут заходит, туда-сюда, а где то, где сё, где какой-то журнал, где сякая бумажка. Сам меня хвать в кладовке. Прижал, дышит гадко, лыбится. Я ему так тихонечко: «Думаешь, что мне некому на тебя пожаловаться? Ты потрогай меня, потрогай, завтра же отправишься елдой лесные пожары тушить». Ничего, отстал.
Татьяна выпила залпом, поморщилась.
— Ну, не так, подруга! Ты так коньяк не пей. Это тебе не водка, не самогон. Опозоришься же в Москве. Коньяк нужно глоточками. Глоточками его нужно, так перекатывать во рту. И лимончиком его. Оп! Ну-ка, давай ещё разочек, тренировочную.
Татьяна взяла протянутую полную рюмку и выпила, медленно смакуя. Коньяк обжигал язык, но приятно щекотал где-то за ушами.
— И молодчина! Я тебе ещё кофту устрою гедеэровскую на таких пуговичках, как щеколдочки. Это вообще самая мода в городе. Поедешь, никто за деревню не примет. Когда едешь-то? Колись уже.
— Не знаю, Лид. Всё же не так и просто. Вон, до тебя слухи дошли, да только это всё сложно совсем.
— Женат что ли профессор твой? Вот ведь кобель!
— Не говори о нём плохо. Мне его, — Татьяна почувствовала, что краснеет, — словно небо послало. Мне кроме любви его ничего больше и не надо. А женат — не женат, какая разница? Он меня любит, я его люблю. А я его так люблю…
Татьяна захмелела и уже сама была не рада своим откровениям, но сдержаться не могла. Хотелось ей хоть кому-то, хоть одной живой душе рассказать о том, что внутри её, чем жила она эти месяцы. Потекла словами, поторопилась, повлекла к себе в душу. У Лидки уже и глаза повлажнели. Налила себе, налила Татьяне, выпила не чокаясь, словно звоном стекла боясь отпугнуть счастье чужое. В дверь официант с каким-то вопросом сунулся, погнала матом. Ей ведь только в журнале «Юность» про любовь иногда, да в ДК в кино индийском. А здесь что-то настоящее, тутошнее, от которого горячо и ноябре, хоть и не с ней это происходит.
— Ты, Лидочка, не говори никому, что он женат. Заклинаю тебя. Ты же знаешь наших, сведут с ума разговорами. Без толку болтают и на пристани, и в магазинах. Ну, хоть без злобы сейчас, а прознают, совсем плохо мне будет.
— Дурища ты, Танька! Да я могила! Ты же про моего Николая никому не треплешь. А кроме тебя о нем и не знает никто. Если бы растрепала, я бы первая узнала. Тут бы такое началось, пришлось бы сбегать куда подальше. Ты не думай, я всё понимаю. Ты душу мне вон как раскрыла. Я уже и не знаю, то ли плакать мне, то ли целовать кого. Всё равно кого, кто сейчас под руку подвернётся. Напоила меня любовью своей до пьяной страсти. Танечка-девочка, голубушка моя, подруженька. Я тебе только счастья желаю и терпения. Тебе же всё будет дадено. Ты же безгрешная. Ты с детства сирота перед Богом. Вот, как заговорила, — Лидка демонстративно плюнула на телефон, — про Бога даже вспомнила. А всё ты. Ты не волнуйся. Будете вы вместе. Это точно, что будете. И прости меня за всё.
— За что, Лид? — Татьяна осторожно погладила расплакавшуюся в скрещенные на столе руки подругу по сложной её причёске.
— А ни за что. Просто прости. Прости, что завидовать тебе вдруг сильно стала. Это моя зависть бабья от моей же глупости и моего же горя. Прости-прости. Я позавидую ещё часик и перестану. Приду домой, лягу со своим, если придёт сегодня, так ему такое устрою! Я к нему всем своим женским повернусь, чтобы почувствовал во мне меня, внутри почувствовал, где самое горячее и самое моё.
Лидка высморкалась в салфетку, промакнула глаза. Достала из ящика стола заграничную пудреницу на молнии, посмотрела на себя в зеркальце, скривилась.
— Ну, и как я в зал теперь выйду? Ох, Татьяна, дуры мы бабы! Ну, ничего-ничего. И дурам счастье положено.
Опять заглянул официант, протянул какую-то бумажку, что-то такое важное Лидке в ухо зашептал. Они вышли. Татьяна засобиралась. Взяла приготовленные подругой консервы, аккуратно сложила в рюкзак, сверху апельсины с треугольничками, пакет с печеньем и коробку зефира. Достала из кошелька две пятёрки, сунула под пресс-папье. Надела куртку, обмотала голову платком. В ушах толчками глухо ухала хмельная кровь. «Пьяная. Какая же я пьяная. И как стыдно, и как хорошо, и как хочется плакать. Дура я влюблённая. Дура несчастная. Дура! Дура!», — сказала себе Татьяна и почувствовала, что даже в мыслях язык у неё заплетается.
В зале скандалили. Лидка нависала над столом, за которым гуляла компания, уперев руки в крепкие свои бока, и орала на пятерых мужиков, не обращая внимания на пьяный гогот.
— Я тебе, блядь, покажу, у кого жопа в дверь не помещается! Тебя, говно, сейчас вставят в щель между вагонами, портки снимут да в гудок ручку от швабры засунут. Ты потом со своей жопой в тамбур не влезешь, пойдёшь пешком до Петрозаводска. Ты коньяку с дружками сколько выжрал? Считал? Или ты в кармане яйца свои считал, думал, что от недоёба их больше стало? Валяй, показывай. Сейчас лишние тебе отрежут, чтобы не звенели. Денег много заработали? Наряд приедет, заплатите за скатерть, которую прожгли, и за стекло, которое вашими головами разобьют. Ещё должны останетесь. Иван! — Лидка обернулась к стоявшему поодаль официанту, — Вызывай Кравчука. Скажи, чтобы быстрее ехал.
— Подруга! Подруга, не надо мусорню. Всё нормально, — из-за стола встал низенький жилистый мужичонка в пиджаке поверх синего спортивного свитера. Он обернулся к остальным, развёл руки и жестом показал угомониться. Гвалт стих.
— Подруга, мужики подгуляли. Работали много. Устали. Одичали у себя на плотах за сезон. Прости, подруга.
— Подруга у тебя знаешь где? — Лидка поправила причёску.
— Знаю, уважаемая. Всё знаю. Вот деньги, — он протянул Лидке несколько червонцев, — Здесь и за скатерть, и за коньяк в полном объеме. Мы же не урки какие. Так, повеселились мальца. — И уже обернувшись к своим: — Всё, ша! Собирайтесь, пошли.
— Во, видела? — Лидка подошла к Татьяне, на ходу одёргивая платье. — И так постоянно. Как смена заканчивается, прут к себе стаями. Голодные все до баб и до водки. Им там бригадиры пить не позволяют. Как что, премии лишают. А капусту хорошую платят. Вот, дорываются, безобразят. Эти на самом деле ещё тихие — шпана обычная. А бывает, бригада приходит, так там у кого три, у кого четыре ходки. Гуляют сутки, потом по дворам безобразят. Хорошо, что со сплавными договорились, они заранее в отделение сообщают, когда проблемная бригада деньгу получает. Обычно у вокзала козелок стоит. Дежурят. Господи, какого говна нахлебаешься на работе!
Мужики тем временем выбрались из-за стола и молча проследовали к выходу. Последний, самый молодой, задержался посереди зала, чуть согнул колени, наклонил голову набок и словно ваятель изобразил Татьянин силуэт. Осклабился, так что длинный белый шрам, идущий через скулу, выгнулся луком. Облизал верхнюю губу и только тогда вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.
— Во! Как шёлковые. Танечка, ты куда собралась? Автобус только через час. Что это тебя понесло на улицу? Тю, — Лидка повернула Татьяну к свету, — ты, я смотрю, пьяненькая у меня.
Татьяна улыбнулась, поставила рюкзак с консервами на пол и обняла подругу.
— Пойду я. Автобус сломался. Вряд ли он его починил. Пешком придётся, если только никто не подберёт. Лучше я пораньше, чтобы успеть. Ещё неизвестно, что там с погодой. Катер и раньше уйти может. Спасибо тебе за всё.
Они попрощались, и Татьяна вышла из ресторана. На улице шёл снег. Мелкий, шершавый, обидный. Татьяна закинула рюкзак за спину и отвела руку назад, пытаясь нашарить лямку.
— Тихо, девочка! Не торопись, — кто-то схватил её сзади за кисть.
— Отпустите! — крикнула Татьяна, но тут же лицо её зажали ладонью в брезентовой перчатке.
— Молчи, сука, покалечим.
Её грубо потащили назад. Татьяна почувствовала, что задыхается, и рванулась в сторону, но в тот же миг получила сильный удар чем-то твёрдым в живот.
— Осторожнее ты. Убьёшь, сам мёртвую ебать будешь, — зашипели у неё над ухом. — Дверь, блядь, открой. Открывай, баклан, она сейчас вырвется!
Стали затаскивать вверх по ступенькам. Татьяна сделала очередную попытку высвободиться из захвата. На секунду рот её оказался на свободе, и она успела крикнуть куда-то в снежное небо. Тотчас короткий и злой удар под дых сбил дыхание. Её втащили куда-то, она услышала грохот закрываемой двери.
— Кляп ей в рот. Кляп! Держи!
Ей разжали зубы и грубо запихнули что-то маслянистое.
— Поднимай! Рожей сюда на стол! — скомандовал кто-то. И тут она узнала голос мужика, увещевавшего Лидку. Ну конечно! Это они, кто же ещё, как не они. Татьяна замотала головой, силясь выплюнуть кляп, но получила удар по почкам. Её руки держали уже двое, уперев лицом в холодную поверхность верстака. В щёку больно впилась металлическая стружка. Она не могла пошевельнуться. В полумраке вагончика были различимы лишь какие-то тени — платок сбился почти на глаза. С неё стащили брюки, не позволив ей даже лягнуться. Она лишь ударилась коленом о железо. Разодрали рейтузы.
— Гляди, трусы розовые! Саня, у меня от розового цвета стоит.
— Ты на трусы будешь пялиться? — раздался всё тот же голос, — Рви давай. И первым-первым струячь. Её разогреть надо. Сухая же вся. Да не бзди ты! Заправляй и понеслась…
«Пусть убьют», — решила Татьяна, из последних сил рванулась назад и, высвободив ногу, лягнула куда-то в темноту. Попала в мягкое. Кто-то взвыл.
— У, сучка, сама напросилась!
Страшный удар по голове. Мышцы Татьяны ослабли, она ощутила, как мокрое и горячее потекло у неё меж ног. Через секунду она потеряла сознание.
5. Я и Лёха
Есть на свете такие места, где у времени от долгого брожения градус появляется. И чем дольше в том времени находишься, тем пьянее и спокойнее. И не происходит ничего. И только ветер то в одну сторону три дня дует, то в другую. Места эти людьми дремучи до безразличия. Только бабы по женской своей природе болтливы. Лишь от болтовни той население и прирастает. А так бы совсем жизнь захирела перед телевизором да за бутылкой. От власти в местах этих никакого прока, потому или нет её вовсе, либо есть она в виде телефонных будок да запойных участковых. Самая главная власть у директора комбината какого-нибудь или у главного инженера карьера. К нему, как к князю и на поклон, и за оплеухой за сорок километров. Электричество тусклое, дороги в петли закручены. Зимой не разгребёшь, летом от пыли не отплюёшься. А те, что асфальтом покрыты, так лучше бы и не было их вовсе. Яма на ямине, проще по обочине. И, что самое удивительное, не так и важно: север ли, восток ли. Всё едино, брошен здесь человек на самого себя со всеми своими глупостями. И некому его ни окормить, ни в глаз заехать.
Под утро самый сон. Над перроном туман с запахом дёгтя. Лужи между шпалами заполнены спитым чаем. Простуженная ворона — единственная из всех птиц не спит. Кашель у неё хриплый, старческий. Проводила московский поезд — ворчит, отхаркивается. Кажется, что загнал нас неведомый автор, как нелюбимых персонажей, в самый медвежий угол и теперь не знает, что с нами делать. Не то забыть между страницами, не то посадить на баржу и отправить в дальние страны. И вставлять потом меж главами цитаты из наших писем: «Дорогая Ирочка, сутки уже штормит немилосердно. Ветер западный с запахом материка. Команда на палубу не выходит. Сидят по кубрикам. Хоть бы не взбунтовались. А то неровен час привяжут к доске и в море». Автобус подгонит — у автобуса маршрут не тот. Таксиста к нам приладит — нет, не получается с таксистом. Он же двух слов связать не может. И не от перепоя вчерашнего, а сам в себе глубоко. Ему что за Онегу, что за Лохнесс — всё едино, но никуда дальше Лавас Губы ехать не хочет. А на хрен нам Лавас Губа? Говорит, трасса там. Мол, попутку поймать можно. А сам что ехать не хочешь? Автомобиль ему жалко. Дорога, дескать, дрянь, да и вообще рань несусветная и даль ещё та. Стоим на дороге в Лавас Губе. Остановка бетонная, рядом бак мусорный. Напротив дома свежей краской крашены. Из ворот джипья морда торчит. Цивилизация. Машка в моей куртке, в Лехиной панаме. Июнь, а холодно, туманно. И морось противная. От сосен на склоне мочой несет. Видать, народ тут подолгу транспорта дожидается. Таксист двести рублей забрал, уехал. Двести рублей. За два километра. Ничего так, в принципе, и на рыбаках с туристами прожить можно. А до Толвуи, паразит, за полторы ехать отказался. Лентяй. Опять поехал перед вокзалом спать до Петразоводского поезда. Мы же его еле разбудили. Малахольный. Закрыл все окна, на голову по глаза шапку вязаную нацепил и дрыхнет. Только в лобовое стекло его и видать. А так все плёнкой обклеено чёрной. Волга старая, крашеная чуть ли не валиком, но внутри ухожена. Пепла нет. На ручке переключения передач — роза в оргалите. Всё как положено. Образки на торпеде. Магнитофон скобой к той же торпеде прикручен, а на его месте рация. Магнитофон не включал. Довёз молча. Слова ни проронил, только в зеркало заднего вида на Машку пару раз зыркнул, но глаза тут же и отвёл. Странный таксист. Мы ему: «Спасибо, что довезли», а он молчит. Две сотенных в карман положил, дождался, когда рюкзаки из багажника вынем, и уехал. Медленно так уехал. На первой скорости. Странный.
Во фляжке коньяк остался. А что мёрзнем-то? По паре глотков сделали. Тут из-за поворота вахтовка. Вначале мимо проехала, потом назад сдала. У мужиков рожи заспанные. Шутка ли — пять утра, а на работу.
— Куда вам?
— Да прямо до поворота на Великую.
Я ещё в Петрозаводске карту купил, теперь пригодилась. Если Васькиным объяснениям следовать, то можно в Финляндии оказаться. Васька же только если что про технику, то понимает. А всё остальное для него абстракция полная. Похоже, конечно, что придуривается он, поскольку мужик вовсе уж и не глупый, но имидж блаженного при грузовике держит. Ему с таким имиджем на Острове проще. Карбюратор там, сальник, то да сё. Про остальное с него взятки гладки. Я бумажку, где он план рисовал, как с картой в поезде стал сравнивать, так понял, что хорошо, что Васька на острове шоферит. С Острова ему никуда не деться. Выпусти его на машине на материк, от обилия дорог свихнётся уже натурально. Там, где налево ехать, там направо указал. Где дорога железная, там у него озеро. Вокзал только нарисовал правильно, красиво. Даже клумбы с кирпичной оградкой обозначил. Мол, тут вот, где-то возле клумб, автобус. А номер автобуса уже совсем какой-то у него потусторонний получился. Тут таких маршрутов отродясь не было, чтобы из трёх цифирей. Явно, что с каким другим перепутал. Часто ли он на автобусах катается? Васька же с Острова только до Кеми, да до Петрозаводска к отцу. Отца его я не видел, но на Острове говорили, что копия Васьки внешне. Ну, и тоже малахольный. Рационализатор какой-то. Патентов у него несколько.
Вахтовка до Шуньги идёт. В вахтовке электрики. Один рыжий, молодой совсем. Остальные ровесники наши. Водила постарше. Где-то обрыв на линии. Ураган недавно был, деревья повалило, так на провода. Всю дорогу в буру режутся. Играют все, включая водителя. Тот карты левой рукой у штанины держит, лишь изредка поглядывает. А что? Нормальная у мужиков жизнь. На свежем воздухе, без излишней нервотрёпки. Лёху, смотрю, так и подпирает с мужиками картами пошлёпать. Я сижу, в окошко смотрю, мне от окружающей природы кайф и благолепие, а он мается. Машка у него на плече сопит, ей уже всё по барабану. И поиграть Лёху тянет, класс показать. И никак ему до карт не дотянуться. Машку тревожить не хочет. Шею вытянул, через плечо к Рыжему заглядывает.
У Лёхи с картами всё хорошо в жизни. Любят его карты. Он же к ним с презрением. Но как заканчивались у нас деньги, так ехал он в общагу к геологам. К своим западло ехать. Своих обыгрывать нельзя. Можно, если по копеечке за вист. Но если жрать нечего, то лучше куда на сторону. Либо к физикам в «столбы», либо к геологам. К геологам всяко правильнее. До электрички ближе, да и играют они в массе своей похуже. Фишки не считают, на всякие комбинации надеятся. Я, впрочем, в этом ничего не смыслю, меня, если что, так, за болвана к столу звали, а Леха — тот спец. По две ночи его не бывало. Приезжал уже с полными сумками еды. Квартиру в те времена в Лисьем носу снимали. Да и не квартиру, а половину дома. Жили вшестером. В город по железке ездили до Финбана, а там, на трамвае, уже до Универа. Хорошее было время. Дурное. Вроде как семья или хипповая коммуна на хозрасчёте. Когда совсем голодно становилось, отправлялся к бабушке на прокорм. Она с собой деликатесов всяких заворачивала, суп в банку наливала. Но такое раза два или три всего случалось. Стипендию все получали, плюс к тому работали. Лёха карточной игрой не злоупотреблял. Потом уже для удовольствия стал, а тогда только если приспичивало.
Насобачился он ещё до армии, у себя в Оше. Там «химиков» много жило, тех, кого ссылали за всякую бытовуху да за тунеядку. Ну и тех, кто с зоны откинулся да на местах осел. Разные люди. Среди них и каталы оказались. Научили парня всему, что знали. Он им приглянулся. А если людям угрюмым кто приглянется, так это уже само себе откровение. Больше карт научился Леха с людьми ладить. В Универе про людей ничего не рассказывают. Там наука отдельно, а люди отдельно. Разве что на психологическом факультете. Но у них, на психфаке, кроме шизиков и нет никого. Девчонки прыщавые, визгливые, с подъёбом. Парни разговаривают громко, руки в карманах не держат, смотрят мимо глаз. Ну не идиоты? А надо бы, чтобы про людей, да так, чтобы попал ты к тем людям и стал своим, чтобы знаниями многими пользу принести, а не раздражения. Лёха и от природы к людям всей личностью повёрнут, да тут ещё от ссыльных да бичей науки поднабрался. Своим вмиг становится. Ему без особой разницы, полковник ты, работяга или профессор. Сразу свой. С преподавателями до смешного доходило — он ещё первокурсник, а они с ним уже за руку здороваются. И те, что совсем мамонты, и шелупонь кафедральная. Я так не могу. Никогда не мог, а теперь поздно меняться.
Высадили нас за Шуньгой, перед Пуданцевым бором. Мужики с понятиями, от денег наотрез. Пока мы из «буханки» промеж катушек с кабелем выкарабкивались да рюкзаки свои вытаскивали, они от буры и не оторвались. Рыжему по носу колодой лупили. Рыжий при этом лыбился и губами причмокивал. Смешной тип. Только дверь собрались захлопнуть, водила протянулся, в руке яблоко Машке. Хорошо быть рыжей симпатичной девчонкой с косичками и очками на кончике носа. Все за мультяшку принимают. Та ещё ведьмочка, а все в умилении. Это, наверное, как маленький крокодильчик. Понимают, что как вырастет, так пополам перекусит, а пока маленький, то вполне себе милый.
Морось с туманом ветром разнесло, почти солнце светит. Рюкзаки на обочину, Машку на них посадили. От травы мокрой парок поднимается. Лёха куртку скинул, гимнастику делает, разминается. Под тельником мускулы так и ходят. Машка улыбается, любуется. Влюблённая дура. Красивая, маленькая и влюблённая. Интересно, на сколько её с Лёхой хватит? А вдруг так и действительно, что на всю остатнюю жизнь до старости? Она же верная. Нет, вертихвостка, конечно, но такая лучше сбежит, нежели изменит с кем. У Машки понятие «счастье» и понятие «свобода» друг от друга далеко стоят. Она с детства обласкана-забалована. Ей нужно, чтобы рядом кто-то был, чтобы можно вот так свернуться калачиком и уткнуться в рукав или в колено. Влюбчивая от любопытства, нежели от одиночества или от глупости. А здесь что? А это кто? А как с ним? Иные примут Машкино кошачье мурлыканье за что-то, чем то не является. Хорошо, что не обижают. Как такую мультяшку обидеть? Скорее сам на себя обидишься, поедом сожрёшь, что не сберёг, не удержал возле себя. Боюсь за Лёху. Может, за Машку лучше бояться? Ну их. Сами разберутся.
Сорок минут на дороге никого. Проехал жигулёнок. Вроде притормозил, там мужиков двое, наклонились, на нас посмотрели как-то нехорошо. Рожи противные. Не остановились, по газам и дальше поехали. Почтовая машина прошла. Эти никогда не останавливаются. Видать, по правилам нельзя.
Коньяк допили, Машкино яблоко на три части разделили. Кислое, пряное. Косточки ещё белые, но всё равно хорошо.
Наконец тормознул огромный китайский джип. Странная машина для автостопа. И не для автостопа странная. Но покидали шмотки сзади в кузов. Сели. Мужика байками грузим, чтобы не жалел, что поддался гуманному позыву. Водила слушает невнимательно, даже и не в полуха. Без обычных в таком разговоре поддакиваний. Сигарету из угла в угол рта гоняет. Сам в своих проблемах. Вдруг ладонями по рулю: «Эх, бля, всю ночь такую девочку трахал! Теперь ещё в Питер на машине гнать. Меня там одна обещала к врачу отвезти, который зубы вставляет. Новая американская технология. Восемь зубов — три тысячи рублей всего. И ведь опять трахаться придется. Приеду, жена точно убьёт». Пытались было отговорить водилу от такой странной халявы, но всё напрасно. Без мата как отговоришь? А при Машке материться не хочется. Вид у мужика, словно готов он к закланию, всё для себя решил. Весь на нервах. Высадил на повороте, рукой махнул, мол, дальше сами дойдёте.
До посёлка не дошли. Свернули на дорожку к Онеге. Хмарь окончательно ветром разогнало. Солнце уже почти на макушке у неба. Припекает. Дорога, по которой идём, вся в шунгите. Пыль черная, мелкая. Пока до воды добрались, совсем изгваздались. На берегу насыпь того же шунгита с экскаватором. Баржа под загрузку. Волны о ржавый борт клёкают. На мостках рыбак сидит в одних трусах, на поплавок щурится. Ведро красное пластмассовое рядом. Поплавок в солнечных зайчиках прячется.
— Что с рыбой? — спрашиваю.
— А что всегда, — говорит, — говно в чешуе.
В ведро заглянул. Там плотвы уже с десяток. И жирная плотва, качественная. Кривляется мужик. Плотву за рыбу не считает. Снобизм рыбачий. А поди жерлицу без плотвы поставь. Окунь дёрганый — леску запутает. Густера, пока ты ей спинку крючком протыкаешь, десять раз сдохнуть успеет. А плотва живуча, интеллигентна. Её на жерлицу, она плавниками шевелит, а сама на месте. Делом важным занята, собою для щуки жертвует во имя подвига. И чешуя у неё как патина на зеркале. И навар от неё в ухе. А завялить да не пересушить, то и жигулёвское мартовским покажется. Такая она прекрасная, такая незаменимая, а как уйдёт поплавок под воду, то всё на подлещика надеешься. Несправедливо.
Машка кроссовки сняла, аккуратно на берегу поставила. Они, как две собачки-дурашки, в траве замерли. Ждут, когда хозяйка вернётся. Носочки розовые, что язычки высунули. Дышат. Джинсы закатала — по мосткам до самого краюшка. Присела — воду большим пальцем попробовала. Сморщилась. Холодно. Села по-турецки, руки назад, очки на лоб, лицо с веснушками к солнцу. Леха куртки да свитера на доски побросал, лежит, травинка в зубах. И доски нагретые, шершавые. И как же хорошо, что торопиться не надо. Ни на поезд, ни на автобус, ни куда ещё. И небо, и русалочий шепот тростника, и далёкая нота какого-то одинокого в волнах железа. Целый мир, срифмованный с берегом Онеги единой этой строчкой — длинным мостком серых досок с запятыми согнутых и ещё в прошлом веке заржавевших вечностью гвоздей. Будь ты хоть поэт, хоть влюблённый, а не добавишь ничего.
Телефон. Молчал-молчал и проснулся. Я уже решил, что питание закончилось. Выкопал его из рюкзака, раскрыл — Светка.
— Ты где? — деловой голос, раздражённый.
— В отпуске, на Онеге.
— Когда возвращаешься?
— Не знаю, а тебе что?
— Холодильник на дачу отвезти. Старый сломался, а через неделю заезжать. Маме тяжело без холодильника. Ребёнку нужно готовить постоянно. Я третий день звоню, всё время «вне доступа». И вообще, Игорь, у тебя сын в больнице, а ты в отпуске! Знаешь же, что я работаю, мне сложно каждый день к нему ездить по вечерам. Мог бы помочь. Это не только мой ребёнок. Или ты полагаешь, что с тебя достаточно музеев с зоопарками по выходным? Деньги когда привезёшь?
— Я привозил.
— Не помню. Видимо, так много привозил, что даже и не вспомнить. Я должна одна на себе это всё тащить, пока ты там в отпусках отдыхаешь?
— Свет, я вернусь, отвезу. Вообще, ты могла бы попросить своего. У него машина ничуть не меньше моей.
— Ты прекрасно знаешь, что он работает. И знаешь, как он работает.
— Как он работает? Как все работает. После работы погрузит и отвезёт. Или он тебя, в отличие от меня, на хрен послать может?
— Ладно, всё с тобой ясно. Пока.
Ходишь вечно одними и теми тропами, вдоль одних и тех же ловушек, вертушек, колокольчиков. Как в детском бильярде. Всякое утро запускаешь себя тяжёлым шариком из железной пушки (такой, что похожа на защёлку в уборной), и забываешь, что делал это уже вчера, позавчера и пять лет назад. И смысла в этом нет, как нет смысла в очках, что записываешь в аккуратные столбики. Столбики цифр на обоях. На обоях, которые давно уже пора отодрать, после промыть стены, прочистить карщёткой и поклеить новые.
…С женой у нас всё неправильно случилось, всё как в затяжной истерике. На свадьбу собственную и то опоздали — у машины колесо прокололось. Как тут в приметы не верить? У меня жить не захотела. Конечно, коммуналка, хоть и в центре, хоть и две комнаты мои, да запущена: шаг в прошлое. Сняли в Купчино, рядом с её мамашей. За копейки, по знакомству. Родственники дальних знакомых, что в Германию подались. В квартире обои вдоль стен стоят. Табаком мёртвым пахнет. Под диваном да под кроватью пепельницы с трупиками окурков. Обои переклеивать начали — разругались. Гостей позвали — опять ругань. Перед гостями неудобно: заперлась в спальне с телефоном. Звонит кому-то. Я вошёл, трубку рукой зажала, на меня недобро: «Что надо?» Ничего не надо. Спасибо. Гостей проводил. Сижу на кухне, цежу чай с лимоном. Заходит. На меня не смотрит, достаёт початую бутылку вина из холодильника, еду какую-то. Всё в полном молчании. «Что с тобой?» — спрашиваю. Молчит. «Послушай, — говорю, — мне, может, вовсе уйти? Не понимаю, что происходит». Молчит. Покидал, что нашёл, в рюкзак и ночью пешком к Лёхе через весь город. Пешком, потому что крутит меня всего. Не могу даже в такси сесть. Мне двигаться надо, словно на каждом шаге с меня ржа в ознобе сыплется.
Думаю, вот дела. Только что родителей моих на поезд проводили. Они нам счастья желали, добра, детей. Тётя сервиз подарила семейный. От деда остался. Он его из Японии привёз после войны. Костяной фарфор, роспись ручная. Мне ещё с детства на свадьбу обещан. И что им сказать? Не сошлись характерами? Это же бред, мальчишество. Меня же спрашивали: «Ты уверен?» Меня спрашивали: «Игорёк, она беременна?» Мне говорили: «В нашей семье только один раз женятся. Ты это помни». Взрослый же человек (как раз двадцать шесть исполнилось). А здесь такое мальчишество. На Благодатной в ночнике взял бутылку коньяка, положил в карман. Через каждые тысячу шагов глоток делаю. И растерянность. Телефон-автомат у ДК Ильича. Номер набрал. Гудки в трубке. Сняла. Голос сонный. «Это я. Слушай…» — трубку бросила. Не хочет разговаривать. Почему? Что случилось?
Сколько раз потом эти бойкоты повторялись. Я уже внимания не обращал. Занялся своими делами, жил свою жизнь. Дня через три сурдоперевода как громкость включают. Приходишь домой, здоровается. Как ни в чём не бывало. Ночью в постели оживает. Но не любовью оживает, не лаской. А страстью какой-то злой. Словно война это для неё, где ей суждено умереть и только этой смерти ей и нужно. И на противника наплевать. Пусть он сам как-то, но чтобы ударил, выстрелил, взорвал. Чтобы геройски провалиться в небытие чёрное с кровью на губах и хрипом. И если не позволить ей погибнуть, если не сдержать эту атаку безумную, дать себя победить, то пахнёт ненавистью из-под одеяла. Исколет труп твой штыками, плюнет на него, на бруствер окопа вытащит, чтобы воронью виднее было. А сама бросится из спальни, чтобы взорвать себя на минном поле ванной под горячими струями хлорной воды.
Поехали в свадебное путешествие в Анапу. Пока жильё выбирали, думал, всю душу из меня вынет. В поезде ещё надулась. Лежала на верхней полке с томиком Ромена Гари под подушкой, в потолок смотрела. Думаю, жарко ей. Может, просто от жары капризничает. В Харькове вышел на перрон, купил мороженого в трубочке. Принёс в купе. «Хочешь?», — спрашиваю. Молчит. Тётушка с дочкой с нами ехали. Хорошая тётушка, любезная. То яблочко предложит, то побеспокоится, не мешает ли свет. Она к ней: «Муж у Вас заботливый. Берегите его». Она книжку положила: «Ребёнком своим занимайтесь. Не лезьте, куда не просят». Как мне стыдно стало! И сколько раз потом это чувство стыда. Пусть человек незнакомый, через миг забудет. Но и миг тот мне невыносим.
Как-то у тётки моей на дне рождения истерику закатила. Гости собрались, родственники дальние. Что-то такое сказали ей. Уже и не помню, какое-то замечание застольное вроде «студень надо с хреном есть», а она в ответ окрысилась: «Сама знаю, не надо советов ваших». Даже разговоры смолкли. Тётка ей: «Светочка, нельзя так, люди пожилые собрались, веди себя прилично». Она вскочила, стул отбросила, в прихожую и за дверь. Тётка головой покачала: «Совсем девку распустил, воспитывать её надо. Что это за дикости такие? Не приходи с ней больше. Мне тут такие концерты не нужны». И опять мне стыдно. Просидел до окончания вечера, анекдоты травил, про студентов рассказывал, которые курсовые у меня пишут. Боялся умолкнуть, словно в паузе меня опять укорять станут. А обратно подвозил сын тёткиного приятеля. Как от дома отъехали, так он сразу: «Дурная она у тебя. Или ты её на место поставишь, или разбежитесь скоро. Если бы моя так себя повела, я бы ей точно врезал. Не интеллигентничай. Учи».
Как учить? Как?! Если учить, то это уже игра, какие-то позиционные войны. А зачем? В этом нечестность, искусственность, психология. Почему нельзя всё просто, без того, чем книжки наполнены? Почему счастье надо получать обманом или за деньги? И если нет тех денег, только обман остается? Светка зарабатывает хорошо. Её фирма коттеджи проектирует. Один проект продадут, сразу деньги в конверте. Домой довольная возвращается: «Поехали в „Палангу“»! Берём такси, едем. Там её коллеги уже. Устрицы, Martini, Hennessey. Пятна цветные, музыка. Босс их с бородой мудацкой, в двубортном костюме. Барин. Меня за плечи обнимает: «Ты за своей женой, как за каменной стеной, брат. Она у тебя высший класс. Страсть и электричество. Одолжи на недельку простатит полечить». И ржёт. Разговоры о деньгах. Разговоры о клиентах. Разговоры о том, кому и что впарили, что впарят. Счёт принесут, она деньги из сумочки не глядя. Три зелёных бумажки: «Погнали в боулинг!» А хоть и в боулинг. Уже всё равно куда, только не домой, где один на один с ней пьяной. Не хочу быть с ней наедине. Не могу уже.
Лёха и тот к нам в гости приходить не любил. Придёт с бутылкой, Светке букет лилий принесёт. А она из спальни даже не выходит. Лежит, в телек пялится. Мы с Лёхой на кухне коньяк из рюмочек. Тихо, чтобы не мешать. Курить на лестницу выходим.
— Что там с ней? — спрашивает.
— Что всегда, — говорю.
— Найди ты себе бабу нормальную, чтобы трахать. И не бесись сам. Превращаешься в идиота. Она тобой вертит как хочет, а ты рад.
— Не могу я так, — отвечаю, — мне это не нужно. Мне хочется, чтобы здесь всё хорошо стало.
— Не станет, уж прости за откровенность.
Прощал. И сам всё понимал, но уже привык. Иногда представлял себе, что разойдёмся, и словно часть меня мертвела. Та часть, где её голос ласковый: «Зайчик, как же я тебя люблю». Как? Как ты меня любишь?
А потом не удержался. Светка в Москву к сестре зачастила. На выходные уезжала, меня не звала. Не то чтобы не звала, но давала понять, что ей без меня будет лучше. Она в Москву, а я к Зойке. Однокурсница моя, подруга, утешение. Мы с ней и с Лёхой компанией ещё студентами в Крым ездили. Квартиру в Лисьем носу снимали вместе. В кооперативе вместе подрабатывали. В гардеробе университетском пальто прокуренные выдавали. С ней всё просто. Можно разговаривать, можно в постель лечь, можно сходить куда-нибудь. Она товарищ.
Лежу на широкой её кровати в новой квартире. Шестнадцатый этаж. Край города. Внизу состав на Парнас грохочет. Из стакана широкого виски пью. В теле пустота, в голове пустота: обман и счастье.
— Что же вы, мальчики, вечно себе таких стерв выбираете? Где находите их? Она же выпила тебя всего уже, Горечка. Ну и скажи, зачем тебе это «чудо» сдалось? Валил бы ты от неё, пока совсем сознанием не помутился. Она тебя импотентом сделает. Так, как она, с мальчиками нельзя. С мальчиками надо ласково, мальчиков надо любить, радоваться им. Тогда у мальчиков всё будет работать, всё будет радовать девочек. Мальчик — это очень тонкий инструмент наслаждения. Его сломать-то можно в два счёта. Потом к психоаналитикам бегать замучаешься. Кто её учил так обращаться с мальчиками? Покажите мне ту стерву, которая её воспитывала. Тёща твоя, признавайся? Вот блядь старая. Видела её у тебя на дне рождения. Сидит тонкая, жеманная, из салата что-то выковыривает. Дворянку из себя корчит. Волосы эти распущенные. Это же неприлично пожилой женщине ходить с такими волосами. Надо соответствовать возрасту. Джоконда! Видать, сама своего мужика со свету сжила, теперь посредством дочери и на тебя позарилась. Тесть у тебя есть? Нет? Ну, что я говорила? Беги, парень! Спасайся бегством. Беги, пока твоя фемина от тебя не забеременела. Забеременеет, они тебя с мамашей тогда съедят. Ты даже не заметишь этого. Отцовский инстинкт забьёт инстинкт самосохранения. Утром проснёшься, а из твоих ног на кухне котлеты жарят. И пахнет так призывно, аппетитно, что уже самому хочется. Так и сожрёшь вместе с ними вначале ноги, чтобы не ходил никуда, потом уши, чтобы не слышал, что они о тебе говорят. Потом твой прекрасный член, который я бы и сама откусила. Оставят руки. Чтобы работал. Чтобы пахал, капусту зарабатывал. Кормил их.
Зойка из постели выбирается, халатик накидывает, уходит на кухню. Возвращается с сигаретой. Садится на подоконник. Специально так садится, чтобы грудь сквозь тонкий шёлк просвечивала. Кокетничает. Завлекает.
— Ты мне скажи, чего на мне не женился? Жил бы по-человечески, с нормальной женщиной, дома, а не в съемном жилье. Бабушке твоей покойной я нравилась.
— Какая мы с тобой семья, Зоя? — я поворачиваюсь на бок и лежу, любуясь Зойкиным силуэтом в окне, — Мы с тобой друзья. Поздно уже романтику придумывать после стольких лет.
— А там у тебя нормальная семья? Просто идеальная! — язвит Зойка. — Эта фемина и тёща. Тёща тебя ненавидит, жена презирает. Как тебя вообще угораздило? Биологией тебе всё равно заниматься не дадут. Им деньги нужны, а за универскую зарплату ты у неё минет не купишь. И про «друзья» — это обидно. Если я никогда и ничего тебе про свои чувства не говорю, ещё не значит, что мне сказать нечего. Просто вижу, что тебе не нужны эти разговоры, и чувства мои к тебе тоже не нужны. Придумал единожды, что мы друзья, и ничего менять не хочешь. Кстати, это нормально, когда друзей трахают? Мне всегда казалось, что секс между друзьями — самый главный инцест. Потому что через душу, как через гондон. Всякий раз потом мокрый кусок души в помойку отправляется.
— Зойка, прекрати. Ещё ты меня травить станешь…
— Горечка, я не тебя травлю. Я себя травлю. Вижу, что тебе плохо, а что-то менять сил найти в себе не можешь. И мне плохо. Плохо и одиноко. Ты приходишь — хорошо, а уходишь — совсем жить не хочется. Может, мне замуж выйти?
— За кого? — меня забавит резкий поворот Зойкиных мыслей.
— Всё равно за кого. Могу, например, за шефа своего. Он за мной ухаживает. Трогательно ухаживает. Знаешь, так ухаживают, когда что-то в сердце есть, а не когда просто секса хочется. И не смейся. Хороший мужик, ему ещё сорока нет. Два высших. Женат никогда не был.
— Так выходи! Он тебе предложение сделал?
— Сделает, если я ему повод дам. Выйду замуж, к кому ты тогда будешь приезжать плакаться? К себе не пущу. И встречаться с тобой буду только днём и только в людных местах. В постель мою ты больше не ляжешь. Будешь у себя в туалете онанировать. Это мальчикам в измены играть интересно, а мне нет. Мне хочется ребёнка родить и воспитать его. Мне хочется ждать мужа с работы, чтобы накормить его ужином, чтобы он знал, что я его жду. Мне хочется всего, что я могу тебе дать, но только тебе этого ничего не надо, потому что тебе надо страдать и мучиться вначале от любви, потом от того, что любви нет. Ты чёртов мазохист. Тебе ведь просто не нужно. Тебе нужно сложно, тогда есть смысл в жизни — преодолевать. Иначе скучно.
Зойка зло тушит сигарету и встает с подоконника. Поднимает с пола мою рубашку, вертит в руках, словно прикидывая, бросить мне, чтобы оделся и ушёл, либо положить на кресло. Кладёт на кресло, скидывает халат и сама ко мне под одеяло.
— Ладно, — обняла, положила подбородок мне на грудь, — пока ещё не замужем. Но ты сволочь. Ты это понимаешь?
— Отчасти.
— Сволочь. Но любимая и желанная.
Ромка в Турции получился. Я к тому времени из Университета почти ушёл, занялся ландшафтными проектами. Деньги появились. За год вдвоём на квартиру в хрущёвке скопили. Переехали. Тёща стала реже приезжать, на даче круглый год осела. Книжки там писала. На «закидоны» Светкины я уже не реагировал. Та поняла, что нет в ответ реакции, сама спокойнее стала. Вроде всё улеглось. У меня работа, иногда Зойка, иногда другие девушки. У жены работа, иногда мужики на работе. Нормальная семья. Вместе и не спали почти. У меня своя кровать, у Светки своя. Иногда разве что, если выпьем да потянет. И только в Турции опять в одной кровати встретились, да неделю как заново жить начали. Солнце, что ли?
Пока беременная ходила — как другой человек. Я столько ласковых слов от неё за четыре года не слышал. И сам в ответ собой стал.
А перед самым Ромкиным рождением всё опять началось. Тёща к нам переехала. Молчанием своим всю квартиру заняла. Светка с сыном в спальне, тёща в гостиной, я на кухне. Может быть, и рад был той кухне, если бы не упрёки да не тёща. Ночью по десять раз вскакивал, если Ромка плакал. Днём на работе сонный. Вечером стираю, глажу, а всё равно неправильно: говорю не то, молчу не так. В молчание моём их «моё» пугает. Что-то, чего им не видно, до чего не достать. И злит обеих сильнее слов. Почувствовали, что в этом молчании есть и Ромка. Не их он полностью, а ещё и мой. Сложно. Не объяснить. И теперь не объясню. Психология какая-то. А где психология, там уже нет человека.
Машенция тогда к нам зачастила. Через выходные приезжала. Вещи у нас свои кинет, вечерок со Светкой в обнимку посидит, а потом где-то шляется до воскресенья. Свободы ей в Москве не хватает. Оно и понятно — родители, воспитание, строгость. Светка её прикрывала. Если сестра звонила, врала, что та, мол, только что в театр ушла или в кино. Потом шушукались о чём-то, смеялись, на меня обе игриво поглядывали. Тётка с племянницей. У них разница десять лет, потому и подружки. Меня в свои секреты не приглашали. А мне и не надо. Я лишний.
Ромке три годика исполнилось. На его день рождения Машка опять прикатила. Забрала меня гулять в центр. Сели в кафе на Большом проспекте, вина заказали.
— Что, дядюшка, плохо тебе? — спрашивает.
— С чего это ты взяла?
— Я же тебя люблю. А если я тебя люблю, то я тебя вижу. Плохо.
— Машенция, — говорю, — самое последнее, что я с тобой буду делать, — это обсуждать мою семейную жизнь.
— Ну и зря, я бы тебе посоветовала.
— Что ты мне можешь посоветовать?
— Я бы тебе посоветовала уйти, вернуться в свою квартиру и жить самому. Тётя Света тебя никогда не любила и никогда не полюбит. Она злая, а ты добрый.
— Ты зачем так про свою родную тётку?
— Потому что я знаю. Я слышала, что она Люде говорила.
— Маме твоей?
— Ага, — Машка, положила подбородок на скрещенные руки, — они с Людой всё время про какого-то Мишку говорят. Про тебя не говорят, а про Мишку говорят. И ещё когда она к нам приезжает, то даже не ночует. Я здесь не ночую, а она в Москве.
Мне словно желудок ремнём перетянули. Дышать тяжело стало.
— Как так?
— С самого начала так, дядюшка. И в последний приезд она плакала, что угораздило её от тебя ребёнка родить. Что для неё это невозможно. Что она страдает. А Люда её утешала, советовала подождать ещё полгодика, пока на работу не выйдет, и развестись. Только я тебе ничего не говорила. Не хочу с тётей Светой ссориться. Но и тебя мне жаль. Ты же хороший-хороший такой. Ты у меня, дядюшка, любимый и замечательный. Давай так. Ты разведёшься и на мне женишься. Буду любить тебя, заботиться о тебе. Уеду из Москвы, переведусь сюда. Я ещё три года назад хотела тебя у тёти Светы забрать. А сейчас самое время, перед дипломом. Меня в Пушкинский дом на преддипломную возьмут. У Люды там все знакомые. Соглашайся, дядюшка, всем легче станет. Ромка — мой племянник. Будем его брать, воспитывать вместе. Он у тебя такой хорошенький, на тебя похож в детстве. Я фотокарточки смотрела. Вылитый ты, там от тёти Светы нет ничего.
Машка ещё болтала что-то, не слушал. Курил одну за одной и в окно смотрел. Троллейбусы едут. Люди идут. Снег на воротниках оседает. Такой же, как и вчера. А мир изменился. Разве сам не знал? Разве не чувствовал? Может быть, и чувствовал — не признавался. И что теперь? Вот так прийти и сказать: «Ухожу?» А повод? Как это делается? И куда уходить? Может быть, Машка всё придумала? С неё станется. Она фантазёрка, а в голове у неё сквозняки гуляют. Нет. Вроде серьёзна. И чертенята попрятались. Сама сидит понурая. Кажется, что заплачет. Это мне плакать надо. От обиды плакать, от несправедливости, от глупости своей, от слабости.
Через пару месяцев ушёл. Может, не ушёл бы, а просто выгнала меня Светка. Нашла себе мужика другого и выгнала. Не Мишку мифического. Другого. Забрала сына, уехала в отпуск: «Я вернусь через десять дней. Очень хочется верить, что тебя в квартире не будет». Вот так. Просто, без поклонов. Две недели в безумии. Вернулась, дверь открыла, Ромка ко мне бежит, обнимает. Она в прихожей. Сзади ещё кто-то стоит — мне с кухни не видно. Развернулась, дверь прикрыла, что-то кому-то сказала. Лифт скрипнул. Вошла в квартиру. Юркнула в спальню. Закрылась. Ромку ужином покормил, собрал документы, бумажки свои, мелочь разную в портфель сгрёб. Бельё из стенного шкафа в рюкзак покидал и уехал. Год жил, чешую с себя сдирая. Через год развелись. А потом Ирка. А у Ирки собака. А у собаки нос кожаный и мокрый.
6. Валентин
Квартиру Валентин с Ольгой получили зимой, когда уже отчаялись дождаться и всерьёз подумывали брать кредит. По Москве ходили слухи, что очереди вовсе отменят: оставят только для инвалидов и участников войны. Их же, вузовская, и без того не двигалась уже много лет. Оптимистические обещания ректора поспособствовать молодым аспирантам в получении жилья остались обещаниями. И не аспирант давно — семь лет как защитился, а всё по выселкам. Привычка к съёмному жилью переросла у них с Ольгой в привычку не покупать лишних вещей. Основной скарб, пока меняли квартиру за квартирой, составляли книги. Большую часть в конце концов Валентин свёз на кафедру. Появился свой кабинет, в нем несколько шкафов. Можно было позволить хотя бы часть книг оставить там. Никуда они не денутся, а при переездах таскать неподъёмные коробки быстро надоело. Кроме книг основными вещами считались маленький кухонный телевизор, два компьютера, гладильная доска и несколько сумок с вещами. После рождения Варвары к переездам предназначалась детская кроватка, манеж и куча игрушек. Однако странное дело, но на последней квартире они задержались уже на три года и, если бы не приятная неожиданность в виде открытки о получении ордера, прожили бы ещё столько же. Ольгина однокурсница Эльвира уехала собирать материал для диссертации в Норвегию, где скоропостижно вышла замуж за своего куратора. Обосновалась с мужем-этнографом на хуторе, а квартиру сдала Ольге и Валентину. Это было самое комфортное жильё из всех тех, что они снимали. Дом на углу Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Двухкомнатная. На восемнадцатом этаже. Прекрасный вид. Кооператив, построенный отцом и отданный дочери в год поступления. Метро рядом. Магазины. Ольга полюбила эту Элькину «хату» ещё в студенческие времена, когда на первых курсах сбегала из общежитского разгула готовиться к сессиям.
Здесь же они с Валентином провели свою первую ночь, оставшись после дня рождения «помочь прибраться». Они мыли на кухне посуду, и Валентин млел от каждого прикосновения к горячей и мыльной Ольгиной руке. Распущенные и завитые Ольгины волосы щекотали ему щёку. Хотелось, чтобы посуда не заканчивалась подольше. Элька уже двадцать минут целовалась с кем-то в ванной. В смачно ободранном кресле дремала кошка. Из гостиной доносился Wish You Were Here. Разномастные рюмки тонкого стекла расставлялись шеренгами повзводно на расстеленном полотенце с олимпийским мишкой. Тарелки вытирались таким же полотенцем, но с изображением волка из «Ну, погоди!». Вытирались и складывались в шкаф. Когда уже всё было вымыто, вытерто и каталогизировано согласно кухонному реестру, Валентин опустил рукава новой джинсовой рубашки (предмета своей гордости) и вопросительно взглянул на Ольгу: «Поехали?» В этот миг дверь кухни приоткрылась. Появилась растрёпанная Элькина голова.
— Ребята, я там вам бельё в большой комнате бросила. Сами справитесь? Если что нужно, стучитесь в стенку. Но лучше не стучитесь.
— Хорошо, — ответили они хором. Ответили такими уверенными и спокойными голосами, как будто лечь в постель вдвоём для них было обычным делом.
— Ты покури пока, я постель разберу, — Ольга деловито сняла с себя передник и, не смотря на Валентина, вышла из кухни. Валька сел на табуретку и сложил руки на коленях. Вскочил, удивившись невольно принятой позе терпеливого ожидания. Открыл холодильник, достал початую бутылку рислинга. Сделал несколько глотков из горлышка. Открыл кран, пустил воду. Вымыл зачем-то и без того чистые после горы посуды руки. Закрыл кран. Вытер руки об оставленный Ольгой передник. В открытое оконное стекло с хохотом ударялись отражения фар сентябрьских такси, как в пинболе проскакивая между таких же фантомов светофоров, квадратиков окон далеких домов — наискосок в самый угол рамы. Валентину стало совсем не по себе от этого нежданного ожидания того, чего он, что уж скрывать от самого себя, желал и предвкушал два месяца их знакомства. Они ходили вместе в кино, где он позволял себе время от времени в самые «страшные» моменты брать Ольгину руку в свою. Они обедали вместе в столовой. В конце концов, они раз пять уже поднимались с Илюхой на этаж к филологам и часами распивали с весёлыми подружками Ольгой и Надей красное терпкое «Саперави», заедая его сухим тортиком. В прошлые выходные они вдвоем с Ольгой ездили в Дмитров, где бродили по монастырю. На обратном пути Ольга задремала на плече у Валентина, и Валька всю дорогу дышал запахом её густых жестких волос. Когда вошли контролёры, он аккуратно, чтобы не пошевельнуться, вынул из нагрудного кармана билеты. Тётка контролёрша пробила их и, возвращая, улыбнулась: «Замаялась деточка. Ну, пусть поспит. До Москвы ещё полчаса». И этим простым словом «деточка» взорвало внутри у него небывалый заряд нежности, в мгновение разметавший все мысли кроме одной: «Люблю!»
Ольга появилась с двумя полотенцами в руках. — Я первая в душ. Потом ты. Придёшь, свет не включай. Хорошо?
Как всё просто. Как всё просто и так, как должно быть. Полотенце. Душ. Стоп! Валька вдруг испугался, что Ольга постелила им раздельно. Он вскочил с табуретки, на цыпочках прокрался по коридору и заглянул в комнату. Ночник на тумбочке. Диван у окна разложен и застелен одеялом. В ногах красный вязаный плед с кистями. В колонках чуть слышен Pink Floyd. На втором диване — Элькины подарки. Валентин затворил дверь и так же на цыпочках вернулся в кухню. Как же это здорово. И вместе с тем немного страшно.
Валька хоть и был избалован вниманием одноклассниц, но держал себя в нарочитой строгости. На дискотеки в клубе ходил редко, да и то, когда пацаны звали, а Валька понимал, что если не пойдёт, то станет мишенью для всяких подколов. На дискотеках он лихо танцевал под итальянцев и Антонова, но до завершающих «медляков» не оставался. На велосипед и к себе — в Ребалду. Девчонки писали ему записки, подсовывали в тетрадки или оставляли на столе в классе. И всё. Чёрт возьми! Да он ведь и целовался-то всего три раза в жизни. Первый и второй раз почти понарошку со студенткой-практиканткой на монастырском раскопе, а третий уже с Ольгой в лифте. Он вспомнил дышащий, опрокидывающий Ольгин поцелуй и почувствовал возбуждение.
Ольга легонько поскребла ноготками стекло кухонной двери, оповещая, что душ освободился. Валька затушил закуренную было сигарету и прошёл в выложенную кафелем Элькину ванную. На запотевшем стекле было выведено «Я тебя жду. О.» От этой надписи возбуждение только усилилось. Валька спешно выполнил несколько упражнений дыхательной гимнастики, скинул с себя одежду и залез под воду. Несколько секунд под ледяными струями отрезвили его начинающую внезапно хмелеть голову. Он растёрся полотенцем, стал одеваться, но вновь скинул с себя всё и просто обмотал полотенце вокруг талии.
Выключил свет на кухне, на ощупь вдоль стенки прошёл мимо комнаты, где Элька заперлась с кем-то своим, и открыл дверь гостиной. Ночник не горел. Полосы света от проезжающих где-то внизу машин чертили потолок. Валька кинул одежду на кресло, на цыпочках подкрался к дивану и приподнял край одеяла. В тот же миг Ольга обхватила его шею руками и уронила на себя.
— Где ты ходишь? Сколько можно полоскаться? Иди сюда. Иди.
Она стащила с Валентина влажное полотенце, швырнула его куда-то в дальний угол, и как он не пытался остановить что-то внутри себя, но уже через несколько секунд его гнуло и сотрясало в самой тайной Ольгиной глубине.
Теперь их кровать стояла в той же самой комнате, но у стены. Диваны давно отправились на дачу как потерявшие актуальность в связи с появлением «Икеи». Но полосы света всё так же ночами гонялись друг за дружкой по потолку. Разве что эротических воспоминаний не вызывали. На кухне появились посудомоечная и стиральная машины. Спальню, в которой теперь царила дочка, Эльвира перед самым отъездом оклеила модными блестящими обоями с бордюром. Они мерцали в свете переливающегося Варвариного ночника огромными нездешними цветами. Валентин даже про себя называл это место домом. Место, где с тобой и твоими близкими свершается всё самое лучшее, разве не дом?
Вдруг звонок из деканата. Это было сразу после окончания зимней сессии. Валентин работал в кухне, разложив на столе многочисленные ксерокопии журнальных статей. Ольга уехала в университет, оставив мужа разбираться с желаниями загрипповавшей дочери. Варька случилась спокойным ребёнком, не требовавшим особого к себе внимания. Она сидела в кровати и увлеченно раскрашивала фломастерами очередную книжку. Валентин продрался через скверный язык чужого наукообразия, наконец вычленив то, что ему казалось необходимым для собственной статьи. Поставив мысленно жирную запятую, он вышел покурить на лестничную площадку, когда услышал телефонный звонок. Выкинул недокуренную сигарету в окно и бросился в квартиру. Нужно всегда успевать схватить трубку раньше, чем это сделает Варвара, которая начинает разговор бодрым: «Никаво нет дома. До свиданя». Приглашение на получение ордера оказалось настолько неожиданным, что он только и промычал в трубку: «Ага. Спасибо. В понедельник заберу». Уже через миг до него дошло, что произошло настояшее чудо: им дали квартиру!
— Варвара Валентиновна! — он схватил дочку и подбросил под самый потолок. — У тебя появилось наследство!
Закружил девочку по комнате, положил на кресло, стал щекотать, смеясь вместе с ней.
— Вот это да! Вот это сегодня день! Где же бродит мама наша? Где же ходит мама наша? Как же маме нашей сообщить о таком чуде, когда мама наша забыла дома свой телефон? Мы маме сейчас будем звонить на работу. Будешь с мамой разговаривать по телефону?
Варька вытаращила на папу глаза и усиленно закивала головой вверх-вниз. Валентин набрал телефон Ольгиной кафедры, умоляя небеса, чтобы жена оказалась у себя, а не в библиотеке или в архивах.
— Кафедра. Соловьева, — голос жены, всегда очень официальный через провода.
Валентин дал трубку дочке.
— Здастуй, мама! — бодро прокричала в трубку Варвара.
— Молодец, — прошептал Валентин, — теперь спроси маму, сидит ли она.
— Мама, ты сидишь? Она сидит.
— Теперь скажи маме, чтобы она села покрепче.
— Мама, папа говоит, чтобы ты села покьепче.
— Скажи маме, что мы получили квартиру.
— Мама, мы получили квайтию. Папа, мама говорит «уя»!
Через неделю они имели на руках смотровую и ключи. Поехали после работы, позвонив в садик и предупредив, что сегодня заберут Варвару позже. Квартира оказалась в Перово. Они долго плутали какими-то улочками, пока наконец не нашли нужный адрес. Дом был только что сдан, и во многих квартирах спешно шли ремонты. Лифт ещё не работал. Молчаливые таджики сновали по этажам с мешками. На лестничных площадках стояли чьи-то не донесенные до квартир унитазы, упакованные в полиэтилен. Валентин с Ольгой поднялись на восьмой этаж и остановились перед крашенной суриком железной дверью с номером двести три.
— Валечка, представляешь, там, за дверью, — наш собственный дом! — Ольга взяла мужа сзади за локоть и положила подбородок ему на плечо. — Теперь у нас будет совсем другая жизнь. Совсем-совсем другая жизнь, чем была раньше. Ты к этому готов, муж мой любимый?
— А ты предлагаешь не открывать дверь?
— Дурак ты, Валька! Я тебе пытаюсь показать всю значимость этого момента, а ты идиотничаешь! Ведь это рубеж. За этой дверью — рубеж. Раньше мы с тобой были самыми натуральными московскими бомжами, разве что только с работой и регистрацией. А теперь у нас с тобой будет настоящее своё жильё, которое «мой дом — моя крепость». Неужели тебя это не заводит?
— В сексуальном смысле?
— И в сексуальном смысле тоже, — Ольга прижалась сильнее.
В этот момент соседняя дверь треснула замком и распахнулась. Пожилой мужчина с охапкой обоев в руках отшатнулся от неожиданности, увидев в темноте Ольгу и Валентина.
— Ох, извините. Я привык, что в этом конце коридора никого нет.
— Ничего-ничего, Это вы нас извините. Стоим тут, шепчемся, вместо того чтобы дверь открыть и войти. Мы ваши новые соседи.
— Эх, ребята, вы не мои соседи. Я тут только работаю. Кстати, ремонт делать будете у себя? Могу очень недорого помочь с отделкой. Качество хоть сейчас предъявлю. Посмотрите?
— А посмотрим, — согласился Валентин. — Оля, посмотрим качество?
Оля недоуменно взглянула на мужа.
— Давай. Давай посмотрим.
Мужчина осторожно примостил свою ношу на пол и сделал приглашающий жест.
— Здесь разуваться не надо. У меня полиэтилен постелен. Вот, смотрите, как обои поклеены в спальне, тут не смотрите, я ещё не доделал. Лучше бы они и не клеили сами ничего, чем лепить абы что на мокрые стены. Дом же с отделкой сдаётся, а отделка очень условная. Линолеум ужасный, положен прямо на бетон. Так мало того, что на бетон, они ещё предварительно даже не подмели. Куски цемента с орех под линолеумом. Всё содрал. Хозяева тот линолеум уже на дачу отвезли. Новый оцените, как положен! Ну? Красота же! Конечно, ламинат лучше, но захотели линолеум — их воля. Смотрите, как санузел сделан. Как плитка лежит. Уголочки все ровненькие, тут на клею у меня. Пол на кухне пробковый хозяева заказали, он ещё и с подогревом. Здесь всё выведено под посудомой. Разводки не было, понятное дело, я сам штробил, потом аккуратненько замазывал. Всё заизолировано, везде клемники. Краны, которые воду перекрывают, я поменял. У вас там, небось, такие же стоят, как и здесь были. Нужно менять обязательно. Неровен час накроются, соседей зальёте, потом деньги будете платить. Лучше такие вещи с самого начала предусмотреть.
— Да, — Валентин снял шапку, — очень качественно. А дорого берёте?
— Ребята, не дороже денег. Я же вижу, что вы люди не очень богатые. Договоримся. По московским меркам работаю практически задаром. Ну и, пока работаю, тут живу. Не пью совсем. Никого к себе, конечно, не вожу. Уже возраст не тот, не до глупостей.
— Извините, а вы не москвич? — Ольга сама застеснялась своего вопроса.
— Москвич. Ну, или в прошлом москвич. Бывший московский, теперь деревенский. Приехал сюда сорок лет назад в техникум. Здесь женился, здесь работал. Потом продал две комнаты в коммуналке, где мы с женой и ребятами жили. Ребята уже сами по себе. У каждого своя семья. Продал, купил огромный дом в деревне, за Новгородом. Я сам в Новгороде родился. Переехал. Теперь пять гектар своей земли. Там воздух целебный. Самое то для моего давления и язвы. Хозяйство завёл. Две козы, куры. Вообще, я профессиональный строитель, отделочник. Летом и там работы хватает — неподалёку садоводство. А зимой вот иногда в столицу возвращаюсь на заработки. У меня, дорогие мои, тридцать лет рабочего стажа. Не как эти урюки делаю. Я же понимаю, что нужно сперва, а что потом. И материалы все новые знаю. В магазины заезжаю, у продавцов спрашиваю, передачи всякие смотрю. Ну, как? Пойдём оценивать ваш фронт работ?
Длинный ключ с разлапистыми бороздками никак не хотел вставляться в замочную скважину в тёмном коридоре.
— Не торопитесь вы так, — рабочий добродушно улыбнулся и положил руку на плечо Валентину, — давайте я?
— Нет-нет, я сам. Просто первый раз эту дверь открываем. Мы же только смотровую получили.
— Так вы ещё свою квартиру не видали? Ну, дела! Это момент ответственный. Вы тогда сперва сами. А как налюбуетесь, то мне в звоночек позвоните, я и выйду.
— Какой деликатный человек, — шепнула Ольга Валентину на ухо, — ну ты, открывай же! Я сейчас описаюсь от нетерпения.
Замок дрызнул чем-то внутри и открылся. Валентин сделал шаг внутрь, протянул руку вдоль стены и нащупал выключатель. Под потолком вспыхнула лампочка, вкрученная в висящий на длинном проводе патрон.
— Ух ты! Валька, а здесь прихожая в два раза больше, чем в той квартире! И смотри, какой вход в комнату. Ого! Да тут двустворчатая дверь! — Ольга побежала по коридору на кухню и закричала уже оттуда: — Валька! Здесь с кухни выход на балкон. И кухня удивительная, кухня просто огромная! И раковина стоит, и плита есть!
Квартира оказалась даже больше, чем та, в которой они сейчас жили. Три комнаты: спальня, гостиная и маленькая детская. Кухня с двумя окнами на две стороны. Две кладовки, санузел, антресоль. Обои на стенах и вправду были поклеены скверно, со швами. Углы возле батареи уже топорщились. Линолеум во всех комнатах лежал одинаковый — светло-серый без рисунка. Ванная стояла стальная, эмалированная, раковина и унитаз — салатового цвета. Стены в ванной покрывала ядовито-зелёная краска.
— Как я посмотрю, обращались к самым крутым дизайнерам, — засмеялся Валька. — Очень смелое сочетание цветов и материалов. Ну, ничего. Жить можно. Только вот что самое сложное: каким же образом мы тут будем жить, если у нас с тобой даже кровати своей нет? Оль, ты на гладильной доске у меня поместишься?
— Валечка, я у тебя помещусь даже на подоконнике, если бы тут были подоконники. Нужно заказывать хоть какую-то мебель, причём срочно. И, по-хорошему, какой-никакой, а ремонт надо предпринять. Пусть бы обои только переклеить, в ванной и кухне плитку положить, да и по мелочам. А в остальном это просто хоромы какие-то.
— Плитку, — Валентин потёр подбородок, — На что мы всё это счастье покупать будем? Моего гранта хватит разве что на кровать, ну, может быть, на стол. Потом, ещё на что-то жить надо.
— А мы с тобой займем тысяч несколько на годик.
— Кто это нам даст тысяч несколько? — засмеялся Валька. — И как мы эти несколько тысяч станем отдавать?
— Ну, кто-нибудь же даст, — Ольга обняла Вальку и чмокнула в нос. — Вот, скажем, твой и мой нежно любимый Семён Эдуардович. Друг он семьи или вдруг?
Валентин сам вспомнил про дядю Сеню. Эскины уже десять лет как расселили свою коммуналку и теперь царили там безраздельно. Последний раз Валька с Ольгой заходили к ним в гости три года назад, ещё до рождения Варвары. Потом стало не до визитов. Да и смысл в этих «гостях», если кабинет Семёна Эдуардовича находится рядом с комнатой, где сидят Ольга с Людмилой. Иногда дядя Сеня являлся на факультет к Валентину. Щёлкал по клавишам стоящего на отдельном столике «Макинтоша» и разглагольствовал о том, что, на его взгляд, финансирование историков несоразмерно с финансированием филфака.
— Вот скажи мне, друг любезный и благороднейший из донов Валентин, какого чёрта у вас сейчас ведётся такое количество тем? Чем историческая наука на настоящем этапе её развития заслужила столько грантов? Я решительно отказываюсь понимать. Мы портим себе глаза над халтурными переводами, дерём глотки на экскурсиях, а вы тут жируете в архивах. Фантастическая несправедливость!
Всё это говорилось в шутку. Семён Эдуардович зарабатывал очень хорошо, читая лекции одновременно в ещё двух платных вузах. Помимо лекций числился он учредителем какой-то туристической фирме, откуда, судя по его XC90, тоже что-то «капало».
— Жить, пан Соловьёв, надо со вкусом, — назидал он как-то Вальке, когда после большого учёного совета они зашли в кабинет Эскина выпить кубинского кофе. — Ты, скажем, сидишь, уткнувшись в бумажки. А наука — это такой джаз постоянный. Нужно всё время синкопировать. Наука без авантюризма — чистой воды тягомотина. Шлиман, к примеру, раскопал Трою…
— Шлиман — не учёный, — возразил Валентин.
— Плевать, что не учёный. Важно, что раскопал. Важно, что ему это было интересно и теперь это достояние человечества. Он ведь слыл чистейшим авантюристом. А почему? Потому как не боялся делать неправильно, не боялся бросаться из крайности в крайность. Знаешь, каков был Ландау? У, брат, что он вытворял! Я недавно записки какой-то его ассистентки читал в журнале. Чистой воды порнография! И ведь гений. И ты чертовски талантлив, а воткнулся в академическую науку, как вилка в холодец. Увязнешь же. Я понимаю, что дочка, слава Богу, родилась, но нельзя же постоянно торчать на одном месте! Тебе нужно как-то разнообразить приложение своих интеллектуальных способностей. Смотри как я! Конечно, нехорошо себя в пример приводить, но всё же. Я и там успеваю поработать, и сям. И везде мне интересно, потому как всё это переключение. Известно же, — Семён Эдуардович хохотнул, — смена рода деятельности — лучший отдых. Хочешь, я тебя устрою, экскурсии поводишь для богатых идиоток? Сейчас это очень модно. Собираются нимфетки с Рублёвки и вместо того, чтобы по бутикам бегать, нанимают себе персонального экскурсовода на ночь.
— Это в каком смысле? — Валентин встрепенулся.
— Это не в том, в котором ты подумал. Про твоё пуританство уже по всей Москве слухи ходят. Это значит, что нанимают какого-нибудь достаточно уважаемого учёного, договариваются с музеем, и их пускают уже после закрытия. Эдакие закрытые просмотры шедевров русской и мировой культуры. При этом всё куртуазно, в каком-нибудь зале фуршет накрыт, шампанское, свечи, бутерброды с икрой, официанты. Всё по высшему разряду. Но чтобы до этого зала дойти, нужно прослушать краткий курс истории искусств, или, там, истории архитектуры, или ещё чего. Хороший бизнес, кстати. Я серьёзно. Могу устроить. Подготовишь парочку таких экскурсий, всякими шутками-прибаутками их расцветишь — самое то. Прекрасная смена деятельности плюс очень серьёзная прибавка к семейному бюджету. Отец твой, светлая ему память, между нами говоря, специально за свой счёт ездил в Гагры, в пансионат ВЦСПС, где после ужинов перед тогдашними профсоюзными бонзами читал лекции по истории допетровской Руси. Абсолютно не гнушался такими делами. Его отношение к себе как к учёному было весьма спокойным. «Наука не Бог, она не обижается», — говорил.
— Как-то не особо верится.
— А почему тебе не верится? Борис Аркадьевич насчёт заработать весьма не дурак был. Он справедливо считал, что от премии до премии слишком большой срок получается. И ещё неизвестно, получишь ты эту премию или нет. Опять же, коллектив сотрудников большой, тут не только от тебя одного всё зависит. Он с профсоюзами едва ли не первый эти циклы лекций начал. Потом уже появилась синекура Общество «Знание» с их смешными путёвками.
— Это что за общество такое?
— Нормальное такое общество. Проводились всякие концерты, диспуты, сеансы гипноза, а оформлялись как лекции от общества «Знание». Одна путёвка общества — семь рублей. Если ты, скажем, дипломированный специалист по теме лекции, то ставка — две путёвки, если кандидат наук — то четыре, если доктор — то восемь. За одну лекцию доктор наук мог формально получить шестьдесят рублей. Это половина зарплаты инженера. Хороший приработок. И никто не гнушался. Заработок — это заработок, а работа — это работа. Между этими двумя понятиями никогда нельзя ставить знак равенства. Вернее, так: интеллигентный человек редко смешивает эти понятия. Или ещё уточню: интеллигентный человек в нашей с тобой стране редко смешивает понятия заработка и работы. Так уж устроен мир. Ты, Валентин, молодец, что не бросил науку в девяностые. Сколько толковых ребят утекло! Согласен, сейчас кто-то из них ого-го. Но таких мало, тут надо удачу поймать. Остальные что? Взять твоего приятеля Воскресенского. Ведь талантливый парень. А кто он теперь? Обычный барыга от рекламы, а ты — учёный, носитель фундаментального знания. Только это твоё носительство не должно тебе мешать зарабатывать и содержать семью.
— Что-то вы, Семён Эдуардович, меня просто за ребёнка держите. Собственно, мне до возраста Христа недалеко, — Валентин достал сигареты и приоткрыл форточку, — я всё прекрасно понимаю. И докторская. Мне нужно закончить с докторской, а потом уже смогу себе позволить расслабиться.
— Отличник, — перебил Эскин, — я чувствую свою за тебя ответственность. Потому и позволяю себе вразумлять столь благородного и уважаемого дона. Про расслабиться после диссертации я от тебя уже слышал. Ты расслабился в ресторане после защиты, набил морды двум ни в чём не повинным гомосексуалистам и на следующий день уже уткнулся в свои таблицы. Прости, но, между нами, Ольга жаловалась Людмиле, что живёте вы, мягко выражаясь, небогато. Она тебе не говорит, ибо повезло дураку с женой. Тебе не говорит, а Людмиле сказала. На себя взгляни — ты в этой кожаной куртке ещё в аспирантуру поступал. Это сколько лет назад было? Оглянись! У тебя есть силы, талант. У тебя есть время. У тебя не может не быть времени, если ты взрослый и разумный человек. Переключайся иногда с науки на что-то иное.
— На пересказ богатым идиоткам российской истории?
— У меня создаётся впечатление, что я тебя вербую торговать наркотиками. А я тебя не вербую торговать наркотиками. Я предлагаю тебе зарабатывать деньги собственной профессией, приложив её к несколько… — Эскин защёлкал пальцами, подбирая слово, — короче, предлагаю тебе новую плоскость для приложения своих профессиональных знаний и умений. Содержать семью — вот первое предназначение мужчины. Наука, искусство, философия, религия — это всё потом. Первое — это содержать семью. Ты историк, ты меня прекрасно понимаешь.
— Я понимаю, но я когда-то очень давно для себя решил, что буду жить наукой. И зарабатывать буду наукой. У меня, дядя Сеня, с некоторых пор ощущение, что я за себя и за того парня живу.
— Илью имеешь в виду?
— Илюху. Это смешным кажется, метафизика всякая, но нас с ним двое. Делаю то, что он бы делал. И тут даже не идеализм. Тут необходимость, потребность.
— Именно что идеализм. Илья твой хотел стать всемирно известным учёным, а не книжным червяком. Жаль, парня нет, он бы тебе мозги на место поставил. Хороший был раздолбай. Возвращаясь к твоему отцу — если бы он был идеалистом, то ты и на свет бы не появился. Идеалисты живут по правилам, Борис Аркадьевич жил по вдохновению, согласно мощной своей натуре. У тебя натура такая же должна быть, только загнал ты её в футляр от флейты.
Валентин засмеялся. Он вдруг представил себе футляр от контрабаса, из которого торчат ноги Эскина.
— Что смеёшься?
— Может, и правильно говорите. Ладно, обещаю подумать над своим недостойным звания мужчины поведением.
— Вот! Что и требовалось понять. У тебя жена есть, есть дочь и есть мать. Ты к матери сколько лет уже не приезжал? Три года? А помогаешь ей?
— Всё, дядя Сеня, мне уже и так стыдно.
— Должно быть стыдно. Всё хорошее, дорогой мой Валентин, происходит в этом мире либо от большой любви, либо от большого стыда, согласно христианской парадигме. Ву компре ву?
— Уи, мон женераль!
— Марш к себе на факультет медитировать над графиком! Ищи в нём окна, увеличивай до дверей, выходи в эти двери и иди к умному дяде Сене. Дядя Сеня научит тебя жить.
Занимать денег Валентин ездил в один из январских вечеров, предварительно договорившись с Семёном Эдуардовичем. Воскресенский, обещавший составить компанию, в обычной для него манере в последний момент увильнул. Отзвонился и сослался на пробитое колесо. Нужно было ехать на метро. Валентин долго выбирал между портфелем и спортивной сумкой. Почему-то казалось, что десять тысяч — это сумасшедшая куча денег, которую везти в кармане просто неправильно. Он было сунул за пояс длинный охотничий нож в брезентовых ножнах, но одумался: ещё остановит милиция, примет за грабителя.
Вышел на Красных воротах и сразу попал в снегопад. Огромные как куски неба хлопья несло вдоль улицы. Продавщица пирожков, повернувшаяся к ветру спиной, стояла, похожая на вывернутого наизнанку китёнка. На пешеходном переходе гаишник помогал столкнуть к бордюру заглохший посреди проезжей части Golf. Он лупил перчатками по крышке капота, елозил ботинками в грязной жиже и щедро матерился на девицу с испуганными глазами. Та никак не могла понять, в какую сторону нужно выкручивать руль.
— Эй, уважаемый, — гаишник окликнул Валентина, — помоги толкнуть, а я покручу. Эта дура сейчас в бордюр въедет.
— Да форточку опусти, мать твою! Опустите форточку, девушка! — орал гаишник. — Опусти, я говорю! Я сам тебя выкручу.
Валентин упёрся рукою в стойку, толкнул и в тот же миг, поскользнувшись, со всей дури ударился коленом о мокрый асфальт, а скулой о бампер.
— Что, коза, доигралась? — заорал гаишник. — Техосмотр надо нормально проходить, а не покупать его. Я тебе сейчас наезд на пешехода с получением травм оформлю. Десять минут уже мудохаемся.
Валентин поднялся, помог дотолкать машину и встал у палатки отряхивать брючину. Гаишник, без слов хлопнув Валентина по плечу, пошёл к себе в будку.
Девушка в машине скроила извиняющееся лицо, сложив ладони в горсточку.
— Да ладно, — Валентин махнул рукой и, чуть прихрамывая, поспешил на зелёный свет. Тыльной стороной перчатки он дотронулся до скулы и понял, что, похоже, ударился сильно. Скула быстро опухала. «Отлично начинается вечер. Обратно на такси поеду, — решил он, — С такой рожей меня каждый милиционер посчитает своим долгом остановить». Наклоняя голову от летящего в лицо снега, Валентин миновал сквер перед зданием МПС, вышел на Новую Басманную и двинулся вдоль домов. У мостика он остановился, вдыхая сладкий и тоскливый дух железнодорожного дёгтя. Внизу медленно двигался состав. На параллельных путях зыбкой тревогой светились синие огни семафоров. «А мне никуда не надо ехать. Мне хорошо здесь. Я дома», — почему-то подумалось ему.
В подъезде Эскина установили домофон. Валентин набрал номер квартиры и услышал незнакомый женский голос:
— Кто там?
— Я к Семёну Эдуардовичу.
Ему открыли, и Валентин, отряхивая с воротника снег, побежал вверх по ступенькам. Дверь в квартиру оказалась незапертой. Изнутри раздавались голоса и смех. Он вошёл в прихожую и нос к носу столкнулся с Маринкой, держащей в руках тапочки.
— Заходите в дом, дорогой Валентин, — дурашливо-торжественно начала она, — я Марина, которую Вы совсем позабыли. Мы заждались вас и просим присоединиться к нашему… Ой, Валь, а что у тебя с лицом?
Валентин взглянул в зеркало и увидел, что скула не только отекла, но и окрасилась в синий цвет. Кроме того, переносицу пересекала царапина, а подбородок потемнел от грязи.
— Это, Мариша, следствие погодных катаклизмов в столице. Но если это тебе не кажется достаточным, можешь представить, что я защищал пожилую старушку от пятерых пьяных хулиганов. Это ты в домофон говорила?
— Я, кто же ещё? Погоди, а у тех хулиганов, как я понимаю, переломы и многочисленные травмы конечностей?
— Тех хулиганов, о моя юная принцесса, — сейчас опознают в морге. Ты же знаешь, что я не оставляю свидетелей своих подвигов.
— Ого! Сеня, Люда, тётя Света, тут Валентин пришёл. Он подрался! — заверещала Маринка и побежала по коридору в кухню.
— Ничего себе, — Людмила осторожно потрогала опухлость, — сильно болит?
Все участливо сгрудились вокруг.
— Не сильно. Заживёт. Не волнуйтесь вы так. Не дрался я. Банально поскользнулся. Машину помогал толкать. Всё нормально, умоюсь и порядок.
— Валя теперь мой герой! Он врезал пятерым бандитам, а ещё пятерых заставил есть землю и просить прощения, — защебетала Маринка.
— Дочь, уймись. — Семён Эдуардович нахмурил брови. — Эти твои фантазии уместны в малых количествах. И сколько тебе уже говорить, что он для тебя не Валя. Ладно, мы с мамой у тебя Сеня и Люда, но он для тебя либо дядя Валя, либо Валентин. Понятно, рыжая?
— Он Валечка-герой. Тарам-парам, говорите что хотите, а у каждой приличной девушки должен быть герой. Мой — Валечка.
— Благороднейший дон, прошу извинить недостойную дщерь мою. — Эскин изобразил глубокий поклон. — Эта паразитка-вундеркиндиха ещё совсем дитё. Думаю, что зря я согласился на эту авантюру с её поступлением. В пятнадцать лет оказаться среди наших обалдуев весьма опасно. С сигаретой тут её в сачке застукал. Чудом удержался, чтобы не всыпать.
Маринка поступила на филологический после девятого класса, выиграв две олимпиады и сдав экстерном все экзамены за десятый и одиннадцатый. Разрешение пришлось получать через РОНО, а потом ещё готовить специальный приказ деканата о допущении к экзаменам без аттестата. На потоке она сразу сделалась всеобщей любимицей. Однокурсницы не считали её соперницей в борьбе за сердца факультетских красавцев, потому окружили её практически материнской заботой. Иногородние приглашали к себе в общежитие, местные зазывали на тусовки в клубы. Семён Эдуардович поставил условие, что к нему и матери Маринка не бегает, живет обычной жизнью студентки и учится на общих основаниях. При этом декларировалось, что за посещаемостью никто следить не станет, но если юную филологиню не допустят к сессии, то мама с папой палец о палец не ударят, чтобы как-то этому поспособствовать.
Однако Маринка за первый семестр не прогуляла ни одной пары и сессию сдала на одни пятёрки. Обрадованный Семён Эдуардович по такому случаю решил отпустить дочку в Петербург на каникулы. Удачно, что Людмилина родная сестра Светлана гостила сейчас у них. Туда поедут вместе, а обратно Светлана обещала попросить мужа посадить девочку в вагон и дать соответствующие наказы проводнику.
Пока Валентин приводил себя в порядок в ванной, Маринка со Светланой сидели в гостиной на диване и разбирали подарки для питерских родственников.
— Валя, отведёшь девиц на вокзал? У Сени температура, не хочу, чтобы он на улицу выходил, — Люда подала выходящему из ванной Валентину свежее полотенце.
— Отведу, конечно. Надеюсь, что меня не заберут с такой раскраской.
— Не заберут. Я сейчас тебе на это место приклею пластырь. А человек с пластырем — это уже человек с легализованной солидной травмой. Можешь не переживать. Ты, кстати, замечаешь, какая у нас невеста? — Людмила, поймала проходящую мимо со свитером в руках дочку, прижала к себе и растрепала её и без того хаотичную причёску. — Вундеркиндиха. У тебя на примете никаких перспективных аспирантов нет?
— Люда, выучи новый текст! — Маринка затрясла головой и попыталась высвободиться. — Хватит уже меня сватать. Я сама разберусь. Тебя никто не сватал, а папу охмурила! — Девочка вырвалась, показала язык Валентину, хлестнула мать по спине свитером и убежала в комнату.
— Конечно, грубиянка, но хорошая, — Людмила наклонилась к Валентину. — Недавно в почту её заглянула. Писем от мальчиков не обнаружила. Сплошь от подружек. У неё в классе был ухажёр, но уже, кажется, не общаются. Она же большая вдруг стала, студентка, а он школьник-мелюзга.
— Сколько ей сейчас?
— Только что шестнадцать исполнилось.
Семён Эдуардович поманил Валентина в кабинет, где торжественно вручил конверт с долларами. Валька раскрыл рюкзак, потом повертел в руках конверт и сунул в карман.
— Правильно. А то как кооператор, с рюкзаком вместо кошелька. У тебя паспорт с собой? С регистрацией всё нормально?
— Нормально, не волнуйтесь.
— Ты когда будешь готов нести доброе и вечное длинноногим красавицам и красавцам?
— А как переедем, так и буду. Вы только мне подробнее расскажите, что от меня требуется.
— Это не на пять минут разговор. Нужно посмотреть планы экскурсий, календарный план, составить для тебя соответствующее задание на подготовку. Не бери в голову, справишься. Лекционный стаж у тебя приличный. В аудитории, рассказывают, ты орёл. А там люди что с дикого острова. Им всё интересно, ходят рты раскрывши. Главное, терминами сильно не загружать, стараться давать меньше фактической информации, а больше всяких историй вокруг фактов. Что-то среднее между передачами Вульфа и твоими лекциями. Это самый ходовой формат.
Вышли из дома. За то время, пока сидели у Эскиных, улицу совсем завалило снегом. Дворник с сосредоточенным лицом вёл неравную борьбу со стихией у ворот дежурной части. Валентин закинул за спину огромную Светланину сумку и предложил ей руку, но в рукав тут же вцепилась Маринка. Светлана улыбнулась, покачала головой и пошла вперёд сама.
До площади короткий путь вдоль путей, мимо заднего фасада Казанского вокзала. Нужно только спуститься по достаточно крутой лестнице. Скользкие неравномерные ступеньки норовили подставить подножку. Светлана шла впереди, держась за поручень. Маринка крепко сжала локоть Валентина, и ему даже почудилось, что девочка норовит прижаться к нему теснее. Дома вдоль железки напоминали задник декорации — такие же глухие и уныло нелепые. Окна не светились. На карнизах хмурились угрюмые снежные брови. За спиной у Маринки висел реквизированный у Валентина рюкзак, куда та побросала свои вещи. Валентина позабавило, что она даже разрешения не спросила. Просто подошла, взяла из рук, заглянула внутрь, убедилась, что пустой, хмыкнула что-то вроде «то, что нужно» и убежала в свою комнату. Забавная девочка у дяди Сени получилась. Она и маленькая была забавная, а сейчас и подавно. Главное, чтобы не испортили, не задурили голову. Он подумал о своей дочке, о том, что та сейчас совсем крошка, потом будет расти, потом станет такой, как Маринка. А потом он начнёт сходить с ума, если дочь задержится у подружек или попросту не позвонит. Валентин вспомнил, как однажды в самом начале мая Кирка не пришла вовремя домой со школьной дискотеки. Для Вальки и Киры опоздания никогда не считались возможными. Мать приучила приходить домой или вовремя, или раньше. Пожалуй, что это была единственная строгость в их воспитании. Всё остальное дозволялось. Даже в школу мать разрешала не ходить, если очень не хотелось. Особенно зимой. Особенно когда всю ночь в трубах завывал ветер, а утренняя машина до посёлка так противно гудела у их дома. Но возвращаться вовремя для матери считалось чем-то вроде проверкой на любовь. Мои ли ещё дети? Так ли они торопятся домой, как торопятся на свои прогулки и посиделки с друзьями-подругами? И когда Кира задержалась с дискотеки больше чем на час, мать не на шутку встревожилась. Нет, она вполне могла позвонить по телефону в школу или больницу, где дежурил кто-то из её знакомых. Позвонить и попросить, чтобы посмотрели, всё ли там хорошо с дочерью. Но, видимо, для неё не это было важным. Она не волновалась, что с Кирой может случиться нехорошее. На Острове до начала туристического сезона вообще мало что случается. Ей было необходимо, чтобы Кира вернулась сама. Нужно было доказательство, что дочка ещё своя, ещё домашняя, ещё её ребёнок, а правила, установленные в семье, пока ещё важнее желаний и соблазнов. Кира, к её чести, в тот раз опоздала совсем не намеренно. Слетела цепь, она упала с велосипеда, разбила колено и, сдерживая слёзы, прохромала пять километров до Ребалды пешком, держась за руль. «Надо поехать к матери в этом году», — твердо решил он. И не потому, что матери нужно помогать. Васька, в конце концов, всегда рядом с ней, а на него можно положиться. Просто нужно, чтобы мать могла поговорить с сыном. И не так, созваниваясь раз в неделю. Просто посидеть рядом и поговорить.
У стены напротив Казанского вокзала расположились таборком пакистанцы. Они лежали на матрасах в коробках с выломанными днищами или, уже почти занесённые снегопадом, липли друг к другу как пельмешки с торчащей начинкой. Даже сквозь густой снежный бульон с клёцками от них густо и нечисто пахло бедой и покорностью. Комок тел у самой стенки заворочался и плюнул под ноги Валентину с Машкой чумазым ребёнком, протянувшим к ним руку.
— Валечка, дай мальчику денег, — попросила Маринка.
— Это не мальчику денег, это тем дядям, что в коробках сидят, — ответил Валентин, но всё равно сунул руку в карман, нащупал там десятку и протянул ребёнку. Тот схватил её и мгновенно нырнул обратно.
— А теперь пойдём быстрей, пока ещё с десяток таких же не набежало.
— Мой герой боится малых детушек? — Маринка с изумлением взглянула в лицо Валентину, и тот почувствовал, что ему стало стыдно за свою обывательскую слабость.
— Твой герой боится, что вы опоздаете на поезд, пока он будет окормлять сирых и убогих.
— Заботливый мой, — Маринка сильнее сжала локоть Валентина. — Тогда побежали быстрее, тётя Света уже вон где.
Светлана действительно оторвалась от них метров на сто и теперь поджидала на пешеходном переходе.
— Принцесса, а почему ты маму называешь Людой, папу Сеней, а тётю — тётей Светой?
— А ещё я называю тебя Валечкой.
— Про меня понятно, так мама твоя меня называет.
— Тогда что тебе непонятно? — в её голосе появилась хитреца. — Мама папу называет Сеня, папа маму — Люда. а я что, рыжая?
— Рыжая, конечно, — засмеялся Валентин, — ты же рыжик. Просто я никогда не слышал, чтобы родителей дети звали по именам.
— Ты много чего не слышал. Например, ты не слышал, что девочки могут рожать в двенадцать лет. А мне уже шестнадцать.
— Ты это к чему? — Валентин почувствовал напряжение.
— Ни к чему. Это я просто так. К тому, что я акселератка и у меня всё быстрее и раньше, чем у других.
— Маринка, ты не беременна часом?
— Дурак!
Она отпустила руку Валентина и зашагала рядом, демонстративно сопя и явно дуясь.
— Тогда я не понимаю, к чему этот разговор про беременность.
— Я сказала, что дурак.
— Принцесса, ведите себя прилично. Если назвали меня своим героем, то не выходите из роли.
— Балбес! — Сложно с тобой, ребёнок.
— Я не ребёнок!
— Хорошо, не ребёнок. Но ведёшь себя как ребёнок.
— А ты ведёшь себя как дурак.
— Сама ты дурочка, — неожиданно для себя ответил Валентин.
— Ах так? Прекрасно, тогда я тебе не скажу, что хотела сказать.
— И пожалуйста.
— Ну и пожалуйста! — Маринка пустилась бегом к пешеходному переходу. Там она обхватила Светлану за руку, повернулась к Валентину и показала ему язык.
Они миновали площадь и, не заходя внутрь вокзала, прошли к поездам. Светлана достала билеты и обрадовалась, что у них шестнадцатый вагон. Однако идти пришлось в самый конец перрона. Нумерация начиналась от Москвы. Проводница, не отвлекаясь от телефонного разговора, взглянула на них и кивнула — мол, заходите. В вагоне оказалось изрядно натоплено. Валентин отыскал нужное купе, убедился, что попутчицами у девушек оказались две пожилые интеллигентного вида дамы, загрузил сумку под полку и стал прощаться. Светлана подала руку, поблагодарила за то, что проводил и пригласила приехать в гости с женой. Маринка, скинув рюкзак, резко повернулась к Валентину, заглянула ему в глаза, вдруг приподнялась на носках, обняла за шею и поцеловала в подбородок.
— Мой герой!
— Маринка, меня примут за педофила, — укоризненно и нарочито громко сказал Валентин, обращаясь скорее к пожилым соседкам. Ему стало неловко от неожиданного проявления Маринкиной сексуальности.
Та словно почувствовала Валькину неловкость, повернулась к женщинам и, широко улыбаясь, выдала сакраментальное:
— Я акселерат. Мне можно. Помимо этого, я уже пересекла границу возраста сексуального согласия. Для меня это точка невозврата. А для вас?
Новоселье праздновали на Пасху. Воскресенский любезно предоставил под переезд свой Patrol. За три ходки все вещи оказались на новой квартире. Варвара с визгом носилась по коридору, путаясь у всех под ногами, и время от времени запрыгивала на новую двухэтажную кровать. Эту кровать Валентин собрал накануне из шведского конструктора вместе со столом, тумбочкой, полками и тремя книжными шкафами. Теперь его пальцы со свежими мозолями украшали полоски пластыря. Надюшка с мужем на кухне привешивали дверцы к купленному уже сегодня кухонному гарнитуру.
— Молодёжь! А ну, все ко мне вниз помогать! — Дядя Сеня появился неожиданно в компании Людмилы и Мариночки и торжественно внёс в прихожую запакованный в полиэтилен торшер. — Отличник, я твои книги притаранил. Чуть амортизаторы на дороге не оставил. Ты что, филиал библиотеки собрался открывать? Если бы я знал, что там два шкафа, точно не согласился бы. Оля, ты в курсе, что твой муж втайне от тебя все эти годы скупал в книжных магазинах самые тяжёлые книги?
— Семён Эдуардович, мой муж — гений. Ему позволительны некоторые слабости.
— Ольга, во-первых, слабости для мужчины — это карты, вино и женщины. А книжное стяжательство — это не слабость, а безумие, которое надо лечить либо медикаментозно, либо картами, вином и женщинами. А во-вторых, ты к нему излишне нетребовательна. Забаловала мне парня.
Спустились во двор. Оказалось, что Эскин припарковался у гаражей метрах в пятидесяти от подъезда.
— Эскузе муа, но ближе мне не подъехать, — оправдывался дядя Сеня, — тут какой-то альтернативно одарённый своё ведро поставил так, что мне на нормальном автомобиле и не протиснуться.
Он указал на припаркованный в метре от бордюра Patrol Воскресенского.
— Семён Эдуардович! Не называйте мой автомобиль обидными словами.
— Ах, это вот кто у нас нарушает правила парковки на дворовых территориях! Ну правильно. Недоучившийся аспирант. Пария. Отщепенец отечественной науки.
— Семён Эдуардович! — взмолился Воскресенский, — ну опять вы за своё. Ну, хотите, я сдам кандидатский и напишу эту чёртову работу?
— Нет уж, дорогой мой. Вам теперь наука противопоказана. Своей диссертацией вы нынче дорогу молодым талантам перейдёте. Оставайтесь, как и были, неучем. И переместите своё ведро, — он сделал ударение на этом слове, — на тридцать сантиметров к западу, ближе к любимой вами Америке.
Пока перетаскивали пачки с книгами, наверху накрыли стол, установили музыкальный центр и прикрутили подаренную Надюшкой люстру. В духовке наливалась карибским загаром утка. На плите потела латка с грибным гарниром. Запахи пищи торжественно вступали в морганатический брак с запахами свежего ремонта. Пришедший последним Валькин аспирант Григорий стремительно уронил в прихожей стеклянную банку с солёными огурцами. Квартира теряла невинность, превращаясь в жильё.
Потом хором подпевали Семёну Эдуардовичу: «За милых женщин, чёрт возьми, готов я пить крамбамбули. Крамбам-бим-бамбули. Крамбамбули». Эту песню частенько горланил Илюха. В каникулы после первого семестра он съездил домой и вернулся с огромным немецким аккордеоном. Всякий раз, крепко поддав, Илюха усаживался в общежитском коридоре, приваливался к батарее, раздвигал меха инструмента и заводил: «За то монахи в рай пошли, что пили все крамбамбули». Нервные пятикурсницы кидались в него тапками и прибегали к Валентину в комнату с просьбами «заткнуть это радио». Вообще, Илюха имел в общаге авторитет с самых первых дней поселения, когда возглавил битву с комендантшей за электрические чайники. К тому же благодаря его огромному росту и зверской наружности утихомиривать Илюху охотников не находилось. Но Валентина он слушался. Между ними установились столь искрение и доверительные отношения, какие возникают только в юности с первыми глотками собственной свободы и самостоятельности между симпатичными друг другу людьми. Их было двое. Во всех компаниях, в прогулках по ночной Москве, в стычках со шпаной на Гоголевском бульваре, в утренних пробежках до Нескучного сада и даже в походах к Ольге с Надюшей. Илюха, глядя на товарища, не то из солидарности, не то действительно волею чувства начал ухаживать за прекрасной Ольгиной соседкой. На экзамены Валентин с Илюхой взяли за правило заходить первыми из потока, к чему все быстро привыкли и занимали очередь уже за «академиками».
Воскресенский прописался в ту же комнату, что и друзья, но жил у родственников. Его кровать стояла вакантной для всевозможных гостей. Время от времени он неожиданно являлся в компании очередной смазливой фарцовщицы и жизнерадостно скрипел пружинами, пока друзья, укрывшись с головой, делали вид, что крепко спят.
— Свободная любовь — это хорошо, — разглагольствовал Воскресенский как-то утром, проводив очередную подругу мимо вахты и теперь с аппетитом поглощая со сковородки яичницу. — Запад пережил сексуальную революцию в шестидесятых. Теперь настала наша очередь. Общество нуждается в очищении от лишних идей, избыточного морального давления, матримониальных иллюзий. Секс такое очищение даёт в полной мере. Социальный имидж современного человека не может зависеть от того, с кем он спит: вон идёт жена такого-то, а это сидит муж такой-то. Это феодализм. Это несовременно. Брак даёт иллюзию стабильности, а на самом деле лишает человека права ежеминутного выбора. Зачем отягощать собственную совесть терзаниями адюльтера, если можно жить без адюльтера и без брака? Всё должно быть легко, по взаимному приятию и к взаимной радости. Общество всё время норовит самоорганизоваться за счёт семьи и семейных ценностей. Ему нужно лишить человека лишних степеней свободы. Вначале граница семьи, потом граница государства. И то и другое противно человеческой натуре. Семья — это идеология. Такой исторический нонсенс. Анахронизм. Мало того, семья вредна для самой популяции. Вот, скажем, я…
— Вот, скажем, ты, — хором повторяли Илюха и Валентин.
— Да, скажем, я. Я жениться не собираюсь.
— Вообще?
— Возможно, в очень отдалённом будущем, когда изменю свои взгляды под влиянием возраста, социального положения или из меркантильных соображений. Я настолько сильно люблю женщин и в женщине настолько сильно ценю личность, что не могу себе позволить эту личность каким-либо образом подавить, тем паче с использованием механизмов института брака. Я ведь отдаю себя без остатка. И стараюсь её взять без остатка.
— Это мы заметили, — хмыкнул Илюха.
— И не стоит иронизировать. Для меня это очень серьёзно. Заметьте, то, что я привожу девушек сюда, — это моё к вам абсолютное доверие. Я не считаю, что занятие сексом подразумевает герметичную отстранённость внутри социальной среды. Это же нормально, естественно, это определено анатомическими особенностями женского и мужского организмов. Стесняться заниматься сексом глупо. К чему это ханжество? Другое дело, если коитус излишне шумен, мешает людям сосредоточиться, заснуть или что-то ещё. Это я понимаю. Это нормально. Это как раз нормальная регуляторная функция общества — взять и сказать: «Андрей, потише, бля!» И Андрей услышит общество и сделает всё тихо как мышка, потому как охать и грохотать для того, чтобы насладиться друг другом, совершенно необязательно.
— А по-моему, Дрюня, ты разводишь здесь откровенное блядство и пытаешься его оправдать лажовой философией. У тебя так всё в кучу намешано, что даже непонятно, что тут нужно опровергать в первую очередь, — Илюха потянулся на кровати и взъерошил волосы.
— Ничего не надо опровергать. Хорошо. Допустим, что нет у меня никакой теории, а есть только ощущение того, что теория существует. Я её открываю эмпирическим путём. Провожу сложный, изнурительный, многодневный эксперимент на самом себе. Вы как будущие учёные, пусть и гуманитарии, должны отнестись к этому с пониманием.
— Нахал, — Илюха сел на кровати и смачно почесал загривок, — точно нахал. Но хрен с тобой, Дон Жуан. Трахайся ты сколько хочешь. Меня это, на самом деле, не касается. Валентин, тот вообще спит так, что его из пушки не разбудишь. Но только не грузи нас своими теориями. Скажи просто: люблю баб. И нормально! Это «люблю баб» мы понимаем. А как там это у тебя: «Герметичная расслоённость внутри среды»?
— Отстранённость, — поправил Воскресенский.
— Ну да, отстранённость. Это ты для этих баб, которых трахаешь, прибереги. Им лапшу на уши вешай. Мы с Валькой люди простые, из русской глубинки. У нас за герметическую расслоённость можно и по морде схлопотать на всякий случай.
— Вы чего, ребята, обиделись, что ли? Вам западло, что мне хорошо, что я люблю девок, а они меня?
— Как раз наоборот. Нас это радует, — Валентин спрыгнул с кровати и стал посреди комнаты, разминая позвоночник. — Мы ничего против мочалок твоих не имеем. А даже имеем «за», хотя, конечно, не в таких количествах. Мы, как бы тебе сказать, за честность в отношениях.
— Во-во, не звезди, короче, лишнего. И будет тебе в жизни счастье, Дрюня, — заржал Илюха.
— Ребята, я не понял, — Воскресенский отодвинул сковородку. Лицо его выражало недоумение.
— Хорошо. Объясняю. — Илюха тоже вылез из кровати, нашарил в кармане висящих на стуле брюк сигареты и уселся на подоконник. — Это комната — такая же твоя, как и наша. Ты имеешь права в ней находиться. Мало того, ты имеешь право делать в ней всё, что тебе заблагорассудится, в пределах разумного. Хочешь трахать баб? Трахай баб. Хочешь трахать мужиков — трахай мужиков, хотя лично меня вырвет.
— Тогда в чём дело?
— Дело в том, что не надо уподобляться большевикам и подводить теории под весь бардак, который творишь. Будь проще. И не кривляйся перед друзьями. Мы тебя всё равно видим насквозь.
Воскресенский после того разговора не появлялся месяца два. Потом стал приходить снова, но теперь к каждой размалёванной дурочке прилагалась бутылка бренди «Слънчев бряг» или пара бутылок «Ркацители», которые тот со значением выставлял на стол. У друзей это называлось «Воскресенский пришёл герметично расслаиваться». К весне он женился на забеременевшей от него носатой студентке МИСИ и приходить перестал. Теперь Воскресенеский был женат уже в четвёртый раз. В активе у него имелось трое детей, что серьёзно подрывало бюджет семьи нынешней. Последняя жена — Лариса, которую Валентин видел всего один раз — на свадьбе и которая Валентину категорически не понравилась, пилила Воскресенского, закатывала скандалы и ревновала. Как назло, работали они вместе. Мало того, Ларису недавно назначили директором департамента, то есть Андрюшкиным начальником. По этому поводу Воскресенский много пил, ходил с серым лицом и частенько приезжал к Вальке с Ольгой жаловаться на жизнь.
— Человек в браке фатально несвободен, — говорил он, налегая, на приготовленный Ольгой обед, — брак лишает человека социальной альтернативы. Он посягает на самое личное, что у него есть и чем он, по сути, даже не может управлять — на либидо. Запад придумал синенькие таблетки не для того, чтобы мужчинам было хорошо. Это чистой воды лукавство, направленное на сохранение брака, в то время как этот институт переживает один из самых фатальных своих кризисов за всю историю постхристианского общества.
— Обоснуй, теоретик, — Валентин разливал по маленьким рюмочкам коньяк и весело смотрел на приятеля.
— И обосную. Брак — это форма гражданского договора, охраняемого вначале церковью, а потом и государством. Влияние церкви на общественную жизнь, на законодательный процесс в западном мире минимален. Россию я тоже отношу к западу, по крайней мере, в этом вопросе. Клерикализм давно ушёл в прошлое. Однако общество до сих пор делает ставку не на человека как личность, как простейшую монаду социума, а почему-то на нестабильную, неустойчивую молекулу семьи, которую пытается защитить. Что именно в этом вопросе так важно для государства? Ответ простой — прирост населения. Однако социальная система уже сейчас готова к тому, чтобы способствовать нормальному воспитанию — как семейному, так и внесемейному. Европа же вырождается. Там прекратили рожать. Им скучно заниматься рождением детей, потому что это скучно делать с одной и той же женщиной. Освободите личность, дайте ей право существовать во всём многообразии гендерного начала. Возьмите на себя обязательство по сопровождению этих гражданских соглашений. Вы удивитесь, как увеличится население. Кроме того, в далекой перспективе это решение проблем стариков. Законодательно можно закрепить налоговое бремя детей в пользу их биологических родителей, которое, накладываясь на бюджеты пенсионных фондов, даст человеку уверенность, что его старость окажется обеспеченной. Надо вырвать человека из порочного круга: у меня нет детей, потому что я не могу их себе позволить, и я умираю в нищете, потому что у меня нет детей, которые поднесли бы мне стакан виски.
— Эх, Дрюня, — Валентин хлопал Воскресенского по плечу, — как был ты теоретиком, так им и остался. Слова твои расходятся с собственной практикой.
— Ну, Валька, ну ты же знаешь мою историю! Я жертва обстоятельств, — кипятился Воскресенский.
— Знаю-знаю. Это история герметичного расслаивания.
— Совести у тебя нет! Лидка тогда меня на беременность поймала. А я вообще не уверен, что это мой ребёнок. Ты видел эту дылду? Это же гренадёр, а не девочка. А Лидка плюгавая, и я тоже не гигант. Я скорее поверю, что это Илюхина дочка.
— Придумаешь тоже.
— Понятно, что не Илюхина. Я для примера привёл, чтобы ты масштаб оценил. Я её с тренировки встречал накануне дня рождения. Валька, она на голову меня выше! А потом, Лидка — стерва и мерзавка. Она же меня и бросила. Если бы не Ленка, я бы тогда точно руки на себя наложил.
— Ты руки на Лену наложил, да так, что она тебе двойню родила.
— Ленка — это святое, — Воскресенский заулыбался. — Это была любовь без всякого брака. Если бы в очередь на квартиру не вставали, мы бы и не женились. Возможно, что так бы сейчас и жили. Ребята у меня славные. И вообще, у нас прекрасные отношения с ней. И всегда были прекрасные отношения.
— Даже тогда, когда она приехала из отпуска с больными дизентерией Андреичами, а ты в это время…
— Каюсь. Свинья. Но я же и говорю, что брак противен человеческой природе. Природа захотела любви, радости, ласки. Что в этом такого удивительного? Мне, знаешь, и по сей день как-то неловко из-за банальности ситуации. Ленка же меня прекрасно понимала. Я, например, слова ей не сказал, что она в отпуск поехала не с мужем и детьми, а с детьми и мужем подруги. Тот, конечно, тоже с детьми, но это же мужчина. Допускаю, что у них там что-то такое на юге было. И что? И нормально. Это никак не мешало бы нашим отношениям. Вообще, Ленка просто предлог нашла, чтобы меня унизить. А не было бы брака, так и не было бы никакого адюльтера.
— Идеалист ты. Или дурак.
— Лучше идеалист. Так не обидно.
— Андрей, Лена твоя — святая, — Ольга выключила газ под голубцами, сняла передник и присела с сигаретой у холодильника. Она звонит мне иногда, и ни разу про тебя плохого слова не сказала. И Дурнова тоже.
— Дурнова — это ошибка. Это настоящая ошибка. Имею право.
— Ошибка, что ты на ней женился или что ты с ней развёлся? — встрепенулся Валентин.
— И то и другое. Нельзя жениться на женщине, от одного вида которой у мужиков начинаются эректильные позывы. Её хотел весь университет. Оль, ты сама же всё видела. Каждый раз кто-то новый провожал, пока я на работе.
— Зачем женился тогда, если знал, что так оно и будет?
— Говорю, что по ошибке.
— Как можно жениться по ошибке? — Ольга удивлённо смотрела на Воскресенского.
— Элементарно! Нас с ней по ошибке поселили в один номер, когда мы в Ялту на конференцию ездили.
— И по приезду вы сразу подали заявление, — рассмеялся Валентин.
— Говорю — по ошибке. Роковая случайность.
Когда переносили вещи из джипа Воскресенского, тот успел поведать Валентину, что у жены нынче бурный производственный роман с финансовым директором. Все знают и смотрят на Воскресенского участливо. А тот делает вид, что ему эта ситуация глубоко параллельна.
— Представляешь, они уже два раза в Питер ездили якобы на подписание. Я понимаю, что этот едет по делу, но Лариска там зачем? Возвращается довольная, сука, активная. Третьего дня говорю: «Я хочу понять, что между нами происходит», а она мне: «Между нами ничего не происходит. Происходит всё в другом месте. Так что можешь собираться и уматывать».
— А ты что? — Валентин стоял в лифте, держа в руках пылесос.
— А что я? Собрал манатки, отвёз к тётке на квартиру.
— Больше жениться не будешь?
— Больше точно не буду. Хватит. Ещё и работаем вместе. Уйду, нафиг, в другое агентство. Спецы моего уровня на дороге не валяются. У меня одних топовых клиентов два десятка.
Валентин подумал, что при всей своей дурости Воскресенский безобиднейший тип. Простак, сильнее которого оказывается любая женщина. Пытается создать имидж покорителя женских сердец, а сам волокита. Друзей за всеми своими романами растерял. Вот, к ним с Ольгой прибился. Они же плотно только последние годы начали общаться. Оказалось, что Воскресенский даже талантлив. Однажды принёс целый диск с роликами, снятыми по своим сценариям. Почти все Валентин раньше видел в телевизоре, но не знал, что это работы Андрея.
— Монстр, — сказал Валентин, когда диск закончился
— А то! — гордо хохотнул Воскресенский. — Есть что предъявить человечеству. Вообще, хочу кино сделать. Деньги только найду и обязательно сниму. У меня даже синопсис есть.
— Что у тебя есть?
— Всё у меня есть, только денег на кино нет. У тебя как там со знакомыми олигархами?
— Кроме тебя никого, — засмеялся Валентин.
— Жаль, — совершенно серьёзно опечалился Воскресенский, — И у меня нет. Не с теми мы дружим. Не с теми и не по тому поводу.
— Как можно дружить по поводу? — удивился Валентин. — По поводу — это уже не дружба, а пользование.
— Брось ты. Все друг другом пользуются. Чем больше пользы, тем крепче дружба.
— Хорошо, а у нас как с тобой?
— У нас с тобой тоже польза. Я с тобой дружу, потому что вы с Ольгой мне не даёте сойти с ума и слушаете мое нытьё. Кстати, я ценю, не думай. Ты со мной дружишь, потому что тебе со мной интересно. Я прекрасный собеседник и душа компании.
— Мне кажется, что это не повод.
— Это повод, но это не тот повод, по которому сейчас принято дружить. Например, повод — это когда есть общий интерес по поводу огромных денег или в одном клубе по утрам в теннис игра, или общий бизнес, связи, возможности. Мы с тобой дружим, потому что у нас равные возможности, хотя у меня есть машина, а у тебя нет машины. Но ты, чисто теоретически, можешь купить. А я теоретически, если сильно напрягусь, могу заработать на квартиру в области. Если бы я мог заработать на самолёт, то я бы с тобой не дружил. И не потому, что мне с тобой было бы как-то особо противно дружить, а потому что я больше времени уделял бы людям, которые тоже могут купить самолёт, или тем, у которых самолёт уже есть, а они собираются купить пароход или остров небольшой. Мы бы играли с ними в гольф, а потом на бирже. А на разговоры про жизнь у меня бы времени не оставалось. Ты бы мне звонил, а я был бы занят. Ходил бы на всякие приёмы, тусовался в модных местах на халяву. Ты знаешь, что чем больше денег, тем меньше ты их тратишь? Богатых людей кормят бесплатно, так же бесплатно их и развлекают. Нужно только одеваться прилично.
— Мечтаешь стать своим среди олигархов? — удивился Валентин.
— Поздно уже. Раньше надо было становиться. Теперь поздно. Теперь надо успевать урвать своё у тех, кому сейчас двадцать — двадцать пять. У этих, конечно, опыта никакого, но зато ни стыда, ни рефлексий. Поэтому и говорю, что снимать кино надо. Если повезёт, автоматом в бомонде окажешься, а олигархи сами твоей дружбы искать будут, чтобы тёлок своих в кино снять. И тут замкнутый круг. Денег нет — кино не снимешь, кино не снимешь — денег не получишь.
— И что ты им кроме опыта можешь противопоставить?
— Меня любят женщины.
— А их не любят?
— Нет. Ты не понимаешь. Меня женщины любят сразу, как только видят. Я внушаю им одновременно материнские и сексуальные чувства. Это такой природный дар. Во мне есть что-то, о чем они всегда мечтают. Потому если решение у заказчика принимает женщина, то это мой заказчик. Стопроцентная гарантия результата.
— Значит, твоя аудитория — жёны богатых людей. Тут тебе и деньги на кино.
— Думал я над этим, — Воскресенский печально посмотрел в глаза Валентину, — опасно. Убить могут. А у меня дети.
7. Татьяна
Поезд опаздывал. Проспал на каком-то полустанке больше положенного, теперь останавливался каждые тридцать минут, пропускал составы, идущие по расписанию. Уже в Москве, на подъезде к вокзалу замер на час. Вздыхал и вздрагивал, потеряв интерес к дороге. Татьяна через запотевшее окно разглядывала мокрую от дождя крышу пакгауза, освещённую жёлтым светом одинокого фонаря. Попутчики обречённо играли в подкидного дурака. Где-то на вокзале ждал Борис. Татьяна представила себе, как он ходит по перрону и нервно хлопает по бедру свернутой в трубку газетой. Он, наверное, в плаще, какие сейчас модны: светлом с поясом. И в шляпе. Она помнила его фотографию в шляпе с широкими полями на ступенях Университета. Хорошая фотография. Вот сейчас он подходит к окну справочной: «Девушка, не подскажете, мурманский надолго опаздывает?» А ему в ответ: «Мужчина, следите за табло. Там всё написано». И он смотрит на табло, вышагивает по залу, то и дело посматривая на часы, словно время на наручных часах идёт быстрее.
Прислал телеграмму: «приезжай москву четырнадцатого». Она ждала эту телеграмму. Прислал за три недели, чтобы Татьяна успела оформить отпуск. На следующий день в магазине подошёл Чеберяк и предложил вяленой рыбы
— Татьян, рыбу у меня брать будешь? Лучший гостинец из наших мест.
— К чему мне рыба? Видеть уже её не могу, — пыталась она слукавить.
— Ты же в Москву собралась. Привези своему профессору.
— Откуда взял про Москву?
— Ну, мать, как не на Острове живёшь. Будешь брать или нет?
Накануне отъезда Чеберяк приехал на газике в Ребалду. Зашёл к Татьяне, положил на кухонный стол несколько рыбин, завёрнутых в крафтовую бумагу. Выпил чай с пирогом и, краснея, вынул из кармана пиджака вручную точённый можжевеловый мундштук с двумя каменными и одним медным кольцом.
— Сувенир для Бориса. Скажи, мол, тёзка передал. Он обрадуется.
— Борис Иванович, вы меня смущаете.
— Не смущайся. Всё нормально. От людей хорошее не стоит скрывать. Людям хорошего всегда не хватает. А скрывай не скрывай, всё равно языками треплют. Пусть уж лучше завидуют. Здесь зависть белая — северная. К тебе на Острове особое отношение. Мужиков ни у кого не уводила, добром на зло отвечала. Ребёнка одна тянешь. Сама сирота. Кто о тебе нехорошо скажет?
— Спасибо, Борис Иванович, — Татьяна почувствовала навертывающуюся слезу и спешно отвернулась, изобразив внезапный интерес к плите. — Я сглазить боюсь.
— Сплюнь, а лучше перекрестись, на святой земле живёшь. И не бойся ничего. Плохого с тобой уже достаточно случилось. Теперь должно только хорошее.
Татьяна почувствовала в словах участкового какой-то особенный смысл и вдруг с ужасом поняла, что тот ЗНАЕТ. Она повернулась к Чеберяку и встретила взгляд его спокойных карих глаз.
— Не бойся. Не скажу никому. Я всё понимаю. Понимаю, почему в милицию не пошла. Лидка мне поведала. Ещё тогда, когда ты у неё отлеживалась. Волнуется за тебя. И на неё не греши. Ей с этой тяжестью в сердце не пережить самой было. Я, как никак, друг семьи. Так что разузнал там по своим связям.
Татьяна опустилась на табурет и спрятала лицо в ладонях.
— Кто это был?
— Беглые. В розыске больше года. Отсиживались где-то. Ты не волнуйся — найдут. У них убийство конвоя, так что высшая мера обеспечена. А сама из головы и из сердца всё это выкинь. Нет ничего. И не было ничего. Жива, а это уже прекрасно. Это уже чудо. Тебе будущим надо жить, а не прошлым. Даст Бог, случится у тебя совсем иное. Я Борису верю, хоть он и москвич, да ещё и женатый москвич. И не смотри так. Это уже не Лидка. Это он сам. Когда у вас началось всё, я с ним по-мужски поговорил. Объяснил, что играть с тобой нельзя. Что если хочет что-то серьёзное, то пожалуйста, а если блажь, то я ему не позволю. Мы с ним почти ровесники, так что нормальный разговор вышел. И вот что тебе скажу: как уж там получится, не знаю, но то, что важна ты ему больше всего на свете, — факт. От меня такие вещи не скроешь. Я человека насквозь чувствую, потому как должность такая. Ты женщина умная, сама понимаешь, что у него тоже положение определённое. — Чеберяк, вынул из брюк аккуратно сложенный платок и трубно высморкался. — Ему сложнее, чем тебе. Ему новую жизнь сочинить придётся за себя и за тебя. А это сложно.
Чеберяк наклонился к Татьяне и тронул её за плечо.
— Да, что сказать-то хотел — тебя на пристани козелок наш милицейский ждать будет. Там Вахрушин — старший сержант. Носатый такой, в оспинах. Он мой шурин. Отвезёт до станции и на поезд посадит. Потом с поезда встретит. Ты ему, главное, сообщи, когда у тебя обратный билет. Я с ним договорился обо всём. И держи хвост пистолетом! За Васькой прослежу, чтобы вечерами не шлялся.
Участковый попрощался и вышел из комнаты. Сквозь открытую форточку было слышно, как он ласковым матом уговаривает двигатель завестись. Наконец стартёр поддался, двигатель сладко чихнул в открытую форточку сизым бензином и газик укатил по размазанной талой грязи колеи. Татьяна забралась с ногами на кровать и собралась заплакать. Но вместо привычных уже слёз заулыбалась. Почувствовала, что впервые за несколько месяцев ей стало необычайно легко и спокойно. Словно бы взял кто-то на себя её беды, а ей сказал: «Живи».
Теперь она сидела на нижней полке, поставив рядом с собой модную Лидкину сумку на молнии, и слушала по трансляции «Маяка» Дина Рида.
— Это он на каком языке поёт? — Женщина напротив оторвалась от карт и вслушивалась в слова «Элизабет», — не американский вроде.
— Он в Аргентине живёт, значит, на аргентинском, — веско заметил сосед, украдкой заглянув в чужие карты.
— В Аргентине, наверное, испанский, а это не испанский. Это какой-то наш язык, демократический. Может быть, венгерский? Вы не знаете? — женщина обратилась к Татьяне.
— Нет, — Татьяна протёрла в очередной раз запотевшее стекло. — Наверное, и не важно, на каком языке песня. Красиво и всё.
— Не скажите, женщина. Мне, например, песни на испанском языке нравятся. И на итальянском языке нравятся. Я пластинки покупаю с песнями на итальянском языке. А на французском я не люблю. И эта новая Матье мне не нравится. Кривляется всё что-то, причёской трясет. Видели на «Новогоднем огоньке»?
— А мне кажется, что приятная. Милая, с улыбкой хорошей.
— Не знаю, не знаю. Новомодные артисты все какие-то неприличные. Приглашают их на телевиденье, а они себя вести не умеют.
Татьяне не хотелось поддерживать разговор. Она извинилась и вышла в тамбур. Поезд медленно тронулся. Мимо стенок депо, мимо строений красного кирпича с мутными стёклами окон, мимо отцепленного от состава вагона-ресторана с сидящими на площадке официантками, мимо красного пожарного поезда, мимо бригады дорожных рабочих в коричневых ватниках, разравнивающих груду щебня. Мимо бригадира под зонтиком. Быстрее, набирая темп, словно стесняясь давешней лени и сна. Высотные дома светились окнами субботней утренней бессонницы. Какой-то проспект суетил автомобилями, обгоняя и исчезая из виду за очередными пакгаузами. И вот уже потянулся внизу мокрый асфальт перрона в лужах и трещинах, с носильщиками в болоньевых плащах.
Среди встречающих — Борис. Под огромным клетчатым зонтом. В короткой кожаной куртке и джинсах. «Надо же, не в плаще», — подумалось Татьяне. Она замахала ему рукой через стекло, а Борис отсалютовал ей зонтиком. Пробралась через тамбур, неся сумку перед собой, попрощалась с проводником и, широко улыбаясь, ступила на перрон. Борис подхватил сумку, закинул на плечо и обнял, шепча ласковое, нежное. Потом шли, прижавшись друг к другу в толпе. Стояли на эскалаторе, разговаривая лишь именами друг друга. Нашкодившими детьми, склонив головы и пряча взгляды от других пассажиров, ехали в переполненном вагоне. И лишь уже пройдя от Маяковской по огромной, дребезжащей бликами улице Горького, они словно бы очнулись, и их молчание треснуло хохотом. В холле гостиницы Борис деловито повёл Татьяну к стойке регистрации, где официальным голосом осведомился о брони для коллег из Архангельского и Курского филиалов, назвав несколько фамилий, в числе которых и Татьянину. Она заполнила карточку, получила ключи и Борис повёл её к лифту.
— Конспияция, — смешно закартавил он, когда двери за ними закрылись. — Для всех ты — сотрудник музея. Приехала на конференцию. Кстати, для тебя есть пропуск, программа конференции и талоны на питание.
— Уф, — только и смогла выдавить Татьяна.
— А ты как думала?
— Зачем такие сложности?
— Номеров не было. Забронировал через деканат как для участника конференции. Наши как раз тут должны были остановиться. Но приехали раньше и остановились в «Туристе». К тому же хочу показать тебе университет. Тебе неприятно? Можно забыть о конференции и пропуске.
— Всё как ты скажешь. Как скажешь, так и будет. Я же не знаю ничего. Я вообще в Москве второй раз в жизни.
— Ну и славно. Доверяй своему мужчине.
— Своему?
— А ты сомневаешься, девочка?
Татьяна не сомневалась. Если всё, что происходило между ними, — всего лишь сказка, то этой сказке хотелось верить. Уютно и некорыстно. Разве что детская корысть: чтобы свет не выключали, а сказку продолжали рассказывать. Как в приюте, когда лежишь под одеялом и боишься пошевелиться. Не дай бог скрипнут пружины. И все лежат и не шевелятся. А нянечка читает книжку. Долго читает. Дольше чем обычно, потому что самой стало интересно, что же там дальше произойдёт с этим Джельсомино.
Одноместный номер с телефоном и окнами на улицу Горького. Тяжёлые коричневые шторы и плотная тюль цвета беж. Подушка на кровати аккуратной пирамидкой. Репродукция Левитана на стене. Бра с причудливым абажуром над кроватью. Торшер в углу рядом со столом.
Борис поставил сумку в шкаф, помог Татьяне снять пальто.
— Никто не войдёт?
— Не бойся. Днём не войдут. Это вечером следят, чтобы посторонних в номерах не оставалось.
— Ты не посторонний.
— Это для тебя.
— Здесь и душ! — Татьяна замерла в дверях перед кафельным чудом.
— Танюша, это центр Москвы. Не «Метрополь», конечно, но хорошая, новая гостиница. Всё современное. Даже без тараканов пока, — Борис кинул куртку на стул, а сам разметал шторы по сторонам и раскрыл окно.
— Подождёшь меня? Не уйдёшь?
— Дурочка, — Борис включил радио, уселся в кресло и раскрыл газету, — куда я от тебя денусь? Теперь уже никуда.
Раскрутила краны, дивясь напору. Спешно разделась, задёрнула занавеску. Встала под горячую острую воду смывать с себя липкий пот прерывистого железнодорожного сна, тревогу пробуждений на безымянных станциях, нервный тик вагонных скрипов, собственные недостойные страхи и опасения. Вот же он, милый её Борис. Сидит в нескольких метрах от неё, в кресле с газетой в руках. Радио. Газета. Кресло. В радио что-то неторопливое и домашнее: радиоспектакль с Велиховым и Пляттом. А за окнами — опитая весной улица Горького. За окнами город, сосредоточенный будним днём, но от того не менее расточительный на звуки, запахи и надежды. Огромное бурлящее сегодня. Огромное счастье миллионов людей, в котором есть и её счастье. Пусть она украла это счастье. Счастье — единственное, что позволено красть, не раскаиваясь. Красть, не думая о расплате и наказании. Не бывает наказания за счастье, как не бывает наказания за любовь. И удивившись, обрадовавшись этой мысли, Татьяна засмеялась. Стояла под горячими струями и смеялась. Беззвучно. Глазами, которые щипало мыло, плечами, руками, поднятыми вверх. Смеялась и оживала. Оживала, как рождалась заново: не помнящей беды, оглашённой жизнью. Лучшей. Другой.
Вытерлась жёстким махровым полотенцем, промокнула волосы, посмотрела в овальное зеркало над раковиной. Увидела себя в этом зеркале, лицо своё, грудь, живот, и вдруг, словно решившись, повернулась к двери, закрыла глаза и нажала на ручку. Плотно задёрнутые шторы. Полумрак. Радио выключено. Тишина. Ушёл?! Бросилась в комнату. Нет! Здесь! Ринулась к нему, лежащему в постели, скинула одеяло и обхватила, укутала собой, целуя и смеясь. Смеялась, капая слезинками, щекотя влажными кончиками своих светлых волос, торопясь вослед своему не то крику, не стону. И, успев, уронила тело своё в темень постели, вплетя единожды эту сладкую бестелесную агонию в тугую косу своей и его памяти.
Когда через час они выходили из номера, им встретилась коридорная.
— После двадцати трёх в номерах посторонних быть не должно. Это я к вам, молодые люди, обращаюсь — правила для всех общие.
— Она знает, — зашептала Татьяна в ухо Борису.
— Ну и что? Это она для порядка. Демонстрирует, что всегда на посту. Не волнуйся, решим эту проблему.
— Как?
— Увидишь. Всё будет хорошо. Всё уже хорошо, а будет только лучше.
В лифте Татьяна посмотрела в зеркало и смутилась своей счастливой улыбки. Смутилась, попыталась придать лицу деловое выражение, но, заметив, что Борис удерживается, чтобы не рассмеяться, расхохоталась сама.
Дождь закончился. Утреннюю хмарь раскидало солнечными лучами. В ветвях деревьев вдоль улицы Горького шкодливо путались солнечные зайчики. Борис не стал спрашивать, куда бы Татьяна хотела пойти. Понимал, что всё равно куда, лишь бы с ним. Они двинулись мимо прогульщиков в школьной форме, курящих с независимым видом за кассами кинотеатра «Россия». Прошли раскисшим аппендиксом Страстного бульвара, пиная ногами потёртую жестянку из-под монпансье. Вышли на Петровский, уже хрустя вафельными стаканчиками с мороженым. Двинулись вниз, перепрыгивая через лужи и, словно в детстве, саля друг друга: «Ты водишь! Догоняй!» И бежали по гаревой аллее бульвара. И дышали весной, друг другом и Москвой. А Москва беззастенчиво пахла отопревшей после снега и льда землёй. Гудела, звенела, шуршала, чирикала. Дворники увлечённо громыхали железными баками на колёсиках мимо мусорных куч. Полупустые троллейбусы с уханьем разбегались под горку вдоль двухэтажных, словно стыдливо присевших на корточки домов. Трамвай лихо скрежетал металлом о металл, заглатывая крючок Рождественского бульвара. Воробьи гомонливой стайкой барахтались в луже. И из какого-то в весну распахнутого окна пел свою «Элизабет» Дин Рид.
На остановке они вскочили на заднюю площадку тридцать девятого трамвая. Борис выудил из кармана куртки две трёхкопеечные, опустил в кассу и выкрутил билеты: «Посмотри, счастливые?» Татьяна сложила числа: «Представляешь, следующий счастливый!» Борис достал ещё серебряную монетку: «Ради счастья и гривенника не жаль! Билетик надо съесть. Съешь, и сразу всё у тебя сбудется, о чем мечтаешь. Только надо съесть до следующей остановки». Татьяна запихала билет в рот и изобразила, что жуёт с наслаждением нечто удивительно сочное и вкусное. Клочок целлюлозы превратился в шарик, который она проглотила, успев загадать желание, состоящее из одного лишь слова — «Борис». Переехали улицу Кирова, помчались по Чистопрудному. Борис называл места, которые проезжали, словно ласкал: Неглинная, Рождественский, Сретенский, Чистопрудный.
На Чистых прудах Борис вышел первым и подал Татьяне руку. Её это обрадовало, как радовало сегодня всё. Трамвай, шепнув что-то по-чешски, закрыл двери. Татьяна собралась было перейти проезжую часть, чтобы подойти к воде, но Борис взял её под руку и указал на большой серый дом, украшенный барельефами чудных зверей.
— Ух, — выдохнула Татьяна, — красота какая!
— Модерн. Бывшее здание доходного дома церкви Троицы на Грязех, — Борис стоял рядом.
— Красивое. Нет, честное слово, чудесное здание. Как пряник, по которому глазурью узоры выведены.
— Красивое. И в нем я живу. Идём.
Борис взял Татьяну под руку и повлёк к ближайшему подъезду.
— Ты с ума сошёл! Боренька, не надо, — Татьяна, попыталась освободить руку, но Борис держал её хоть и мягко, но крепко. — Не надо, я прошу тебя. Ну, пойми меня. Боренька, постой. Послушай, ты для меня начинаешься на Острове, на пристани, продолжаешься письмами, словами, фантазиями, представлениями, даже мечтами. И я представляю тебя на работе, у друзей, в каких-то ресторанах, на бульварах, которые ты сам мне описывал, но не дома. И везде ты мой. Мой, родной, хороший. Везде, но не здесь. Не могу я сюда. Здесь ты чужой. Здесь я воровка.
— Дурочка ты моя. Не бери в голову. Идём-идём. Всё нормально. Слушайся своего мужчину. Вообще, ты моя коллега из архангельского филиала. Я тебе столицу показываю. Что в этом такого? Тем паче что мне переодеться надо к третьей паре. У меня же сегодня лекция. Не могу я на лекцию идти в американских джинсах. Это моветон. Где ты видела преподавателя в джинсах?
И Татьяна послушалась. Она перестала сопротивляться и покорно пошла под руку с Борисом. «И действительно, — подумалось ей, — что это я как курсистка жеманная? Он знает что делает, а моё дело — послушание и любовь. Не время характерами меряться».
Они проникли в тёплый подъезд и стали подниматься вверх по ступеням мимо дверей со множеством звонков.
— Тут внизу большей частью коммунальные квартиры. Дом раньше четырёхэтажный был. Уже после войны перестроили. А я сюда в сорок девятом году въехал после размена. Как увидел, что надстраивают, загорелся желанием здесь жить. Четыре года кругами ходил. Ещё с разрешением на размен проблемы случились.
— Видела преподавателя в джинсах. И в рубашке клетчатой. И даже без рубашки перед студентами. На Острове видела, — с опозданием ответила Татьяна на давешний риторический вопрос.
— Умница моя, — Борис улыбнулся, чуть приобнял, но отнял руку, — молодец. Однако хорош же я буду в таком виде в аудитории…
На четвёртом этаже щёлкнула замком дверь, и тучный мужчина в штанах с лампасами и спортивной куртке вышел на площадку, неся перед собой мусорное ведро.
— О, Аркадьич! Поехали в выходные на рыбалку. Лёд сошёл, сейчас самый клёв. Здравствуйте, кстати, — обратился он к Татьяне.
— Добрый день, — Татьяна заставила себя не отвести глаза и не засмущаться.
— Родственница?
— Коллега из Архангельского филиала.
— Ого! Давно я что-то в Архангельске не был. Там уже новое поколение коллег подросло. Ты чего не на службе?
— У нас конференции идут. Вот, подрабатываю с большим удовольствием ещё и гидом.
— Ну, гид из тебя прекрасный. Вы, девушка, его слушайте. Аркадьич у нас про Москву как Гиляровский шпарит. Даром что историк. Ну так что? Как насчёт рыбалки?
— Гена, не могу, спасибо, — Борис незаметно подтолкнул Татьяну дальше по лестнице, — конференция только в субботу заканчивается. А ты Мишку моего возьми. Хватит ему себя уродовать. Его же на улицу не выгонишь. Занимается как проклятый своей диссертацией.
— Велико мне счастье с этим бирюком ехать! С ним не выпить, не поговорить. Это не рыбалка получится, а молчание над удочкой. Лучше ты мне Сеньку, своего аспиранта, выдели. Вот мужик отличный. Помнишь, как мы на Новый год на даче? А ещё лучше, бросай ты эту конференцию, бери Сеньку, бери вон коллегу из филиала и поехали на Волгу. Там база шикарная. Домики прямо на берегу. Баня есть. База-то наша — от округа. Только свои. Никаких тебе туристов-мудистов. Культурно, чинно. Охрана.
— Спасибо, подумаю. До выходных два дня. Ещё Лиза меня не отпустит.
— А я с ней поговорю. Скажу, что со мной. Скажу, что по делу государственной важности. В конце концов, и её с собой возьмём, хотя и тут радости мало.
— Она не поедет. Уже неделю на даче живёт. Её с дачи теперь до октября не выманишь. Подруги там бездельницы, и она среди них.
— Вот! Пусть грядки там сама копает, а мы чуточку отдохнём. От этого отдыха, может быть, обороноспособность страны зависит. Я же в штабе ни о чём уже думать не могу, как только о рыбалке. У нас вон учения скоро начинаются. А из меня стратег херовый, пока пару щук не поймаю.
— Подумаю. Может быть, но обещать не могу. Конференция — дело серьёзное. У меня и доклад в субботу.
— А ты перенеси. Ты же там почти самый главный.
— Умеешь уговаривать. Обещаю подумать, — и уже обращаясь к Татьяне: — Татьяна Владимировна, не хотите с генералом Чернышёвым на рыбалку?
— Я тоже подумаю, Борис Аркадьевич, — ответила Татьяна уже со следующей лестничной площадки, — это как куратор сектора позволит. Спасибо, товарищ генерал, за предложение.
Борис попрощался с соседом, догнал Татьяну. Приложил палец к губам.
— Это о каком кураторе какого-то сектора речь идёт, конспиратор ты мой любимый? — Он давился смехом. — Ну и молодчина ты у меня! Я знал, что молодчина, но что такая! Обожаю тебя!
Достал ключи из кармана и отпер дверь. Пропустил Татьяну вперёд себя, слегка подтолкнув. Зажёг свет. Татьяна оказалась в просторной прихожей, из которой выходили три двери с резными переплётами и матовым стеклом. По длинной стене — книжные стеллажи с застекленными полками. Справа от входа вешалка и шкаф для одежды, куда Борис сразу повесил принятый у Татьяны плащ. Свою куртку он бросил на стул.
— Обувь не снимай. Тут тапочки не приняты. Проходи, не стесняйся. Здесь кухня. Сейчас я чайник поставлю. Тут гостиная, — он повёл Татьяну по освещённому бра коридору, по очереди открывая двери, — дальше спальня, сюда заглядывать не будем, потом комната сына. Сюда тоже заходить не станем. Не любит, когда кто-нибудь суёт нос в его жизнь. А здесь кабинет. Проходи, здесь только мои владения, потому ничего тебя смущать не должно. Делай что хочешь, а я тебя покину на некоторое время. Ну? — Борис приподнял подбородок Татьяны на своей ладони и заглянул в глаза. — Не страшно? Всё хорошо?
Татьяна кивнула. Борис вышел, и она осталась одна. Подошла к окну. На подоконнике кактусы в маленьких горшках. Тяжелые бархатные шторы. Тюль. Привстала на цыпочки — внизу шумят машины. Дальше петля пруда. По бульвару женщины гуляют с колясками, старушка несёт авоську. Военный сидит на лавочке с газетой. Мальчик в яркой куртке кидает пуделю палку. За бульваром — здание с аркадой, похожее на театр. Дальше, за крышами, шпили высоток. Как пики гор на фоне синего неба. Синего-синего неба, на котором не осталось ни одного облачка. И только крошечный серебряный крестик самолёта очень высоко медленно и старательно чертит белую свою полоску.
Гулко и важно пробили напольные часы. Татьяна вздрогнула от неожиданной их самостоятельности. Подошла, провела ладонью по гладкому полированному корпусу. «Густав Беккер» — прочла она на белом циферблате выполненную готическими буквами надпись. «Какой ты сердитый, Густав. Сразу заявляешь, чтобы я тут не засиживалась. Не волнуйся, не задержусь. Я здесь в гостях. Просто в гостях. И вообще, меня не ты пригласил, потому стой себе спокойно и тикай. И не вздумай ябедничать!», — сказала Татьяна вслух и повернулась к часам спиной. Два одинаковых книжных шкафа с башенками по углам. Между ними диван с высокой спинкой. На диване — кожаная подушка и свёрнутое верблюжье одеяло. Огромный письменный стол с синим сукном посередине комнаты. За столом высокий стул с подлокотниками, перед столом кожаное кресло с ножками в форме звериных лап. Кресло старое. Очень старое. Кожа зелёная, вытертая до желтизны на валиках и у изголовья спинки. На столе небольшая печатная машинка, груда папок, пенал с разноцветными карандашами, лист бумаги, исписанный «шариком», на нём стакан в подстаканнике с остывшим чаем. Коричневые круглые отпечатки от подстаканника поверх надписей. Пепельница с карандашной стружкой, рядом обломок лезвия. Резиновый эспандер, висящий на стуле. На полу тканый ковёр. На стенах картины в рамах. Пейзажи и портрет мужчины в сюртуке и с орденом на ленте. Высокого роста, седой, стоит, держась рукой за край стола. Татьяна попыталась уловить сходство с Борисом. Нет. Ничего общего. Только осанка. Значит, не родственник. Что она знает о Борисе? Что знает о его родителях? Он никогда не заводил разговор на эту тему, а она деликатно не спрашивала, полагая, что сам расскажет, если посчитает нужным. Спрашивать о родителях — всё равно что невеститься. А какая из неё невеста, да ещё женатому мужчине? «Так, не надо об этом думать!», — прервала она себя и отошла от портрета.
На небольшой тумбочке радиола. Стопка пластинок. Остановилась, перебирая конверты: Рахманинов, Глинка, Утёсов, Глен Миллер. Достала пластинку Лещенко, поставила на радиолу, но, не разобравшись как включить, убрала обратно в конверт. Пробежала пальцами по корешкам книг. Большинство на немецком языке в дорогих переплётах с тиснением. Что-то на русском, с ятями, — справочники, каталоги, энциклопедии. В темени полок видны ленточки закладок, торчащие за корешками. Значит, книгами пользуются, читают их. Татьяна опять прошла вдоль картин, посмотрела на аккуратно выписанные поля и деревья. Могучие дубы, берег пруда, вязкая тишина нездешнего полдня. В углу картин подписи с умлаутами: какой-то Карл, какой-то Хайнрих. Картины, видимо, трофейные, как и книги. Возможно, что Борис сам привёз из Германии. А может быть, купил позже. Трофейное до сих пор продаётся в избытке даже в Кеми, а уж в столице этого добра… Татьяна не запомнила, где воевал Борис. Рассказывал он об этом только однажды, да и то как-то вскользь, упомянув лишь, что ни одной царапины у него за всю войну так и не случилось. Смеялся, что один такой в полку: «Только шишки вечно на голове были, о косяки бился — видишь, какой длинный?» Он же в сорок втором на фронт попал, значит, было ему двадцать восемь. Всего на два года меньше, чем ей сейчас. Но уже взрослый человек, преподаватель, кандидат наук. Рассказывал, что защитил кандидатскую перед самой войной. Наверное, и женился перед войной. Опять Татьяне подумалось, что ничегошеньки она про Бориса не знает. Придумала его себе от начала и до конца. Но ведь верно придумала: кабинет этот, шкафы, стол, шторы. Именно таким себе и представляла. Даже лампа, стоящая на краю стола, с белым абажуром в форме четырёхгранной усечённой пирамидки. Ещё на Острове, читая письма в широких конвертах, проштампованные штемпелями для заказной корреспонденции, видела она Бориса, сидящего вечерами за огромным столом в свете такой вот лампы. Представляла, как он пишет ей письмо, как пьёт чай из стакана в подстаканнике. Из такого, какой стоит сейчас на столе. И дальше круга света от лампы ничего нет. Что-то, возможно, и угадывается — тени, сгустки тьмы, но это уже не важно. Важен стол, лампа, рука с «шариком», пар от горячего чая. Татьяна щёлкнула выключателем. Электричество вступило в тщетное единоборством с солнцем, размыв акварельное пятно на синем сукне.
— Не скучаешь? — Борис открыл дверь и заглянул в кабинет. — Я сейчас. Пирожки с изюмом будешь? Свежие. Вчера вечером на площади Дзержинского купил. Хорошие пирожки.
— Буду, — Татьяна почувствовала, что проголодалась.
Она не позволила ещё утром отвести себя в кафе, а теперь, после прогулки, ей стало сладко во рту от одного упоминания пирожков с изюмом. Через минуту Борис появился в дверях с подносом, на котором пыхал серебряный кофейник на спиртовке, стояли две белых чашки костяного фарфора и блюдо с пирожками. Одет он был уже в аккуратный серый костюм, голубую рубашку, тонкий галстук в полоску. На запястье сверкал жёлтый браслет с тяжелыми часами в золотистом корпусе.
— Ты всегда так на лекции?
— Боже упаси! Обычно я тельняшке и лыжных рейтузах. У нас же университет, дозволяются некоторые вольности, — он поставил поднос на край стола, высвободил стул от груды бумаг, придвинул к креслу и тут заметил удивлённый взгляд Татьяны.
— Танюша, я шучу-шучу. Конечно, всегда в костюме или просто в рубашке с галстуком, но галстук обязательно. Тебе как удобнее — в кресле или на стуле?
— Мне всё равно.
— Тогда садись в кресло, как гостья, а я сюда.
В это мгновение хлопнула дверь в прихожей. Татьяна испуганно взглянула на Бориса.
— Не волнуйся. Наверное, сын. Всё нормально. Не нервничай. Ты коллега из Архангельска. Всё хорошо.
В коридоре послышались торопливые шаги, скрипнули петли. За стенкой что-то упало. Послышался звук отодвигаемой мебели.
— Миша, я дома! — обозначил своё присутствие Борис.
— Я понял. У нас ещё кто-то есть или можно зайти к тебе в трусах?
— У нас здесь весьма симпатичная молодая женщина, поэтому лучше оденься.
— К симпатичным женщинам надо входить вообще без трусов.
Открылась дверь, и на пороге появился очень высокий и очень худой молодой человек во фланелевой пакистанской рубашке с погончиками и черных простроченных брюках с накладными карманами. В руке он держал бутерброд с колбасой.
— Здравствуйте. Я Михаил.
— Татьяна Владимировна, — представилась Татьяна, инстинктивно приклеив отчество.
— Па, я на минутку. Можно взять машину на выходные? Ты же всё равно в городе сидишь, а я хочу до Загорска съездить на испытания установки.
Борис встал со стула, подошёл к сыну, взял за плечи, повернул к Татьяне.
— Каков? Продукт послевоенного общества. Целеустремлён, свободен от предрассудков, усидчив, работоспособен, но крайне скучен. Хотя машина на выходные — это уже что-то новое. Михаил Борисович, почему испытания? Почему не дама сердца, которую вы хотите поразить скоростью перемещения на белом отечественном автомобиле?
— Считай, что их сразу две, так у меня больше шансов получить требуемое?
— Татьяна Владимировна, вы как человек ближе стоящий к этому поколению, нежели я, можете мне сказать, в чем радость такой жизни? Работа, работа, работа, ничего кроме работы. Ведь самый возраст для глупостей! Как потом жить свою долгую жизнь, не имея за спиной никаких глупостей для отдохновения памяти и сердца? Парню двадцать четыре года, а его кроме науки, что характерно, абсолютно прикладной, ничего не интересует. Даже сухого вина не пьёт. Не в отца пошёл. В какого-то другого родственника.
— Так я возьму машину? — Михаил словно и не слышал того, что говорил отец, видимо, привыкнув к подобным шутливым публичным отповедям.
— Забирай. Что с тобой поделаешь?
Михаил хмыкнул, кивнул Татьяне и вышел из комнаты. Борис развёл руками.
— Тёща с женой воспитывали на свой лад. Вкладывали ценности и морали, максимы, цитаты, нормы. Не позволяли себе просто любить мальчика, пока был мальчик. Делали человека. Получился вот такой угрюм. Друзей у него нет. Последний случился ещё в детском саду. На один горшок ходили. Жил тут напротив. С одноклассниками уроки не прогуливал, закончил с золотой медалью. Однокурсникам списывать не давал, закончил с красным дипломом. Взяли в аспирантуру. Тема секретная, военные курируют. Защита обеспечена. Всё равно даже в выходные сидит с таблицами. Разве на дачу выгонишь иногда, так он и там с формулами и блокнотами. Никогда не видел, чтобы он по своей воле взялся роман почитать. Говорит, что читает много, но довольствуется справочной литературой. Девушки тоже нет. Короче, упустил я парня. Теперь уже не догнать его. Живет своей жизнью в стороне от меня. Да и от матери своей в стороне. С ней так же: ровно, холодно, спокойно.
В прихожей защёлкал замок и хлопнула дверь.
— Ушёл, — Борис прислушался, — ушёл не попрощавшись. Просто ушёл.
— Может быть, он что-то понял?
— Про что?
— Про нас, — Татьяна поправила локон, выправившийся из-под заколки, — он у тебя умный. Глаза умные.
— По нему не скажешь, когда он что-то понимает. Всегда насмешлив, словно знает всё наперёд. И это неважно. Он давно уже всех окружающих каталогизировал. Из одной матрицы в другую никто не перейдёт. Можно делать всё что угодно, но свою ячейку не покинешь. Ну да ладно. Даже если и понял, это ничего не меняет. Может быть, нужно, чтобы поменяло, но увы…
Татьяна расслышала в словах Бориса обречённость проигранной борьбы за душу сына. Видимо, необходим был Борису этот мальчик, но не случилось. Перебродила отцовская нежность в горький сидр иронии.
— Хочешь, поедем на рыбалку? — перевела она разговор.
— Ты хочешь?
— А мне всё равно, только чтобы с тобой. Чем ближе ты будешь, тем мне лучше. Я же не в Москву приехала — к тебе.
— Тогда не загадываем.
До университета они ехали на машине. Борис за рулём. Татьяна вертела головой по сторонам, ловя под веки солнечные зайчики. Посматривала на Бориса — прямого, сосредоточенного на дороге, выполняющего мужскую работу перемещения. Аккуратно подстриженная седая борода, густые прямые с обильной сединой волосы, зачёсанные назад, нос с чуткими, нервными ноздрями. Руки на руле — длинные сухие пальцы, костяшки в веснушках. Капитан из фильма про настоящих мужчин и море. И похож на Хемингуэя. Так похож… Она представила себе Фиделя и Че на заднем сиденье. Представила, как они смотрят на огромные московские высотки, цокают языками, что-то говорят по-испански, то и дело трогая Бориса за плечо, спрашивая. А Борис им отвечает на испанском же, не поворачивая головы, но улыбаясь.
— Ты знаешь испанский?
— Нет. Немецкий знаю, французский, немного английский, но почти не говорю на нём. Почему спрашиваешь?
— Не знаю. Просто так.
Значит, не на испанском, значит, сидит переводчик, который переводит. Они втроём на заднем сиденье: Фидель, Команданте и переводчик. Переводчик в пиджаке, белой рубашке и галстуке. Нет. Какой переводчик? Борис сейчас — не Борис, а тот, кому не нужен переводчик. И вот уже снова сзади только двое цокающих языками и дымящих сигарами бородатых мужчин. И её Эрнесто за рулём.
Татьяна улыбалась своим несерьёзным мыслям, радовалась себе, радовалась этому дню, машине с широкими креслами, Борису, светофорам, обгоняемым трамваям, пешеходам на перекрёстках в светлых плащах, цветных болониях, в кепках и шляпах. Всё это казалось уместным, нужным, хорошим. В детстве всегда спрашиваешь: хорошо это или плохо? Всегда ждёшь чьей-то оценки, чтобы принять её благодарно. Как Васька в клубе, когда показывают кино: «Мам, а этот дяденька хороший? Он за наших?» И улыбаешься, отвечая: «За наших, сынок. Этот дяденька за наших». А сейчас отвечаешь себе сама, что этот дом хороший, этот трамвай за наших, эта улица — блестящая, крутая, дребезжащая, — она тоже хорошая. Очень хорошая. И этот красивый, сильный мужчина тоже за наших. Он свой. Он как раз самый главный «наш».
Борис оставил машину на проспекте и повёл Татьяну к знакомой по картинкам и фильмам высотке университета долгой яблоневой аллеей. Яблони уже убедительно показывали зиме блестящие фиги почек. На скамейках сидели студенты. Некоторые здоровались с Борисом, он улыбался, приветственно махал рукой. И она рядом с ним одновременно перешагивала лужи, так же, как он, кивала кому-то, улыбалась, словно была частью этой жизни.
В аудиторию Татьяна подниматься всё же не рискнула. Пока Борис читал лекцию, она гуляла по Ленинским горам. Смотрела на город, спускалась вниз длинной бетонной лестницей с бесчисленными фантиками от конфет по краям. Подходила к набережной, удивлялась пресной тяжести Москва-реки. Из одинокой тучи брызнуло дождём, проткнув воду миллионами дырочек, в ряби и бурлении отразив апрельское небо. Татьяна смахнула перчаткой ветки со скамьи, села, раскрыла зонтик и сидела почти час, смотря на воду и слушая, как наверху гудит и тревожит свистками Воробьёвское шоссе.
В детстве она любила сидеть в дождь на берегу Онеги под сколоченным из сучковатого горбыля навесом и смотреть, как тяжёлые капли ныряют в гладкую сталь озера. Замечала какую-нибудь тростинку или палку, воткнутую в дно рыбаками, и мысленно рисовала вокруг блюдце. А потом считала капли, попадающие в это блюдце. Если дождь только начинался и капли были редкие, она успевала между каплями проговорить алфавит от буквы «А» до буквы «У» или даже до твёрдого знака. Никогда дальше. Обязательно падала капля, и она начинала алфавит заново. Потом дождь усиливался и получалось только до «И», потом до «Е». А потом она уже не могла угнаться своими буквами за небесной машинисткой, выбивающей целые слова и предложения. Тогда она представляла себе, что это её родители пишут письмо дочери каплями дождя, и старалась прочитать в переплетении расходящихся кругов слова. В какой-то миг начинало казаться, что она действительно видит, понимает смысл написанного дождём. И всякий раз она плакала и шептала: «У меня всё хорошо. Не волнуйтесь за меня. У меня всё хорошо. Я хорошо учусь, у меня есть друзья. У меня хорошее здоровье. Я почти не болею. Этой зимой у меня даже ни разу не заболело горло». И ещё что-то такое успокаивающее, обещающее, детское. И дождь стихал. Капли становились всё реже, буквы и слова в водяных узорах пропадали. Татьяна понимала, что услышана, что телеграмма дошла до небесных адресатов. Тогда она поднималась с корточек, выходила из-под навеса и кланялась. Маленькая девочка в ушитом выцветшем бушлате на берегу огромного как море озера кланялась воде и благодарила дождь и Онегу.
Потом она поднималась раскисшей колеёй до ремонтных мастерских, пробиралась узкой тропинкой между двух заборов и попадала на широкую укатанную дорогу, по которой то и дело проходили грузовики. Грузовики оставляли после себя вкусный бензиновый запах, патокой вплетавшийся в запахи влажной листвы. Татьяна переходила дорогу и по незаметной с обочины тропе шла через подлесок до приютского двора. Тщательно отирала ботинки о железную скобу перед входом, топталась по заскорузлой влажной дерюге и только после этого входила в сырое, уютное тепло старого помещичьего дома. Она очень хорошо помнила крашенные коричневой краской доски прихожей. Сколь ни крась, а у самой двери они всегда вытерты до белизны. Помнила длинный тёмный коридор, в который выходили двери четырёх спален. Первая слева по ходу спальня — для самых маленьких. Мальчики и девочки жили в ней вместе. Здесь было больше всего игрушек: и тех, что привозили шефы, и тех, что делали ребята постарше. Следующая спальня предназначалась для ребят, которые уже ходили на занятия в школу: с первого по четвёртый класс. Тут тоже жили вместе. А справа было две раздельные спальни для мальчиков и девочек постарше. В приюте оставались до шестнадцати лет. После воспитанники покидали его и уезжали поступать в ремесленные училища или в техникумы. Никто не возвращался. Никогда. Даже просто проведать своих младших друзей или воспитателей. Никто никогда не возвращался.
Так и Татьяна, когда уезжала поступать в свой экономический, обещала подружкам, что обязательно навестит их на первых же каникулах. Писала им письма в детский дом чуть ли не каждую неделю, пока не началась сессия. На зимние каникулы осталась в Архангельске. На летние устроилась подрабатывать учетчицей в местной конторе. Писала всё реже и реже, пока и вовсе не перестала. Последнюю поздравительную новогоднюю открытку отправила зимой, за несколько месяцев до окончания техникума. Сколько раз потом она собиралась приехать в те места или в Кандалакшу, где пробыла до семи лет. Собиралась, да так и не собралась: работа, остров, Лёнчик, Васька. Хорошо бы съездить туда с Борисом, побродить с ним по сосновому лесу, спуститься к берегу Онеги, обойти заросший лопухами и снытью помещичий двор, войти в тот дом, в котором она прожила почти девять лет и в котором её никогда никто не обижал. Возможно, что её даже любили, как можно любить постороннего, самостоятельного, строгого ребёнка.
В каждом классе поселковой школы детдомовских было чуть меньше половины. Учителя радовались. Детдомовские отличались особой внимательностью, учились старательно, хотя каждый в меру своих способностей. Уже к двенадцати годам все заранее знали, кем хотят стать. В отличие от их сверстников не придумывали себе специальности лётчиков и пожарных, а в сочинениях писали «хочу быть электротехником» или «мастером на большом заводе». Сиротство приучило их планировать свою жизнь, думать о ней. Беспризорников в приют не привозили. Дети либо попадали сюда из Домов малютки, либо их забирали социальные работники из собственных квартир. Родители большинства погибли на войне или сгинули куда-то, в те места, о которых не говорили.
Татьяне хорошо давалась математика. Она чувствовала формулы, запоминала, находила закономерности. Жизнь цифр казалась ей понятной и спокойной. Цифры приняли её за свою, обеспечив будущим, пообещав и не солгав. Цифры всерьёз лгать не способны, даже переменные, даже комплексные переменные. За их лукавством всегда только правда, пусть и тщательно охраняемая и требующая серьёзного решения. Потому и в экономическом техникуме по профильным предметам у неё получалось всё легко и просто. Она сделалась лучшей ученицей на курсе и могла сама выбирать распределение. Когда она выбрала артель на Острове, все удивились. Среди предложений в том числе значились мурманское пароходство и архангельские верфи, о которых было принято мечтать. Но Татьяна выбрала Остров. Выбрала, повинуясь исключительно эмоциям, а вовсе не присущему ей здравому смыслу. За полгода до того попался ей в руки журнал «Огонёк» с фотографиями Соловецкого монастыря и большой статьёй про музей. Огромная, на целый журнальный разворот, панорама кремля. Бухта с карбасами. Низкое, с отретушированными кромками облаков небо, касающееся куполов собора. Словно позвал её кто-то. Не приказал, не крикнул, а просто позвал, как зовут, зная, что услышится даже вздох. На распределении она вежливо отказалась от лучших мест и попросила направить её в Ребалду. Члены комиссии переглянулись недоуменно, но решили не настаивать. Только преподавательница литературы, пожилая немка Ирма Генриховна, грустно и значительно покачала головой, опустив глаза. Подружки же со всей непосредственностью юности открыто покрутили пальцем у виска, когда Татьяна вышла из аудитории и радостно сообщила, что уезжает на Соловки. Одна лишь Лидка запрыгала и захлопала в ладоши, схватила Татьяну за руку и потянула на лестницу, где горячим шепотом призналась, что вот-вот выйдет замуж и уедет к мужу («Да-да, представляешь, какое совпадение?») на Соловки. Муж — милиционер, армейский друг её брата. И теперь она надеется, что станут они настоящими подругами, а не просто однокурсницами.
С Лидкой Татьяна училась в одной группе, но не особо дружила. Лидкина компания казалась Татьяне какой-то шумной и неприличной. Девушки пили сухое вино, ходили на танцы, курили и часто меняли своих кавалеров. Татьяна же хоть и считалась в техникуме звездой и красавицей, но одевалась скромно, вечерами чаще всего сидела в общежитии и читала. Если и уговаривали её подружки сходить на танцы в клуб моряка, то тамошние юноши сразу ощущали своё несовершенство перед спокойной, достойной Татьяниной красотой и знакомиться не торопились. В техникуме на весь курс насчитывалось лишь пять парней. Их «разобрали» в самом начале и строго пасли все три года обучения. Лидка пыталась искать счастье «на стороне». Считалась она среди своих самой шалопутной. Именно к ней в комнату лезли по водосточной трубе и именно от неё комендант с комсоргом выгоняли ночных визитёров, улепётывающих по коридору с грохотом переворачиваемых стульев и вёдер. И вот эта Лидка обнимает Татьяну, целует, тормошит и видно по всему, что рада она неподдельной радостью откровенного и широкого в своих чувствах человека.
Приехав в посёлок, Татьяна почти сразу почувствовала себя дома, как если бы оказалась после дальних странствий среди привычных и знакомых вещей. И когда в первое свое островное лето сидела она на влажном тёплом боку перевернутой лодки и смотрела на капли дождя, выстрелившие по ставшему вдруг плоским оцинкованному железу Белого моря, то, как и в детстве, различила она буквы, слова, строчки. Различила и прочла долгожданную небесную телеграмму. И заплакала. И засмеялась. И ответила, что всё у неё хорошо. Что всё очень хорошо и что волноваться за неё не надо. И солнце из-за тугой, кудлатой тучи пролилось в море за дальними островами жёлтыми струями.
Потом жила она с Лёнчиком в Петрозаводске, далеко от Белого моря, далеко от Острова, на берегу Онеги. Но почти каждую ночь снилось ей солнце, закатывающееся за Секирную. Снились тени от карбасов на каменистом берегу, пляшущие берёзы, раздваивающаяся у кремля дорога, синие тёплые стены почты. Её звали назад. Домой. И она вернулась.
Дождь припустил сильнее, откуда-то сзади блеснуло солнцем, и Татьяна на миг увидела в дожде своё отражение. Но лишь на миг. Капли измельчали, заострились, и вот уже шершавый на ощупь ветер умело раскидал по небу остатки туч. Татьяна свернула зонтик. Пора было идти. Ей послышалось, что кто-то зовёт её по имени. Она прикрыла глаза козырьком ладони и посмотрела вверх. На площадке у парапета стоял Борис и махал ей руками. Махал широко, словно собирался взлететь. Она, улыбаясь, побежала по лестнице. Не добежала. Запыхалась, остановилась перевести дыхание. И вот уже Борис, перепрыгивая через ступени, бряцая мелочью в кармане светлого плаща, налетел, обнял, прижал к себе, затормошил и закружил.
— Что делала моя девочка? Где она потерялась?
— Сидела на скамейке и думала.
— И что надумала?
— Надумала, что любит одного человека.
— Кто этот человек? Кто этот счастливец? Кто?
— Ты, — рассмеялась Татьяна.
— Ура!
Борис закричал это «Ура!» громко, как словно бы хотел донести его всему городу. Татьяна от неожиданности зажмурилась.
— Теперь мы едем с тобой в ресторан. У нас сегодня праздничный ужин по поводу твоего дня рождения, — Борис улыбался широко и счастливо.
— Откуда ты узнал? — Татьяна действительно удивилась.
— Это уже смешно, ты полагаешь, что я настолько стар, что не помню дня рождения любимого человека? Ты мне сама говорила прошлым летом. Однако, похоже, что я позволил себе лишнего, уличив тебя в девичьей памяти. Тем не менее твое тридцатилетие, мы празднуем в ресторане «Прага». Я позволил себе пригласить гостей.
— Кого? Я же никого в Москве не знаю, — испугалась Татьяна.
— Как не знаешь? Это тебе только кажется. В Москве знакомые появляются очень быстро. Я пригласил генерала Чернышёва, который и так всё про нас понял, поскольку старый и мудрый. А также пригласил своего аспиранта Семёна, в котором души не чает генерал Чернышёв и которого ты прекрасно знаешь ещё по Острову. Помнишь весёлого рыжего еврея, что вечно играл на гитаре? Это Семён и есть. И Семён тебя прекрасно помнит, как только что и выяснилось. Он имел неосторожность заметить нас, идущих к факультету, а потом имел большую наглость завалиться ко мне в кабинет и спросить, не Татьяна ли та прекрасная девушка, что шла рядом со мной. Наглец?
— Наглец! — засмеялась Татьяна.
— Редкостный нахал и обалдуй, но талантлив и свободен в мыслях и чувствах. Так что свой юбилей, а тридцать лет — это серьёзный праздник, ты будешь праздновать в компании генерала, профессора и одного без пяти минут кандидата наук. Мне кажется, что это достойное общество. Как считаешь?
Татьяна радовалась всему, что предлагал Борис. Вначале она вроде как пугалась, но уже через мгновение говорила себе: «Это твой мужчина. Он знает, что делает». И ей опять становилось спокойно и радостно.
До ресторана они ехали на такси. Таксист постоянно крутил ручку радио, пытаясь угнаться за ускользающей волной с модной джазовой мелодией. В такси они сели на стоянке позади университета. Свою «волгу» Борис оставил прямо перед учебным корпусом. Татьяну это удивило.
— А вы, Татьяна Владимировна, «Берегись автомобиля» смотрели?
— Конечно. Сначала в клубе, а потом по телевизору.
— Вот я, как Дима Семицветов, в пьяном виде за руль не сажусь.
— Не похожи вы, Борис Аркадьевич, на Диму Семицветова. Семицветов жулик, хоть и обаятельный.
— А я не обаятельный?
— Обаятельный, — улыбнулась Татьяна и украдкой провела пальцами по руке Бориса, — но вы вроде и не жулик. Вы, скорее, тот профессор, у которого по ошибке Деточкин машину угнал.
— Нет, я другой. И там, кажется, академик был.
— Но не жулик.
— Уже хорошо. Но сигнализация у меня в машине имеется. Капкана нет, а сигнализация есть. И ещё она у меня не поверите, но застрахована. Кстати, о жуликах. Вот Сеня у нас жулик, — засмеялся Борис и хлопнул по плечу сидящего на переднем сиденье аспиранта.
— Почему это, Борис Аркадьевич, я жулик? — удивился Семён.
— А потому как по натуре своей ты авантюрист. Живёшь легко и радостно, но неспокойно. Тебе нужна острота, нерв нужен. Таким людям сложно оставаться в рамках законов и приличий. Они обычно всегда что-то нарушают.
— Но не законы же государства.
— Этого ещё не хватало! К примеру, ты своей диссертацией одновременно нарушаешь принятые каноны словообразования и принятую историческую хронологию. Причём что касается словообразования и вообще лингвистики, то тут ты оказываешься вне закона, а что касается истории, то просто высказываешь смелую гипотезу. И как настоящий жулик, — Борис обернулся к Татьяне, — он пишет кандидатскую не у Соколова, а у меня, на историческом. Потому товарищу Эскину и в оппоненты будут назначены историки, которые, естественно, в филологии не смыслят. Скажите, ну не жулик ли?
— Жулик, — подтвердила Татьяна.
— Бог с вами! Я честнейший человек. Я ведь даже не перевелся к вам на факультет!
— Татьяна Владимировна, голубушка, взгляните ещё внимательней на этого удивительно практичного человека. Вы знаете, почему он не перешёл к нам? Всё очень просто. Это для того, чтобы никто не думал, что сей молодой наглец получит на факультете доцентскую должность. Соответственно, никто у нас не считает его конкурентом. Потому ни в каких внутренних дрязгах он не участвует. И правильно, он же пришлый. И ни у кого никакого раздражения не вызывает. Гениально!
— Вы меня демонизируете, — обиженно пробурчал Семён.
— Я тебя люблю, мой дорогой, — возразил Борис. — Я вижу, что ты живой, интересный, настоящий. Я знаю, что тебе будет очень нелегко, как бывает нелегко всем, кто из себя что-то представляет. И я за тебя волнуюсь почти как за сына. Наверное, даже больше, чем за сына, поскольку за Мишку я вообще спокоен. У того всё в жизни правильно.
Таксист свернул с проспекта Калинина, проехал мимо входа в «Прагу», где рабочие меняли асфальт, свернул на Арбат и затормозил на остановке троллейбуса. Борис вышел первым, подал Татьяне руку, потом элегантно хлопнул дверью.
— Сударыня, позвольте продемонстрировать вам самый центр столицы и одновременно моё самое любимое в Москве место — Арбатскую площадь. Если бы тут не было так шумно, я бы поселился здесь, а не на Чистых прудах. Но увы, ещё несколько лет — и здесь уже будет полным полно автомобилей, которые гудят и дышат нам в лицо крепким бензиновым духом. Верите, Татьяна Владимировна, а я прекрасно помню, как перед войной по этим улицам вообще машины не ездили. Машин мало было, а здесь такой глухой угол, в стороне от коммуникаций. И если машина проезжала, мальчишки из Сивцева Вражка бежали следом и нюхали запах бензина.
— А я бы поселился как раз где-нибудь в районе Сивцева Вражка, — встрял Семён, — там и тихо, и зелено, и вообще прекрасное место.
— Не думаю, что имеет смысл менять твоё нынешнее пристанище на Сивцев. Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, то скоро на его месте будут стоять такие же высотки, как на Калининском, — Борис приобнял Семёна и Татьяну за талии и повёл ко входу в ресторан.
— Сомневаюсь, Борис Аркадьевич, — заспорил Сеня, — я видел генплан. Никаких трасс по этому району больше прокладывать не будут, так что у местных жителей и дальше есть шанс наслаждаться тихими московскими двориками.
— Поживем — увидим. Вперёд, молодые люди!
Они подошли к стеклянным в жёлтом переплёте дверям ресторана. У входа толпилось человек пятнадцать в ожидании очереди, а вернее, в ожидании момента, когда швейцар надумает кого-то пропустить. Борис протиснулся мимо людей, постучал металлическим рублём по стеклу. Швейцар Бориса узнал, кивнул головой и отворил дверь. Очередь заволновалась, но швейцар поднял подбородок и промычал что-то угрожающее вроде «Я вам тут». Лишь после этого посторонился и пропустил Бориса.
— Здравствуйте, Борис Аркадьевич. Рад видеть. Эти товарищи с вами? — спросил он склонив голову набок.
— Со мной, Виктор Викторович. Эти товарищи со мной, — Борис достал из кармана и протянул швейцару червонец. — Генерал Чернышёв уже здесь?
Оказалось, что генерал уже полчаса как дожидается компанию в зеркальном зале на втором этаже. Они сдали плащи в гардероб и начали подниматься по мраморной лестнице с красной ковровой дорожкой.
— Богато? — спросил Борис.
— Красиво, — ответила Татьяна, на мгновение остановившись и посмотрев вниз. — Как здорово, что нам в очереди не пришлось дожидаться.
— Ах, очередь, — Борис махнул рукой, — тут вообще важно, как ты стучишься в дверь. Представляешь, у швейцаров во всем мире удивительно музыкальный слух. Они всегда различают, чем именно посетитель стучит в стекло. Когда костяшками пальцев, то торопиться к такому посетителю не следует. Когда полтинником или, скажем, квартой (это если дело происходит в Америке), то другое дело. Если рублём или долларом, то тут вообще отдельная история. Звук от основной валюты страны всегда особенный, обещающий. Ну, а у меня в этом ресторане особое положение. Мы с прежним администратором служили в одном полку. Поскольку администратор был знакомый, бывал я тут чаще, нежели в других ресторанах. И защиту докторской тут отмечал, и прочие праздники. Потому я тут вроде завсегдатая. А к завсегдатаям везде особенное отношение. Остальные посетители приходят и уходят, а завсегдатаи делают атмосферу заведению.
Они поднялись на второй этаж. Их встретил метрдотель и повёл к столику в центре зала, где над графином водки томился генерал Чернышёв, пришедший «по форме»: в брюках с лампасами и кителе с квадратным дециметром орденских планок. Заметив Бориса со спутниками, генерал вскочил со своего места и встал по стойке смирно.
— Вольно! — скомандовал Борис и пожал соседу руку. — Как и обещал, привёл тебе твоего друга Семёна, однако против обещаний не захватил с собой симпатичных студенток.
— Ну вот, проси тебя о чем-то, — сморщился генерал.
— Извини, Гена, но сегодня у нас праздник, потому все внимание должно принадлежать имениннице.
— Прекрасной коллеге из Архангельского филиала, — продолжил генерал.
— Замечательной Татьяне Владимировне Соловьёвой, — подхватил Борис.
Он галантно подвинул стул, помог Татьяне сесть, уселся сам. Вынул плоский, покрытый эмалью серебряный портсигар, достал сигарету и закурил.
— Ого, — возбудился Сеня, — пахнуло виргинским табаком!
— Ребята из международного отдела подарили. Курю по особым случаям. Угощайтесь.
Семён убрал в карман пачку «Явы», взял американскую сигарету, понюхал, покрутил между пальцами, поднёс к уху, наслаждаясь шуршанием. Прикурил от зажигалки, затянулся и, закатив глаза, медленно выпустил дым вверх.
— Блаженство. Что нужно советскому человеку, чтобы ощутить себя счастливым? Только американские джинсы и американские сигареты. Всем остальным советская власть его обеспечила.
— Эх, Сенечка, — засмеялся генерал, — накурился я за войну американских сигарет. Правда, те без фильтра были — «Лаки Страйк». Такие, понимаешь, горлодёры! Они вроде как селитрой их пропитывают, чтобы не тухли. Это ведь не успеешь налить и закурить, как уже усы подпалил. Потом кашляешь сильно и во рту сушит. К нам в штаб союзники часто приезжали, так оставляли. А «Лаки Страйк» — это лучше «Кэмела», который нам в офицерском пайке иногда перепадал. Нет ничего прекраснее папирос «Герцеговина Флор». Их, — генерал показал пальцем на потолок, — Сам курил. А Хозяин всякую шмаль курить бы не стал, ему здоровье не позволяло. И пил вкусно, и ел вкусно, и курил вкусно… бандит усатый, — неожиданно добавил генерал. — Американские сигареты — говно, пардон, мадемуазель.
— Советское — значит лучшее? — съязвил Семён.
— Эт вряд ли.
— А тогда как?
— Лучшее — это немецкое. До сих пор не понимаю, как мы у них войну выиграли.
— Почему? — вступила в разговор Татьяна, благодарно кивнув Борису, который наливал ей в бокал пиво.
— А что тут не понимать? Техника у них была лучше нашей, что бы теперь по телевизору ни говорили. Обмундирование лучше. Еда лучше, тыловое обеспечение, горючее, организация связи, сама связь — да всё лучше. В самой Германии чистота, всё ухожено, приглажено, пострижено. Полиция следит за порядком. Вот, мадемуазель, представьте себе, заходим мы в небольшой городок с марша. На окраине батарею смяли и уже по улицам едем. А на каждом окне горшки такие длинные с цветами. Клумбы, понимаешь, бордюрчики белой краской покрашены, телефонные будки стоят, а в будках на таких цепочках телефонные книги Германии. Хоть бери и звони в Рейхсканцелярию. Регулировщик стоит на площади. Мы едем в колонне. Я в головной машине, а впереди стоит немецкий, понимаешь, регулировщик в шлеме и показывает мне направление движения.
— Это ты, Гена, что-то сочиняешь, — Борис оторвался от изучения меню и улыбнулся генералу.
— Аркадич, да истинный ленинский крест! Конечно, не везде так было. Вообще, если честно, то регулировщик нам только один раз попался, но и того раза мне хватило, чтобы понять: для людей комфорт и порядок важнее всего, в этом и есть их фатерлянд, его суть и основа. И это что бы там ни говорили их вожди про арийский дух и прочее да что бы там и наши вожди про них не говорили. Вот, ответь мне, Аркадич, — генерал положил на кисть Бориса свою огромную веснушчатую клешню, — ты полагаешь, что немецкий рабочий мог всерьёз увлечься идеями интернационала? Вот этот рабочий, которого дома ждала его Марта или там Грета, или хрен знает кто, но с супом в цветастой супнице? Ерунда это всё. И Тельман это понимал.
— А при чём тут Тельман? — встрял Сеня.
— Ну как же, интернационал, там, всё такое, — удивился генерал.
— Тельман уже позже был, — возразил Сеня.
— Хрен с ним, с Тельманом. Всё равно никакого революциона у них бы не получилось, поскольку им всегда было что терять. И даже после Первой Мировой во времена Веймарской республики, когда они жрали чечевицу, им всё равно всем вместе было что терять. Потому они не хотели как мы. Потому они захотели как они. И пришёл Гитлер, который дал им всё и ещё сверх того. И погладил по головке целую нацию, напоил, накормил и положил каждому немцу в постель по немке. А евреев, которые до того могли лапать задницы этим немкам (Сеня, извини), отправил в газовые камеры. И немец не хотел никакого мирового господства. Немец хотел шмект кушать и люстиген пить. Потому, как только им всыпали хорошенько, они весело подрапали к себе в Германию к своим цветочным горшкам, телефонным будкам и Гретхенам. Я не говорю об СС. Те идейные. Этим нужно было драться. Тевтонцы сраные!
— Геннадий, — Борис укоризненно покачал головой.
— Извините, мадемуазель коллега из Архангельского филиала, — генерал сконфузился, — это всё из-за того, что вы ехали слишком долго. Я уже успел выпить и теперь меня тянет поговорить. Всё. Затыкаюсь. Борис, давай закажем настоящий праздничный ужин, поразим прекрасную Татьяну Владимировну московским шиком.
Заказ принесли быстро. Официант ловко ставил блюда на стол: судак по-польски, салат из раковых шеек, заливное, оливки в хрустальной менажнице. Другой официант, поменяв бокалы после аперитива, открывал бутылку с шампанским «Абрау Дюрсо».
— Друзья! — Борис встал, застегнул пиджак на одну пуговицу и поднял бокал, — я хочу выпить за Татьяну Владимировну, за Таню, — он замялся на секунду, — за Танечку. Сегодня ей исполняется тридцать лет. Это прекрасный возраст, когда мир готов раскрыть человеку свои объятья, когда человек уже понял, что для него в этой жизни необходимо, чтобы быть счастливым. Я хочу пожелать Танечке быть именно счастливой, осознавать собственное счастье, радоваться себе и миру вокруг каждый день. Пусть всего, что было неправильным, — не было, пусть всего, что было недобрым, — не было. Танюша, вы чудесная, хорошая и самая прекрасная женщина, которую я когда-либо встречал. За вас!
Татьяна смутилась, почувствовала, как покраснела. Увидев её румянец, генерал вдруг прослезился.
— Аркадич, хватит этих политесов. Я всё вижу. Прекращайте друг другу «выкать». Любовь, старик, даётся откуда-то сверху. Человека как осеняет. Потому сколько бы вы оба не шифровались, а светитесь. Идиоту понятно, что между вами что-то больше, чем Архангельский филиал. Правильно я говорю, Семён?
— Правильно, товарищ генерал, — светятся. И профессор, и Татьяна Владимировна.
Борис взял ладонь Татьяны в свою, склонил голову и поцеловал.
— Вот так уже лучше. Ура, товарищи!
Сидящие за столом, повинуясь приказу, дружно грянули: «Ура!»
Весь вечер пили шампанское. Все, кроме генерала. Генерал чокался стопкой с водкой и всякий раз показывал рукой на свой живот, мол, «не переносит он этих пузырей». О войне генерал больше не вспоминал. Рассказывал анекдоты, подтрунивал над Борисом, делал комплименты Татьяне.
Людей в зале прибывало. Музыканты вышли настраивать инструменты. Зафонил микрофон, треснула барабанная палочка. Оркестрик затянул вступление к песни Жана Татляна «Ночные фонари». Из-за столиков стали подниматься пары. Борис пригласил на танец. Татьяна засмущалась, чувствуя, что уже немного захмелела, но Борис уверенно повёл её к эстраде. Они танцевали молча, как танцуют люди, которые важны друг другу и между которыми главное уже произнесено. Татьяна поначалу неуютно чувствовала себя в ярко освещенном зале, стеснялась своих сапожек-румынок, в которых проходила весь день. Но Борис вёл уверенно, спокойно, и она, покачиваясь в его руках, забыла обо всем.
Было в этом ресторанном танце нечто почти театральное или даже киношное. Стеклянные стены зала «Праги», накрахмаленные скатерти, оркестр, девушки в нарядных, видимо, заграничных платьях, мужчины в форме или в костюмах. Всё напоминало Татьяне кадры виденных однажды кинолент про людей, у которых за плечами подвиги и страдания, а впереди счастливая жизнь. В этих декорациях хотелось говорить монологи, но что говорить, Татьяна не знала. Она молчала, склонив голову на плечо Борису, запоминая себя в этот момент, чтобы потом быть уверенной, что всё это происходило с ней — маленькой девочкой из приюта на берегу северного озера.
Она не уставала удивляться этому новому для себя ощущению детскости. Есть люди, которые умело взрослеют, открывая в себе зрелость, как открывают шкафы с вещами, купленными когда-то навырост и в положенное время подходящими по размеру. Они снимают себя прежнего, надевают себя нынешнего и смотрят в зеркало, точно зная, что это им к лицу. Татьяна же всегда имела чувства и мысли не по возрасту, словно судьба ей досталась с чужого плеча, а не собственная. Возможно, что раннее сиротство сделало её, ещё совсем девочку, глубже и рассудительнее сверстников. Возможно, что если бы она захотела, то смогла бы достичь в жизни большего — того, что людьми принимается за успех или за достаток. Но созерцательность характера, спокойная ласка к окружающему миру да неосознанная нежность к людям, встречающимся на пути, — плохие помощники в карьере. Татьяна стыдилась и стеснялась своей красоты, собственных удач. Она и нынешнее скромное свое счастье ещё совсем недавно считала незаслуженным, нечаянным. Но тем глубже были её переживания, чище желания и светлее мысли.
Песня закончилась, а Татьяна с Борисом всё так же покачивались, обнявшись. Опытные ресторанные музыканты не стали делать перерыв и продолжили, наигрывая нечто-то протяжное и мягкое. Борис несильно сжал Татьянину кисть в своей ладони, словно сообщая, что он ещё рядом, что здесь, что хранит покой её мыслей. Татьяна подняла голову и посмотрела ему в лицо. Морщинки вокруг глаз Бориса выгнулись пружинками, и Татьяну встретил такой пронзительный и нежный взгляд, что она почувствовала озноб. Взгляд, в котором звучало столько любви, сколько её только и может быть отпущено человеку за всю его долгую жизнь.
Когда они вышли из «Праги», горели фонари, в шутку борясь с шаркающей темнотой позднего московского вечера. По Калининскому проносились редкие автомобили. Семён наскоро попрощался и побежал на метро. Генерала ждало такси. Он уже изрядно выпил, порывался спеть что-то, но никак не мог вспомнить первой строчки. Наконец он обнял Бориса, поклонился Татьяне, поцеловал ей запястье и уехал, энергично маша из открытого окна фуражкой. Борис взял Татьяну за руку, они перебежали проспект и зашагали вдоль Суворовского бульвара. Борис смеялся, рассказывал про свою первую, ещё студенческую экспедицию на курганы Курской области. Иногда забегал вперёд и изображал, как переплывает по-собачьи Сейм. Он казался моложе своих лет, да, видимо, и сам ощущал себя совсем юным. Дурачился, хохотал, подпрыгивал, чтобы сорвать с ветки почку. Растирал её между пальцами, нюхал и подносил к Татьяниному лицу: «Весна совсем, Танюша! Совсем весна!» На бульваре, за исключением нескольких собачников, никого не было. Громкий смех Бориса уверенно и смело отражался от домов и возвращался скорым эхом. Наконец Борис умолк, обнял Татьяну за талию и пошёл рядом молча, укоротив, укротив шаг так, чтобы Татьяна могла идти с ним в ногу.
Они миновали Площадь у Никитских ворот, перешли улицу Герцена и на некоторое время остановились в начале бульвара у освещённого фонарём стенда, разглядывая помещённые за стёклом фотографии из «Огонька».
— Смотри, Остров! — удивилась Татьяна, разглядев на одной из фотографий знакомый силуэт Соловецкого кремля.
— Это он тебе таким образом привет шлёт, — обрадовался Борис.
— Это он говорит, чтобы не задерживалась, — возразила с улыбкой Татьяна.
— А ты задержись. Задержись здесь, задержись здесь навсегда.
— Смешной, — Татьяна провела ладонью по щеке Бориса, — ты и сам знаешь, что это невозможно.
— Девочка моя, рискую показаться банальным, но поведаю тебе известную мне научную истину: ничего невозможного не бывает. Всё когда-то происходит, если ты этого хочешь. Может быть, не сразу, может быть, не в тот самый миг, когда мы об этом просим, но происходит. Поверь учёному-историку, старому и мудрому человеку.
— Мудрому, но вовсе и не старому, — улыбнулась Татьяна.
— Старому-старому, — Борис показал на свою поседевшую бороду. — Веришь, но сейчас действительно ощущаю себя мальчишкой тридцатилетним. Я совершил межгалактическое путешествие к прекрасной и далёкой звезде. Совершил его на сверхсветовой скорости. И, согласно Эйнштейну, мой сын теперь значительно старше меня. А согласно ещё какой-нибудь теории, уж точно умнее. По крайней мере, в житейском смысле этого слова. А всё ты. И я рад, что так. Всё у нас с тобой ещё будет, Танюша, — целая жизнь.
Татьяна видела, что Борис сам верит в сказанное. Ей показалось, что вовсе не внезапно принял он для себя какое-то очень важное решение. И это решение касалось и её тоже. Не стала спрашивать. Не решилась разглядеть в открытых и счастливых глазах Бориса ответ на вопрос, который она боялась себе и ему задать. Не посчитала себя вправе. Она лишь обняла его, прижалась и уткнулась лбом в колючий подбородок любимого человека.
8. Валентин
В тот вечер группа подобралась особенно тяжёлая. Девушки казались занятыми собой и на слова Валентина практически не реагировали. Некоторые из тех, кто уже бывал раньше, сразу устремились вперёд по залам к первому фуршетному столу. Оставшиеся вяло бродили от картины к картине, потягивая сухое вино. Валентин не чувствовал обычного вдохновения лектора и отбывал программу экскурсии, надеясь, что вопросы задавать не станут. Днём он переволновался на факультете, оказавшись втянутым в одну из обычных теперь интриг. Переходя от картины к картине, он мечтал скорее закончить, взять такси и поехать домой отсыпаться. Как на грех, в некоторых залах шла смена экспозиции, и Валентину пришлось вести группу не по обычному маршруту, а плутать переходами Третьяковки. На такие переходы у него в запасе существовало несколько коротких исторических анекдотов, которые обычно имели успех. Но в этот раз и анекдоты не шли. Когда на подступах к «девятке» заиграл струнный квартет, а халдеи в накрахмаленных манишках начали разливать шампанское в широкие бокалы на высоких ножках, он с облегчением вывел группу на коду. Попрощался под вялые аплодисменты и поспешил уйти, оставив жующих девиц на откуп сотрудникам агентства. Работа эта, спустя полгода, навевала на него скуку и апатию. Поначалу всё казалось новым и занятным, но уже через пару месяцев он перестал получать удовольствие от сравнения нарядов девиц и галстуков условно молодых людей из аппаратов президента, думы и прочих мест для граждан с нелегкой судьбой. Эйфория от собственного присутствия в залах музеев после закрытия улеглась ещё раньше. Третьяковка угнетала и давила, ГМИИ раздражал эхом, исторический музей душил пылью и приторным запахом мастики. Однако стабильность дохода и возможность позволить себе то, на что раньше не хватало времени, держала Валентина в команде. Эскин замышлял какие-то сложные экспедиционные туры за границей Золотого кольца, рассчитывая на Валентина и его профессиональный интерес.
— Вижу, что это музейное барахло не для тебя — киснешь. Ничего-ничего. Мы тут готовим к лету синтетический продукт с элементами приключения на тему русской истории, — говорил дядя Сеня, передавая Валентину очередной конверт с деньгами. Думаю, что тебе понравится. Как только утрясём формальности, подключишься. За разработку отдельная оплата. Здесь уже труд интеллектуальный, практически по специальности. Скучно не будет.
Валентин переоделся в кабинете, отведенном для ведущих ночных мероприятий. Вошёл Сева — начальник охраны агентства, вернувшийся из Исторического. Он по очереди объезжал все четыре группы, движущиеся по четырём музеям, личным присутствием не давая охране расслабиться. Группы проходили маршрут где-то к трём часам ночи, чтобы встретиться в атриуме на Никольской и спешно сгореть до утра в алкогольно-культурологическом экстазе.
— Валя, там тебя Марина внизу дожидается. Попросила сюда привезти, домой ехать отказалась. И звонить не позволила. Я, конечно, Эдуардыча набрал, но мобила выключена. Отвезёшь её домой? Я такси вызову. А то меня Эскин прибьёт.
Валентин не сразу понял, какая Марина. Почему-то ему представилась Марина Артуровна — женщина весомых достоинств, работающая в агентстве у Эскина главным бухгалтером. Дожидающаяся его в два часа ночи Марина Артуровна не предвещала ничего хорошего. Она имела на Валентина виды. Это казалось забавным, но иной раз утомляло. В конторе постоянно сплетничали о Марине Артуровне и её атаках на мужчин.
Валентин спустился на первый этаж и прошёл узким коридорчиком к служебному входу. Однако у турникета он увидел не бухгалтершу, а Маринку, которая балансировала на длинных шпильках, кокетничала, крутила сумочку и щебетала под одобрительный хохот местных увошников. Светлый плащ накинут поверх вечернего платья. Рыжие волосы собраны под аккуратный обруч с двумя симметричными спиралями прядей. Газовый платок вокруг шеи. Пронзительный аромат духов, заполнивший узкий тамбур.
— Вот и мой герой! — Маринка, бросилась и обняла Валентина за шею. — Я говорила, что меня ждёт герой и рыцарь. Нет, это я жду рыцаря, и он спускается ко мне в сиянии своих лат под звуки труб. Мальчики, оставляю вас наедине с искусством разгадывать кроссворды. Не рехнитесь между клетками. Помните, что крах и полный провал, шесть букв, вторая «и», — это вовсе не то, что первым приходит в голову. Валечка, веди же меня!
Охранники качали головами и то ли с сочувствием, то ли с завистью смотрели, как Валентин, приобняв девушку за талию, аккуратно ведёт её к выходу. А в это самое время девушка норовит подвернуть ногу, сломать каблук, обхватить Валентина за шею, подпрыгнуть, достав до датчика пожарной сигнализации сумочкой, удариться о вращающуюся дверь, зацепиться плащом за дверную ручку, чуть не упасть на колени перед самым входом, побежать куда-то по переулку, раскинув руки падающему дождём чёрному московскому небу.
Маринка была пьяна. Её хмель аукал в глазах, искрился на кончиках выбившихся из причёски рыжих волос. Бесенята, уже не хоронясь, ласточками качались на её ресницах, перекидывали друг дружке комочки туши.
— Зонтик! У тебя есть зонтик? У моего рыцаря и героя есть ли зонтик?
Обхватила локоть Валентина двумя руками, прижалась. Примолкла. Шла, ловя ритм шагов. То и дело касалась кончиками пальцев его кисти. Считала шаги шепотом. Напевала про себя что-то нездешнее. Одним дыханием. Так, что мелодия лишь угадывалась в ритме вдохов и выдохов. В переулке пахло сыростью и матчем между «Спартаком» и «Локомотивом». Они вышли на набережную и направились к мосту. Валентин сквозь рукав пиджака ощутил, что Маринку потряхивает. Он остановился, вручил ей зонтик, застегнул на ней плащ, замотав газовый шарфик вокруг шеи, поднял воротник.
— Дурочка.
— Дурочка, — согласилась Маринка и шмыгнула носом.
— Надо такси поймать. Замерзнешь.
— Не надо. Меня вытошнит.
— Может быть, тебе сразу вытошнить?
— Может быть, но как?
— Два пальца в рот, и всё искусство.
— Не могу так.
— Помочь?
— Валечка, мне очень плохо. Мне очень и очень плохо. Меня тошнит, и я тебя люблю.
Валентин отвёл Маринку к парапету, нагнул вниз, вынул из кармана чистый носовой платок.
— Открывай рот.
— Мне стыдно.
— Открывай, говорю. Сейчас легче станет.
Маринку тошнило красным вином и фруктами. Она содрогалась в конвульсиях, всхлипывая после каждого спазма.
— Ну, тихо-тихо. Уже легче. Дыши, Мариночка, дыши, девочка.
Валентин вытер Маринке лицо, высморкал нос и выкинул платок в Москва-реку. Маринка выпрямилась, достала из сумочки салфетку, вытерла рот. Отвернулась, щёлкнула пудрой с зеркальцем.
— Ну вот. Опозорилась. А я мечтала с тобой целоваться сегодня. Куда уж теперь целоваться.
Остановился частник на «форде». Предложил подвезти. Забрались на заднее сидение. Девушка сразу уронила голову Валентину на грудь. Он обнял её за плечи. Зажал в ладони холодные влажные пальцы. Маринку била крупная злая дрожь. Пока они ехали через перекрёстки с мигающими светофорами, разворачивались на перекрытой Варварке, поднимались к Китай-городу, Маринка сопела Валентину в лацкан пиджака, пряча лицо от мелькающего электричества улиц. На углу Новой Басманной остановились на светофоре. Маринка забеспокоилась, задышала тяжело, дёрнулась, открыла дверь и выскочила на проезжую часть, где сразу согнулась в очередном спазме.
— Ты следи за ней, — сказал водитель, принимая спешно вынутые Валентином четыре сотни, — Ей сейчас горячего чаю нужно выпить, а завтра с самого утра — супа.
— Спасибо, разберемся. Удачи, — Валентин захлопнул дверь и подошёл к Маринке, к тому времени уже выбравшейся на газон и обнимающей за ствол дерево.
— Дойдёшь?
— Дойду. Только ты меня не бросай.
Валентин вспомнил, как впервые напился сам. Это случилось ещё на Острове после девятого класса, когда летом устроился подработать на реставрации в монастыре. Сухого закона на Острове никогда не было, а с приездом студентов и сезонных рабочих тем более. Даже в тяжелые годы борьбы с пьянством алкоголь находился всегда. В этот раз кто-то из старшекурсников отправился утром на карбасе в Кемь. Вернулись с целым рюкзаком креплёного вина «Таврида». Пузатые бутылки тёмно-зеленого стекла с высокими горлышками стояли неровной шеренгой в тени дизельной, напоминая провинившихся прапорщиков. Девочки принесли чашки с отбитыми ручками, порезали батоны и колбасный хлеб. Командир с комиссаром сходили в магазин за «славянской трапезой» и консервированными голубцами. Валентин сел за стол наравне со всеми, принятый в стаю ещё ранее, уважаемый за трудолюбие и достойное поведение. Сладкий терпкий напиток со вкусом изюма, когда словно детство выдыхаешь вместе с воздухом после протяжного глотка с прикрытыми глазами. Звон крылатой мелочи в пронизанной вечерним солнцем траве. Дымная полоска вдоль дороги. Звук далёкого железа на пристани. С каждым новым стаканом, когда произносимые студентами тосты оказывались всё более витиеватыми, становилось удивительнее и слаще. Прекрасная девушка Вика взяла его под руку и повела гулять вдоль озера. Они дошли до купальни на другом берегу, где Вика разделась, оставив джинсы и рубашку в руках Валентина, и поплыла, опуская голову под воду, всякий раз появляясь над поверхностью подобно ундине с гладкими длинными волосами. Вылезла на уже остывающие доски, попрыгала на одной ноге, вытряхивая воду из уха, а потом обняла Валентина и поцеловала долгим и отчаянным поцелуем. Много лет потом он ощущал под своими ладонями холодные девичьи плечи в мурашках и скользких полосках водорослей. Если бы он не был так пьян, то влюбился бы. А может быть, он и влюбился, но только не посмел себе в том признаться. Они вернулись к компании. Комиссар щёлкнул по пластиковому козырьку кепки Валентина ногтем, обхватил Вику за талию и усадил к себе на колени. Она сидела на коленях комиссара напротив Валентина и подпевала общему хору, красиво раскладывающему на голоса что-то такое Валентину незнакомое. Ему вновь налили, и он, зажмурив глаза на закатное солнце, выпил долгим сладким глотком. Встал, покачиваясь, побрёл к дороге, поднялся на холм и остановился возле старой разлапистой берёзы. Ему хотелось, чтобы Вика видела его. Увидела, оставила комиссара и пришла. Пришла, чтобы он вновь почувствовал на губах её сладкое пьяное дыхание. Но никто не пришёл, и Валентин сидел на бревне, выбивая носком кеда камушки из-под старого пня. «Сидя на красивом холме, — звучало в голове Валентина. — Сидя на красивом холме. Сидя на красивом холме». И так по кругу одна запавшая в память строчка незнакомой песни.
Потом он встал и пошёл туда, где играли в футбол. Стоял и смотрел на мячик до тех пор, пока не закружилась голова. Тогда он выругался вслух грязно и неизобретально, вернулся и снова выпил. То, что ещё совсем недавно казалось ему прекрасным и чудесным, опрокинулось внутри него, словно плошка с густым приторным киселём. Опрокинулось и повлекло за собой к земле, рванувшейся куда-то за острова, за пролив, к материку с той самой скоростью, с которой летают планеты, когда на них устают жить люди. Его подняли, отнесли в барак, положили на раскладушку. Стены барака то раздвигались, то сужались в узкую щель, через которую Валентин видел жухлую траву двора и прислонённый к дверному косяку велосипед. Ему хотелось поговорить с кем-то, что-то объяснить, что-то сказать. Но он лишь лежал, укрытый ватником, и не то стонал, не то скрипел гортанно. Наконец нестерпимо стало удерживаться на раскладушке. Его влекло на пол и дальше, через доски барака к земле, через землю вниз, вниз, в затхлую темноту нутра Острова. Он встал, дошёл до предбанника, выпил ковш холодной воды из стоящего там жестяного бака, растёр себе виски. Выбрался наружу, инстиктивно начал дышать глубоко и сильно, пока его не скрутило где — то внутри и не вырвало в пыльный куст у рукомойника.
Потом он шёл по корявой брусчатке лесной дороги, срывая еловые иголки. Жевал хвою, стараясь заглушить запах алкоголя. Они кололи язык, кислили, смолили, набивали оскомину. Но он всё жевал, срывая новые и новые с самых кончиков еловых лап у дороги. Зелёные, липкие, пахнущие. Шёл, представляя себе влажный взгляд матери, встретившей пьяного сына, и издевательства брата. Васькины подначивания уже звучали у него в ушах: «Ну, баклан, ну накеросинился, задрота». После поворота на Секирную неожиданно почувствовал себя лучше, свернул в сторону от дороги к лесному озеру, закатал брюки, скинул футболку и тщательно вымылся в ледяной воде. Прихлопнул комара, присосавшегося к лопатке, растёрся футболкой и её же надел на себя. Сразу зазнобило. «Соберись, — скомандовал он себе, — соберись. Дыши!» Вернулся к дороге, сел прямо на брусчатку в позу лотоса и сделал несколько дыхательных упражнений, прогоняя через себя энергии. Поднялся, встряхнул руками, размял шею. Хмель неохотно, но отступал. «Ничего-ничего», — сказал себе Валентин и зашагал уже быстрым, уверенным шагом.
Дома горел свет. Мать спала. Кира читала книжку под жёлтым абажуром. Васька сосредоточенно протирал ветошью какой-то агрегат. Валентин невнятно поздоровался, прошёл в кухню, налил себе молока и выпил залпом вначале один стакан, потом второй.
«Чего поздно так?» — спросил брат. Валентин что-то буркнул в ответ про дела, забрался под одеяло и сразу заснул: тяжело и глухо, как не спал ни до этого, ни после. Утром проснулся раньше всех. Выпил очередной стакан молока. Стараясь не издавать звуков, оделся и ушёл в посёлок. Дорогой он корил и клял себя, чувствуя во внутреннем голосе интонации отчима. И от этого становилось горько и неуютно.
Маринка остановилась перед дверью подъезда, нащупывая в сумочке ключи.
— Если ты думаешь, что сейчас поедешь домой, бросив меня одну на растерзание мукам совести, то ты ошибаешься.
— Пора мне, — Валентин как раз решил, что такси ему лучше ловить на Красных воротах.
— Никуда тебе не пора. Девушке плохо. Не имеешь никакого права меня оставить в таком состоянии одну.
— Ты не одна. Тебе сейчас дядя Сеня всыпет по первое число.
— А вот и не всыпет, не всыпет. Их нет. Они с Людой в Праге. А я есть хочу-хочу. Мне плохо-плохо. И мне очень одиноко и страшно. И вообще, я — дура, что показалась тебе в таком виде. Но если уж я показалась, то нужно идти до самого конца.
Валентин дёрнулся от слов «до самого конца», представив себе то, к чему может привести нахождение с нетрезвой шебутной Маринкой ночью в пустой квартире. Однако он поднялся по лестнице, поддерживая плохо стоящую на ногах девушку за локоть, открыл дверь в квартиру, усадил Маринку на стул в прихожей. Сам снял обувь и прошёл на кухню. Открыл холодильник, нашёл плошку с котлетами. Поставил разогреваться в микроволновку. Маринка шуршала плащом и что-то бурчала себе под нос. Она сняла босоножки и по очереди запустила их вдоль по коридору.
— Не бузи, — Валентин поднял и аккуратно поставил их у стенки, — лучше душ прими.
— Я сама знаю, что мне делать! Но за заботу огромное спасибо. Забота — это основа долгого и сильного чувства, которое у тебя должно ко мне возникнуть. Жалость, забота, а потом уже страсть и любовь. Это совершенно нормальный тренд. Психология описывает такие случаи сплошь и рядом. Сплошь описывает и рядом описывает.
Валентин ничего не ответил, сделав вид, что рассматривает содержимое холодильника. Маринка скинула плащ и прошлёпала голыми пятками в темень квартиры. На кухне зажглась колонка. Похоже, что совет про душ сработал. Он достал телефон, посмотрел на время. Решив, что звонить уже не станет (три часа ночи), поставил чайник на плиту. Если Ольга не спит и ждёт его, то позвонит сама, а если спит, то лучше и не будить. Нет ничего хуже, чем ночной телефонный звонок.
На подоконнике скучала книга японской прозы в ярком супере. Вместо закладки из середины торчала фотография дяди Сени на загранпаспорт. Валентин нажал на карточку, чтобы глаза Семёна Эдуардовича скрыл переплёт. Полистал страницы. Зачитался диалогом, подумал, что в современной японской прозе так мало японского и так много современного. Пощёлкал кнопками магнитолы. Нашёл радио с джазом. Микроволновка сухо звякнула, сообщая, что котлеты разогрелись. Достал тарелку, покрошил сверху найденный в холодильнике укроп, положил сбоку консервированную спаржу. Поставил на стол. Нож. Вилка. Салфетка уголком. Крепкий чай в высокую кружку. Три ложки сахара. Долька лимона.
Дошёл до двери в ванную. Там равномерно шипел душ.
— Ты как там?
Ответа не последовало. Он постучал костяшками пальцев.
— Марина Семёновна! Вы там в целости и здравии?
Опять никакого ответа. Валентин нажал на ручку двери и осторожно заглянул внутрь. Девушка лежала в ванной под льющим сверху прохладным душем, скорчившись и обхватив колени руками. Тонкие голубые вены проступали сквозь прозрачную кожу. Губы побелели. Кистями рук, сжатыми в кулаки упиралась в скользкую стенку. Она спала. Быстро закрутив краны, Валентин поднял тоненькую, белую от холода, отяжелевшую хмелем Маринку на руки. Схватил первое попавшееся полотенце, обтёр, обернул, укутал, снова поднял на руки. Та сонно обняла его за шею и что-то прошептала. Донес до спальни, переступая через брошенный в коридоре плащ и сумочку. В темноте чертыхнулся, ударившись об угол кресла, добрался до кровати. Изогнувшись, одной рукой сдёрнул покрывало и уложил Маринку в постель. Укрыл. Бросился на кухню, заметался в поисках грелки. Захлопал дверцами и ящиками. Нашёл грелку висящей в пенале на гвоздике. Набрал горячей воды, принёс и положил Маринке в ноги.
— Ну, дурочка с переулочка! Как же так можно?
— Можно, — сонно пропела Маринка, схватила руку Валентина, уткнулась в его ладонь носом. — Ты побудь со мной немного. Я понимаю, что нужно идти. Но посиди, пока я не засну. Мой рыцарь, мой герой, мой Валечка.
Сопела в ладонь. Морщила лоб. Дышала часто, тяжело, словно трёхстишиями. Потом всё реже, ровнее, пока не заснула совсем. Валентин осторожно высвободил руку, посмотрел на успокоившееся, ослабевшее тонкими морщинками Маринкино лицо. Наклонился. Вдохнул сырой и тёплый запах волос. Провёл тыльной стороной ладони по её переносице. Погладил по щеке. Поправил одеяло, подоткнув его со всех сторон. Наклонился и долгим-долгим поцелуем замер у мокрой прядки за ухом. Закрыв глаза. Задержав дыхание. Слыша раскидистый, дробный стук своего сердца: «Спи, малыш. Спи».
И в голове ли, в сердце ли, в ушах его взорвалось, треснуло: Мариночка-девочка. Милая, хорошая. Руки твои детские целовать бы и целовать. Прижать к себе — умереть. Дыханием твоим в висок как воскрешением напиться. Маринка… Маринушка. Ребёнок неразумный, безумная моя принцесса. Кинуться в ноги тебе ерохой грязным, выпластать руки по снегу. Пока со двора не погнали, пока псы в тулуп не вцепились та дворовые за ноги не оттянули. Только бы подползти ближе. Чтобы дыханием своим снег у ног твоих растопить. Марина. Маринушка.
Через три дня после того вечера Маринка зашла в аудиторию, где Валентин читал лекцию, извинилась, сказала, что по поручению из деканата, и вручила Валентину сложенный вчетверо листок. Валентин поблагодарил и продолжил занятие. Оставшиеся двадцать минут лекции он погнал с такой скоростью, что даже отличники на первом ряду не успевали записывать, то и дело прося повторить. Наконец пара закончилась, Валентин собрал со стола записи, в ту же папку небрежно бросил листок и вышел из аудитории. В длинном университетском коридоре он встал у окна и, делая вид, что просматривает что-то в папке, развернул записку: «Прекрати скрываться от самого себя. Я жду тебя в Столешниковом. Там сегодня музыка, которая тебе понравится. Приходи». Он никогда раньше не видел Маринкиного почерка, но если бы он его себе представил, то именно таким — торопящимся, с вылетающими куда-то «у» и «б», с огромными «Т», словно спорящими со всеми остальными буквами. Валентин закрыл папку, достал из кармана телефон и позвонил Ольге предупредить, что сегодня задержится, поскольку неожиданно попросили подменить коллегу у Эскина «на фирме». Он терпеливо выслушал рассказ жены о том, как дочка измазала зелёнкой дверь в кухню и теперь на выходных придётся скоблить косяк лезвием. Спросил, как себя чувствует Варька, у которой утром поднялась температура, пошутил про Воскресенского, встреченного им в метро, и нажал «отбой».
До метро «Университет» Валентин бежал бегом, провожаемый удивленными взглядами расположившихся на лавочках студентов. Пролетев по эскалатору, он втиснулся в переполненный вагон, ощущая, что опять фатально покраснел. Это казалось заметным даже на отражении в тёмном стекле вагонной двери. За годы он научился бороться с этой удивительной реакцией на волнение. Валентин глубоко вздохнул, задержал дыхание и медленно расправил внутри себя что-то тугое и искрящееся, заполняя невидимым светом вначале самого себя до кончиков пальцев, а потом и окружающее пространство. К «Парку культуры» он совсем успокоился, а на «Охотном ряду» поднимался по эскалатору уже в любимом им самим состоянии звучащей струны.
Девушка ждала за столиком во втором зале. Перед ней стоял бокал с коктейлем, наполовину уже выпитым, а сама Маринка рассеянно листала журнал. Заметив Валентина, она демонстративно бросила журнал на пол, широко улыбнулась, так что потешные хвостики показались завершением этой улыбки. Сказала что-то, что Валентин не различил из-за музыки и шума, и в тот же миг по кошачьи потянулась всем телом, подняв руки вверх и прикрыв глаза, словно после долгого сна. Проходящего мимо официанта Валентин попросил принести коньяк и двойной эспрессо. Сел напротив Маринки на свободный стул. Некоторое время смотрел в огромные серые глаза за стёклами очков, потом взял Маринкины ладони в свои, повлёк девушку к себе и поцеловал в губы.
— Мой милый-милый рыцарь, мой Валечка, — прошептала Маринка.
В кафе они высидели только час. Они смотрели в глаза друг другу и, задыхаясь, городили околесицу из имён, ласковых слов, эпитетов и прощений. Им обоим хотелось двигаться, бежать куда-то, всё равно куда, только чтобы не задохнуться от пульсирующего внутри безумия. И они почти побежали, взявшись за руки, как школьники, удравшие с уроков: по Петровским, Сандуновскому, Варсонофьвскому, потом по Лубянке, Сретенскому, Боброву, через бульвар, дальше-дальше по Мясницкой. И уже зажигались фонари, играя в пятнашки с витринами магазинов и кафе. И шаг уже становился медленнее, словно сходящие на Москву сумерки успокаивали весеннюю лихорадку. И Валентин понимал, что Маринка вероломной цыганкой украла его и влечет к себе, в дикий дым своей девичьей страсти, единожды попав в который можно забыть о времени, лишиться имени своего и своего дома.
По лестнице они взбежали. Маринка впереди тянула Валентина за рукав. На предпоследней площадке она выпустила его локоть и, не останавливая шага, нашарила в сумке ключ. Дверь обреченно вздохнула, раскрылась, ухнула за спиной со всей фатальностью обрушившегося мира, оставив их в полной темноте прихожей и вселенной, где Валентин обнял наконец свою Маринку, сотрясаемую ознобом, плачущую, смеющуюся, стонущую от вожделения и любви, целующую и кусающую ему губы.
Летом Валентин отправил Ольгу с Варварой в Красновидово, в университетский дом отдыха. Он убеждал себя, что давно собирался это сделать и что это никак не связано с происходящим между ним и Маринкой. Два месяца до этого он жил, словно нашкодивший первокурсник, ныкающий под маской безразличия восторг прогула. Он стал подчёркнуто внимателен к жене, много занимался с Варварой и старался проводить выходные дома или совершая с семьёй поездки загород. Но в те ночи, когда выпадало его «дежурство по искусству», он теперь возвращался под утро. Ольге объяснил, что поменялась программа всего мероприятия, и теперь его присутствие требуется на всех площадках. Он возвращался домой, когда жена уже выбегала в университет. Это позволяло ему не прятать глаза, наполненные любовью к другой. Его встречала Варвара, на звук открываемого замка срывающаяся с дивана, где она смотрела мультфильмы. Дочь громко ударяла босыми пятками в линолеум. Маленькая весёлая лошадка. Валентин кормил Варвару завтраком, некоторое время читал ей, а потом ложился спать до двух часов, когда нужно было разогревать дочери обед. Вечером они шли гулять и вместе дожидались Ольгу на детской площадке. Поначалу у Валентина внутри закручивалась пружина неправильности, неверности происходящего, но уже через месяц он привык, и сам себе простил и измену свою, и свою двойную жизнь.
Маринка правдами и неправдами убедила отца, что должна жить самостоятельно, и тот снял ей квартиру на Ленинском проспекте всего в трёх кварталах от Валентина. Самого Валентина он попросил «по-соседски» приглядывать за дочкиной самостоятельностью: «Чтобы там бузотёрства не было. Ей ещё сессию сдавать». Но Маринка училась блестяще. Сессию она опять сдала досрочно и, удивив родителей, не попросилась куда-либо ехать, а осталась в городе. Валентин просыпался в этой квартире на Ленинском, проспав обычно не более двух часов. Стараясь не шуметь, чтобы не будить разомлевшую от любви и утреннего солнца Маринку, он шёл в душ, потом выпивал на кухне стакан купленного с вечера кефира. В ванной у него появилась собственная зубная щётка. Маринка подарила ему и бритвенный прибор, но Валентин категорически отказался выставлять его на полочку.
— Ты рехнулась, принцесса! Придёт дядя Сеня с инспекцией, а тут у тебя бритва в стаканчике!
— Ну, а тапочки сорок четвертого размера его не смутят?
— Тапочки — это для гостей. Вон сколько их у тебя, — Валентин кивнул на ряды домашних тапочек в гардеробном ящике. — А бритва — это уже что-то настолько подозрительное, что пора обращать на дочь самое пристальное внимание, а то мало ли что.
— Мало ли что — это что? — рассмеялась Маринка.
— Сама знаешь, что может подумать про это дядя Сеня.
— Ничего я не знаю. Мне мужская психология неведома.
— Что ты называешь мужской психологией?
— То, что вы называете логикой, — щурилась Маринка, затянувшись тонкой сигареткой.
— Хорошо. Я тебе скажу, — Валентин взял Маринкины щёки с ямочками в ладони и легко щёлкнул её по носу, — Дядя Сеня подумает, что где бритва, там и всякие отношения, а где отношения — там беременность и несданная сессия.
— Глупости какие, — хмыкнула Маринка, — подумаешь, отношения. Эка невидаль. А противозачаточные на что? Мой папа хоть и ретроград-надомник, но вполне осведомлён о наличии в мире контрацептивов и противозачаточных таблеток. Думаю, что даже про синенькие таблетки он что-то знает. Иногда у них в спальне так кричат, — Маринка протянула букву «а» и сладострастно закатила глаза.
Маринка зачастую поражала Валентина своей непосредственностью. Она и сама, видимо, понимала, сколь сильное впечатление оказывают её рассуждения о сексе. Очень уж это не вязалось с образом маленькой шкодливой девчонки с двумя хвостиками или с волосами, скрученными в спираль.
В рассуждениях было столько же цинизма, сколько и детского непонимания табуированности альковной темы. Например, Маринка, заваривая чай, вполне могла обсуждать размер достоинства Валентина, не заменяя известное слово какими-либо эвфемизмами. Казалось, что говорить так доставляло ей наслаждение. Валентин сперва краснел, потом привык и стал даже получать от этого скрытое удовольствие. Маринка любила проговаривать вслух свои самые интимные ощущения, словно перекатывая за щекой сладкую карамельку, смакуя и наслаждаясь звуком собственного голоса. Что характерно, выбирала она для этого не самые подходящие места: в вагоне метро, на эскалаторе или в университетском кафе, когда никого не случалось за соседним столиком. Чаще всего в этот день у него не было «дежурства по искусству», и Маринка заводила его нарочно, радуясь, если замечала возбуждение. Потом она целовала его в щёку и убегала по своим делам. А Валентин отправлялся домой, дыша и успокаиваясь.
С отъездом семьи на отдых Валентин стал бывать у Маринки ежедневно. Если утром не нужно было ехать на защиту или в приёмную комиссию, то он позволял себе просыпаться вместе с ней в полдень. Они занимались любовью, а потом вместе шли в душ, где Валентин гладил стройное девичье тело мягкой губкой. Завтракали в комнате, сидя голыми на кровати и любуясь друг другом. Потом одевались и вместе выходили из дома. Маринка шла в метро, а Валентин на маршрутку. После университета Валентин искал очередной клуб или кафе, где его ждала любимая. В этом состояла особенная игра. Девушка присылала ему сообщение на телефон с координатами места, куда он должен приехать, чтобы получить дальнейшие указания. Обычно этим местом оказывался газетный киоск или обувная мастерская в районе Тверской. Смущаясь, Валентин называл своё имя, и ему передавали конверт с нарисованным сердечком. Внутри Маринка помещала хайку, посвящённое Валентину, и адрес, по которому он сможет её найти. Иногда она усложняла поиск — по указанному адресу оказывался жилой дом, и тогда Валентин внимательно оглядывал его фасад, чтобы различить написанный помадой трёхзначный номер. Он посылал этот номер сообщением на Маринкин телефон, после чего та звонила и, смеясь, рассказывала, где находится.
Маринка с упорством и страстью посещала творческие вечера, литературные чтения, вернисажи и перфомансы. Там она, казалось, знала почти всех. Со многими здоровалась, целовалась, кокетничала, хитро поглядывая на Валентина. Московские журналы печатали её колонки с репортажами. Она легко и лихо писала, играя цитатами не знакомых Валентину современных литераторов, из модных философских трактатов, ссылаясь на людей, имена которых Валентину ничего не говорили, но, по всей видимости, служили для читателей условным кодом. Получив гонорар, Маринка тут же организовывала «брейн-пьянку» в каком-нибудь модном заведении для молодых интеллектуалов. За столом присутствовали личности, виденные Валентином в телевизоре. Многие оказывались весьма симпатичными людьми. Валентина Маринка представляла как историка, преподавателя университета и её бойфренда. Молоденькие девушки, знакомясь, целовали его в щёку, молодящиеся подставляли для поцелуя руку.
Валентин открывал Москву заново. Казалось, что последние лет десять он жил в каком-то другом городе, вдалеке от настоящей жизни. И только сейчас вокруг него начало всё происходить, случаться. Словно питало его эти годы иное электричество — отмеренные кем-то скупые киловатты. Те, что предназначены для ламп дневного света на потолках архивов, для дверных звонков, микроволновых печей да телевизоров. И как не старался, он не мог вспомнить, когда же жизнь превратилась в унылую колготу суток, состоящих из лекций, домашних хлопот и редких посиделок с давно знакомыми и давно неинтересными людьми.
Иногда Валентин сбегал домой и оттуда звонил Ольге, шутил, рассказывал университетские сплетни. Потом жена передавала трубку дочери, и Валентин слушал торопливую скороговорку Варвары, спешащую поведать о какой-то девочке с Барби, о мальчике, который мешал им играть, о том, что они ходили с мамой на кино, о том, что она купается, а мама не позволяет ей залезать на дерево. Поговорив, Валентин всякий раз неподвижно стоял у окна, стараясь унять кислую изжогу совести. Закуривал, наливал себе рюмку коньяку, включал телевизор на кухне. Но происходящее на экране не могло его заинтересовать. Набирал телефон Маринки и через полчаса уже, стоя на коленях, целовал её нервные пальцы в тонких веснушках.
Так прошёл почти весь июнь. До возвращения семьи из отпуска оставалась неделя. В одну из суббот они с Маринкой проснулись уже за полдень, занялись любовью и, насладившись друг другом, курили в постели. Телефон зазвонил, когда Валентин почувствовал возвращение силы и, лёжа на боку, ласкал Маринкину грудь, наблюдая, как твердеет её тёмный сосок.
— Ну вот, выключать надо, — капризно сказала девушка и перевернулась на живот.
Валентин встал и нащупал в кармане висящих на спинке стула джинсов телефон. Звонила жена. Валентин вышел на кухню, прикрыв за собой дверь. Он старался не разговаривать с Ольгой в присутствии Маринки.
— Валя, ты где? — голос жены казался озабоченным.
— Дома, где же я ещё могу быть, — привычно соврал Валентин, — только что из душа вывалился. У нас тут тропики настоящие. Давай осенью, когда будет дешевле, кондиционер поставим. Летом, невозможно находиться в квартире. Как думаешь, Варька не станет простужаться от кондиционера?
— Варька уже простудилась. У неё воспаление лёгких. Мы дома. Валя, ты где?
Валентин резко ощутил горячую шершавую тяжесть в затылке. Словно всю голову обернули разогретым в духовке вафельным полотенцем.
— Оленька, я… Я сейчас. Сейчас буду.
Он нажал отбой и положил трубку на стол. Стоял минуту, собираясь с мыслями. Наконец взял телефон и набрал номер Воскресенского.
— Дрюня, привет. Оля тебе звонила?
— Привет. А что случилось? Не звонила.
— Выручай. Если что, я сегодня у тебя ночевал. Бухали вчера. Хорошо?
— Не бухали, а аккуратненько выпили немножечко водочки. Я всё понял. Во сколько ты вчера ко мне пришёл?
— Я к тебе не пришёл, ты ко мне заехал в универ и забрал к себе.
— Как скажешь. Ох, академик, что-то ты там мутишь! Ладно. Это не моё дело. Но ты уж там осторожнее.
— В каком смысле?
— Во всех. Это я тебе как человек с многотрудным опытом разводов говорю.
— Надеюсь, что до этого не дойдёт.
Валентин бросился в ванную. Наскоро смыл с себя ночь, почистил зубы. Когда он вошёл в комнату, Маринка сидела на кровати, обхватив колени руками.
— Уходишь?
— Варвара заболела. Они приехали.
— Запалился?
— Мне не нравится это слово, — Валентин вдруг почувствовал раздражение.
— Как скажешь, — Маринка завернулась в простыню и посмотрела исподлобья, — Меня бесит, что у тебя есть ещё кто-то кроме меня.
— Маринушка, это моя дочь. Она заболела. И я должен идти. Ты сама всё понимаешь. Ты же умница.
— Ты бежишь не к дочери, ты бежишь к Ольге. Ты бежишь к ней с чувством вины, опасаясь за свой status quo, лихорадочно придумывая, что ты сейчас будешь врать. Обычно ты врешь что-то заранее подготовленное, а сейчас тебе предстоит экспромт. А ты не любишь экспромтов. Ты любишь, когда все понятно заранее. И ты злишься на себя, что ты такой мудак, а она такая хорошая. Злишься на меня, что я совратила тебя — героя и рыцаря, и от того действительно становишься мудаком.
— Перестань! — Валентин никак не мог застегнуть пуговицы на рубашке.
— Обязательно перестану, — в голосе Маринки послышалось недоброе. — Что ты будешь делать, когда я перестану? Ты уже привык ко мне, у тебя ломка начнётся.
— Я не это имел в виду, — Валентин наконец справился с пуговицами, — я только прошу тебя не капризничать. Ты всё знаешь. И знаешь, как я к тебе отношусь. Не нужно этого. В конце концов, тебе это не идёт. Тебе не идёт синий цвет и не идёт говорить банальности. Просто отпусти меня сейчас домой.
— А потом?
— Что потом?
— Что будет потом?
— Потом я тебе позвоню.
Валентин легонько щёлкнул Маринку по носу и выскочил из квартиры. Не дожидаясь лифта, пешком сбежал на первый этаж. Во дворе обернулся и посмотрел наверх. Маринка стояла в окне голая и показывала ему язык. Он помахал рукой и устремился к дому через дворы.
Возле их парадной ждала скорая. За рулём водитель в форменной синей куртке читал газету. Поднявшись на двадцатый этаж и отперев дверь, Валентин сразу увидел врача, который устроился на кухне выписывать рецепты. Ольга выглянула из детской на звук открываемого замка, рванулась к нему, обняла и подтолкнула в комнату:
— Иди к Варьке. Я сейчас. Надо с доктором поговорить.
— Что с ней?
— Потом. Кажется, не пневмония.
Валентин заглянул к дочери. Она лежала на своей детской двухэтажной кроватке, закутанная в шерстяной платок, и смотрела на дверь. Он подошёл, положил руки на бортик кровати, на руки подбородок.
— Ну что, заболела?
— Заболела.
Голос у Варьки оказался сиплым и неожиданно взрослым. Валентин протянул руку и коснулся дочкиного лба.
— Горячий.
— А ещё мне снились страшные сны. Такие огромные деревянные шары, которые на меня со всех сторон катятся.
— Это от температуры. Будешь принимать лекарства, и всё у тебя пройдёт.
— Что ты мне подаришь на день рождения?
— А что ты хочешь?
— Хочу, чтобы ты подарил мне что-нибудь красивое, но не знаю что.
— Куклу?
— Нет.
— А что?
— Не куклу. Не знаю. А я поправлюсь ко дню рождения?
— Конечно, до него ещё три месяца.
Врач ушёл, и Ольга вернулась в детскую. Стояла рядом с Валентином, обняв мужа за шею. Они смеялись и тормошили девочку, старались развеселить.
— Хочешь, мы положим тебя в большой комнате и включим мультики? — Валентин вопросительно взглянул Ольгу.
— Хорошая мысль, — Ольга встала на цыпочки, чтобы губами достать лба дочери, но не дотянулась, — Я сейчас постелю на диване, а ты её принесёшь. Всем хороша эта двухэтажная кровать, но если ребёнок болеет, то к нему толком не подобраться.
Варьку переложили на диван. Включили телевизор. Дали горячего молока с медом, укутали, а сами ушли на кухню.
— Я был у Воскресенского. Не ожидал, что приедете, — как бы невзначай изрёк Валентин, усевшись на свой любимый табурет у окна.
— Знаю. Он мне звонил, просил, чтобы я тебя не очень ругала, но мне было не до разговоров. Как раз врач пришёл. Не понимаю, зачем соврал, что дома.
— Сам не понимаю. Это со вчерашнего. Выпили крепко. Голова не очень соображала. Решил, если скажу, что у Воскресенского, расстроишься.
— Алкоголик мой, — Ольга повернулась от плиты и поцеловала Валентина в лоб. — У тебя пусто в холодильнике. Ты как питался эти дни?
— В университете. Иногда в кафе. Дома готовить не хотелось.
Валентин сидел, прислонившись спиной к стене, и смотрел, как Ольга ловко кромсает ножом найденное в морозильнике мясо. Жена постройнела в отпуске. Из-под короткой рубашки виднелась загорелая крепкая спина. Светлые летние брюки плотно облегали бёдра. Невольно залюбовавшись, он внезапно осознал, что очень любит эту женщину. Любит спокойно и глубоко, как любят только родных людей: без надрыва юношества, без ревностного томления, но и без страсти. Осознал, что Ольги внутри него несоизмеримо больше, чем остального мира. И даже ложь его и измена по сравнению с этой его любовью — лишь малый камушек, судьба которому сгинуть на самом дне совести. И ему стало легче. Словно внутри себя нашёл вдруг то, на что можно опереться. Он почувствовал, что очень соскучился, что очень сильно соскучился по жене, по Варьке, по такому вот субботнему дню, когда он сидит на кухне со свежей газетой, а Ольга готовит обед. И им хорошо. Им всегда было хорошо вдвоём. Им и сейчас хорошо.
Они поженились на четвертом курсе. Вернее, Валентин учился на четвёртом, а Ольга уже защитила диплом и поступала в аспирантуру к Эскину. Свадьбу устроили в июне, перед тем как Валентин уехал на практику в Курскую область копать городище. До экспедиции успели побывать в свадебном путешествии по Золотому кольцу, где всю дорогу смущали молодую гидшу своими репликами. Ехали в душном, пропахшем бензином «Икарусе», пили «Сангрию» из пузатой бутылки и хихикали, шутливо комментируя экскурсию. Осенью семейной паре дали узенькую комнату в аспирантской общаге на Воробьёвых горах. Они посещали премьеры, ездили в Питер, регулярно ходили на корты. В их крохотное жилище каждый вечер подтягивались общие знакомые. Смотрели видик, пили, обсуждали книги, сплетничали. Иной раз они ощущали себя в центре мира, в месте, откуда видно всё и где можно всё понять.
Потом защита диплома, поступление в аспирантуру. Защита Ольги. Его защита. Два летних месяца, проведённых на Острове у матери. Первый и единственный долгий совместный отпуск, позволивший вдруг, после четырёх лет совместной жизни, почувствовать себя семьёй. И это ощущение семьи, сошедшее как благодать, отгородило их от остального мира, словно сосредоточив на некой программе, в которой был дом и рождение детей. Возможно, они просто взрослели. Случайных приятелей становилось все меньше, пока те вовсе не перестали появляться в их жизни. Друзья разъехались по городам и странам. Оставшиеся в Москве завели свои семьи, воспитывали детей, работали и собирались вместе лишь на днях рождения, да и то не всегда. Нонконформизм юношества уступил место быту, ощущению понятности и привычности единожды избранного пути. Валентин много работал, оставаясь на кафедре допоздна. Летом ездил в экспедиции, зимой на семинары, писал докторскую. Ольга работала на кафедре у Эскина, читала лекции, делала переводы для журналов. И им всегда было хорошо. Совсем не так, как вначале, но всё равно хорошо. Рождение Варвары лишь добавило смысла их настоящему. Казалось, что они действительно счастливы.
Как невовремя, не к месту появилась Маринка с её взрослением, гиперсексуальностью, с её страстью, с истеричной влюблённостью, грозившей проблемами. Маринка с её играми, звонками, письмами. Маринка с её худыми тонкими лопатками, которые он так полюбил целовать. Маринка с влажной прядкой рыжих волос, прилипшей ко лбу, и капельками пота на верхней губе, когда она лежала голая на простыне после того, как всё случалось. Лежала, вытянувшись, выгнувшись долгой запятой, обещающей сладкие причастия к своим тайнам. И Валентин, даже если бы и захотел, не смог бы найти в себе силы отказаться от рухнувшего на него искушения.
9. Я и Лёха
Зря мы вина купили. Надо было пивом ограничиться. А тут разморило. Ну, куда идти? Лежу в лодке, в такт мыслям волны, в так волнам тошнота. Свитер свернул, под голову сунул. Солнце жарит, — нос точно обгорит. Лёха брюки закатал, по воде бродит, высматривает что-то. Не то камушек красивый, не то стеклышко. Молчаливый. На него такая задумчивость редко нападает. Его, как правило, не угомонить, ему не спротивиться. Это что с ветром в тополе спорить. Всё равно пока дует, листва шумит. А тут молчаливый.
Ему в армии за болтовню вечно доставалось по-первости. Ещё в Иолотане, в учебке. Сержант взвод построит, орёт, глазами вертит, а Леха во второй шеренге обязательно ляпнет что-то.
— Паратаенко!
— Я!
— Выйти из строя!
— Есть!
Ладонью мне по плечу. Я в сторону. Он два шага отбухал, развернулся. Замер по стойке смирно. Сержант перед ним встал, на каблуках качнулся и в грудак ему со всей дури. А он уже готов к этому — мышцы напряг. Боксом на первом курсе занимался. Привычен. Сержант хоть и здоров, а пробить в солнечное сплетение не получается. Не сгибается Лёха. Он ему ещё, а Лёха стоит.
— Вернуться в строй!
— Есть!
Поворачивается. А тут и пендель сапогом со всей мочи. Но зла на сержанта не держали. Сука он, конечно, но не по злобе, а по должности. Когда в часть отправляли, зазвал нас с Лёхой в каптёрку, коньячный напиток «Стругураш» по кружкам разлил. Жуткое пойло, мы его «Кандагар» называли. С ног только так валил.
— Чтобы вы, суки-чижары, живыми вернулись! Жопу не подставлять, шакалам не верить. Давай, бухарики! Студентозы грёбаные.
Хороший парень. Потом с ним из части переписывались. Когда я в госпиталь попал, он даже приезжал. Уже по гражданке одет, в кроссовках белых. Модный такой. Блок кишеневского Marlboro мне привёз, вина домашнего. Молдаванин.
А шакалы — это, значит, офицеры. И хрен разберёшь, откуда слово такое взялось. Лейтёх, что с нами служили, словом таким и называть не хотелось. Нормальные ребята. Они в часть за полгода до нас попали. Старше, дай бог, года на три. Даже замполит и тот нормальный. Из Риги парень. Там же и политучилище закончил. На гитаре блюзы играл. Битлов наизусть знал. Нормальные пацаны. Не шакалы. А замполита потом убило. Это уже осенью, в ноябре, в том самом конвое. Как раз год отслужили. Вру. Приказ раньше был. Неделю со звёздами на жопе проходили. Ну и что? Нормально. Положено так. А это через пару месяцев случилось, уже совсем холода начались. Ноябрь. Палатки углём отапливали. Чижи, по неумелости, пыли угольной натащат, в печку засыпают. Взвесь в воздухе, чихаешь. Кулаками научишь, если с первого раза не поймут. Это нормально. С кулаком лучше запоминается.
И в двадцатых числах царандоевскую колонну сопровождать послали. Один БТР спереди, один сзади, и мимо всех застав по Салангу. Колонны опять грабить начали. И хрен знает, кто. И вроде не Ахмад Шаха братва — с тем командование договорилось. Какие-то другие грабят. Да разве их там разберёшь? От заставы до заставы совсем ничего, так нет же: успевают как-то. Похватают из кузовов, царандонов постреляют, машины пожгут и в зелёнку. Царандоевское командование попросило помочь. А нам до отправки в союз меньше месяца. Все уже знали, что Новый год дома встречать будем. Из Джабаль Усараджа и не вылезали. Так, по мелочам. Патрулирование да по кишлакам пройтись на всякий случай. И вдруг эти конвои. И что сделаешь? Молодых отправить? Так нет молодых, не присылали уже, только водилы на замену.
Мы с Лёхой в замыкающей машине. Нормально ехали. С хорошей скоростью, не останавливались. Мост у сорок второй заставы миновали, а тут уже всё родное. Лёха с остальными на броню вылез, а я внутри голос Америки по рации слушаю. Была у меня такая причуда. Мне отец из Амдермы приёмник прислал «Нева» и наушник — ещё в учебку. По ночам слушал. Пристрастился. Но там частоты узкие, не то что в танковой рации. А по голосу Америки как раз какая-то музыкальная передача, рок наш гоняют — Гребенщикова. Это же совсем нереально. Жопа мира, вокруг горы, а в наушниках Боб. Почти стерео. Я даже выстрелов сначала не различил, решил, что это барабанная партия такая.
Водила по тормозам. Он только из учебки, чиж из Москвы — студент историк, Илюха. Здоровый такой, доброволец. Мы его слоном звали. Незлобивый парень, но резкий. А его в учебке как учили? До автоматизма довели: попал под обстрел — меняй скорость и траекторию движения. Ну только какого чёрта так тормозить? Скулой о железку какую-то ударился. Наорал на него. А что орать? Как тут траекторию поменяешь? Вся дорога шириной метров пятнадцать. Слева скалы, внизу ущелье. Напротив, за ущельем, кишлак дувалов десять. Бьют оттуда. Открыл десантный люк сзади. Кубарем вниз свалился. Наши все уже за машину попрятались. А бьют из миномёта и из ДШК. И этих ДШК у них штуки четыре. Лупят так, что не высунуться. Значит, и патронов до хрена. Где они набрали столько? Точно, продал кто-то на ход ноги. Всё равно, мол, уматываем из страны. Рано продали. Ох, рано.
Взводного в первой машине, как оказалось, сразу убило. И замполит в той машине ехал. Его тоже. Там вообще только двое в живых осталось. Залегли под колёсами и палили куда-то в сторону кишлака длинными очередями. У всех от РПК магазины — учёные. Наш КПВТ две точки погасил. Хрен ли, — пулеметная пара! А нам не высунуться. Сидим в «лифчиках», гранаты в подствольники запихнули. А что гранаты? Там метров четыреста как минимум— не добить. Ну, постреляли навесом куда-то вниз, на случай, если там кто залёг. Всё едино, не лишним будет. И колонну нам всю не видать. Они уже за поворот скрылись. Только один КАМАЗ перед нами горит, что там дальше творится, никто не знает. Лёха кричит водиле, мол, давай, объезжай погорельца и вытягивайся к повороту, там встанешь, до остальных ДШК дотянемся. Илюха по газам. Мы за бронёй вдоль скал. Только из-за уступа высунулись, так сразу и долбануло. Хрен его знает, из чего. Видать, по киризе кто поднялся под самую дорогу и дал кумулятивным. Я к люку бросился, кричу, мол, вываливайтесь, черти, а поздно. Второй удар. И тут то ли граната, то ли это меня крышкой, но ударило так, что отлетел метра на три. И всё. Только ощутил, что горячо сзади и мокро. Смешно, но почему-то тогда решил, что это я сам от страха обгадился. Мне теперь думается, что я и сознание от стыда потерял. Хотя, говорят, что контузия была. А осколок потом вынули. В заднице застрял, в сантиметре от копчика.
С Лёхой уже до дембеля не увиделись. Меня из госпиталя домой комиссовали, в часть не вернулся. Поездом ехал. С соседями по купе пошёл в вагон-ресторан. Нажрался. Они меня на себе через половину состава тащили. Хорошие люди попались. Геологи.
Лёха матюгнулся. Ногу наколол, что ли? Так и есть. Выбрался из воды, сел на песок, пятку разглядывает. Машка подошла. Очки на кончике носа, руками ногу обхватила, соболезнует. Осколок вытащили. Пластырем палец заклеили. На меня смотрят. А я что? Я лежу. Предупреждал же, что не надо в меня это винище из пакета лить. У меня с вином вообще отношения сложные, а с пакетным тем более. Никогда не поймёшь, сколько выпил, а сколько внутри осталось. Лёха ботинки зашнуровал, дохромал до лодки, сел рядышком. Молчит. Мысли мои, что ли, почувствовал?
Есть мысли, по которым нас узнают друзья. Не слова, не поступки, даже не жесты, а именно мысли. Достаточно подумать в толпе о том, о чем пристало думать в этот миг близким между собой людям, и откуда-то с дальнего конца перрона к тебе стремится он. Или она. Какая, в сущности, разница, кто стремится? Важно, что к тебе. И обнимешься, друг другу в глаза нырнешь, как в целебный источник, растечёшься друг по другу словами и словосочетаниями. Как родился. Или как не умирал. Но не всегда так. Дни какие-то для того специальные. когда близкие близко. А иной раз думай, не думай — никого.
Помню, как из Америки вернулся. Ну, не смог я в той Америке. Словно задохнулся ещё в аэропорту, да так и не вздохнул уже. И вроде улочки по фильмам понятные, горбатенькие, вниз к морю, мост этот вантовый, который на всех картинках, друзья, родственники, коллеги, ещё по конференциям знакомые, а не то. Не то, не моё. Отъикался, прокашлялся, проблевался, пронёсся ветром да и выдулся. Купил билет до Монреаля, оттуда до Хельсинок. В Хельсинках на автобус и домой. Утро. Суббота. Иду по городу, зноблю похмельем. А как ещё лететь так долго, если не пить? Мне вообще в самолёте дурно становится. В будку телефонную зашёл, набрал Лёху — у него не снимают. Набрал Зойку — у той тишина. Ещё в пару мест: кто на даче, кто спит, кто послал меня просто. Плюнул, выбрался на Невский, сел в десятку и на Ваську. У меня же в кармане ключи от квартиры бабушкиной. Продал комнаты, а ключи на память оставил. Брелок кожаный с тиснением «Ленинград — город герой». Это я ещё сам, в детстве, бабушке дарил, когда на каникулы к ней приезжал. В парадную вошёл, как на меня пахнуло этим запахом… Форточка где-то наверху от сквозняка хлопнула, стекло задребезжало, а мне что пощёчина: «Где шлялся? Мы глаз не сомкнули, все морги обзвонили. Где был?» А где был? Не знаю, как в тумане, как и не со мной. Ключом дверь в коммуналку отпер. Никого. Соседи спят ещё. На комнаты новые хозяева замков не навесили, да и не хозяева, а перекупщики. Не успели ещё вломить за «центр города у Невы». Прошёл по коридору, на кухню вышел. Там плита и чайник. Заглянул в кладовку, нашёл пачку краснодарского на верхней полке. Полки пустые, я же всё на помойку выкинул. А пачка эта завалилась. И как знал, что она там. Когда выбрасывал, лениво за стулом идти стало и не сходил. А теперь и рад. Заварил в чашке. В синей чашке с отбитой ручкой. Почему не выбросил? Почему оставил? Заварил крепко, зло, так, чтобы горечью себя наказать. И всё… Дома.
А деньги занимал… Сколько друзей обежал, сколько знакомых, сколько знакомых родственников. Никто. Смотрят на меня, пальцем у виска крутят: ты что, парень? Откуда такие бабки? А деньги же — тьфу! И не деньги вовсе. Пять тысяч долларов. Это перекупщик поверх той цены, за что ему комнаты продал, запросил. И не двинется падла, не споткнётся. На том свете ему, суке, отольётся, отпляшется. Ладно. Не о том это всё.
Светку в квартиру привёл, когда женихался. Говорю, здесь с тобой жить будем. Она по комнатам прошлась, пальчиком краску облупленную на дверном косяке поковыряла, на кухню сунулась, где соседи на счётчик электрический смотрят. На стол мой покосилась, в окно выглянула. Нос морщит. Не понравилось. Коммуналка. Лифта нет. Последний этаж. От крыши печёт. Лето, зной стоит невозможный, окна открывай, не открывай — всё едино легче не станет: сажа какая-то летит. Нет, не может тут. Не её. Дура. А и хрен с ней. В прошлом всё. Всё в прошлом.
Вон Машка. Та готова была жить и в коммуналке. Не пугало ничего. Только бы со мной рядом. Хотя, блажь, конечно. Хорошо, что не повёлся. Рехнулся бы с ней — безумная она. В Москву как-то приехал по делам. Это уже когда со Светкой разбежались, когда на Ваську вернулся и ландшафтами этими занялся. Зимой. У меня гостиница «Турист», полулюкс одноместный. Станция метро «Ботанический сад». Пешком никуда не добраться, только на метро или на такси. После переговоров-фуршетов я с понтом на такси приехал, коньячку треснул, дай, думаю, позвоню. Как-никак, а родственница почти. Посидим, поговорим о нам обоим понятном. Прискакала через сорок минут уже с бутылкой вина и грейпфрутом, суши в коробочке привезла. Засели с ней выпивать-болтать. Понятное дело, что не удержался. Как тут удержишься, когда столько страсти в девяти метрах полулюкса за тяжёлыми синими шторами перед телевизором с музыкальным каналом? Она же сама всё. Ушла вроде как в туалет, а слышу — душ зашумел. Дверь приоткрыла, руку протянула:
— Игорёша, полотенчико мне кинь. И рубашку какую-нибудь.
— Какую, — спрашиваю, — тебе рубашку?
— Ночную, — говорит.
И смеётся. Тянет руку и смеётся. И душ шумит. И Radiohead что-то истерическое по телеящику завывает. И огоньки машин внизу. И сам пьян уже изрядно. Ну как тут удержаться? Родственница чёртова…
Потом лежали в постели. А мне вдруг стыдно стало. Что позвонил — стыдно, что пригласил — стыдно, что быстро всё получилось — стыдно.
— Знаешь, — говорю, — В Петропавловке есть моя скамейка.
— Твоя?
— Погоди. Не перебивай. Рядом урна, в которую окурки кидать удобно.
— И бутылки пустые?
— И бутылки. А над головой ветки сирени. Представляешь, так удачно скамейка расположена, что на ней никому сидеть не хочется.
— Почему?
— Взгляд в стену упирается, а всё самое красивое где-то сзади и слева. Почти всегда свободна.
— И летом?
— И летом. Летом, кстати, у нас туристов из Купчино и Веселого посёлка поровну с туристами из Неаполя и Москвы.
— На Москву не наезжай. Это мой город.
— Я не наезжаю. Так вот, однажды освободился пораньше, машину у дома бросил, взял с собой что-то такое не до конца прочитанное и туда. А на скамейке семья из десяти вьетнамцев. Все маленькие, на ласточек похожи. Уместились рядком, головками крутят, чирикают что-то. И такие они трогательные, такие мультяшные.
— И что?
— Ничего. Подмигнул им и мимо прошёл.
— И что?
— Ничего. Ты представь.
— Что, Игорёша?
— Представь… Десять маленьких вьетнамцев на белой парковой скамейке.
Летом приехала. По белым ночам её водил. Мосты разводили, вино из пластиковых стаканчиков на набережной, пицца в плавучем ресторанчике, суп гаспачо. Светке, что характерно, о своём визите не слова. Партизанка.
Я её в Пулково встретил, в джип свой посадил, домой отвёз. Дверь в квартиру открыли, а там соседка. И не спится же ей в половину первого! Стоит, суп в кастрюле моим половником размешивает. За собственным лениво в шкаф забраться. Мой удобнее, на крючке над плитой висит. Глазом зыркнула, отвернулась, халатик запахнула.
— Здрасте. Я Маша. Я приехала к любимому мужчине.
— Добрый вечер, — сухо так.
— Можно, я у вас тут поживу три дня и три ночи?
— Живите, если хозяин позволяет, — и опять в суп уткнулась.
Вонь от того супа рыбная, неаппетитная.
В комнату провёл, свет включил, чемодан поставил. И до утра… Прямо на диване неразложенном… Как в детстве, честное слово. Но хороша, мерзавка. Безумная, страстная, жестокая даже. Но такое каждому мужику на день рождения пожелать можно.
В промежутке вышел на кухню чайник поставить. Соседка сидит, курит.
— На малолеток переключился?
— Завидно?
— Смотри триппер не подхвати.
— Суп не сожги. Уже палёным пахнет.
— Довыёбываешься. Женит на себе, потом будешь на стенки прыгать, когда нового и молоденького найдёт. Комнаты делить начнёте. Ты себе ту, что к кухне ближе, оставь. Она получше будет.
Завидует, что ли. Хрен её разберёт. Она вообще женщина странная, с причудами да с запоями.
В понедельник Машка не уехала. Пока я на работе торчал, сходила и билет поменяла. Ещё на две ночи осталась. А я что? Мне хорошо, хотя стрёмно, конечно. Вроде родственница, племянница бывшая. Инцест сплошной, но приятный такой, сладкий.
Ирка у меня появилась, так она ещё звонила. Но я сразу, мол, извини, радость моя, но тут личная жизнь складывается, не до тебя. Та в слёзы. Плакала в трубку. Несколько раз в месяц звонила и всякий раз плакала. Потом перестала, вроде поняла, что всё — значит всё. На двадцать третье февраля заявилась. Но это уже позже. И молодчинка такая, как зайка себя вела. Ирке понравилась.
…Вон, пришла из магазина. Очередную коробку с вином принесла. Ну что с ней поделать? Говорил же, что не надо, мне от этого сухача пакетного тоска по желудку и тягость в членах. Как не слышит. Лёху обняла, стоит пятками в воде, Леха на лодке рядом на локоть облокотился. Обнимаются. Доведёт мужика до дурости. Ну, положа руку на сердце, скажу, что смотрятся великолепно. Подходят друг дружке — оба с придурью. Только Лёха он родной, он свой до волосков вокруг лысины, я за него сдохнуть могу. А за Машку? А за Машку не могу сдохнуть, но сдох бы, если бы вместе с ней были. Чёрт! А может, это и была моя судьба? Так усиленно её мне кто-то там сверху подпихивал: на, Игорёчек, тебе радость на всю жизнь твою длинную, за всё несчастье и беду твою подарок. Не понял или не расслышал, или слушать не захотел. Или расслышал, да испугался — спасовал. Теперь рефлексии и ревность. Дурак. Другу хорошо, что ещё надо?
А с Киркой как получилось… Ждала она его из армии. Сидим вечером за автопарком, косяк взорвали, к стене кирпичной привалились. Лёха мне письмо даёт. От Киры письмо. Марок штук десять наклеено. Все «по искусству», эрмитажные, чтобы, значит, Лёха город наш не забывал. Я письмо развернул, почерк ровненький такой, плотный, как пропись в первом классе.
— Ты понюхай, — говорит.
— Тебя, что ли? — это уже кумарит меня.
— Письмо понюхай. Духами пахнет. Специально надушила конверт. Как Серебряный век пахнет — жасмином и декадансом. Внутри, правда, не декаданс, а порнуха сплошная, но мне нравится.
Внутри — слов на четыре листочка в клеточку. И в каждой клеточке что-то такое, от чего в штанах дёргается и живёт. Нам ещё до дембеля, как до Америки, а тут такое. Никакой совести нет — такие письма писать. Но ведь ждёт. Ждёт, если этим буковкам верить. Ждёт так, что, как встретит, так и рухнут стены во всём мире, воздух взорвётся, вода закипит, земля поплавится.
— Хорошо тебе, — письмо возвращаю, — любят.
— Игорёша, мудень ты, — Лёха очередной косяк мастрячит, с ладони траву собирает, — что хорошего? Тут теперь жениться надо. Девка ждёт, себя бережёт, а я что? Мне, как джентльмену, только жениться и останется. А я не нагулялся ещё. Понимаешь? Мне ещё свободы надо, простора, а не пелёнок и домашнего супа под гудение стиральной машины.
Когда он вернулся, я уже на практику собирался. Сессию зимнюю с долгами перевалил, до апреля досдавал. Тут уже июнь. Через неделю в поле ехать, говно по шельфу собирать, в бинокуляр разглядывать. Мы с Киркой на вокзал встречать пришли. Я её за эти месяцы и не видел — оказалось, потолстела. Такая упругая, налитая, щедрая, но ещё чуть-чуть — и поплывёт по сторонам страстью своей в пространство.
Лёхе на шею бросилась, заплакала. Он её отодвинул, сам ко мне. С ним уже обнялись сухо, но внутри всё, что у него, что у меня, треснуло. Поехали в общагу. Там вино-курево на неделю. Через неделю он Кирку и выставил. Что-то она ему не так сказала, что-то не так посмотрела. Ерунда это всё, да только явно, что повода ждал. И всё. Отрезал. Закутил-загулял там с нашими. А наши… С них станется. Не знаю, возможно, что я и строг к другу, но всё же неправильно у них получилось. Некрасиво. Впрочем, чужая это жизнь, не мне и судить.
Лёха из лодки выбрался, из рюкзака футболку свежую достал, переоделся. Стоят вдвоём с Машкой у кромки воды, меня ждут. По тропинке к дороге поднимаемся. Трава и тут от шунгита серая. По дороге над головой грузовики с шумом. Прогромыхали пьяно и звонко по колдобинам к порту — и вновь тишина. Хотя тишина очень условная. Музыка от магазина вдоль всего озера разносится. Над входом, по краям вывески, колонки старого проигрывателя приколочены, провод внутрь к магнитоле. Пьеха поёт. Старая песня, весёлая, про соседа. И колонки точно такие, какие у нас в первом классе были.
Проигрыватель «Аккорд», на который учительница пластинки ставила с песнями про Ленина, или с воспоминаниями участников войны, или ещё с чем-то таким, чтобы пафос, голос тревожный и музыка. «Радиоурок» называлось. Мы слушаем, руки перед собой на парте, а она вдоль рядов ходит, указкой дирижирует. Пластинки хранились в картонных коробках в шкафу. На полках под ними пожелтевшие полоски бумаги с давно выцветшими буквами: «Первый класс, вторая четверть», «Третий класс, первая четверть». Каждой четверти свои песни, свои слова. Вначале совсем наивные, потом совсем серьёзные, когда герои гражданской войны погибают, когда героев великой отечественной расстреливают фашисты. Наверное, изложения писали или сочинения о том, как правильно любить Ленина и Родину. Сейчас не вспомнить. Всякая дурь вспоминается, а чему учили — нет. Голубые стены класса вспоминаются. Традесканция в пластмассовых кашпо по стенам. Доска грифельная коричневая, местами словно вспученная. По ней, если влажная, мел не писал. Потому всегда две тряпки лежали: мокрая и сухая. А если дежурным назначат, стоишь и всю перемену доску трёшь и трёшь. По пять раз тряпку в раковине стираешь. Не должно остаться разводов, только коричневый прямоугольник. А если из мелких трещинок мел вымоется, то вообще хорошо. Кто оценивал? Не знаю, кто оценивал, но был в этом какой-то ритуал, понятный и тем, кто на первых партах, и тем, кто на последних.
Парты. О да, парты, которые красили каждый год летом. Их красили, не сдирая предыдущий слой. И если взять гвоздь или ножик, то можно было устроить раскопки где-нибудь в уголке, пройти культурные слои эпох и поколений и добраться до самой первой краски. Я помню, что первая краска оказалась голубая. Однажды втроём с дружками скоблили ножиком после уроков каждый свою парту, доставая это голубое исподнее. Отколупливали. Отдирали. Наутро учительница обозвала нас вандалами. Родителей в школу вызвала. Мои, впрочем, не являлись. Отец до ночи торчал на аэродроме, а мать на дежурствах в госпитале. Они, через меня же, передали записку, в которой оповещали учительницу, что провели со мной воспитательную беседу и что я уяснил для себя все требуемые для моего возраста моральные нормы. Смешные они у меня. Трогательные, любимые.
После третьего класса уже миграция по кабинетам. Школа большая, кроме поселковых ещё и гарнизонные в ней учились. На каждую дисциплину кабинет. Портреты Лейбница, Чебышева и Лобачевского в кабинете математики. Портреты Чехова, Горького, Толстого в кабинете литературы. Беленсгаузен, Крузенштерн, Марко Поло в кабинете географии. Сидишь на контрольной, решаешь задачу и смотришь на Декарта. У того такие букли, усишки кривые, бородёнка тонкая полоской, как у кардинала Ришелье в книжке про мушкетёров. Весь какой-то лукавый, неуютный. Чебышев симпатичнее. Бородища у него, что у Толстого. Мы думали, они братья. А самый приятный — Лобачевский. У него воротничок «стоечка». Явно, что неудобный. И самому ему вроде как неудобно, что насочинял он всякой математики, а нам теперь её разбирать-проходить.
Мне математика не нравилась. Мне ботаника нравилась, биология, химия, география, ну, и пение немного. Учительницу пения звали «Пеша». Наверное, её звали как-то иначе, но я уже не помню. Помню, что Пеша. Вечно на её уроках бедлам устраивали. Там тоже проигрыватель стоял. Но другой, хороший, почти как у нас дома — «Вега». Она ставила нам музыку классическую, что-то про композиторов рассказывала, только никто же не слушал. В морской бой дулись или ещё во что. А когда песни пели, то тут все горланили как могли. Громко, немузыкально, зло. Она не обижалась. Привыкла. Это с первоклашками легко. Первоклашки старших уважают, да и петь любят. Мы в первом классе разучивали дурацкую песню про какого-то Каде Русселя:
«Каде Руссель богато жил Домик без крыши он купил».И что-то дальше про этого удивительного человека, который сшил себе кафтан из бумаги:
«В дождь и мороз, ступая важно Носит кафтан он свой бумажный».Мне это нравилось. И ещё про чибиса нравилось. Но про чибиса казалось излишне жалостливо. Я представлял себе этого чибиса — мокрый комок с коричневыми перьями и длинным клювом. Сидит этот чибис и волнуется. А там ещё такие же чибисята.
Когда меня после первого класса, на лето, сослали на Северный Кавказ, я бабушке с дедушкой и про чибиса пел, и про Каде Русселя. Каде Руссель имел особый успех. На него даже соседей приглашали. Или на меня. Дед мной гордился. В тот лето удочки подарил.
Потом старики ушли. Один за другим. Вначале дед. Он уже давно в отставке был — генерал-лейтенант. Скучал без дела. Последние лет пятнадцать в лётном училище консультировал. Как-то по весне заболел пневмонией и сгорел за три дня. Восемьдесят только исполнилось. А следом и бабушка. Только на год его пережила. Села перед телевизором штопать что-то, да и умерла. Соседка нашла. У неё ключи от квартиры были, на всякий случай. Пришла утром, а бабушка как спит в кресле. Долго квартира стояла пустой, пока однажды я не приехал и не продал её. Продал вместе с так и не выветрившимся за десять лет запахом лекарств, приправы и молотого кофе. Вместе со скрипами рассохшегося паркета: золотого от падающего на него из маленьких окон солнца. Вместе с цветочными горшками на балконе, выходящем в сад. Вместе с банками на антресолях. С банками, в которые каждый год бабушка закатывала сливовый компот, лечо и вишневое варенье. Закатывала, чтобы посылать нам. Вначале в Амдерму, потом в Ленинград на адрес другой моей бабушки: чтобы не в общежитие, чтобы дошло. Тяжёлые фанерные ящики с банками, пересыпанными гречневой крупой. Дед презирал каталки и носил их в руках до почты. Сам. А теперь я продавал квартиру, где оставалось много-много банок на антресолях. Продавал, потому что уже другой был, не тот, что в детстве.
Пока молодой, есть ещё надежда, что уж тебе-то удастся скроить жизнь под себя, встать в самый его угол, в начало координат. И даже находишь этот угол и встаёшь в него, и врастаешь уверенно, всеми своими этажами. И начинаешь жить от мозга к печени, день ко дню. Пока не выходишь однажды на чердак, чтобы поправить антенну, и не видишь, что сзади и сбоку, где раньше лес и пустыри, теперь магазины и гаражи. И ты не на краю, не в углу, а в самой середине безликого спального района. И размножаешься делением, и идёшь на свист, и жрёшь всякую гадость, и вообще это уже давно не ты. Начинаешь искать себя, звонить друзьям, спрашивать, как давно они тебя видели. Говоришь, что волнуешься, думаешь, что могло с тобой случиться что-то нехорошее, потому что ты давно не видел сам себя. И нарываешься на смех. Нарываешься на приглашение выпить или предложение выспаться. И сидишь вечерами в кухне, зажегши конфорку под алюминиевой кастрюлей со вчерашним рыбным супом из консервированной сайры, и вспоминаешь свои приметы. И не можешь вспомнить ничего, кроме того, что молодой, честный, с горящим взором, с хорошей улыбкой (да-да, у него были прекрасные зубы), с густыми волосами и чистой совестью. И записываешь эти приметы на листок, приносишь в отделение милиции и просишь-просишь-просишь, чтобы они посмотрели по своей базе, всё ли хорошо. И называешь год рождения. И место рождения называешь. Получаешь в руки адрес, едешь, звонишь в дверь, стучишь, плачешь, кричишь, что всё равно знаешь, что «ты там», пока соседка не выходит на лестничную площадку, не вынимает у тебя из кармана ключи, не открывает дверь и не ведёт тебя на кухню. На ту самую, где ещё вчера ты грел свой рыбный суп.
Нет. Хмель выгонять надо. Гнать его из головы. Мысли одна другой печальнее. Упадничество сплошное. Местных спросили, как до столовой добраться, те указали. Посёлок маленький, всё рядом. Столовая как в старые времена, с росписью по стенам, с тюлем в крупную ячейку. С коричневыми столами, где на каждом вместо салфеток нарезанная бумага в жёлтых пластмассовых салфетницах. Чудо заповедное. И раздача с алюминиевыми подносами. Шум, пар, лязг огромной утвари. Котлеты, пюре, макароны, суп-рассольник, сметана в гранёных стаканах, булочки румяные. И стоит копейки какие-то. Даже неудобно. Кассирша на счётах костяшками пощёлкала, чек выбила. За весь обед восемнадцать рублей на брата. Сидим, уплетаем. Аппетит нагуляли такой, что того и гляди за добавкой побежим. Котлеты вкусные, настоящие, из мяса, в сухарях обвалены щедро, прожарены, на пару разогреты. Суп… Не суп, а мечта. Солёный огурец тонкими ломтиками порезан, лучок обжаренный, морковочка. Как для себя сделан, с любовью. А ножей не дают. Только ложки и вилки алюминиевые. Машенция вилку в левой руке держит, в правой — ложку вместо ножа, маленькие кусочки от шницеля отрезает, в соус макает. Ей забавно. Похоже, что никогда в такой столовке не оказывалась. Всё ей незнакомо, интересно. Головой крутит.
Работяги пришли толпой. С порта или с карьера на «пазике» привезли. Выстроились в очередь, гомонят, матюгаются аккуратно. Бабки какие-то заглянули, от входа ещё подружек кличут: «Жопу поднимайте, курицы! Пенсию привезли!». В зале звон, шипение, разговоры, радио на стенке новости передаёт: «Маяк» по трансляции. Лёха компот выпил, ложкой изюм выуживает. Изюм в компоте — самое вкусное. Ещё груша примечательна. Она обычно сморщенная, ребристая. В рот положишь, раскусишь, а там тебе и сладость, и кислинка.
Это Машке не клубы её столичные, не сушечные, не кофейные. Это северный посёлок. Карелия. Тут всё настоящее, такое, какое оно и есть, а не такое, каким хочет казаться.
Жаль, телефон разрядился. Сейчас бы позвонить родителям, слов им сказать ласковых. Как долго и как терпеливо ждут они слов, живут сами по себе, единожды посвятив мне свою жизнь. Мне — их ребёнку, их продолжению, заботе и волнениям. А ребёнок уже и не их, он веком, городами и странами перевоспитан, волей чужой поперек родительской. И что с ним? Где тот мальчик? Где их милый мальчик, что учился читать по книжке «Чёрная Курица», показывая пальчиком с обкусанными заусенцами на картинки?
— Мальчики-колокольчики?
— Да, мой хороший.
— А это дядьки-молоточки?
— Да, мой хороший.
Где их Игорёша, который измучил, извёл, истерзал своими бесконечными пневмониями? Он вырос, отпустил бороду, в которой уже достаток седых волос. Он курит крепкие американские сигареты, выпущенные по лицензии на бывшей фабрике имени товарища Урицкого. Он курит их по две пачки в день, а потом кашляет по утрам, смотря на себя в зеркало коммунальной ванной на Васильевском острове. Он пьёт водку, иногда виски, иногда коньяк, но чаще водку, потому что он любит пить водку. Он любит, как она жжётся и сладит, и становится дыханием. И он помнит о них, о своих родителях. Он помнит о них всегда, и он им благодарен. Только не звонит им столь часто, как они того заслуживают. Боится, что они начнут расспрашивать о его здоровье, о том, что надевает под куртку осенью и на ноги зимой. Боится, что мать начнёт опять сетовать на его курение и неудавшуюся личную жизнь. Она всегда расстраивается. Она хочет, чтобы у сына всё сложилось прекрасно, потому что знает, какой он у неё хороший. Знает и верит, что заслуживает он только хорошего. Эх, мама-мама…
Звал в Питер. Серьёзно звал. Думал купить домик в пригороде, чтобы удобства, электричество, газ. Жили бы рядом. Нет. Не переедут. Мать всё так же в госпитале, отец на метеостанции. Старые оба. Болеют. Но ехать не соглашаются. Прилипли к этому берегу, как прилипают пальцы к металлу на морозе, как прилипает тень от Пай-Хоя к покрасневшей карликовой берёзке. И лето кратко, и зима — темень да стужа. Но там у них друзья, там юность, счастье и память. Маму иной раз, может быть, и тянет в Ленинград (она его так и продолжает Ленинградом называть), но скорее по привычке. Последний раз ко мне на свадьбу приезжали, до этого — на похороны к бабушке. Внука не видели. Только фотографии его. Станет постарше, отвезу его. Отвезу на Север, где он никогда не был. Отвезу на Север, где сам рос долгие пятнадцать лет. Отвезу, чтобы показать бабушке и дедушке. И увидят, что похож. Похож на их Игоря. Те же глаза, тот же лоб, волосики короткие на чёлке, да и вообще. Наш. Родной.
— Собирайся, Машка уже на улице, — Лёха хлопает меня по плечу, подхватывает свой рюкзак, Машкину сумку и идёт мимо столиков. А меня разморило. Не хочу пешком через лес. Ещё у магазина на остановке местных расспросили, те дорогу указали. Но это километров десять получается, а то и больше. Через поля, потом по лесу, вдоль Онеги. Солнце в зените, жарит немилосердно. Слепни летают.
— Давай, — говорю, — уболтаем кого-нибудь нас подбросить. За сотню довезут. Здесь сотне цену знают, не Питер.
Смотрю, вроде и Машка не против. Сидит на лавочке в теньке перед столовой, и двигаться ей явно не хочется. У почты народу человек сорок. Очередь из стариков — пенсия. Стоят, разговоры разговаривают, мужики курят, бабы кого-то обсуждают, смеются. Рядом милицейский «уазик». Двери открыты. Два мента к капоту привалились. Дежурят. Но и их разморило. Рубашки расстегнули, фуражки на сиденья побросали. Дальше у магазина ещё машинки припаркованы: «москвичонок» перелатанный, (сам жёлтый, а крылья синие), пара «четвёрок», «нива». Может быть, кто из Лебещины? Вдруг подвезут? Или у ментов спросить, авось подскажут. Лёха пошёл договариваться. Я закурил, сел рядом с Машенцией. Обняла меня, подбородок свой мне на плечо опустила.
— Не дуешься?
— С чего вдруг?
— И правильно. Нечего дуться. Это я на тебя должна была обижаться.
— А на меня-то за что?
— Ну, не понимаешь, значит, и не поймёшь. Хотя, всё понимаешь, просто тебе так удобно было — не замечать. Это вечная история. Всегда оказываюсь лишней. Вроде любят, а невсерьёз. Вроде и нужна, да ненадолго. Я и на Соловки к тебе поехала — подумала, а вдруг всё-таки?
— Что это ты? Я тебя люблю всерьёз.
— Да-да. Как родственник. Я помню. — Машка поцеловала меня в щёку. — Спасибо за друга. Лёха у тебя прекрасный. Лучший. Добрый-добрый. Смелый-смелый. И он мой герой и мой рыцарь. Не ты, Игорюша, а он. Мой рыцарь. И только мой. И никого между мной и им. Даже не верю, что такое бывает. Рыцарей всех давно разобрали принцессы заморские, околдовали, шарфы свои им на копья повязали. А этот только мой.
— Напилась, что ли?
— Напилась. Но мне простительно. Это от счастья.
Хорошая она. Когда бесенят в глазах нет, так ладони целовать ей хочется. Такая красивая. И уже повзрослела — в лице недетское.
Лёха издалека машет, подняв над головой обе руки. Машет и идёт к нам. Мужика какого-то за плечо обнимает. Тётка рядом семенит. Ещё один мужик сзади, вроде как тоже с ними. Умеет он с людьми общий язык находить. Все у него сразу друзьями становятся. Удивительная особенность. Тётка пожилая, в сарафане длинном и платочке. Мужик, которому Лёха что-то рассказывает, жестикулируя, — нашего возраста, высокий, явно неместный. Местные так не одеваются: футболка светлая, лёгкие брюки, мокасины. И тут я понимаю, что это тётка Татьяна. Она! Только постаревшая, но всё такая же прямая, как струна, разве что худенькая совсем. А мужики — видимо, сын её Валентин и Васькин отец. Поднимаюсь, развожу руки в стороны и уже бегу им навстречу. Сзади вскакивает Машка.
— Валечка!
И я оборачиваюсь к ней, вижу, что смотрит она мне за плечо, и руки у горла в кулаки зажаты. И тут «жигулёнок» какой-то на полной скорости из-за угла выворачивает. С проворотом, так что визг и пыль с гравием. Ну не дурак ли так по посёлку ездить? Это же не трасса — народу полно. Только отскочить успеваю. Тот у самого крыльца почты тормозит, там, где милицейский «уазик». И из открытого окна очередью по «уазику», по ментам. Длинная очередь из АКСУ. Громкая. И кто-то другой в воздух из Макарова.
10. Татьяна
Весной вскрылись на море торосы, и вода, окружающая Татьянин мир, пришла в движение. Татьяна к тому времени стала уже совсем тяжёлая. То и дело она разглядывала себя в зеркало на дверце шкафа, удивлялась огромному своему животу, большему, чем на том же сроке, когда носила сыновей.
— Девочка будет, — уверенно заключили бабы в артели. — Видишь, живот круглый — это когда девочка. Мальчики огурцом выпирают, а девочки холмиком.
Сергей в ответ на эти прогнозы посмеивался, но почему-то тоже ждал девочку. Татьяне было всё равно, лишь бы скорее. Беременность проходила легко, но живот мешал заниматься делами по дому. Сергей, посадив Ваську в коляску, каждое утро уезжал на новом мотоцикле в больницу. Татьяна оставалась с младшим. В мае ему должно было исполниться два. Валька оказался тихим мальчиком. Ночами спал спокойно, не капризничал. Любил сидеть в высоком детском стульчике и смотреть в окно. Пожалуй, ничто его не могло заинтересовать больше, чем белые барашки на волнах. Он случился совсем светленьким, почти как Татьяна. Хотя, когда родился, волосики на голове пушились тёмными каштановыми прядками. Но за два года выбелились.
Татьяна смотрела на сына, расположившегося на кровати и самозабвенно чиркающего красной ручкой детскую книжку. Смотрела и искала в нём черты Бориса. Вроде похож: неуловимо, но похож. Такой же слегка вытянутый подбородок, нос. Глаза посажены так же. Борис, запечатлённый где-то внутри, всё время менялся, словно ускользал от прямого взгляда памяти. Расплывался, раскидывался на множество фрагментов, связанных между собой только голосом. Она останавливалась перед портретом, стоящим на буфете, и подолгу изучала его, хотя именно портрет она помнила наизусть.
Ей казалось, что пальцы чувствуют синее сукно стола, что она различает запах чая в стакане, слышит трамвайный звон через форточку. Но лицо на портрете было лицом человека с портрета, а не Бориса. И она страдала, явственно ощущая, что портрет замещает собой живые воспоминания. Однажды она даже убрала его в ящик комода, но на следующий день вернула на место, почувствовав небывалое сиротство.
Сергей не ревновал. Он деликатно держался на почтительном расстоянии от того, что казалось ему интимным, нутряным, необходимым для жизни дорогого ему человека. Любовь его к Татьяне была сродни поклонению, почитанию, достойным русской прозы. Даже после того, как они официально расписались, он продолжал называть её Татьяной Владимировной. Но без иронии, а с глубочайшим уважением и любовью в голосе. Воспитание Васьки Сергей взвалил на себя, как и основные дела по дому. С Валентином возился, играл, тискался, доводя мальчика до щекотки своими длинными пальцами. Мальчик радовался, когда тот возвращался с работы, и тянул к нему руки.
— Татьяна Владимировна, вы не подумайте, что я стремлюсь стать ему отцом. Отец у него другой, я понимаю, как это для вас важно. Я пытаюсь стать для него просто родным, просто своим человеком. Хочу, чтобы чувствовал он во мне и защиту, и понимание.
Ах, если бы Сергей знал, как Татьяна была ему за это благодарна! Впрочем, конечно, он догадывался по её взгляду, по тому, как она клала ладонь на его локоть, как садилась, обхватив сзади и укрыв своей же кофтой, чтобы наблюдать вдвоём за Валькой, возившимся на полу с игрушками. Татьяна любила. Любила, но не так, как любила до того Бориса. И уже совсем не так, как Лёнчика, хотя о том чувстве она помнила плохо. Она любила Сергея спокойно, глубоко, словно в такт его дыханию, когда он спал. Она думала о нём, когда он сутками пропадал в больнице, скучала, когда уезжал в Ленинград. Ей и в голову не приходило сравнивать мужа с Борисом. Но чувствовала, что Сергей постоянно боится сравнения, словно заранее готовится сдаться и не претендовать. И от того она любила его ещё больше.
Позапрошлым летом, когда приехал Михаил со страшным известием, если бы не Сергей, то сошла бы она с ума. И только он — внимательный, добрый, деликатный, смог успокоить, помочь, удержать. Чтобы не задохнулась памятью, не захолонула сердцем, не стаяла душой, разумом не стемнела.
Она шла от больницы, куда привозила Вальку на первую в его жизни прививку. Валька раскапризничался, разметался на пеленальном столике, размахал своими ручонками в недоумении боли и обиды. Прижала его к себе, согрела, успокоила. Закутала в плотный куль, повязала лентой, обняла. Сестричка на прощание протянула руку и дотронулась до носика. Ребёнок заулыбался. Простил. Шла мимо монастрырской стены, обняв сына, улыбаясь, здороваясь с островитянами. Стоял июнь. Самое начало. Первый день без ветра и облаков, без волн и жестяного шороха кровли. Шла к пирсу, где договорились встретиться с Чеберяком, обещавшим отвезти обратно в Ребалду. Как раз пристал катер из Архангельска. Она ещё издалека привычно вглядывалась в выходящих пассажиров: вдруг кто из знакомых? Может быть, студенты пожалуют? Впрочем, Борис писал, что только к концу месяца, вряд ли раньше. Но ведь всё могло измениться. Всё всегда меняется, тем паче что последнее письмо от Бориса пришло больше месяца назад.
Нет, она не волновалась. Понимала, что занят, что перед летом и практикой много дел, что ещё экзамены, приёмная комиссия, весенняя конференция. Какие тут письма?
Год назад они прожили вместе всё лето. Борис снял квартиру в доме у причала, забрал к себе Татьяну с Васькой. Татьяна выпросила отпуск в артели, благо накопилось за столько лет. Конечно дали. Как не дать? Все же понимают. Ждала его вечерами или целый день проводила с ним и сыном на Заяцких. Они уже не скрывались, как прошлым летом. Борис всё решил для себя и жил, как подсказывало сердце.
— В следующем году, ближе к зиме, увезу вас с Васькой в Москву. К тому времени всё определится. Не хочу и не могу больше выносить этой разлуки. И всё получится. Верь мне, девочка.
Она млела от этих слов. Старалась не повторять их про себя, но всякий раз, когда Борис засыпал, а она лежала рядом и смотрела, как поднимается и опускается его грудь в седых волосах, со шрамиком возле правого соска, она шептала: «И всё получится…»
Михаила она не узнала. Да и как узнать — виделись мельком один лишь раз, и то старалась не смотреть на него — стеснялась. Он подошёл, остановился напротив скамейки, где сидела Татьяна. Встал напротив солнца. Поздоровался. Татьяна прикрыла глаза козырьком ладони, пытаясь понять, кто перед ней.
— Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Это я, Михаил. Сын Бориса Аркадьевича.
— Михаил? — Татьяна изумилась и испугалась. Ей почудилось, что Михаил приехал для разговора, который будет ей неприятен и которого она страшится. Что она может ему сказать? Она воровка, вне закона, вне совести, но нет у неё раскаянья. И никогда не появится, потому как нет у любви совести, да и быть не может.
— Да-да, здравствуйте. Вы сюда по делам или…
— К вам, Татьяна Владимировна. Я привёз письмо от отца. Нашёл в ящике после того, что случилось. Решил, что должен, просто обязан отвезти его лично.
— Что случилось? Погодите, что случилось? Что с Борисом?
И вдруг Татьяна поняла, почувствовала… Гибельное, горькое, вязкое, потливо-липкое внутри неё рвануло по венам вниз, к ногам, так что отяжелели они и отекли болью. И словно из вечного мрака и глубины Острова дотронулся до ступней и расцарапал в кровь их острый камень — холодная, злая скала отчаянья.
— Так вы не знали?
Нет. Она не знала. Она даже не чувствовала. И теперь, и после корила себя за то, что не ощутила, не услышала эту боль через многие километры, занятая Валькой, Васькиными оценками в четверти, перекладыванием бумажек в артели. Конечно, как же артель без неё, декрет, не декрет, а балансы и отчёты. И тем больнее, что так. Что словно жила этот месяц в своё удовольствие, а должна была плакать, скорбеть.
«За что же, Господи? За что? Чем провинился перед тобой этот светлый и добрый человек? Почему отказал ты ему в счастье и любви? Почему отнял и новую, и старую жизнь? Ужели мой в том грех? Ужели моя в том вина — и мне теперь наказание?» — Татьяна обняла Вальку, закрыла глаза и молча покачивалась из стороны в сторону, словно убаюкивала двух младенцев — одного спящего, уютно сопящего в кулёчке байкового одеяла, а другого внутри себя — больного, разметавшегося отчаяньем.
Подъехал Чеберяк. Заглушил мотоцикл, подошёл ближе и понял, что с Татьяной что-то не так. Взглянул подозрительно на Михаила. Тот протянул руку.
— Михаил. Сын Бориса Аркадьевича. Он скончался. Мне очень жаль.
Чеберяк пожал протянутую ладонь, опустился на скамейку возле Татьяны.
— Ну, Татьяна, пойдём. Пойдём отсюда. Пойдём в больничку. Там Андреич тебе сейчас успокоительных даст. Пойдём-пойдём. Не надо на солнце сидеть.
Он аккуратно взял у Татьяны ребёнка, посмотрел на Михаила. Тот кивнул и принял свёрток. Чеберяк помог Татьяне подняться, обнял за талию. Ноги её не слушались. В ушах пульсировала кровь. Они медленно-медленно пошли по пирсу, потом вдоль стены, поднялись по пыльной дороге до больницы. Андреич сидел на ступеньках крыльца и курил «Беломор». Он заметил их, бросился навстречу.
— Что случилось?
— Бориса не стало. Татьяне худо, сердце, наверное, — Чеберяк кивнул на Михаила: — Сын его.
Татьяну провели в палату. Сестричка уложила на кровать, измерила давление, пульс. Вошёл Сергей со шприцом.
— Татьяна Владимировна, я укол сделаю. Это снотворное. Сейчас нужно отключить сознание. Организму необходимо справиться. Это необходимо. С Валечкой всё будет нормально, не волнуйтесь. Вы же его недавно кормили, так что всё хорошо. Не волнуйтесь, мы им займёмся. А вы поспите.
Она закрыла глаза, почувствовала, как Андреич стягивает предплечье жгутом, потом лёгкий укол от иглы. Через минуту она уже спала.
Пробыла в больнице четыре дня. Силы никак не возвращались. Она с трудом выходила в коридор, боясь упасть. И когда приносили Вальку, она кормила его и сразу отдавала, чувствуя, что вместе с молоком сын выпивает из неё силы. Глубокая, резкая морщина пролегла через её лоб. Это было столь странно, что она даже не узнала себя в зеркале в уборной. Лежащая на соседней койке знакомая женщина только качала головой, наблюдая, как Татьяна аккуратно встаёт и, качаясь, стараясь не упасть, выходит из палаты.
— Бедолажка ты наша… Не убивайся же так. Не убивайся! Всё пройдёт. Всё забудется. Терпи, хорошая, терпи девонька…
Михаил гостил у Андреича. Он прожил у него все те дни, что Татьяна лежала в больнице. Каждый вечер они пили. Приходил Чеберяк, и они пили втроём. Перед выпиской Михаил зашёл в палату и отдал Татьяне конверт.
— Татьяна Владимировна, это последнее письмо отца к вам. Он собирался отправить, но не отправил. Нашёл, когда бумаги его разбирал. Конверт не запечатан, но я не посмел прочесть. Вы простите, что оказался горевестом. Не ожидал, что так получится. Когда отцу стало на лекции плохо и его отвезли в больницу, мне позвонили с кафедры. Но я уже не успел с ним поговорить. Уже не успел. Простите, не держите на меня зла, как и я на вас не держу. Отец вас очень любил. Мы говорили с ним ещё весной. Хорошо говорили. И я его понимаю и не виню. И вас не виню. Если что вам будет нужно, не стесняйтесь, пишите мне. Адрес вы знаете. На всякий случай я тут записал, — он протянул Татьяне сложенный вчетверо листок. — Я желаю вам поправиться и поскорее… — Михаил замялся, подбирая слово, — поскорее прийти в себя, оправиться от того, что произошло. Будьте счастливы. Одно жаль, что отец так своего сына и не увидел. Его же Валентин зовут?
— Да. Валечка, — Татьяна облизала пересохшие губы. Михаил протянул ей стакан с водой.
— Ну вот. Валечка. Ну, зато я на брата посмотрел. Не знаю, похож он на отца или нет. Я в этом не разбираюсь. Но я очень рад, что у меня есть брат. Ещё раз прошу меня простить. И позвольте попрощаться.
Михаил вышел, а Татьяна осталась лежать, смотря в потолок, где долгая и кривая трещина словно оплетала полосу света из окна.
Андреич Татьяну не оставил. Ежедневно он наведывался в Ребалду, измерял давление, делал уколы. Когда надобность в медицинском уходе отпала, он всё равно приезжал просто выпить чаю и поговорить, выслушать. Вначале Татьяна робела, замкнувшись в ржавой сетке своего горя, но понемногу стала раскрываться, с благодарностью принимая уважительное, внимательное молчание доктора. Он приезжал всё лето. Каждый вечер, на своём огромном, грохочущем велосипеде с двумя багажниками — спереди и сзади. Оставлял велосипед у входа в дом, поднимался к Татьяне и сидел весь вечер. Часто он рассказывал ей про Ленинград, про годы учёбы в мединституте, про то, как они студентами издевались над первокурсниками, про мосты, про метро, про то, как поют соловьи в Озерках. Помогал по хозяйству — колол дрова, поправил дверь, прочистил «голландку». Визиты его стали для Татьяны привычными, необходимыми. Живой, участливый человек рядом словно спасал её от того, чтобы ушла она в те дали памяти, из которых нет обратного пути в настоящее. Лишь ночами лежала она, обняв маленького Вальку, и беззвучно плакала.
В конце сентября Андреич, краснея и заикаясь, сделал Татьяне предложение. Чувствовалось, что ему крайне неловко и страшно. Всем своим видом он пытался показать, что готов к отказу и ни в коем разе не решится настаивать. Но к тому времени Андреич для Татьяны уже превратился в Серёжу, и Татьяна предложение приняла. Через месяц они расписались в Кеми. Свидетельницей позвали Лидку, а свидетелем Чеберяка. Скромно отпраздновали в Лидкином ресторане. Кроме них четверых на свадьбе не было никого.
Кира родилась летом. Оказалась крикливой, капризной и вечно недовольной крохой. Васька посмотрел на пухлые щёчки сестры и поморщился: «У, какая противная! Мама, если она будет выпендриваться, то, когда вырастет, я ей подзатыльники буду давать. Можно?» Но когда Киру отдали в ясли, Васька уже в ней души не чаял. Катал на закукорках и спорил с Валькой за право сидеть рядом. Четырёхлетний Валька брата несколько побаивался, но при этом нежно любил. Однажды Татьяна застала всю троицу, сидящую на скамейке перед домом. Васька по центру, а с двух сторон болтали ногами Валька и Кира. Оба обхватили руки брата и прижались к нему тощими птенцами. Васька же сидел, расправив плечи, гордо сплёвывая шелуху от семечек. Картина была столь умильна, что Татьяна вначале рассмеялась, а потом вдруг почувствовала, что сейчас расплачется, и быстро юркнула в дом, чтобы дети не заметили слёз. Её дети вовсе не походили друг на друга. Васька — тот был явно Лёнчиковый, аккуратно списанный с отца и лицом, и фигурой, разве что характером вышедший скорее в себя самого. Хотя кто знает, каким Лёнчик был в детстве. Валька походил на Татьяну. И светлыми прямыми волосами, и тонкой костью, да, пожалуй, что и какой-то внутренней манерой. Хотя нет-нет да и проскальзывало в нём что-то от Бориса — неуловимое, непроизносимое, всякий раз радующее Татьяну. Кира же фигурой напоминала Татьяну в детстве, но лицом, чуть вытянутым и острым, пошла в отца. И чувствовалась в ней будущая красота и стервозность.
Годы, что они жили вчетвером, оказались для Татьяны самыми счастливыми и спокойными. Их семья — дружная, большая, шумная — звенела и искрилась детским счастьем, доброй проказой и взаимной нежностью. И когда дети один за другим стали взрослеть, Татьяна ощущала, словно ствол их общего дерева набирает силы, упрямит вечному круговороту добра и зла. Вот-вот — и возникнут новые побеги, новая жизнь. Васька, совсем уже взрослый, должен был отправиться в армию. А после, как полагала Татьяна, по обычаю местных ребят жениться, сделав её бабушкой. «Хорошо быть молодой бабушкой, — думала она и представляла, как будет знакомить Лидку с Васькиным сыном (она была уверена, что у Васьки родится сын): — А это мой внук!»
Как-то летом, перед самой Васькиной отправкой в войска приехали они в Москву всем семейством. Поселились в гостинице «Минск» — в той самой, в которую её устраивал Борис. Окна номера выходили всё на ту же улицу Горького. Только номер на последнем этаже. Она смотрела вниз из окна и пыталась вспомнить, как было тогда, что она чувствовала. Но то ли цвет стен оказался другой, другие шторы, картины на стенах, то ли суета с детьми её отвлекала, но не могла она услышать в себе звучание прежней струны.
Пробыли в столице неделю. Бродили по музеям, ездили на ВДНХ, катались на кораблике по Москва-реке. В один из дней она отправила младших с Сергеем, а сама села на трамвай и доехала до дома Бориса на Чистых прудах. Вышла на той же остановке, но перешла дорогу и уселась на скамейку, глядя на окна его квартиры. Звонить Михаилу она не стала. Она не писала ему ни разу, да и он больше себя не проявлял. Татьяна просто сидела на скамейке, прижав к груди сумочку, и смотрела на дом. На круге прозвенел трамвай, и Татьяна вдруг отчётливо представила себе Бориса. Словно увидела его, выходящего из дома в сером костюме, в галстуке. Вот он ведёт её за дом, открывает «волгу», широким жестом приглашает садиться, выезжает со двора, оглядываясь по сторонам. Вот они едут через Москву, а она смотрит на него и сравнивает с Хемингуэем. И вечер в «Праге». И музыка. Что тогда играло? Жан Татлян! Да, играл Жан Татлян. Такая протяжная и нежная мелодия. И потом ночной бульвар. И Борис, подпрыгивающий, чтобы сорвать со склонившейся ветки липовую почку — сладкую, пахнущую скорым летом и надеждой на новую жизнь. Вспомнила себя, сидящую поджавши ноги в кресле и смотрящую на спящего Бориса. Его рука, мускулистая, в седой шерсти, опущена вниз. А по лицу скользят световые пятна, отражаясь от потолка….
Татьяна поднялась и быстрым шагом пошла вдоль бульвара, чтобы не настигло, не утянуло, не осталось в ней всё то, чего она никогда не забывала, но никогда и не помнила, боясь сойти с ума от горя утраты. Да и как она могла позволить себе эту долгую память, если был рядом человек, посвятивший ей свою жизнь, — хороший, милый и по-настоящему любимый.
Она вернулась в гостиницу, где собралась уже вся семья, обняла всех, поцеловала, а потом уткнулась в спину Сергею и замерла, горячо дыша ему в пиджак.
— Мать, ты что? — удивился Васька.
— Всё хорошо. Просто я вас всех очень сильно люблю.
Тем же летом неожиданно появился на острове Лёнчик. Ходили слухи, что он продал квартиру и уехал в Ленинград. Оказалось, что правда. Лёнчик приехал с набором ленинградских конфет, зефира и с огромным букетом гербер. Он поцеловал Татьяне руку, надавал шутливых тумаков Ваське и долго и крепко жал ладонь Сергею, всем видом показывая приятие. С любопытством он смотрел на Киру и Валентина, поворачивал их, словно игрушки, то так, то эдак.
— Твои дети, Таня, твои. Что тут скажешь? Особенно парень. Совсем твой. Красавец вырастет. Девки прохода не дадут. Но и ты, Сергей Андреич, постарался. Кира Сергеевна получилась хоть куда. Вообще, вы молодцы!
С Андреичем Лёнчик сошёлся быстро. Они как-то сразу исполнились друг к другу симпатией. Уже на следующий день втроём с Васькой отправились на рыбалку. А вечером Лёнчик уже пил с Андреичем водку и распевал песни, подыгрывая себе на взятой у соседей гитаре. Казался он Татьяне новым, незнакомым, каким-то необычным, словно что-то такое пережившим, что изменило его однажды и навсегда.
Рассказывал, что устроился в Ленинграде в пароходство. Работает, получил комнату где-то у Нарвских ворот, уже выбился в передовики.
— Бывшие однокашники по Макаровке помогли — заделались в начальники. Пусть и небольшие, но с определённым влиянием. Так что, Танечка, теперь я трудоустроен, перспективен и с надеждой на ленинградскую прописку. Можешь быть за меня совершенно спокойна.
И она уже не волновалась, как раньше, за Лёнчика, забыв свою пусть и надуманную, но вину, что оставила его одного, не выдержав и не простив сущих глупостей.
Потом Лёнчик приезжал почти каждое лето в отпуск. Останавливался у них, спал на раскладушке. Они опять плавали с Сергеем на рыбалку, вместе с детьми и Татьяной устраивали пикники на Заяцких. Подруги качали головами, но смотрели на их общее счастье пусть и с непониманием, но с уважением, как на чудо.
Когда Вальке исполнилось двенадцать, Сергей неожиданно заболел. Он диагностировал болезнь сам, сам провёл анализы и, когда понял, что ничем хорошим это не кончится, семье не рассказал. Просто в какой-то момент он стал худеть, слабеть, а после и вовсе слёг. Скончался он в сентябре, пролежав не вставая почти месяц. В последний вечер он подозвал к себе Киру, погладил по голове и попросил беречь маму. Ночью его не стало.
Татьяна всю болезнь надеялась, что обойдётся, что это только временно, что сильный, закалённый организм мужа справится. Но болезнь оказалась подлее, уйдя от ножа приехавшего на операцию хирурга, вглубь.
Андреича хоронил весь Остров. Собрались все. Столько людей Татьяна не видела даже на первомайских митингах. Гроб с телом стоял в клубе, и люди весь день несли к нему сорванные последние осенние цветы. Она сидела на банкетке в углу зала вместе с Кирой и Валькой и молчала. Удивительно, но слёз не было. Она только осунулась, измаявшись изнутри, и теперь лишь смотрела сухими и посветлевшими глазами на подходящих к гробу людей. Васька на похороны надел парадную морскую форму и сутулым восклицательным знаком заканчивал собой долгую фразу пришедших проститься островитян, стоя у самого гроба.
Как Андреича, никого так больше на Острове не любили. Многие были обязаны ему жизнью, здоровьем и даже семейным счастьем. Многих он вытянул с того света, многих на этот свет принял. Последние курсы медицинского он закончил заочно, формально пройдя ординатуру. Его любили и там. Из Ленинграда приехала делегация врачей, с которыми, как оказалось, он состоял в долгой переписке, щедро делясь опытом своей обширной практики. Врачи по очереди подходили к Татьяне и по-ленинградски целовали ей руку. Она видела их повлажневшие глаза. Она была благодарна. Благодарна всем, кто пришёл, чтобы проститься с её мужем. С её милым и любимым Сергеем, с её Серёжей. Вечером, после похорон, после того как отыграл приехавший из Кеми оркестр, после долгого и хмельного поминального банкета в школьном спортзале Лидка пришла к ним домой вместе с Чеберяком. Они уложили отяжелевшую Татьяну в кровать и долго сидели рядом, гладя её руку, пока она наконец не заснула. Васька в это время сидел на кухне и мрачно пил в одиночестве, поставив перед собой бутылку.
Но уже на следующий день Васька проснулся, аккуратно выбрился, надел свежую рубаху и сделал завтрак. Он покормил младших, разбудил мать, принёс ей в постель кашу с гренками.
— Мать, ты не волнуйся. Не пропадём. Я у тебя есть. А я тебя в обиду не дам. Ты же знаешь, что я могу, не волнуйся. И со шпаной нашей разберусь — на ноги поставлю, и денег заработаю. Ты же знаешь, мать, что я у тебя сильный, я же в тебя. Ты только не плачь, мать. Ты только ничего не бойся.
И так он это сказал, так это прозвучало одновременно и торжественно, и наивно, что Татьяна улыбнулась помимо воли, обхватила голову сына руками и заплакала ему в рыжую шевелюру, сквозь которую уже начала показываться розовая в веснушках макушка. И на этот беззучный почти плач прибежали из другой комнаты Валька с Кирой, забрались к матери в постель, прижались к ней, один уткнувшись в колени, другая обхвативши за шею, и тоже заревели. Они плакали вместе. Долго. Наверное, час. Так долго ни до этого, ни после она не плакала. Но когда слёзы высохли, когда тепло их тел согрело ствол их семейного дерева, то словно очистившись, словно безмолвно пообещав что-то друг другу они поднялись, и дальше уже началась другая, совсем другая жизнь.
После того, что случилось с Борисом, показалось ей, что где-то внутри разбилось стекло, что-то почти невидимое треснуло и рассыпалось на мириады минут и слов. Но при этом она оставалась собой. Она болела и жгла себя нутряным жаром. Она выворачивала себя, как выворачивают свитер грубой вязки, так, что видны швы и петли. Но всё было по-другому. Сейчас же она ощутила себя вдовой. Ощутила себя человеком, половина которого уже не здесь, не в этом мире и которому теперь жить вот так, хромая мыслями и делами.
Кира стала взрослой как-то внезапно. Ещё вчера она с визгом прыгала на спину братьям, гоняла на велике по дорожкам и выуживала головастиков в канаве. Ещё вчера она, сопя и высунув язык, штопала колготки, натянув их на шестидесятиваттную лампочку. И вот уже красит ресницы, стрижет волосы модным итальянским каскадом и идёт на дискотеку. Ещё миг — заканчивает школу и уезжает поступать в Ленинградский электротехнический институт.
Последнее время перед поступлением Татьяна изнервничалась по поводу дочери. Раньше она могла быть вполне спокойна, поскольку Валентин учился на один класс старше и приглядывал за сестрой, то и дело отшивая особо ретивых поклонников. Но уже год как он уехал в Москву, и «пасти» Киру в школе стало некому. Конечно, одноклассники ничего такого себе не позволяли, опасаясь кулаков Васьки, которого на Острове знали и если не боялись, то уважали. Но всё равно сердце матери было не на месте. Да и Васька приносил ей переживания, поскольку знала за сыном способность, не особо разбираясь, заехать кому надо и не надо в лицо огромным своим кулаком.
После возвращения с флота, где прослужил он три года, Васька считался на Острове авторитетом. Дружить или хотя бы показывать своё с ним близкое знакомство считалось для пацанов признаком крутизны. Вернулся он несколько шалым, словно иным. Но вёл себя как взрослый, рассуждал и поступал соответственно. Если бы только не дрался…
За Кирой увивались почти все мальчики класса. Бывают такие принцессы, ставящие себя так, что все, включая девочек да и некоторых учителей, пасуют перед напором их и самостью. Выросла она ладной, с высокой грудью, длинными ногами, красивыми бёдрами, затянутыми в дефицитный голубой «ливайс». Джинсы, конечно, достала Лидка. Она вообще, в отличие от Татьяны, девочку баловала, чем время от времени накликала на себе справедливый гнев матери.
— Лидка, ну какого чёрта ты ей эти шмотки привозишь? И духи эти. Девочка и так возгордилась, терроризирует всех в округе. Ведёт себя несоответствующе возрасту. А тут ещё ты с эти дарами.
— Ох, девонька моя, — Лидка закуривала длинную коричневую сигарету More и усаживалась в кресло, закинув ногу на ногу, — вот что я тебе, подруга, скажу. Нехрен делать из неё комсомолку. Нехрен! Хватит уже того, что ты у нас такая правильная. Пусть будет сама собой, пусть добивается в жизни большего, чем простое бабское счастье с детьми и мужем под боком. А ей дано. Уж не знаю, как там Андреич колдовал над своим семенем, но девка вышла хоть куда. И не паси её. Она себя в обиду не даст. Не из таких.
Но что бы ни говорила Лидка, сердце Татьяны было не на месте. Уж больно дочь была не похожа на неё саму. Словно какие-то совсем иные страсти питали её маленькое сердце. Страсти, Татьяне неведомые и непонятные.
Проводив Киру на поезд в Ленинград поступать в институт, Татьяна заночевала у Лидки. Оба Лидкиных сына давно выросли и с квартиры съехали. Один жил в Архангельске и работал там в порту, другой поступил в милицию, как и отец. Получил ведомственную жилплощадь, женился и в самом скором времени Лидка готовилась стать бабушкой.
— Подруга, представляешь, я — бабушка. Это же опупеть можно! Да я сама ещё хоть куда, у меня мужик на восемь лет меня младше, и вдруг — бабушка. Нет, всем дети хороши, пока внуков нет. Внуки необычайно старят. Ну ничего-ничего, скоро сама поймёшь, когда красавица твоя тебе заделает. Или Валька в Москве. Как он там, кстати?
— Учится. В этом году хотел приехать, да их на практику посылают куда-то в Курскую область. Думаю, что и не получится у него. Пишет, что мечтает на Чёрное море выбраться.
— И пусть выбирается. Здоровье это сплошное: фрукты, вино молодое, девушки. Ему это сейчас более необходимо, чем у матери тут сидеть. Что у него там с девушкой? Ты говорила, что есть какая-то? Свадьба-то будет?
Татьяна не знала. Валентин прислал ей фотографию своей девушки, которую звали Ольга. Писал, что она старше его на два года. Девушка Татьяне понравилась. Длинные густые волосы, лицо необычайно правильное, спокойный и добрый взгляд больших карих глаз. Судя по всему, сын был влюблён. Эта влюблённость чувствовалась за небрежностью рассказа об Ольге. Вроде как о неважном, но на самом деле о том, что волнует. «Пусть у них всё получится», — подумала Татьяна. Больше всего на свете она не хотела бы, чтобы сын попал в армию. Теперь из институтов забирали, и бронь получали только отличники и те, у кого была неполная семья. Она написала письмо Семёну. Тот обещал похлопотать.
С Семёном они переписывались. Два раза он приезжал на Остров: один раз, когда был жив Сергей, другой раз уже после его кончины. Васька сразу взял над Эскиным шефство, таскал его по каким-то своим компаниям, парил в бане при дизельной и вообще всячески ублажал гостя, называя его не иначе, как «доцент». Жена Семёна ждала ребёнка, и Эскин каждый день ходил на почту звонить ей в Москву и справляться о здоровье. Оказалось, что он крестился. Здесь, на Острове, он договорился с каким-то монахом, и тот в часовне отчитал службу во здравие рабы божьей Людмилы и чада ея во утробе. Было это за два года до поступления Валентина. Как-то вечером он решил устроить Вальке экзамен по истории. Сел за стол, усадил напротив себя Валентина и начал задавать вопросы по всему курсу школы. Валентин отвечал, не задумываясь, полно, красочно, произнося имена князей, царей и полководцев, называя даты сражений, годы подписания документов и прочие удивительные подробности. Васька, стоя у двери, восхищённо смотрел на брата. Да и Кира, до того шуршавшая в спальне девчоночьим дневником, вышла на кухню и села рядом с матерью, раскрыв рот. Татьяна слушала ответы сына и чувствовала кроме естественной материнской гордости ещё и звуки чего-то другого, того, что звучало раньше, до рождения Вальки. Возможно, что увидела она сейчас в сыне будущего блестящего учёного, такого же, как Борис, его отец. И стало ей от этого покойно и хорошо.
Кира поступила, сдав все экзамены на пятёрки. Поступив, она не осталась в Ленинграде дожидаться отправки в колхоз на убор турнепса, а вернулась на Остров.
— Мама, я заслужила каникулы. Хочу быть на Острове, но жить самостоятельно, чтобы ты меня не пасла и не понукала. Я теперь взрослая. Уже студентка первого курса, — Кира продемонстрировала матери новенький голубой студенческий билет. — Обычно в сентябре выдают, но я упросила. Сказала, что мне нужно, чтобы льготный билет на поезд купить. Представляешь, пятьдесят процентов скидка!
Татьяна обняла дочь, закружилась с ней по комнате. «Взрослая! — думала она. — Совсем взрослая дочь! Студентка». Пожалуй, за Киру она волновалась гораздо больше, нежели за Валентина. Валентин учился на отлично и закончил с золотой медалью, тогда как Кира перепрыгивала с тройки на четвёрку. Разве что по физике и математике у неё были стабильные пятёрки.
Весь июль Кира куролесила по Острову, познакомившись с ленинградскими студентами-биологами. Она дневала и ночевала где-то в районе их лабораторий, время от времени выезжая кольцевать птиц или плавая вдоль шельфа с ныряльщиками. Особый интерес у неё вызывали два красивых статных парня, в компании которых Татьяна её часто встречала в посёлке. Ночевать она теперь оставалась у подружки, и Татьяна волей-неволей волновалась за нравственность дочери. Когда практика у биологов закончилась, те самые парни устроились сезонниками в артель. Жили они в савватьевских бараках, приезжая в Ребалду на велосипедах, одолженных на биостанции.
Как-то раз Кира привела их домой и представила матери как своих самых лучших друзей: Алексея и Горика. Ребята оказались славными и очень дружелюбными. Оказалось, что с Васькой они уже давно знакомы и практически, по их словам, «кореша могильные». Как-то раз после работы они по своей инициативе забрались на крышу дома и там, разведя битум, залили все щели, через которые в дождь протекала в квартиру вода. Татьяна подивилась деловитости ленинградцев и про себя решила, что подобные ухажеры для её дочери, может быть, и не страшны. Тем паче что вели они себя лихо и по-джентльменски, с неким столичным шиком, козыряя мудрёными словами и сложными словесными оборотами. Алексей, как оказалось, писал стихи. Кира упросила его почитать маме, и тот, нисколько не смущаясь, целый час читал нараспев что-то красивое и многословное, стоя у них на кухне.
Он распял себя в дверной раме, обхватив рукой притолоку. Стоял, словно на маленькой эстраде, и читал-читал-читал, прикрыв глаза. Он читал о тополиной метели в июне на Васильевском острове, о ростральных колоннах, похожих на оленьи рога. Он читал о дожде, в котором растворяются краски города, о ветре, которого не слышно, если нет листвы, что он мог бы затронуть. Он читал о дороге которой нет конца, потому что не может быть конца у пути, если этот путь к Богу. И он читал о девушке, которую никогда не встретит, но которой кто-то другой прочтёт его строчки и в награду получит поцелуй. Красивые, гулкие строки, написанные этим совсем ещё мальчиком. Татьяна взглянула на дочь и поняла, что та влюблена. Увидела, что для Киры это не просто увлечение — это большее, уже настоящее, рухнувшее небом и огласившее. И уже не принцесса класса сидела перед Татьяной, не оторва, от которой страдали учителя. Просто влюблённая девушка. Влюблённая и готовая ради своего чувства на всё. На всё, чего потребует жизнь, и даже на то, чего жизнь не посмеет от неё потребовать.
11. Валентин
Варвара поправилась от простуды, но уже через неделю заболела вновь. Она кашляла, задыхалась и плохо спала ночами. Компрессы и горчичники не помогали. Наконец Ольга отвезла её в академию, где врачи поставили диагноз — астма. Валентин старался больше времени проводить с дочерью и после «дежурств по искусству» теперь спешил домой, чем расстраивал Маринку. Ольга возила дочь по специалистам, те прописывали различные лекарства, назначали массаж и процедуры, но все, как один, говорили о том, что для того, чтобы выздороветь, необходимо сменить климат.
К сентябрю самочувствие дочери ухудшилось. Ольга не находила себе места. Плохо спала ночами. Вздрагивала на каждый звук из детской. То, что раньше вызывало в ней улыбку, теперь выводило из себя. Её стали раздражать поздние возвращения Валентина, его видимое спокойствие. Валентин, конечно же, переживал за дочь, но привычно скрывал эмоции, стараясь своим спокойным голосом, своей рассудительностью настроить жену на более конструктивный лад. Однако дома стало неуютно, словно некие сквозняки выдували из квартиры былой покой.
У Маринки Валентин не был больше месяца. Она писала, звонила, трогательно шантажировала, но Валентин не мог себе позволить быть не с семьёй. Наконец в одну из пятниц она подкараулила Валентина у входа в метро после последней пары, взяла за руку, увела за стоящие рядами палатки, обняла и сказала, что если он сейчас же не поедет с ней, то она не знает, что с собой и с ним сделает. И он сдался. Позвонил жене и привычно соврал про подмену на фирме. Они приехали на Вернадского, выключили телефоны и не отрывались друг от друга до двух часов ночи.
За окном шёл дождь. Влажные звуки проспекта залетали в открытую форточку тенями от качающейся липы, вызывая приятный озноб. Маринка вылезла из постели, обернулась в простыню, оставив Валентина мёрзнуть. Села в кресло, закурила сигарету и смотрела на него сквозь упавшие на лоб волосы.
— Хорошо, что ты приехал, мой Валечка. Мне тебя очень нужно видеть именно сегодня.
— Почему? — Валентин поёжился и попытался дотянуться рукой до Маринкиного халата.
— Ну, так. Есть одна причина, о которой тебе, собственно, и знать не обязательно.
— Ты вся состоишь из каких-то секретов и лукавств.
— И ещё из сердца, почек, печени, фаллопиевых труб и матки, — Маринка затянулась и выпустила дым в сторону Валентина.
— Натуралистично.
— Куда уж натуралистичнее…
— У тебя что-то болит? — спросил Валентин, но вдруг почувствовал фальшь в своей интонации.
— Нет. Ничего не болит. Я удивительно здоровая женщина. Могу рожать детей. Впрочем, никому это особенно и не нужно.
— Тебе самой нужно.
— Мне? Мне много чего ещё нужно. Мне ты нужен. Но у тебя семья, и, как я теперь понимаю, это уже фатально. Нет ничего фатальнее семьи, больного ребёнка и любимой жены. С этим надо или мириться, или справляться. Наверное, я взрослею. Ты становишься моложе со мной, а я с тобой старше. И, если честно, мне это не нравится. Я не нравлюсь себе взрослой.
— Принцесса, тебе шестнадцать лет. До взрослости ещё есть время.
— Валечка, мой Валечка… Я вундеркинд. У меня всё раньше, нежели у других людей. И взрослею я раньше, и возможно, что умру раньше.
Валентин встал с постели, подошёл к Маринке и поднял её на руки. Она обхватила его голову ладонями, замерла, но через мгновение потребовала, чтобы он отпустил её.
— С тобой что-то не так, — сказал Валентин, опустив девушку обратно в кресло.
— Со мной всё всегда не так. Ладно. Собирайся. Тебя пора. Не хочу, чтобы у тебя случились из-за меня проблемы. И вообще, знаешь, теперь ничего не хочу.
— Это пройдёт. Я позвоню тебе завтра.
Валентин оделся, попрощался и вышел. Оглянувшись внизу, он не разглядел в окне привычного Маринкиного силуэта. «Что-то не так», — подумал он.
Ольга не спала. Она сидела на кухне и дела выписки из толстого тома Аверинцева. Против обыкновения, она не вышла в прихожую встречать Валентина, а лишь подняла голову от тетради, кивнула и продолжила работу. В квартире царила тишина. Из открытой двери детской раздавалось успокаивающее журчание воздушного компрессора. Чтобы поддерживать естественную влажность, врачи посоветовали установить в спальне девочки аквариум. Валентин прошёл в спальню, переоделся в спортивный костюм и прошёл на кухню к жене.
— Как сегодня Варвара Валентиновна?
— Нормально, — ответ Ольги не предполагал продолжения разговора.
— Ты что такая мрачная? Случилось что?
— Я звонила Эскину, хотела, чтобы он передал тебе через кого-нибудь, что нужно купить молока, оно закончилось.
— А почему Эскину? Мне не могла позвонить?
— Я тебе звонила. У тебя выключен телефон.
— Странно, — деланно удивился Валентин.
— Всё странно. Эскин сказал, что сегодня программы нет. Тогда я позвонила Воскресенскому. Как ты понимаешь, у Андрея тебя тоже не оказалось. Возможно, что это недостойно, но я опять позвонила Эскину и спросила его, какие программы ты сейчас ведёшь и во сколько они заканчиваются. Сослалась на то, что мне нужно планировать время с ребёнком. Эскин мне рассказал. И то, что он мне рассказал, не особо вяжется с тем, что я слышала от тебя. Валя, ты мне лжешь. Я понимаю, что ты мне лжёшь. Как нормальная женщина, я понимаю, почему ты мне лжешь, и не собираюсь ни упрекать тебя, ни устраивать сцен. Мне достаточно того, что моя дочь больна, а я ответственна за её судьбу. Твоё спокойствие на этот счёт меня вначале радовало, теперь просто выводит из себя. Ты занимаешься своими делами — хорошо. У тебя появилась какая-то личная жизнь, — это я тоже могу понять. В конце концов, возможно, я сама в том виновата. Но твоё наплевательское отношение к ребёнку я не понимаю.
— Оленька…
— Послушай, — перебила Ольга, — я ещё на прошлой неделе переговорила с родителями и потом переговорила на кафедре. Думаю, что нам с Варварой надо уехать на Онегу. На работе я переведусь на четверть ставки и буду удалённо консультировать. Это я решила, ещё когда врачи посоветовали сменить климат. С тобой это никак не связано. Но тебе с нами ехать незачем. И это уже связано с тобой. Мы справимся сами, тем более что родители помогут.
— Ольга!
— Не надо меня перебивать, Валя, — он почувствовал в голосе жены готовность расплакаться, — я всё решила, и твои слова сейчас ничего не изменят. Андрей обещал, что отвезёт нас на машине вместе со всеми необходимыми вещами. Валя, я тебе всегда верила. То, что у тебя случился адюльтер, по совести говоря, моего к тебе отношения не изменит. Мне всё равно, кто это и что у вас там с ней происходит. Я тебя всё равно люблю. Но только сейчас мне не хочется быть с тобой. Мне хочется быть с моим ребёнком и с…
— Это наш ребёнок! — крикнул шёпотом Валентин.
— Да. Мне хочется быть с нашим ребёнком и со своими родителями. Мне нужно участие и помощь людей, для которых в этой помощи будет основная важность жизни. У тебя это сейчас не получится. Прости.
Валентин не мог найти слов. Он подавленно сидел на табурете, уставившись в стенку холодильника с разбросанными по ней тут и там разноцветными магнитными буквами, и машинально разминал кисть левой руки. Какая-то подлая, лукавая струнка в его мозгу радостно и бессовестно дребезжала. Но остальной — дисциплинированный и правильный — его рассудок противился тому, что происходило. Возможно, следовало что-то сказать Ольге, попытаться объяснить, но Валентин чувствовал, что лгать не хочет, а объяснять то, что жене и так стало ясным, не имеет смысла.
«Чёртов идиот, — думал Валентин, — Кретин. Козёл. Что же ты делаешь со своей жизнью и жизнью дорогих тебе людей? Зачем тебе это всё? Жил счастливо, жил нормально, что же тебя понесло? И Маринка… Зараза такая, тоже ведь понимала, что добром это всё кончиться не может. Или не понимала. Девчонка! Сам кретин, что поддался на провокацию, стал потакать игре. Уже и не игра вовсе, а жизнь. Дура. Дура! И сам дурак. Разве смогу я что-то поменять? Смогу вот так отпустить то, что делает меня целым? В обмен на что? На взбалмошную девчонку? Или не взбалмошную… Ведь, и с ней что-то не так. И ей, похоже, больно и тяжело от того, что происходит. Как же я во всё это вляпался? Как же теперь? Что теперь?»
У Валентина разболелась голова. Он молча достал из ящика таблетку, проглотил, запил водой из чайника. Ольга собрала свои бумаги, уложила аккуратной стопкой вместе с книгой на край стола.
— Я спать. Спокойной ночи. Если пойдёшь курить, не щёлкай замком. Варька просыпается.
— Спокойной ночи, — Валентин попытался дотронуться до локтя жены, но та уклонилась.
— Не надо. Не надо, Валечка.
Он остался на кухне один. Поставил чайник, залил кипятком растворимый кофе, выпил. Постоял у окна, глядя на мигающий жёлтый поплавок светофора внизу. Достал сигарету, но, раздумав курить, сломал её между пальцами и выбросил в мусорное ведро. Минут двадцать ещё сидел, фокусируя потерянный взгляд то на чайнике, то на плите, то на микроволновке, пока не почувствовал, что почти засыпает, а в голове по кругу звучит строчка из популярной песни: «Мне кажется, мы крепко влипли. Мне кажется, потухнет солнце. Прости меня, моя любовь…» Валентин прошёл в комнату, разделся и лёг под одеяло к жене. Ольга не спала — он почувствовал по её дыханию. Повернувшись к ней, попытался обнять, как обнимал всегда, когда они засыпали, но Ольга дёрнула плечом и сбросила его руку.
Выходные прошли в непривычном для их семьи молчании. Каждый по отдельности занимался с дочерью. Обедали и ужинали вместе, но разговор за столом не клеился. Варвара тоже чувствовала, что между родителями что-то происходит, и несколько раз потребовала прекратить ругаться. Наконец Ольга демонстративно, на глазах у дочери, поцеловала Валентина в щёку. Варька в искренность поцелуя не поверила, но капризничать перестала, посчитав ритуал достаточным.
Утром в понедельник Ольга осталась дома, а Валентин отправился в университет. Дождь лил уже четвертые сутки, то стихая до вкрадчивого шороха по зонтику, то разъяряясь пузырями на тротуарах. Маршрутки шли заполненными и проезжали мимо без остановки. Плюнув, Валентин вышел на перекрёсток и поймал частника. Но через три квартала машина попала в пробку. На перекрёстке с Удальцова не работал светофор.
— Торопишься? — Водитель взглянул на Валентина.
— Хотелось бы не опоздать.
— Ну, тогда поехали через дворы до Ленинского.
Водила выплюнул сигарету в форточку, автомобиль юркнул между газелью и бордюром и углубился во дворы.
Они протиснулись между припаркованных машин и выбрались в переулок, идущий вдоль домов параллельно Удальцова и выводящий ровно к Маринкиному дому. Валентин протёр запотевшее стекло, собираясь посмотреть на знакомые окна, но тут же заметил Маринку, прыгающую через лужи. Оранжевый яркий плащ, такие же яркие сапоги, клетчатый зонтик, копна рыжих волос, не прихваченных по обыкновению резинками, а торчащих во все стороны.
— Тормозни. Подберём, — скомандовал он водиле.
Маринка повернулась на оклик, увидела Валентина, машущего ей рукой, свернула зонтик и открыла заднюю дверь.
— Привет, — сказала она, влезая в салон на заднее сиденье.
— На первую пару? — осведомился Валентин.
— Угу. Кончилась халява. Теперь с утра «Основы теории словесности». Должны были во втором семестре читать, а начали в первом. Ты почему не позвонил?
— Потом расскажу.
— Потом. Потом суп с котом. Понятно.
— Что тебе понятно?
— Ничего. С тобой Сеня поговорить хотел.
— О чём? — удивился Валентин.
— Не знаю. О чем-нибудь. О жизни, например. Шею не сверни, — Маринка показала жестом, чтобы Валентин отвернулся.
Дальше ехали молча. Повернули на Ломоносовский, пересекли Вернадского и остановились напротив главного здания. Пока Валентин расплачивался, Маринка вышла, хлопнула дверью, раскрыла свой огромный клетчатый зонт и быстро зашагала ко входу. Валентин не стал догонять. Купил сигареты в палатке, покурил под навесом и только после этого направился к университету.
Дядя Сеня появился после второй пары в большой перерыв. Валентин сидел в кабинете и просматривал конспект лекции для третьего курса. Семён Эдуардович сухо поздоровался, закрыл за собой дверь и расположился в кресле напротив Валентина. Таким хмурым его видели нечасто — последний раз лет пять назад, когда Эскина прокатили с деканством. Валентин предложил кофе. Эскин вначале отказался, но потом махнул рукой, мол, «наливай своё пойло». Валентин зарядил кофеварку, принёс воды из кулера, сходил за чистыми чашками.
— Знаешь, зачем пришёл? — Эскин отхлебнул кофе, поморщился и поставил чашку на край стола.
— Из-за Оли? Она звонила, я знаю.
— Из-за Оли я бы пришёл в последнюю очередь. Это ваши с ней дела. Я в чужую личную жизнь не вмешиваюсь. Может, и хотел бы, да воспитание не позволяет. Я вмешиваюсь только тогда, когда дело касается меня лично или близких мне людей. Близких, в моём понимании, — это родственно близких. Я пришёл из-за своей дочери.
— А что с ней случилось? — Валентин попытался изобразить внимание.
— Не придуривайся! Сам прекрасно знаешь, что с ней случилось.
— Семён Эдуардович, я не понимаю, чем заслужил такой тон, — Валентину не понравилась резкость, с которой Эскин ответил на его вопрос.
Дядя Сеня встал, охлопал себя в поисках сигарет, извлёк из внутреннего кармана пиджака пачку Davidoff, оглядел стол в поисках зажигалки. Валентин протянул свою. Тот закурил, вновь отхлебнул кофе, вновь поморщился, прошёл к окну, потянул за шнур и открыл фрамугу. Некоторое время Эскин просто курил, стряхивая пепел в ладонь, потом повернулся и внимательно посмотрел на Валентина.
— Валя, ты мне как сын. Затёртая фраза, понимаю. Её произносят обычно в начале долгого монолога, подразумевая в конце некоторое «но». Потому я ограничусь только этим. Не думаю, что нуждается в расшифровке. Перейдём сразу к «но». Марина в субботу сделала аборт. В воскресенье она позвонила мне и призналась, что ребёнок должен был быть от тебя. Это первое. Второе. С квартиры она съезжает, возвращается домой на Басманную. Третье. Завтра я отсылаю её на неделю в Питер к Людкиной сестре. Когда она вернётся, мне бы очень не хотелось, чтобы ваши отношения продолжались. Чуяло моё сердце, что это добром не кончится. Чуяло. Но чтобы ты… Понимаешь, что по отношению ко мне ты совершил подлость? Понимаешь, что я тебе доверял, как доверяют самому близкому человеку, а ты не смог справиться с какой-то шмакодявкой, у которой играют гормоны и которую надо пороть ещё, как сидорову козу? И теперь к разговору об Ольге. Если бы она тебя не искала в пятницу, когда ты, как я разумею, был у моей дочери, я бы просто снял с этой пигалицы штаны и всыпал бы ремнём по её худой заднице. Но тут я сопоставил факты и прямо спросил её о тебе. Как ты видишь, мои подозрения оправдались. Собственно, это всё, что я хотел тебе сказать. Что делать в таких ситуациях, я не знаю. Бить тебе лицо — странно и глупо. Мне пятьдесят семь лет, а это не возраст для решений проблем таким образом. Накапать на тебя в деканат — ещё большая глупость, да и подлость.
Я не знаю, как ко всему этому отнестись. Не знаю. Если бы это был настоящий роман, возможно, что я бы и понял. Но я прекрасно знаю о ваших с Ольгой отношениях. Я знаю вашу семью. Я знал вашу семью, когда она даже ещё семьей не была. Я люблю тебя, люблю Ольгу и люблю свою дочь. И я не могу позволить, чтобы эта дурочка всё разрушила, и тебе не позволю дурить девчонке голову. Если у неё нет мозгов, то они должны были быть у тебя.
Эскин закончил, стряхнул пепел из ладони в корзину для бумаг и вновь опустился в кресло. Он сидел ссутулившись, опустив голову и теребя пальцами браслет часов. Валентин заметил у него на шее пластырь, закрывающий фурункул. Они молчали какое-то время. Валентин боялся, что дядя Сеня встанет и уйдёт, а Валентин так ничего ему и не скажет. Но Эскин, видимо, ждал объяснений. И даже не объяснений, а поддержки.
— Дядя Сеня, что мне делать? — Валентин обошёл стол и опустился рядом с креслом на корточки, — Мне очень плохо. Мне очень стыдно и очень плохо, потому что внутри у меня творится чёрт знает что. Ради бога, поймите, что то, что произошло, — это не то, что вы думаете. Это другое.
— А что я думаю? — Эскин поднял голову и посмотрел Валентину в глаза. — Ты полагаешь, что я считаю, дескать, старый ловелас совратил юную девственницу? Ты плохо меня знаешь. Я всё понимаю, отличник. Я всё очень хорошо понимаю. Но от этого мне не легче. Поверь. Маринка пускала сопли и рассказывала о ваших отношениях. Говорит, не знает, что делать. Ну, ей я объяснил. Два дурака — старый и малый. Какие бесы в вас вселились? Неужели ты, взрослый человек, не понимаешь, что кроме эмоций есть ещё и ответственность? В конце концов, внутри у нас есть совесть, нравственный закон. Мы все наши поступки должны соотносить с этим нравственным законом. Чувствовать, что хорошо, а что плохо. Как можно довести ситуацию до такого? Как? Валя, я действительно не знаю, что теперь делать. Я не знаю, как мне ко всему этому относиться. Ты это понимаешь?
— Понимаю, — Валентин вздохнул, поднялся и сел на край стола. — А мне как быть? Дядя Сеня, последнее, что я хотел бы, — это причинить боль близким мне людям.
— Но ты причинил!
— Да.
— Хорошо, что отдаёшь себе отчёт, — Эскин вынул из кармана вибрирующий телефон, взглянул на экран, нажал «отбой» и положил обратно. — Значит так. Пообещай мне, что с моей дочерью ты встречаться прекратишь. Только пообещай серьёзно. Это тебе самому необходимо, иначе сойдёшь с ума. Она тоже никаких поползновений в твою сторону осуществлять не намерена.
— Я не могу так.
— А как ты можешь?
— Я могу постараться. Это же всё внутри меня.
— Демагогия! — Семён Эдуардович резко поднялся с кресла. — Ты должен мне пообещать. С собой внутри разберёшься сам. Это твои дела. Для начала разберись со мной. Я отец несовершеннолетней девочки, с которой у тебя сексуальные отношения. И мне это не нравится. Пообещай. Я жду.
— Хорошо. Я обещаю, — наконец решился Валентин.
— Ну вот и славно, — Эскин протянул руку, и Валентин её с готовностью пожал, — договорились. Если хочешь, я могу побеседовать с Ольгой. Хотя ума не приложу, что я ей скажу. До меня тут слухи дошли, что она собирается с Варварой уезжать к родителям. Она знает, что у тебя с Маринкой?
— Нет. Знает, что я ей изменил, но не знает, с кем.
— Тогда, надеюсь, у тебя хватит ума не сообщать подробностей. Будь мужчиной. А Варвару надо лечить. Пока они будут на Онеге, думай, как жить дальше. Всё в твоих руках, отличник. И вот ещё что, — Эскин уже взялся за ручку двери, — ты к матери когда последний раз ездил?
— Три года назад. Ещё Варька не родилась. Она к нам приезжала, когда той годик исполнился. Вы тогда в отпуске были. А на Остров поехать никак не получалось. Сами знаете, я материал для докторской собирал, экспедиции каждое лето. Но мы перезваниваемся.
— Засранец, — Эскин покачал головой. — Эх, нет на тебя отца, чтобы снять штаны да выпороть! Вымахал здоровый лоб, научную степень получил, а ума не нажил. Расстроил ты меня, Валентин.
Эскин ушёл, а Валентин ещё долго сидел на краю столешницы, теребя в руках зажигалку и прислушиваясь к себе.
Ольга с дочерью уехали в одну из суббот октября. Валентин помог погрузить вещи в джип Воскресенского. Пока Ольга одевала Варвару, Валентин с Андреем молча курили на улице. Разговаривать не хотелось, да Воскресенский и не настаивал. Он только понимающе похлопал Валентина по плечу: «Держись, старик. Всё образуется». Когда машина, увозящая семью, скрылась за углом дома, Валентин зашёл в соседний магазин, купил бутылку водки, поднялся в квартиру и напился.
Сидел за столом и пил стопку за стопкой, пока не почувствовал, как с очередным глотком качнулся в сторону, пересек границу отнюдь не веселого настоящего и попал в ещё более пасмурные коридоры собственного ничтожества. Там он заплутал мыслями о своём возрасте, споткнулся об обрывки неприятных воспоминаний, закружил в мороке несостоявшихся разговоров. Наконец его сморил сон и он упал на кровать, проспав до следующего утра.
В университете всё казалось по-прежнему. Валентин читал лекции, вёл курсовые, выступал на семинарах. На филфак не заглядывал. Чтобы не встречать Маринку, он перестал ходить в столовую, ограничиваясь преподавательским буфетом. За три месяца видел её лишь раз в сачке за гардеробом. Она сидела на скамейке и листала конспект. Заметив Валентина, просто опустила глаза.
Ольге он звонил раз в три дня, единожды выбрав такой интервал, чтобы не быть навязчивым. Ольга казалась спокойной. Иногда даже Валентину чудилась нежность в голосе жены, но он списывал это на причуды электричества. Похоже, что перемена климата подействовала. Варька перестала задыхаться и явно шла на поправку. Она взахлёб рассказывала отцу о новых подругах, об Онеге, о бабушке с дедушкой. Потом, сама решив, что темы исчерпаны, говорила «До свидания» и вешала трубку.
Вечерами он часами мог бродить по пустой квартире. Курил на кухне, щёлкал выключателем в спальне, выходил на лоджию. Подолгу сидел в детской на маленьком деревянном стульчике дочери, наблюдая за стайкой меченосцев в аквариуме. Открывал и закрывал дверцу стенного шкафа, где висели теперь лишь его рубашки да единственное Ольгино вечернее платье. Усаживался за стол в попытке поработать, но сосредоточиться не мог и вновь бродил из гостиной на кухню или сидел, уставившись в одну точку.
Иногда ночью, лёжа в кровати и силясь уснуть, он представлял их вдвоём с Маринкой. Воспоминания возбуждали и вовсе лишали сна. Как-то, выпив в одиночестве коньяка, он поддался секундной слабости и набрал её телефон. Но девушка с приятным голосом ответила, что абонент заблокирован. «Сменила номер. И правильно, — подумал Валентин, — незачем это всё».
Чаще он вспоминал время, когда они ещё не были с Ольгой женаты. Комнату в общаге на Вернадского, лифт с вырезанными на стенке кабины буквами «Ж» и «Д», Надюшку, сидящую на кровати и перебирающую струны гитары. Припомнил вдруг огромную рыбу, которую они купили с Илюхой в гастрономе на Электрозаводской, куда приехали затариться крымским портвейном. Купили случайно, оказавшись у прилавка в тот самый миг, когда улыбчивый грузчик вытащил из подсобки пластмассовый ящик с блестящими широкой чешуёй карпами. Сзади в секунду образовалась нервная очередь: дефицит. Купили и повезли в метро через всю Москву. Рыба пахла рыбой и показывала свой крепкий раздвоенный хвост из промокшего крафта. В пересадочной толчее Арбатской полиэтиленовый пакет лопнул, карп выскользнул, шлёпнулся на гранитный пол, ударился о колонну и замер, уставившись на мир злым и мутным взором. Илюха снял футболку, завязал наподобие мешка, и дальше ехал, прижав куль к себе, словно больного базедовой болезнью младенца.
В тот день Илюху провожали в армию. Назавтра он отправлялся на призывной пункт. После сессии Илюха не стал выбивать отсрочку, прошёл комиссию, получил предписание, заранее побрился наголо и две недели слонялся по общаге, сверкая своим бугристым черепом.
Ольга запекла рыбу целиком. На проводах это стало основным блюдом. В комнату набилось человек двадцать. Илюха сидел на тумбочке пьяный, лысый и непривычно тихий. Дали аккордеон. Пробежав пальцами по клавишам, он отложил инструмент и обвел собравшихся потерянным и грустным взглядом.
— А ведь когда вернусь, мы на разных курсах окажемся, — вздохнул Илюха и отхлебнул из красной пластмассовой кружки.
— Ну и что? — Валентин положил руку другу на плечо. — Мы уже взрослые люди. Какая разница, кто на каком курсе? Это же не школа, когда девятикласснику дружить с шестиклассником западло. Если мне зимой отсрочки не дадут, то загремлю вослед тебе. И тогда восстановлюсь на твой же курс. Если весной следующей, то разница будет только год.
— Всё равно, это не то. В одной комнате мы с тобой, братан, уже не окажемся.
— Прекрати! Уговорим комендантшу, поменяемся, если что. Или комнату в городе снимем. Мы же хотели.
— Мечты. Всё мечты. Но, сдаётся мне, ты к тому времени женишься и будешь жить с Ольгой. А я останусь сам по себе. Один. А может быть, вообще меня не останется.
— Не нравится мне твоё настроение, — Валентин разлил портвейн по кружкам и чокнулся с Илюхой, — упадничество сплошное. Что с тобой вдруг?
— Предчувствия, братан. Предчувствия. Херовые предчувствия, — Илюха одним долгим глотком осушил кружку. — Пошли, покурим.
Они вышли в коридор. Валентин привычно направился к кухне, но Илюха кивком головы указал на лестницу. Они поднялись на пролёт вверх и расположились на ступеньках. На перилах висели банки из-под венгерского горошка, наполовину уже заполненные окурками. Илюха достал из кармана пачку кишинёвского Marlboro и протянул сигарету Валентину.
— Короче, я никому не говорил и тебя прошу молчать. Тут такое дело, Валька, — я в Афган попросился.
Валентин подавился дымом. Закашлялся.
— Рехнулся. Зачем? — Он уставился на друга, сидящего на ступеньке и опустившего голову.
— Не знаю, зачем. Почувствовал вдруг, что нужно себя испытать, что ли. Это такое важное для мужика испытание — война. Это чтобы себя понять, узнать себя самого.
— Иных способов понять себя не существует? — Валентин почувствовал, что злится на друга.
— Существует, наверное. Но тут… Мне сложно объяснить, — Илюха поднял голову и посмотрел на Валентина, — тут некое ощущение единственно возможного для меня пути.
— Метафизика!
— С каких пор чувства стали метафизикой?
— Хорошо. Назову иначе: идиотизм. Там уже всё заканчивается. Там война, которая никому на хрен не сдалась. Уже войска выводят. Никого туда не отправляют. Какого чёрта тебя туда несёт?
— Добровольцев отправляют. Там водилы нужны. А у меня права, ещё в школе на УПК получены. И вообще… Академик, мне своими глазами это увидеть надо. Понимаешь? Своими глазами. Брат у меня в Афгане воевал, одноклассники его. У нас, в Сатке, там каждый второй побывал. Мне как бы западло туда не идти.
— Детский сад, — Валентин сплюнул в пролёт, — все мальчики во дворе уже начали курить, а я не начал. Ну бред же. Бред! Ты учёный по своей натуре. Тебе нужно спокойно отбыть свои два года. Первый год служишь, второй за тебя служат, а ты к занятиям готовишься, книжки читаешь.
— Ладно. Не стану ничего объяснять, если не понимаешь. Но не говори никому. Очень тебя прошу. Для меня это серьёзно. И ещё, если уж на то пошло, суеверие. Пусть просто из армии ждут, а не из Афгана.
Илюха поднялся, подошёл к Валентину и сгрёб его в охапку.
— Эх, академик! А вернусь, так мы тут с тобой так оторвёмся! На всю катушку оторвёмся. И ещё. Чтобы ты меня совсем за идиота не считал: ветеранов Афгана ставят в льготную очередь на получение жилья. Надо смотреть в будущее, братан. Усёк?
Они вернулись в комнату. Илюха, поделившись секретом, повеселел, раздухарился, поднял на колени аккордеон, и до самого вечера из открытого окна общаги раздавался дружный нетрезвый хор.
Погиб Илюха в январе восемьдесят девятого. Подробностей никто не знал. Во время сессии в деканат пришла бумага за подписью военкома. В коридоре на стенде вывесили ватманский лист с фотографией, переснятой со студенческого билета Фотография в траурной рамке и надпись: «Деканат исторического факультета с прискорбием сообщает, что студент второго курса Полушкин Илья Александрович пал смертью храбрых при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан». А через месяц война закончилась.
Теперь на стене возле стола Валентина в рамке под стеклом висела фотокарточка, снятая после сдачи первого экзамена: улыбающиеся Илюха и Валентин в обнимку, перед входом в общагу. Рядом Воскресенский с двумя авоськами, полными пустых бутылок. У Валентина в руках зачётка, у Илюхи лысая, потерявшая иголки ёлка с бумажной звездой на макушке. Снимала Ольга.
В декабре у Воскресенского неожиданно умерла тётка. Он позвонил Валентину и попросил помочь на похоронах.
— Умерла тётушка моя. За три дня сгорела, — прошептал он в трубку. — Там что-то с селезёнкой у неё. В больницу забрали. И всё. А я ей вчера книжки привёз, телевизор маленький в палату. В голове не укладывается.
Похороны назначили на субботу. Накануне Валентин приехал к Воскресенскому в квартиру на Чистых прудах. Раньше он там не бывал. Воскресенский долгое время снимал жильё, потом обитал в собственной квартире вместе с детьми, потом опять снимал, потом переехал к Ларисе. И лишь после разрыва вновь поселился у тётки. Жили они, по словам Воскресенского, душа в душу. Тётка своих детей не имела и всегда относилась к племяннику с нежностью и заботой. По вечерам играли в лото и вместе смотрели телевизор. В выходные Воскресенский возил тётку вместе с Андреичами по пригородам. Каждую пятницу она проводила на кухне и дожидалась племянника, который заезжал после работы ко второй жене за детьми и привозил их с собой. Они хорошо жили эти последние месяцы.
Дверь Валентину открыла Елена — вторая жена Воскресенского. Она была в фартуке.
— Привет. Проходи. Андрей в гостиной. Пьёт. Ты посиди с ним. Совсем он расклеился.
Валентин прошёл в комнату. Там пахло застоявшимся дымом и лекарствами. За круглым столом сидел Воскресенский. Перед ним стояла наполовину пустая бутылка и тарелка с колбасой.
— Спасибо, что приехал. Садись, — Он кивнул Валентину и указал на стул напротив себя, — наливай. Давай помянем Валерию Геннадьевну. Хороший она была человек. Замечательный человек. Всю жизнь для других прожила. Вначале для отца, деда моего, потом для сестры, моей матери, потом для меня. Всю жизнь для других, Валька. Представляешь? А красивая была в молодости. Вон фотография, — Андрей махнул рукой в сторону серванта, где между стёклами была зажата фотография молодой женщины в тёмном платье, — Красивая, умная, (наш универ закончила), генеральская дочка. А своей семьи не сложилось. Так никогда замуж и не вышла. А я, свинья такая, как в Москву приехал, так всё своими бабами занимался. Нет чтобы с тёткой жить. А ведь упрашивала она меня. Так ей хотелось семьи, уюта. Мы тут с Ленкой два года только прожили. Это когда Андреичи родились. Потом уже её родители нам квартиру устроили. А два года тут. Как она внуков любила…
Воскресенский замолк, сдерживая слёзы, тряхнул головой, прикрыл глаза ладонью, выдохнул. Потом налил себе полную стопку и выпил.
— Почему, Валька, всегда стыдно, когда уходят близкие люди? Всегда кажется, что недодал им любви и внимания. Почему всегда так кажется? Почему всегда пробуждается совесть и начинает жрать-жрать-жрать? Так было, когда дед умер, теперь вот тётя Лера. Мы в Ленинграде тогда жили. Приехал он к нам в Военно-медицинскую академию на операцию. Осколок двинулся. И операция вроде несложная. А он умер. И я к нему в больницу не съездил. Не успел к нему в больницу. Всё откладывал. Каникулы были, перед операцией родители поехали, а я нет. Мы с ребятами на лыжах собирались за железку — не до больницы. А он умер. Всю жизнь себе простить не могу. Хорошо, что сейчас с тётей не так. Хорошо, что рядом оказался. И посидели с ней в последний раз, когда я телек привозил. Сидели вот так и разговаривали. И всё равно. Всё равно кажется, что неправильно оно всё.
Воскресенский ещё долго говорил. Наливал себе, выпивал. Опять говорил, плакал. Наконец Валентин помог ему выбраться из-за стола и уложил на стоящий в гостиной диван, укрыв пледом.
— Ты поспи, поспи, Дрюня. Поспи. Завтра у тебя ещё день тяжёлый. Тебе в форме быть надо. А я останусь. Домой не поеду.
Валентин вышел на кухню. Лена готовила салаты. В духовке запекалось мясо.
— Ну что, плохо ему?
— Уснул. Выпил много, да и нервы.
— Второй день пьёт. Сидит там, разговаривает сам с собой и пьёт. Ну, пусть. Я понимаю, что тяжело. Тётя Лера для него как вторая мать. Хорошая была женщина. Ребята наши её любят, — Лена осеклась, — любили очень.
— Я, собственно, помочь приехал. Что нужно? — Валентин засучил рукава, показывая, что готов к работе.
— Всё уже сделано. От тебя только мужская сила потребуется — от соседа, дяди Миши, стол раскладной принести. Мы за круглым все не поместимся. Андрюшка договорился. Тебе только забрать. Это этажом выше, над нами. И хорошо бы стулья ещё захватить. Принесёшь?
Валентин кивнул. Он вышел из квартиры, поднялся на два пролёта. Позвонил. Дверь открыл очень высокий седой мужчина лет пятидесяти. Лицо его показалось Валентину знакомым, но он не смог припомнить, где раньше видел этого человека.
— Вы за столом? — мужчина посторонился, приглашая Валентина войти.
— Да. Извините, что беспокоим.
— Ничего страшного. Дело житейское. Событие грустное, так что нужно помогать. Как Андрей?
— Спит. Перенервничал.
— Понятно. Ну, проходите за мной в кабинет. Извините, но придётся вам его через всю квартиру нести. Помочь не могу — радикулит.
Валентин следом за мужчиной вошёл в комнату, и в тот же миг тугая горячая волна ударила в голову. На стене напротив двери висел портрет отца. Точно такой же портрет, как у него дома. Только большой, в деревянной коричневой раме.
— Что с вами? — Мужчина вопросительно наклонил голову.
— Вы Арефьев?
— Арефьев.
— Михаил Арефьев?
— Да. А что такое?
Валентин сглотнул. В горле у него запершило. Почувствовал, что покраснел, но сейчас вовсе не придал этому значения.
— Не знаю, как сказать, — он виновато улыбнулся и показал рукой на портрет. — В общем, это мой отец.
В открытую форточку дрызгнул звонком бегущий по кольцу экскурсионный трамвай «Аннушка». Михаил опустился в кресло, прикрыл глаза ладонью и стал массировать виски.
— Садитесь.
Не отнимая ладони ото лба, он указал Валентину на диван. Валентин сел. Высокие напольные часы монотонно покачивали маятником.
— Вашу маму зовут Татьяна? — Михаил потянулся к столу, нашарил среди разваленных по нему бумаг коробочку с лекарством.
— Татьяна Владимировна. Соловьева Татьяна Владимировна.
— Да-да. Татьяна Владимировна. Понятно. Извините, я несколько растерялся. Не каждый день встречаешь родных братьев, которых никогда не видел. Признаюсь, был уверен, что мы рано или поздно столкнемся, но представлял себе это иначе.
— Вы знали обо мне? — удивился Валентин.
— Конечно, знал. Отец всё рассказал. Они с матерью даже на развод подали, но не успели. Он же внезапно умер. Собирался к вам с Татьяной на Соловки, и вдруг инфаркт. Дома, как назло, никого не оказалось. Мать в Переделкино, я на испытаниях. Он «скорую» вызвал, но те не успели. Приехали — он мертвый. Потом похороны, вся эта суета. Вам сейчас лет тридцать?
— Тридцать один.
— Ну, да. Тридцать один. Правильно. Я вас видел, когда вам было только четыре месяца.
— Как видели?
— Как видят детей. Вы лежали, закутанный в одеяло, а я смотрел сверху. Я ведь приезжал к Татьяне. После похорон разбирал отцовские бумаги, нашёл в ящике стола неотправленное письмо для вашей мамы с адресом, ну и отвёз на Соловки. Удивилась, когда меня увидела. Оказалось, что ей никто не сообщил. Такие дела.
Михаил поднялся с кресла, прошёл к секретеру, достал бутылку коньяка и две рюмки. Подкатил столик на колёсиках, разлил коньяк.
— Сказать по правде, Валентин, пусть неожиданно, но я рад этой встрече. Бог свидетель, никогда отца не осуждал. Он был хороший человек. И отцом был хорошим. Впрочем, это я уже потом понял. В детстве всё повзрослеть торопился, из-под опеки вырваться. А с матерью им вместе не жилось. Настоящей семьи не было. У него работа, экспедиции, наука. У неё свои интересы: рестораны, дома творчества, какие-то встречи, диспуты, книги. Меня вообще обузой считала. Отец воспитывал. В экспедиции с собой брал, в отпуск со мной ездил на море. А она большую часть года жила на даче. Там общество, известные люди, романы на один сезон.
— Она умерла?
— Бог с вами! Как и раньше живёт в Переделкино. Ей восемьдесят шесть, но ещё очень бодра. Соседи стонут. Характер! Очень непростой человек, даром что литератор. До сих пор не понимаю, что их связывало, — совершенно разные люди. Отец балагур, учёный, человек с очень лёгким характером.
А она — жеманная поэтесса, капризная, своевольная. Ей все мужчины руки целовали, ухаживали. И военные ухаживали, и писатели, и актёры, но выбрала почему-то отца. Впрочем, он тогда только-только диссертацию защитил. Молодой кандидат наук, преподаватель университета — вполне перспективный жених, да ещё и со своей жилплощадью. Большая отдельная квартира на Пресне, от отца его осталась.
— А кто он был? — Валентин пригубил коньяку.
— Дедушка наш? Врач. Профессор. Потомственный дворянин. А бабушка — племянница московского генерал-губернатора.
— Ничего себе! — удивился Валентин.
— А вы как думали? У нас с вами в жилах течёт дворянская кровь. Кстати, может быть, перейдём на ты? Всё-таки родные братья, хотя и два десятка лет разница.
— Конечно, Михаил, как скажете, — Валентин осёкся, — как скажешь.
— И прекрасно, — Михаил вновь разлил коньяк по рюмкам, — Ну так вот. Поженились родители перед самой войной. Отец в сорок втором на фронт ушёл, а мать сразу влюбилась в какого-то драматурга. Папа после контузии из госпиталя выписался — дома никого. Потом Берия драматурга посадил, она вернулась. Принял. В сорок седьмом я родился. Вообще, тогда он её ещё любил. Мать же красивая была, талантливая, эффектная. Конечно, он ревновал. Я маленький как-то на кухню ночью вышел — это уже в этой квартире, — а там отец стоит перед матерью на коленях и плачет. Мучила она его. Потому, когда папа сказал, что им нужно развестись, я не удивился. Да я взрослый уже был, в аспирантуре учился, — Михаил вдруг дотронулся до локтя Валентина. — Эх, а ты его так и не видел. И он тебя не видел. И потому чудо, что мы встретились. Чудо.
— Меня Эскин хотел с тобой познакомить. Давно. Я только в Москву приехал. Но я отказался. Не знаю, почему. Мне казалось, что это неудобно.
— Эскин, — Михаил поморщился, — это аспирант папин? Помню его. Отец в нем души не чаял. Я даже ревновал. Хотя что ревновать? У нас с отцом дружбы не было. Он хотел дружить с сыном, а сын очень хотел стать самостоятельным, независимым. От всех независимым. Юношеский максимализм. Сейчас понимаю, что дурак был. Но поздно. Очень поздно. Ничего, к сожалению, не вернуть. И слов уже не сказать, и прощенья не выпросить.
Михаил махнул рукой. Вновь разлил коньяк по рюмкам. Валентин смотрел на этого немолодого человека, оказавшегося его братом, и внутри него просыпалась удивительная радость узнавания. Он вдруг понял, что Михаил похож на отца. Похож гораздо больше, чем сам Валентин. И голос Михаила напомнил ему голос отца, слышанный единожды, много лет назад в гостях у дядя Сени. Ему вдруг захотелось обнять этого совсем незнакомого ему человека, и он удивился этому желанию.
За окнами стемнело. Валентин вспомнил про стол и отлучился, чтобы отнести его вниз. Лена смотрела телевизор. Валентин извинился, сказал, что должен опять уйти и что всё объяснит потом. Лена пожала плечами, кивнула на спящего Воскресенского — мол, ему все равно. Расспрашивать не стала.
Валентин вернулся в квартиру отца, где просидел с Михаилом до позднего вечера. Рассматривали фотографии, перебирали письма отца с фронта, листали тетради с его записями. С каждой минутой мужчины становились ближе друг к другу, понятнее. Они ощущали себя пусть ещё не родными, но уже совсем не чужими друг другу людьми. Неожиданная эта встреча ошеломила обоих, но и обрадовала. Казалось, что ищут они друг в друге черты отца, его продолжение. Только один сравнивает с отцом из своей памяти, а другой с отцом из своего представления о нём. И чувствовал Валентин внутри себя ту же долгую и высокую ноту, что расслышал ещё в самом детстве, внимая рассказам матери. Что-то, что через любовь её и память передалось ему глубокой и волнующей вибрацией крови.
Сергей Андреич, человек, заменивший ему родителя, воспитавший его и посвятивший ему свои лучшие годы, знал о том. Знал и никогда не позволял Валентину считать себя отцом. Только воспитателем, только учителем, только другом, — но не отцом.
Сколько Валентин себя помнил, отчим всегда был рядом. Он воспитывал Вальку с полутора лет, как переехал к ним, женившись на матери. Первые о нём воспоминания: нескладный, высокий, сутулый человек, ведущий за руку маленького Вальку по дорожке к берегу моря. И ещё вот это: мать с обозначившимся животом, сидящая на кровати и штопающая Васькину куртку, а рядом Сергей Андреич на низкой деревянной табуретке перед «голландкой» подбрасывает в топку щепочки, распущенные от полена блестящим складным ножом. Сколько тогда было Валентину? Не больше двух лет. А помнит. Мать смеялась: первое, что Валька сказал, — было «сожа». Не «мама», а «сожа», что явно происходило от «Серёжа». И когда родилась Кира, отчим больше занимался с Валентином, действительно воспитывая Вальку как сына. Только не своего сына, — княжьего. Он и звал-то его ласково «княжич», а маму — «княгинюшка». Они прожили с матерью двенадцать лет. И все эти годы словно служил Сергей Андреевич жене и детям её, не позволяя себе ни повелевать, ни настаивать, а лишь только любить. И сам любви не требовал. Довольствовался тем, что был рядом. А любила ли его мать? Наверное. Не так, как любила она всю жизнь отца, — иначе. Но, конечно же, любила. Как можно не любить своего?
На зимние каникулы Валентин решил отправиться к матери. Впервые он летел туда на самолёте. За неделю до Нового года взял билет с пересадкой в Талагах. Ночь провёл в аэропорту Архангельска, днём вылетел на Остров.
В свой последний приезд они с Ольгой просидели дома почти безвылазно. Ольгу сильно тошнило. Токсикоз разыгрался не на шутку, и она две недели пролежала на диване, с ужасом представляя себе обратный путь до Кеми. Валентин сходил с матерью на могилу к Сергею Андреевичу, помог Ваське установить купленный по объявлению бойлер, очистил обломком старой бритвы оконные рамы от облупившейся краски и покрасил заново. Мать пять лет назад увлеклась составлением лекарственных сборов и продавала их теперь паломникам. Своими травами она и Ольгу отпаивала, снимая приступы тошноты. За травами мать после работы уходила в леса и на прибрежные луга, где собирала их «по науке» — перед закатом, пока ещё не выпала роса. Потом сматывала в аккуратные пучки-венички, сушила, подвесив к бельевым верёвкам в коридоре. Соцветия раскладывались на подоконниках на свёрнутых вчетверо газетах. Она ссыпала высушенное богатство в полотняные мешочки и шариковой ручкой писала название по латыни. В доме от трав пахло уютно и прело. И Валентину очень хотелось вновь почувствовать этот запах, вдохнуть тёплый пряный воздух дома, обнять мать. Милую свою старенькую маму, которую любила его и скучала по нему.
Васька встретил Валентина в аэропорту. Дал пендаля валенком, расцеловал в щёки, подхватил рюкзак и повёл мимо ангаров к оставленному заведённым грузовику.
— Ты что без Ольги, без Варвары? Когда матери внучку покажешь?
— В другой раз, брат, — Валентину не хотелось рассказывать о случившемся, — они сейчас у Ольгиных родственников на Онеге.
— Раздельный отпуск? Понимаю, — Васька захохотал и ткнул Валентина кулаком под рёбра. — Совсем ты забурел, как посмотрю: куртка модная, ботин-
ки — настоящий москвич. Тощий только какой-то. Ну ничего, мать тебя откормит. Она уже с вчера пирожки смастрячила. С черникой, как ты любишь. В том году банок тридцать литровых черники закрутили. Хороший выпал сезон. Грибов, опять же, собрали. С собой потом возьмёшь. У меня сушёных два пистона от спальников полные. Не знаю куда девать. Думал, что туристам продам, а туристы на грибы не ведутся. Им рыбу подавай, да ещё и копчёную, чтобы везти было удобно.
Васька лихо гнал грузовик по укатанной до льда бетонке. Ели по краям роняли снег с опущенных лап. Въехали в посёлок верхней дорогой, остановились на минуту возле магазина, спустились к замёрзшему шлюзу, проскочили вдоль монастырской стены и выбрались на тракт до Ребалды. Машину трясло, кузов сзади жизнерадостно гремел тяжёлым железом. Васька болтал всю дорогу, то и дело миролюбиво тыкая в Валентина кулаком. Печка в кабине расстаралась на полную мощь, натопив, словно в сауне. Валентин расстегнул куртку и снял мохнатую свою шапку.
— Брателло, ты что же так поседел? Блондинистость твою седина перебивает. Тебе же тридцатник только! — Васька удивлённо поглядывал на волосы брата.
— Москва старит, — отшутился Валентин, — Там год за два. Скорость проживания иная.
— Не звезди! Скорость у него не та. Жрёшь дрянь всякую и дышишь говном, вот и седеешь. Или в отца пошёл. Это скорее. Дядя Боря седой был и длинный, как ты. Это я только лысею, а у тебя, смотрю, всё так благородно. Эх, как ни крути, хоть и родные мы с тобой братья, а разные. Ну совсем не похожи! Ты в мать цветом волос, фигурой в отца. Я же весь в папашку моего. Он, кстати, тут теперь. С нами живёт.
— Дядя Лёня здесь? — изумился Валентин.
— Ну да, — Васька харкнул, опустил стекло и смачно сплюнул, — туточки. Весной ещё из Ленинграда приехал. Ремонт нам помог сделать, да так и остался. Мать не гонит. Не чужой же человек. Теперь механиком подрабатывает, устроился. Руки у него, конечно, золотые. Я в него пошёл, — Васька заржал, — только я симпатичнее.
— Ты-то, охламон, жениться не собираешься? — Валентин улыбнулся и посмотрел на брата.
— Ну а что мне жениться? В чем смысл этого мероприятия? Есть у меня одна в Кеми. Летом к ней плаваю. Но жениться… — Васька свистнул. — Нет, Валь, как говорится, хорошее дело браком не назовут. Сдалась мне эта обуза! Мне и так прекрасно. Летом студенточки приезжают — симпатяжки, дачницы всякие. У нас тут теперь дачники. Понастроили архангельские домов, на лето жён своих с детьми привозят. Очень, знаешь ли, милые попадаются. Нет. Нахрен жениться? Внуков, что ли, матери не хватает? У тебя Варька, у Кирки эти охламоны: Клаус с Петером — назвали же… Имею полное право о продолжении рода не думать. Да и нанянчился я с вами, пока мелкие были. Помнишь, как тебе подзатыльники отвешивал?
— Помню, — Валентин достал сигарету, предложил Ваське.
Васька сигарету взял, хмыкнул, отломал фильтр и прикурил от поднесённой Валентином зажигалки.
— Семейная жизнь — это жизнь сложная. Всякие ссоры-примирения, то да сё. А я всегда при матери. Даже когда Андреич жив был, всё равно я себя над ней старшим чувствовал. Так что теперь моя судьба так с матерью и жить. Ну какая тут может появиться женщина? Зачем она? Нам и с матерью хорошо. А как отец приехал, так не поверишь, Валька, вообще у меня ощущение, как что-то новое началось. Словно семья у нас опять. Такое только в детстве было — я помню. А теперь с работы возвращаюсь — так они сидят вдвоём на диване перед телевизором. Уже старые оба, но такие трогательные, что иной раз чуть не плачу. Правду говорю. Папашка за мамой ухаживает. Цветы тут на день рождения принёс. Ты можешь себе представить зимой на Острове цветы? У лётчиков заказал. Сам съездил, сам заказал, сам привёз. Мать в слезах, понятное дело. Эх, старые люди, а что дети! Ну, может, так всё оно и должно быть. А ты говоришь — женись.
Васька остановил грузовик за домом. Валентин спрыгнул с подножки, вытянул рюкзак и поднялся по лестнице. Мать в фартуке, с руками, осыпанными мукой, бросилась к нему навстречу, обняла, затормошила, зацеловала. Дядя Лёня вышел из комнаты. Похудевший, высохший весь, но при этом прямой, широкоплечий, каким его и помнил Валентин. Он дождался, когда мать отпустит сына, подошёл, обнял, сжал своими крепкими пальцами Валентинову ладонь.
— Привет, Валентин Борисович! Как же ты вымахал! Ты меня выше на голову почти. Сколько же не виделись?
— Лет шестнадцать, дядя Лёня, — Валентин ответил на рукопожатие, — последний раз, когда вы приезжали рыбачить, я в шестом классе учился. Помните, как вы с Сергей Андреичем чуть не утонули?
— Помню, Валя, помню. Попёрлись на рассохшейся лодке. Натерпелись оба страху. Да. Жаль Андреича, хороший мужик был. И Татьяну любил, и Ваську, и тебя. Жаль. Ну, проходи, товарищ доцент, располагайся. Небось, уже забыл, что дома и как? Где руки моют, помнишь?
Они сидели за круглым столом в большой комнате. Мать накладывала Валентину в тарелку очередной салат, Васька подливал горячего ягодного киселя. Было уютно и тёпло. Тепло от натопленной, гудящей «голландки», от киселя, но пуще от слов, взглядов, от того, что все рядом, все вот так вместе, как никогда вместе раньше не были. Задержавшаяся с Нового года ёлка мигала гирляндой. Снежинки, огранённые светом фонаря, кружились за стеклом, падали на карниз и тут же сдувались ветром. Часы «Луч» на серванте, бра на стенке, телевизор в углу без звука. Валентину было хорошо. Хорошо и спокойно. Он пил чай из цветастой большой кружки, из которой пил ещё в детстве, слушал, вдыхал, чувствовал. И больше всего на свете хотелось ему, чтобы рядом с ним сейчас сидела Ольга, а у Ольги на коленях Варвара.
12. Лёнчик
Когда ушла Татьяна, Лёнчик запил. Мужчина всегда пьёт, если от него уходит женщина. А если уходит любимая женщина, то пьёт зло, безжалостно к себе, травя и наказывая внутри то, что явилось причиной разлуки. Через неделю он не выдержал, взял билет до Кеми и, собрав вещи, поехал вослед за женой. Вылез утром на станции, трясясь от озноба, зашёл в ресторан похмелиться и встретил Лидку. Лидка покачала головой, отвела Лёнчика в служебный душ, дала мыло, полотенце и приказала привести себя в порядок. Потом усадила за столик с накрахмаленной скатертью, поставила перед ним графин с четвертинкой, горшочек с солянкой и шницель.
— Ешь, — приказала она, — и здоровье поправь. На тебя смотреть страшно. Глаза впали. Ты что, довести себя хочешь? Кому от этого лучше? Если Татьяна от тебя трезвого ушла, то пьяный ты ей и подавно не сдался.
Она сидела напротив, подперев голову руками, и смотрела, как он уплетает суп. Солянка, жирная и горячая, ворвалась в организм Лёнчика, словно передовой отряд конной армии, разя похмелье налево и направо, разгоняя кровь по сосудам, выкидывая уксусный альдегид за бруствер потовых желез. Лёнчик раскраснелся, выпил очередную стопку, крякнул и приступил к шницелю. То, что сквозило, что хлопало форточками души, пылило памятью, вдруг улеглось. Мечущиеся в истерике занавески сознания раздвинулись, и Лёнчик выглянул из себя, как выглядывают из раскрытого окна на утреннюю улицу после бушевавшей ночью грозы. Почему-то Лидкино спокойствие и фирменный немного циничный разговор пришлись как нельзя кстати. Самостоятельное, одиночное плаванье недельного запоя закончилось на берегу, где команду шизофренически размноженных Лёнчиков собрали в одного капитана и заслуженно наградили обедом и пониманием.
— Ты не дури, — Лидка щёлкала крашенным ногтем по модной газовой зажигалке, — не дури и не делай глупостей. Я Татьяну прекрасно знаю. Если она чего решила, то решения своего менять не будет, что бы ты ни творил, как бы ты ни валялся у её ног, и в каких бы сияющих латах перед ней не являлся. Нет её. Забудь. Теперь твоя судьба — жить самому. А за ребёнка не беспокойся. Татьяна — баба рассудительная, она сына от отца отрывать не станет. Повидаетесь. Ещё надоест тебе. Хороший, кстати, парень. Сурьёзный такой, деловой. Давеча тоже у меня завтракали, так он к кофейному аппарату подошёл, рассматривал, что там, да как. Механик! Это в тебя, что ли?
Видя, что Лёнчика отпускает, Лидка прошла к бару и сварила чашку горячего кофе. От Лёнчика не укрылось, что она специально устроилась у стойки так, чтобы он мог разглядеть её налитую фигуру. Он хмыкнул, допил оставшиеся двадцать грамм и закурил. Через неплотно закрытые шторы ломилось летнее карельское солнце. В его луче мерцал, закручиваясь в дыму, млечный путь пылинок. Где — то в кухне включили радио, и он услышал бодрые голоса ведущих «С добрым утром!» на Маяке. «Надо же — суббота», — подумал он. Лидка тем временем поставила перед ним чашку с кофе, дотронулась до его кисти пальцами в перстенёчках и вышла из зала.
Лёнчик думал над Лидкиными словами. И чем дольше он над ними думал, тем явственнее ему казалась их правота. Если бы Татьяна любила его, не случилось бы всего, что случилось. А любви нет. Вымаливать её, выплакивать глупо и недостойно мыслящего человека. Нужно заново учиться жить, самому по себе, не рассчитывая каждый свой день на троих, а только на себя. Он вдруг радостно подумал, что теперь может завербоваться в партию и уехать хоть на полгода, хоть на год. Он даже может отправиться на зимовку, махнуть рабочим на магистраль, поехать ловить рыбу на сейнере в далёком Японском море. Плевать, что списали с флота. Уж там-то старпомом на МРС возьмут. Никуда не денутся. С его-то образованием! Ему вновь захотелось в море. Захотелось вступить на качающуюся палубу, взлететь по ребристым влажным ступенькам на мостик, спуститься к машине, чтобы почувствовать её масляное, густое дыхание.
Что видел он на берегу? Видел то, от чего бежал с самого детства — к морю, к простору, к настоящей мужской работе. Вспомнилось, как возвращались они курсантами из первого учебного плаванья. Как ещё до Толбухина маяка рухнуло на палубу холодное густое облако, вздрызгнуло пузырями по железу, и вот уже впереди Ленинград и купол Исаакия, шпиль Петропавловки, английской булавкой подколовшей линялый гюйс ленинградского вечера, и прямо, впереди, тяжёлый утюг Кронштадтского собора. И это навсегда. Как камертон, по которому можно настраивать счастье. Если не заходится сердце от восторга, как тогда, значит, и не счастье, а так.
Из служебки вышла Лидка, уже снявшая с себя халат и оставшаяся в белой блузке и короткой тёмной юбке, плотно обхватывающей бёдра.
— Пошли, тебе отдохнуть надо. Меня тут подменят на пару часов. Мои в детском саду. Отоспишься, а там посмотрим: либо попрёшься к своей Татьяне, либо домой поедешь. Мурманский вечером отходит. Раньше все равно не попадёшь.
Лёнчик покорно встал, подхватил сумку и поплёлся вслед за Лидкой. Жила она неподалёку в пятиэтажке. Перед входом на лавочке сидел старичок и крутил в руках «Спидолу». Он поднял голову, посмотрел на Лёнчика выцветшими слезящимися глазами и вновь уткнулся в шкалу приёмника.
— Знаешь, кто это? — Лидка вошла в подъезд и обернулась к Лёнчику. — Это бывший гепеушник. Душегуб херов. Живёт же, сука! Уже под восемьдесят ему, а живёт. Это сейчас такой старенький, жалкий, а попади к нему лет сорок назад. Он вот этими руками своими людей душил. Самолично. Тут зря болтать не станут. Знают гниду. Помнят. А сейчас пенсия, путёвки в санаторий. И в глаза ведь смотрит, не стесняется и смотрит.
Они поднялись на третий этаж, Лидка открыла дверь и пропустила Лёнчика вперёд. Он вошёл, снял ботинки и остановился в прихожей, разглядывая висевшую там репродукцию Данаи из «Огонька».
— Похожа на меня?
— Не знаю, наверное.
— Говорят, что похожа. Только эта толстая, а у меня всё нормально. Ну, ты проходи, там диван разложен, раздевайся и ложись.
Лёнчик прошёл в комнату, расстегнул рубаху, аккуратно повесил её на спинку стула, запрыгал на одной ноге, снимая брюки, сложил и примостил на тот же стул. Забрался под одеяло, вытянулся на пахнущей Лидкиным парфюмом простыне и закрыл глаза.
— Подвинься, — Лидка подняла край одеяла, прыгнула в постель и прижалась к нему горячей плотью в шёлковой комбинации, — сейчас я тебя отогрею, отмолю по-своему.
— Ты что это? — Лёнчик резко отодвинулся и сел на постели.
— А что тебе зазря горевать, если можно свою тоску в меня излить? Мне твоя горячая тоска ох как ко времени придётся.
Лёнчик быстро перелез через Лидку и бросился к стулу с одеждой.
— Сбегаешь? Я к тебе со всем своим бабьим, а ты сбегаешь? Ну и дурак!
— Лид, я так не могу. Не могу и не хочу так. Я Татьяну люблю.
— Люби ты себе на здоровье кого хочешь. Я тебе не запрещаю. Только при чём тут любовь? Чем я плоха? Что, неужели не нравлюсь? Видела же, как ты на сиськи мои пялился. Что не так? Чем не угодила?
— Прости, — Лёнчик быстро надел брюки и защёлкал кнопками джинсовой рубашки, — Прости, но не могу. Не нужно мне этого.
— А мне нужно! Мне нужно, слышишь? Я уже измаялась без мужика. Как погиб Митька, так у меня же не жизнь. А я хочу. Хочу! Понимаешь ты, идиот влюблённый?
Лёнчик ничего не ответил. Не взглянув на Лидку и не попрощавшись, он юркнул в прихожую, обулся и покинул квартиру.
Вернувшись в Петрозаводск, первым делом Лёнчик направился к приятелю-геологу и попросился в партию. Приятель обрадовался, отвёл Лёнчика в отдел кадров института, где его приняли в поисковую партию номер сорок три на должность техника. Всё лето он рубил топором магистрали на севере Карелии, таскал катушки с проводами, бродил с рейкой от нивелира по холмам и чувствовал себя если и не счастливым, то уж точно не покинутым. Даже сезонникам в партии платили хорошо. Получив в октябре зарплату и остаток полевых, Лёнчик половину отправил переводом Татьяне. На часть денег купил себе модный осенний плащ с широкими лацканами, джинсы и кримпленовый костюм. Оставшихся вполне хватало, чтобы пережить зиму.
Следующие несколько лет он, уже известным путём, отправлялся с партией в леса. Иногда поля разбивались на две части, и тогда он приезжал на Соловки к сыну. Татьяна общалась с ним ровно, без эмоций, словно с родственником, который уж есть такой, какой есть и которого приходится терпеть. Попыток примирения он не совершал, чувствуя, что они обречены. Останавливался Лёнчик у Чеберяка в посёлке, утром ехал на велосипеде до Ребалды, где забирал Ваську и проводил с ним целый день. Больше всего ему нравилось плавать с сыном на рыбалку. Васька ловил азартно, радуясь каждой вытащенной треске, словно не треска это была, а экзотическая и редкая рыба. Однажды мальчишка выпал из лодки, и Лёнчик, как был в джинсах и рубашке, сиганул за ним в холодный обморок Белого моря, пока у того ещё не захватило дыхание от резкой перемены температуры. Татьяне они ничего не рассказали, предварительно высушив одежду на железных рёбрах перевернутого днищем кверху карбаса.
Как-то в июне Татьяна неожиданно позвонила и предложила взять Ваську на лето к себе. Дескать, мальчику требуется смена обстановки и мужское участие в воспитании. Лёнчик удивился, но обрадовался. Мать давно не видела внука, да и сам он мгновенно спланировал культурную программу, первым пунктом которой стояла поездка в Ленинград, по местам его курсантской юности. Он отправился на Остров и самолично забрал Ваську. Не заезжая в Петрозаводск, они на Мурманском доехали до Ленинграда, где жили целую неделю у Лёнчикова однокашника в Купчино. Развод мостов, который отец мечтал показать сыну, Ваську не впечатлил. Но вот метро произвело на него магическое действие. Он никак не мог понять, как же это поезда едут под землёй, и всё просился отвести его в кабину к машинисту.
Они плавали на ракете в Петергоф, ходили в зоопарк, а под конец отправились на Невский проспект в кинотеатр «Колизей», где на огромном экране посмотрели фильм «Шербурские зонтики». Васька заснул в середине сеанса.
— Лучше бы про шпионов посмотрели, — сказал он уже на улице, выскабливая деревянной палочкой стаканчик с крем-брюле.
Но в целом Васька поездкой оказался доволен. Что до Лёнчика, так его распирало от счастья оказаться вдвоём с уже повзрослевшим до осмысленности сыном.
После Ленинграда он отвёз Ваську к бабушке на дачу, на другом берегу Онеги, где парень пробыл до конца августа, когда за ним приехала Татьяна. В ночь перед поездом они остались ночевать в Лёнчиковой квартире. Татьяна казалась довольной, не отказалась от бокала вина, и вообще Лёнчику почудилось, что обиды между ними больше никакой не существует, как, впрочем, не существует для них и общего будущего.
— Будем друзьями? — Лёнчик поднял рюмку с кислым и пряным «Вазисубани».
— Конечно, Лёнечка. Будем друзьями.
— У тебя есть кто?
— Лёнь, — Татьяна опустила глаза, — я бы не хотела обсуждать с тобой мою личную жизнь.
— А ты не обсуждай. Просто скажи. Я же не чужой тебе.
— Хорошо, — Татьяна откинула светлую прядь назад, — есть. Он из Москвы, профессор, старше меня. Намного старше. И всё. На этом разговор закончим.
Он не стал расспрашивать дальше. Понимал, что не имеет никакого права. Но видел, что Татьяна счастлива, и удивлялся, что ему радостно на душе от того, что хорошо ей.
На следующий год он опять работал в партии — теперь в районе впадении Варзуги в Белое море. Сидя на берегу, он вдруг понял, что ещё чуть — и окончательно заякорится на суше. Следующей весной купил билеты на поезд до Москвы, там неделю пожил у школьного приятеля и вылетел самолётом во Владивосток.
Как Лёнчик и предполагал, устроиться на малый сейнер не составило труда. Его приняли с распростёртыми объятиями. Оформление заняло три дня. На медкомиссии, понятное дело, он про инвалидность «по дурке» смолчал. Получил заключение «Здоров. Годен к работе» и отправился знакомиться с капитаном.
После сухогруза МРС — что «запорожец» после «чайки». А рыболовная флотилия после торгового флота — это уже форменная ссылка. Но Лёнчик радовался и этому. Он вновь в море, вновь при деле. При деле, которому с детства мечтал посвятить жизнь. Сезон выдался тяжёлый. Циклоны приходили один за другим, и их судёнушко, загруженное рыбой, болтало как лёд в стакане с популярным среди местной интеллигенции виски. Как-то раз Лёнчик поскользнулся и чуть не потерял сознание, ударившись затылком о нактоуз компаса. С тех пор он стал осторожнее и уже не корчил из себя морского волка с руками в карманах. Вообще, команда его приняла. Не было в нём ни спеси, ни апломба, ни какой задней мысли в разговоре или в дружбе.
В начале ноября, получив причитающиеся ему сумасшедшие деньги, Лёнчик улетел домой. В Петрозаводске мело. Ветер загонял мелкую белую крупу под парковые скамейки, крутил ею на остановках, словно помешивал пшённую кашу в алюминиевой кастрюле. В квартире оказалось холодно. Батареи топили еле-еле, и Лёнчик, чтобы согреться в выстуженном жилье, жёг на кухне конфорки. Он достал из морозилки пачку «славянских» пельменей, кинул их в кипящую воду и, не одеваясь, сбегал в гастроном за четвертинкой. Возвращение требовало «банкета».
Лидкин звонок раздался, когда Лёнчик только опрокинул первую стопку и теперь энергично пережёвывал пельмень.
— Лёня, тут такое дело, — голос Лидки показался ему встревоженным, — короче, случилось кое-что.
— Опять приступ женского желания?
Лидка пропустила колкость мимо ушей.
— С Татьяной беда. Её изнасиловали. У меня сейчас лежит. В милицию обращаться не хочет.
Лёнчик не дослушал. Он бросил трубку, заметался по квартире в поисках кошелька и паспорта, накинул на себя привезённую из Владика модную куртку-аляску на синтетическом меху и выскочил на улицу. До вокзала он добежал бегом, растолкал людей у кассы и взял билет до Кеми. Мурманский отходил через десять минут и уже стоял на перроне. Он нашёл свой вагон, сунул проводнице картонку билета и прошёл сразу в нерабочий тамбур, где достал из кармана прихваченный из дома «мерзавчик» и, зажмурившись, выпил его одним долгим, злым глотком.
Первая, кого он встретил в Кеми, была Лидка. Она мёрзла на платформе, ёжась в наброшенной на плечи короткой шубе, и высматривала Лёнчика.
— Так и знала, что примчишься.
— Как она?
— Никак. Плохо ей. Я врача вызывала по блату, не из больницы. Сделал анализы, вроде всё нормально. Но у неё ещё сотрясение сильное.
— Пошли! — Лёнчик зашагал в сторону выхода с платформы.
— Вот уж нет. Стоять! — Лидка забежала вперёд и раскинула руки в стороны так, что шубка чуть не слетела с её плеч. — Никуда ты не пойдёшь. Нечего тебе там делать. Татьяна меня просила никому не говорить. А то, что тебе наболтала, так это по глупости и от того, что выпила со страху. Так что оставим её в покое. Пошли ко мне. У меня там Чеберяк сидит. Я его с Острова раньше тебя вызвала.
Они прошли в ресторан через задний вход и оказались в Лидкином кабинете. Чеберяк грузно поднялся со стула, протянул Лёнчику свою огромную ладонь и плюхнулся обратно.
— Лидка, ты давай, сообрази нам тут что-нибудь. Лучше водки. Коньяку не неси. У меня от него давление поднимается.
Он указал Лёнчику на стул рядом с собой.
— Значит так. Я всё узнал. Узнал, кто это был, что за люди. Беглые. Пятеро их. Полгода как с зоны откинулись. Отсиживались где-то, пока их искали активно. А как прошло время, подались дальше. Ну и на Татьяну твою наткнулись. Лидка их видела. В ресторане тут гуляли, дебоширить начали. Хотела же Кравчука вызвать, да не вызвала. Дура-баба. Видит же, что народ тревожный. Пусть бы документы проверили, авось и обошлось бы. А так…
Лидка принесла графин с водкой и большую тарелку с бутербродами.
— И чё теперь? — Лёнчик выпил, не чокнувшись.
— Чё-чё, — передразнил Чеберяк, — заявление же она не написала. И я понимаю. Это для женщины позор. Трепать начнут, на всю жизнь к ней приклеится. Но такие далеко не бегают. Спалятся. Беспредельщики: мозгов совсем нет. Ну кто в ресторане гуляет, когда в бегах? Только полные идиоты. Они ещё намедни почту неподалёку грабанули. А там денежных переводов на семьсот рублей. Хорошо, что ночью, так не убили никого. Когда с зоны откидывались, двоих конвойных порешили. Там же четверо рецидивистов да один салага, почти малолетка. Первая ходка у зверёныша. И туда же, ублюдок!
Чеберяк отставил рюмку, поднялся, открыл шкаф, достал оттуда стакан, налил себе больше половины и выпил залпом.
— Зло берёт. И знаешь, Леонид, что самое мерзкое? Это же грязь человеческая, мусор, помёт, а жизни ломают настоящим людям, живым. Но ты не волнуйся. Поймают. Точно поймают. Я тут своим сказал, как что будет известно, мне сообщат, а я уже тебе либо телеграмму дам, либо позвоню. А к Татьяне не ходи. Не нужно. У неё для разговоров Лидка есть. Хоть и дурища, но для такого дела сгодится. Чай, сама за ментом замужем была. Разберётся, как утешить.
Они пили до прихода Ленинградского поезда, на котором Лёнчик вернулся к себе в Петрозаводск. Ехал он в купе один. Сидел, положив подбородок на скрещенные руки, и смотрел в окно. Никогда в жизни не испытывал он такой ненависти к кому-то. Если бы только он их встретил! Он бы растерзал их, забил бы, оглушил бы ударами кулаков, разбил бы кованными сапогами их осклабившиеся пасти, изрезал бы, искромсал. Ему хотелось отомстить, насладиться этой местью, выблевать её из себя в их кровь, чтобы кровь та шипела и пенилась.
Месяц он не находил себе места. Вечерами дома, стоило ему выключить телевизор и лечь в кровать, как он представлял себе Татьяну — его Татьяну и этих зверей. Представлял так ясно, что его начинало тошнить, и желудок отвечал резью. От Чеберяка никаких сведений не поступало. Несколько раз за зиму он звонил Лидке, но та тоже ничего не знала. Говорила, что «ловят». «Ловят они, — сокрушался Лёнчик, — они только форточников ловить могут!». Местные петрозаводские менты про розыск знали. Удивились, что Лёнчик интересуется этим делом, но он сослался на то, что один из убитых конвойных приходится ему дальним родственником. Менты покачали головой, пособолезновали, но ничего толком сказать не смогли.
Наконец в феврале, рано утром раздался звонок. Звонил Чеберяк.
— Взяли их, Леонид. Всё нормально. Вначале двоих, у тебя в Петрозаводске, а те остальных сдали. Всех накрыли. Тут следствия никакого не будет. Суд в самом скором времени. Я тебе сообщу. Помяни моё слово, всем вышка выйдет. Двойное убийство, побег, почта. Ещё дела найдутся, я так думаю. Так что высшая мера социальной защиты. Можешь спать спокойно. На суд пойдёшь?
— Пойду, Борис Иванович. На рожи ублюдков взглянуть хочу. Только меня держать надо, иначе я их прямо в суде порешу. Ты же знаешь, у меня справка.
— Справка у тебя липовая. А удержать — удержу. Сам на суд приеду.
Суд состоялся через месяц и три дня. На первое слушанье Лёнчик не пошёл. Он решил, что не выдержит так долго. Ему будет достаточно приговора. Чеберяк сдержал слово: приехал накануне второго — последнего — заседания. Лёнчик приготовил водку, но Чеберяк отказался, сославшись на давление. Всю ночь он ходил курить на кухню, заснул уже под утро, когда пора было вставать.
А следующим вечером, уже после суда, Лёнчик все-таки напился. Он пил, плакал, ходил сморкаться в раковину и опять пил. Участковый сидел рядом и мрачно садил папиросы одну за одной. Лёнчик пил, и в каждой рюмке отчетливо кривлялись лица людей, надругавшихся над его женой. Рябью по поверхности водки рисовался белёсый длинный шрам молодого сучонка, пославшего кому-то в зале воздушный поцелуй. Чеберяк ошибся. Вышку получили только трое. Двоим вышло послабление, дали срока: каждому по пятнадцать. Это Лёнчика и взбесило.
— Эти мрази не должны жить. Борис Иванович, что же это такое? Почему? Они же все там убийцы!
— Спокойно, Лёня, спокойно. Суд счёл, что не все. Эти двое вроде как и случайно оказались. Они никого не убивали. Всё нормально.
— Мне плевать, что они никого не убивали. Они насиловали мою жену! Они! Все эти мрази!
— Успокойся. Пятнадцать лет в наших лагерях — не сахар. По этой статье амнистий не бывает. Но если тебе уж так неймётся, то, — Чеберяк сделал паузу, — их и на зоне достать можно. И жизнь им там сделать невыносимой до такой степени, что они сами повесятся.
Лёнчик вмиг протрезвел. Он не ожидал услышать такие слова от Соловецкого участкового.
— Только действовать надо через какого-нибудь местного авторитета, вора в законе. Тут ведь какое дело. Им почему срок дали, а не вышку? Они же сотрудничали со следствием, своих корешей сдали по полной программе. Те за них под расстрел пошли. Такие вещи не прощаются. Если нашептать кому надо, то этот «кто надо» всё устроит. Странно мне, конечно, Леонид, говорить такие вещи. Но видит Бог, и у меня на душе неспокойно. Гадко, что мразь эта, что такое с Татьяной сотворила, живой по земле ходить будет. Возьму я на себя этот грех. Сам отмолю на Острове. А ты найди здесь такого человека. Есть они тут. Только должен быть настоящий авторитет, законник, из тех, кто за понятия понимает. Я таких ненавижу, потому как понятия их — одна дрянь да паскудства нечеловеческие, да только лучше так, чем жить с мыслью, что не наказал Бог за содеянное.
Авторитета Лёнчик нашёл. Свели их те же знакомые милиционеры через своих стукачей-информаторов. Зачем Лёнчику авторитет, спрашивать не стали. Нужен человеку, да и Бог с ним. Может, роман про воровской мир писать собрался. С него станется — книголюб! Лёнчику назначили встречу в кафе на Ленина. Он пришёл туда в середине рабочего дня, когда большинство столиков пустовали. Оглянувшись по сторонам, приметил невзрачного мужичка в куртке на рыбьем меху и с лицом землистого цвета. Мужичок пил бульон из кружки, обхватив её обеими руками. На пожелтевших старческих пальцах проступало исподнее наколок. Лёнчик взял себе стакан чая и только после этого подошёл к мужику.
— Я от Славы, — произнёс он переданный ему пароль.
— Вижу. Что тебе?
— Суд недавно был…
— Знаю, — грубо перебил его мужик, — дело говори.
Торопясь от волнения и неожиданно заикаясь, Лёнчик сбивчиво поведал мужику о том, что произошло с его женой. Рассказал, что именно этих-то людей только что судили, что двое из них сотрудничали со следствием, и судя по тому, что ему рассказали знакомые милиционеры, сдали всех, в то время как могли пойти в отказ.
Авторитет слушал молча, не смотря на Лёнчика, и по малому глоточку отхлёбывал бульон. Наконец он вынул из кармана вязаную шапочку, надел и, бросив короткое «завтра приходи», вышел из кафе. Двое молодых людей, похожих на учеников ремесленного училища, сразу поднялись с подоконника в конце зала и вышли следом.
Назавтра Лёнчика разбудил звонок в дверь. Он прошлёпал голыми ногами в прихожую и открыл. На пороге стоял давешний авторитет. Не дожидаясь приглашения, он вошёл и запер за собой дверь.
— Я в кухне подожду. Одевайся пока.
— А как вы адрес… — начал было Лёнчик.
— Не будь идиотом. Одевайся и приходи.
Лёнчик быстро натянул спортивные штаны, свитер на голое тело и вышел на кухню. Гость сидел на табуретке, положив руки на колени.
— Чаю хотите? А может быть, выпить? У меня есть.
— Присаживайся и слушай, — авторитет кивнул на соседний табурет.
Лёнчик сел.
— Хорошо, что не соврал, всю правду рассказал. Умолчал только, что за тебя Чеберяк вписывается. Ну да ладно. Чеберяка на северах знают. Он, хоть и мент, но мужик правильный. Значит так. Их на разные зоны отправили. Того, что в Инту, достать можно. Уже малява в пути. Поступок его по нашим законам сучий. Потому быть ему петухом на зоне все его пятнадцать лет, если доживёт. А второго под Ленинград закатали, в «красную зону». Ничего сделать нельзя. Лучше и не пытаться.
Сказав это, мужик встал и направился к выходу.
— Погодите! — подскочил Лёнчик, — а как же? Почему ничего нельзя?
Авторитет остановился в коридоре, обернулся, улыбнулся одними губами.
— Можно сделать, но я этим заниматься не буду. Не по закону. Если хочешь, поезжай и сам с кумом толкуй. Дашь денег, тебе яйца этой суки принесут в целлофановом пакете. Но это уже твоё дело. И вот ещё, — он задумался, — ты, как я посмотрю, мужик нормальный, да и не при делах. Мой тебе совет — не наделай глупостей. Живи.
Лёнчик проводил посетителя до дверей и открыл замок.
— Забыл совсем, — спохватился он, — я вам что-нибудь должен?
Мужик остановился и впервые взглянул прямо в глаза. И Лёнчик словно поскользнулся на этом взгляде, настолько он оказался прозрачный и пустой.
— Дурак ты, — сказал мужик и вышел.
Лёнчик запер дверь, вернулся на кухню и только тут понял, что он действительно мстит. И от этой мысли его затошнило.
Идея переехать в Ленинград зрела у Лёнчика давно. После общения с авторитетом он наконец засобирался. Получил через знакомых в горисполкоме разрешение на обмен и быстро поменял свою двушку на однокомнатную с доплатой. Снял с книжки накопленные деньги, продал радиолу и телевизор. Всё вместе получилось около девяти тысяч рублей. «Должно хватить», — подумал он. Твёрдо решив дойти до конца, он намеревался дать денег куму на той самой ленинградской зоне. Дать денег, чтобы с тем, последним мерзавцем что-нибудь произошло. Пусть несчастный случай на лесопилке, пусть «при попытке к бегству». Но жить эта гнида не должна.
Перед отъездом Лёнчик заехал к матери и провёл у неё целое воскресенье, слушая обычные её рассказы о том, какой он был хороший мальчик, когда был маленьким. Против Ленинграда мать не возражала, тем более что он соврал ей, дескать, знакомые обещают устроить в пароходство. А Ленинград матери всегда нравился.
Он оказался на Финляндском вокзале в начале марта. Ещё лежал снег. От сырого морозного воздуха отваливался нос. Лёнчика встречал всё тот же однокашник, в квартире которого они останавливались с Васькой. Однокашник приехал к поезду на подержанном четыреста третьем «москвиче» серого цвета. Они сквозили через вечерний город, и Лёнчик радостно узнавал знакомые с юности места. Литейный с мигающими светофорами, Владимирский, Боровую, Витебский. Дальше он уже никогда не забирался. Они ехали вдоль каких-то гаражей, промышленных корпусов и Лёнчик просто следил за стрелкой тахометра.
Приятель выделил Лёнчику целую комнату, в которой раньше жила мать. Предоставил в распоряжение шкаф с книгами, продемонстрировал холодильник, после чего, извинившись, уехал на свидание. Лёнчик сидел на кухне и не мог поверить, что приехал в Ленинград навсегда. Приехал сюда жить. Вот так просто. Взял и приехал жить. Впрочем, для начала у него оставалось дело. Дело, к которому он не знал как и подступиться. Приехать в ИТУ номер такой-то, вызвать начальника и сходу сказать ему, что, мол, так и так? Нет, это исключено. Его отправят в сумасшедший дом имени Скворцова-Степанова. И будут правы. Но как?
Назавтра Лёнчик поведал другу, что имеет некое очень деликатное дело к начальнику исправительного учреждения под Ленинградом. Учреждение находится в пятнадцати километрах от города Ломоносова.
— Всё бы хорошо, но к нему же не подступиться, — Лёнчик отхлёбывал горький чай из чашки и тёр подбородок.
Оказалось, что проблема решаема. Брат приятеля работал директором кафе в Ломоносове и знал всех серьёзных людей в округе. Приятель позвонил и вкратце изложил суть проблемы. Вечером раздался звонок. Лёнчику назначили встречу в ресторане «Баку».
— Ну и вкус у этого вертухая, — поморщился приятель, — но слушай. Ты его там встретишь, а узнаешь по тому, что на столе у него будет лежать…
— Журнал «Огонёк», — съязвил Лёнчик.
— Будешь смеяться, но это так.
Кум оказался дородным мужчиной лет пятидесяти. Он указал Лёнчику на стул напротив себя, подозвал официанта.
— Значит так. Посольской пятьсот. Заливное, биточки, ну и, там, грибочки-огурчики.
После этого он закурил, пустил дым вверх и уставился на Лёнчика. В отличие от авторитета смотрел прямо в глаза изучающее, ждуще.
— Что хотим, юноша?
Лёнчик достал из внутреннего кармана пиджака свёрнутый вчетверо листочек с именем и фамилией и передал куму. Тот развернул, прочёл, свернул обратно и бросил листок на стол.
— И что?
— Он на вашей зоне.
— Я что, их всех по именам знать должен? Что надо? Хочешь, чтобы к тебе на свиданку отпустил? Пидор, что ли?
— Хочу, чтобы его не стало.
Кум затянулся, затушил окурок в пепельнице и наклонился к Лёнчику.
— А ты вообще кто? Ты откуда такой взялся?
— Я из Петрозаводска.
— А почём мне знать, что ты из Петрозаводска, а не с улицы Якубовича?
— А что там?
— О даёт! — кум хохотнул, разлил водку и подвинул стопку Лёнчику. — Там, юноша, прокурор по надзору. Ладно. Вижу, что ты сам по себе. Уж больно рожа у тебя дурацкая, губа заячья, приметный такой. Да и вообще, ведёшь себя как дурак. Ты кто по профессии?
— Макаровку окончил.
— Макаровку, — мечтательно протянул кум. — Я тоже хотел плавать. В загранку ходить. А вместо этого всякий сброд сторожу. Гримасы судьбы. Что тебе это чучело сделало?
— Какая разница? Не важно. Я заплачу сколько скажете.
— Это, милый друг, позволь мне решать, нужно тебе говорить или нет. А заплатить заплатишь, конечно. Денег-то у тебя хватит?
— А сколько надо?
— Подумаем.
Официант принёс заказ и кум начал с аппетитом поглощать горячее.
— Ну, так что он тебе сделал? Что не поделили? Какая у него статья хоть?
Лёнчик назвал статью. Кум поперхнулся, вытер рот салфеткой и уставился Лёнчику в глаза.
— Серьёзно. Это как мимо вышки пройти с голой жопой. По льготе получил, как сотрудничавший со следствием? Дружка твоего сдал? Ну? Признавайся!
— Он с остальными изнасиловал мою жену, — выдохнул Лёнчик.
К водке так и не притронулся. Просто сидел и ждал, когда же ему назовут цену. Кум кивнул головой и занялся тем, что у него лежало в тарелке. Покончил с биточками. Заново налил водки, крякнул, придвинул заливное и пару минут ел в полном молчании. Наконец отставил пустую тарелку, вытер губы, приспустил узел галстука и опять подозвал официанта.
— Мил человек, скажи там музыкантам, пусть сыграют для меня «Белой акации гроздья душистые».
Он вынул из нагрудного кармана червонец и сунул официанту в руку. Официант поклонился и поспешил к сцене. Лабухи закивали головой и через мгновения раздались аккорды романса.
— Люблю, знаешь ли, послушать что-то вечное. У меня на зоне один артист отдыхал. Так пел, что слёзы на глазах. По амнистии в прошлом году вышел. Ну и пусть ему. Хороший человек. Значит, к делу…
Он достал автоматическую ручку, щёлкнул, пододвинул к себе давешний листок и, нарисовав число, передал Лёнчику.
— Вначале деньги, потом дело.
Сумма была серьёзная. Лёнчик ожидал, что услуга потребует денег, но никак не предполагал, что речь может идти о трёх тысячах рублей.
— Дорого, — наивно пролепетал он.
— Жизнь, юноша, — это штука дорогая, а смерть — нет. Это так, копейки. На свечки пойдёт, которые буду в церкви ставить, чтобы грехи отмаливать. Цена меняться не будет. Либо принимаешь, либо катись в свой Петрозаводск.
— Принимаю, — Лёнчик вновь свернул бумажку и положил в карман, — только вперёд будет половина суммы, а половина после того как, — он замялся, пытаясь подобрать подходящее слово, — после того как всё будет сделано.
— Коммерсант! — фыркнул кум. — Ладно, хрен с тобой. Сам знаешь: если что не так — урою. До дома не доедешь.
Они условились о времени и месте, где Лёнчик должен будет передать какому-то прапорщику деньги.
— Я позвоню тебе, когда что-то решится. Ты по тому же номеру, что и вчера?
Лёнчик кивнул.
— Ну и славно. Несчастный случай на производстве устроит?
В Купчино Лёнчик добирался трамваями. Всю дорогу его не покидало ощущение, что обляпался чем-то жидким, липким и постыдным. Но идти на попятную было уже поздно.
Через пару недель кум позвонил и назвал время и место передачи денег. Ещё через две недели, когда он уже начал нервничать, позвонил брат приятеля и вновь назначил встречу в ресторане «Баку». Лёнчик приехал заранее и попросил посадить его за тот же столик, за которым они сидели с кумом в прошлый раз. От волнения его знобило.
— На. Держи документ, — усевшись, кум первым делом сунул Лёнчику бумажку, а потом уже подозвал официанта.
Это была справка врача тюремной больницы с констатацией смерти заключённого номер такой-то: фамилия, имя, медицинские термины, и дальше «от многочисленных травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате несчастного случая при выполнении погрузо-разгрузочных работ».
— Устроит? — кум улыбался.
— Я не знаю. Не свидетельство же о смерти просить.
— И то правильно. Доверяй. Деньги можешь прямо сейчас передать. Есть с собой?
Лёнчик аккуратно протянул через стол конверт.
— И вот ещё что, — кум улыбнулся, — будешь трепать, считай, для тебя такая же справка готова. Понял, морячок?
В скором времени Лёнчик действительно устроился в пароходство, да ещё и на блатную должность — диспетчером ХЭГС. Через год получил ведомственную комнату в конце Рижского проспекта, у самого магазина «Альбатрос». В «Альбатросе» или, как его называли, в «Лоботрясе» Лёнчик в самом скором времени привык отовариваться. Товары там были либо импортные, либо отечественные, но те, что в обычных магазинах, почему-то не появлялись. Купил себе огромный японский магнитофон, новый цветной «грюндик», через знакомых заказал шведский гарнитур. Вечерами Лёнчик слушал джаз и читал. Книгами он загрузил все шкафы. Новые приятели отвели его однажды в садик во дворе магазина подписных изданий на Литейном. Теперь все выходные он проводил там, в компании таких же, как он, книголюбов, обмениваясь изданиями, рассуждая о современных писателях и аккуратно распивая портвейн из складных стаканчиков.
Каждый месяц он отсылал Татьяне треть зарплаты. На алименты она так и не подала, но для Лёнчика это ничего не значило. Он считал необходимым помогать, тем паче что зарабатывал хорошо. Знакомые моряки привезли ему из Японии небесного цвета «форд» с правым рулём. И теперь он ездил по городу, ловя на светофорах завистливые взгляды водителей «волг» и новомодных «жигулей».
Иногда он проводил отпуск на Острове, по-приятельски общаясь с Татьяниным новым мужем. Андреич Лёнчику понравился крепкой мужской рассудительностью и мягкостью. Доктор окружил детей и Татьяну заботой, не оставлял вниманием и Ваську, который из забавного мальчишки-сорванца превратился в хулиганистого пацана и вступил в самый опасный для подростка возраст. Однажды Андреич приехал в Ленинград с маленькими Валькой и Кирой. По-родственному останавливались у Лёнчика на Рижском. К тому времени он обитал уже в двух комнатах, осуществив, по совету знающих людей, хитрую авантюру с фиктивным соседом. Лёнчик катал их по городу на «форде», угощал в ресторане «Дома актёра», где его все уже знали, и вообще, старался создать гостям максимум комфорта. О Татьяне Лёнчик не расспрашивал. Ему казалось, что это будет неудобно и может показаться Андреичу попыткой заявить на неё свои права. Андреич тоже старался о жене не говорить, упомянув лишь вскользь, что она здорова, на работе всё хорошо, а больше ему и нечего было рассказывать.
Васька проходил службу на Северном флоте и писал отцу забавные и трогательные письма, полные грамматических ошибок. Грешным делом, Лёнчик подумывал, что после Васькиного дембеля заберёт он его к себе. Представлял, как будут жить они с сыном в квартире на Рижском, как устроит он Лёнчика к себе в порт, как будут они утром ездить вдвоём на работу. Может быть, даже Васька будет за рулём. Это какое счастье для парня — ехать по Ленинграду за рулём заграничной машины, совсем другое дело, нежели грузовики по Острову гонять. Он мечтал, что Васька женится на какой-нибудь студентке и приведёт её к ним жить. Представлял, что по коридорам их небольшой коммунальной квартиры поедет уже его внук на маленьком трёхколёсном велосипеде. И соседка, старая бабушка Лия Исааковна, накормит его пирожками, зажаренными на чугунной сковородке.
— Внучок-то, Лёнечка, на тебя похож. Такой же шустренький, рыженький.
— Конечно, Лия Исаковна, кровь-то наша — Головинская.
В этом Лёнчик видел счастье и не представлял себе иного развития событий. Сам жениться вновь не собирался. Барышни из пароходства не обделяли его вниманием, но на симпатию их и лёгкий флирт отвечал он спокойной и сдержанной симпатией, впрочем, не оставляющей никаких шансов на развитие отношений. Однажды случился у него не то чтобы роман, но что-то такое, что потребовало от Лёнчика душевных сил, времени и, возможно, каких-то надежд. Хорошая женщина, разведённая, сотрудница конструкторского бюро одного из Ленинградских объединений. Они ходили в кино, ужинали вместе в ресторане «Восток», катались на тройках по заснеженному парку и даже целовались на эскалаторе. Но ничего не получилось. Не смог и не захотел Лёнчик обмануть себя. Давно уже понял, что единственным грузом его души, единственным счастьем сердца была и останется Татьяна. И никто другой не сможет стать для него своим. Хорошая женщина обиделась, перестала звонить и в скором времени навсегда исчезла из его жизни.
А забрать к себе Ваську не получилось. Умер Андреич. Чеберяк прислал телеграмму, но на похороны Лёнчик не приехал. Уже и билет купил, собрался, на работе отпросился, но, придя на вокзал, посмотрел на стоящий состав, развернулся и, опустив голову, побрёл обратно в метро. Доехал до Лавры, свечку поставил.
Васька же остался с матерью. И это было правильно. Лёнчик ощущал себя спокойнее от того, что их сын, уже взрослый и серьёзный, рядом с Татьяной. Когда же Валентин уехал в Москву, а через год Кира, поступив в институт, перебралась в Ленинград, надежд на Васькин переезд уже не осталось.
Шли годы. Лёнчик продолжал работать в пароходстве. После всех реорганизаций и изменений назначили его заместителем начальника всё той же ХЭГС. К этому времени оказался он там чуть ли не самым старшим. Его все знали, любили, но нет-нет, да и пытались спровадить на пенсию. На Соловки он теперь приезжал каждое лето. Чеберяк давно уже не работал участковым, болел ногами и чаще всего сидел на лавочке перед входом в дом, часами наблюдая за покачивающимися в шлюзе катерами. Выпивать ему уже не позволяло здоровье, да и Лёнчик, хоть и был моложе Бориса Ивановича почти на жизнь, тоже от этого дела отвык. Про то, что Лёнчик сделал двадцать лет назад, он Чеберяку так и не рассказал. Но по тому, как однажды посмотрел на него старик, понял Лёнчик, что тот всё знает. А если не знает, то догадывается. Было в том взгляде и понимание, и прощение, и уважение старого и мудрого человека.
Большую часть отпускного времени Лёнчик проводил у Татьяны, уже не стремясь вытащить сына на рыбалку или по грибы. Татьяна после смерти Андреича потускнела, и за следующие лет пять светлые её волосы совсем выбелила седина. Морщинки вокруг глаз, возле губ, на шее. Руки в пятнышках веснушек на некогда упругой коже словно истончились и, когда она складывала их на коленях, усевшись перед телевизором, казались вылепленными из алебастра.
Однажды, помогая Татьяне нести корзину с бельём до натянутых на воротцах за домом верёвок, спросил, не была бы она против, если бы он вернулся на Остров. Татьяна поставила корзину на перевёрнутую днищем вверх железную бочку, вытерла руки о фартук, поправила прядку волос, выбившуюся из-под платка. Долго-долго посмотрела в лицо Лёнчику, потом провела ладонью по его щеке.
— Возвращайся, Лёнечка. И не на Остров — к нам возвращайся. Мы же семья.
На следующий год, в мае, Лёнчик устроил на работе банкет по поводу своего шестидесятипятилетия, после которого неожиданно для всех, уволился из пароходства. Он сдал комнаты родственникам приятеля-книжника, собрал вещи и уехал к жене и сыну. Ночью в поезде он плакал.
13. Я и Лёха
Обитая дерматином скамейка. Лежать на ней неудобно: узкая и короткая. Уже и стул подставил, а всё не заснуть. Руку под голову положил, рука затекает. И свет этот. Всегда ненавидел ртутные лампы: мерцают-позванивают. Выключить нельзя, я просил, отказали. Приёмный покой — не положено, должен быть свет. Кого принимают-то? За всю ночь один раз только «скорая» на вызов сгоняла, бабку какую-то привезли. Сидела тут на стуле, охала, пока её в журнал записывали. Докторица дежурная спустилась, давление измерила, что-то в карточке записала и опять ушла. А бабка ворчит, что бросили её. Начала мне рассказывать про сестру свою, которая, «сучка крашеная», с мужем своим нынешним через суд половину дома у неё оттяпать хочет.
— А фигу им с маслом! Ничего не получится. У меня от матери дарственная. И против этой дарственной все их суды бессильны. Вот и бесятся. И приходят, и нервы мне трепят. До давления человека доводят, до неотложки.
В палату бабку только через час увели. Думали, либо за час оклемается, либо на тот свет поедет. Врачи — люди циничные. «Скорая» во дворе осталась. Водила в кабине спит, фельдшер с сестрой где-то за приёмным покоем гульбанят. То и дело голоса их доносятся, гогот. Весело им, телек работает. Ну как тут уснёшь? Ещё и адреналин из крови не выветрился.
Смысла здесь торчать нет никакого. Чем помогу, если что? Ничем. Просто остался, чтобы быть рядом. Просто, чтобы чувствовать, что рядом. Для Лёхи это неважно. Ему сейчас всё равно. Для меня важно. Значит, для себя и мучаюсь. И пенять не на кого.
Хорошо хоть Машку в реанимацию пустили. Как ей откажешь? Попробовали бы они… Ей вообще никто противиться не может. У неё и так в глазах электричество, а сейчас — что-то и сверх того. Весь день на стуле рядом с Лёхой просидела, всё ждала, когда в сознание придёт. Руку ему гладила. Не дождалась, уснула на соседней койке. Сестра спускалась, рассказывала, что приходил в сознание, даже с дежурной разговаривал. Та ему укол вкатила, опять вырубила. Ну, эскулапам виднее. Это не чешуйчатокрылых в песке копать да не участки проектировать — где горочка, где водичка.
Валентин приехал. По стеклу пальцами барабанит. Ему в приёмный покой не войти — дверь изнутри заперта. Сестру растолкал, говорю, мол, пойду на свежий воздух, но ещё вернусь. Это чтобы пустила. Та из-за стойки вылезла, на лице вмятина от пуговицы. Просопела что-то, отперла.
Руки друг другу пожали, Валентин меня по плечу хлопает.
— Ну, как он?
— Спит, — отвечаю.
— Пусть спит. Мы врачу звонили, который оперировал. Оказался знакомый Ольгиных родителей. Уверяет, что опасности нет. Лёгкие пробиты, но это не страшно. С одним из ментов хуже. С тем, что в военный госпиталь отвезли. Боятся, не оклемается. А с другом твоим всё хорошо. Хирург говорит, дескать, плевральную полость дренировали, всё что надо сделали, антибиотики вкололи. И ещё повезло, что обе пули навылет. Кроме лёгких ничего не задето: ни позвоночник, ни даже рёбра. Обычно ещё всякие проблемы из-за осколков рёбер.
— Ну, это понятно, — я хлопаю по карманам в поисках зажигалки.
— Вообще, как мне сказали, здоровье у парня железное, сердце идеальное, почки там, печень. Хирург спрашивал, если что не так пойдёт, можно ли всё это дело на донорские органы забрать.
— Да они что, вконец охренели?! — я с досадой кидаю сигарету.
— Шучу. Тебя подбадриваю. Не волнуйся так. И Маринке скажи, чтобы с ума не сходила.
— Что Васькин отец? — спрашиваю, — отпустили?
— Отпустили. Показания дал, протокол подписал. Посоветовали не волноваться. До Лебещины даже отвезли, не поленились. Мать его весь вечер валерьянкой отпаивала — перенервничал. Старенький, а тут такой стресс. Когда я к вам собирался, вроде заснул.
Разворачиваю привезённые Валентином бутерброды, он наливает мне кофе из термоса. Бутерброды с колбасой и солёными огурцами. Ароматные. Колбаса докторская, со слезой. Оказалось, что проголодался. Пока сюда ехал, пока в милиции сидел, пока у операционной с Машкой ждали да в приёмном покое кемарил, не замечал, что есть хочу. А сейчас, видать, отпустило. Бутерброды… Набросился на них, словно ничего вкуснее в жизни не ел. Два стрескал, два обратно завернул. Машке отнесу, проснётся же она когда-нибудь. Жалко её, последний раз часов пятнадцать назад ела и ещё вся на нервах. Но держится молодцом. Пока операция шла, сидела, не плакала, только губы обветренные ноготками обдирала. Я, чтобы её отвлечь, да и самому не рехнуться, начал что-то про детство своё плести, про то, как в больнице лежал с дизентерией. Как мне промывание желудка делали огромным таким шприцом, трубку в нос вставляли и воду закачивали. Машка слушала, что я рассказываю, кивала, даже переспрашивала. Она же понимает, что мне ничуть не менее страшно. Даже, пожалуй, что больше. Конечно больше! Для меня Лёха — это даже не друг, это просто я сам, только другой. Возможно, что лучший.
Про Валентина мне рассказала. Удивительное, конечно, совпадение. Впрочем, совпадений не бывает. Есть что-то другое, что и не понять никак, как воля чья-то. А то и верно, всё — Божий промысел. Вон Лёха давеча смеялся, когда с попом этим фальшивым спорил. А ведь есть что-то. И сегодня…
Сегодня страшно было. Если бы не Лёха, кто знает, как бы всё вышло. Но среагировал. Как учили среагировал, словно вчера только на броне с ним в «лифчиках» сидели. Видать, навсегда это: в мышцах и костях, в рефлексах. И отец Васькин — умница. Человек уже немолодой, но не растерялся. С первой очередью Валентина в плечо толкнул, сам тётку Татьяну на землю уронил и собой накрыл. Лёха, герой хренов, — в два прыжка за «уазик». А там сержант подстреленный. Лежит, рукой бедро прижимает. Шок у него. Лёха автомат забрал, затвор передёрнул и долбанул меж колёс. Как раз один из этих дверь открыл, собирался вылезать. Открыл — так на очередь и налетел, обратно в салон отбросило. Люди, что у входа стояли, только тогда в рассыпную. Большинство за угол. Никого перед почтой не осталось.
Я кричу Машке: «На землю! Ложись!» Сам через дорогу и за мусорный бак. До «уазика», где Лёха залёг, метров тридцать, а то и сорок. Лёха обернулся, меня глазами нашёл, показывает, что хочет второго мента, что у капота лежит, из-под обстрела вытащить. Ну что же это такое? Что за подвиги в мирное время? Я Лёхе машу, мол, ко мне ползи. Он головой качает. А в это время с заднего сиденья «жигулёнка» пытаются до Лёхи одиночными дотянуться. Баллоны пробили, «уазик» осел, Лёхе и не высунуться. Я, согнувшись, по канаве на карачках почти до почты добрался. Голову высунул — ментовская машина и Лёха как раз между мной и этими. До Лёхи уже метров восемь. Слышу, как мент под капотом стонет, живой ещё. Ранен, но живой. Господи, ну а мне до него какое дело? Лёха три пальца показывает. Значит, на счёт «три» он меня прикроет, а я к нему присоединюсь. Ну почему это со мной происходит?
Раз. Два. Три. Лёха из-за двери автомат высунул и дал длинно куда-то в сторону «жигулёнка». Я в этот момент к нему. Упал рядом, сердце стучит, хмель не чувствую, адреналин в крови, даже блядский азарт появился. И Лёха лыбится.
— Привет, — шепчет.
— Привет, — отвечаю, — тебе мой осколок в заднице покоя не даёт? Тоже себе дырку хочешь?
— А то! — смеётся. — Ещё посмотрим, у кого тут дырки будут. Это же шпана. Они и оружия в руках не держали. Сейчас мы им «завтрак на Саланге» устроим. Готов?
Сказать ему, что не готов? Сказать ему, что, если тут со мной что случится, мать с отцом с ума сойдут? Сказать, что мне выстрелов на всю жизнь уже хватило?
Передал мне автомат. А там меньше чем половина рожка: вначале две очереди по три патрона, а потом, пока меня прикрывал, ещё патронов десять. И говно же, а не оружие, «семьдесятчетвёрка» укороченная. Сейчас бы нормальный наш АКС.
— Экономь, — говорит.
Издевается. Ладно, выдохнул, сплюнул в пыль.
— Давай, опять на счёт «три». Считаем!
Я со стороны задней двери стрелял, а Леха мента за воротник подцепил и на себя вытащил. Нормально всё, убрал за машину. С той стороны матюгаются. И тут какого чёрта его дёрнуло за вторым автоматом потянуться? Не готов я к тому был. Вечная его уверенность, что пронесёт. Я же не видел, что этот Рембо задумал. А он опять выкатился, цапнул за шлейку, кувырком обратно, тут в грудь и словил. Это тот, что за рулём «жигулёнка» был, его достал. Он, пока мы за «уазиком» хоронились, аж до крыльца отполз.
А дальше всё быстро. Дальше уже мне наплевать стало. Прыгнул в сторону, очередь с колена в того, что у почты. Попал. Вскочил, заорал матерно, и на второго, что за машиной.
— Бросай, сука, — кричу, — бросай, убью!
И взял же на психику. Тот выкинул автомат из-за машины, руки поднял, заныл что-то. Стоит на коленях за машиной, трясётся, плачет. Молодой совсем, глаза затравленные, боится, что сдохнет сейчас. И сдох бы. Я же думал, что убили они Лёху. Что удержало, Господь или сирена ментовская? Как раз «десятка» милицейская с группой со стороны автобусной остановки появилась. Я за трофеем нагнулся, зашвырнул в канаву, свой автомат следом. Потом сам на землю лёг, голову руками накрыл от греха подальше. Менты не подкачали — подбежали, сразу ногами бить начали. Руки заломили, голову назад. И только слышу крик Машкин: «Не трогайте его!» И ещё женский голос был, может, тётки Татьяны, может, кого другого, я не разобрал: «Он не с ними!»
Потом тошнило от нервов. Давление поднялось или ещё что, но трясло-колотило. Помню только, Васькин отец стоит у крыльца, головой крутит, что птица больная, и на скулу свою показывает: «Шрам. Шрам. Обманул кум. Обманул. Шрам». Дался ему этот шрам. Видать, тоже нервное. Шутка ли — пожилой человек да в такой ситуации. Кстати, у того, что я на крыльце подстрелил, действительно рожа изуродована была. Я подходил, смотрел. Седой весь, руки в наколках. Наверное, главным у них был. Остальные моложе — салаги, шпана.
Когда меня в РУВД в Медвежегорск привезли, более-менее очухался. Там женщины-дознавательницы чаем отпаивали, по очереди подходили, рядом присаживались, говорили что-то ласковое. Хорошие девицы, хоть и в форме. Красивые. Я так думаю, что от запаха их духов в себя и пришёл. Мужское во мне включилось, ну и всё остальное заработало. Майор коньяк принёс, уговаривал выпить, а я не смог, вытравил сразу, еле до раковины успел добежать. Лёху от почты почти сразу на «скорой» увезли. Машка с ним поехала. И самое обидное, что не позвонить ей. Пока по канаве на карачках полз, телефон промок, не работает. Вот и крутило меня в отделении, выворачивало. Хотел, чтобы скорее закончилось, чтобы в больницу рвануть. Спасибо, менты подвезли и с врачами договорились. Те пустили. А там уже Машка возле операционной. Меня увидела, на шею бросилась, но не заплакала. Молодчина она. Ей-ей, молодчина. И красивая. Какая же она красивая. Обняла и целовать. В губы целовать. Отчаянно, нервно.
Что же с тобой такое, девочка? Что с тобой, хорошая моя?
Курю и шагаю по бордюру вокруг клумбы, стараясь сохранить равновесие. Валентин у «пассата» своего чай из крышки термоса пьёт. Хороший мужик, правильный, на мать сильно похожий. Такой же белобрысый.
— Мы тёте Татьяне сковородку в подарок привезли.
— Зачем сковородку? — спрашивает.
— Полезная вещь. Всегда пригодится.
— Странные вы всё-таки.
14. Эпилог
В телевизор с похмелья смотреть нельзя. Без того от внутреннего голоса по организму эхо гулкает. А тут совсем скверное что-то: недоброе, невнятное. Соседка с утра полтинник вернула. «Не искушай, — говорю, — нет у тебя на меня силы теперь!» Та пальцем у виска покрутила, дыхнула пивным туманом и к себе ушла, картошку жареную со сковородки жрать. Упал в кресло и, чтобы не слышать, как совесть внутри черепа с мозгом препирается, врубил ящик. Знаю же, что нельзя, но всё равно. Курить тоже вредно, а курю. Пить нехорошо, а мучаюсь. К Зойке ездить совсем нельзя, а ездил. Ей больно, мне тошно, а ездил. Теперь всё. С этим пороком, кажется, завязал. Теперь ещё курить бросить…
В ящике люди нехорошие. Много нехороших посторонних людей. И лица у них, как у повзрослевших школьных хулиганов. И ни одной женщины. Есть люди женского пола, но плоские, двумерные, словно с изнанки к ним палочки приставлены. И только один канал показывает, по остальным помехи. И за помехами интересное угадывается, как что-то специально для меня, а не разобрать.
Эти же, нехорошие, руками мне машут, к себе зовут. Недоженщин своих ближе к экрану переставили — вожделяют. Стол с бухлом бутафорским на середину вынесли, делают вид, что радостно им. Уже звук до минимума убрал, а всё шумнее там и немузыкальнее.
И в дверь опять стучат. И телефон звонит. И чайник соседкин на кухне надрывается. И знаю, чувствую, что лежит в почтовом ящике на втором этаже замечательный журнал «Химия и жизнь» с картинками, но не спуститься мне с пятого. Не найду потом сил подняться. И пялюсь в экран. И муторно. И туманно на сердце. И в желудке туманно.
Хрен-то с ними… Пусть давятся! Электричеством моим, второй год неоплаченным, давятся. Поперхнутся пусть киловаттами этими! Какое электричество, такой и телевизор. Электричество ему подавай, суке…
Но как же орут они… Как мелькают… Спать!
Вот так забудешь уже, как выглядит, ан нет — появится через двадцать лет. Войдёт, поставит автомат в угол, сядет внутрь стакана: «Ну, рассказывай». Что рассказывать? С какого места начинать? С того, когда упал в ночь, закурил у парадной, поднял воротник куртки и побрёл вдоль проспекта? Ну да, шёл дождь. Не дождь даже, а туман в движении. Пахло деревами после зимы и людьми после пива. Сигарета тухла. Теперь сигареты не умеют тухнуть, раньше умели, сколь не разминай между пальцами. Помнишь, как исчезли все болгарские сигареты? В Москве так же было? Ах, да… Ты же не застал. Исчезли и «Родопи», и «Опал», и «БТ» в твёрдых пачках, и даже «Феникс», который вонял и потому его обычно почти не покупали. И югославские исчезли. И вообще исчезло всё, что можно курить, включая «Ватру». Только «Беломор» фабрики Клары Цеткин в продуктовых магазинах: кислый, дерущий горло. Попросить закурить считалось дурным тоном. Бабки у остановки троллейбуса продавали окурки из стеклянных банок. У каждого в кармане лежал мундштук. Это Зойка подарила. Помнишь, грелись у печки на заставе перед конвоем, а я рассказывал? Зойка подарила мне мундштук — длинный, манерный, с перламутровым кольцом, как на картинке. Сломался на второй день в давке за кислым «Вазисубани». Заклеил эпоксидной смолой, перемотав суровой ниткой.
— Ты на пидора был похож с этим мундштуком.
— На себя посмотри!
— Наливай.
— Сам наливай.
Наливаю в кружки с отбитыми ручками. Хорошие кружки с синей каймой. Из них пились чай, вино, водка, кисель. О да, тогда мы варили кисель из пакетов в алюминиевой кастрюле на коммунальной кухне чужого дома, куда приходили в гости, надеясь на расположение хозяек, коих было две или три. Чья это была квартира? Они располагали нас к себе, мы пели им песни и читали стихи. Чаще свои. У Лехи хорошие, а у меня плохие. Плохие стихи под кислое вино. Кислое вино с кислыми корейскими сигаретами «Птичка», украденными из места, где их было много. Улица Красная. Высокие потолки, быстрые тараканы. Стёртые ступени на второй этаж, мутные стёкла во двор. Всегда шёл дождь. Говорили, что он радиоактивен. Возможно, что мои редкие волосы — следствие того дождя, умных, но забытых мыслей, кислого вина и кислых сигарет.
— Давай, за воспоминания. Понеслась!
Что рассказывать? Могу рассказать про Север. Привёз я с Севера какую-то нездешнюю, несклоняемую тоску. Словно повидался с человеком, которого знал ещё молодым, а теперь сам уже не совсем и молод, а он всё такой же. Такой же, в том же свитере, в тех же сапогах кирзовых стёртых, в портках серых, в той же шапочке дурацкой, да только меня не помнит. Ни как разговоры разговаривали, ни как пили вместе, ни как под одним спальником зубами от холода позвякивали — ничего в памяти не сохранил. Север такой — помнит тех, кого привязал к себе шнурком от палатки или ремнями от вьючника, кого споил вусмерть бражкой из томатной пасты да закусал-загрыз совестью. А иных (вроде меня) отпустил и позабыл. И неважно, что всё детство прыгал я со льдинки на льдинку да швырял горбушками в повадившегося бродить по помойкам белого медвежонка. Неважно, что бродил экспедициями по тундре, трясся дизелями с работягами. Северу всё равно. Отпустил. И кидал я камушки в холодную воду, и шлёпал ладонью комаров на шее, и ковырял в зубах иголкой сосновой, а всё не то. Словно в аттракцион попал, в балаганчик, в передачу из телеящика, в собственные рисунки на полях тетради с лекциями по систематике. Всё вроде на местах, а неправда.
Могу про войну. Но сам знаешь про неё больше, потому что тебя на ней убили. Могу про Америку, но это скучно. Могу про другую войну, но это уже смешно. Это не как у нас: «Товарищ сержант, разрешите пойти посрать?» Это что-то другое.
Нельзя воевать в кроссовках. Можно воевать в сапогах, в ботинках, но нельзя в кроссовках из кожзаменителя. Ноги киснут и воняют. Лежишь пьяный в окопе и думаешь, что у тебя воняют ноги.
— Добар дан.
— Добар дан.
— Имата ли ботинки из кожи?
— Хиляда педесэт.
— Како сэ зовэсх?
— Бранка.
Три дня на кровати. Три дня войны на кровати с простынёй, пододеяльником и огромными подушками, на которых невозможно спать, потому что затекает шея. Я скидывал подушки на пол, а она смеялась. Она смеялась и рисовала у меня на груди ногтём солнце, дом, собаку и птиц.
Ушёл утром в воскресенье. Просто взял и ушёл. В новых кожаных ботинках с высоким голенищем на завязках. Оставил на кухне свой «эм семьдесят шесть». Просто оставил на столе в кухне. Положил туда же часы «Ракета», золотую цепочку с крестиком, портсигар с двумя сигаретами «Bond», фотоаппарат «Смена 8М» и «Жизнь двенадцать цезарей» из серии «Литературные памятники». Сеидовичу и его башибузукам было не до меня. Я спокойно спустился по склону, прошёл через какую-то деревню и попал на дорогу. Там подвезли цыгане. Или не цыгане. Но долгих им лет жизни. И пусть живёт и размножается тот лейтёха в Чопе, который пустил меня домой с просроченной визой. Счастья тебе, хороший человек! Приезжай ко мне. Я постелю тебе в самой большой комнате, напою чилийским вином и покажу тебе город. Это красивый город с красивыми людьми.
— За хороших людей. Будем!
О чём ещё рассказать? О том, как женился и разводился? О том, как уехал навсегда, а вернулся через месяц? О том, как обратно выкупал бабушкины комнаты за деньги, на которые можно было купить весь район? Я занял те деньги у людей, у которых даже на бутылку попросить страшно. И я не отдал, потому что их убили раньше, чем я смог что-то заработать. У них не осталось ни детей, ни жён, ни родителей. Не смейся. Это мой дом. Вот и всё. Я вернулся в свой дом, в который я возвращался всегда. И с войны возвращался, и с пьянки. И он извинил меня за всё и накормил теплом и воспоминаниями, решил за меня мою жизнь, и жизни тех, кто был со мной, и тех, кто только собирался быть. И за тех, кто не собирался. Например, за чужую жену, что поселилась здесь на пять месяцев, чтобы все пять месяцев служить мне упрёком. Как её? Я не смеюсь — не помню. Я звал «зайчик», что, соглашусь, пошло, но не пошлей, чем называть по имени. Она ходила по комнате в моей рубашке, накинутой на голое тело, и тушила окурки в раковину на общей кухне. Она пила кефир с солью и укропом и учила французский язык. Она клала раскрытые книги на обеденный стол, переплётом вверх. Она звонила своему мужу и спрашивала, что он сегодня ел на обед. Она заботилась. Конечно, больной желудок — это серьёзно. Меня это раздражало. Тебя бы тоже? Понимаю.
— Ну, за неё! Долгих ей лет жизни.
— За тебя!
На крыше напротив растёт дерево. Его никто не сажал, но оно растёт. Кажется, берёза. Отсюда не видно. Ржавая крыша, окно чердака, трубы в ржавых подтёках. Дерево. Утром слышно, как в зоопарке на Петроградской стороне кричат птицы. Ты опять смеёшься, а это правда. Рано утром слышно многое. Может быть, потом они тоже кричат, но шум машин заглушает все остальные звуки. Я встаю в восемь утра, принимаю душ, варю кофе. Я пью кофе из кружки с отбитой ручкой, хотя в доме много другой посуды. Кофе по-йеменски. С шафраном и имбирём. Пряно и горячо — выжигает желудок.
— Будем здоровы!
— Хорошо, что зашёл. Хорошо, что всё хорошо. Хорошо, что у меня всё хорошо. Хорошо, что у всех всё хорошо. Хорошо, что не нужно просить у тебя прощения за то, что я жив. К чему эти глупости? Всё нормально. Проехали. Спать!
Забылся. Вырубился не то от усталости, не то от алкоголя.
И ливень среди ночи… По крышам, что стая крыс шухером острыми когтями. И машины по Восьмой линии, да так, что не уснуть вновь. Они уже где-то у моста Лейтенанта Шмидта, а я всё в этом звуке, как в колее. Лежу и матерюсь. Полосы света на одеяле — будто в ватник завёрнут, в бушлат. И мысли какие-то лагерные, пустые, голодные, к себе лютые, к миру одинокие. Воняет кислым табаком и озоном. Либо ангелы на лестнице курят, либо наркоманы, что живут этажом ниже.
Один князь пошёл войной на другого князя. Встретились на реке близ села, положили пару тысяч, друг друга на кол посадили, вырезали всех родных до девятого колена, написали анонимку в налоговую, насрали под дверью и разошлись. Дома вызвали святителей, руки омыли, помолились — вот и к ужину пора. А за столом все равны, коли пьяны, какие уж там споры. Ну да, на кол. Ну извини, осерчал что-то после вчерашнего.
Смотрюсь в образа, как в зеркала. Тёмен лицом, волосом сед, глазом недобр, мыслями покат. По мыслям тем в ад кромешный, как по горке ледяной. Одну молитву на память знал, да слова путал, а теперь и ту не помню. И что молиться, если всё равно ни веры, ни покаянья. Вода из крана по каплям океан к океану. В котором больше, в котором меньше — никому не подсчитать. Только звук.
Опять спал, что ли? Дождь притих, зажал в подворотне темноту, как подростка, шепчет что-то скабрёзное. На часах без четверти. На лбу в морщинах, поди, половина. Тьфу-тьфу-тьфу!
Нет-нет. Закрыть глаза, курить в темноте с закрытыми глазами. Словно в ямке. В ямке, в песке, на пляже. На пляже где-нибудь в Солнечном, или в Комарово, или в Репино. Как лев муравьиный — вроде и хищник, но мелок и нелюдим.
Ямку нашёл — надо ложечкой аккуратно под самый конус копнуть, да и в баночку. Лучше, конечно, в пластиковый контейнер из-под плёнки. Не надо было выкидывать. Фотокарточки в альбом, плёнку в мусорку. Сейчас бы пригодились. Ничего, баночка из-под йогурта сойдёт. В заливе вымыл, краем рубахи протёр — и на сафари. А вот и он — Myrmeleon formicarius. Злой как чёрт, весь в испарине, пасть в пене. Сиди, не дёргайся, чмо сетчатокрылое… А в княжеский двор завели, на цепях с двух сторон басурмане держат. Лица как образа темны, глаза только зыркают. Князь на крыльцо в одной рубахе вышел, за блуд держится, зевает. Куда такого зверюгу? Не прокормить же. И так год голодный, лошадей сожрали. У соседа поля погорели, всем княжеством по дорогам пошёл, в лес забрёл, безобразит. Всю ночь крики какие-то, гитары бренчат, музыка играет. Давеча приезжали на джипах за водкой. Синие все уже, бляди на коленях сидят, кофты со стразами, на ресницах комки туши. В РАЙПО вломились. А там мужики в очереди. Всех растолкали, продавщицу напугали до смерти. А она девчонка совсем, только-только школу закончила. Говорили же ей, чтобы в город ехала в техникум поступать. Не послушалась, отца пожалела одного оставить.
Опять этот идиот, что среди ночи паркуется. Музыка орёт, ноты подшипниками во дворе-колодце скачут. Как там его? Серёга, что ли? Или Андрей?
Свет включил, воды в чайник набрал, закурил. Курю. Пью чай без сахара. Смотрю, как под веками льва в клеть загоняют. Руки потные, о рубаху тру, следы бурые. Спать!
А х/б х/б рознь. «Стекло» круче. Там и пропитка, и гладится легче, и выглядит понтовее. Но в межсезонье, когда трава по утрам покрывается инеем, в «стекле» совсем неуютно. И даже если прапор подсуетится и выдаст всем чуть раньше положенного подштаники и рубахи, всё равно трясёт как бабушкин холодильник «ЗИЛ». А обычная хабэшка на долю милиметра, но толще. За месяцы нарядов, полос препятствий, за гигатонны «вспышек слева» и такое же количество «вспышек справа» не залоснится, как «стекло», а ощетинится еле заметным ворсом. И греет тот ворс, что рыбий мех, но всё же теплее. Может быть, и иллюзия это, но даже иллюзия хороша, когда стоишь на плацу утром, вдыхаешь кисловатый осенний воздух, а выдыхаешь из себя сверкающие матерные облачка.
Сержант вдоль шеренг ходит, бляхи проверяет, на загривок смотрит — не оброс ли. Подбородки трёт. И ведь не успел портки погладить. Припахали с самого утра по какой-то ерунде. Но есть способ, верный, испытанный, не нами придуманный, да и не теми, кто был до нас. Кем-то ещё, кого так же по лопаткам приказами в грязь. Растянул брючину, зажал складку между двумя гривенниками и снизу вверх. Только не наоборот, иначе складка вкось пойдёт. Стирать лучше всего в бензине. Залил в таз, закинул на часок, потом щёткой потёр, под шлангом ополоснул — и готово. И жир с пищеблока отстирался, и дерьмо с фермы, и гуталин с плаца. Но за бензином надо на зону идти, да когда свои либо в наряде, либо на машинах. А попалят, так если не на губу, то в наряд. А из нарядов и так не вылезаешь, потому как слишком свободу любишь. А чем больше ты её любишь, тем сильнее её у тебя из-под той хабэшки и выскребают.
Карманы вечно забиты. По правилам там только военный билет да расчёска должны лежать. Но не проживёшь по правилам. А куда сигареты? А книжка записная, а рубли свёрнутые? А блокнотик с буковками и фотографией? А ножнички складные? Спички в карманы брюк, туда же хлеб из столовой в носовой платок. В другой карман — ножик перочинный. Ремнём затянешься, чтоб не вздохнуть, не кашлянуть, стоишь, как часики песочные. И минуты вместе с мыслями из головы да в ноги, по песчинке. И голова всё легче и легче, а сапоги всё тяжелее. И вот уже грохочешь «чугунками» по асфальту, вколачиваешь в планету самого себя. И всё тебе уже до глубокой фени, до фиолетовой дури — только бы до койки.
Вечером сядешь на табурет, стянешь с себя горькую от пота хабэшку, сдерёшь чёрную уже подшиву, перевернёшь её чистой стороной, сложишь вдвое, и мелкими стежками по полукругу, чтобы только два миллиметра, только два слоя, только два года, если пулю не словишь или осколок. Повезёт — сушилку откроют, назавтра сухой наденешь, не повезёт — опять во влажном, пока своим же духом и не высушишь. Но ведь плевать на это всё. И не замечаешь даже — ни эмоций, ни сожалений. С плаца пришёл, половину сигареты выкурил, половину обратно в пачку запихал, пилотку поправил и дальше живёшь. Ходишь. Дышишь.
Так-так… Вроде отпускает. Легче вроде. Словно едешь через мосты, вдоль каналов, сквозь перекрёстки. Окна в машине открыты. Ну его, этот кондиционер — вечный насморк, сухость во рту, мороз по коже. А так причастен всему миру, всем звукам и запахам. И миру все мои звуки, как подарок на юбилей — красиво, но на фиг не нужно. И пух тополиный. Вроде октябрь, а пух… А если бы не пух… Если бы вишенки вот так сыпались со всех сторон красным дождём. И пахло бы в воздухе свежезаваренным чаем и макушкой рыжей девушки, что стояла на ступеньку ниже на эскалаторе. Как тогда, когда спускались на Площади Восстания, чтобы подняться на Кропоткинской. Позвонить ей? Спросить, где она? Ещё вчера должна была приехать.
Все ответы давно перепутались в воздухе. В воздухе, где нет проводов, чтобы донести один голос до другого. Только общий хор, гвалт, гомон, бездна времени впустую. Уже на четыре месяца опаздываем. Пух летит в октябре, корюшкой пахнет в августе. Ещё пару месяцев, ещё полгода. Проще пойти в другую сторону, поехать по просёлочной дороге в то место, где дорога переходит в реку, а река в море. Спать!
Осень пронзительна до металлического вкуса на деснах, до щекотки за ухом на запах прелой листвы. Диктор о погоде с таким лицом, будто сейчас завопит дурным голосом: «Партбилет на стол!» Далась ему эта переменная облачность. И так понятно, что мокро и холодно, что пока варишь утром кофе, ещё темно, что светает лишь когда выходишь из лифта под моросящее небо.
И рассвет… О да, рассвет, как приглашение на серебряную свадьбу — идти не хочется, а отказаться неудобно. Достаточно перебраться в себя и найти там остаток летнего тепла, как находят на опушке леса обещанные соседями по даче грибы. Но толку от них, подмороженных, уже никакого — ни закусить, ни полюбоваться. Приходится выбираться обратно и вступать в социальные отношения, подписывая пакты о сдаче очередных крепостей, соглашаясь на контрибуции и понижение в гражданских правах. И это уже слабость. Это недостойно.
Вот и Машка вернулась. Только туфли скинула — сразу порядок наводить. Форточки открыла, окурки из пепельниц выбросила. Подушку понюхала, хмыкнула. Бельё в кучу и в угол, свежее застелила. С кресла за руки тянет, в лоб чмокает, в кровать укладывает. Брюки расстегнула, рубашку через голову стянула, укрыла, укутала. Лоб потрогала, нахмурилась, на кухню убежала. Слышу, с соседкой болтают, смеются. На пороге появилась, улыбается, в руке чайник. Грелку в ноги, горячий чай с мёдом в чашку. Трубку телефонную из-под серванта выудила, кулаком мне пригрозила. Родителям звонит:
— Привет-привет. Я дома. Всё нормально, просто вылет задержали. Игорь? Игорь болеет. Сейчас лечить будем. Привет тебе от него. И папе тоже привет. Спасибо-спасибо, передам. Температура? Есть небольшая. Молоко? Люда, я не знаю, что тут у нас есть, я ещё в холодильник не заглядывала. Он же как маленький, у него одно лекарство — водка. Все рыцари — алкоголики. Если не алкоголик — значит, не рыцарь.
А Лёха ушёл в себя, как уходят на фронт. Ушёл не попрощавшись, подбросив на плече вещмешок со сменой белья и походной миской. Ушёл надолго, задраив люки телефонов, задолжав провайдеру и оператору сотовой связи. Ушёл от суеты, от мелькания цифр на экране, от запаха озона в приемной. Пусть он нужен всем. И мне нужен. Первее всех он нужен мне. Впору слать телеграммы, хотя бесполезно. Звонить бесполезно — не впустит в сознание. Он там, вне суеты, вне времени, вне событий — Будда. Сидит и сочиняет осень, ставит копирайты в незаметных местах, под водосточными трубами. Но верю, что стоит мне постучать у входа, брякнуть об пол прихожей сумкой с чем-то стеклянным, как он оживет, вернётся, заулыбается своей дурацкой улыбкой из-под острого носа. Незваный друг лучше затаренный!
И создадим новую армию. Создадим армию и отправим её на передовую, где она победит и вернётся, благоухающая наркомовскими граммами, духами дочерей освобождённых земель, блудом. Вернётся, чтобы пасть в нашей прихожей на коврике и заснуть, пустив слюну. И будет спать до декабря, до зимней кампании, до тёплых подштанников и разогретой на костре тушёнки, когда мы опять будем нужны друг другу живые, реальные, сдавливающие кисти рук и хлопающие по плечу. Будем нужны бредущие рядом вдоль каналов, болтающие о ерунде и пеплящие друг другу на рукав. Нужны тогда, когда нам будет опять нечего сказать, кроме: «Ну… Понеслась».
Санкт-Петербург — Гостилово — Красницы 2009







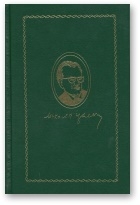
Комментарии к книге «Долгая нота (От Острова и к Острову)», Даниэль Всеволодович Орлов
Всего 0 комментариев