Извещение в газете
Предисловие
И у педагогики, и у литературы предмет один — человек, его мир, его противоречия, радости и тревоги. И не случайно тема школы, тема воспитания молодого поколения испокон веку вызывала у писателей живейший интерес. Ведь школа — это силовое поле нашей жизни. Именно там, как в фокусе оптической линзы, пересекаются различные проблемы окружающей действительности: нравственные, философские и даже политические и экономические. И если мы говорим сейчас о социалистическом о б р а з е ж и з н и, о социалистическом укладе и стиле, то укрепление этого образа жизни, уклада и стиля — одна из важнейших задач нашего общества, задача социалистической школы. Тема воспитания актуальна всегда. Проблемам жизни школы посвящена и повесть Гюнтера Гёрлиха «Извещение в газете».
«Отчего мы считаем, что с молодежью нельзя делиться нашими волнениями и тревогами? — спрашивает автор устами одного из своих героев. — Не обязательно жаловаться на безысходность положения и безнадежность, не обязательно ныть, но правдивыми мы быть должны. У нас великие цели. Как часто повторяем мы известную формулу: надо воспитывать из молодежи борцов. А значит, надо привлекать их к борьбе с трудностями». Конечно, сама по себе мысль не нова: действительно, необходимо сызмала воспитывать в людях самостоятельность и ответственность, именно в школьные годы складывается характер, формируются убеждения, и не последнюю роль играет здесь преодоление трудностей. Истины вроде бы прописные, но как же нелегко претворить их на практике, добиться, чтобы школа, ее коллектив, ее жизнь, накопленный ею нравственный капитал соответствовали животрепещущим социальным задачам бытия. «Кто из нас не знает, что многое зависит от воспитания воспитателя… У нас превосходные планы, пособий хоть отбавляй… Да, мы продвинулись далеко во многих областях, а это еще лет двадцать назад казалось нам утопией, наша педагогическая наука достигла больших успехов. Однако теперь стало особенно заметно, чего нам недостает, где у нас еще царит формализм, где мы пытаемся сплутовать, решая проблемы, которые нам ежедневно подсовывает жизнь, воплощенная в наших учениках». Слова эти, выражающие основную идею повести, принадлежат главному ее герою, учителю Манфреду Юсту, трагическая смерть которого стала своеобразным пробным камнем для всего учительского коллектива, обострила многие нравственные вопросы воспитания.
Гюнтер Гёрлих хорошо знает среду, о которой пишет, ведь ему самому довелось быть учителем в интернате, воспитателем в исправительно-трудовой колонии для несовершеннолетних. Жизненный путь писателя вообще во многом типичен для представителей среднего поколения интеллигенции ГДР: призванный в самом конце войны со школьной скамьи в вермахт, Г. Гёрлих прошел через плен и антифашистскую школу, затем последовала работа на стройке, служба в рядах Народной полиции, напряженная учеба в Литературном институте имени Иоганнеса Р. Бехера в Лейпциге, большая общественная и партийная работа. Гюнтер Гёрлих — председатель Берлинской писательской организации, член Президиума Союза писателей ГДР. На X съезде Социалистической единой партии Германии он избран членом ее Центрального Комитета.
Вступив в литературу в конце 50-х годов романом «Черный Петер» (русский перевод опубликован в 1960 г.), писатель навсегда сохранил привязанность к молодежи, интерес к самым разным сторонам ее жизни. За «Черным Петером» последовали повесть «Честолюбивые» (1959), в основу которой лег педагогический опыт писателя, роман «Самое дорогое и смерть» (1963) — первая часть пока не завершенной хроники пролетарской семьи, повести «Неудобная любовь» (1965) и «Автомобильная авария» (1967), романы «Чуть ближе к облакам» (1971) и «Возвращение на родину, в страну незнакомую»[1] (1974), посвященный «непотерянному поколению», тем, кто прошел войну в рядах гитлеровской армии, кто с малых лет дышал дурманом фашистской идеологии и нашел в себе силы освободиться от тлетворного яда. Этот во многом автобиографический роман — своеобразное подведение итогов прошлого, и в то же время писатель показал в нем становление новой жизни, зарождение тех отношений, которые являются основополагающими в современной социалистической немецкой республике.
Однако, отдавая дань неповторимости истории страны, Гюнтер Гёрлих пишет прежде всего о людях наших дней, и это весьма знаменательно, ибо такой подход воплощает настойчивое стремление писателя к переосмыслению постоянно меняющейся действительности, к углубленному анализу конфликтов и ситуаций, к формированию духовного и нравственного потенциала подрастающего поколения. Не случаен поэтому пристальный интерес Г. Гёрлиха к детям, к их взаимоотношениям с семьей и школой, о чем, кроме уже названных выше произведений, свидетельствуют и многочисленные книги для детей, такие, как «Незнакомец с Альбертштрассе» (1966), «Отец — мой лучший друг» (1972) и «Голубой шлем» (1976).
С таким вот солидным творческим багажом начал работу над повестью «Извещение в газете» (1977) писатель, дважды удостоенный премии Объединения свободных немецких профсоюзов (1960, 1966), награжденный медалью имени Эриха Вайнерта (1962) и ставший теперь уже дважды лауреатом Национальной премии ГДР (1971, 1978).
«Разве можно быть спокойным, когда пишешь о таком волнующем времени, как то, в которое мы живем?» — заметил в одной из своих давних статей Г. Гёрлих, и последняя его повесть — «Извещение в газете», — ставящая непростые проблемы жизни современной школы, намеренно остросюжетна. Начинается она с обведенного траурной рамкой газетного извещения о смерти старшего преподавателя Манфреда Юста, которое случайно прочтут друзья покойного — заместитель директора школы Герберт Кеене и его жена Эва. И смерть коллеги станет для них поводом для переоценки собственных и чужих поступков, утверждений и отрицаний, обострит их нравственное чувство. Смерть врывается в безмятежную идиллию отпуска, который они проводят в учительском доме отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Супруги Кеене словно преступают некую черту, грань между прошлым и настоящим, а настоящее это как бы утрачивает для Кеене перспективу, они смогут жить дальше, лишь поняв прошедшее и происшедшее. Такова уж, видно, природа смерти, у нее своя жестокая бескомпромиссность, рождающая у живущих безотчетное ощущение вины, от которого трудно избавиться. Особенно когда умирает друг, человек веселый, энергичный, «моторный» — Манфред Юст.
Этот трагический эпизод, по сути, является итогом событий, о которых затем вспоминает и размышляет Кеене-рассказчик. Его собственные воспоминания переплетаются с воспоминаниями других центральных персонажей романа, с их оценками личности Юста. Из таких вот размышлений, оценок, подкрепленных письмами-дневниками самого героя, и вырисовывается достаточно полная, но неоднозначная картина жизни обыкновенной школы обыкновенного промышленного городка Л. Смерть Юста, как взрыв, выворачивает на поверхность пласт сложнейших вопросов, очерченных формулой «воспитание воспитателя». Иными словами, каким он должен быть, современный учитель, воспитывающий современное подрастающее поколение, какой должна быть современная школа, чтобы ее по праву можно было назвать школой социализма.
Уже само появление Манфреда Юста, перешедшего в обычную школу из специальной политехнической, встречено коллегами с недоумением, им это кажется шагом вниз по служебной лестнице. Дальше — больше: его экстравагантная манера одеваться, цветные шейные платки, холщовая сумка вместо традиционного портфеля, его безмерная любознательность, кажущаяся заносчивость, ирония и умение постоять за себя вносят беспокойство в отлаженную жизнь школы, нарушают привычность установленного порядка, что вызывает недоверие и даже известное предубеждение у директора Карла Штребелова, справедливо гордящегося школьной дисциплиной.
Но мало-помалу и неординарная методика преподавания, и сам Юст, как личность явно незаурядная, привлекают внимание коллег, пробуждают в них закономерное любопытство. Класс любит, чуть ли не боготворит своего классного руководителя. Действительно, Юст стремится уйти от скучной рутины, от работы в силу привычки, он хочет, чтобы урок побуждал учащихся к активному осознанному действию, а не был лишь назиданием, механически переданным сверху вниз — от старшего к младшему. Взять хотя бы его уроки государствоведения: Юст намеренно вызывает ребят на дискуссию, заставляет их задуматься, осмыслить и обобщить конкретные явления окружающей действительности, которые им уже известны. Главное — научить детей пристально всматриваться, помочь им сделать правильные выводы. «Я не против научной стороны вопроса, но я против сухого изложения теории… — говорит он. — Я бываю удовлетворен и прямо о том говорю, если ученик, пусть он даже не помнит наизусть все пункты основного закона, понял суть конституции».
На своих уроках Юст не чурается и актуальных политических проблем; он владеет наступательным методом, столь необходимым в современном идеологическом противоборстве. Ярким примером тому служит дискуссия, устроенная в классе по поводу одной из передач западногерманского телевидения, во время которой он аргументированно разоблачает подоплеку капиталистической пропаганды.
Писатель как бы намеренно ставит своего героя в критические ситуации, испытывает его педагогическую зрелость. Такова история с Марком Хюбнером. Узнав, что в семье провинившегося ученика не все ладно, Юст ответил доверием на доверие и во время разбирательства этого случая на педсовете убежденно отстаивал свое право педагога на самостоятельное решение. Быть может, педагогическое искусство в том и состоит, чтобы в большом и в малом соблюдался принцип бережного отношения к развивающейся личности. Перегибать здесь никак нельзя — сломаешь! Да, таков Манфред Юст, неудобный, неприятный кое для кого человек, обладающий и чувством собственного достоинства, и готовностью защищать дело, в справедливости которого он убежден.
Герберт Кеене, принадлежащий, как и директор школы Штребелов, к тому поколению учителей, которое начинало свой трудовой путь сразу же после войны и на долю которого выпали неимоверные трудности строительства новой, социалистической школы, становится своего рода опекуном, а затем и другом Юста. Кеене все чаще с искренним интересом посещает уроки Юста, он видит безусловную талантливость своего коллеги, понимает, что именно таким людям принадлежит будущее, понимает, но не решается оказать Юсту действенную помощь в борьбе за «систему реальных оценок» и в конфликте с директором школы. Кеене все время как бы стоит в стороне, и лишь трагическая смерть Юста заставляет его переосмыслить свои позиции, по-новому взглянуть на обстановку в школе. Кеене остро чувствует, что его собственная инертность, инертность всего учительского коллектива, предвзятость директора привели к тому, что школа отторгла Юста — человека незаурядного, но, естественно, не лишенного недостатков — как чужеродное тело.
Но можно ли сказать, что речь в повести идет о конфликте поколений? Думается, дело не в этом. У Штребелова и Юста единая цель, различны же стиль работы и подход к проблемам воспитания. Штребелов накопил большой педагогический опыт, он превосходный организатор, бесконечно трудолюбивый и преданный школе. Но опыт, как говорится, приносит подлинную пользу лишь тогда, когда его применяют творчески, с учетом постоянно меняющихся условий. А приложимы ли методы 40—50-х годов в своей изначальной форме к школе современной? Не превратились ли они у Штребелова в догму, застывшую схему, исключающую всякий поиск, всякие проявления, по его словам, «бесплодных фантазий», иначе говоря, в то, что названо в повести «штребеловщиной»? Не подменил ли директор школы собой учительский коллектив, педсовет, единолично решая важнейшие вопросы и оставляя другим только подсобную работу? Не потому ли он столь предвзято и относится к Юсту, человеку талантливому, но во многом нетерпимому и слишком самоуверенному, не потому ли так старается доказать его педагогическую несостоятельность и даже безответственность? «Вздор, Штребелов, — мысленно спорит с ним Кеене, — твое упрямство, твоя ошибочная позиция порождены твоей беспомощностью. Ты где-то остановился, стал избегать сложных вопросов, воздвигать вокруг себя стену из странных традиций. Хочешь отгородиться от неудобных новых проблем… Ты смотришь все время назад. Да, если бы ты в прошлом хотя бы обретал силы, о чем постоянно возглашаешь».
Косность и узость, желание во что бы то ни стало спасти «честь мундира», «репутацию» школы становятся нравственно опасны, особенно потому, что это касается детей. Детям нельзя говорить полуправду, нельзя скрывать от них человеческое страдание и горе, обнаженность смерти, иначе нарушается нравственный закон ответственности за все живое на земле, утрачивается уважение к человеческой жизни, теряется доверие к учителю, а без этого нельзя воспитать самостоятельных и ответственных людей.
Если бы все в жизни было однозначно, если бы можно было на все отвечать кратким «да» или «нет», если бы люди делились на только хороших и только плохих. Но так не бывает. И в этой повести нельзя сваливать все на «штребеловщину». «Я попытался, — писал Г. Гёрлих в статье, опубликованной на страницах «Литературной газеты», — не разделять героев на «черных» и «белых», на заведомо хороших и безоговорочно плохих, а показать людей, придерживающихся одного и того же мировоззрения, преданных одной и той же профессии — и тем не менее глубоко несогласных друг с другом… Моя книга направлена против проявлений косности, предвзятости, нетерпимости, против невнимания, бессердечности, равнодушия к человеку».
Разные оценки вызвала смерть учителя Юста, разное отношение, разные последствия. Из писем Манфреда любимой девушке, тоже учительнице, Анне Маршалл, вырисовывается истинный, незамутненный образ молодого человека со всеми его слабостями и недостатками — образ учителя с чистым сердцем. В письмах объясняются и причины его «странного» перехода в обычную школу из-за несогласия со своей женой по многим жизненным проблемам. Из писем мы узнаем его взгляды на школу и воспитание нового поколения, узнаем, что ему предстоит тяжелая операция, в результате которой он не сможет больше преподавать, а без этого и жить-то ему невозможно. Трагические истории бывают разные, однако в гуманистической литературе «истинная трагедия, — замечает автор, — не проповедует отчаяние и безысходность, а противостоит им». Манфред Юст не мажорный герой, но он, пожалуй, во многом соответствует нашему времени чертами своего характера, своим интеллектуальным, нравственным, социальным обликом. Герой, который может служить д в и г а т е л е м эпохи. И не случайно, что Герберт Кеене, его старший товарищ, как бы принимает эту эстафету, стремится продолжить борьбу Юста, стать «беспокойным элементом» в школе, пусть это и будет нелегко.
Повесть Г. Гёрлиха подкупает своей искренностью, неодномерностью, масштабностью проблем, заставляет задуматься и поспорить. Ведь новое поколение растят не с помощью нравоучительных сентенций, а на примере творческой жизненной позиции.
М. Федоров
I
В начале августа, в четверг, по всей вероятности в первой половине дня, учитель Манфред Юст покончил жизнь самоубийством.
В это же время мы с Эвой, моей женой, летели на самолете Аэрофлота из Москвы в Адлер. Все мои мысли сосредоточились на предстоящих нам трех неделях отпуска, их мы проведем в Гагре, на берегу Черного моря, в доме отдыха московских учителей, и, если бы до меня даже дошел тогда какой-нибудь слух о том, что в этот час совершилось в городе П., я никогда бы этому не поверил. Манфред Юст, тридцати пяти лет от роду, жизнерадостный, активный человек, сам покончил со своей жизнью? Я же его довольно хорошо знал, знал, какие проблемы и затруднения его мучают, знал его успехи, его надежды. И главное, знал, как страстно он любил жизнь.
Посмотрев в иллюминатор, я пытался разглядеть под нами землю. Облачная пелена скрывала от меня панораму. Наш самолет летел, как было объявлено по радио, на высоте девять тысяч метров. Эва уступила мне место у окна, она не очень охотно летала.
Заходя на посадку, самолет еще над морем протянул за собой длиннющий шлейф, казалось, он собирается сесть на волны. В прозрачной воде мне ясно видна была затонувшая шлюпка.
Посадка прошла именно так, как живо и наглядно описал мне ее Манфред Юст. Это был наш последний разговор в последний день перед каникулами. Юст остро завидовал мне: ведь я отправился в один из прекраснейших уголков нашей земли, туда, где он, само собой разумеется, уже бывал. Он еще заметил, смеясь:
— Рад за тебя, старик. Честное слово, от всего сердца рад за тебя.
Уверен, Юст был честен со мной. На мой вопрос, как собирается он провести отпуск, Юст ответил, что никаких определенных планов у него нет, попробует пожить, не думая о завтрашнем дне, пусть жизнь сама преподнесет ему сюрприз.
— Ты же меня знаешь, — добавил он, — я человек неуравновешенный и своенравный, как время от времени говорят обо мне в высших инстанциях. — И он насмешливо улыбнулся.
Я знал, что его замечание относится к столкновению с Карлом Штребеловом в мае, когда Юст, затеяв со своим классом поездку в Польшу, на побережье Балтийского моря, не поставил о том в известность директора. Юст оправдывался тем, что их недолгая экскурсия состоялась во время каникул и договариваться о ней он обязан был только с родителями, что он, мол, и сделал.
Карл Штребелов резко возразил, что подобное разделение времени в работе учителя на учебное и свободное он не признает.
Я считал, что Карл слишком уж раздувает всю эту историю, но в принципе соглашался с ним.
И упрекнул Юста.
— Ну знаешь, — ответил он, — все получилось так быстро, мне уже перед самыми каникулами неожиданно предложили жилье. Не оставалось и минуты, чтобы зайти к Штребелову. Я попросту забыл об этом. Разумеется, письмо я мог ему написать.
— Почему же ты не рассказал все это на педсовете?
Он взглянул на меня, видимо в какой-то мере сознавая свою вину.
— А почему нужно все возводить в принцип? Тотчас из всего делать проблему. И ни единого вопросика не задать, как прошла наша поездка в Польшу. А ведь я мог бы рассказать кое-что интересное.
Без принципов в нашей работе не обойтись, возразил я, но тут же понял всю бездарность моего ответа. Оттого-то, быть может, и добавил, что, имея дело с Карлом Штребеловом, всегда нужно помнить о поколении, к которому он принадлежит. Ведь он из той малочисленной когорты, что тотчас после войны, не имея достаточных знаний и навыков, взялась за работу. В ту пору было совершенно необходимо со всей принципиальностью выделить все то, что предстояло нам сделать в педагогике. Иначе у нас, мягко говоря, ничего бы не выгорело.
— Если не ошибаюсь, дорогой коллега Кеене, ты тоже принадлежишь к этой легендарной когорте, — заметил Юст.
Надо сказать, поездка в Польшу, на Балтийское побережье, была для ребят Юста незабываемым событием. Об этом мне сразу же рассказали ребята, когда, замещая его — он попросил на один день отпуск по личным делам, — я провел в его классе урок истории.
Девчонки и мальчишки девятого «Б» положительно бредили этой экскурсией.
Но августовским утром в аэропорту Адлера я начисто позабыл о школьных буднях со всеми их проблемами. Я был рад-радешенек, что Эва хорошо перенесла посадку и на ее лицо постепенно возвращаются краски.
Вдалеке высились горы Кавказа, а по дороге мы увидели первые пальмы, листья которых шуршали на теплом ветру. Так начался наш отпуск в южном краю, отпуск, который я никогда не забуду, быть может, и оттого, что вслед за ним наступило время, резко отличное от этих дней.
Мы пересекли в такси границу с Азией. Тут мы и впрямь исполнились каким-то необыкновенным чувством, и Эва предложила:
— Теперь надо бы повернуть назад и пешком еще раз пересечь границу, она же делит две части света. Как ты считаешь? В конце концов, для нас это историческая минута.
Я считал, что ей, а она хорошо говорит по-русски, стоит сказать об этом водителю, он наверняка отнесется к ее просьбе с пониманием.
Эва, как всегда, сомневалась в своем знании русского языка, но все-таки поговорила с водителем. Он развернулся и пересек границу в сторону Европы. Мы вышли из машины и медленно, взявшись за руки, перешли границу, впервые в нашей жизни вступив на азиатскую землю.
Это было удовольствие с элементом торжественности.
Но вполне возможно, что именно в эту минуту Манфред Юст в городе П. покончил с собой. Здесь было два часа дня; отсчитав три часа, мы получали среднеевропейское время. Такое совпадение, стало быть, не исключалось.
Начисто, однако, исключалось, что мы хоть в самой малой степени могли предвидеть подобный шаг Юста.
Я, правда, подумал о школе, но подумал я о моем товарище Карле Штребелове, представил себе, что сказал бы он, увидев нас, совершающих такую церемонию. Он сдвинул бы брови, и на лице его, по всей вероятности, не мелькнуло бы и самой легкой улыбки. Карл все это посчитал бы безвкусицей, поступком несерьезным и вообще не соответствующим значению момента. В этом смысле, покачав головой, он бы и высказался. Быть может, он принял бы во внимание смягчающие обстоятельства, ведь он знает Эву и относится с уважением к ней и ее работе в издательстве, поскольку результат ее труда — книги, а ко всякому печатному тексту Карл Штребелов относится с глубочайшим уважением. Только примириться с ее сумасшедшими идеями он не в силах.
Я улыбнулся своим мыслям, и Эва поинтересовалась, понятно, чему я улыбаюсь.
— Вспомнил Карла, — ответил я.
Она глянула на меня.
— А знаешь, я бы заставила его выйти с нами из машины.
— Не переоцениваешь ли ты свои силы?
— А я обосновала бы наш поступок чуточку солиднее. Что-нибудь сказала бы в таком роде: сидя, мол, в машине, не ощутить так этого события, ни разумом не воспринять, ни чувствами. Как же, Карл, сказала бы я, как же ты опишешь его своим ученикам?
Я рассмеялся:
— И эту его привычку ты считаешь недостатком?
— Недостатком? — переспросила Эва. — Нет, достоинством.
Да, отношение Карла Штребелова к детям было его достоинством.
Водитель широко распахнул перед нами дверцу.
— Харош, — сказал он, — наша Грузия. Дивная, очень дивная страна.
Бывают у человека периоды неправдоподобно, фантастически благополучные, когда не верится, что все происходящее не сон. Так все вокруг хорошо и прекрасно.
Вода в гагринской бухте не всегда прозрачна, предупреждали нас, к берегу чего только не прибивает, и особенно много медуз при ветре. А уж августовская жара! Томительная, знойная, ведь даже самый легкий ветерок не доходит сюда с севера или востока, его не пропускают высокие горы. Столбик термометра может подняться выше 30 градусов. Дышать будет трудно.
Ничего подобного в дни нашего отпуска не случилось. Вода была зеленоватой и чистой, без всяких медуз, температура не поднималась выше тридцати, и никакого зноя не ощущали мы на берегу гагринской бухты.
Мы, видимо, родились в рубашке, Эва, во всяком случае, твердо в это верила, и только сознание, что в недалеком будущем нам придется вновь ехать в Адлер и сесть в самолет, омрачало время от времени ее радость.
Мы жили в комнате с видом на море. И частенько сидели на балконе до поздней ночи.
На балконе же мы прилежно писали открытки друзьям на нашу далекую родину. И разумеется, среди прочих Манфреду Юсту.
Его я целиком и полностью предоставил Эве. Она испытывала к Юсту симпатию. Думается мне, они составили бы хорошую пару, если бы встретились раньше. Вполне может быть. Два года назад, когда Юст начал работать в нашей школе, они встретились в первый раз на вечере в дни масленицы. И с первой же минуты — Юст сидел за нашим столом — нашли тот легкий тон, который мне за долгие годы нашего с Эвой брака давался далеко не всегда. Я уж готов был приревновать Эву, но моя жена, зная меня, опередила события.
— Этот новенький — чистое сокровище. Такого второго средь вашей серьезной братии не сыскать. Бесподобно умеет кого угодно поднять на смех, но и себя не щадит. Это мне нравится. А ревновать тебе незачем. Нелепо, право.
И я не ревновал. Какое-то время это удавалось мне с трудом, но Юст очень скоро нашел с нами общий язык и надолго завоевал дружбу Эвы.
Вот, стало быть, я и подвинул Эве на балконе открытку, предложив придумать что-нибудь для Юста. Она, ни секунды не медля, тут же стала писать и прочла мне написанное.
«Дорогой Юст, Манфред, учитель на отдыхе в скучнейшей Европе!
Тебя приветствуют два без-пяти-минут-грузина. Теперь-то мы знаем, что свело тебя здесь с ума. Горы, что сбегают к самому морю? Ну да, они тоже. Вино, что развязывает язык и слегка кружит голову, когда язык начинает слишком развязываться? Возможно, возможно. Нет, Юст, Манфред, это местные женщины околдовали тебя, старик. Красавицы, огненноглазые недотроги. Так, во всяком случае, считаю я, так считает и мой милый муж Герберт, которому я бы очень и очень советовала придерживаться подобной же точки зрения. А может, ты, северный Казанова, исходя из собственного опыта, придерживаешься иной? Опустим лучше завесу молчания над роковыми тайнами. Как бы там ни было, нам чертовски хорошо.
Передавай привет Анне Маршалл, твоей коллеге и соратнице, мы надеемся, что она время от времени скрашивает тебе часы одиночества своим присутствием.
Тысяча горячих боевых приветов от Эвы и Герберта».
— Бог мой, тебе, видимо, хорошо, — сказал я, смеясь.
— Ну конечно, пусть и другим будет хорошо, — серьезно ответила Эва.
Что до Анны Маршалл, которой Эва так естественно передала привет, то — в связи с Юстом — для меня все было не столь однозначно, как это, быть может, выглядело на первый взгляд.
Эта Маршалл пришла в нашу школу год назад, то есть годом позже Юста, прямо из высшей школы в школу среднюю, испытывая немало страхов, но полная энергии, как уж исстари ведется.
Юст занялся выпускницей, стал, не ожидая указания, ее наставником, ничего удивительного: Анна Маршалл — девушка очень красивая. Так образовалось дружество двух белокурых и голубоглазых, и Эва вскоре по своему обыкновению уже прикидывала, какими были бы их дети. Еще белокурее, еще голубоглазее.
Превосходная степень от «белокурый», превосходная степень от «голубоглазый».
Анна Маршалл поначалу мне совсем не понравилась. Ее докучные вопросы, какая-то нервозная непосредственность вызывали у меня антипатию. Мне приходилось делать над собой усилие, чтобы она этого не почувствовала.
Вдобавок в то время, когда она к нам явилась, мои отношения с Юстом, после некоторой натянутости и резких стычек, стали приобретать дружеский характер. Я опасался, как бы она не помешала этому процессу. Видимо, отношения с Юстом значили для меня куда больше, чем я сам себе признавался.
Я приближаюсь к пятидесяти и принадлежу к тому поколению учителей, которое обстоятельства времени заставили долго быть молодым. Не так-то просто проявлять бодрость и прыть, когда их уже нет у тебя в том объеме, какой от тебя требуют. К тому же мы прошли тяжкий путь и знаний нам не хватало. Но мы душой и телом преданы школе.
Эти-то причины и объясняют, почему мы склонны сравнивать все и вся с нашим опытом, мерить все нашими масштабами, и нам бывает порой трудно справедливо судить о молодых, о новом поколении. Юст стал для меня чем-то вроде пробного камня. Умный, образованный, он прежде всего — и это мне пришлось вскоре признать — тоже был душой и телом предан школе.
Но тогда я полагал, что Юст иронически хмыкнул бы, услышав это, пожалуй чересчур эмоциональное, выражение. Для него все было гораздо прозаичнее. Знания, методика, психология — вот что важно.
Оттого-то я, хоть и относился к нему настороженно, вместе с тем восхищался кое-какими его чертами. Убежден, что Карл Штребелов испытывал те же чувства. Только Карл не сближался ни с Юстом, ни с другими подобными ему людьми. Быть может, он поступал верно.
Карл Штребелов подчинял все железному правилу: единодушный и сплоченный учительский коллектив гарантирует воспитание и обучение детей в социалистическом духе.
В принципе против этого правила возразить нечего.
Так вот, Анна Маршалл появилась на нашей сцене как раз в тот период, когда мы с Юстом только-только начали действовать сообща, и сразу же произвела на всех впечатление.
Но очень скоро я с удивлением обнаружил одну особенность: для Юста Анна Маршалл значила примерно то же, что он для меня; она ведь была на десять лет моложе Юста.
Кто знает, что видел он в ней и что хотел в ней выявить.
А что он прежде всего выявил в ней женщину, казалось мне само собой разумеющимся. Хотя очень скоро меня одолели сомнения, не слишком ли опрометчиво я сужу.
Карлу Штребелову мы тоже послали привет из гагринской бухты.
Вначале я выбрал открытку, на которой изображен был Дворец пионеров, и начал было писать, но порвал ее. Мне пришло в голову, что Карл, не успею я вернуться, начнет спрашивать, был ли я во Дворце пионеров, установил ли связь для обмена письмами, для взаимных посещений. Конечно же, подобную возможность налаживать контакты на месте нельзя не использовать. Все верно. Но я разленился, меня разморило, я жил бездумно-счастливой жизнью, и объяснять это Карлу было бессмысленно.
С точки зрения Карла, упустить такой случай было смертным грехом. Он, я готов был спорить на что угодно, отправился бы во Дворец и установил бы с ними контакт. Приволок бы домой фотографии и прочий материал, заключил бы с ними какое-нибудь соглашение. Карл никогда не забывал о своей педагогической задаче. И проявлял в этом обезоруживающее упорство. У него была поговорка, перефразирующая ленинские слова: «Настойчивость, настойчивость и еще раз настойчивость, в этом уже половина успеха, товарищи и коллеги».
Услышать поговорку Карла я желания не имел, не говоря о том, что не собирался стать объектом нарекания. Я выбрал открытку, на которой изображено было заходящее за мыс солнце. И написал, что живем мы хорошо, что я не могу даже выразить, как много значит для меня этот отпуск, тем более что благодаря ему я избавлен от приготовлений к новому учебному году… Но я все наверстаю, Карл, написал я. Хотел еще рассказать Карлу об Андрее Платоновиче и его жене Гале, учителях из Москвы, но и этого делать не стал. И что мог я написать, чтобы пробудить интерес Карла? Мы с Андреем Платоновичем до сих пор еще не слишком-то много говорили о школьных проблемах.
Итак, я написал:
«До скорого, Карл.
С сердечным приветом Герберт и Эва».
Мы с Андреем Платоновичем заплыли сегодня, как каждый вечер, довольно далеко, и там Андрей запел.
Его голос привлек наше с Эвой внимание в первый же вечер. Эва тогда позвала меня на балкон.
— Послушай-ка.
С воды к нам доносилось пение, сильное, торжественное. Кто-то плыл на спине и пел во весь голос.
Очень скоро мы с Андреем Платоновичем по вечерам уже пели, сменяя друг друга. А иной раз и в два голоса, сойдясь на какой-нибудь песне. К примеру, «Калинку», «Вечерний звон» или «По долинам и по взгорьям».
Андрей Платонович, уверен я, пришелся бы по душе и Манфреду Юсту. Мы составили бы неплохое трио на воде в гагринской бухте — Андрей Платонович, Юст и я.
За три дня до отъезда мы с Эвой купили на вокзале немецкие газеты, понятно довольно старые.
В самом начале отпуска нам повезло: мы наткнулись на столовую самообслуживания, в которой можно было получить также черный-черный горячий и сладкий кофе по-турецки, десять копеек чашечка.
Пока Эва стояла в очереди за кофе, я сел за столик, занял стул для Эвы и полистал газеты. И почти сразу наткнулся на извещение о смерти, в котором было сказано, что «старший учитель Манфред Юст, имевший правительственные награды, скончался в возрасте тридцати пяти лет. — Л., 12 августа. — Дирекция школы — профсоюзная организация — партийная организация. Захоронение урны состоялось в Берлине».
Я прочел краткий текст извещения, перечитал его еще раз вполголоса и наконец-то уяснил себе, что речь идет о нашем Манфреде Юсте, что это его нет больше в живых.
Эву я заметил, только когда она поставила чашки на мраморную столешницу. Видимо, взгляд мой выражал полную растерянность, потому что Эва спросила, не плохо ли мне и с собой ли мои капли от давления.
Я подвинул ей газету. Она отреагировала на нее так же, как и я минуту назад, и ей понадобилось какое-то время, пока она осознала прочитанное.
— Манфред скончался? — переспросила она беззвучно.
— Почему же они нам не телеграфировали? — сказал я резко, но тут же сообразил, что они, конечно же, не хотели портить нам отпуск.
Что изменила бы эта телеграмма? Наш отпуск, все изменила бы она. И я вновь, в который раз, понял, сколь эфемерно подобное беззаботное счастье.
Похоже, мы с Эвой подумали об одном. Эва даже вслух высказала свою тайную тревогу, блаженное состояние, в какое погрузились мы в нашем идеальном отпуске, всегда вызывает у нее опасения.
— Я начинаю чего-то бояться, — сказала она, — понимаю, не подобает это просвещенному человеку, каким я все же себя считаю. Судьба. Экий вздор. И все-таки начинаю бояться. Слишком нам хорошо, слишком покойно. Вот гром и грянул. Что же стряслось с нашим Манфредом?
Ответить на этот вопрос мы не могли; взволнованные, потрясенные, мы толковали о смерти Юста, строили догадки, но, по существу, не знали, что же там случилось.
Я предположил, не разбился ли Манфред, чего доброго, на мотоцикле.
— Бывало, он гонял как сумасшедший, — сказал я.
Но тут же отказался от своего предположения. Юст и правда гонял на мотоцикле, но очень уверенно, я раза два-три ездил с ним. Можно не гнать как сумасшедший, а все-таки разбиться. Кто-нибудь другой, какой-нибудь пьяный водитель, долбанет тебя в бок. И конец.
Что еще могло с ним стрястись? Инфаркт? Исключено. Только не у Манфреда. Он занимался спортом, вел здоровый образ жизни. И всегда у него был цветущий вид.
Молча сидели мы за мраморным столиком, а газета с черной рамкой лежала между нами. Об окружающем мире мы забыли.
Только выпив наш горячий кофе, мы мало-помалу вновь поддались очарованию пестрой, шумной жизни на южном побережье, ярких, сочных красок, резких запахов.
Нас внезапно коснулось дыхание смерти, как это бывает, когда теряешь близкого человека. Если умирает человек посторонний, то собственную жизнь воспринимаешь острее; узнав о смерти чужого человека, испытываешь какое-то странное чувство удовлетворения — сам ты еще жив, а печальный тот факт свершился где-то в дальней дали.
Когда мы вернулись в дом отдыха — а в эти минуты нам показалось, что мы как-то особенно с ним сжились, — мы уже пришли к единому мнению, что дома произошла какая-то трагедия.
Всего масштаба трагедии мы и не подозревали.
Знали, что последние три дня отпуска наши мысли будут заняты смертью Манфреда Юста, последние дни в восхитительной Гагре будут омрачены скорбью о Манфреде Юсте. Чувствовали, что этот своеобразный человек был нам куда ближе, чем мы до сих пор сознавали. Он жил рядом с нами, беззаботный, насмешливый, веселый, в высшей степени честный, а иной раз удивительно беззащитный. С ним было занятно спорить.
В этот вечер я не поплыл с Андреем Платоновичем в море. Они с женой прекрасно понимали, какое у нас настроение. На море стояла глубокая тишина.
Мы сидели на балконе. Эва отодвинула в сторону столик, хотела, видимо, чтобы мы лучше ощутили взаимную близость.
Мы пили красное вино.
И просидели до полуночи.
В эти часы мы словно бы воссоздавали для себя образ Манфреда Юста. Понимали, что он загадал нам не одну загадку. И делились своими воспоминаниями о нем; так мы прощались с ним, не подозревая, что после нашего возвращения он еще долго будет занимать наши мысли.
Два года назад, в середине августа, в школе маленького городка Л. появился Манфред Юст. Его нельзя было не заметить, хотя бы из-за внешнего вида, который мне не слишком пришелся по вкусу. Мое мнение разделял и Карл Штребелов. Или я — Штребелова. Не помню уж точно, шла ли речь о внешнем виде Юста или о его — по нашим понятиям — безудержном любопытстве, с которым он разглядывал и оценивал своих коллег, школьников, стенные газеты, обстановку в учительской — вообще все в нашей школе.
Его внешний вид? Белые фланелевые брюки, лимонно-желтая рубашка, открытый ворот и пестрый шелковый платочек на шее. Волосы белокурые и для учителя чуть длинноватые. Он то подолгу стоял где-нибудь, то бродил не спеша повсюду, все рассматривал, и всегда с легкой улыбкой на губах.
Жизнь школы текла по привычному руслу, нам тогда нужно было закончить составление расписания. И еще кучу разных дел.
Карл Штребелов представил новенького педагогическому совету:
— Манфред Юст, старший учитель. История, география, государствоведение. Эти предметы он и будет у нас преподавать. Я рад, что мы будем работать вместе. Опыт, приобретенный им в специальной политехнической школе, без сомнения, интересен и принесет всем нам пользу.
Да, теперь мы знали, откуда явился к нам этот новенький. Из спецшколы, носящей знаменитое имя, из города П., в получасе езды на поезде от нашего города. Но почему он перешел к нам, об этом Карл Штребелов даже словом не обмолвился. Явную настороженность всего собрания Штребелов оставил без внимания, должен был оставить без внимания, ибо сказать ему было нечего.
Он еще до собрания информировал меня:
— Новый коллега перешел к нам из школы имени Эйнштейна.
— Вот как? Что-нибудь натворил? — поинтересовался я.
Сказанное Штребеловом навело меня тотчас на мысль, что уйти с такой работы человек может только из-за каких-то неприятностей. Так уж мы склонны обычно думать. Да и наш жизненный опыт подтверждает это.
— Не знаю, натворил ли он что-нибудь, из характеристики, во всяком случае, ничего такого не следует, — неохотно ответил Штребелов и постучал по тоненькой папке, в которой, очевидно, заключена была вся служебная жизнь нашего нового коллеги. — Характеристика у него хорошая. Сплошные похвалы, — добавил Штребелов.
— А что говорит он сам?
— Я спросил, но он пропустил мой вопрос мимо ушей, — ответил Карл Штребелов.
Да, это плохое начало в отношениях Карла Штребелова и Манфреда Юста.
Карла я знаю уже очень давно и могу сказать, что у нас с ним добрые отношения, они сложились за долгие годы совместной работы в шестой средней школе города Л. До дружбы, правда, не дошло, слишком уж разные взгляды у нас по некоторым вопросам.
Могу себе представить, что испытал Карл Штребелов, когда Юст просто-напросто не ответил на его прямой вопрос. А Карл любил точность, не терпел никаких туманностей. С нещадной настойчивостью он изживал все и всяческие неясности. Больше всего ненавидел расплывчатость, неопределенность. Эта особенность отличала стиль его работы, с ее помощью он добился в своей школе стабильности, четко налаженного учебного процесса, что в свою очередь привело к устойчивому уровню знаний учащихся. Карл Штребелов стал директором этой школы в середине пятидесятых годов. Я начинал вместе с ним. В ту пору здание школы было еще новеньким, и мы радовались и гордились, что нам выпала честь в ней работать.
Прямолинейный, трудолюбивый Карл Штребелов четко определил с самого начала направление в нашей работе. И это, без сомнения, правильно; я всегда стоял за него и поддерживал его в чем только мог. Позже меня назначили одним из его заместителей. И уж много позднее у меня иной раз возникала мысль, что господствующая у нас в школе нетерпимость и постоянное напряжение всех сил, насаждаемые Карлом Штребеловом, весьма утомительны, они не оставляют места для педагогических экспериментов, для рассмотрения новых проблем и ситуаций. С годами это чувство во мне крепло.
Не могу, однако, не заметить, что в то далекое время в стране совершалось множество перемен, тогда все находилось в движении. И мы шли в ногу со временем под руководством Карла Штребелова, выполняли наш долг и нередко делали даже больше того. Но наши дискуссии о школьной политике, о теории и практике педагогики были поставлены в весьма жесткие рамки. Карл испытывал отвращение к «бесплодным фантазиям», как он это называл, требовал, чтобы мы основательно изучали реальный, конкретный опыт, накопленный в педагогике.
Маленький дом Карла Штребелова на опушке, неподалеку от автострады, и сад перед ним и за ним были образцовыми в смысле порядка и чистоты. Жизнь Карла протекала безупречно, в сознании исполняемого долга. И свои жизненные принципы он неуклонно переносил на школу, которой руководил.
Может статься, я даю несколько одностороннюю оценку Карлу Штребелову, определенный его образ сложился в моем сознании за долгие годы совместной работы, теперь, может статься, я все видел острее благодаря Манфреду Юсту.
Нужно еще сказать, что Карл Штребелов во многом соответствовал моей оценке. Основания для нее были те же самые, что и для присуждения ему правительственных наград, которых он удостоился в последние годы.
Оттого-то я прекрасно понимал, как он был озадачен, не получив от Юста ответа на вопрос, почему тот перевелся из знаменитой школы имени Эйнштейна в П. к нам в Л., в нашу чертовски нормальную школу.
— Не терплю заносчивости, — сказал Штребелов.
Я разделял его мнение. Как иначе можно было назвать поступок нового коллеги?
Разумеется, все наши учителя и учительницы встретили новенького с любопытством и надеждой, не так уж часто наши ряды пополняются столь необычно.
Прошло немного времени, и я заметил, что учительницы стали уделять больше внимания своей одежде; тут-то и обнаружилось, что у нас в школе работают красивые, умеющие хорошо одеваться женщины.
Был конец лета, случаев менять платья, юбки, костюмы оказалось достаточно много. Удивительно, сколько красоты представилось взглядам наших мужчин.
Всем этим мы обязаны были новенькому, который беспечно разгуливал в своих лимонно-желтых, красных, черных, зеленых рубашках, повязывал шею разными платками, ярким пятном выделяясь на фоне наших скромно одетых учителей.
Первый обмен любезностями произошел у нас с Юстом еще в последние дни каникул. В мои обязанности входил инструктаж классных руководителей и закрепление их по классам, я должен был объявить Юсту, что ему предстоит классное руководство в одном из восьмых классов. Прежняя классная руководительница, сказал я ему, ждет ребенка и вскоре уйдет в отпуск, лучше будет, если он сразу же, с начала года, возьмет эту работу на себя. Как он относится к моему предложению, спросил я.
— Мрачновато, не правда ли? — заметил он.
— Что вы имеете в виду? — не понял я, отнеся его высказывание к своему вопросу.
— Здесь, в комнате, — ответил он.
Кабинет директора выходил на северную сторону — узкая комната, обставленная просто, разумно: письменный стол, за ним шкаф для бумаг. Ведь главным в работе Штребелова были осмысленность, скромность.
— Я не мог бы здесь работать, — добавил Юст.
— Вам это и не потребуется, — сказал я.
— Но заходить-то сюда мне придется. А это повлияет на мое настроение. И ученики, которых будет вызывать директор, воспримут эту комнату так же.
— Здесь не клуб, коллега Юст.
Юст посмотрел на меня открытым взглядом, покачал головой. А у него голубые глаза, подумал я, именно такие представляешь себе, когда говорят — «голубые глаза». Сидит непринужденно на стуле и уже высказал свое мнение о кабинете директора, более того, раскритиковал его. Ну, с этим господином не соскучишься, подумал я, разглядывая его шелковый платок, и не мог не признать, что выглядит Юст очень неплохо.
Э, черт побери, сейчас ведь речь не о директорской келье, сейчас речь о классном руководстве. Времени у нас перед началом учебного года в обрез. Это надо бы знать коллеге старшему учителю.
Но он не спасовал.
— Однако вы согласны, коллега Кеене, что помещение воспитывает?
— Разумеется, — буркнул я не очень-то дружелюбно, — вот это, в котором мы столь оживленно беседуем, воспитывает скромность, умение сосредоточенно работать.
Юст внимательно посмотрел на меня. В его глазах забегали смешинки, и вот уже улыбалось все лицо. Улыбкой сияющей, обезоруживающей, с которой нам еще не раз придется иметь дело.
— Ах, вот как вы отбиваетесь? Ну что ж, это мне по вкусу. Но я не сдаюсь. Вы еще не раз кое-что от меня услышите.
— Я бы хотел услышать от вас что-нибудь о классном руководстве, коллега Юст, — сказал я весьма сухо.
Улыбка исчезла с его лица.
— Восьмой класс. До сих пор я преподавал только в девятых и десятых.
— Знаю. Но тогда оставались бы там, откуда пришли.
— Вы же спросили мое мнение, — холодно ответил он.
— Я полагал, вы поинтересуетесь классом, который принимаете, — сказал я и приподнял классный журнал, приготовленный заранее.
— Можно мне заглянуть в него? — спросил он.
— И даже должно.
Он открыл журнал. Теперь я как следует разглядел его лицо. Выразительное. Вокруг глаз и рта легкие морщинки. От смеха ли только? Я уже пожалел, что разговаривал так резко, это, вообще говоря, не в моих правилах.
Читая, Юст слегка прищуривался.
Выпиши себе очки, парень, подумал я, нечего форсить. Ты и в очках будешь хорош собой.
Я удовлетворенно хмыкнул, подумав так, и настроение у меня опять поднялось.
Тут Юст вскинул глаза и сказал:
— Довольно высокий средний балл. Не слишком ли высокий для восьмого класса?
Настроение мое тотчас упало.
— Как можете вы так говорить, не зная класса?
— Из опыта. Слишком часто я замечал, что ученики с хорошими и даже очень хорошими оценками, переходя в девятый класс, не отвечали нашим требованиям.
— У нас есть собственный опыт, — запальчиво ответил я, — и вы теперь здесь, а не там.
Он посмотрел в журнал.
— Прекрасно. Ларс, Биргит, Рамона и как вас еще назвали ваши родители, скоро мы с вами познакомимся. Тогда и поглядим, чего вы стоите.
Он аккуратно положил журнал на стол. Нет, его нелегко поддеть, он тут же расквитается, умеет ловко отразить удар.
Впоследствии мы как-то вспоминали эту нашу первую встречу, и Юст сказал:
— Ты восседал в штребеловском кресле, точно Марс собственной персоной. Господа, до чего же мрачно-напряженное лицо было у тебя. Такие ухищрения меня, уж извини, только смешат. В этом и было наше спасение, старик, не то мы бы еще подрались в святая святых Штребелова.
Нет, мы не подрались, мы поговорили подчеркнуто деловито, и ясно было, что каждый ищет приемлемое отступление. А что Юст в душе подсмеивался надо мной, я не заметил. Возможно, все протекало не совсем так, как он изобразил позднее. Юст был человек с фантазией, и она кое-кому из нас, а прежде всего ему самому, частенько доставляла массу хлопот.
Как ни странно, но я не рассказал Карлу Штребелову о нашей стычке, я только сообщил, что Юст согласился взять восьмой и теперь знакомится с ситуацией в классе.
— Значит, будешь им впредь заниматься, — сказал Карл Штребелов.
— Тебе он, видимо, не по сердцу? — спросил я.
Этого Карл не признал. Но и я мог бы воздержаться от реплики, я же помнил о разговоре Штребелова с Юстом, когда вопрос Карла остался без ответа.
Чтобы успокоить Карла, я сказал:
— Все будет в порядке.
Вполне, таким образом, закономерно, что следующий обмен любезностями между мной и Юстом не заставил себя ждать.
Случилось это в первый день нового учебного года.
В тот день погода внезапно и резко изменилась. Осень рано, словно бы желая облегчить и нам и ученикам прощание с теплым летом, дала о себе знать.
Карл Штребелов, невзирая на порывистый ветер, держал на школьном дворе речь и ничуть не сократил свое выступление; нет, это было бы нарушением всех его принципов. Что нужно сказать, должно быть сказано. Ветерок, дождичек. Ну и что? Мы привыкли и худшее терпеть.
Он представил всем и нового учителя, нового коллегу, господина Юста.
Мысленно, я восстанавливаю всю картину — огромный школьный двор, четырехугольником построенные классы, в двух шагах от флагштока директор. Для нас, правда, картина привычная, но — дождь, но — ветер гонит с севера тучи. А наша школа находится как раз за автострадой, проложенной по высоченной дамбе. Тучи так и валят через нее без передышки.
Рядом со Штребеловом, на котором надета штормовка с капюшоном, стоит Юст в коричневой замшевой куртке. В открытом вороте светится лимонно-желтая рубашка, на шее развевается шелковый платок. Юст все пытается справиться с ним, но ему это никак не удается.
На мрачном фоне дамбы и черного неба Юст выглядел пестрой пичугой, ненароком залетевшей в наши холодные широты из дальних теплых стран.
Штребелов невозмутимо продолжал свою речь. А беззащитный Юст был отдан на растерзание ветру, и я только диву давался, что он не съежился, даже рук в карманы не сунул. Немало хлопот доставляли и волосы, ветер то и дело швырял их ему в лицо.
Я не испытывал злорадства. Напротив, мне было жаль Юста. Такого и злейшему врагу не пожелаешь. Чего уж говорить о коллеге, пусть своенравном, но ведь ты намереваешься воспитать в нем скромность и сдержанность.
Битых полчаса стоял Юст рядом со Штребеловом. После двух-трех фраз, которыми Штребелов его представил, он сделал шаг вперед, постоял секунду и опять отступил к директору.
Заметно было, что Юст сей маневр совершил не без усилий, по всей видимости, ему в подобном действе участвовать не приходилось. А может, он просто замерз на холодном ветру, таким казался он одеревенелым, такими скованными были его движения.
Когда кончилась линейка, я подождал Юста, чтобы представить его новому классу.
— Вам бы надо потеплее одеться, — пожурил я его.
— Кто мог такое предвидеть. Вчера еще я валялся на лужайке в лесу, мечтал, глядя в голубое небо. А сегодня — полярный ветер.
Он снял свою замшевую куртку и стряхнул с нее брызги дождя, потом заново завязал платок на шее, концы которого опять лихо взметнулись вверх.
В школе стоял нормальный, неизбежный шум, порожденный не одной сотней ребятишек и подростков, которым после каникул нужно было много, очень много порассказать друг другу. Такой шум устранять не следует, если, конечно, не считать, что идеальна для школы — больничная тишина.
Мне хочется еще упомянуть сумку Юста. Сшитая из грубого холста, она была родом из Польши. И хоть на вид не очень большая, вмещала уйму всякой всячины, носить ее было удобно, перекинув ремень через плечо. Учитель с туристской сумкой в школе? Непривычно. Во всяком случае, нам непривычно. Строгий портфель, по молчаливому уговору, был нашим неизменным атрибутом, этого уговора придерживались и женщины, а их у нас большинство.
Вот так и случилось, что в последний день перед занятиями, когда началась учительская конференция, Карл Штребелов, указав на синюю холщовую сумку, висевшую на вешалке, спросил, не скрывая неудовольствия:
— А чья это там торба?
— Это моя сумка, — невозмутимо ответил Юст.
Больше ничего. Торба эта, или сумка, висела до конца совещания на вешалке, то и дело привлекая, однако, к себе взгляды.
Крамольная сумка висела на плече Юста и тогда, когда он передо мной поднимался по лестнице, легко шагая вверх через две-три ступеньки, а я с трудом поспевал за ним. Если тебе под пятьдесят, ты уже не так скор на ногу, ничего не поделаешь.
Наверху Юст дождался меня.
— Извините, — сказал он, — видите, я в нетерпении. «За работу!» — вот мой девиз.
Он что, иронизирует? Судя по выражению лица — нет. Хотя с этим человеком ни в чем нельзя быть уверенным.
— Как мы теперь поступим? — спросил он.
— Я вас представлю.
— Только не слишком торжественно.
— Не вижу для этого повода.
— И что же вы скажете?
— Но послушайте, разве это вы намечаете?
— Вы меня не поняли. От первого шага в новом классе многое зависит.
— Кому вы это говорите!
— Но ведь мне работать с классом. И я не позволю испортить себе старт.
— Вы что, приписываете мне дурные намерения?
— Э, вы все принимаете на свой счет. У вас вообще, кажется, так повелось, что любая шутка или откровенное замечание вызывают обиду. Ну конечно, вы не хотите испортить мне старт. Думаю, однако, это может случиться из-за недоговоренности. А если я верно понял коллегу Штребелова, дух коллективизма и у вас ведь альфа и омега вашей работы.
— Вы верно поняли директора Штребелова.
Мы все еще стояли у лестницы. Мимо нас протискивались ученики, расходились по классам. Они обтекали нас, точно остров, и, хоть мы пикировались вполголоса, мне казалось, что мы кричим во все горло.
Звонок положил конец нашему пребыванию на лестнице. Поразительно, как быстро воцарилась в коридоре и в классах тишина. Я гордился этим как результатом нашей работы, такой тишины многие годы упорно требовал Карл, считая, что вместе со звонком должна начинаться работа и воцаряться тишина. Каждый, кто имеет хоть малейшее представление о жизни школы и о ее трудностях, знает, что выполнить это требование можно, лишь затратив немало сил, проявив настойчивость, забыв о снисхождении.
Наши шаги гулко отдавались в коридоре, теперь я уже не отставал от Юста.
И удивился, когда он сказал:
— Здо́рово, однако. Такая тишина вместе со звонком. Даже нам это давалось нелегко.
Третью фразу я как-то пропустил мимо ушей, с таким восхищением сказаны были первая и вторая. Я ничуть не сомневался в ту минуту, что Юст высказал свою похвалу без всякой задней мысли, что это не жест примирения или что-то подобное. Подтверждением тому служила эта третья фраза, это «даже нам».
У дверей, за которыми восьмой «Б» ждал своего нового руководителя, Юст меня остановил, он пригладил гребнем волосы, поправил еще раз шейный платок и рубашку, расправил отвороты куртки, на которых заметны были следы дождя.
Тут и мне передалось то своеобразное чувство, какое испытывает каждый учитель, получивший новый, незнакомый ему класс, передалась та стартовая лихорадка, которую не подавить, которую подавлять и не следует. Это чувство присуще учителю, если он со всей серьезностью относится к своему делу, если точно знает границы своих возможностей и понимает, что в работе его поджидает много непредвиденного и неожиданного, ибо он имеет дело с людьми.
Я всегда настораживаюсь, когда кто-нибудь из коллег объявляет, что ему чуждо подобное чувство, что он считает его неразумным и сентиментальным. Или когда кто-нибудь утверждает, что это чувство следует подавлять, оно, мол, притупляет ощущение реальности, порождает неуверенность.
В категорию этих людей можно, думается мне, зачислить и Карла Штребелова, хотя я не раз наблюдал, как он нервничает. В этих случаях ему маневр подавления не удавался. Но признать, что он нервничает? Нет, ни за что. В этом могли усмотреть слабость, а она повредит его авторитету.
Юст, напротив, не скрывал своей стартовой лихорадки. Он даже побледнел. Его лицо, загоревшее на летнем солнце, на мгновение показалось мне жутковато серым. Он сделал глубокий вдох и, смущенно улыбаясь, сказал:
— Вечно это дурацкое чувство, словно перед премьерой. Но что поделаешь.
А ведь он, как было мне известно, преподает в школе уже десять лет.
— Ну, теперь пошли, коллега Юст, — сказал я.
Он переступил порог. Впервые встретился со своим классом.
Мне этот класс был хорошо знаком, я довольно долго вел у них немецкий язык.
Тридцать пар глаз уставились на Юста с напряженным любопытством. Ребята видели его уже на линейке, они, конечно же, обратили внимание на его внешний вид. Но вот какое впечатление произвел он на них, когда стоял рядом с директором под дождем и ветром, я не знал. Видели они его таким же, каким видел его я, беспомощным, неуверенным и даже чуть смешным?
Как справится он с ребятами, что сидят перед нами? Не надо ли было все-таки подробнее, основательнее познакомить его с положением дел у нас в Л., ведь жизнь города оказывала сильное влияние на взгляды и нравы здешней молодежи.
Надо было? Да, надо было — мне, надо было — Штребелову, это было бы правильнее. Но чем мои рассуждения могли помочь Юсту в данную минуту? Со временем Юст узнает наш город. Молодой город неподалеку от Берлина, до которого поездом добираешься примерно за час. Вдобавок поблизости от окружного города П.
Наш город со всех сторон обступают леса и озера. До войны это была деревня, нежданно-негаданно превратившаяся в промышленный городок, потому что здесь, среди лесов и степей, один из концернов упрятал военный завод. После войны городок пережил демонтаж завода, мертвый сезон и раскачку, которая длилась довольно долго. А когда отстроен был новый завод, он много раз менял специализацию, пока наконец не стал автомобильным. Этот завод не загрязнял окружающую среду и не заволакивал своим дымом небо.
А люди в Л.? Пестрая смесь, очень разные. Старшие — берлинцы, силезцы, померанцы, швабы. Те, кто оказался здесь уже после войны, тоже были из Силезии, Померании, Чехословакии, одни — беженцы, застрявшие в наших местах, другие — переселенцы. Более молодые были выходцами из Тюрингии, Саксонии, Магдебурга. Дети этих молодых и внуки старших сидели сейчас перед нами. Полезно было Юсту это знать? Он, возможно, даже знал. При его-то дотошности.
Юст поставил свою холщовую сумку на стул рядом с учительским столом. Внимательным взглядом окинул доску, шкаф, наглядные пособия на стенах и окна, помутневшие от дождя. Не поверить, что их мыли перед самым началом учебного года. Разумеется, школьники и учителя. Откуда взять в Л. уборщиц, если завод постоянно ищет людей.
Предельная чистота, идеальный порядок в школе были нашей гордостью. Полностью исключалось, чтобы какая-нибудь инспекция застала нас врасплох; а когда нас предупреждали о гостях, то нам не нужно было принимать никаких экстренных мер. Пожалуйста, пусть приезжают. К нам можете явиться в любое время дня и ночи, сделайте одолжение. Понятно, оборудование у нас не новое, но, в конце-то концов, школа существует уже не одно десятилетие.
Ремонтирует мебель наш завхоз вместе с учениками, из тех, кто любит столярничать. Частенько можно встретить в мастерской у верстака и Штребелова. Он был когда-то столяром.
Мне доводилось видеть школы со сверхсовременным оборудованием, вот уж где грязь и беспорядок прежде всего бросаются в глаза. Все это, конечно, мне нужно было сказать Юсту; сейчас меня раздражал его, как мне казалось, критический, оценивающий взгляд, каким он оглядывал класс. Тогда я еще не знал его привычки везде, куда бы он ни приходил, без всякой деликатности и церемонии все разглядывать.
Я шагнул к первым партам — мне нужно представить его классу. Все здесь было мне хорошо знакомо, ведь я заместитель директора школы. И Юсту нужно с этим считаться. Мне предстоит обеспечить ему удачный старт. Но что он понимает под этим? Хотел он с самого начала продемонстрировать свое превосходство, задать свой тон?
Он стоял в стороне, сунув руку в карман куртки.
— Дорогие друзья, — начал я, — прежде всего я хочу пожелать вам успехов в новом учебном году. Вам предстоит отпраздновать свое совершеннолетие и вместе с тем познакомиться с проблемами, имеющими значение для вашей будущей жизни.
Я говорил еще о школьных делах, затронул политические вопросы последнего времени — короче, постарался показать Юсту, кто здесь хозяин. Я чувствовал, что он, неотрывно глядя на меня, с явным нетерпением ожидает конца моей речи, и подумал: пойми, Юст, экстравагантность у нас не в чести.
Затем я кратко представил Юста ученикам, упомянув последнее место его работы в П., школу имени Эйнштейна, о которой я отозвался как о превосходном учебном заведении. Пусть теперь гадают, с чего это господин Юст перешел именно к нам.
Замолчал я как-то неожиданно, ничего больше не приходило мне в голову, я почувствовал, что, кажется, был не на высоте, да-да, не на высоте.
Юст, встав за учительский стол, сказал улыбаясь:
— «Довольно слов, довольно споров… Пора за дело взяться нам»[2]. Начнем наш первый урок.
Он поглядел на меня, словно приглашая к действию, потом взгляд его выразил сомнение, неуверенность, удивление. Играл он комедию? Я не понял, но если да, то играл он здорово.
— Может быть, вы еще не кончили, коллега Кеене? — спросил он.
— Разумеется, кончил, — ответил я, с трудом подавляя досаду. Он меня вышвыривает, выпроваживает самым недвусмысленным образом.
В дверях я оглянулся. Ребята не смотрели мне вслед, все их внимание поглощено было новым учителем. Юст встал с левой стороны стола — позже, посещая его уроки, я заметил, что это его излюбленное место. Он даже не удостоил меня ни единым взглядом. Но внезапно словно бы подтянулся, словно бы ощутил приток необычайной энергии. Небрежной позы как не бывало. Однако не ощущалось и натянутости, судорожного напряжения. Юст был хозяином положения, он начал работать. Я видел: да, он учитель опытный и умный.
У нас он новенький, но он не новичок.
Стоя в пустом коридоре, я понял это особенно ясно. Собственно говоря, мне нужно было зайти к Карлу Штребелову, я знал, что он работает у себя в кабинете, еще и еще раз проверяя расписание. И уверен был, что он меня ждет. Кое-что нужно нам обсудить, и о Юсте он наверняка захочет узнать. Но не с первого слова, нет, это не в его правилах. Только когда наша секретарша принесет кофе, он заговорит откровенно. Но я сейчас не в состоянии разговаривать с Карлом Штребеловом о Юсте. Почему он сам не представил классу Юста? Обычно именно директор школы знакомил класс с новым учителем.
Не припоминал я, чтобы Карл хоть раз отошел от этого правила. Почему же для Юста он сделал исключение? Чувствовал, что в чем-то уступает учителю? Быть этого не могло. Карл Штребелов умел преодолевать любые трудности. Когда нужно было чего-то добиться, на чем-то настоять, он не увиливал и не пасовал.
Что же побудило Карла Штребелова на сей раз отойти от правил? Неужели его неприязнь к Юсту так велика, что он опасается потерять контроль над собой? Неужели отказ отвечать на его вопрос так его уязвил? Как бы там ни было, действия Штребелова оставались для меня загадкой.
Юста же пренебрежение директора, если этого хотел Штребелов, нисколько не задело. А может, он его и вовсе не заметил?
Стоя у окна, я смотрел на пустой школьный двор, такой унылый в дождливую погоду. Именно в этот сентябрьский день у меня внезапно родилось предчувствие, что вместе с Манфредом Юстом в мою жизнь вошло нечто, чего я еще не умею определить. Как следовало расценить это нечто — положительно или отрицательно?
Сейчас оно вызывало у меня беспокойство.
Наш открытый школьный двор, буднично суровый под серым небом, я внезапно увидел другими глазами. Никогда до сей поры не находил я в нем недостатков. Двору полагалось быть чистым и отвечать своему назначению. Но проволочное ограждение, отделяющее школьную территорию от автострады, выглядело безобразно. Отчего мы за все эти годы не додумались посадить там кустарник? Или быстрорастущие тополя? Они скрыли бы ограду, листва шумела бы на ветру; и даже в самый мрачный день, глядя на такой двор, на душе не ощущался бы мрак.
В первый час нового учебного года, а у меня он был свободным, я бродил по всему школьному зданию, спустился в котельную, поговорил там с завхозом. Но кабинет Штребелова обходил стороной. Все это время у меня из головы не шел Юст, я охотно посидел бы в его классе, чтобы видеть, как он дает первый урок.
И собой я был недоволен. Пустяковое нарушение порядка — и я уже в тревоге, уже пытаюсь осмыслить породившую его ситуацию. А кончится тем — если я как можно скорее не пресеку это нарушение, — что дам отрицательную оценку породившей его ситуации. Я спрашивал себя, неужели всему виной моя успокоенность, а малейшее нарушение нагоняет на меня ужас?
Да, поистине странный свободный час, час размышлений о Герберте Кеене. Когда-то раньше, совсем еще молодым человеком, я частенько во многом сомневался и, смотря по обстоятельствам, то подавлял свои сомнения, то высказывал их, горячился, а иной раз садился со своими суждениями в лужу. Но не страдал от этого.
А теперь, во второй половине жизненного пути, сомнения и беспокойство стали внушать мне серьезные опасения. Неужели так должно быть?
На перемене мы с Карлом Штребеловом столкнулись возле учительской. Я заподозрил, что он меня ищет. Отведя меня в сторону, он спросил:
— Ну, как восьмой «Б»?
Почему же тебя там не было, подумал я, тогда ты знал бы. Хотел сказать ему это, но воздержался и ответил:
— Все в полном порядке.
— А реакция учеников?
— У Юста не возникнет трудностей.
— Вот как! Не слишком ли поспешно ты делаешь выводы?
— Почему же?
— Разве на линейке он не выглядел смешным?
— Может, это нам так кажется, а ученики думают о нем иначе.
Он с удивлением глянул на меня, он явно не понимал, о чем я говорю.
— Такого рода люди недоступны моему разумению. Что еще он тут у нас учинит?
— Поживем — увидим, Карл. А свежий ветер нам не повредит.
Карл Штребелов отступил на шаг. Я стоял спиной к окну, свет с улицы падал прямо ему на лицо, и я увидел, как оно замкнулось, стало холодным, непроницаемым.
— Что это значит? — спросил он.
Тут я понял: беспокойство охватило и его. Только он заранее составил себе вполне определенное мнение. Манфред Юст из города П. вносит в наш коллектив настроения, которые могут иметь отрицательные последствия. В этом Карл не сомневался. Да и не мог он иначе думать. Он руководил коллективом слаженным, не раз испытанным в трудных обстоятельствах. Нам нужно было работать, упорно, настойчиво, не отклоняясь в сторону. А человек, склонный к экстравагантности даже в одежде, мог только нарушить привычный распорядок нашей школьной жизни, результат упорного коллективного труда.
Все это я понимал и понимал моего старого боевого соратника Карла Штребелова.
Я тронул его руку.
— Подождем, Карл. Через полгода нам все станет ясно. Мы-то с тобой знаем, что к чему, мы-то с тобой стреляные воробьи, Карл.
Он слабо улыбнулся.
— Но ты остаешься при нем, это уж бесспорно.
Я решил, что указанию Карла буду следовать в самом прямом смысле слова. Я и раньше намеревался остаться при этом своеобразном новеньком. С пользой для себя, с пользой для всего коллектива, и не в последнюю очередь с пользой для Манфреда Юста, считал я. Надо, однако, думать, что эти соображения не встретили бы у Карла Штребелова сочувствия.
Дни и месяцы бежали быстро. Мы уже привыкли к Манфреду Юсту, разгуливающему летом в модных рубашках и в замшевой куртке, а зимой — в польской меховой куртке.
Как вдруг в конце мая загорелся сыр-бор из-за полученного нами заявления.
Все это время я «оставался при нем». Но старался не навязываться ему, чтобы у него не создавалось впечатления, будто я выполняю при нем особую миссию. Да я и не выполнял никакой миссии. А просто с интересом — в той мере, в какой это было возможно, — наблюдал, как работает этот человек. Оценить работу учителя обычно нелегко. Слишком многое в нашей профессии ускользает от непосредственного наблюдения. Инспекция же — всегда дело чрезвычайное, мало встретишь учителей, кто бы держался при этом естественно. Это дается только самым лучшим, самым честным или самым пройдошистым.
Всякий раз, как только представлялся случай — я бы даже сказал: когда было уместно, — я присутствовал на уроках Юста, и у меня создалось впечатление, что мое присутствие ни в малейшей степени не влияет на него. Иной раз мне даже казалось, что он поглядывает на меня насмешливо, но я не давал сбить себя с толку, я хотел знать, что он собой представляет.
Юст отвергал дутый авторитет и оттого пользовался авторитетом подлинным.
Впоследствии я признался ему, что хотел бывать на его уроках как можно чаще и что у меня с самого начала имелось на то указание Штребелова.
— Ты никогда не возражал. Разве я не мешал тебе?
— А ты был более или менее симпатичным надзирателем.
Я сказал, что постепенно из надзирателя превратился в заинтересованного слушателя.
— Так почему ж ты рта не раскрыл? Мы бы уже тогда начали наши знаменитые откровенные дискуссии.
Нет, тогда я этого еще не мог. Тогда во мне любопытство и восхищение еще сменялись недоверием и предубеждением.
Сидя на последней парте, я порой забывал, что я коллега Юста, и с интересом слушал, к примеру, его уроки истории, видел многое, хорошо мне знакомое, другими глазами, с новой стороны. Юст вплетал в свое подчеркнуто сухое, деловое изложение вопросы, которые подхлестывали учеников на споры, а ведь они, видит бог, далеко не все проявляли интерес к давно прошедшим временам.
И уж вовсе отдельного разговора заслуживает способ Юста добиваться дисциплины. А дисциплина у него на уроках была просто хорошая. Но добивался он этого не как укротитель, чего в иных ситуациях не избежать, когда твой взгляд просматривает весь класс до последней скамьи, а то даже и под скамьи мысленно проникает, чтобы держать всю ораву в руках.
Юст остро ощущал сиюминутную ситуацию в классе, знал, когда нагрузку следует сменить разгрузкой, предъявлял чаще всего высокие требования, но не перегибал палку, не отделял лучших учеников от тех, кто не так быстро усваивал материал.
Да, Юст и его работа очень меня заинтересовали.
Не стану скрывать, иной раз меня пугали его решительные воспитательные методы. Однажды случилось вот что. Долговязый Ромайзель, один из трудных в классе, ленивый и тупой парень, должен был отвечать, пользуясь исторической картой. Но он стоял у карты молча, нагнув голову, словно собирался поднять на рога потенциального противника.
Юст выждал минуту-другую. Ромайзель молчал. Весь класс тоже молчал. Должен сознаться, мне стало жарко от возникшей в классе напряженности.
Ясно было, что ждать ответа — значит терять время, это ничего не даст. Ход урока нарушен, восстановить его будет нелегко.
Но Юст спокойно смотрел на Ромайзеля и ждал.
Спустя некоторое время он сказал:
— Садись.
Ромайзель недоверчиво поглядел на учителя, потоптался и пошел на место. Юст вызвал другого ученика. Я был уверен, что этот наверняка справится с вопросом, я его хорошо знал, это был Виктор Шульц. Юст получил умный, обстоятельный ответ.
Так что же, этим дело и кончилось? Ромайзель отделался легким испугом?
Урок продолжался, словно затянувшейся паузы с Ромайзелем и не было. Но в конце урока Юст подошел к парню и сказал:
— Встань, Ромайзель!
Ромайзель поднялся — высокий, сильный парень, ростом чуть ниже Юста. Юст внимательно и задумчиво разглядывал его.
Я видел лицо Юста — ни тени иронии, ни тени насмешки или чего-нибудь подобного. Он очень спокойно сказал:
— Я давно уже раздумываю: бестолков ты или ленив? Сойдемся вот на чем: лень довела тебя до бестолковости. Сомневаюсь, что нам удастся тут что-нибудь изменить.
Юст отвернулся и не спеша зашагал к своему столу. А Ромайзель как-то нерешительно сел.
В этот же миг прозвенел звонок, словно Юст все точно рассчитал.
Я не удержался, чтобы не упрекнуть Юста, что с Ромайзелем он перегнул палку.
— Вы окончательно списали мальчишку.
— Но я в самом деле считаю, что из Ромайзеля ничего путного не получится, — сказал Юст.
— Еще рано делать подобный вывод.
— Я много внимания уделил парню. Его воспитание, видимо, шло вкривь и вкось. Да и сейчас дело обстоит не лучше. Вы знакомы с его родителями?
— Нельзя подходить к нему с чересчур высокими мерками. Здесь у вас нет такого выбора, как в прежней школе. Вы торопитесь с заключением. Кому от этого польза?
— Я привык высказывать свое мнение, — возразил Юст, — и терпеть не могу неискренности. Лучше откровенный спор учителей, чем их спокойствие, скрывающее противоречия.
— Но сейчас мы говорим не об учителях и о каких-то противоречиях, мы говорим об ученике, о Ромайзеле, — взволнованно сказал я.
— Ну да, о Ромайзеле, — сказал Юст вполне миролюбиво, — его я не выпущу из поля зрения. Да и не собирался, собственно говоря.
Мы стояли в коридоре у окна. Внизу, у опорного столба забора, задумчиво жевал бутерброд объект нашего разговора, Ромайзель. Широкой спиной он ритмично раскачивал столб, можно было не сомневаться, что с его силищей он быстро его раскачает и забор рухнет.
— Спущусь-ка я и спасу забор, — сказал Юст.
— Лучше уж мне спуститься, — возразил я.
Не знаю, понял ли он тогда, что я стремлюсь ему помочь. Думаю, вряд ли. Он сделал вид, будто ничего не заметил, умел держать себя в руках.
Еще до того, как в мае случилась вся эта история с заявлением, у нас был учительский бал на масленицу, в первый день зимних каникул, о нем я уже упоминал. Юст познакомился там с Эвой, а я чуть не приревновал ее.
На этот раз Юст был в темно-синем свободном пиджаке, светлых брюках и с черной, в белый горошек, бабочкой. Опять, стало быть, достаточно крикливо одетый. Он, думается мне, слишком серьезно отнесся к нашему «балу», все остальные, кроме Эвы, отнеслись к нему проще.
Юст подошел к нашему столику. Да и к кому же было ему сесть? На таких праздниках все рассаживаются за столы уже привычными компаниями. Женатые занимают свои постоянные столики, и у тех, кто не успел еще связать себя узами Гименея, тоже есть свои места.
Косвенное задание Карла Штребелова сделало меня наставником Юста, его близким знакомым против собственной воли. Но к этому времени взаимное раздражение переходило уже во взаимное расположение, я даже думаю, что то были зачатки дружбы, хотя со стороны их еще нельзя было заметить. Да и не нужно, считал я: я всегда против того, чтобы выставлять напоказ как дружеские чувства, так и другие эмоции.
А Юст еще потому подошел к нашему столику, что ему понравилась Эва, на этот вечер она оделась весьма экстравагантно. Длинное платье, глубокий вырез и цветок в волосах.
Юст целый час ошеломлял нас фейерверком остроумия. Я злился, но молчал. Пока Эва не положила этому конец репликой, после которой у меня не было оснований ревновать. Но потом не удержалась, пошла танцевать с Юстом. Как они танцевали! Да и ансамбль показал чудеса исполнения.
Я выпил три двойных порции водки и великодушно подумал, что Эва с этим партнером наконец-то напляшется, чего ей со мной, никудышным танцором, было не суждено.
Эва вовсю веселилась, один раз даже остановилась посреди танца и долго, чуть не до упаду хохотала. Еще одна причина, чтобы оказаться в центре всеобщего внимания.
Заметив, что Карл Штребелов смотрит в мою сторону, я поднял рюмку, приветствуя его и его жену Ингу. Та, как мне показалось, поглядывала на меня печально и сочувственно. А может, мне это только почудилось, ведь я одну за другой проглотил три двойных порции водки.
Карл и Инга явно винили в моей необычной скованности Юста и Эву — с их точки зрения, они вели себя немыслимо, — а также водку и жалели меня, разнесчастного. Они не знали, что я уже преодолел приступ ревности. Почему? Да потому, что знал Юста лучше, чем кто бы то ни было здесь. Потому, что уже готов был защищать Юста. Да, был готов.
Ну ладно, ладно, три порции водки. На брудершафт мы тогда еще не пили, мы оставались еще долго на «вы».
В тот вечер и мне представился случай, и не один, посмеяться. Но к столику, за которым сидел Карл Штребелов, я так и не подошел.
Не хотел объяснять, как отношусь к Юсту, мне самому было еще не все ясно. Я должен был спокойно оценить свои противоречивые ощущения и побаивался опрометчивых разговоров о Юсте, что не пошло бы на пользу ни ему, ни мне.
К тому же мне не хотелось портить вечер.
Было уже довольно поздно, когда мы, чуть под хмельком, вышли из клуба. Юст, прощаясь с Эвой, галантно поцеловал ей руку. Ночь была холодная, а Юст не застегнул свою меховую куртку. Теперь только, вспомнив, что ему нужно ехать в П. — он еще жил там, — я хотел было пригласить его к нам, но Эва, застегнув ему куртку, сказала:
— Нельзя быть таким легкомысленным, Юст. Вы же заболеете.
Неудивительно, что я воздержался от приглашения.
А Юст ответил, смеясь:
— «Закаляйся — и будешь здоров», — говорил мой дедушка. Но спасибо за заботу, моя прекрасная дама. Ведь вам, коллега Герберт, доставляет удовольствие, когда вашей жене говорят комплименты? Благодарю за приятный вечер.
— Не мешало бы вам подойти и к другим столикам, — сказал я.
Юст доверительно коснулся моей груди.
— Я и хотел. Однако замысел остался замыслом. Но, знаете ли, все еще впереди, все впереди. Ко мне ведь тоже мог кто-нибудь подойти. Как вы считаете? Наш коллега директор, к примеру. Долго смотрел он на нас мрачным взглядом, но не подошел. Отчего это? Имеет коллега директор что-нибудь против меня? Я пришел к вам с чистым сердцем и лучшими намерениями. Да, с чистым сердцем. Нужно ли учителю чистое сердце? Не знаю сам, дорогой коллега Герберт. Знаю одно: об этом никогда не говорят. О чем угодно говорят. О таких важных делах, как партийность учебного процесса, как пример учителя, коллективное мышление, развитие личности, говорят об идеологии и о чистом носовом платке. Обо всем говорят. Но о чистом сердце учителя никто нигде не говорит. Вам это понятно, коллега Кеене? У вас чистое сердце? Наверняка вы сейчас думаете: ну и трепач, этот Юст. Чистое сердце, холодное сердце — что за чушь. Нужно, пожалуй, объяснить вам, что я понимаю под чистым сердцем. Не так уж много в этом выражении романтики, как может показаться на первый взгляд. Ваша жена меня поймет. Женщины такие вещи лучше понимают. А в вашей школе много женщин. Просто страшно становится, как много женщин. Но мне грустно. Поймут ли они, что я имею в виду под чистым сердцем? «Чистое сердце», — говорил мой дед. Его вы, к сожалению, не знаете, коллега Кеене, и вы тоже, моя прекрасная дама. Давно уже лежит он в земле, мой дед. А я его любил, не могу вам сказать, как я его любил! Он был столяром. И философом. Отец же мой, ну, отец — его прямая противоположность. И профессию избрал совсем другую, всю жизнь с металлом работает. Чинит локомотивы. Знаете, как это делается? Надо бы вам глянуть. Каким-то выдастся февраль? Таким же тихим, как в прошлом году?
Юст, видимо, чуть перебрал. А тут свежий воздух. Мы постояли с ним, пока не подошел автобус, и он еще раз поцеловал Эве руку.
Молча шагали мы домой. «Чистое сердце» не шло никак у меня из головы. Юст хотел объяснить, что он под этим понимает, но, видимо, забыл.
— Что это происходит с Юстом? Какая-то сказка о чистом сердце. В наше-то время, — сказала Эва.
История с заявлением, о которой я упомянул, выбила меня из роли наблюдающего наставника, чего я никак не ожидал.
Однажды, когда уроки уже кончились и я собирался домой, секретарша попросила меня зайти к директору, ему-де нужно обсудить со мной какое-то срочное дело. В ее словах звучала непривычная официальность, а ведь я был заместителем Штребелова, и мы, естественно, постоянно соприкасались по работе. В школе же вечно что-то приключается.
Позже я понял, чем была вызвана официальность. В заявлении речь шла о происшествии в восьмом «Б», стало быть, о Манфреде Юсте, с каковым наша секретарша держалась все еще весьма холодно. Он однажды неосторожно пошутил по поводу картины в ее комнате.
Штребелов пододвинул мне через стол письмо, написанное четким, красивым почерком. Слово «заявление» было подчеркнуто красным. Да, наш гражданин знает свои права, мелькнуло у меня в голове.
Гражданин звался Роберт Фолькман, проживал он по Ратенауштрассе, 10, служебный телефон 20-32, контора мастера.
Я знал его. Он работал в цеху коробок передач. Не он ли был недавно награжден орденом? Да-да. Его заслуга — в значительной экономии материалов и времени.
Учитель Шмидт, отвечавший у нас за политехнизацию, как-то рассказывал о Фолькмане, который помог организовать практику школьников на заводе. Позже я прочел очерк о нем в заводской газете. А на Первое мая у клуба висел его огромный портрет. Высокий лоб, чуть ироничный взгляд.
Мы с Эвой даже остановились у этого портрета и пришли к заключению, что фотографу он удался, что он многое говорит о человеке и вызывает интерес к нему.
Фолькман, стало быть, обратился в школу с заявлением:
«Уважаемый коллега директор!
Меня зовут Роберт Фолькман. Я работаю мастером на автомобильном заводе, в цеху коробок передач. Моя дочь, Моника, учится в вашей школе, в восьмом классе «Б». Насколько могу судить, успеваемость у нее хорошая, и мы с женой в общем и целом ею довольны. А что не все в школе идет гладко, понятно, и я считаю, что это нормально. О школе — еще двое наших детей учатся у вас — мы самого высокого мнения. Она удовлетворяет всем требованиям, у вас царят порядок и чистота. На ваших учеников, что приходят на завод, в большинстве своем можно положиться, они трудолюбивы и добиваются успехов.
Но нас обеспокоил случай, о котором мы узнали от Моники.
Фактическая сторона: в последний по школьному расписанию экскурсионный день их класс отправился на осмотр окрестностей нашего окружного центра. Как рассказывает дочь, все шло прекрасно, ребята были в восторге от классного руководителя, коллеги Юста, он шутками и выдумками превращает такие мероприятия в памятные для ребят события. Однако вдруг обнаружилось, что ученик по имени Марк Хюбнер тайком от всех напился до бесчувствия. Он едва держался на ногах и лепетал что-то бессвязное. Все перепугались. Дочь говорит, что Марк вообще-то хороший парнишка, один из лучших в классе. Коллега Юст прервал экскурсию и повел весь класс к себе домой, куда-то на окраину города. Там он уложил Марка Хюбнера спать, а ребят оставил у себя. Они, рассказывает дочь, очень веселились. Пели под гитару. Господин Юст показывал им фильмы, которые снимал, путешествуя. Дочь говорит, что это очень интересные фильмы, господин Юст побывал в Советском Союзе, Польше и даже на Кубе. Под вечер Марк Хюбнер пришел в себя, и они поехали домой. Коллега Юст сказал ученикам, что поговорил с Марком Хюбнером и тот раскаивается в своем поступке. Учитель предложил этим ограничиться. Понятно, все ребята с ним согласились. Дочь, рассказав нам об этом, была в восторге.
Мы с женой долго обсуждали происшедшее. И считаем, что коллега Юст поступил в данном случае неверно. Подобный проступок ученика не может пройти без последствий. Нельзя же такой проступок просто-напросто вычеркнуть из памяти. Подозреваю, что коллега Юст не доложил вам, директору школы, об этом случае. Мы ничего не сказали дочери о наших опасениях, не хотели ставить ребят в трудное положение. Отвечает ведь за все учитель. Но меня тревожит вопрос: что еще может последовать, если ребята будут чувствовать себя безнаказанными? Обдумал ли это коллега Юст? В какое положение он себя поставил? Я знаю это по собственному опыту. Правдивость в отношениях — главное для нормальной жизни рабочего коллектива. Если ее нет, возникает нетерпимое положение. Прошу вас, коллега директор, разобраться в создавшейся ситуации. Нельзя, чтобы эта история оставалась на совести у ребят, ведь прошло уже много времени. Вы, конечно, обсудите это дело по-товарищески с коллегой Юстом.
С глубоким уважением
Роберт Фолькман».Я вернул письмо Штребелову.
— Значит, случилось все две недели назад, — сказал я.
— Да, точно две недели, — подчеркнул Штребелов, — а ты об этом знаешь?
— Как ты мог такое подумать!
— Вполне могло быть.
— Мне ничего не известно.
Штребелов сложил письмо.
— Что думал при этом коллега Юст? Подобного случая в моей многолетней практике не бывало.
— Как же теперь поступить?
— Я созову завтра педсовет, — сказал Штребелов.
— А нужно ли? Через пять дней у нас совет по графику.
— Нет, совет соберем завтра, — решительно объявил Штребелов.
— Тем самым ты придашь этому случаю слишком большое значение, — сказал я.
Он нагнулся к столу, снял очки.
— К нам поступило заявление. И я отношусь к этому случаю со всей серьезностью. Ты говоришь — слишком большое значение. Да, этому случаю. А не учителю Юсту. Учителя требуется низвести с облаков на землю. И безотлагательно.
— А не разумнее ли, прежде чем проявлять такую решимость, выяснить все детали происшествия?
— Ты же читал письмо. Тебе этого мало?
— Фолькман просит по-товарищески разобраться в случае, который его беспокоит. И ты только на этом основании принимаешь такое решение?
Штребелов поднялся, положил письмо в папку, а папку запер в сейф.
— Но ты предупредишь коллегу Юста, что завтра будет обсуждаться это происшествие? — спросил я.
— Надеюсь, — ответил Штребелов, — что завтра ты выскажешься о своем подопечном беспристрастно.
— Беспристрастности в этом деле желаю тебе и я.
Мы помолчали.
Я поднялся, холодно сказал:
— До завтра.
Впервые прощался я так с Карлом Штребеловом. А за Юста вступился, словно приходилось защищать его от коварных нападок. Справедливо ли?
Возвращаясь домой, я никак не мог выкинуть из головы эту запутанную историю. Я сделал даже большой крюк, прошел по лесной дороге вдоль автострады, углубился в лес и тут понемногу успокоился. Стоял чудесный майский день, теплый, с легким ветерком. Светло-зеленые березовые листочки колыхались словно вуаль, выделяясь на фоне темных сосен. Я присел на поленницу в лесной просеке и, подняв голову, стал следить за проплывающими в синеве легкими облаками.
Так я скорее успокаиваюсь, я уж себя знаю. И за одно это люблю окрестности нашего городка.
Отчего же напился Марк Хюбнер? Я знаком с его родителями, уважаемые люди, оба работают на заводе, отец инженер, мать служащая. У Марка есть старший брат, он моряк. Был моим учеником. Марк тоже хотел связать свою судьбу с морем. Неужели он напился до бесчувствия? Может, Моника Фолькман преувеличила?
Но… что было, то было. И реакцию учителя, Манфреда Юста, не перечеркнуть. Фолькман считал, что Юст поступил в корне неверно. Если он, предположим, собрался утаить этот случай, то я его не одобряю. Но все ли разыгралось именно так? Какие были у Юста причины? Хотел он — а Штребелов не колеблясь объявит о том на совете — скрыть, что оплошал, что халатно отнесся к учительским обязанностям? Очень сомневаюсь.
Юст не из тех, кто увиливает от ответственности. Я его уже достаточно хорошо знал и был в нем уверен. Но что же толкнуло его на столь необычные действия?
Неужели не мог хоть мне слово сказать? Ведь мы же сблизились с ним. Так, во всяком случае, казалось мне в последнее время, и Карл Штребелов не случайно назвал Юста моим подопечным.
Значит, не так уж сблизились, как мне представлялось. Я переоценил свое влияние. Но разве не было того вечера в «Старом кабачке»? Когда в ролях главных героев выступали Юст Манфред и Кеене Герберт?
В тот день я опять сидел у Юста в классе. Хотел побывать на его уроке государствоведения, нет, не для контроля, а чтоб услышать и узнать что-то для себя новое. И сказал ему об этом с глазу на глаз. Он посмотрел на меня то ли задумчиво, то ли насмешливо. Возможно, я ошибаюсь. Мое инспекционное усердие, когда дело касалось Юста — и я это понимал, — выглядело довольно-таки странно.
— Пожалуйста, приходите. Но может случиться, что я сегодня чуть отступлю от плана. Это, с моей точки зрения, необходимо. И ваш визит, как я понимаю, тоже отступление от инспекционного плана.
— Просто мне интересно,— быстро сказал я. — Все зависит от вас.
Особенной сенсации у ребят мое присутствие на уроке не вызвало, вернее сказать, больше не вызывало. Они к этому привыкли, тем более что Юст не выказал ни малейшей неуверенности, да и вообще никак не проявил своего отношения ко мне.
Урок и впрямь начался необычно. Ни вопросов, ни повторения, ни обобщения. Нет, Юст просто рассказал ученикам одну историю.
Не знаю, был ли он свидетелем истории, которую рассказал ребятам, или выдумал ее для большей убедительности. Да это и не так важно, внимание он обеспечил. Видимо, такая форма урока обещала ученикам что-то из ряда вон выходящее, что-то сногсшибательное.
Юст рассказал, что на днях проходил мимо стройки, дело было под вечер, никого на площадке уже не осталось. Надлежащего порядка на стройплощадке явно не соблюдали, мешки с цементом валялись как попало — видимо, их просто скинули с грузовика, два-три мешка при этом лопнули. К тому же цемент не накрыли. Шел дождь. Ясно, цемент пропадет. У мешков остановились двое, какие-то посторонние. Один, не стесняясь в выражениях, поносил беспорядок и разгильдяйство, перевод материала, никуда не годную работу руководства на стройплощадке. Надо бы тут навести порядок, ругался он, привлечь людей к ответственности. Он покричал, махнул безнадежно рукой, сказав: сознательности-де у них нет, у капиталиста такого не случится, он не позволит пускать на ветер свое добро.
Второй с ним согласился, но так, вообще, и заметил, что вряд ли здесь делу поможешь, однако он знает, как спасти то немногое, что еще можно спасти. Он предлагает подогнать грузовик и забрать мешки, хотя бы те, что еще уцелели. Строительный материал следует употребить с пользой. Многим сейчас цемент очень нужен, а этот к тому же бесплатный, можно дорожки в саду проложить, столбы в огороде укрепить, фундамент и тому подобное. Да-да, горячо доказывал он, это было бы разумно, и никакое это не воровство, ведь материал все равно гибнет, значит, его спишут, он пропадет. А так — не пропадет. В конце-то концов, цемент, который здесь гибнет, — общее достояние.
Первый только поглядел на него этаким тяжелым взглядом, но ни слова не обронил, и оба ушли. Остались под дождем неприкрытые мешки цемента, который скоро перестанет им быть.
Вот примерно то введение, которое сделал Юст. Должен признать, он рассказывал мастерски, конкретно, образно. Ученики словно побывали с ним на беспризорной стройплощадке, слышали мнение тех двоих, и я уловил, что краткий рассказ Юста был воспринят весьма противоречиво.
Теперь Юст предложил ребятам высказать свою точку зрения, и не только высказать, но и обосновать ее. Он шутя предупредил, чтоб они высказывались, ничего не скрывая, откровенно.
Дискуссия была самой интересной частью урока. Никто не скрывал своих взглядов. Одни одобряли предложение разуверившегося — они уже знали о случаях подобного рода; другие становились целиком на сторону человека делового. И они, видимо, кое-что знали — то ли из собственного опыта, то ли из опыта родителей.
Два-три ученика не согласны были ни с тем, ни с другим.
Но вот вызвался Марк Хюбнер, он сказал:
— Первый ругается, болтает, но ничего не делает. Если бы он хоть написал куда следует. Ругаться, но пальцем не шевельнуть, чтобы покончить с недостатками, — разве это правильная позиция? А второй хочет взять, что плохо лежит. Ну да, в его словах есть видимость правоты. Но к чему это приведет? Общее достояние? Да, но в другом смысле. Получается замкнутый круг, и дела с места не сдвинуть. Точно как у нас. Когда урока не выучил и пытаешься втереть учителю очки. Потом приходится плутовать все чаще, а в конце концов оказывается — обманул сам себя.
Ребята ожесточенно заспорили, они, кажется, позабыли, что у них урок, да и я порой о том забывал.
А Юст не вмешивался, уселся за свой стол, давал ребятам слово, внимательно следил за их спором. В конце урока, когда я уж начал опасаться, что Юст так и отмолчится, он подвел итоги, сформулировал, не поучая, основные пункты спора. Речь шла, таким образом, о собственности, о морали, о честности и мужестве, обо всем этом ребята и дискутировали на уроке Юста.
И, даже обобщая, Юст оставил кое-какие вопросы открытыми, не все разъяснял до конца, дал ребятам возможность подумать еще, поспорить — на перемене, после уроков, может, даже дома.
Урок был последним, ребята быстро разошлись. Я с трудом вылез из-за парты, едва разогнул поясницу и колени. Юст запихивал свои бумаги в холщовую сумку. Когда я подошел, он поднял на меня глаза, и я с удивлением заметил, что он вроде бы не уверен, ждет моего суждения об уроке.
Тем не менее он опередил меня:
— Ну-с, мой строгий коллега, скажете, пожалуй, что для таких экспериментов я мало каши ел?
— Ну, каши-то вы, сдается мне, съели порядочно, хоть я еще и не совсем понял, соответствуют ли все ее компоненты и метод ее приготовления моим представлениям.
Юст рассмеялся и доверительно пожал мне руку.
— Прекрасно сказано. Вот ведь можете, когда захотите. Вы торопитесь? Давайте посидим часок где-нибудь. Поболтаем. О приготовлении каши и вообще. Как вам мое предложение?
Мне его предложение было по вкусу, и «часок» растянулся на целый вечер в «Старом кабачке».
А кабачок этот — фахверковый дом прадедовских времен — примостился под прадедовскими деревьями, говорят, здесь переночевал Наполеон, когда его войска шли на Берлин. Отсюда же он будто бы поспешил отбыть на запад, когда прусский ландвер и казаки наголову разбили его при Гроссбеерене.
Но раз уж эта история и «Старый кабачок» единственные в некотором смысле исторические памятники в нашем городе Л., то всему этому охотно верят.
Мне давненько не приходилось бывать здесь, и я увидел, что ничего тут не изменилось. Юст, похоже, был в кабачке завсегдатаем, он как старый знакомый приветствовал хозяина и многих посетителей. Мы пили хорошо охлажденное пиво и положенную к нему «пшеничную».
В этот вечер я, к моему удивлению, принимал во всех спорах сторону Юста. Почему это я так домогался его доверия?
Поначалу мы говорили об уроке. Я высказал кое-какие сомнения. При всех, мол, преимуществах такой формы уроков государствоведения страдает все же научная сторона предмета. Но сомнения мои рассеялись, когда Юст произнес страстную речь в защиту — как раз для этого предмета — чередования эмоциональности и научности.
— Как иначе нам воздействовать на ребят? Политическое воздействие — вот наша задача. Я не против научной стороны вопроса, но я против сухого изложения теории, оно не оставляет следов. В знании фактов, сообщенных нами, и в выработке точек зрения на главные вопросы я вижу единство, причем знание фактов должно как можно лучше служить именно второй задаче. Отметки за лицемерные ответы я не ставлю. Я добиваюсь искренности, только на такой основе я могу работать успешно. Лицемерие только загубит нашу воспитательную работу. Я бываю удовлетворен и прямо о том говорю, если ученик, пусть он даже не помнит наизусть все пункты основного закона, понял суть нашей конституции.
Я слушал его речи, точно откровение, хотя и сам в подобном духе размышлял над этими вопросами. Я прекрасно понимал, что все требования Юста чрезмерно категоричны, их не так-то легко претворить в жизнь. Но я был под впечатлением его урока-дискуссии, как старший восхищался беспристрастностью младшего, его самостоятельностью, его умелостью.
Нам было труднее, думал я.
Оказало на меня действие и холодное пиво, и не менее холодная «пшеничная» из Нордхаузена. Вообще приятно было посидеть в уютном уголке с приглушенным светом, на деревянной скамье, за старинным деревянным столом и просто болтать друг с другом. Отчего это люди так быстро отвыкают от дружеских бесед?
У меня было прекрасное настроение в тот вечер в «Старом кабачке». К тому же старый фахверковый дом подсказал нам еще одну тему, по которой мы тоже пришли к взаимопониманию. А именно: история родного края и как найти ей лучшее применение в нашей работе.
Юст словно прочел мои мысли, когда, широким жестом показав на старые, потемневшие картины с бранденбургскими пейзажами, сказал:
— Дорогой коллега Кеене, у меня и на преподавание истории есть собственный взгляд. В крупных проблемах мы — мастаки. Их обсуждать нам не возбраняется, тут мы виртуозы и видим тенденции будущего. А что мы делаем в частных вопросах? Дрых тут Наполеон или нет — не столь существенно, но извлечь пользу из этой истории мы бы могли. Здесь барон имярек построил железнодорожную станцию, чтобы вывозить продукты своего хозяйства, разве это не дельное дополнение к уроку, когда мы говорим о юнкерстве? Мы живем в этом краю, и, какими бы ни были здешние условия жизни — превосходными или жалкими, косными или революционными, — они для нас вполне конкретны. В этом смысле наши московские друзья нас намного опередили. Они умеют извлечь из своей истории все поучительное. Я этим всегда восхищаюсь. Конечно, у нас ситуация несколько иная, но ваше поколение, на мой взгляд, чересчур боязливо. Порой мне кажется, что для вас история началась только после сорок пятого, а сами вы будто на другой планете родились. Ничего подобного! Все тут родились. Я, к примеру, в Берлине, в городе яростных противоречий, где ничтожество сосуществует с величием. Я охотно читаю Теодора Фонтане и Ганса Фалладу. В их книгах все объясняется… Ваше здоровье, коллега Кеене. Ну, разве пиво не величайшее наслаждение? А теперь я закажу копченые колбаски. Здесь подают настоящую, острую горчицу. Я — за все настоящее и острое.
Я тоже был «за», и мы стали как-то ближе друг другу — во всяком случае, у меня было такое ощущение. Дружеское «ты» уже носилось в воздухе, вертелось на языке, наши локти нет-нет да соприкасались.
Но в тот вечер до «ты» дело не дошло.
Мы выпили, что иной раз тоже нужно человеку, хотя бы для душевного равновесия, как удачно определил это состояние Юст.
В тот вечер, считал я, мне удалось лучше понять, что творилось в душе Юста. И уж по крайней мере надеялся я завоевать его доверие.
Как я и предполагал, срочный созыв педагогического совета всех несказанно удивил. Внеочередной совет — для нас дело необычное, и педагоги с полным правом посчитали, что случилось нечто из ряда вон выходящее. К тому же никто не знал, о чем, собственно, пойдет речь.
Я не высказывался, но наблюдал на переменах и в учительской за Манфредом Юстом. Он, как всегда оживленный, предупредительный к женщинам, рассказывал какие-то анекдоты, над которыми все смеялись.
Ночь я провел скверно. Эва разволновалась, но я ей ни слова не сказал о случае с Юстом. Ведь я и сам еще не знал, что будет решено на совете. Размышляя об этом, я все больше запутывался в противоречиях. Предчувствовал, что от меня кое-что может зависеть. За Юста — или против Юста. За Штребелова — или против Штребелова.
Мы постоянно спорили с Манфредом Юстом, он был мой подопечный — или мой пробный камень, не знаю, что точнее. Педсовет подвергает меня и Юста новому испытанию.
О чем предупреждал Карл Штребелов? Чтобы я высказался о моем подопечном Юсте беспристрастно. Но это же немыслимо, дорогой Карл. В таком деле нет беспристрастности. Иллюзорно также мое желание, чтобы и ты был беспристрастным.
До чего же нелепо обострялась эта история! А по Юсту ничего не заметно. Как это понимать? Неведение или чистая совесть?
На большой перемене я отвел Юста в сторонку.
— Вам известно, что сегодня на повестке дня педсовета?
— Наша экскурсия. Я читал письмо.
— Я его тоже читал.
— Так я и думал.
— Нам надо бы поговорить об этом.
— Да, надо бы. Вот и поговорим сегодня.
И все.
И вовсе уж необъяснимо, почему Юст так отнесся к моим словам. Что с ним? Может, его тяготит мой интерес к его личности и работе? Считает, что я его опекаю? Сознаюсь, его отношение, хотел он того или нет, меня обидело, но он не заметил этого, может, ему и в голову не пришло, что он меня обидел. А может, его спокойствие и невозмутимость были напускными, может, ему немалого труда стоило выдержать эту роль и мысли его уже были заняты предстоящим обсуждением.
Но тогда, на большой перемене, я не задумался над этим. Я отошел от Юста и хотел даже зайти к Карлу Штребелову, ощущая потребность еще до педсовета сгладить наше вчерашнее столкновение. Но и к Штребелову не пошел.
Я был в нерешительности, вообще-то говоря, мне несвойственной, тем более когда речь шла о работе.
Много лет назад, познакомившись с Эвой, я пережил нечто подобное — такое же состояние нерешительности, и оно запомнилось мне как мучительное и жуткое.
Однажды на курсах усовершенствования в Берлине нам, старым докам, прочла лекцию о литературе для детей и юношества молодая женщина. Лекция мне очень понравилась, в ней не содержалось поучений, не анатомировалась литература, нас просто информировали о литературных процессах, о намечающихся тенденциях. Впечатление усиливалось тем, что лекторша, молодая, изящная, иной раз казалась не очень уверенной, но именно эта неуверенность придавала ей обаяние, ибо происходила не от недостатка знаний, а, наоборот, от того, что лекторша прекрасно понимала: столь обширную область, как литература, нельзя достаточно полно осветить в отведенное ей время. Мне такие люди неизменно симпатичны, а самоуверенных всезнаек, людей, у которых всегда наготове решение, людей, которым, кажется, уже в колыбели все было ясно, для которых нет вопросов и проблем, я терпеть не могу.
Так случилось, что я много спрашивал, а молодая женщина живо, с полемическим задором отвечала мне. Разговор мы продолжили в кафе. Вскоре я решил встретиться с ней еще раз и почувствовал, что и ей это тоже доставляет удовольствие. Но позднее меня стали одолевать сомнения, я почувствовал неуверенность, ощутил нерешительность, наступило то скверное время, о котором я уже говорил. Я был старше Эвы, за два года до нашей встречи от меня ушла первая жена, не с другим человеком, нет, просто со мной она не хотела больше жить. Может статься, определенную роль сыграла наша бездетность, не знаю. Одно знаю точно: это меня подкосило, я потерял уверенность в себе, стал замечать у себя признаки депрессии, которые сменялись бурными вспышками. А тут Эва.
Хорошо, что период нерешительности и колебаний благодаря Эве, да, именно благодаря ей, вскоре кончился. Такое состояние долго выдержать трудно, оно может причинить человеку вред.
Карл Штребелов, открыв заседание педсовета, объявил, что прочтет заявление по поводу происшествия в восьмом классе «Б», полученное от гражданина нашего города, отца троих детей, которые учатся в нашей школе, Роберта Фолькмана.
Еще до начала заседания в кабинете царила непривычная тишина. После выступления Штребелова все взгляды обратились на Юста, а тот сидел на своем обычном месте спокойный и невозмутимый, как и в полдень на большой перемене.
По голосу Карла Штребелова было заметно, что он взволнован. Он говорил с какой-то особенной настойчивостью, выделял интонацией отдельные слова, будто учил школьников произношению по слогам. Нельзя не признать, это производило порой комическое впечатление. Письмо Роберта Фолькмана он, однако, прочел невозмутимо, но изложенные факты вновь задели его за живое, их он собирался обсудить в самой резкой форме. К этому он был готов, наверняка много раз перечитал письмо-заявление, подчеркнул главное и сделал пометки на полях.
Письмо я уже читал и потому наблюдал за коллегами. Поначалу трудно было распознать их реакцию, они слушали, мысленно дополняли услышанное, кое-кто, может, вспоминал Марка Хюбнера, которого почти все знали, как и его отца, инженера, начальника цеха Герхарда Хюбнера.
Я полагал, что теперь Карл Штребелов спросит нас, как он всегда поступал, и это мне нравилось.
Но сегодня он нарушил свое правило. Он сразу высказал свое мнение, даже Юсту не дал слова. То ли он был так раздражен, что не мог сдержать себя, то ли не доверял нашей настроенности и хотел предупредить оправдание Юста, кто бы его ни выразил.
Штребелов довольно часто поглядывал на меня, значит, я не ошибся, считая, что он и от меня ждет выступления в защиту Юста и, пожалуй, опасается этого выступления.
— Должен признать, — сказал Штребелов, — что поступок коллеги Юста — явление в нашей школе исключительное. Он за спиной учительского коллектива и дирекции прибегает к воспитательному методу, в высшей степени спорному. Хочется спросить коллегу Юста: к чему это приведет? Сегодня это уже привело к тому, что мы занимаемся сей в высшей степени неприятной историей, это уже привело к тому, что безответственные действия учителя стали предметом обсуждения общественности, ибо я не думаю, что господин Фолькман будет молчать в кругу своих коллег или где бы то ни было, когда речь зайдет о школе и проблемах воспитания. И он будет прав, он имеет на то право. У нашей школы, можно смело сказать, в течение многих десятилетий было доброе имя. Таков наш принцип. Таким он был, таков он есть, таким он и останется. Коллега Юст, нарушив наш порядок, повредил хорошей репутации школы. Мы обязаны сделать из всего этого необходимые выводы.
Сидящие за столом беспокойно задвигались. Это уж чересчур. Такого резкого выступления нам еще не приходилось слышать.
Меня огорчило, что Штребелова, видимо, не волновало ничего, кроме репутации его школы. Ни слова не сказал он о Марке Хюбнере, об учениках восьмого класса, о проблемах, связанных с выпивками ребят, проблемах не столь уж новых и для нас.
На танцевальном вечере в десятом классе, совсем недавно, мы обнаружили тайком принесенные бутылки со спиртным, довольно крепким. Мы, правда, вовремя приняли меры, и вечер кончился благополучно. Тогда же договорились, что будем строже наблюдать за ребятами во время школьных вечеров, но главное, примем меры, чтобы исключить подобные происшествия в школе.
Конечно же, я не против того, чтобы раз и навсегда решить, что предпринимать в школе в том или ином случае, существует же школьный порядок. И сказал тогда, что прежде всего следует проанализировать причины тех или иных проступков, дабы оказывать действенное влияние на учеников, но заседание кончалось, меня выслушали, а времени подробно обсудить мои соображения уже не оставалось.
Теперь, на внеочередном педсовете, мы опять коснулись больного вопроса. Я уже готов был дать волю чувствам и знаю, я сумел бы повлиять на собравшихся — настолько-то я в состоянии оценить свои возможности. Удержал меня от этого Юст. С явной скукой глядел он куда-то перед собой, удобно откинувшись на стуле. Казалось, эта история его вообще не касается, а тяжкие обвинения Штребелова относятся к кому-то другому, только не к нему, учителю Манфреду Юсту.
Это отрезвило меня, я вспомнил наш короткий разговор на большой перемене. Он что, обороняется таким манером? Показывает свое к нам отношение?
Карл Штребелов дал слово Юсту и добавил, что рекомендовал Юсту представить свое объяснение в письменном виде, такое объяснение лишь помогло бы нам до конца разобраться в этой истории. Но его предложение, сказал Штребелов, было отвергнуто.
Манфред Юст поднялся, положил ладони на стол, словно показывая, что ему не нужны ни записи, ни тезисы для памяти, и сказал:
— Что до внешней стороны дела, то все было именно так, как изобразил в своем письме господин Фолькман. Его дочь Моника рассказала ему все верно, пожалуй, лишь в одном преувеличила, в степени опьянения Марка Хюбнера. Он не напился до бесчувствия, он только слегка опьянел. И неудивительно, парень, не привыкший к алкоголю, выпил почти целую баклажку водки. Да, мы все испугались, слишком неожиданно это случилось. Мы были неподалеку от моего дома, и я решил, что ребята зайдут ко мне, а Марк там вздремнет. В данной ситуации так поступить было самое разумное. С Марка хмель слетел очень быстро, хотя, конечно, чувствовал он себя прескверно. Я поговорил с ним с глазу на глаз, обстоятельно и пришел к выводу, что покончить с этим инцидентом следует именно так, как сообщил вам в письме господин Фолькман. Право на такое решение педагог должен иметь.
Говорил он спокойно и четко. И не выказал ни малейшей почтительности к тяжким обвинениям Карла Штребелова.
Объяснение Юста произвело, по-видимому, на собравшихся различное впечатление.
Не стану скрывать, мне его объяснение понравилось, но в тоне его, хотя к нему я был подготовлен, звучали, на мой взгляд, непримиримость, едва ли не заносчивость. И это меня задевало.
Штребелов поднялся, подошел к окну. В этом было что-то необычное, ни разу при мне не покидал Карл во время заседания своего места. Похоже, ему надо было собраться с силами, заставить себя успокоиться. В кабинете воцарилась тягостная тишина. Она ощущалась почти физически.
Теперь следовало выступить мне, следовало найти слова, которые разрядили бы обстановку. Но у меня не было на это сил, я сидел как парализованный и ждал концовки, которую уже предвидел. Члены педсовета словно отошли на второй план, вся сцена разыгрывалась между Штребеловом и Юстом, а виноват в происходящем был только директор.
Штребелов вновь занял свое место.
— И это все?
— Я полагаю, что все.
— Я полагаю иначе, — заметил, явно волнуясь, Штребелов. — Вы, стало быть, считаете свое решение, коллега Юст, верным и вполне законным?
— Что значит «верным»? Я уже сказал, что разговаривал с Хюбнером довольно долго и подробно, после чего принял такое решение. Для этого имелись веские основания.
— Невероятно. Где мы находимся? Как вы разговариваете! Я требую, чтобы вы внесли полную ясность в этот вопрос.
— Я тоже могу спросить — где мы? — ответил Юст. — К подобному тону я не привык. Я внес полную ясность в этот вопрос.
Штребелов кинул взгляд на листок-письмо Фолькмана, словно ожидал от него помощи.
— О чем говорили вы с Хюбнером с глазу на глаз? Почему он вообще пил водку? — едва слышно спросил Штребелов.
— Нечто вроде приступа депрессии. Я с трудом выудил из него несколько слов о причинах его поступка. И обещал Марку, что никому ничего не скажу. Доверие за доверие. Вы понимаете, такое обещание я обязан сдержать. Я готов когда-нибудь впоследствии, когда будет удобный случай, дать более подробные объяснения. Я уверен, все сидящие здесь, за столом, в подобном случае поступили бы точно так же.
Собственно говоря, педсовет закончился конкретным разъяснением Манфреда Юста, в чьей искренности никто не сомневался. А если кто и сомневался, так в эту минуту не сумел бы свое сомнение высказать. Мы получили разъяснение не совсем обычное, с этим я согласен, но вполне приемлемое.
Педсовет заседал еще около часа, поднимались разные вопросы, отдаленно, правда, связанные с обсуждаемой проблемой, но ничего не меняющие в исходе заседания.
Было ясно — поспешно созванный педсовет никому не нужен. Я жалел Карла Штребелова, который тщетно пытался обрести уверенность. Он все снова и снова заводил разговор о заявлении, об ответе на письмо, который, согласно закону, должен быть послан в кратчайший срок.
— Может мне кто-нибудь сказать, что я должен написать Фолькману? — спросил он.
Юст объявил, что готов помочь ему при составлении ответа. Штребелов резко отклонил его предложение, вызвав у всех недоумение.
Да, у Юста со Штребеловом все пошло наперекосяк, отношения были испорчены, и даже надежды не брезжило, что они когда-либо улучшатся.
В обсуждении я участия не принимал, что, думается мне, все заметили.
Я не в состоянии был выступить. Разве не пытался я удержать Штребелова от поспешного решения — созвать внеочередной педсовет? И ничего не добился.
Но главное, я молчал, чувствуя несвойственную мне нерешительность, от которой не мог избавиться. Знаю наверняка одно: формальный обмен мнениями, когда вопрос уже заранее решен, вызывает у меня резкое недовольство. Но я же мог вмешаться, у меня была возможность придать разговору верное направление. А я молчал, хоть и заметил испытующий взгляд Юста и растерянный — Карла Штребелова.
Как только педсовет кончился, я поторопился покинуть школу.
Через два дня мне нужно было уладить с профорганизацией завода вопрос, касавшийся работы учащихся во время каникул. Возвращаясь из завкома, я зашел в цех, где мастером был Фолькман. Здесь я чувствовал себя как дома, я тут работал и вместе с заводом пережил все этапы восстановления.
Никогда не забыть, как мы лопатами и кирками разгребали горы развалин на месте взорванных цехов бывшего военного завода. А потом, в пятидесятых годах, когда без конца меняли специализацию завода, все неудачи, от которых люди падали духом, через наших учеников отзывались и на нас, учителях. В промышленном городе все зависит от основного предприятия, оно накладывает отпечаток на все сферы жизни. Это мы поняли по работе в нашей школе и поддерживали с заводом самую тесную связь. Карл Штребелов был в этой области пионером, он никогда не ждал указаний свыше, он выступал за связь с промышленностью еще до того, как были изданы соответствующие законодательные документы. Исходил он при этом из практических соображений.
Первое время Карл Штребелов обосновывал свои соображения перед меняющимся руководством завода очень просто:
— Хотите иметь учеников, которые бы жили рядом — а это, без сомнения, самое разумное при нынешнем положении с квартирами, — так заинтересуйте еще сегодня школьников вашим производством. А мы со своей стороны вам поможем.
На нас навалилось много дополнительной работы, с чем не каждый педагог поначалу соглашался. Но работа эта приносила успехи, а главное, мы установили тесную связь с заводом, хорошо узнали его заботы.
Сейчас, когда я вошел в цех коробок передач, на меня, как всегда, сильное впечатление произвела особая атмосфера машиностроительного завода, запахи раскаленных металлических деталей, машинного масла, огни сварки, ритмичный шум механизмов, грохот кранов и транспортных средств.
Фолькмана я нашел на материальном складе. Он поздоровался со мной и вновь занялся своей работой: принимал детали, поступившие с опозданием. Фолькман действовал спокойно и четко, и весь его вид выражал уверенность: уж он не допустит никаких недоразумений. Да, связь между работой Фолькмана здесь и его заявлением директору школы явно существовала. Он не мог себе позволить неточность и неопределенность, он их не терпел и требовал того же от других.
Фолькман поинтересовался, что привело меня к нему — какое-то дело или меня привела сюда старая любовь к моему бывшему цеху. Он намекал на те времена, когда и мы, учителя, трудились в году месяц-другой на заводе. Я тогда работал у него в цеху и узнал разницу между профессией строителя и металлиста. Стройка была мне знакома, на стройках я уже работал. А в цеху я узнал много нового. Позднее от такого вида связи с производством отказались. Но работа на производстве имела — во всяком случае, для меня — большое значение.
Зная Фолькмана — а он терпеть не мог дипломатических подходов, — я сразу же заговорил откровенно:
— Вы написали нам заявление. В связи с этим я и пришел. Но не официально. По собственному побуждению.
— Коллега Юст тоже заходил ко мне по этому поводу, — ответил Фолькман.
— Вот как, — я был ошарашен, — когда же?
— Позавчера вечером. Я работал во вторую смену.
Значит, Юст после педсовета поехал на завод к Фолькману. Я ломаю себе голову, как воспринял он то, что поднято было на педсовете, этот злосчастный вопрос о воспитании воспитателя, я злюсь на него, что он не посвящает меня в свои замыслы, ничего мне не говорит, а он, оказывается, действует, едет к Фолькману, человеку, который все заварил, берет, так сказать, быка за рога.
Фолькман удивленно взглянул на меня, свое недоумение я скрыть не сумел. Да и зачем?
— Что же между вами было?
— А что могло быть, коллега Кеене? Он объяснил мне, почему на экскурсии поступил с Марком Хюбнером именно так, а не иначе.
— Ну и почему же? — настаивал я.
— Вы разве не знаете?
— Нет. Нам он объяснил только, что посчитался с состоянием ученика, тот был явно подавлен. Большего-де он сказать не вправе.
— Коллега Юст намекнул, что в семье мальчика появились кое-какие сложности. Тут меня осенило. Я же знаю, что у его родителей в данный момент нелады. Вот где причина.
— Вы получите от школы ответ на ваше заявление, — сказал я.
— Полагаю, после разговора с коллегой Юстом в этом нет надобности. Хотя на заявление нужно, кажется, дать письменный ответ.
— Значит, все теперь в порядке, — сказал я и вновь ощутил разочарование.
Манфред Юст во мне не нуждался. Вот она, благодарность за мои усилия, вот что я получил за мои попытки помочь такому «экстра-педагогу».
Да, он глубоко, меня обидел, и оттого я был несправедлив к нему. Но тогда я даже сам себе в этом не признался. Хотя и подозревал, что с Юстом и с волнениями, которые он внес в нашу жизнь, я не справлюсь теми средствами, какие казались мне поначалу пригодными. Беседами с глазу на глаз, с примерами и выводами, которые только для меня имели ценность, ничего достичь нельзя. Дело обстояло куда сложнее. И все это касалось нас всех, включая Карла Штребелова.
Подозрению своему, которое могло бы приглушить мою обиду, я не желал поддаваться. И сказал Фолькману.
— Так, значит, вы расстались с коллегой Юстом в полном согласии?
— Он пришелся мне по душе. Интересный человек, — сказал Фолькман.
— Что же интересного вы в нем нашли?
В тоне вопроса сквозила горечь, меня удручало отношение ко мне Юста, и, кажется, Фолькман это заметил.
— Знаете, коллега Кеене, я терпеть не могу, когда кто-то чересчур увлекается самокритикой. Такой человек чаще всего просто хочет увильнуть от трудностей. Мне больше по вкусу, когда у людей есть чувство собственного достоинства и они готовы защищать дело, в правильности которого убеждены. Даже если другие считают, что они заблуждаются. Таким вот на первый взгляд неприятным, неудобным человеком я вижу коллегу Юста. Он сразу же энергично стал на меня наскакивать. Что это, мол, такое, зачем раздувать любой пустяк, делать из него государственное преступление, и почему я не поговорил хотя бы с классным руководителем. Я, конечно, тоже вскипел, заявил: это, мол, мое дело, что и когда я объявлю государственным преступлением, у меня есть кое-какой собственный опыт. Так мы препирались, пока коллега Юст не улыбнулся и не сказал: ничья, согласны? Перед такой искренней улыбкой и перед таким предложением трудно устоять.
И еще кое-чем расположил меня к себе коллега Юст. Он проанализировал педагогическую сторону этого случая и говорил со мной как с человеком, разбирающимся в этой области. Он считает, что в педагогике почти каждый разбирается, и он прав. Я терпеть не могу, когда со мной говорят покровительственно, старательно выбирают выражения, как бы снисходят до меня, опускаются ниже обычного уровня, дабы быть понятыми.
К тому же коллега Юст на удивление хорошо представляет себе нашу работу, я бы даже сказал, способен делать ценные замечания. Он подробно меня расспрашивал и не просто хотел произвести на меня впечатление, таких людей я без церемоний выставляю за дверь, нет, у него я почувствовал истинный интерес. Он очень быстро, и тут я даже удивился, распознал наши слабые места, к примеру проблему с транспортом.
Когда он со мной прощался, я сказал, что, конечно же, должен был прежде всего обратиться к нему по поводу Марка Хюбнера. Он засмеялся и сказал: а я тоже мог бы давно заглянуть к вам сюда. Вот у нас опять получилась ничья. Вы удовлетворены, коллега Кеене? Юст — парень что надо, поверьте мне.
— Да, это я и сам знаю, — ответил я.
Фолькман улыбнулся, хотя до конца моих слов не понял.
Взяв меня за руку, он сказал:
— Пойдемте, я покажу вам цех. Кое-что у нас изменилось.
Он повел меня по своим владениям, показывая новые станки, говорил о новой технологии, называл цифры и проценты, рассказывал о сэкономленных часах и упрощенных операциях. Я узнал кое-кого из наших ребят, поздоровался с ними. Меня тоже узнавали и здоровались со мной. В этом цеху работало много бывших наших школьников, и я — тут я почувствовал удовлетворение — помнил почти все имена.
Распрощавшись у дверей цеха с Фолькманом, я зашагал к заводским воротам. Встреча с моими бывшими учениками укрепила во мне сознание важности нашей профессии. Да, мы кое-что значим, мы свою работу делаем хорошо, мы остались у них в памяти.
Подумал я и о том, расскажет ли мне Манфред Юст что-нибудь о своих выводах в связи с заявлением, о своем ученике Марке Хюбнере и о мастере Фолькмане.
Нет, в ближайшее время мы об этом не говорили.
Отношения с Юстом в школе наладились, дни шли, да и работать нужно было.
Карл Штребелов так и не сумел переварить эту историю, хотя справедливости ради должен сказать, что замечал это только я, иной раз по пустячной фразе, иной раз по обидному словечку, когда речь заходила о Манфреде Юсте. Карл Штребелов старался держать себя в руках. От Манфреда Юста он сознательно отгораживался, относился к нему с особой осторожностью, никогда не хвалил его, но и не ругал. А это как раз плохо. С разных точек зрения плохо.
Юст во многие наши дела внес интересные новшества. Это было очевидно. И никакого отклика со стороны директора.
Штребелов только со мной говорил о Юсте. Так случилось и в тот раз, когда пошли слухи, будто Юст ввел в классе новую систему оценок. Он будто заявил, что ему нужны «реальные отметки», а это означало одно — он не согласен с существующей у нас системой оценки знаний.
Штребелов обратился ко мне:
— Выясни, что там делается. Парень только сеет панику. Всем он недоволен, все хочет любой ценой перекроить.
— Это задание? — спросил я.
— Разумеется, — буркнул Штребелов.
Я вспомнил мнение Юста о средней оценке в восьмом «Б» прошлой осенью, когда он заглянул в классный журнал.
Без обиняков объявил я Юсту, какое получил задание и от кого, чтобы между нами была полная ясность.
— Так кто же у нас против реальных отметок? — поинтересовался он.
— Никто, — сказал я, — но разные люди понимают под этим, видимо, разное.
— Конечно, — согласился Юст, — вообще оценка знаний — самая сложная часть нашего дела.
— Так стоит ли ее еще больше усложнять?
— И вы, судя по всему, считаете, что этим я и занимаюсь?
— Я ничего не считаю. Я хотел бы знать, что вы собираетесь делать, и собираетесь ли вообще, ведь беспокоятся школьники и родители. Вот и все.
— Странно. Кто беспокоится?
— Ничего странного, дело именно так и обстоит.
Ну, подумал я, Юст не желает облегчить мне задачу. С его манерой держаться не так-то легко справиться.
— Ученики и родители беспокоятся оттого, что я хочу заранее поделиться с ними моими размышлениями об отметках и общей оценке успеваемости? — спросил он.
— Выскажитесь яснее. Что значит «заранее поделиться»?
— Заранее — значит заранее, и если иметь в виду учебный год, то это вполне поддается уточнению.
— Но может, вы все-таки потрудитесь высказаться конкретнее?
— Сразу же после зимних каникул я проанализирую оценки за полугодие и сделаю из этого выводы.
— О, это и впрямь заранее, что верно, то верно. Я бы даже сказал — очень уж заранее.
— Отчего же?
— Тем самым вы повлияете на оценки. А ведь многое еще можно поправить.
— Кеене, это на вас непохоже!
Я взглянул на него, на лице его написано было высокомерие, чего я терпеть не мог. Он закусил удила и способен был наговорить бог знает что. Зачем пустился я с ним в эти рассуждения? Зачем спорить с Юстом о деле, в котором мне прежде всего следовало разобраться самому? Даже задание Штребелова не требовало от меня поначалу ничего другого. И вот мы вернулись на исходные позиции, хотя сблизились в последнее время. Отчего? Не оттого ли, что я хоть и желал, чтобы Юст расшевелил нас, но, когда он сделал решительный шаг, испугался?
От Штребелова я получил определенное задание: призвать этого возмутителя спокойствия, сеющего панику, к порядку. Не без умысла дал Карл Штребелов это поручение мне. Для меня Юст уже давно не возмутитель спокойствия. Не знаю, что происходило с Юстом, уяснить себе это было мне в ту пору чрезвычайно трудно. По временам какое-то отчаянное любопытство побуждало меня сблизиться с ним, даже ценой собственного спокойствия и равновесия.
— Зачем нам спорить, коллега Кеене, — вполне миролюбиво сказал Юст. — Проверьте все сами. Завтра я собираю родительский актив. На следующей неделе — собрание родителей. Мы обсудим успеваемость ребят и оценки. Самое обычное мероприятие.
— Хорошо, — согласился я. — Я буду.
На собрании актива ничего особенного не произошло. Юст представил меня, и, конечно же, никто не удивился, что к ним пришел заместитель директора. Со многими родителями я был знаком — умные, ответственные люди, почти все они работали на заводе.
Юст хорошо подготовился, говорил без вывертов и иронических отступлений. Меня вновь, в который уже раз, приятно поразила его способность ясно выражать свои мысли и его умение ими распорядиться, если он считал, что в том была нужда. С его деловым, продуманным анализом уровня успеваемости родители согласились, этот анализ должен был послужить основой его вступительного слова на родительском собрании.
Мне высказываться не было нужды. Должен признать, что Юст вполне деликатно и очень умело подошел к тому, как провести необходимую, с его точки зрения, проверку успеваемости учащихся и как выставлять отметки.
Когда кончилось собрание, он еще довольно долго оживленно разговаривал с родителями, а я попрощался и ушел, не поделившись с ним своим впечатлением.
Но уже по пути домой пожалел об этом, вспомнив его напряженный взгляд, когда я к нему подошел, своего разочарования он скрыть был не в силах, когда я с ним прощался.
Всю неделю до родительского собрания мы с Юстом не нашли случая поговорить о результатах актива. Мы даже избегали друг друга. У меня совесть была не совсем чиста, в чем, однако, я не хотел себе признаваться, а его обуяла гордость. Но ведь одно слово, может, одна моя фраза придали бы ему уверенность, поддержали его.
Настал день собрания. Странно выглядят родители, рассаживаясь за парты. В этот вечер пришлось даже поставить дополнительные стулья. Необычный наплыв. Как сказал Штребелов? «Он сеет панику».
Ну ладно, поглядим, считать ли этот усиленный интерес отрицательным явлением или положительным.
Я здоровался со знакомыми, так, например, с Хюбнерами, пришли отец и мать, видимо, в их семье опять все образовалось. И Фолькман пришел, он представил меня своей жене.
Попытаюсь рассказать, как проходило родительское собрание.
Юст, как решили на активе, произнес вступительное слово. И хотя в основу его сообщения лег одобренный активом анализ успеваемости, я почувствовал, что так авторитетно, как в узком кругу неделю назад, его слова не прозвучали. Он то увлекался ненужными подробностями, то неожиданно обрывал себя ироническими замечаниями. Сегодня он был явно не в форме. Быть может, его смущало большое число присутствующих, быть может, в некоторых вопросах он все-таки был менее уверен, чем хотел показать. Но самое неприятное, что только могло быть на таком собрании, — у него время от времени прорывался поучительный тон, он на всех смотрел словно сверху вниз, словно хотел сказать: да вы же ничего в этом не смыслите, вот сейчас я вам все растолкую. Но иной раз давала себя знать его блестящая манера изложения, которая мне так по душе, точность его формулировок и уверенность.
У меня сложилось впечатление, что из всего сказанного Юстом большинство родителей поняли следующее: до сих пор успехи ваших детей оценивали слишком высоко, из-за этого создалась искаженная картина успеваемости. А вот я приступлю к делу иначе, буду строже, точнее, и вы приготовьтесь к тому, что в конце года, выставляя оценки, я не поскуплюсь на низкие баллы.
Но совсем не то обсуждали мы на активе и не о том договорились. Результатами нововведения должны были стать и более правильная оценка знаний учащихся, и соответственно более точные отметки, что пошло бы только на пользу ученикам. Обидеть никто никого не хотел.
После небольшой паузы Юсту все-таки похлопали. Он стал нервно собирать свои листки. Воцарилось долгое, мучительное молчание, и только после настойчивых приглашений председателя родительского актива кое-кто решился взять слово. Поначалу выступавшие говорили осторожно, все больше общими фразами. Да, конечно, всегда нужно искать лучших решений. Реальная оценка успеваемости, разумеется, принесет школьникам пользу — как в процессе обучения, так и в дальнейшей их жизни, и тому подобное.
Но вот робко прозвучало первое возражение: сказанное, мол, хорошо и прекрасно, но во всем следует знать меру. Это выступление послужило сигналом к восстанию против классного руководителя Юста.
Чей-то отец, я с ним не был знаком, поднялся и заявил:
— Чего вы, собственно говоря, хотите? Из ваших слов я понял, что метод оценки прежних учителей устарел. Но вот пришли вы, и все пойдет иначе. У вас в кармане, надо понимать, лежит философский камень, которым вы излечите все недуги. Получается, значит, что наших детей и нас, родителей, все это время морочили. Но сейчас нам и нашим детям надо думать об их будущем, выбирать профессию. А вы хотите единым махом перечеркнуть всю предыдущую работу, именно сейчас собираетесь снизить отметки. Это же полная нелепица и безответственность, так дело не пойдет.
Другие родители тоже выступили с возражениями. Все яснее становилось, что они не принимают концепцию Юста.
Я с удивлением заметил, что при этом все дальше, на задний план, отодвигалась суть проблемы, которую Юст, хоть и неудачно сформулировав, предложил для обсуждения. Осталось лишь опасение родителей, что аттестаты их детей будут выглядеть хуже, чем они ожидают, и надежды, связанные с выбором профессии, и многие другие поставлены под угрозу.
Юст никого не прерывал.
Я еще подумал: Юст, не молчи, выскажись, покажи, на что ты способен. Говори же, Юст!
А почему я не выступил? Я ведь тоже сидел там, и не случайным слушателем, заглянувшим на собрание из любопытства. Я — представитель дирекции, опытный педагог, который тоже сталкивается с подобными проблемами и преодолевает подобные трудности. Я, как никто другой здесь, хорошо знал, какое значение имеет правильная оценка знаний для самого учащегося. Меня возмущало непонимание родителей, но я молчал.
А натиск тех, кто был против концепции Юста, все усиливался, и они даже начали выступать против педагога Юста. Отец ученика, который первым повел наступление, теперь опять подал сигнал. Тут я понял, откуда у Штребелова информация, почему он утверждал, что Юст сеет панику.
Председатель, явно обеспокоенный и растерянный, попросил Юста все-таки выступить, сказать свое слово.
Но Юст, не поднявшись даже с места, каким-то неестественным тоном сказал:
— У нас идет обмен мнениями. Всем, кто хочет высказаться, следует предоставить эту возможность. — Он хлопнул по папке, в которой лежали его материалы, и продолжал: — Должен, однако, заметить, что мой анализ положения — а с ним можно в любую минуту ознакомиться еще раз, его можно проверить — следует при обсуждении больше принимать во внимание. Одними эмоциями многого не добьешься.
Его слова, однако, никого не успокоили. Доказательством тому служили ропот и возмущенные выкрики.
Ах, Юст, ну зачем ты так небрежно откинулся на стуле? Это же создает прескверное впечатление. Ты ведь психолог. Самые лучшие свои намерения ты сам и губишь.
Но вот взял слово Фолькман, сидевший на последней парте, я его даже не видел все это время, не знал, как он реагировал на происходящее. Когда Фолькман встал, все смолкли. Как знать, о чем они подумали. Может, кое-кто решил, и среди них самый ярый противник Юста, что теперь концепции заносчивого учителя будет нанесен решительный удар.
Фолькман тщательно подбирал слова.
— Когда у нас, на производстве, выполненная работа получает оценку «хорошо», мы все довольны. И каждый знает, что за этим ясным словом «хорошо» стоит огромная затрата сил. Удовлетворительно выполненная работа — это именно удовлетворительная. Она нас удовлетворяет. Конечно, в этом случае речи не может быть о самоуспокоении. Но очень хорошо выполненная работа — это уже нечто особое. «Очень хорошо» — значит лучше вряд ли сделать. С оценкой «очень хорошо» надо обходиться экономно. Всякое легкомыслие в этом деле отомстит за себя. Нельзя нам лгать себе, раздавая неоправданные похвалы. Пусть это делается зачастую с лучшими намерениями, но мы рискуем утратить всякие критерии. С чем мы выйдем тогда на мировой рынок? А разве в школе оценки понимаются иначе? Я думаю, что точно так же. Поддерживаю коллегу Юста и считаю, что нам следует одобрить его замыслы.
Фолькман сел, слышно было, как скрипнул стул, такая стояла тишина.
Тут я заметил, что тот человек, который начал атаку на Юста, собирается вновь взять слово — уже в четвертый раз.
Я решил предупредить его выступление, не дать ему свести на нет воздействие слов Фолькмана. И, поднявшись, поймал напряженный взгляд Юста.
Мне было легко начать, я мог опереться на замечания Фолькмана, мне не нужно было реагировать на эмоциональные выпады, сделанные до него. Я постарался как можно объективнее осветить проблему с точки зрения педагога, при этом я всего-навсего повторил мысли Юста в более приемлемой форме. Разумеется, я привел как доказательство и собственный опыт. Заканчивая выступление, я еще раз подчеркнул, что речь идет о судьбах молодежи.
— Мы с вами знаем, — сказал я, — что к нашим детям предъявят в будущем очень высокие требования. Мы обязаны их к этому подготовить. Показухи у нас быть не должно. Вот о чем сегодня речь.
Думается, мое выступление оказало действие.
Одного я тщательно избегал — упоминания дирекции школы.
Я взглянул на Юста, и мне показалось, что он улыбается чуть насмешливо. Он, видимо, подумал в эту минуту: Кеене, за этим ли ты пришел? Разве не дано тебе было задание проконтролировать меня? В свою очередь и я с досадой подумал: Юст, если б не такой серьезный вопрос, тебе следовало бы задать жару. Пух чтоб и перья летели, отучить тебя надо от себялюбия, от зазнайства.
Родительское собрание закончилось все-таки сносно.
Когда все уже расходились, Юст как-то второпях, на ходу сказал мне:
— Благодарю вас, коллега Кеене.
Ни грана иронии не было в его словах. Вот и пойми этого малахольного по имени Манфред Юст.
Летом Эва надумала позвать гостей, и я по ее совету пригласил Юста. Он стал, как и следовало ожидать, душой общества.
Мы с ним пили крюшон, а уже ночью выпили на брудершафт.
— Давно пора, — сказал я, слегка опьянев.
— Как раз вовремя, великий магистр, — ответил Юст, — и это мне по душе. Без принуждения. Не по обязанности. Как сегодня.
Он поднял бокал, глянул на меня странновато, и я решил, что он собирается выдать мне порцию своих мудреных поучений. Может, это из-за освещения его взгляд показался мне странным — цветные фонарики в саду легонько раскачивались от ветра. А в сентябре на работу в нашу школу пришла Анна Маршалл.
Мне она, и об этом я уже упоминал, не понравилась, и я признавал, что связано это было с Юстом.
В первый же день он уделил ей много внимания, что было естественно. Он уселся рядом с ней, тотчас завязал разговор и не скрывал, что она ему симпатична. Да, Анна Маршалл была хорошенькая, можно даже сказать — красивая девушка.
Однако она казалась беспомощной, подавленной и в то же время сверх меры самонадеянной. Мое впечатление разделяли и другие коллеги. А может, они только соглашались с моими напористо и многословно высказанными суждениями? Трудно что-либо сказать наверняка, когда речь идет о новом коллеге. Со Штребеловом я об Анне Маршалл не разговаривал. Меня удерживали от этого мои отношения с Юстом. Карл поглядел бы на меня многозначительно, вслед за чем последовало бы очередное пространное объяснение или жалобы на Юста.
Лишь через месяц-другой рассказал я Эве о том, как отнесся к новенькой Юст. Был уже вечер, мы с ней потягивали вино, и я довольно подробно излагал события. Эва внимательно слушала меня, не прерывала.
В заключение я с горечью сказал:
— Наставничество я рассматриваю несколько иначе. Его нужно строить на деловой основе, нельзя, чтобы оно держалось на полуэротической базе. Нет, правда же, нельзя.
Тут Эва сказала:
— Эй, парень, да ты ревнуешь. Ну-ка, признавайся.
Меня бросило в жар. Такого со мной не случалось уже давно. К счастью, Эва этого видеть не могла: я сидел в тени. Я, понятно, отверг сие обвинение, возражал, хохотал нарочито громко, но признавал в душе, что Эва права. Она дала мне высказаться, мы сменили тему, заговорили на другую, поистине неисчерпаемую тему — «наши дети», которые в этот полуночный час уже спали.
Эва помогла мне пересмотреть мое мнение об Анне Маршалл, взять себя в руки и вновь наладить отношения с Юстом. Думается, он вообще не заметил, что между нами намечалась отчужденность. В первые недели нового учебного года у всех работы хватает. На Юста же свалилась еще дополнительная нагрузка — Анна Маршалл.
Мои предубеждения против Анны Маршалл рассеялись, я взглянул на все трезво. И вскоре с удивлением обнаружил, что у нее есть свои взгляды на проблемы образования и воспитания. Разумеется, многие ее рассуждения были чисто теоретическими, абстрактными, но все же они заслуживали внимания. Юст живо ими интересовался, как я в свое время интересовался его личностью и его работой. Оттого и любовная сторона их отношений — чего греха таить, было это — отошла для меня на второй план.
Как-то раз, я уже не помню повода, мы с Юстом заговорили об Анне Маршалл. Дело в том, что Штребелов по вполне понятным причинам не поручил ей классного руководства; ее это, видимо, обижало, она считала — и готова была отстаивать свое мнение, — что учителю нужно знать семью ученика, в этом залог успешной воспитательной работы.
Что же, никто с ней и не спорил.
— Я позволил Анне проверить ее теоретические положения в моем классе, — рассказывал Юст, — ну, скажу тебе, она надумала такую затею, сложность которой недооценивает. В свое свободное время она ходит в семьи моих учеников. Составила огромную картотеку. До чего только она не докопалась. Понадобись мне, и я узнаю, когда чей отец болел корью и у кого от какой болезни скончалась прабабушка. Я ей говорю: милая девушка, твои материалы производят тягостное впечатление. «Как так тягостное, — отвечает она, — моя работа ведь схожа с работой врача. Он тоже должен все знать, чтобы поставить диагноз пациенту». Но, парировал я, у врача пациенты — больные люди, а у тебя — ученики и их семьи. «Да это я для сравнения, — ответила она. — И ты не дал мне договорить. Врач свои познания держит при себе. И я держу их при себе. Однако они позволяют мне лучше понять положение вещей, и потом эти познания лучше использовать». А время, дорогая, спросил я, откуда ты его возьмешь, когда выйдешь замуж и сама народишь детей, да еще муж будет и квартира. Что тогда? «Для работы время у меня всегда найдется», — возразила она, при этом так на меня взглянула, точно думать о времени вообще стыд и позор. Поверишь ли, кое-что из подобранных ею материалов в самом деле помогает мне лучше разобраться с моими ребятами.
Юст улыбнулся задумчиво.
— Но ты ведь ее полюбил не только за работу, — сказал я и тут же разозлился на себя за неестественный тон.
Юст не выразил ни малейшей досады, все его мысли, кажется, были заняты Анной Маршалл.
— Да, конечно. Не так, однако, все просто. Она кое в чем напоминает мне первую жену. Часто, пожалуй, даже слишком.
Впервые заговорил он о своей жене. Она — это все знали — жила в П. с двумя детьми, была доцентом Педагогического института.
Первый и последний раз упомянул Юст о жене в наших с ним разговорах.
Возможно, Анне Маршалл было известно больше.
Даже моя любопытная Эва ничего не узнала, хотя мы довольно часто встречались с Юстом. Видимо, до конца понять человека трудно, существует какой-то предел, переступить который мы с Эвой не смогли, не сумели.
Весной, к тому времени Анна Маршалл и Юст уже, похоже, были близки, мы с Эвой как-то отправились прогуляться, дорога привела нас в кафе «Сан-Суси». Было начало мая, теплынь стояла необычайная. При кафе уже открыли сад. Мы решили выпить пива и сели за столик в сторонке. Эва с огорчением сказала, что нам уже очень давно не доводилось сюда заглядывать. На бетонной площадке две-три пары танцевали под магнитофон что-то очень современное, для нас уже недоступное. Я поделился своими мыслями с Эвой. Она снисходительно улыбнулась.
А потом мы заметили на площадке Анну Маршалл и Юста. Музыка на этот раз была очень медленная, пары едва двигались, люди на площадке словно заснули. Анна Маршалл сомкнула руки вокруг шеи Юста и рассеянно улыбалась, глядя ему прямо в глаза. Он положил руки ей на бедра — в черных обтягивающих брюках она казалась еще стройнее. Юст тоже улыбался как-то необычно. Они в самозабвении двигались по площадке, словно остались одни на белом свете.
Следующий танец был не то в стиле бит, не то в стиле рок. В жизни мне не понять разницы, хотя мои ученики пытались мне ее растолковать. Все стали танцевать совсем иначе.
Анна Маршалл отпустила Юста, они танцевали теперь порознь. У нее получалось очень хорошо, посчитал я, выразительно, умело. Белокурые волосы кружились и летали вокруг ее головы. Юст тоже пытался держать темп, но это ему не очень удавалось. Отдалившись от партнерши, он, казалось, потерял и необходимое чувство ритма. Но Анну это не останавливало, она увлекала его своим темпераментом и при этом задорно смеялась.
Юст улыбался какой-то застывшей и деланной улыбкой.
— Бог мой, — сказала Эва, — вот кто удержу не знает.
— Ты ее порицаешь? — спросил я.
— Да что ты, — ответила она, не отрывая глаз от площадки, — просто совсем другое поколение. Яснее всего это видно во время танцев.
— Ну-ну, — сказал я, развеселившись, — Юст скоро обучится отплясывать по-новому.
— Но этот стиль противоречит его натуре, — упрямо настаивала Эва.
— А ты что, знаешь, какая у него натура?
— Тебя же я знаю, разве этого мало?
— Но я тоже не отвечаю всем требованиям, какие твое поколение предъявляет мне, — сказал я.
— Ну, это дело другое, — возразила Эва, окинув меня быстрым взглядом.
Она что, ревновала к Анне Маршалл? Возможно, сама того не сознавая.
Девушка на площадке была восхитительно беззаботна. Ну и хорошо, подумал я, отметив, что отношусь теперь к Анне Маршалл гораздо объективнее, чем раньше.
Вот она, разница в летах, ничего не поделаешь.
Быть может, Эва имела в виду, что Юсту, с грехом пополам танцующему с Анной, было бы с ней, Эвой, или ее сверстницами лучше. Возможно, сложись жизнь иначе. Но сложилась она именно так. Те двое вместе.
Манфред Юст и Анна Маршалл были необычной парой, но все скоро привыкли, что они вместе, да и что могло в этом не нравиться, хотя, уверен, относились к этому факту по-разному.
И вот кончилась эта любовь.
Как же Анна? Конечно, мы с Эвой ее поддержим.
Так мы решили в Гагре и нашли в этом утешение. Поддерживать, действовать и так преодолевать боль и печаль.
Звезды сверкали низко-низко, над самыми горами и морем.
В тот вечер, когда мы прочли извещение в газете, мы впервые, глядя на них, не испытали радости.
II
Приехали мы домой уже во второй половине дня, последнего дня августа, а вечером я отправился к Карлу Штребелову.
— Что случилось с Манфредом Юстом? — спросил я, поздоровавшись.
Карл пригласил меня сесть. А сам поднялся из-за письменного стола, выйдя при этом из освещенного круга. На столе я увидел лист бумаги — надо думать, его речь на открытие нового учебного года, которую он произнесет послезавтра. Мы сидели с ним в старомодных добротных креслах, с которыми, как ни настаивала на том его жена, он не желал расставаться. Ей хотелось приобрести новый гарнитур, стыдно ведь держать в доме такое старье, считала она. Но стыдиться ей было нечего, кресла были удобными и мягкими.
— Так ты уже слышал об этом? — удивился Карл.
— Мы прочли в газете, еще в Гагре.
— А, — сказал он, — да, конечно, вполне возможно.
— От чего он скончался? — спросил я нетерпеливо.
— Избыточная доза лекарства, — сухо ответил Карл Штребелов.
Я подумал, что ослышался.
— Лекарства?
— Да, избыточная доза. Слишком много проглотил за один прием.
— Значит, он покончил жизнь самоубийством?
— Не так громко, — попросил Карл, — дети еще не спят. Юст не оставил прощального письма. Ни строчки, ни какого-либо объяснения, которое подтверждало бы это.
— А отчего он принял лекарство? Разве он был болен? Я всегда считал, что Манфред — здоровяк. Он же не болел. Нет, быть того не может.
— Да, он был болен.
— И все-таки почему он убил себя? — спросил я. — От меня, Карл, тебе незачем скрывать причину.
— Я ничего не могу сказать тебе другого. Ничего еще не ясно.
— А если бы он оставил письмо?
— Тогда все было бы известно, — ответил он с досадой.
— Но, Карл, проведено же расследование, иначе ведь нельзя.
— Разумеется, дело расследовали. И все-таки никаких доказательств самоубийства не имеется.
— Ошибка, стало быть? Несчастный случай?
— Да, так мы и предполагаем.
Я уставился на пеструю скатерть — какие-то на ней вытканы узоры — и покачал головой.
— Но почему ты думаешь, что это самоубийство? Кстати, и еще кое-кто так думает, — сказал Штребелов.
В его вопросе слышалась горечь, подтверждавшая в моих глазах тот факт, что и он думал о самоубийстве. Внезапно я понял: он же рад, что нет тому доказательств.
— Стало быть, — сказал я, с трудом сдерживая волнение, — нам можно успокоиться — трагический случай. Перейдем к очередным делам, до этого факта нам дела нет. Несчастный случай. Увы, еще часто бывает. Весьма огорчительно.
Штребелов, надеялся я, резко одернет меня. Но он сказал только:
— Да, так я сохраню добрую память о моем коллеге Манфреде Юсте. Все мы сохраним ее. Нам не придется стыдиться, что учитель нашей школы таким образом признал свою несостоятельность. Прояви он подобного рода несостоятельность, ему не было бы никакого оправдания.
— Тем самым, стало быть, мы с этим делом покончили, — со злостью сказал я.
— Да, в главном вопросе — с этим делом покончено. Покончено.
— Но я не успокоюсь. Нет, такое объяснение меня не успокаивает. Самоубийство не доказано, но и несчастный случай тоже не доказан. Юст же наш товарищ. Два года жил и работал с нами. Что мы о нем знали? Что его угнетало? Может, мы оставили его в тяжелую минуту? Может, он попал в отчаянное положение? Может, страдал от одиночества?
— Ты-то его хорошо знал, — жестко ответил Штребелов, — кто, как не ты, мог заметить первые признаки неблагополучия, если твои догадки верны. Ты был наставником, да еще образцовым. Во всяком случае, так выглядело со стороны. Чего же ты хочешь? Задним числом займешься самобичеванием? Дешевый прием. Для меня обязательна принятая версия. Для всех в нашей школе она обязательна.
Да, удар сильный, но я не сдавался.
— Ты не вдумался глубоко в суть происшедшего, — сказал я. — О худшем варианте ты не желал думать.
— Так-то ты меня знаешь, — с горечью ответил Карл. — Я думал о нем, все взвешивал. Ночи напролет не находил покоя. Теперь принята определенная версия, о которой я тебе сказал. К счастью, и это я хочу подчеркнуть, все объясняется именно так.
Мы помолчали. Я бы охотно глотнул сейчас чего-нибудь, шнапса или водки.
— Тебя я понимаю, — сказал Карл, — я уже почти месяц мучаюсь. Для тебя же извещение в газете было громом среди ясного неба. И никаких объяснений. А теперь ты их получил, но таких объяснений ты не ждал. Похоронили его в Берлине. Так хотел его отец.
И этому ты тоже рад, подумал я. Здесь, в Л., нет его могилы. Ничто не будет напоминать нам о Манфреде Юсте. Мало кто его знал, да и те скоро о нем забудут, все смягчится временем, все отдалится. Жизнь продолжается. И нет больше с нами пестрой пичуги.
Возможно, я несправедлив к Карлу. Но в голове у меня все перемешалось, мне даже казалось, что я заболеваю.
Карл хотел дать мне свою речь, в которой, разумеется, говорилось и о смерти Юста. Скорее всего, он хотел, чтобы я прочел ее, обратив внимание на абзац о Юсте. Но я сказал, что сейчас не сумею определить свое мнение, ему это должно быть понятно. Он ничего не ответил, но не проводил меня до садовой калитки, как обычно. Да мне и не нужно было. Может, он только потому не пошел со мной, что уличный фонарь потух. Помню, Карл как-то жаловался на «куриную слепоту». Однако не так уж было темно в тот вечер, всходила полная луна, а небо едва-едва затянула легкая дымка.
Я не пошел сразу домой, не в силах был. Мне хотелось привести в порядок чувства и мысли.
Юст покончил с собой. Самое простое объяснение его внезапной смерти. Но отчего же, отчего?
А если это все-таки несчастный случай? Каких только удивительных случайностей не бывает в жизни, счастливых, и что говорить, несчастливых совпадений. Каких только историй не наслушаешься… Неужели и правда не осталось прощального письма?
Тут у меня вспыхнуло подозрение, я даже резко замедлил шаг, дышать стало тяжело, словно мне не хватало воздуха. Мысленно я представил себе Штребелова — вот он сидит в кресле, непоколебимо решив придерживаться версии, что это, к счастью, был несчастный случай. К счастью! Да разве не чудовищно произносить эти слова в связи со смертью Юста?
Все помыслы Карла Штребелова направлены на то, чтобы репутация школы и ее учителей не была запятнана. Ни единым пятнышком. Прощальное письмо Юста все изменило бы. Это была бы правда, а не удобное, к счастью, объяснение происшедшего. Но зачем что-то менять? — могут меня спросить. Кому от этого польза? Юст умер. Тут ничего не изменить. Зачем было ему отягощать совесть живущих своим решением, отвечать за которое он больше не может и не должен? Другие должны теперь держать ответ. Карл Штребелов, я, Анна Маршалл. Та женщина в П. с детьми, которую он оставил, или она его оставила, кто в этом разберется.
Если именно по этим причинам нет письма, если его сожгли в пепельнице?
Но это было бы поистине черным делом.
Я вновь вызвал в памяти Карла Штребелова, еще раз напряженно вслушивался в его ответы, его аргументы.
Нет, Карл не тот человек, кто уничтожил бы письмо, последнее живое слово ушедшего из жизни, чтобы отделаться от возникающих затруднений. До чего же я себя взвинтил! Подобные действия начисто противоречат принципам Карла Штребелова.
Нет никакого письма Юста к Штребелову, к коллективу школы, ко мне. Да, и ко мне нет ни единой строчки.
Я пошел медленнее. Несчастный случай, цепь неблагоприятных обстоятельств, как считают, а потому не может и быть никакого прощания, даже со мной, хоть я полагал, что Юст мой друг. Стало быть, я не обманулся и могу не сомневаться в его дружбе.
Стало быть, я становлюсь на позиции Карла Штребелова, и мне представляется, что трагическая случайность, приведшая к смерти Юста, прекрасно все объясняет, позволяет мне грустить и бессильно досадовать на тот факт, что человека и до сей поры еще постигают несчастные случаи и катастрофы.
Ну что ж, Кеене, отправляйся домой, расскажи все именно так, а не иначе Эве, уверенно настаивай на том, что речь идет о трагическом стечении обстоятельств, не дай зародиться сомнениям ни у Эвы, ни у твоих коллег, тем более у твоих учеников, у которых тоже возникнут вопросы.
Я уговаривал себя всю дорогу и подошел уже к самому дому. Но внезапно мое смятение улеглось, я успокоился, понял, что не годится так распускаться. С подобными мыслями я ни себе, ни другим не смогу смотреть в глаза.
Мне хотелось, чтобы у нас в памяти остался четкий образ Манфреда Юста, и воспоминания о нем, наверняка весьма противоречивые, не должны омрачаться фальшью. Версией, хоть и удобной, я довольствоваться не имею права.
Значит, верно то чувство, которое час назад пробудилось у меня, когда я сидел в кресле напротив Карла Штребелова?
Я усомнился в его версии. Речь идет не о частностях, речь идет о принципиальном вопросе — что есть жизнь и как относится к ней человек. Наша позиция, наши взгляды — вот что мы обсуждали, и не вообще, не теоретически, а вполне конкретно, в связи со смертью Юста.
Самое дорогое у человека — это жизнь…
Эти слова были программными, они выражали нашу точку зрения. Их мы понимали… Кто это — мы?
Мне нужно разузнать до тонкости, как могло случиться, что наш Манфред Юст добровольно лишил себя жизни. Я не стану уточнять обстоятельства дела, будто я прокурор, в этом плане все было сделано, что сделать надлежало. Самоубийство однозначно не доказано, но и вторая версия тоже.
Таковы были обстоятельства.
К другим вопросам, однако, было нелегко подступиться, они ускользали от конкретных определений. Эти вопросы были тысячекратно связаны с нашей моралью, нашими идеалами, нашей работой, нашей любовью и нашей ненавистью. Нашими возможностями и нашими пределами.
Войдя в гостиную, я застал Эву на коленях у чемодана, который она распаковывала. Она тут же подняла на меня глаза, ее загорелое лицо показалось мне бледным. Возможно, в том виноват был свет, она ведь включила люстру.
— Так что с Манфредом?
— Юст покончил с собой.
Но я же не хотел ошарашивать Эву! Скрывать не хотел, но и ошарашивать не хотел.
Эва поднялась, глянула на меня пристально и сказала нечто меня поразившее:
— Я подозревала это. Поверь мне, еще в Гагре я об этом подумала, сразу, когда ты передал мне газету. Подозрение не оставляло меня и позже. Я пыталась подавить его, хотела взглянуть на дело трезво. И вот — все оказалось именно так.
Она села в кресло, закрыла лицо руками.
Я же, поглядев на нее, подумал: опять ты витал где-то и ничего не заподозрил. Ни малейшей мысли о том не мелькнуло у тебя в голове. А вот Эва заподозрила.
Теперь я наконец достал водку, которая нужна была мне еще у Штребелова, бутылка «Московской» лежала в чемодане. Откупоривая ее, я обломал ногти, так дрожали у меня пальцы.
— Откуда у тебя это подозрение? — спросил я.
— Знаешь, я тоже выпью рюмку, Герберт, — сказала Эва, поправляя волосы.
Ни намека на слезы. Их-то я ждал. Но их в эту минуту не было. Возможно, они уже были. В Гагре, когда она лежала рядом со мной. Возможно, я уже спал, а она лежала рядом и оплакивала Манфреда Юста. Ее горе вдруг показалось мне обидным. Почему она так горюет? Я — да, у меня есть право на Юста. Нас с Юстом тесно связывали пусть даже весьма противоречивые, но дружеские отношения. Но Эва? Между ними ничего не было. Она это не раз подчеркивала. А если тем не менее что-то было?
Я достал две рюмки и наполнил их до краев. Эва не возражала. Обычно она против того, чтобы я наполнял рюмку до краев. Дурная, мол, привычка. Верно, дурная, она вела свое начало от тех времен, когда нужно было, если уж выпадал случай выпить, побыстрей наполнить рюмку, чтобы не остаться с носом.
Правда, тогда мы глотали какую-нибудь дешевую сивуху, а не чистую, отменную «Московскую».
Я уселся в другом кресле и единым духом осушил рюмку. Эва пила медленно.
— Откуда у тебя это подозрение? — переспросил я раздраженно. — Ведь никаких оснований для него не было. Никаких, понимаешь? У меня никаких.
Я еще раз наполнил свою рюмку. Приятного тепла в желудке я уже не ощущал. А мне хотелось ощутить его любой ценой. Эва отодвинула рюмку.
— Не знаю, почему я заподозрила это. Право же, не знаю. Основания? Нет, их у меня не было. Но подозрение было.
— Все вздор, — резко сказал я. — Если у тебя не было оснований, откуда же явилось подозрение? Может, сова прокричала в Гагре? Так наша комната выходила на море. Даже чайки у нас не показывались. Разве что кузнечики. Но они не предвещают смерть, как известно мне еще от бабушки. Это должна сова прокричать.
Эва испытующе глянула на меня, опустилась опять к чемодану на ковер и стала вынимать мои чистые рубашки. В Гагре она часто стирала, на балконе вещи очень хорошо сохли.
— Какую рубашку ты наденешь завтра? Вот эта подойдет к серому костюму. Ты ведь его наденешь завтра?
— Я завтра, пожалуй, надену кожаную куртку. Хоть какое-то разнообразие. И желтую рубашку, ярко-желтую. И повяжу на шею платок. У тебя ведь есть красный шелковый платочек. Чтобы развевался по ветру.
Эва поднялась, подошла к шкафу и положила стопку рубашек на мою полку. У нее опять появилась волнующая, медленно покачивающаяся походка. Да, этой походкой и молчанием в определенных ситуациях она сводила меня с ума. Когда она вернулась, я увидел, что она плачет.
Поднявшись, я с трудом проговорил:
— Извини.
Я вышел из комнаты, побрел в мой крошечный кабинет и, подойдя к окну, стал глядеть на автостраду, где фары время от времени выхватывали из темноты то одно дерево, то другое.
Мне опять вспомнилась вечеринка в начале лета. Наш садовый участок у самого леса. Сосна и березняк. Из сосновых досок я смастерил маленький домишко. Изнутри тоже отделал его деревом. Люблю чистый пряный запах сухих досок.
Возня с домом долгие годы поглощала все часы моего досуга, теперь он стал предметом моей гордости, а иной раз моим прибежищем.
Эвина вечеринка пришлась на теплый, сухой июньский вечер. У жаровни, которую я тоже сам смастерил, рядом с Эвой стоял Юст в моем кожаном переднике и, конечно же, в яркой рубашке. Помогая Эве, он шутил и смеялся. Вдобавок он был и виночерпием при Эве: разливал крюшон, который всем пришелся по вкусу, так что крюшонница в два счета опустела. Юст тут же объявил, что ставит две бутылки шампанского, за что и получил от Эвы поцелуй. И кто-то сходил за шампанским в кафе «Сан-Суси».
Стоя в своем темном кабинете, я вызывал в памяти картины того летнего праздника, последнего, в котором Юст принимал участие. У полыхающего огня — капли жира иной раз вспыхивали искорками — стояли Эва и Манфред Юст. Казалось, они здесь хозяева праздника. Я сидел довольно далеко, у стола, который тоже сам соорудил, на пне-табурете, по временам поглядывая на эту пару, оказавшуюся в центре внимания всех гостей. Но только по временам. До меня доносился смех Эвы, вызванный, верно, остроумным, ироническим замечанием Юста, каких у него изрядный запас. Я же беседовал с главным редактором издательства, в котором работала Эва. Его заинтересовали мои познания в деревянных постройках, он получил в наследство земельный участок и, конечно же, хотел, чтобы домик хорошо смотрелся. Мы заговорили о деревянном зодчестве, родиной которого был север России. Редактор бывал там, с восхищением вспоминал дома и церкви, возведенные русскими плотниками без единого гвоздя и вообще без металлических частей. Каждая постройка была искусно сооружена с помощью насечек, чек и втулок. Я решил тоже как-нибудь съездить туда, посмотреть эти дома. Беседуя, мы попивали крюшон, ели шашлык и жареные сосиски, и каждый раз, когда я смотрел в сторону жаровни, видел неизменную картину — Эва и Юст в центре внимания, они смеялись, чокались друг с другом и с окружающими, пили и танцевали под магнитофон.
Усилием воли я заставил себя отогнать эту картину. То, что я воскресил в памяти, ровно ничего тогда не значило. Но может, мое великодушие было наигранным?
Я включил свет. На письменном столе, сложенные аккуратно в стопку, лежали газеты за последнюю неделю — работа нашего старшего, Александра, приверженца строжайшего порядка. Это у него от матери. Он и в двенадцать лет не утратил любви к порядку, не мешали порядку и разнообразные интересы Александра, что доказывала его комната — марки, спичечные коробки со всего мира, коллекция насекомых, самые разные фотографии. Никогда в его комнате не было беспорядка. А вот Марлис, она всего на год моложе Александра, — его полная противоположность. Она возвела беспорядок в принцип, однако с ходу отыскивала все, что нужно, обезоруживая свою аккуратистку-мать.
Я брал из стопки одну газету за другой, перелистывал, так сказать, время назад, пока не наткнулся на номер, который купил на вокзале в Гагре и развернул на столике у моря, когда Эва стояла в очереди за кофе. Я перечитал извещение в газете. Размноженное в тысячах экземпляров, оно вышло за границы нашей страны. Быть может, не одна сотня человек прочла это извещение, а те, кто знаком был с Манфредом Юстом, прочли его особенно внимательно.
Я снова сложил газеты в стопку, стараясь сохранить на столе прежний порядок, я понимал, что Александру захочется самому передать мне дело своих рук, что-то, может быть, пояснив, и в этом, вплоть до оборотов речи, он удивительно походил на мать.
Пришли домой дети, что дало мне желаемый повод выйти из кабинета. Радость встречи, подарки, которые дети тут же разворачивали, сумятица, когда все, перебивая друг друга, спрашивают и отвечают одновременно, помогли мне восстановить в какой-то мере свое душевное равновесие. Пока мы отсутствовали, все шло у ребят своим чередом. Бабушка о них заботилась, но, по словам Александра, это и не нужно было, они и одни справились бы и с уборкой квартиры, и вообще со всем.
За ужином мы болтали, шутили, вечер получился таким, какие я любил, в каких испытывал потребность. Ничего не напоминало сейчас о том, что в этой комнате за каких-нибудь полчаса-час до того между мной и Эвой что-то разыгралось, мы не прояснили это «что-то» и, видимо, никогда не сумеем прояснить. Да и как? Все было зыбко, неясно, об этом тяжело говорить. А заговоришь — только накличешь беду, и потом не распутать путаницу.
Возможно, поэтому мы и растянули ужин сверх обычного, выслушивали рассказы детей, отвечали на их вопросы, и я обстоятельно расписал им нашу жизнь на Кавказе, а поездку на озеро Рица — во всех подробностях. Так разговорился, как со мной еще не бывало. Меня подхлестывали пытливые вопросы Александра, и я еще раз проехал по дороге к горному озеру и по сумрачным ущельям, стены которых, казалось, смыкаются где-то в поднебесье над нашими головами. С энтузиазмом рассказал я ребятам и об обезьянах в Сухуми, показал брошюры, фотографии. И вдруг заметил, что Эва не принимает участия в разговоре, иной раз улыбается слабо, но, видимо, мысли ее витают где-то далеко.
В этот вечер мы, как никогда, поздно засиделись с детьми: у них завтра последний день каникул, и у Эвы еще день отпуска. Только мне не давалось передышки.
Но вот наконец в нашей комнате воцарилась тишина. Наш первый вечер дома. Я поставил на стол початую бутылку водки и две рюмки.
— Видишь, все прошло отлично, — сказал я, — они у нас совсем самостоятельные.
— Хорошо, что мы всегда об этом заботились, — ответила Эва.
— Да, твоя заслуга.
— Пришлось волей-неволей.
Я поднял рюмку.
— За наше счастливое возвращение. И за предстоящую работу. За наших детей. За нас.
Эва залпом осушила рюмку. Она сидела в тени, мне кажется даже, она нарочно отодвинула кресло подальше, чтобы оказаться в тени.
— Наш последний разговор, — сказал я, — мы его забудем, да?
Эва промолчала. Я хотел еще раз наполнить ее рюмку, но она прикрыла ее рукой.
— Спасибо, Герберт, не хочу.
Я выпил водки. Перелет, ошеломительная правда о смерти Юста, открытая мне Карлом Штребеловом, и «Московская» — все давало себя знать. Равновесие, с таким трудом мною достигнутое, было под угрозой.
И тут заговорила Эва. Я сейчас изложу сказанное ею — довольно стройно, но тогда все звучало иначе. Она говорила порой тихо-тихо, запиналась, искала подходящие слова, искала более точные выражения. А я сидел в кресле, не прерывал ее и даже тогда не заговаривал, когда она на минуту-другую умолкала.
— Все, что между нами было, — начала Эва, — не вычеркнуть так просто из памяти. Да и непорядочно это. Ты обидел меня своей ревностью. Известие, что Юст покончил жизнь самоубийством, потрясло меня. Мне же это не безразлично. Да, он произвел на меня впечатление. Но ведь и на тебя тоже. Да, в самом начале, когда мы познакомились, он приударял за мной. А я восприняла это не без удовольствия. Ты такие вещи не признаешь, Герберт, смотришь на это однобоко. Женщине доставляет удовольствие, когда она нравится мужчине. А больше ничего и не было, ты знаешь. Мы с Манфредом были слишком мало знакомы. Наши встречи с ним и разговоры можно по пальцам сосчитать. И все-таки мне никогда не представлялся верным тот его образ, который ты рисовал, хотя ты знал Манфреда уже два года и вы даже подружились.
Да, он взбудоражил вас своим характером, даже своей одеждой, но главное — своим педагогическим талантом. У него есть блеск и свежесть, говорил ты, уверенность в победе и беспечность, право на которую признается только за очень молодыми людьми. Но отчего же только за молодыми, Герберт? Юст озадачивал, нравился, притягивал, отталкивал, ставил проблемы и вызывал конфликты. Сам он, насмешливый, ироничный, казалось, всего этого не замечал. Посмеиваясь, шел своей дорогой, беспечный, экстравагантный. Посмеиваясь? Ты рассказал мне о парнишке, что напился на экскурсии. Ты тогда еще не определил для себя, правильно ли повел себя учитель Юст. А уж мне и вовсе незачем было разбирать и расценивать педагогическую сторону вопроса. Я сочла, что Юст повел себя просто по-человечески. Живой педагогике без этого не обойтись, считаю я. Многое еще нравилось мне в Юсте, но из-за твоих зачастую противоречивых рассказов о нем он оставался для меня загадкой. Видишь, я действительно заинтересовалась Юстом, но это был интерес к необычному человеку. Его экстравагантность все больше и больше казалась мне маской, за которой он скрывает истинное лицо. Иной раз я задумывалась, не циник ли он. А ты знаешь, я терпеть не могу циников. Они не способны на человеческие чувства, не испытывают ни радости, ни печали. Но вполне может быть, что у меня слишком упрощенный взгляд на это, может, такое поведение и нельзя назвать циничным. У Юста — это я очень скоро подметила — подчеркнутая бесцеремонность, пренебрежение к чувствам были просто-напросто защитной реакцией. Он не желал ничто и никого подпускать к себе.
Как-то раз я встретила Юста в Берлине, на Унтер-ден-Линден, неподалеку от советского посольства, в мае. Стоя на бульваре, что посреди улицы, как всегда, кричаще одетый, смахивающий на туриста, он задумчиво разглядывал Бранденбургские ворота. Я заговорила с ним, подшутила над его мечтательным видом. Он рассмеялся, взял меня под руку и сказал: «Вот хорошо, что вы пришли. А то я бы еще час тут простоял. Выпьем кофе?» Вообще говоря, я торопилась, но в конце концов любопытство пересилило. Поведение Юста пробудило у меня психологический интерес. С чего это учитель стоит средь бела дня на Унтер-ден-Линден и разглядывает Бранденбургские ворота? Что же, мы выпили кофе и по рюмке коньяку, у Юста было прекрасное, как всегда, настроение, он наговорил мне кучу любезностей, но при этом хитро подмигивал, чуть-чуть насмешливо — не смотри на меня так мрачно, Герберт, дело было уже во времена Анны Маршалл. А потом я его спросила, отчего он так внимательно разглядывает Бранденбургские ворота, ведь он берлинец, и это сооружение ему наверняка хорошо известно. Как ни странно, но он смутился, видимо затрудняясь ответить на мой вопрос.
«Видите ли, — сказал он, — я готовлюсь к уроку. Знаю, это накладно — так расходовать время. Понимаете, Бранденбургские ворота… Что только не связано в истории нашего времени с этим сооружением. Мне вам объяснять не нужно. Конечно, историю ворот я хорошо знаю во всех подробностях, как и положено учителю истории. Но я, и, пожалуйста, не смейтесь, нуждаюсь иной раз в чувственном впечатлении, мне необходимо такое вот созерцание, за которым вы меня поймали. Мне это нужно, чтобы передать затем мои ощущения ученикам. Как учитель истории, я всегда имею наготове факты и знания. Да, их мне не занимать, как, впрочем, и большинству моих коллег, они все хорошие учителя. Но вот другое, что тоже очень важно, — эмоциональная сторона истории, наглядность, перенесение истории в нынешний день — передать куда труднее. Оттого-то мне время от времени нужно получать зрительное впечатление, а для этого в свою очередь нужны досуг и время. Вот какое дело. Как официальный — этот метод уязвим с точки зрения, к примеру, глубокоуважаемого коллеги Штребелова».
Меня его рассуждения удивили и заинтересовали, я охотно послушала бы его, но Юст явно не хотел больше распространяться на эту тему. Он стал расспрашивать меня о моей работе, показал неплохое знание новейшей литературы, хотя суждения его были довольно странными, они резко противоречили его взглядам на другие вопросы, отличающимся широтой и терпимостью. Так, например, он начисто отвергал некоторые эксперименты наших молодых литераторов, которые я считаю важными и нужными. Он считал, что книги их сверхусложнены, а так называемые проблемы формы, возникновение которых наши молодые писатели объясняют изменившимися условиями действительности, не скрывают ничего, кроме пустоты мысли и беспредметности их произведений. По его мнению, и тут Юст не склонен был уступать, литература в нашей стране должна быть доступна значительному большинству. Самоудовлетворение при помощи литературы он отвергал. Я перебила его, мы крепко поспорили. Я же, Герберт, ты знаешь, вовсе не восхищаюсь слепо литературным направлением, которого придерживается сейчас кое-кто из молодых, я вообще против всяких «направлений», но на сей раз я выступила их защитником. А Юст — вот уж никогда бы не подумала, что он так недифференцированно подходит к литературе, — защищал крайне упрощенные, схематические взгляды на литературу и ее воздействие. В конце концов, посмотрев на него, я подумала: неужто он и впрямь так считает? И он посмотрел на меня и, может, то же самое подумал. Но вскоре он оборвал разговор, заказал еще кофе, отметил, что злость и волнение мне очень даже полезны, это видно по цвету лица и горящим глазам, и стал болтать обо всем на свете. Мне же трудно было так быстро перестроиться, и я отвечала односложно.
Выйдя из кафе, мы попрощались. Я отправилась в издательство, Юст исчез за углом соседней улицы. Должна признать, он оставил меня в замешательстве. Что все это значило? Что он говорил серьезно, а что — в шутку? Или у него все в равной мере — и в шутку, и всерьез? Как же относится он к жизни?
А теперь такой финал. Тут концы с концами не сходятся. А может, все-таки сходятся? Только мы в этом не разобрались?
Не сердись, Герберт, я заговорилась. Но мне хочется, чтобы между нами не оставалось никаких неясностей.
Эва смотрела куда-то мимо меня, из темноты она опять выдвинулась в светлый круг лампы.
Я окинул ее взглядом и вновь, в который раз, убедился, что она — красивая женщина. Неприязнь моя исчезла, уступила место чувству горечи и печали. Да разве мне когда-нибудь в последние годы и вообще когда-нибудь приходило в голову поговорить с Эвой так заинтересованно о ее работе, как сделал это Юст в маленьком кафе на Унтер-ден-Линден? Я с уважением относился к ее работе, но без должного понимания. Литературные направления, прекрасно, они, конечно, есть, но меня они никогда не интересовали. Я, думается мне, нормальный читатель, который судит о книге только так: нравится или не нравится. Ничего не скажешь, удобная, если не сказать ограниченная, позиция человека, жена которого занимается литературой. Должен в придачу признаться, что Эва активно интересуется моей работой в школе и всеми связанными с педагогикой проблемами. Мое самодовольное тому объяснение: у нас дети. Они же ходят в школу, а какая мать не проявит к этому интерес?
Юст все-таки больше значил для моей жены, чем она полагает. В минуты раздумья, в тиши нашей комнаты, глядя на ее бледное красивое лицо, я в этом не сомневался. Встреча с Юстом — пусть она этого не признает, да и не нужно, ей не в чем себя упрекнуть — была для нее чревата опасностью. Я мог бы сказать, что теперь, когда Манфред Юст ушел из жизни, опасность миновала. Мысль такая мелькнула у меня, но я, устыдившись, тотчас прогнал ее. Это же самообман. Угрозы нашему браку, которая могла исходить от Юста, более не существовало. Но взгляды его не ушли вместе с ним, сила его воздействия не исчезла.
— Почему ты молчишь, Герберт? — спросила Эва.
В первую минуту я собирался сказать все откровенно, выложить все, что думал, все-все собирался я сказать. Но не произнес ни слова — не хватило мужества, к тому же я опасался, что перевру или коряво передам свои мысли. А мысли мои не лишены были горечи. Поможет ли нам это? Вернее говоря, поможет ли это мне? Мне хотелось спокойно поразмыслить о нашем браке с Эвой, хотелось отвратить потенциальные опасности. В конце-то концов, мне нужно благодарить мертвого Юста, он помог мне очнуться от толстокожего самодовольства.
И потому я сказал:
— Кое-что в смерти Юста не прояснено. Да и как это прояснить? Он умер, не оставив никакого письма, говорит Штребелов. Как нам поступить? Сохранить о нем добрую память?
— А как же еще? Конечно, сохранить о нем добрую память, — подчеркнула Эва.
Было поздно, день выдался напряженный.
Когда Эва уже лежала, я еще раз обошел нашу квартиру. Заглянул сначала в комнату детей, включил свет — хотел увидеть их лица, ведь нашу встречу, хоть я и болтал без умолку, омрачала смерть Юста. Дети, как всегда, спокойно спали.
Затем зашел в свой кабинетик, осмотрел книги и брошюры, хотел успокоить нервы, обрести душевное равновесие в привычной обстановке.
Это мне не удалось. Юст разным образом оказывал влияние на мою жизнь, жизнь уже почти пятидесятилетнего человека. И этому влиянию — в чем я был теперь уверен — конца не будет.
Нет, я еще не вырвался из сферы воздействия Юста, мне еще предстояло занять определенную позицию в этой истории. Нужно подготовиться, чтобы взглянуть в глаза фактам, возможно не слишком мне приятным. Юст еще участвует в наших делах, и даже больше, чем когда-либо в последние два года.
Наконец меня сломила усталость. Едва я лег в постель, как мгновенно заснул и не видел никаких мучительных снов.
На следующее утро школа встретила меня хлопотами, полной неясных надежд суетой, свойственной началу учебного года, нервозным настроением премьеры, которое даже многолетняя рутина не в состоянии заглушить. Ну и слава богу. Со мной здоровались, трясли руку, коллеги завидовали моему черноморскому загару, сравнивали расписания, наводили, разумеется, на то и на се критику, хотя директор составил их с обычным хитроумием. А проверив на прочность новые стулья в учительской, разумеется, нашли, что они какие-то хлипкие.
Прекрасно чувствуя себя среди этой суеты, я отметил, что о Манфреде Юсте никто не сказал ни слова, что его отсутствие не создало чрезвычайного настроения, что в школьных буднях даже для трагического события находится надлежащее место и оно не оказывает на нас никакого особенного влияния. Признаюсь, я вздохнул с облегчением, этого я никак не ожидал.
Да, время сделало свое дело. Для меня событие это обладало еще новизной, все происшедшее словно сосредоточилось на двух-трех днях. А для моих коллег оно уже было отдалено прошедшим месяцем, и даже те, кто услышал об этом позднее, все-таки знали о событии уже более десяти дней.
Я подошел к окну и глянул вниз, на пустой и тихий двор. Завтра он будет выглядеть привычно, им завладеет живой, иной раз, пожалуй, чересчур живой народец — школьники.
Погода сегодня стояла прекрасная, над школьным двором раскинулось ясное небо, хоть чуть-чуть, но уже отличавшееся но цвету от летнего.
А два года назад шел дождь, было довольно холодно и Манфред Юст в тонкой замшевой куртке мерз на резком ветру.
Я пошел к столу. Педагоги заняли свои места за столом. Место напротив меня, почти два года принадлежавшее Манфреду Юсту, было занято и сегодня. Молоденькая учительница, которую я еще не знал, положила перед собой блокнот. Хорошенькая, она казалась застенчивой, Манфред Юст, без сомнения, порадовался бы, глядя на нее.
Штребелов уже сидел за столом, он кивнул мне, привел в порядок свои бумаги, казался спокойным, уверенным в себе, собранным.
А перед самым началом совещания пришла и Анна Маршалл. О встрече с ней я думал с тягостным чувством, даже с каким-то страхом. Надеялся — может, она больна, ведь смерть Юста должна тяжело на ней отразиться, в этом не было сомнения.
Однако движения ее были, как всегда, быстрыми, целенаправленными, она выглядела слегка взволнованной, но владела собой.
На какой-то миг я замер, не знал, как мне поступить. Встать и подойти к ней? Но она сама уже шла ко мне. Поднимаясь, я едва не перевернул новый стул, да, они явно слишком легкие.
— Привет, ты хорошо выглядишь, — сказала Анна Маршалл, подавая мне руку.
— Но что здесь стряслось… — пробормотал я.
— Не будем об этом, Герберт. Смысла нет.
И она так взглянула на меня, словно мне следовало тотчас опровергнуть ее. Мне надо было сказать: нет, смысл есть. Смысл должен быть, слышишь, даже если он сейчас скрыт от нас. Да, я бы охотно сказал ей это. Но что я знал? Если уж она не знает? Кто же еще мог мне все разъяснить?
Значит, и она не может.
Наверное, она что-то другое имела в виду, сказала просто так, поскольку здесь не место и не время было говорить о Юсте.
— Как перенесла Эва путешествие? — спросила она.
— Хорошо, очень хорошо, — ответил я.
— Спасибо за открытку. Мне тоже надо бы туда съездить.
— Это же очень просто, — подхватил я, — нужно только вовремя позаботиться. В Пицунде очень красиво.
Штребелов постучал по столу своим «шариком». Заседание начиналось. Анна Маршалл вернулась к своему стулу.
Совещание Штребелов открыл как обычно.
Вначале обсудили расписание. В нынешнем году мне не пришлось принимать участие в этой кропотливой и сложной работе — впрочем, впервые за долгие годы. Тем вернее мог я оценить опытность Штребелова. Он блестяще справился со своей задачей, увязав самые разные интересы и нужды. В соответствии с этим проходило и обсуждение, если вообще можно назвать это обсуждением, просто выступавшие предлагали отдельные дополнения и поправки. По лицу Карла Штребелова было видно, что он вполне удовлетворен, ему опять удалось составить безукоризненное расписание. Карлу доставляло истинное удовольствие решать организационные вопросы. Кроме него, я не знал ни одного человека, кто хотел бы составлять расписание, да и я, признаться, тоже. Да, в нашей школе учителям оставалось выполнять лишь подсобную работу, Штребелов никому не доверял главного.
Вынужденный бездействовать, я отчетливее замечал многое и обратил внимание на то, что большая часть вопросов, обсуждаемых сегодня, непосредственно перед началом учебного года, были организационные. Питание детей в школе, распорядок на переменах, уборка помещения, общественная работа, отчеты, сроки сдачи планов на следующее полугодие, главные проблемы общественной жизни школы.
Организационные вопросы Карл Штребелов ставил во главу угла и не жалел сил, доказывая, что мы ответственны за них. Не признавал он также никаких уверток, никаких обтекаемых отговорок, каждый знал, что он должен делать и в какие сроки. Все можно было рассчитать, все можно было проконтролировать по-деловому и без лишней болтовни.
Любимой поговоркой Штребелова было: «Если дано направление, все решает организация». В этом сомневаться не приходилось. Безусловная надежность во всех отношениях — вот сильная сторона нашей школы, именно в надежности был залог наших успехов и секрет нашего доброго имени. И все же, пока я следил за ходом совещания, мне пришло в голову, что направление нашей работы, которое, по Карлу Штребелову, само собой разумелось, следовало подвергнуть сомнению. Все выходило слишком просто, без внимания остались многие факторы нашей противоречивой жизни.
Юная выпускница института, ничего не подозревая, заняла место, на котором совсем еще недавно сидел Манфред Юст. В определенных ситуациях, припомнилось мне, я усвоил себе привычку поглядывать на Юста. И сразу замечал, когда он готовил возражения. Я видел это по мимике его лица, по скептическому взгляду, брошенному на Штребелова, и вопросительному — на меня.
Штребелов, ожидавший возражений Юста, досадливо предлагал ему высказаться.
— Ну что же, слово имеет коллега Юст.
Это стало привычной формулой, которой Штребелов подчеркивал свое отношение к Юсту.
Но тот не давал сбить себя с толку и, улыбнувшись иронически, невозмутимо высказывал свое мнение.
Никогда уже не бывать этому, никогда не придется Штребелову использовать свою формулу, никогда уже Юст не блеснет острым словцом, никогда не выскажет свои замечания, предложения, пусть даже не до конца продуманные, иной раз даже фантастические, но всегда благотворно действующие на нас, воодушевляющие всех нас, кто собрался в учительской.
Выпускница добросовестно записывала все, что изрекал директор. У нее, наверное, аккуратный почерк, подумал я, и пишет она очень мелко, приучившись к этому еще в институте.
Совещание, стало быть, проходило по плану и, должен признать, действовало на меня успокаивающе. Жизнь продолжается, работа вновь целиком нас захватила, привычка — великая сила. Ничто не может быть эффективней порядка в жизни и работе, он нас поддерживает, позволяет нам справляться с тягостными ситуациями.
Штребелов перешел к политическим вопросам, имеющим в настоящее время для нашей педагогической работы принципиальное значение.
Все, что он говорил, было верно, все очень точно, логично и продуманно, создавалось, как обычно, впечатление, что Штребелов взвесил каждую мелочь и что, собственно говоря, нам ни добавить нечего, ни спрашивать.
Но как раз на совещании перед началом нового учебного года, подумал я с чувством внутреннего протеста, такого рода логика и ясность лишают слушателей возможности мыслить.
Я то играл своей шариковой ручкой, едва не обломав зажим, то рисовал какие-то нелепые фигурки в блокноте. Выпускница аккуратно все записывала. А я вырвал листок, уничтожил свою мазню.
К чему приведет мое недовольство? Я, конечно, вправе взять слово, высказать свою досаду.
Может быть, я один воспринимаю все так болезненно? Может быть, я все еще в отпуске?
Что было возразить против строгого ведения рабочего совещания? Разве не я сам частенько выступал против бесплодной болтовни на собраниях?
И на этот раз по своему обыкновению Штребелов предложил присутствующим высказаться. Как я и ожидал, говорить никто не рвался, все ведь уже сказано, и каждый из нас стремился не затягивать без нужды совещание.
Так Штребелов подошел к последнему пункту, который, однако, не был указан в повестке дня.
— А теперь, коллеги, я хотел бы сказать два слова о смерти учителя Юста.
Штребелов объявил, что завтра в своей речи коснется трагического события, известного всем, — смерти коллеги Манфреда Юста. В последние дни, сказал он, мы много говорили об этом, за этим самым столом подробно все обсудили. Это обсуждение и его собственные раздумья дали ему основание следующим образом сформулировать соответствующий абзац.
Карл Штребелов поправил очки.
— Я скажу вот что: дорогие ребята, в дни летних каникул трагически скончался господин Юст. Мы все его высоко ценили. Сохраним же об учителе Юсте добрую память… Вот что я скажу. После чего мы почтим его память минутой молчания.
Штребелов снял очки, оглядел всех и продолжал:
— Хочу еще раз подчеркнуть, что именно так и следует отвечать на возможные вопросы учеников. У нас в этом деле должна существовать единая точка зрения.
Слова Штребелова меня не удивили, все это он сказал мне еще вчера вечером. Меня удивило молчание, царящее за столом, и еще больше удивило, что большинство учителей начали сразу убирать свои ручки и записи.
Все, значит, ясно? Я посмотрел в сторону Анны Маршалл. Она не отрывала глаз от пустого стола перед собой, избегала, видимо, моего взгляда. Значит, все ясно. Мне пришлось это принять как должное. Они уже обговорили все без меня. Штребелов вчера ничего мне не сказал, спокойно выслушал мои нападки. А я-то старался вовсю. Зачем?
Возможно, он хотел, чтобы и я продумал свое отношение к этому вопросу, как продумали они его здесь, за этим столом, продумали все, включая и Анну Маршалл, а продумав, пришли к убеждению, что о смерти Юста можно и должно говорить только так. В интересах школы, в интересах умершего.
Анна Маршалл тоже молчала. А я? Что мне было сказать? Меня все еще одолевали сомнения. И даже усилилось ощущение, что таким путем мы не продвинемся ни на шаг. Возможно, я все воспринимал слишком болезненно, не успел освоиться с данным фактом, у меня было какое-то тревожное чувство, что нам еще придется столкнуться с трудностями и простые, слишком простые объяснения не помогут нам их преодолеть.
Анна Маршалл, так и не взглянув на меня ни разу, сложила свои бумаги в портфель.
Может быть, я только внушил себе, будто Анна Маршалл упорно избегала моего взгляда, может быть, я только от волнения заподозрил это или хотел, чтобы мнение Анны о смерти Юста совпадало с моим?
Карл Штребелов, заканчивая совещание, напомнил, что завтра нас ждут наши обязанности, а сейчас он желает нам приятно провести последний день отпуска.
Он полагал, без сомнения, провести этот день где-нибудь на лоне природы. Под вечер Карла Штребелова можно будет наверняка застать в саду за работой.
А почему бы нет? Он заслужил эти часы, он сделал все от него зависящее, чтобы благополучно начать новый учебный год.
Уходить я не торопился и поэтому не столкнулся с Анной Маршалл. Зачем? Раз она не хочет. Вечером я собрался было зайти к Анне Маршалл. Она жила в районе новостроек, не очень далеко от нашей квартиры, как, впрочем, все недалеко в нашем маленьком городе, во все концы — не более получаса ходьбы. Но я оставил эту мысль, не хотел больше сегодня думать о деле Юста.
Я накачал шины велосипеда — единственное, чего не сделали ребята, — и мы всей семьей покатили через лес к озеру.
Мы с Эвой сидели на берегу, наслаждаясь тишиной последнего летнего дня на озере, дети играли неподалеку. И тут мы поняли, какая же родная нам — в противоположность югу с его сочными яркими красками — окружающая нас суровая и скромная природа. Родство с этой природой мы теперь ощутили куда глубже.
О Юсте мы не говорили.
И вечером тоже избегали этой темы.
На следующее утро на линейке я стоял против ребят десятого «Б», классным руководителем которого был Манфред Юст. Последний учебный год им предстоит пройти без него. Ребята держались необычно тихо, и это было вполне понятно. Видимо, они только сейчас по-настоящему осознали, что их учитель ушел из жизни.
Класс передали преподавателю физкультуры Тецлафу — человеку энергичному, деятельному. Наша школа обязана не одним спортивным дипломом его настойчивости, его организаторскому таланту и его фанатичной любви к спорту. Все дипломы можно было видеть на стенах наших коридоров.
Тецлаф стал преемником Манфреда Юста. Карл Штребелов в разговоре со мной обосновал это весьма логично:
— Коллега Тецлаф — самая подходящая кандидатура для десятого класса «Б». Он не сентиментален. О Юсте у него не так уж много воспоминаний. Ты ведь знаешь, ему не по душе был характер Юста. Они не поддерживали никаких отношений. Тецлаф гарантирует, что последний год ребята завершат благополучно. А это, в конце концов, главное.
Может быть, Карл прав. Но на линейке я увидел в первом ряду бледного Марка Хюбнера, и мне показалось, что он ничуть не отдохнул за каникулы. Возможно, о смерти обожаемого учителя — а именно так он относился к Юсту — он узнал только что, перед линейкой. Я вспомнил: Марк еще до начала каникул говорил о путешествии, которое они с отцом запланировали на август, — поездка на машине, с палаткой, в Польшу.
Марк не спускал глаз с директора, пока тот произносил речь.
Когда Штребелов дошел до того места, в котором объявлял о трагической смерти учителя, вся линейка замерла.
В минуту молчания многие не знали, как им держаться, кое-кто не снял шапок, другие поспешно сорвали их с головы.
Еще не было случая, чтобы в первый день учебного года на линейке чтили память умершего минутой молчания. Такого за многие годы моей работы в школе еще не бывало. Разумеется, пожилые учителя, наши бывшие коллеги, умирали. Но это не очень нас затрагивало, было, в общем-то, явлением естественным.
Анну Маршалл я на линейке не видел, она стояла со своим классом с моей стороны, и мне пришлось бы повернуться, чтобы увидеть ее.
Штребелов прочел слова о смерти Юста четко и спокойно, он заранее рассчитал все интонации. Такая уж была у него манера завершать какой-либо вопрос. А выражение «трагически скончался» соответствовало фактам. Да, это была правда. И я начал понемногу примиряться с тем, что случилось, соглашаясь с аргументом, что жизнь продолжается, что жизнь предъявляет свои права.
Но все же втайне, в глубине моего сознания, у меня зарождался вопрос: разве не вправе, разве не обязаны мы, живущие, задуматься над необычной смертью одного человека, чтобы по возможности предотвратить подобный уход способных людей из нашего сообщества? С такой трагедией нам негоже смиряться. Мы обязаны тщательно разобраться в том, какие причины привели к этому, и задать себе, пусть даже мучительные, вопросы.
На линейке в то сентябрьское утро я, правда, не стал развивать свою мысль, ее вытеснили другие мысли, вызванные речью Штребелова. А говорил он о конкретных задачах школы в наступающем году.
Вот это жизнь, настоящая жизнь, думал я. Она требует от нас напряженных усилий и работы.
В рядах школьников опять началось движение. Они то ставили свои портфели на землю, то брали их в руки, украдкой подталкивали друг друга, подшучивали друг над другом.
Исключение составлял десятый класс «Б». Марк Хюбнер, оцепенение которого пугало, так и не изменил своей позы.
Я кинул взгляд в другую сторону, на тополя. Всего год назад посаженные, они на удивление разрослись. От легкого ветра шелестела их листва. Этой отрадной картине мы обязаны были Юсту. Какой же нынче прекрасный день — совсем-совсем другой, чем два года назад. Сегодня Манфред Юст в яркой рубашке и легкой замшевой куртке не обратил бы на себя внимания. И уж наверняка он бы не замерз.
Линейка кончилась, но я оставался на дворе, пока последний ученик не исчез в здании, — старый обычай, действующий успокоительно на наш школьный народ, вернувшийся после каникулярных месяцев.
Ко мне подошел Карл Штребелов, держа, словно щит, перед собой папку, в которой лежала его речь. Этим утром мы еще не виделись — я пришел в последнюю минуту — и потому только сейчас поздоровались.
— Немножко резковатый переход, а? — сказал Карл. — Из отпуска — сразу в нашу суматоху.
Он поглядел на меня испытующе и, как мне показалось, чуть озабоченно. Конечно же, он заметил, что я сегодня явился так поздно. Как он это расценивает, я мог лишь догадываться.
— Прямое попадание, — ответил я, пытаясь держаться непринужденно. — Всего три дня назад я купался в Черном море, в теплой летней воде, и где-то вдалеке сверкали снежные вершины. Слишком резкий переход. А ведь мы не самые здоровые. Да, Карл, мы не молодеем.
Карл поморщился. Подобные разговоры о нашем физическом состоянии он не жаловал. Совсем иных придерживался он взглядов в этом вопросе. Пытался доказать, что именно в нашем возрасте можно быть в добром здравии, если наладить должным образом свою жизнь.
Видимо, он всегда чувствовал, что я, довольствуясь малым, хочу лишь покоя в работе. А покой и вовсе ему не по нутру. Но на этот раз я был рад, что сумел его отвлечь. Надо было отвлечь его, чтобы он не спросил меня прямо: почему сегодня утром я не сидел у него в кабинете уже в половине седьмого, как повелось за долгие годы.
Пришлось бы мне, не захоти я лгать, ответить: Карл, у меня пропала охота спорить с тобой. Я выбился из сил, не хочу больше говорить о смерти Юста, мы ведь придерживаемся на этот счет противоположных мнений.
Я решил еще раз сослаться на возраст и сказал:
— Э, Карл, сам бы попробовал. Махни-ка на Кавказ, а потом раз — и обратно. Тогда поймешь. Нам с тобой незачем друг перед другом притворяться.
— Мне думается, то, что я сказал о Юсте, произвело должное впечатление, — заговорил Карл Штребелов.
Ну вот, мы все-таки вернулись к этому делу.
— А ты видел десятый «Б»? — спросил я. — Ребята потрясены больше других. На нашей памяти такой трагической смерти еще не бывало.
— Верно, не бывало.
Мы с ним стояли на огромном школьном дворе, два товарища по работе, люди уже не первой молодости. А видел я себя мальчишкой, который поругался с приятелем и ни за какие коврижки не хочет признать, что готов мириться. Это ощущение вызвал у меня, надо полагать, облик Карла — костюм немодный, но на вид как новенький, папка, прижатая к груди, и напряженное лицо. Меня захлестнуло доброе, сердечное чувство к Карлу.
Какие чувства испытывал в эту минуту Карл, я не знаю. Возможно, не подозревал даже, что бурлило во мне, считал, верно, что это резкая смена климата подействовала на меня. Был озабочен моим состоянием, но испытывал удовлетворение, что он благодаря своему размеренному, дисциплинированному образу жизни здоров и не подвержен подобным напастям. Я же был убежден, что он сам себя обманывает, просто его железная воля, умение желаемое принимать за действительное порождали видимость крепкого здоровья. Знаю это по себе. Еще два-три года назад я так же был уверен в себе и так же фанатично увлекался спортом, перенапрягая свои силы. Результаты были плачевны, я свалился. Позже я нашел подходящую для себя степень нагрузки. Не слишком много, не слишком мало, спорт должен быть не насилием, а, скорее, приятной привычкой.
Со здоровьем у Карла дело обстояло не лучшим образом. Его жена как-то разговорилась со мной по душам. Он себя убивает, сказала она, заставляет себя испытывать непомерные физические нагрузки. Хочет держаться на высоте, быть всем примером. А этого от него никто не требует. Он себя убивает.
Она просила поговорить с ним, бережно, осторожно. Напрасная попытка. Я встретил решительный отпор, он даже накричал на меня.
Ах, Карл Штребелов! Вот ты прижимаешь папку со своей речью к груди. Не болит ли у тебя сердце? Не обошлись ли тебе последние дни слишком дорого? Все обходится тебе дорого. А ты не желаешь этого признавать, упрямая ты голова.
Уже у двери своего кабинета он сказал:
— Побереги себя, Герберт. Не перенапрягайся в первые же дни, слышишь? — Он погрозил мне пальцем и через силу улыбнулся. — Больше работай в саду. Поверь, пробежка по лесу тебе тоже будет полезна. Но только хорошая, с нагрузкой.
Дверь за ним закрылась.
А я подумал: я-то занимаюсь бегом. Правда, не допускаю перегрузки, как ты. Я получаю удовольствие. Иной раз, когда чувствую, что устал, переключаюсь на ходьбу. Для тебя же все — обязанность. Все. Пробежка по лесу, школа, семья. Туго тебе приходится. Но самое скверное, что ты этого не замечаешь или не хочешь замечать. А еще хуже, что свои взгляды ты навязываешь другим. Разве понять тебе такого человека, как Манфред Юст? Знаешь, Карл, если говорить о существе дела, он не хуже тебя сознавал, что такое долг. Но сознание долга не исключало у него удовольствия от исполнения долга. Этому нужно учиться, Карл. Мне тоже пришлось этому учиться — у Эвы в первые годы нашей жизни, — и, признаюсь, порой мне было чертовски трудно. У Манфреда Юста я тоже учился. Жадно поглядывая, как он это делает, как превращает обязанность в удовольствие.
Медленно проходил я по зданию школы, у меня первый урок первого школьного дня был по обыкновению свободен. Может, Карл Штребелов сознательно так составлял мое расписание — я не спрашивал никогда, — чтобы я мог сделать контрольный обход. Тем самым он с первого же дня закреплял в моем сознании обязанности заместителя.
Свободный час я действительно использовал всегда для контрольного обхода.
Сегодня все было как обычно — в полном порядке. Тишина, только приглушенный гул из классных комнат. Минуту-другую я постоял перед дверьми, за которыми шел урок в десятом «Б».
Я не помнил, кто из учителей вел у них первый урок, и не мог, стоя перед дверью, определить. Да, трудно приходится сейчас ей или ему. Может, первый урок в десятом «Б» надо было провести мне? Разве не обязан я был сделать это для моего друга Манфреда Юста? Но чего должен был или мог бы я добиться?
По своему обыкновению я спустился вниз, в подвальный этаж, где в мастерской застал нашего завхоза Эриха. Утром я только издали с ним поздоровался, однако этим ограничиться — нет, с ним так нельзя поступать, он у нас очень обидчивый. Я съездил в дальние края, а Эрих был страстным коллекционером видовых открыток и жадным слушателем путевых историй. Я не забывал посылать ему открытки с Кавказа.
На доске рядом с дверью, куда он приклеивал открытки, я нашел и одну из моих. Я послал ее в первый же день по приезде в Гагру, и даже авиапочтой. Свой долг перед ним я выполнил и потому с чистой совестью вступал во владения завхоза.
Эрих, человек примерно моего возраста, был отличным слесарем и вообще мастером на все руки, на заводе он зарабатывал бы гораздо лучше, но вот не хотел менять школу на завод, ни за какие деньги не хотел.
Многим были мы ему обязаны. Он умел найти общий язык с ребятами, и с Карлом Штребеловом у него были прекрасные отношения. Вот уж верно, идеальная пара — наш директор и наш завхоз.
Доведись мне давать совет школьным директорам, я бы им обязательно порекомендовал подыскать себе хорошего завхоза, относиться к нему должным образом, видеть и уважать в нем педагога.
Эрих как раз обтачивал ключ и хоть приветствовал меня — как от века повелось — сдержанно, но явно был мне рад. Видимо, ждал меня. Я стал ему рассказывать о поездке, о гагринских сапожниках, часовщиках, золотых дел мастерах, что показывают на улицах прохожим свое умение. Эрих вспомнил о подобных же сценах в Болгарии, где он побывал в прошлом году. Такой разговор — его стихия, при этом он не забывал действовать напильником.
Я надеялся, что поговорю с Эрихом о Юсте, намеревался это сделать, спускаясь вниз. История эта мучила меня.
Эриха я считал человеком с так называемым здравым смыслом. Разумеется, я прекрасно понимаю условность этого понятия. То, что для одного здравый смысл, для другого — взбалмошность. Трудно сказать, сколько тут возможно различных толкований и как часто, ссылаясь на это понятие, злоупотребляют им.
Но Эрих не давал повода к такого рода сомнениям. Высказываясь о людях или проблемах, он чаще всего бывал прав. Его заключения, зачастую ошеломляюще простые, помогали разобраться в запутанных педагогических ситуациях.
Я уселся в старое плетеное кресло, что стояло рядом со станком и предназначалось для посетителей. Несчетное число раз я уже здесь сиживал. Карл Штребелов также. Вернее говоря, он не сидел здесь. Он всегда находил себе тут работу, всегда старался помочь своему завхозу.
В нашей школе нет учителя, который бы хоть разок не почтил старое кресло. Юст, видимо, не составлял исключения. А может, все-таки? Внезапно я заколебался. В наших с Манфредом Юстом разговорах завхоз Эрих никогда не упоминался. Случайно? Но и здесь, внизу, я ни разу не встретился с Манфредом, а ведь кое-кого из коллег встречал, иной раз даже двух-трех сразу, впору было открывать педсовет.
Похлопав по ручке кресла, я сказал:
— А коллега Юст здесь тоже сиживал?
Эрих, не прерывая работы, бросил на меня быстрый взгляд.
— Он никогда здесь не сидел, — буркнул он. — У него выдержки не хватало, он только мешался.
Эрих вынул ключ из тисков и стал рассматривать его против света.
— Да, история с Юстом тебя здорово задела, а?
— А кого из нас она не задела?
— Правда, правда, — согласился Эрих, вновь вставляя ключ в тиски, — но каждого по-своему.
Он продолжал опиливать ключ, и пронзительный визг металла был мне сейчас особенно неприятен.
Я насторожился, в словах Эриха слышались раздражение и досада.
— Что значит «каждого по-своему»?
Эрих отложил напильник. Худощавый, с живым смуглым лицом, он смахивал на южанина. А на самом деле был родом из Штральзунда.
— Трус, свою жизнь — да псу под хвост, и еще сколько вреда принес. Ребятишкам.
— Но ведь обстоятельства нам неизвестны, Эрих, — возразил я.
— Обстоятельства? Знаешь, я могу порассказать тебе об обстоятельствах, в которых, к примеру, оказался я, когда не раз и не два вполне мог расстаться с жизнью. Э, разве тебе такие обстоятельства не знакомы?
Над этим я как-то не задумывался, считал, что мне еще не приходилось попадать в столь безвыходное положение, когда ничего не остается другого, как расстаться с жизнью.
А ведь были и в моей жизни обстоятельства, когда я не видел выхода, когда мне одного хотелось — околеть. Я вспомнил особенно отчетливо три дня мучительной жажды летом сорок пятого. Мы, военнопленные, проезжали по территории, все колодцы и источники которой были отравлены. Каждый из нас получал в день одну-единственную кружку воды. Но как-то раз наш вагон прицепили сразу же за паровозом. И на какой-то станции в котел стали заливать воду, негодную для питья, смертоносную. Я чуть не свихнулся за своим решетчатым окошком. И напился бы этой воды, если бы до нее дотянулся, я пил бы и пил ее, хоть и знал наверняка, что подохну. Я был тогда в одной из тех пограничных ситуаций, судить о которых человек может только куда позже. Но мои обстоятельства были иными, чем у Юста. Иными? Я же не знал, в какой ситуации оказался Манфред, какие его угнетали обстоятельства. Этого никто не знал.
Эрих сказал:
— Три дня меня носило на плоту по Северному морю. Мне надо было только разжать пальцы, и я бы отмучился.
Я промолчал, он, пожалуй, оказался в такой же ситуации, что и я. Нет, все-таки нет. Нельзя недооценивать самообладания Эриха. Едва не помешавшись от жажды, я бы выпил отравленной воды. А Эрих не разжал пальцы, он боролся за свою жизнь.
Эриху мое молчание, видимо, не понравилось. Он довольно резко сказал:
— Трагической назвал Карл эту смерть. Что в ней трагического? Трагической бывает смерть при авиакатастрофе. Вдобавок ребята должны сохранять об этом человеке добрую память? Да их же просто морочат. Какая может быть добрая память о Юсте!
— Э, ты все упрощаешь, Эрих, — возразил я. — Я хорошо знал Манфреда Юста.
— Полагаю, я тоже хорошо его знал. Да ладно, оставим этот разговор, — сказал он и, повернувшись ко мне спиной, стал рыться в шкафу с инструментами.
Я спросил, что он имеет в виду, разве он так хорошо знал Юста? Но Эрих уклонился от ответа, пробурчал что-то, явно не желая откровенничать.
Юст своим самоубийством, так объяснял я себе отношение Эриха, пошел против жизненных принципов Эриха. Эрих осуждал легковесное отношение к человеку и тем самым к жизни. За долгие годы я узнал и оценил Эриха и его работу. Никто из нас не был так справедлив, так деликатен с детьми, как он. Он любил детей. Я не слышал, чтобы он на кого-нибудь кричал. Даже с самыми отъявленными озорниками он проявлял терпение и спокойствие, получая зачастую в ответ неблагодарность, но никогда из-за этого не изменял своей позиции.
Он был истинным провозвестником грядущих времен.
Именно этим объясняется его неожиданная горячность и осуждение Манфреда Юста.
Кое в чем все-таки прав был я, хотя кое в чем и ошибался. Но тогда, в мастерской, я еще не знал, что был прав, и даже не подозревал. Это я узнал чуть позднее.
Из подвала я снова поднялся на основные этажи, поднялся, так сказать, из мира подземного в мир наземный.
Хотел, как обычно, зайти к Карлу Штребелову, но раздумал и пошел в учительскую, где сейчас никого не было.
Медленно обойдя стол, я сел на место Штребелова, в директорское кресло.
Мне случалось, сидя на этом месте, проводить совещания. Но эти случаи за последнее время можно было по пальцам сосчитать, Штребелов очень редко отсутствовал. А болеть в течение учебного года — нет, такого я вообще не помню. Болезни он откладывал на каникулы.
Чистая, но от частых стирок неказистая скатерть сдвинулась в сторону, пошла складками. Вот досадовал бы Штребелов. Учительской всегда полагалось быть в полном порядке. Состояние этой комнаты отражает состояние школы. Все посетители: школьники или взрослые, представители завода, родители или общественные инспектора из органов народного образования — все они, когда бы ни зашли в школу, находили эту комнату в образцовом порядке.
Разглаживая складки на скатерти, я едва не перевернул вазу, стоявшую посреди стола. Я знал, что вазу эту не одобряет Штребелов. Пестрый букет частично закрывал председателю обзор, а главное, отвлекал внимание. Зато астры скрашивали чересчур уж деловую обстановку комнаты.
С председательского места Штребелова я попытался представить себе людей за столом, как они сидели здесь накануне, учительницы и учителя, которые в эту минуту в классах отвечают на вопросы учеников, помогают им приобретать знания, будят их мысль, развивают их чувства.
С этого места школа в каком-то смысле просматривается насквозь, как здание из стекла, отсюда видны все девятьсот ее учеников на своих местах, вместе с учителями. А девятьсот — это уже мощь, это уже сила, хотя осмыслить этот факт все они еще не в состоянии. Школа — это силовое поле и поле напряжений. Выходит, ответственность человека, сидящего здесь, в кресле, не так уж мала. И ее следует правильно понимать. Все девять сотен — молодые люди, девятьсот отдельных личностей. Различные характеры должен примирить этот человек, но ведь и семьи накладывают на детей отпечаток, поэтому их подход к жизненным вопросам, и, конечно же, к такому событию, как смерть учителя Юста, будет неодинаков.
Я испугался, поймав себя на раздумьях, в этом кресле совершенно неуместных. Ведь я сел сюда, чтобы воздать должное Карлу Штребелову, по крайней мере я пытался это сделать.
По многим вопросам я полностью соглашаюсь с Карлом. Разве я, как и он, не понимаю значения связи школы с заводом? Разве утверждение традиций в школе не было моей заботой в той же мере, что и Карла Штребелова? Я мог бы перечислить еще великое множество вопросов, которые я с этого вот места решил бы не иначе и уж ни в коем случае не лучше, чем Карл Штребелов.
Но разобраться в вопросе, который не дает мне покоя с первого дня, мне не помог и фокус с директорским креслом.
Смерть Юста оставалась для меня загадкой.
Вот и все.
По крайней мере это я осознал. Звонок я, видимо, прослушал. И вздрогнул, когда кто-то повернул ключ в двери, у которой снаружи не было ручки.
Я едва успел встать и отойти к окну.
В комнату вошла учительница, фрау Зоммер, близорукая, она много воображает о своей внешности и поминутно стаскивает с носа очки, вот и не заметила меня сразу, не разглядела моего неловкого маневра.
— Ох уж этот первый урок, коллега Кеене, право истинная мука, — пожаловалась фрау Зоммер.
— У меня все впереди, — ответил я.
Но одни мы в учительской оставались недолго.
Перемена еще не кончилась, когда я отправился в девятый, в котором у меня был урок истории.
Удивительное дело, но, идя с папкой под мышкой по школьным коридорам, я стряхнул с себя нерешительность последних часов. Я шел, так, во всяком случае, мне казалось, целеустремленно, бодро, продумывая свое вступительное слово. Я рад был предстоящей работе, чувствовал себя в своей стихии. К чему понапрасну ломать голову? Что случилось, того не поправишь. Только работой преодолевает человек минуты отчаяния. Открыв дверь в класс, я увидел знакомые и все-таки изменившиеся лица моих учеников. Ощутил привычное чувство собранности. И — спокойствие. Стало быть, все в полном порядке.
Но прошло два дня, и моего искусственного спокойствия как не бывало. Мне пришлось подменить заболевшего преподавателя в десятом «Б». Не так уж обязательно было именно мне подменять больного, были и другие учителя. Но я хотел, меня словно что-то гнало в этот класс, мне нужно было самому увидеть, какая там сложилась обстановка после смерти Юста.
Урок прошел организованно, что я приписал своему умению подать материал. Но не было ли иной причины? С уверенностью я сказать не мог, хотя вел урок спокойно. У меня создалось впечатление, что ребята ждут чего-то от меня, ждут чего-то из ряда вон выходящего.
Когда кончился урок и я уже собирался выйти из класса, дорогу мне преградил Марк Хюбнер. Парнишка за лето вытянулся, перерос меня на пол головы. И худущий был невероятно. Сейчас лицо его покрывала какая-то неестественная бледность.
— Господин Кеене, можно вас спросить?
— Разумеется, можно, Марк.
Мы с ним стояли посреди класса, загораживая путь к двери, а началась уже большая перемена.
— Здесь нам неудобно, — сказал я, — пойдем в коридор.
Мне показалось, что мое предложение пришлось ему не по душе, он медлил, бросая по сторонам растерянные взгляды. А вокруг тем временем уже столпились ребята, выжидательно поглядывая на нас. Нет, это не случайно, дошло тут до меня, они еще раньше надумали поговорить со мной — может быть, хотели даже во время урока. Да так и не решились. Но сейчас, в подобной обстановке, у меня охоты не было отвечать на их вопросы, не мог же я позволить им загнать себя в угол. Мне нужно было сохранить за собой плацдарм, чтобы спокойно все обдумывать и отвечать четко и убедительно. Мы с Марком вышли из класса, и я повел его в конец коридора, подальше от лестницы. Мое подозрение, что и другие ребята хотели принять участие в разговоре, кажется, подтверждалось. Марк беспомощно оглянулся на ребят, а они, потоптавшись в дверях класса, двинулись все-таки к лестнице и спустились во двор.
Я взгромоздил портфель на подоконник.
— Ну, Марк, что вы хотели спросить?
Я встал спиной к окну, так что свет падал прямо на паренька. По его лицу пошли красные пятна.
— Так что же у тебя на сердце, мальчик?
— Почему нас обманывают, господин Кеене? Господин Юст покончил жизнь самоубийством. Мы это знаем. Так зачем нас обманывают? Мы ведь не маленькие дети.
Предчувствие не обмануло меня. Об этом они хотели спросить меня еще на уроке. Волнение парня передалось и мне. Конечно же, они все узнали. С Юстом их многое связывало, может быть, не всех, но таких, как Марк. Неужели внезапная смерть еще не старого человека, весело, с шутками проводившего их на каникулы, могла оставить ребят равнодушными? Ах, Карл Штребелов, из-за твоего неразумного упорства ты многого не замечаешь и очень важные обстоятельства недооцениваешь!
Но сказал я по возможности спокойно:
— Никто вас не обманывает, Марк. Господин Юст трагически скончался.
— Господин Кеене, пожалуйста, хоть вы не разочаровывайте меня. Я помню, как было сказано: господин Юст трагически скончался. Это мы все слышали. Но трагически скончаться можно по разным причинам. Мотоциклетная авария со смертельным исходом — тоже трагическое происшествие.
— Ты, разумеется, прав, — сказал я и ничего больше не мог придумать.
Марку же, наоборот, моя беспомощность придала силы, лицо его, помрачневшее было, вновь оживилось.
— Мы очень ценили господина Юста. Может, вы даже этого не знаете.
— Нет-нет, знаю, — ответил я, — вы все его любили.
— Да, я действительно его очень любил, — смущенно подтвердил Марк.
— Но что поделаешь, — решительно сказал я, — его не вернешь.
— Почему он это сделал? Скажите мне правду!
— Не могу, я сам ее не знаю.
Марк отступил на шаг.
— Вы не знаете?
— Нет, — сказал я, — я ее не знаю. И господин Штребелов тоже не знает. Никто не знает, никто.
— Это неправда!— крикнул парнишка.
Тут мне бы насторожиться. Но у меня были свои мысли, и я не хотел, чтобы мне мешали.
— Возможно, виной тому злосчастное стечение многих обстоятельств, которые никому теперь знать не дано. Поверь, Марк, ничего другого я тебе сказать не могу.
— Что же нам думать о нем? — спросил он словно бы про себя.
Я понимал, что это он о себе говорит, это его вопрос. Он хотел получить ответ.
А что мне отвечать ему? Разве меня не мучил этот вопрос, именно этот, после вечера у Штребелова? Я пытался отогнать свои мысли, избавиться от них. Все уже не раз взвесил, обдумал, хотел по-деловому все решить, разобрать историю гибели Юста с точки зрения своего немалого жизненного опыта. Но это мне не удавалось. И если я полагал, что обрел какое-то спокойствие, так теперь оно исчезло бесследно. А причина тому — горе паренька, его настойчивость. Я пожал ему руку.
— Марк, мнения своего о господине Юсте тебе менять не надо. Пусть он останется в твоей памяти таким, каким ты его знал. Это будет правильно.
Но почему он вдруг уставился куда-то мимо меня в окно? Какого ответа ждал он, задав мне вопрос?
— Что же ты хочешь знать о господине Юсте?
Он опять глянул на меня, но уже удивленно. Скорее так, словно вернулся откуда-то издалека со своими мыслями.
— Я хочу знать, что было на самом деле с господином Юстом. Даже если это огорчит меня, даже если мне будет больно.
— Значит, ты не веришь, что я тоже не знаю большего?
— Но вы же должны знать. Учителя наверняка думали об этом, — пробормотал парень. — Просто от нас вы отгораживаетесь, относитесь к нам как к малышам.
Марк опустил голову, и мне показалось, что он сейчас заплачет. Я его искренне жалел. Но как ему помочь? Он отвернулся и пошел, высоко подняв плечи, как-то странно покачивая одеревеневшими вдруг руками.
Я глянул вниз на школьный двор. Там, как всегда, бегали, толкались, сновали туда-сюда ребята. Дежурный педагог, фрау Зоммер, стояла в дверях, конечно же, без очков. Что уж она заметит?
Тут я спохватился, что не выполнил распоряжения Штребелова — отрицать самоубийство Юста. Вдобавок я не спросил, откуда же, собственно, у Марка и других ребят из десятого «Б» такая уверенность, что учитель Юст добровольно ушел из жизни? От кого они это узнали? Или сами додумались, недоверчиво отнесясь к нашим словам?
Э, не все ли равно.
Как бы отреагировал Карл Штребелов, если бы кто-нибудь из учеников задал этот вопрос ему? Повторил бы свои слова из вступительной речи? Да, вполне возможно.
У Карла были очень строгие понятия о дисциплине. Распоряжение — дело святое. Но если бы Марк Хюбнер стоял перед ним бледный, взволнованный, с таким отчаянием в глазах? Не смягчился бы тогда Карл?
Все мои раздумья, однако, бессмысленны. Марк Хюбнер пришел ко мне, а не к директору.
Я спустился на первый этаж, собираясь зайти к Штребелову. Лучше сразу же, не оттягивая, поговорить о десятом «Б». Только не медлить. Кто-нибудь придет к Штребелову и ложно истолкует вопросы, возникшие у учеников десятого «Б» о смерти их учителя.
Но я опоздал. И понял это, увидев Тецлафа.
— А, ты как нельзя кстати, — сказал Карл Штребелов.
— Кое-кто у нас начинает играть в дурные игры, — заметил Тецлаф.
— Коллега Маршалл пренебрегла моим распоряжением, — пояснил Штребелов.
— Что случилось? — спросил я.
Я-то знал, что случилось, затем ведь я и пришел. Мне вдруг все происходящее показалось каким-то странным. И замечание Штребелова, что Анна Маршалл пренебрегла его распоряжением.
В десятом «Б», услышал я, Тецлаф настоятельно потребовал, чтобы ему сказали всю правду, и узнал, что фрау Маршалл говорила с ребятами о смерти учителя Юста. Почти весь урок.
— В каком я оказался положении, — продолжал Тецлаф, — только накануне я решительно пресек все их попытки обсуждать эту тему. Согласно распоряжению и собственному убеждению. В каком же я теперь положении?
Видно, создавшаяся ситуация очень и очень беспокоила Тецлафа. Так вот, стало быть, с чего он начал как классный руководитель? Теперь я обязан был поинтересоваться, правильно ли было вообще отдавать такое распоряжение.
— Меня они тоже спросили, — сказал я как можно спокойнее.
Оба посмотрели на меня. Карл даже приподнялся.
— Они, значит, хотят все знать, — проворчал Тецлаф, а подумал он, без сомнения, что это проба сил и вызов ему.
Я повторил его слова с совсем другим ударением:
— Да, они хотят все знать.
Штребелов решительно объявил:
— Коллега Маршалл нарушила обязательное для всех распоряжение. Мне придется привлечь ее к ответу. И вынести ей взыскание.
— Надо прежде как следует во всем разобраться, — предостерег я. — Мы же не знаем, как было дело. Коллега Тецлаф, тебя они спрашивали за день до этого. Стало быть, рассказ Анны Маршалл не мог послужить причиной.
— Не в этом дело, — возразил мне Штребелов. — Дело в самом факте — Анна Маршалл не выполнила распоряжения. И еще одно: почему она не выступила на нашем совещании, когда мы обсуждали этот вопрос? Тогда она ни слова не сказала.
Меня на том совещании не было, но я помнил педсовет перед началом учебного года: тогда, сидя напротив Анны Маршалл, я недоумевал, почему она молчит, когда говорят о смерти Юста. Что тут происходило в предыдущие дни? Обсуждали они, вообще говоря, этот случай? Сомневаюсь. Если у Штребелова складывалось о чем-то мнение, он этот вопрос больше не обсуждал.
Вывод суровый, дорогой мой Кеене, но всего-навсего вывод, который ты так и не высказал. А что предпринял ты, чтобы изменить ход событий? Мало, слишком мало. А что ты делаешь сейчас? Тоже слишком мало. Дипломатничаешь. По сути же, сам не видишь выхода, сам с собой не в ладах.
— Может, неплохо бы мне еще разок поговорить с Анной Маршалл. Я ведь ее хорошо знаю, — сказал я.
Штребелов, усевшись в кресло, вскинул на меня глаза и постучал карандашом по столу, словно призывая к вниманию.
— Я бы не смог. Взбалмошная она какая-то, — сказал Тецлаф.
— Вздор, — возразил я, — есть у нее странности в характере. Но у кого их нет.
— Ее странность я почувствовал на своем горбу, — язвительно заметил Тецлаф, — второй раз не желаю.
— Ты ее хорошо знаешь, — раздумчиво сказал Штребелов и после короткой паузы многозначительно добавил: — Ты ведь и Юста хорошо знал.
— Так говорить мне с ней или нет?
— Что это изменит? Впрочем, я не возражаю, — согласился Штребелов. — Сделаем все, что положено, пусть нам не в чем будет себя упрекнуть, а ты успокоишь свою совесть.
— Лучше прежде во всем разобраться, когда речь идет о дисциплинарном взыскании, — сказал я.
— К чему эти церемонии, — запротестовал Тецлаф, — я вправе требовать, чтобы случай в классе рассмотрели как можно скорее. Вы передали этот класс мне. Не желаю я маяться из-за мертвого господина Юста.
Тецлаф скрестил руки на груди. Всегда подтянутый, в спортивном костюме, энергичный. Да, он был хорошим учителем физкультуры.
Можно ли обижаться на него, если он хочет ясности?
Но я при виде Тецлафа, скрестившего руки на груди, самоуверенного, убежденного в правильности своих взглядов, вспомнил Марка Хюбнера, я попытался представить себе, какой ответ получил бы парень от Тецлафа, и у меня стало как-то нехорошо на душе.
— Поговорю с ней все-таки, — сказал я.
— Сегодня же, — настоял Штребелов, — не откладывай дела в долгий ящик.
Я же признался, что ребята из десятого «Б» и меня спрашивали о смерти Юста, но вспомнил об этом, уже выйдя из кабинета. Мое признание потонуло в нашем разговоре, вернее, споре. Забыл о нем Штребелов? Или не пожелал меня подробнее расспрашивать? Собственно, и на меня должно обрушиться взыскание. Строго говоря, я сам обязан настоять на нем, если я допущу, чтобы его вынесли Анне Маршалл.
После шестого урока я подождал Анну Маршалл возле школы. Примерно с час пришлось мне погулять по лесу за автострадой, там, где во время войны стояли цехи авиамоторного завода. За десятилетия, прошедшие после войны, здесь выросли березы и сосны. Бетонные развалины цехов поросли мхом и травой, потеряли свой серый, унылый вид, походили теперь на простые каменные глыбы. Скалистый уголок посреди нашего степного простора.
Поджидая Анну Маршалл, я увидел Марка Хюбнера, выходившего из школы. Заметив меня, он поспешно изменил направление — так мне, во всяком случае, показалось, — свернул в боковую улочку, что было ему вовсе не по пути. Я пытался убедить себя, будто это чистая случайность. Он может ведь зайти к приятелю или к приятельнице. Почему столь поспешно изменил он направление? Ну, бывает же, вспомнишь, что тебе куда-то нужно, и свернешь… Однако во мне крепла щемящая уверенность, что Марк избегал встречи со мной. Не хотел больше сталкиваться со мной в этот день. Значит, я его разочаровал? А может, произошло что-то уже после нашего с ним разговора в коридоре и он связывает это со мной? Предпринял Тецлаф уже какие-то шаги, позаботился на свой манер о ясности в десятом «Б»?
Я все больше и больше сознавал, что вопросы Марка Хюбнера прозвучали для меня предостережением и обвинением. Ради него, а не из абстрактных принципов обязан я начать борьбу за истину.
Я разочаровал парня, и нечего себя успокаивать. Разве я ответил на его вопрос? Отделался общими словами, отеческим утешением. Не думай плохо о своем учителе…
Лжи в моих словах не было, но и правды тоже. Я скрывал от парня свое потрясение, свою растерянность. А должен был поделиться с ним. Он не отвернулся бы от меня.
Отчего мы считаем, что с молодежью нельзя делиться нашими волнениями и тревогами? Не обязательно жаловаться на безвыходность положения и безнадежность, не обязательно ныть, но правдивыми мы быть должны. У нас великие цели. Как часто повторяем мы известную формулу: надо воспитывать из молодежи борцов. А значит, надо привлекать их к борьбе с трудностями.
Да, Кеене, все это тебе известно, обо всем ты многие часы размышлял, значит, и действовать тебе следует, когда дело того требует, сообразуясь с собственными взглядами. Не притворяйся, что тебя эта история не касается. О тебе идет речь в первую голову. Исключишь себя, Кеене, так станешь равнодушным, потеряешь волю к борьбе. Негоже это, дорогой мой Кеене, педагог и человек, а вернее говоря, человек и педагог.
Анна Маршалл не сразу меня заметила. Вполне понятно, ведь я спрятался, точно грабитель, за кустами, разве могла она подумать, что я собираюсь ее здесь перехватить.
Она удивилась, когда я вышел из укрытия. Мной овладели противоречивые чувства. Я сознавал, что мое поведение может показаться странным. Поэтому не дал Анне Маршалл рта открыть, а произнес сам полушутя-полусерьезно:
— Минуточку, коллега! Приглашаю тебя на чашку кофе. Поговорить нужно.
Мы отправились в ресторан городского клуба. Я давно здесь не был и, обратив внимание, что заведение нуждается в ремонте, стал говорить, как часто у нас, увы, тянут с ремонтом, а потом он обходится значительно дороже. Да, конечно, нет людей, нет людей. Но куда в нашем городке пойти, если вздумаешь выпить с коллегой чашечку кофе…
Я болтал и болтал, точно заведенный. Анна Маршалл молчала. Кофе нам подали вполне приличный. И тут Анна сказала:
— О Юсте мне говорить не хочется.
— Но мне нужно знать, что с ним произошло, — сказал я.
— Я не хочу, это не имеет смысла.
— В десятом «Б» ты об этом говорила. Там смысл был?
Анна посмотрела на меня, а до сих пор сидела, уставившись в чашку. Девушка отличалась какой-то своеобразной красотой. Голубые спокойные глаза придавали ее тонкому лицу холодность и сдержанность, но чувственный рот обнаруживал темперамент.
— Ребята спросили меня о Юсте, и я сказала им правду.
— Правду?
— Да. Все, что я об этом думаю. Лучше было солгать? Я вообще не лгу. А в этом случае и подавно.
— Штребелов намерен вынести тебе взыскание, — сказал я.
— За что? За то, что я не солгала ребятам?
— Но ты же слышала его распоряжение на педсовете. Почему ты там промолчала?
Анна подозвала официанта и заказала две порции коньяку.
— Значит, Штребелов поручил тебе со мной поговорить? — сказала она. — Почему он сам не побеседует со мной?
— Ничего он мне не поручал. Это я просил его, чтобы он разрешил мне говорить с тобой, прежде чем он объявит взыскание.
— Я остаюсь при своем мнении.
Официант принес коньяк. Она выпила.
— Какая уж польза ребятам от твоей правды? — сказал я.
И подумал о Марке Хюбнере, которому я изложил «свою правду» и который сегодня, выйдя из школы, постарался избежать встречи со мной. Вот он результат. А я ведь пытался придать мыслям парня нужное направление, посоветовал ему сохранить об учителе Юсте самую добрую память. Может, прав Карл Штребелов, когда настаивает, чтобы мы говорили только о том с ребятами, что поддается фактической проверке?
Человек трагически погиб. Разве в этом утверждении не больше правды, чем в туманных, запутанных рассуждениях? Ведь они ничего не проясняют, а только возбуждают еще больше сомнений.
Анна тихо сказала:
— Да разве я собиралась нарушать его распоряжение? Нет, я считала его разумным, мне оно как раз очень нужно, ведь я в этом деле куда пристрастнее, чем все остальные, чем даже ты, Герберт. Страшный случай именно так и рассматривать, вот в чем я видела утешение и помощь. Извини, я не очень точно выражаюсь, за последнее время я много пережила. Но вот, когда я стояла лицом к лицу с ребятами из десятого «Б» и они спросили меня о Манфреде Юсте, все внезапно обрело иную окраску. Тут я поняла, что указание Штребелова невыполнимо, оно безнравственно. Чтобы тупо следовать этому указанию, мне пришлось бы самой себе изменить, пришлось бы отказаться от своих взглядов на профессию учителя. Когда множество глаз устремляется на тебя, ты не вправе увиливать. Может, не все так восприимчивы, а может, многолетняя рутина вытравляет из них эту восприимчивость. Я ребятам отвечала не по наитию, они не захватили меня врасплох, нет, я прекрасно сознавала, что, говоря им о возможном самоубийстве Юста, пренебрегаю распоряжением. Но иначе поступить я не могла.
— И что же было?
Она удивленно уставилась на меня.
— А что должно было быть?
— Как расценили ребята твой ответ? Что они теперь думают о Юсте?
— Не знаю, — тихо сказала она. — Но я им не солгала. Пусть взглянут правде в глаза. Ошибкой было бы оберегать их от сложностей жизни, даже если мы им добра хотим. Оборачивается это недобрым.
— Но ты же могла все это раньше изложить?
— Тогда я еще всего не продумала. Кое-что было мне еще не так ясно, как сейчас.
— Что ты имеешь в виду? — быстро спросил я.
— Все, что касается Юста и моего отношения к нему. И его отношения к другим, к его бывшей жене, к его детям.
Мне показалось, что ей хочется высказаться, хочется поговорить о том, что и у меня вызывает жгучий интерес, а именно о Юсте, о таком Юсте, каким она его знала. Я был уверен, что ей известно больше, чем нам.
Облокотясь на стол, она сжимала в руках рюмку с коньяком, крутила ее.
— Все с Манфредом Юстом обстоит иначе, чем многие предполагают. И ты, Герберт, знаешь лишь какую-то часть его духовного мира. Не хочу сказать, что я его очень хорошо знала, но, пожалуй, лучше узнала за последние полгода. Разумеется, у меня о нем свои суждения: они претерпели кое-какие изменения, когда я с ним ближе познакомилась. Я не осмеливаюсь сказать, что я его любила. Нынче я и вовсе не могу так сказать. Чего только порой не вобьешь себе в голову. А на поверку что? Понимаю, он умер. Как же мало я знаю о нем, ах как мало. Он, конечно, тоже в этом виноват. Он же был умница и насмешник, человек неотразимый, удачливый, обаятельный, со своими идеями, с оригинальной системой в работе, и всех, весь мир он озадачивал своими экстравагантными выходками. Это правда, но сущности его натуры не раскрывает. Сущность свою он тщательно скрывал, не хотел, чтобы кто-нибудь докопался до нее, нет, пожалуй, так сказать нельзя, но стоило ему только заподозрить, что кто-то пытается заглянуть в его внутренний мир, и он тут же занимал круговую оборону. Ты знаком с его бывшей женой и его детьми? Хотя откуда же. Сложная ситуация… Да, я кое-чем обязана Юсту. Знаю, что такое боль, отчаяние. Но и многое другое открыла я для себя благодаря Юсту, прекрасную сторону жизни и сложную. Возможно, я преувеличиваю. Мне нужно, Герберт, чтобы прошло время. Вот мое объяснение случая в десятом «Б». Надо вдобавок сказать, я терпеть не могу, когда меня считают младенцем и преподносят мне красивые слова о всякой чепухе. Не выношу этого. Ребята из десятого «Б» тоже так думают, в этом я уверена. Понимаю, подобного объяснения я никому дать не могу, коллегам не могу, а уж нашему Штребелову и подавно. Не знаю, сгодится ли оно тебе.
Она выпила коньяк и улыбнулась беспомощно и печально. Я сказал, что понимаю ее. Она взглянула на меня с благодарностью и вместе с тем строго, испытующе. Не поверила мне? Неожиданно она задала мне вопрос, которого я до сих пор всячески избегал:
— Как все это могло случиться? Мы в этом виноваты?
— Мы? — переспросил я.
— Ну, тогда я. Как мне надо было поступить? Я глупо себя вела, это со мной бывает. Глупая, незрелая, неопытная девчонка.
— А он, — возразил я резко. — Если критиковать, так начнем с него.
— Почему? Он умер. Но ты спроси себя, нет ли в этом и твоей доли вины? Ты же не трус. — Она сердито посмотрела на меня.
— Кому от этого польза?
— Тебе в любом случае. Нам. Или вы все такие совершенные, что для вас не существует подобных проблем?
— Что ты хочешь этим сказать? Говори же, — настаивал я, надеясь, что теперь-то она скажет о трудностях, пережитых Юстом, и возможных причинах его смерти.
Но она больше ничего не сказала. Ее словно разбудили ото сна, и сон этот она никому не хотела доверить. А может, это я себе вообразил?
Скорее всего, она сочла, что и так много наговорила, разоткровенничалась со мной. Скорее всего, она стыдилась своих чувств, чем и объясняется ее замечание, что она многое преувеличила. Верх взяли ее сдержанность и скрытность, нам хорошо известные.
Меня это огорчило, но я не решился настаивать. Ничего бы не получилось.
У выхода из клуба наши пути разошлись.
— Привет Эве и детям. Как-нибудь на днях загляну.
— Будут готовы диапозитивы о нашей поездке, мы всех позовем.
Я поглядел ей вслед. Безупречная фигура и какая-то особенная походка. Не то чтоб вызывающая, но все же такая, что на нее оборачивались.
А год назад? Какой была она год назад? «Чистый лист», как говорят. Простая душа. Никакой симпатии я к ней не почувствовал. Беспокойная молодая учительница с преувеличенно высокими требованиями в некоторых вопросах, а в чем-то и неуверенная. А Юст, наоборот, сразу стал ей симпатизировать, и я по разным причинам злился.
Как это получилось, понимал ли Юст, что, беря ее под свою опеку, он взвалил на себя тяжкую обузу? Однако почему Анна Маршалл была обузой? Не моя ли это выдумка, не предвзятость ли с моей стороны? Скорее уж она была для Юста благодаря своей принципиальной позиции будоражащим элементом. Она держалась с большим достоинством, и достоинство свое ей не приходилось судорожно утверждать или постоянно его доказывать. Просто оно у нее было.
Меня, а возможно и Юста, удивляла ее резковатая манера судить о стране, в которой она живет, и о ее трудностях. Никакой она не проявляла благодарности. Историю она рассматривала именно как историю, не отягощая ее воспоминаниями.
Анна Маршалл в своей принципиальной позиции была честнее, чем я и Юст. Такая позиция помогает четче выявлять конфликты и противоречия, не замазывает их, но и не клеймит. При этом — что вполне закономерно — не обходилось без преувеличений и жестких позиций.
Хоть и с оглядкой, но я должен был признать то, над чем уже не раз задумывался: на арену выходит новое поколение учителей. Оно, это поколение, совсем иное, чем поколение Юста. У него свои особенности и свои заботы. Нам следует это признать и обратить на пользу нашему делу.
Вполне может быть, Юст пришел к таким же выводам, когда свел дружбу с Анной Маршалл. Вполне может быть.
Как бы там ни было, я твердо решил приложить все силы и не допустить, чтобы Анне Маршалл выносили взыскание. Кому оно пойдет на пользу? С распоряжением поспешили. Разговоры об учителе Юсте не закончились. Распоряжением их не пресечь. Наоборот, оно лишь дает этим разговорам дополнительную пищу.
Но главное было в живущих, в ученике Марке Хюбнере, к примеру, у которого вся жизнь впереди, и в Анне Маршалл. И во мне дело было, в возможностях, которые открывались еще для меня в моей профессии. А разве не в Карле Штребелове было дело? Да, в нем и Тецлафе, людях, думающих иначе, чувствующих иначе, они были не правы в этом случае, нельзя, чтобы они оказались правыми.
Дома я до вечера работал, готовился к урокам, кое-что нужно было наверстать, кое-что продумать, мне пришлось отложить подготовку, когда мы уехали в отпуск.
Я почувствовал прилив новых сил и решимость, поборол себя, освободился от парализующего воздействия последних дней.
А вечером отправился к Штребелову, которого, как и предполагал, нашел в саду. Он занят был осенними работами. Прислонясь к забору, я наблюдал за ним, но он меня не видел.
Перекапывая грядку, Карл работал ритмично и ловко, выдирал каждый корешочек, каждый сорняк. Все делал без спешки, но без перерывов и неуклонно продвигался вперед. Я вновь, в который уже раз, восхитился терпением и упорством Карла. Стоять наклонившись ему, видимо, никакого труда не составляло. Сам я вполне равнодушен к садовым работам, правда, всегда любуюсь садами, разбивка и урожай которых говорят об усердии хозяев, но зависти к ним не испытываю. Куда охотнее я гуляю часами по лесу, сижу у озера на рухнувшем дереве и поглядываю на водную гладь и облака, любуюсь их диковинными формами, переливами цвета. Я всегда брожу по лесу до усталости, но именно так и отдыхаю.
Я пошевелился, Карл поднял голову.
Нельзя сказать, чтоб он обрадовался. Он понимал, что я тут не случайно. Наш утренний спор он, видимо, еще хорошо помнил.
— Заходи, — пригласил он, — но через забор вряд ли у тебя получится.
Хорошо смазанная калитка не пискнула, когда я ее открывал. Шагая по каменным плитам, я старался не наступить на взрыхленную землю. Карл указал мне на скамью, что стояла в густых кустах сирени, словно в беседке. Я знал — это любимое место Карла, отсюда он обозревал свой сад и видел всю улицу.
На скамье места было для четверых, но я сел на один ее конец, а Карл Штребелов на другой — нам нужна была дистанция.
— Я говорил с Анной Маршалл.
— Что ж, ты сам хотел.
— Наказывать ее — ошибка, и последствия будут только отрицательные.
— Таково, значит, твое мнение после разговора с ней?
— Наш разговор утвердил меня в моем мнении. И распоряжение не обсуждать смерть Юста — тоже наша ошибка.
Карл Штребелов смотрел куда-то в глубь сада, который постепенно окутывали серо-голубые тона наступающих сумерек. Локтями он оперся на колени и оттирал руки от земли. Он явно был взволнован. Я тоже волновался. Но я принял решение. Наконец-то.
— Распоряжение, значит, тоже ошибка. Что же тогда мы делаем правильно? Пусть распоряжение ошибка. Но почему?
— Его нельзя провести в жизнь, Карл. Все факты известны. А мы молчим, уклоняемся от разговора, а подозрения и слухи множатся. Нам перестают верить. Может быть, уже перестали.
Штребелов взглянул мне прямо в глаза. Я почувствовал, что он принял решение.
— Мое распоряжение остается в силе. Анне Маршалл будет вынесено дисциплинарное взыскание. И вполне может быть, что в случае необходимости кое-кому еще.
Я сознавал, что в эту минуту отвечать аргументированно не в силах. Но должен был показать Карлу, что не пойду на уступки. Я не имел на то права — не только из-за себя. И обязан был разъяснить это Карлу сейчас, сию минуту. Его угрозу не ограничиться одним взысканием я понял, но это не могло меня запугать.
— Мне придется выступить против тебя, Карл.
Он вскочил, забегал взад-вперед, опустив голову, сунул руки в карманы, чего за ним раньше не замечалось. Наконец встал передо мной, глянул на меня сверху вниз. Лицо его, на которое я смотрел снизу, казалось застывшим, морщинистым, мне было неприятно, что он смотрит на меня сверху вниз, словно учитель, грозно стоящий перед партой, за которой сидит озорной ученик. Он так близко подступил к скамье, что коленями едва не касался меня.
— Я уже давно понял, что ты против меня. Этот Юст заморочил тебе голову. Только он начал у нас работать, и твоя намечавшаяся ранее неустойчивость стала крепнуть. Мы с тобой ровесники, немало у нас за плечами опыта, но он взял над тобой верх. У тебя, видимо, в последние годы оставалось слишком много свободного времени. Да, надо было мне взять тебя покруче в оборот. Нельзя позволять всем вам пустых речей и заносчивого умничанья о педагогике. Особенно тебе. Вернее говоря, именно тебе. Ты, видимо, уже давно стыдишься нашего прошлого. Но в нем — источник нашей силы, оттуда все мы вышли. Тогда мы достигли успехов, на которых все выстроилось, и, клянусь, пересмотреть наше прошлое я не позволю. Тебе мои соображения, верно, кажутся слишком простыми, слишком примитивными. Дискуссии, дискуссии, споры, проблемы, глубокие размышления, психология — о, все это хорошо и звучит прекрасно, но при этом прости-прощай дисциплина и порядок — основы правильного воспитания. И вот явился он, теперь своей смертью показавший нам, какое такое современное направление он представлял. Кем он оказался в действительности? Человеком, спасовавшим перед трудностями, болезненным, слабовольным, рафинированным, мечущимся, неустойчивым. Он колебался, точно тростник на ветру. И все это едва ли не возвысил до мировоззрения, придал всему вид взыскательности, усложненности. Ахинея, а не сложность. За всем этим крылись слабость и желание уклониться от насущных проблем. Да и ты оказался вместе с ним. Вон, брови у тебя вечно вскинуты, седина день ото дня прибавляется — все от раздумий о нем. А о чем тут думать? Он на том свете. Сам себя туда отправил. Пренебрег обязанностью педагога — прежде всего трудиться ради утверждения жизни, не говоря уже о прочих обязанностях учителя в социалистической стране. Зачем ты пытаешься защитить его сегодня? До чего хочешь докопаться? Он замолчал навеки. Пользуясь дружбой с тобой, он водил тебя за нос, пытался выставить себя, мягкотелого слабака, личностью крупной и интересной. Ты этого не заметил? Неужели он так тебя заморочил? Ни слова больше обо всем этом, конец. Ради нашей молодежи и ради тебя самого. Потихоньку улизнуть из жизни — нет, этого мы не одобрим. Мы, учителя нашей школы, не одобрим, пока еще мое слово что-нибудь значит. А пока оно еще значит. И если нужно будет, я не остановлюсь перед схваткой. На карту поставлены наши принципы. На карту поставлено наше будущее. Твое и Анны Маршалл тоже. И твоя Маршалл, это я тебе обещаю, не станет последовательницей господина Юста, нет, не станет. Либо она будет учительницей, как я это понимаю, либо ей придется уйти. А тебе придется пойти на попятный и на старости лет не сходить с ума. Ты, человек авторитетный, не будешь поддерживать всякие сомнительные воззрения. А если не возьмешься за ум, я всыплю тебе по первое число. Ты меня внимательно слушал? Больше я тебя щадить не стану.
Тут я вскочил со скамейки — дальше от него, еще дальше. Штребелов тоже отступил на шаг.
Так стояли мы друг против друга, старые боевые товарищи, а теперь непримиримые противники, решившие не щадить друг друга. Да, на карту поставлены принципы нашей работы. Это я понял и ощутил ледяной холод, как уже не раз у меня бывало, что означало глубочайшее волнение. Позднее появится боль в сердце.
Ничто, даже вид Карла Штребелова, человека, которого я знал уже не одно десятилетие — его покрасневшее, все в пятнах лицо, его потертые вельветовые брюки с пузырями на коленях, тяжелые руки, беспомощно повисшие, — ничто не могло растопить лед в моей душе.
Не прощаясь, прошел я мимо него и, не обернувшись, не обращая теперь внимания на разрыхленную землю вокруг каменных плит, вышел из сада. Словно оглушенный шагал я по улице. И только почувствовав запах смолистого дыма, очнулся. Где-то жгли хворост. Не рано ли? Да мне-то какое дело, мне жечь не очень-то много.
Я растер левую сторону груди, но боль, увы, не проходила. Остановился — оказывается, сам того не замечая, я шел к школе. Теперь я двинулся обходным путем, через лес, стараясь дышать медленно, чтобы избавиться от этой чертовой тянущей боли.
Каким-то отрешенным взглядом смотрел я на теплую зелень сосен и на березы, листья которых исподволь уже меняли краску, да еще не слишком заметно, но скоро, скоро процесс этот усилится, листья вспыхнут на краткий миг золотом, начнут опадать. А когда ударят первые ночные заморозки, они станут облетать все быстрей, позже холодные струи дождя превратят их в невзрачную массу, и постепенно они сгниют на сырой лесной земле.
Так что же случилось? Нет, он не прав. Обвиняет меня в склонности к авантюрам в педагогике и всерьез полагает, что я попался Юсту на удочку. На какую удочку? Юст для него человек, спасовавший перед трудностями, шарлатан, опасный элемент, он пагубно влиял на окружающих и влияет еще сегодня.
Вздор, Штребелов. Твое упрямство, твоя ошибочная позиция порождены твоей беспомощностью. Ты где-то остановился, стал избегать сложных вопросов, воздвигать вокруг себя стену из странных традиций. Хочешь отгородиться от неудобных новых проблем. У тебя шаткая позиция. Ты смотришь все время назад. Да, если бы ты в прошлом хотя бы обретал силы, о чем постоянно возглашаешь. Так нет, ты там, в прошлом, ждешь только подтверждения твоим отжившим взглядам. От твоих воспоминаний о нашем прошлом веет ностальгией. А сложности первых лет, заблуждения, схватки и конфликты ты забываешь, в твоих рассказах порой прорываются интонации сказочника, да ты еще с умилением восклицаешь: «А помнишь!»
Но почему я не сказал тебе всего этого в саду?
Нельзя было, ты слишком далеко зашел, слишком, но и я в своих мыслях тоже зашел слишком далеко. Когда же речь идет о принципиальных вопросах, нужна выдержка, а не взволнованность, порождающая несправедливость.
Лес начал на меня действовать. Теперь я перешел на свой обычный шаг — не очень медленный, не очень быстрый. Такой ритм приносит успокоение, помогает размышлять.
Да, я успокоился, но непримиримость не исчезла. Я твердо решил обмозговать ситуацию со всех сторон. От последствий, какие бы они ни были, буду страдать я один. Я поклялся себе, что тщательно проанализирую, трезво взвешу все «за» и «против». Главное, мне необходимо понять поступок Юста. Но кто мне поможет? Анна Маршалл не хочет ничего говорить. У нее ко мне нет доверия. Хотя знает она больше, чем сказала.
Погуляв с час по лесу, я добрался до дома и, как мне казалось, пришел более или менее в себя. Однако Эва озабоченно спросила, не болен ли я.
Я поспешил заверить ее, что просто устал, гуляя в лесу. Изумительное сейчас время — конец лета, но осень уже дает о себе знать.
— Почему ты решила, что я болен? — удивился я.
— А ты глянь-ка в зеркало.
Да, по мне все сразу видно: глубокие тени легли под глазами, резче обозначились морщины вокруг рта.
Слабо, но все еще ощущалась боль в левой стороне груди.
— Прими капли, — сказала Эва, доставая пузырек.
Я плюхнулся в кресло и почувствовал, что только теперь начал освобождаться от ледяного холода, сковавшего меня, от шока, поразившего меня в саду у Штребелова.
— Так что же стряслось? — допрашивала меня Эва. — Таким я тебя давно не видела.
Я рассказал ей о споре со Штребеловом, о намерении Штребелова вынести взыскание Анне Маршалл.
Эва, примостившись с ногами в кресле, внимательно слушала меня. Мне же возможность выговориться принесла облегчение. Я уже начинал смотреть на всю эту историю со стороны, становился объективнее.
Когда я кончил и мы немного помолчали, Эва неожиданно сказала:
— Да, Манфред задал нам нелегкую задачу.
— Но ведь дело уже не столько в нем, — возразил я.
— Нет, Герберт, это он не дает нам роздыха. Мы не знаем, что произошло с ним в действительности, никто этого наверняка не знает, ни ты, ни Карл, и я тоже не знаю, оттого мы и не находим покоя. А что волнует нас больше всего? Дай мне наконец-то сказать. Вопрос вины. Кто виновен в его смерти или что виновно.
— Вопрос вины? — повторил я, пораженный. — Но такого вопроса и не возникало.
— Такой вопрос всегда возможен, Герберт, когда приключается подобная беда.
— Мне хотелось бы иметь такой ответ для Марка Хюбнера, — сказал я, волнуясь, — чтобы он не избегал меня.
Эва тронула мою руку.
— Успокойся, Герберт. Подумай о своем здоровье. Ведь все можно обсудить спокойно. И очень даже нужно. Сдается мне, рассудительности вам не хватило. Вы разно судите обо всем, что связано со смертью Юста, и защищаете свои взгляды, яростно споря. Но при этом невозможен объективный подход к делу. Отчего избегает тебя Марк? Да оттого, что ты не дал ему ответа, который бы его удовлетворил. Может, ты не в состоянии его дать. Но парню этого не понять. Он думает — они нам лгут, они знают больше, они какое-то участие во всем этом принимали, а молчат оттого, что совесть нечиста.
Я поднялся, подошел к окну, выглянул на темную улицу.
— Почему же молчит Анна Маршалл? — пробормотал я.
— Может быть, знает не больше, — запинаясь, ответила Эва, сама не очень-то веря этому.
— Она знает больше, — сказал я и вспомнил, как в кафе Анна внезапно замкнулась: высказав поначалу несколько туманных догадок, она вдруг замолчала, словно это была сфера, в которую по каким-то причинам она не желала никого допускать.
Эва тоже подошла к окну. В туфлях без каблуков она была мне едва по плечо, хрупкая, нежная.
— Побереги себя, Герберт. Подумай о детях… и обо мне.
Я обнял ее за плечи.
В эту минуту я не помнил ни о своей болезни, ни о том, что подвергаюсь опасности. О тянущих болях в левой стороне груди нельзя, конечно, забывать. А об остальном?
Вечером Эва прочла мне два стихотворения. Первое написал Сергей Есенин, поэт, о котором я знал лишь понаслышке. Один из самых талантливых русских поэтов, сказала Эва. В 1925 году он покончил жизнь самоубийством. И Эва прочла мне его прощальное стихотворение:
До свиданья, друг мой, до свиданья, Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье Обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки и слова. Не грусти и не печаль бровей, — В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей.Строки эти взволновали меня, наполнили печалью. Возможно, раньше я воспротивился бы такому их воздействию. Безысходность, пессимизм оттолкнули бы меня. Но сегодня? Чего стоят две заключительные строки: «В этой жизни умирать не ново, но и жить конечно, не новей»?
— Маяковский, — сказал Эва, — ответил на это стихотворение своим стихотворением. В тысяча девятьсот двадцать шестом году. Самоубийство талантливого поэта глубоко поразило Маяковского. У него стихотворение большое. Я прочту тебе начальные и заключительные строки:
Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота… Летите, в звезды врезываясь. Ни тебе аванса, ни пивной. Трезвость. Нет, Есенин, это не насмешка, — в горле горе комом, не смешок.Маяковский, потрясенный, задается вопросом о причинах этого самоубийства. Находит он их? Недостаточный контакт с массами? Возможно. Возможно, однако, что-то совсем другое. Непонимание противоречивого, но большого таланта. Возможно, и это. Абстрактные представления о путях к социализму. Пожалуй. И под конец Маяковский говорит:
К старым дням чтоб ветром относило только путаницу волос. Для веселия планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней.Эва читала медленно и тихо, тем самым подчеркивая трагический смысл стихотворения.
Да, Владимир Маяковский, его боль и его мучительные поиски причин этой тяжелой утраты…
Я еще размышлял над этими строчками, когда Эва сказала:
— А через пять лет он сам застрелился.
Я вздрогнул, хотя и знал об этом, но сейчас как-то выпустил из памяти. Впервые услышав о самоубийстве Маяковского, я усомнился в поэте революции. Я не допускал мысли, что такое может случиться. И сегодня тоже об этом не вспомнил, так не хотелось мне признавать чудовищный факт.
— И все-таки он остается бессмертным, — сказала Эва.
Но можно ли сравнивать смерть Маяковского со смертью Юста? А почему нет? И можно и должно, когда дело идет о человеке. Эва по-своему помогла мне это понять.
Штребелов, как же легко ты находишь определения — слабовольный, неустойчивый и что там еще. Ты не прав. Так нельзя судить. Слишком просто. Ты, правда, гордишься своей простотой. Но ты путаешь простоватость с простотой, Карл. Твой упрощенный взгляд на жизнь и на людей, Карл, изолирует тебя, отгораживает от более глубокого познания фактов, помогает тебе уйти от вопросов, которые поставили бы под сомнение твою позицию.
Отчего ты не думаешь, что такой человек, как Юст, не сумел, быть может, преодолеть тяжелый кризис? Ты, Карл, не допускаешь даже подобной мысли, считая, что никаких кризисов у человека в нашем мире быть не должно. Подобная мысль могла бы подорвать твои незыблемые взгляды.
Я хочу разобраться во всем этом. Я обязан это сделать. Теперь я понимаю: все это меня мучило до нынешнего дня, потому что и я всеми способами пытался уберечься от этого вопроса. И моя доля вины есть в том, что произошло с Юстом. Я обязан был поддержать Юста, да так, чтобы всем стала ясна моя точка зрения. А я медлил, сомневался, боялся лишних забот, проявил нерешительность.
Стоп! Никаких самоистязаний. Это же самое простое, это можно себе позволить, чтобы потом вздохнуть с облегчением: я, мол, все осознал.
Ну, а Юст на другом полюсе. Ведь против некоторых черт его характера, не слишком-то приятных, я тоже не выступал с достаточной решимостью. Что это за черты?
Быть может, склонность к резкой смене решений; как часто он отметал чужое мнение, в какой обидной форме защищал свои, пусть даже верные, взгляды. И такая же резкая смена настроений.
И это все? И это причины такой смерти? Вот вопрос, который не дает мне покоя, который будет возникать все снова и снова.
Эва помогла мне, напомнив о Есенине и Маяковском. Эва могла бы помочь и Юсту. Во всяком случае, это мог бы сделать просто сердечный человек, взгляд которого не замутнен предубеждениями или вечными колебаниями. Такой человек помог бы ему.
Возможно, однако, что все надо рассматривать совсем иначе. Что известно нам порой о человеке рядом с нами, о друге, о товарище, о женщине?
В последующие дни не произошло ничего, что указывало бы на наши с Штребеловом разногласия в деле Анны Маршалл. Карл держался ровно, сдержанно, и никто не подумал бы, что у нас дошло до разрыва.
Школа работала бесперебойно, словно хорошо смазанный часовой механизм. Мне кажется, этот механизм работал даже точнее, чем обычно. Директор создал наилучшие условия для педагогов. Но разве не в этом его главная задача? Никто не может этого отрицать, в том числе и я. Мне, его заместителю, следует прилагать все усилия, дабы соответствовать требованиям нашего коллектива.
Но за кажущимся спокойствием, подозревал я, идет подготовка к стычкам, которые вот-вот вспыхнут. Карл не такой человек, чтобы остановиться на полпути, он не такой человек, на которого можно нагнать страху, даже выйдя из его сада с окаменевшим лицом, не прощаясь.
Карл уверен в правильности своих педагогических взглядов, уверен, что защищает разумные идеи и что свой школьный корабль проведет сквозь все и всяческие опасности.
В те сентябрьские дни он приготовил нам приятный сюрприз. За школьным двором, ближе к автостраде, лежал большой пустырь, он зарос крапивой, сорняком, корявыми, низкорослыми сосенками.
В одно прекрасное утро на пустыре появились бульдозеры и выровняли участок. Директор специально созвал линейку, на ней школьники и педагоги узнали, что наша давнишняя мечта осуществляется: здесь будет создана спортивная площадка для школы. План добровольной помощи строительству у нас уже имелся. План разумный, дельный, вышедший, конечно же, из-под пера нашего директора.
Теперь до самой зимы у нас было общее дело. А уж раз мы получили технику — экскаватор, бульдозер, — а также специалистов, то сомневаться в успехе не приходилось.
Как Карлу Штребелову удалось заполучить технику и людей вне очереди — оставалось его секретом. Спрашивал кто-нибудь, он только отмахивался и ухмылялся.
Но факт — он своего добился. Результат не замедлил сказаться. Во-первых, у нас появилась спортплощадка, отсюда логический вывод: повысился КПД уроков физкультуры, и коллега Тецлаф воодушевился, его переполняла энергия; во-вторых, такая коллективная задача создала для учеников и учителей и даже для родителей спокойную рабочую атмосферу, авторитет школы вновь поднялся; в-третьих, сами собой прекратились разговоры о мрачном событии, о сомнениях, о смерти, разговоры на темы, обращенные вспять, они перестали преобладать в повестке дня нашего городка.
Все это я очень хорошо понимал, тем более что и на меня это мероприятие повлияло положительно. Я вместе со всеми рыл ямы для столбов на волейбольной площадке и прыжковую яму. Стояла прекрасная осенняя погода, бабье лето держалось необычайно долго.
Львиную долю работы должен был сделать десятый «Б», что и неудивительно. Тецлаф сразу же привел своих парней и девчонок — преследовал он, конечно же, не одну цель. Да, нам предстояла напряженная, активная осень. Случайно все совпало или нет — не имеет значения, но это было ответом Карла Штребелова на пагубное воздействие поступка учителя Юста.
Однажды, прокладывая дорожку, я оказался рядом с Анной Маршалл, которая, как я, во всяком случае, подозревал, избегала меня в последние дни.
Я спросил, чем кончилось дело с взысканием.
— На понедельник меня вызвал директор, — сказала она. — А ты ничего не знаешь?
— Нет. Значит, все-таки!
— Может, речь пойдет о чем-нибудь другом. О новой квартире, к примеру, о повышении оклада.
Я посмотрел на нее, но она, избегая моего взгляда, опять нагнулась и неумело стала разбрасывать лопатой щебень. Я собрался было показать ей, как это надо делать, но раздумал. Ей явно не хотелось со мной разговаривать, она не испытывала ко мне доверия.
Юст тоже не испытывал ко мне доверия. Неужели я такой странный, никакого доверия не внушающий субъект? Яростно набросился я на щебень. Вот по крайней мере работа, результат которой видишь незамедлительно. Снесешь гору щебня — и готова аккуратная дорожка. Вполне наглядный результат, на который можно даже ногой ступить.
Мы должны были все кончить к следующему понедельнику, тогда здесь закипит спортивная жизнь. Через неделю, стало быть.
Штребелов на этот раз не торопился. Это было внове для него. Вообще говоря, я считал его человеком, отметающим тактические маневры. Но, может статься, он не так уж уверен в своей правоте, как пытается показать. И потому действует по принципу: время лечит все раны. Напрасный труд в данном случае. Рана может слишком быстро затянуться, а под, казалось бы, здоровой поверхностью образуются нарывы, и в один прекрасный день они дадут о себе знать.
В ту неделю мне надо было уладить кое-какие дела в Берлине, и я решил заодно навестить отца Юста. В записной книжке я отыскал адрес, который мне как-то написал Манфред. Его отец жил на Карл-Маркс-аллее.
Я вышел на остановке Франкфуртер-тор. Да, эта улица, бывшая Франкфуртер-аллее, обладала для меня какой-то особенной, притягательной силой. Еще студентом педагогического института я помогал убирать здесь развалины. И дома, которые на ней выстроили потом, а позже охаяли и осмеяли за архитектуру, дома эти производили на меня ошеломляющее впечатление, казались мне всегда истинным чудом. Они олицетворяли для меня созидательный коллективный порыв. Карл Штребелов тоже принимал участие в этой работе. Голубые знамена над руинами и наши песни. Брехт:
«Дружно за дело! Стройка, подымайся ввысь! Из развалин новый мир мы строим смело. Кто там стоит на пути! Берегись!»
Какие это были времена! А вот она, эта улица, сегодня. Годы не пощадили тех новых и невиданных зданий, что выросли на месте старых доходных домов и развалин вдоль Франкфуртер-аллее. Довольно долго на нее поглядывали свысока. Но теперь она прочно заняла свое место в картине города. Дома с мраморными колоннами у входа, медленные лифты, паркет в квартирах — мы ко всему привыкли.
В одном из этих домов, на одной из дверей — табличка с именем Юст.
Альфред Юст. Слесарь-железнодорожник. Активист Первого часа[3]. В Руммельсбурге[4].
— Да-да, я веду свой род от древней пролетарской аристократии, дорогой Герберт. Мой старик — слесарь в Руммельсбурге, — как-то раз чуть иронично, но любовно сказал Манфред.
Мне повезло, я застал Альфреда Юста дома. Худощавый, с белыми как лунь волосами, он мучительно напомнил мне сына.
С недоверием, словно оценивая, смотрел он на меня.
— Что вам угодно?
— Я Герберт Кеене, — ответил я, смешавшись. — Ваш сын… мы были друзьями. Я уезжал за границу…
Он впустил меня.
— О тебе он мне рассказывал, — начал Альфред Юст, — о тебе и о твоей жене. Вы для него кое-что значили.
Альфред Юст провел меня в комнату, обставленную удобной, простой мебелью пятидесятых годов. Круглый стол, уже, видимо, два десятилетия выполняющий свои функции, стоял посередине.
Юст пододвинул мне стул и сел напротив, на диван, руки, сжав, положил на край стола и взглянул на меня испытующе. На стене рядом с пейзажами — степь, лес, озеро — я увидел фото, на нем — локомотив, украшенный флагами. В центре на белом щите начертана цифра 200 и под ней слова «Жел. ремонтн. мастерские. Руммельсбург». Высокий, худощавый рабочий в спецовке, в котором я без труда узнал Альфреда Юста, стоял на небольшом возвышении и передавал человеку в старомодном костюме какую-то бумагу.
Легко было догадаться, что на фото зафиксирован торжественный момент — видимо, юбилей ремонтных мастерских, а может быть, отмечалось восстановление после войны двухсотого локомотива в Руммельсбурге. Пожилой человек, что сидит напротив, надо думать, принимал в этом активное участие.
— Ты, конечно же, хочешь что-то узнать о Манфреде, — сказал Альфред Юст.
— Я хотел бы пойти на его могилу.
— Я так считаю — вы лучше знаете, что с ним стряслось. Он же у вас был, а не у меня. Меня он навещал, да, это верно. «Ну, старик, как живешь-можешь? Все еще с локомотивами возишься? Теперь везде на дизели переходят, видно, пришла пора тебе на пенсию уходить, отец. Ну что ж. Ты ее честно заслужил…» Так он всегда со мной разговаривал. Такая у него была привычка. Такой уж он был, в мать пошел. О вас он рассказывал скупо и редко. Но кажется, ему у вас было хорошо. Не то что в П. Проклятые были годы, мученье одно для парня, поверь мне. Ах да, ты ведь толком не знаешь, как он жил в том городе, который и мне был не по душе. Он неохотно рассказывал о жене и о детях. Женитьба стала истинным несчастьем для парня, поверь. А я оказался прав. Почему он не хотел уезжать оттуда, из П.? В скверной квартире поселился — рядом с прежней, из которой она его вышибла. Я ему предложил ко мне переехать. Места хватает. Три комнаты для одного старика. Парень нашел бы здесь работу, в школах нужны учителя, я интересовался. В конце-то концов, он человек способный. Так нет, не пожелал. Он и хотел уехать оттуда и не хотел. Думаю, паршиво ему приходилось. Стал работать недалеко от того города, а в сущности, в нем остался. Дьявол его знает, поверь мне, я во всем этом не мог разобраться. Поколотил бы его иной раз. Ему же все само в руки давалось, все ему было легко. А он только усложнял свою жизнь, превращал ее в ад. Такой была и моя жена. Да, он был вылитая мать. Кто тогда, много лет назад, понимал, почему она именно меня выбрала? Красивая, веселая Мария взяла в мужья этого чурбана Юста? Э, нет, невозможно? А вот и возможно. Если она попадала в беду, так ни к кому не бежала за утешением, никому не изливала душу. Да, не изливала, а ведь вовсе не молчунья была. Не хотела быть никому в тягость. Чертовски этого боялась. Но зачем же люди соединяют свои жизни? И как не помочь родному человеку? Почему же парень ко мне не пришел? Эту боль мне не избыть. Понимаю, да, в жизни чего не случается, наш брат многое повидал и пережил, хотя бы он попытался со мной поговорить. Знал ведь, где живет отец. А здесь, где ты сидишь, было его место, когда приезжал. За этим столом мы частенько веселились, давно, когда они еще оба живы были. Я шумным никогда не бывал, я человек неповоротливый, неловкий. Но они доставляли мне радость. Разойдутся, бывало, парень и его мамочка, так дым стоит коромыслом.
Альфред Юст замолчал, сжал руки. Да, такие воспоминания причиняют боль.
— Водки? — спросил он.
Я согласился, понимая, что ему нужно выпить. Он достал бутылку «пшеничной» и две рюмки.
Мы выпили, и мне тоже стало легче.
Я оглядел комнату. Радиоприемник старой марки, на столике в углу, прикрыт салфеткой, на нем сувенир «Спутник» из Москвы. Я мысленно представил себе, как перед этим приемником сидит Манфред и мир входит в его комнату. Здесь провел он часть детства и юность. А теперь в комнате как-то холодно и пусто. Такой она останется навсегда, ведь они, та женщина из города П. с детьми, сюда никогда не придут.
Альфред Юст проводил меня на кладбище у дороги, что ведет к Фридрихсхайну. Старик держался очень прямо, куртка на нем была чистая, исправная, хотя носил он ее, видимо, уже не первый год, брюки с широкими отворотами отглажены, башмаки вычищены.
Шапки он не носил.
День выдался ветреный и холодный. Длинная обветшалая кладбищенская стена казалась мрачной, и старательно ухоженное кладбище с бессчетными рядами могил — мертвые многих поколений — тоже.
В ряду урн — свежий холм. Цветы, а венки уже убрали. Я охотно глянул бы на наш, от нашей школы, на ленте которого наверняка был текст, сочиненный Карлом Штребеловом.
Рядом со свежим холмом — серый камень, на нем выбито имя: «Мария Юст, урожденная Конопа». Жена, мать, умерла в середине шестидесятых. Рано умерла.
Мы молча стояли перед двумя холмиками.
Странно, но только сейчас я окончательно осознал, что Манфред Юст умер. Здесь, на оголенном в эту пору кладбище, расположенном вплотную к красному кирпичному зданию и, словно стражами, окруженном дымовыми трубами. Здесь, в местах, где вырос, нашел Юст свой покой. Сознаюсь, я был близок к тому, чтобы разреветься.
Старик достал из-за надгробного камня грабли, маленькие игрушечные грабельки, детские, тщательно очистил холмик от листвы, взрыхлил землю вокруг могил.
Отчего он не оставит осенние листья? Пусть бы укрывали оба холмика.
На улице я распрощался с Альфредом Юстом.
Подумал было пригласить его к нам в Л. Но тотчас отбросил эту мысль. Альфред Юст не приехал бы к нам. Да и зачем? У него теперь две дороги. К Варшауэр-брюкке, чтобы съездить в Руммельсбург, к коллегам, к любимым своим локомотивам, пока он в силах, ведь только так он еще чувствовал биение жизни, и вот сюда, на это кладбище посреди огромного города.
Я пошел к Александерплац и оттуда на Унтер-ден-Линден.
В книжном магазине на улице Либкнехта мне хотелось найти для Эвы что-нибудь особенное. Но ничего не попалось. Да и трудно найти в книжном магазине книгу, подходящую для Эвы. Я купил цветы на вокзале Фридрихштрассе и уехал назад в Л.
Мне было грустно, но я был спокоен.
Я побывал на могиле Юста. Смогу теперь описать все Марку Хюбнеру. Может быть, съезжу туда с ним и с другими ребятами.
Но может быть, они не захотят? Для большинства история с Юстом была уже в прошлом. В конце концов, так и должно быть. Или я ошибаюсь? А как сам я отношусь к ней?
Я, конечно, хотел, чтобы все успокоилось, чтобы история эта завершилась, но обстоятельства складывались иначе. Оттого я и к могиле на скромном кладбище в Фридрихсхайне шел с тяжелым сердцем.
Да, мне и самому для себя нужно чем-то завершить эту историю, нужно найти слова, подводящие черту, даже если они прозвучат так: это ты, Кеене, ты, человек, умудренный опытом, кругом виноват. Пусть никто не упрекнет тебя в открытую — только Эва могла бы упрекнуть, хорошо тебя зная, — ты не вправе преуменьшать свою долю вины. Из этого случая ты извлек урок и сформулировал принцип, на котором будешь строить свою дальнейшую жизнь. И он гласит: делай отныне все, что в твоих силах, чтобы не пострадал человек.
Но в школе мне еще нужно было урегулировать много вопросов, не говоря уже о дисциплинарном взыскании, угрожающем Анне Маршалл.
Об Анне Маршалл старик, видимо, ничего не знал. Иначе он заговорил бы о ней.
Да, многое еще оставалось непроясненным.
В тот час, когда все эти соображения теснились у меня в голове, я не догадывался, что мне предстоят два дня — суббота и воскресенье, — когда смерть Юста целиком займет мое внимание и вызовет у меня еще больше противоречивых мыслей, чем я мог предположить.
На моем столе я нашел пакет. В нем лежали письма, написанные Манфредом Юстом Анне Маршалл летом. Письма были пронумерованы и аккуратно стянуты резинкой.
К пакету была приложена открытка, адресованная мне.
«Дорогой Герберт, я все-таки решила показать тебе письма, которые Манфред писал мне этим летом — таким образом, незадолго до смерти. Я боролась с собой. Но сейчас я уверена, что тебе их прочесть следует, и никому больше. Одно исключение я допускаю: если ты считаешь нужным, пусть эти письма прочтет Эва.
Привет, ваша Анна».Я взвесил пакет на руке. «Анне Маршалл» — было выведено четким, изящным почерком на каждом конверте. На обороте стоял обратный адрес — город Н., расположенный где-то на севере, и улица в этом городе.
Узнаю я хоть что-нибудь из этих писем? Помогут они мне разгадать тайну Манфреда Юста? Что ждет меня? Новые неожиданности? А Эва? Мне, значит, решать, читать ей эти письма или нет.
В тот же вечер я начал читать письма, которые Манфред Юст написал Анне Маршалл.
III
«Н., 7 июля
Дорогая, любимая моя Анна,
не рви это письмо, не бросай его в огонь, не откладывай его в сторону без внимания. Прочти его до последней строчки со свойственным тебе спокойствием, тем спокойствием, которое действовало на меня столь благотворно и в то же время будоражило меня.
Прощались мы с тобой в последний день занятий довольно холодно, вернее говоря, мы вовсе не прощались. Я не стал говорить тебе, что еду в Н., дабы отдать себя в руки моего друга Иоахима, которого ты знаешь. Он врач окружной больницы. Не пугайся, в этом есть нужда, но нет ничего трагичного. Мне не хочется, да и ни к чему распространяться о том, что мне самому еще не ясно. К счастью, природа изобрела боль, как сигнал, чтобы человек все-таки замечал кое-что и своевременно кое-что предпринимал.
Вот я здесь, в Н., кое-что предпринимаю. Если быть честным, то я лично еще ничего не предпринимаю. Сижу в дивном саду, солнце припекает мне макушку, а я думаю прежде всего о тебе и вот пишу тебе письмо.
Как корреспондент я тебе незнаком. Иной раз я пишу длиннющие письма, иной раз ленюсь две-три строчки черкнуть.
Но тебе писать собираюсь прилежно и… сколь возможно откровенно. Хочу использовать время, его у меня здесь полно, а вообще-то нам его всегда не хватает. Хочу поделиться с тобой кое-какими мыслями, возможно, такими, какими обычно делиться не принято.
Домик, в котором я живу, стоит на краю города, неподалеку от озера и от больницы, в нем живет Иоахим с семьей. Я гость, окруженный вниманием, и единственно, чего бы желал, — провести здесь с тобой когда-нибудь отпуск. Этого, понятно, не случится, ничего у меня не выйдет, да и ты наверняка не захочешь провести со мной отпуск.
Расставались мы холодно, и я намеревался в тот же вечер зайти к тебе, чтобы попрощаться совсем иначе. Но из этого ничего не вышло. Жаль.
Ведь я люблю тебя.
Да, пишу это недрогнувшей рукой.
Знаю, что сказать тебе это был бы не в силах. О чем горько сожалею. Почему я не могу просто произнести эти слова? Почему у меня всегда прорываются насмешливые нотки? Почему я вечно бью отбой? Скверно. Но уж таков я. Или таковы мы, кому нынче лет тридцать, тридцать пять. Нет, вздор этак обобщать. Хотя какой-то смысл в этом есть.
Смотрю я на Кеене и Штребелова, людей чуть постарше нас, на себя, на людей, как говорится, в расцвете лет, и вот на тебя, на молодежь. Ты же у нас совсем юная. Около двадцати пяти. Самому смешно, я ведь чуть не воскликнул: какой счастливый возраст! Ну, дела, и чем все кончится, если я буду сидеть под деревом в тихом саду и дам волю собственному перу. И все-таки я еще раз пишу: я люблю тебя.
Делай теперь с моим признанием что пожелаешь, радуйся или умиляйся, злись, пугайся или смейся, но для меня эти слова значат одно — я полностью все осознал. Теперь, после почти года наших более чем странных отношений. А может быть, именно поэтому. Но ты, может быть, прочтешь эти слова и, усомнившись в них, подумаешь: ну и что? Кого только он не любит.
Знаю, у тебя для этого есть известные основания. Опыт общения со мной — вот что позволяет тебе задаться подобным вопросом.
Помню те два дня в мае, когда мы решили съездить в Дрезден. Все складывалось превосходно. Ты так была рада, что поедешь в чудный город на Эльбе, так рада была, что увидишь его музеи, — даже меня своей радостью заразила. Экскурсия обещала быть чудесной. Но за два дня я сказал тебе, что поездку придется отложить, я ехать не мог.
Ты тотчас догадалась: «Тебе разрешили повидать детей, не так ли?» Да, мне разрешили повидать детей. Выяснилось, что я ненадолго могу к ним приехать, как, впрочем, уже часто бывало. Моя бывшая жена отправилась на конференцию, и я мог побыть с детьми в нашем загородном домике. Узнав, что целых два дня дети будут только со мной, я позабыл все — наши замыслы, нашу поездку, твою радость, музей «Зеленый свод», прогулки на берег Эльбы, о которых мы уже мечтали, позабыл, что мы хотели побывать в районе «Белый олень», посмотреть оттуда на долину Эльбы… Я думать забыл о предстоявших нам двух ночах, о которых мы хоть и не говорили, но которых так ждали.
Да, все было забыто. Я стремился к детям.
И ты это тотчас почувствовала. Женщина такое всегда чувствует, теперь я это понимаю, но в ту минуту мне эта мысль не пришла в голову. Мы поссорились оттого, что ты решила ехать одна. Я обвинял тебя в эгоизме и нежелании считаться со мной. Я, которому, безусловно, следовало помалкивать, прямо-таки взбесился. Ты ушла и на другой день уехала в Дрезден. А я поехал к детям и провел, не стану лгать, чудесные два дня. Впервые после долгой разлуки они принадлежали целиком мне одному, мои Ирина и Андре.
Не следует ли мне теперь написать, что я все время думал о тебе, что эти два дня с детьми считаю попусту потраченными? Нет, это было бы ложью, дорогая Анна. Извини мою откровенность, вернее говоря, разреши мне эту откровенность. Я как раз собираюсь внести ясность в наши отношения. Хочу хотя бы попытаться. Быть может, здесь, на досуге, вдали от тебя и других, у меня что-то получится. Я знаю, ясность — вот что нам нужно. Звучит несколько прозаично.
Когда я говорю, что считаю тебя гармоничным человеком, то вовсе не собираюсь замалчивать противоречия, которые заметил или почувствовал в тебе. Ты была порой беспощадной. Я едва не написал — как Штребелов. Но твоя беспощадность все же иного толка. Это твоя молодость. А молодость имеет право — никуда не денешься — быть беспощадной.
Однако не всякую беспощадность молодежи можно одобрить. Вот и моему отношению к детям ты не сочувствовала. Может быть, это ревность? Нам нужно когда-нибудь, а может и скоро, самим произвести на свет малыша. Да, именно это я тебе предлагаю.
Согласен, тебе нелегко было раньше и сейчас нелегко понять мои чувства. Они достаточно запутанны.
Странно, но в те два дня время словно откатилось назад на два года. Два года на короткий миг словно бесследно исчезли.
В воскресенье вечером «трабант» моей бывшей жены остановился у дома. Она вышла из машины — в светлом костюме, жакет нараспашку, прическа чуть растрепалась, — усталая после конференции и поездки. Дети бросились к ней с криком, повисли на ней. Тут бы мне не сидеть на скамье, отирая пот после игры в мяч, а пойти с улыбкой ей навстречу, как бывало когда-то, выждать, пока дети отпустят ее, поцеловать в лоб и спросить: «Все прошло удачно?» Она ответила бы: «Разумеется. Дело того стоило. Изрядно потрудились. И результаты есть…»
Меня так тянуло к ней, что я действительно шагнул ей навстречу. Она улыбнулась, когда я подошел, улыбнулась искренне и сердечно. Но когда я остановился перед ней, улыбка погасла. Лицо стало холодным и замкнутым, каким я его слишком хорошо знал. А я? Коротко информировал ее, как у нас прошли дни, что все в полном порядке, и попрощался.
Она предложила отвезти меня на вокзал, но предложила явно нехотя. Смотрела на меня недоверчиво и переводила взгляд на детей, уже снова игравших в мяч. Я поблагодарил, сказал, однако, что мне полезно пройтись по лесу.
Распрощавшись с детьми, я ушел.
Отойдя немного от дома, обернулся, надеялся, что дети кинутся за мной. Я ошибался. Они как раз исчезли в доме, мне слышны были энергичные приказы моей бывшей жены. В доме воцарился привычный порядок.
А я шагал через лес, проклиная себя. Тряпка, дуралей, слюнтяй. Но знал, подвернись в ближайшую субботу такой же случай, опять поеду, а в воскресенье так же покорно удалюсь.
Оттого-то я понимаю, дорогая Анна, любимая моя, что ты правильно делаешь, избегая меня, и относишься ко мне сдержанно. Да и как тебе иначе ко мне относиться? Закрывать глаза на факты? Может, кто и мог бы. Только не ты.
И все-таки я хочу во многом разобраться. Быть может, мне это удалось здесь, в тихом саду, в который как раз входит мой приятель Иоахим и знаками предлагает мне кончать мои письменные излияния. По крайней мере на сегодня.
Прошло несколько минут, может, даже полчаса, пока я отвечал на вопросы и выслушивал советы строгого доктора Иоахима. Обычные, разумеется, и очень скучные.
Хорошо ли я себя чувствую, и как провел день, и что завтра они начнут вплотную заниматься моим несчастным организмом.
Покончив с этим, мы выпили пива. Поистине живительный напиток.
В доме есть, понятно, и дети, их трое, они тоже играют с отцом в мяч. Такова участь всех отцов. Вижу, что пачка писчей бумаги тает, завтра отправлюсь за новой. Выберу самую лучшую, какая только есть, чтобы тебя хоть этим порадовать.
Перечел свою писанину. Не знаю, правильно ли я поступаю? Вот опять сомнения. Я откровенен по мере сил.
Дай о себе знать. Жду от тебя весточки.
Отчитай меня как следует, если сочтешь нужным. Я все приму, все выслушаю, только об одном прошу тебя — не молчи. И если ты выполнила мою просьбу, выраженную в первых строчках письма, и прочла его, так прими мою благодарность. Сегодня же я передоверю сие послание почте. Точка.
Приветствует тебя преданный тебе
Манфред».
«Н., 9 июля
Мадам, оказывается, я не в силах спокойно дожидаться вашего ответа, хотя твердо решил поступать именно так. Не устаю напоминать себе, что почта, действующая у нас в стране, не самая быстрая в мире. Кто знает, когда мадам получит мое письмо. Быть может, почтовики не доставят его, оно покажется им слишком толстым. Мне следовало, для верности, наклеить двойную марку. Но самое простое решение редко приходит в голову сразу.
Я опять сижу в саду под деревом (груша), и погода все еще великолепная, вид отсюда открывается восхитительный, но в остальном…
Есть исследования, прямо скажу тебе, премерзкие, зато помогают понять, что у нас внутри творится. От этого недолго и захандрить. А главное — осознаешь свою полную беспомощность. Мой друг Иоахим, правда, придерживается иной точки зрения. Во-первых, он недвусмысленно намекнул мне, что исследования эти самые обычные и что для меня все еще только начинается. Во-вторых, он вообще не сочувствует моей хандре, человек, говорит он, так устроен, что представляет собой некое единство, благодаря которому его организм функционирует, забывать этого никак не следует. Да, у врача совсем иные эстетические взгляды, чем у нашего брата. Я согласен с ним и делаю все, что в моих силах, напрягаю свои интеллектуальные способности и пытаюсь разобраться в своих бедах как человек разумный.
Что ж, все идет отлично, «отлично рычишь, Лев»[5]. Однако до сей поры, стало быть, добрых три с половиной десятилетия, я вообще не задумывался над тем, что делается в моем нутре.
Но хватит об этом.
Едва я бросил первое письмо в ящик, как тут же стал раскаиваться. По своему обыкновению. Что это ты насочинял? Расписался, забыв дисциплину, не контролируя ни своих мыслей, ни своих чувств. Дал волю собственной авторучке. И это называется мыслящий человек, педагог, якобы что-то разумеющий в психологии.
Не подумай, будто я хочу какие-то свои слова взять обратно, это смысла не имеет. И признание в любви я вновь повторяю, надеясь лишь, что тебе оно, вновь повторенное, не наскучит.
Но сомнительна другая часть письма, сентиментальное описание выходных дней, проведенных с детьми, изображение моей бывшей жены. Уместно ли было писать тебе об этом? Какое тебе до этого дело?
Ты вправе спросить: чего он, собственно, хочет? Любил ведь свою жену, спал с ней, завел двоих детей, была у него семья, а потом он развелся, ушел от детей. Вот его и заела нечистая совесть. Пусть отправляется к ним, резвится с детишками, любит их и время от времени целует в лоб жену. Можно и так жизнь прожить. Многие живут, стоит лишь поглядеть вокруг.
Замечаешь, я, кажется, уловил твой тон. Именно так можешь ты меня спросить. Напрямую, начистоту. Ясность прежде всего — это ведь твой принцип. Ты знаешь, я частенько с твоим упрощенным, на мой взгляд, требованием ясности не согласен. Но признаю его за тобой, поскольку ты такая, поскольку это требование ты предъявляешь и себе. Но не так-то все просто, требование это весьма абстрактно, оно не учитывает всех сложностей в жизни человека.
Это и есть главный предмет спора между моим уважаемым коллегой директором и мной в области педагогики. Однажды, когда тебя еще не было в нашей школе, я не наказал ученика, который напился, и не предал дело огласке. Я знал, какие обстоятельства послужили причиной, и понимал, что только доверием можно вернуть парня на путь истинный. Ох, какой тут поднялся переполох. Пришлось мне проявить характер, когда ко мне подступились с вопросами. И я проявил его, хотя признаю, что вопросы были справедливые. Я мог бы обсудить свои действия с директором и коллегами. Но я не доверял им и, главное, не верил, что Штребелов пойдет на известный риск, ведь я с самого начала ощущал предубеждение, с каким он меня встретил. Я же пришел, как ты знаешь, из спецшколы. Вот и задирал чуточку нос.
Так вот, мое решение оказалось в основном верным, я не требовал от парня четкого ответа, я действовал не по схеме, я принял во внимание все обстоятельства и все сложности этого случая.
Нет такого случая, который целиком и полностью походил бы на другой. Это я не устану повторять себе, дабы не допустить ни единого ложного педагогического шага.
Так что же случилось в тот день, когда напился Марк Хюбнер? Это был наш экскурсионный день. Я со своим классом поехал в окрестности П. Целью поездки я избрал дворец, где после войны было принято то самое соглашение, влияние которого мы ощущаем на всех политических событиях нашей современности. Цель эту я ученикам не назвал. Напряженный интерес ребят, ожидание — этого мы в педагогической практике никогда не должны ни забывать, ни отбрасывать.
Мы еще не доехали до П., когда Марк Хюбнер, один из лучших учеников в классе, стал бог знает что плести, кричать, размахивать руками. Мы подумали поначалу, уж не заболел ли он, но тут же поняли, что он пьян, и нашли у него баклажку с водкой, самой дешевой. Даже его лучшие друзья не заметили, когда он напился. Парень, видимо, выпил, пока мы шли через лес.
Что делать? Поначалу и я растерялся, хотел даже искупать парня в озере, чтобы он отрезвел, но тут же одумался, последствия могли быть тяжкие. До моей квартиры, как тебе известно, можно добраться относительно быстро. Мы повели его ко мне, и я предпринял все возможное, чтобы отрезвить его. На это потребовалось время. Весь класс сидел у меня в большой комнате, в ней, как ты знаешь, полроты уместится, а я постарался, чтобы они не скучали. К чести класса, надо сказать, держались они молодцами. Все, видимо, хорошо относятся к Марку Хюбнеру.
А он свалился как подкошенный, ведь пить-то он не умеет.
Когда он пришел в себя, я поговорил с ним, спросил, что, собственно, случилось. У парня был прежалкий вид. Он глянул мне в глаза и промолчал.
«Отвечай, парень. Ты обязан отвечать», — строго сказал я.
«Не знаю, — едва пробормотал он, — как это случилось».
Мне стоило немало терпения и труда добиться, чтобы он выложил мне все начистоту.
«Отец, — сказал он тихо, — ударил мать. Но, пожалуйста, господин Юст, никому об этом не рассказывайте».
«И часто такое бывает?» — спросил я.
«Никогда еще не было, — ответил он. — Но сегодня утром случилось. Уже много месяцев они ругаются. Почему — не знаю. Они ничего не говорят, скрывают от меня. А раньше у нас все было в порядке. Сегодня утром я был в ванной, а они уже завтракали. Проходя к себе в комнату, я увидел, что отец вскочил и ударил мать по лицу. Потом он выбежал, а мать застыла на месте. Но когда я вошел, она сделала вид, будто ничего не произошло, хотя щека у нее горела от удара. Отец очень сильный, он и сейчас еще поднимает меня одной рукой высоко вверх. Мать промолчала, приготовила мне завтрак и пожелала хорошо провести день. А я бросился искать отцовский рюкзак. Отец у меня заядлый рыболов. И всегда берет на рыбалку баклажку с водкой. Спасается от холода по утрам. Ее я и взял. Где-то я читал, что стоит выпить водки — и горе позабудется, водка помогает пережить горе».
Я стоял перед ним, не зная, что ему ответить. Но обещал парню, что все останется между нами. И сдержал обещание. Главное в этом деле не водка, главное здесь совсем другое.
Я считаю, что у педагога должно быть право принимать решения, которые могут быть и чрезвычайными. Нет единого рецепта, единого средства против всех бед.
Творчески работать — значит не только произносить правильные речи, нет, от нас вправе потребовать и что-то посущественнее. Ну так позвольте же поймать вас на слове.
О ужас! Ну и отступление. Господи, я вовсе не собирался читать лекцию о педагогике.
Назад, к сути моего письма, я ведь пишу тебе о моем отношении к бывшей жене и бывшей семье.
Я познакомился с женой во время учебы. Это была, как принято говорить, большая любовь. Общие цели, общие взгляды, различное происхождение и разные характеры. Она была девушка красивая, строгая, даже суровая и при этом какая-то беспомощная. Дочь химика, работавшего на заводе искусственного волокна. Ученый, всецело погруженный в свою работу, он не чуждался и политики.
От города П., где мы учились (видишь, опять этот город, он и теперь не отпускает меня), было недалеко до города, где жила моя подруга с родителями. Для тех трудных условий их дом был обставлен с большим вкусом и без всякого чванства. Да, мой будущий тесть понравился мне чрезвычайно. Мы не один час провели вместе, он расспрашивал меня, я расспрашивал его, мы частенько спорили, но вполне дружески. Это было для меня интересное время. Моя будущая жена — очень скоро стало ясно, что мы поженимся, — считала, что я вроде бы олицетворяю ту часть рабочего класса, из которой вырастает интеллигенция. Она обожала моего отца и куда прохладнее относилась к матери. Моя мать ведь была человеком не очень серьезным, заядлой шутницей. Но отец относился к моей жене с самого начала очень сдержанно, чтобы не сказать отрицательно. Теперь я понимаю, чем это было вызвано. Слишком уж была она категоричной, слишком теоретично рассуждала о политике, жизни, воспитании, морали. Да, она именно такая. Но я ничего не замечал, я был влюблен, да и нынче вовсе не считаю ее теоретизирование недостатком. Суждения ее отличались независимостью, за ними крылись знания.
Так вот, окончив институт, мы поженились, нас считали красивой и во всех отношениях счастливой парой. Вскоре мы получили квартиру, жена осталась работать в институте, посвятила себя исследовательской работе, а я начал преподавать в знаменитой спецшколе. Все у нас выходило образцово. Рождались дети, прекрасные, здоровые, наше благосостояние росло. С помощью ее отца мы получили загородный участок, а потом и машину. Все наши интересы сосредоточивались на работе, у жены даже больше, чем у меня.
И вдруг начали появляться симптомы, в конце концов приведшие к распаду нашего брака. Процесс был болезненный, пренеприятный и длился долгие годы. Сегодня, когда я ищу, что же все-таки лежало в его основе, какие были тому причины, мне трудно найти ответ.
С моей точки зрения, наш брак стал невозможным из-за педантизма жены, она все строже и строже планировала нашу жизнь, в ней не оставалось времени для шуток, непредвиденных случайностей, сумасбродств. Все она разложила по полочкам и распланировала. Любое отступление от строгого распорядка вызывало у нее взрыв неудовольствия. А уж интимная жизнь, постель — для нее вообще дело второстепенное. Кроме работы и связанных с ней знакомых и в свою очередь связанных с ними встреч, скорее каких-то официальных банкетов, мы не знали развлечений. Зато планы у нее были. Защитить докторскую и так далее. У меня таких планов не было, во всяком случае пока, да еще из духа противоречия. Я стал объектом ее нескончаемой критики. Даже моя склонность, к примеру, одеваться по последней моде — а я предпочитал бы даже по последнему крику — была постоянной причиной ссор. Так и создалась у нас невыносимо напряженная атмосфера, но мы делали вид, что ничего не случилось, и производили, надо думать, хорошее впечатление на окружающих.
Пока я наконец не сорвался. Закрутил любовь на стороне, раз, другой. Нет, настоящего чувства не было, и выглядел я в этих историях не лучшим образом. Но у нас с женой все сломалось. Именно из-за этого. Начались даже недостойные перебранки. В жизни бы не подумал, что мы дойдем до такого. И вот дошли. В конце концов кончили разводом.
Здесь, кажется, самое время прервать изложение своей точки зрения. А что, если на все происходящее посмотреть с другой стороны?
Красивая, умная, талантливая женщина вышла замуж за человека, которого любит, особенно любит за такие качества, которых у нее самой нет, она твердо намерена создать семью прочную и, главное, позволяющую целиком погрузиться в любимую работу. Этого, однако, несмотря на все усилия, не случилось. Рядом с ней оказался человек легкомысленный, зачастую невоздержанный на язык, с какими-то затеями, легко поддающийся сиюминутным настроениям, обуреваемый внезапными идеями да еще сам себя восхваляющий — я, мол, с общепринятыми нормами не считаюсь. Оказалось, что она связана с человеком, не умеющим контролировать своего эмоционального состояния, он мешает ее распланированной, упорядоченной жизни, без чего, само собой разумеется, никакой престижной цели не достичь. Она вышла замуж за человека, который весьма непочтительно взирает на ее научные устремления, на ее серьезную работу, а будучи практиком, относится к ее работе скептически и не скрывает своего мнения. Она ложится в постель с человеком, когда ей это вовсе не по душе, да еще в самое немыслимое время, ведь муж не думает ни о самочувствии, ни о готовности партнера. Тут уж интимная жизнь, пусть разумная, сообразная возрасту, не может не потерпеть крах. Человек, который стал ее мужем, разыгрывает на приемах, на пикниках и разных встречах клоуна, ей приходится краснеть за него и с трудом сохранять самообладание. Этот человек портит детей своими сумасшедшими выходками, которые никто, хоть мало-мальски понимающий в педагогике, не одобрит. Да еще заводит любовниц, не испытывая ни глубокого чувства, ни истинной страсти, просто так.
Да, вот какой у нее муж. Разве непонятно, что с ним следует расстаться, навсегда, со всеми вытекающими отсюда последствиями?
Вот, дорогая Анна, моя история, которую я не вправе был утаить от тебя, особенно теперь, после первого письма с его романтическим благодушием. Многое в нашем браке осталось нерешенным. Но такое часто бывает.
В том же, что касается нас с тобой, я совершил принципиальную ошибку. Я жил все это время только настоящим и хотел создать из него будущее. А так нельзя. Хорошего из этого ничего выйти не может. Прошлое не зачеркнешь, его не утаишь. Мы в том с тобой убеждаемся.
Я допустил ошибку, но все же очень и очень надеюсь, что мы будем когда-нибудь вместе. А сейчас надеюсь, что завтра придет от тебя письмо. И наверняка придут завтра первые результаты анализов. Надеюсь и в этом плане на добрые вести.
Итак, завтрашний день — это день, преисполненный надежд.
Сердечно тебя приветствую, твой
Манфред.
P. S. Погода все еще ужасающе прекрасна.
Так ведь не может долго продолжаться. Как думаешь?»
«Н., 12 июля
Привет, Анна,
благодарю. Твое письмо пришло, долгожданное, с нетерпением жданное. Но только сегодня… Лишь тот, кто страсть познал, поймет, как я страдал, вдохновенно пела моя мать. Твое письмо лежит у меня на столе, я сижу в комнате и гляжу вниз, на свою грушу, что клонится на ветру. По небу мчат серые тучи, море нынче совсем не ласковое, а мрачное и злое и уж ничуть не располагает к купанию. Однако на горизонте я уже вижу узенькую светлую полоску. Ну чем не надежда на голубое небо? Вот от этой-то серебристой полоски на горизонте человеку нельзя отрывать глаз.
Если ты уже получила мое второе письмо, то прочла, что я возлагал огромные надежды на следующий день. Ничего не вышло. Пустой номер. День десятого июля выдался незадачливым. Началось все с погоды. Дождь и холод. Я пошел, подняв воротник, к Иоахиму, он сидел за письменным столом, углубившись в изучение каких-то бумажек. Конечно же, моих анализов. Оказалось, Иоахим из тех врачей, что внушают мне страх. Эй, Иоахим, сказал я, не валяй дурака. Говори со мной как обычно, как с другом, как с приятелем. Но он словно оглох или не желал меня понимать.
Короче говоря, результаты первых исследований, тех «самых обычных», не удовлетворили врачей, нужны дальнейшие исследования. Иоахим говорит, что и не ждал ничего иного. Как так? Не ждал? А чего же он ждал, хотел я спросить, но не решился. О чем не знаю, о том не беспокоюсь. Дурацкая поговорка. В моем случае все как раз наоборот. Именно оттого, что не знаю, я беспокоюсь. Иоахим не проявил ни опасений, ни озабоченности, но и утешать не утешал. Все изложил по-деловому, за это я его и люблю.
Говорю тебе, объявил он, и это тебе подтвердит любой мой коллега, — терпение, мой друг, терпение.
Он спокойно растолковал мне мои показатели: сахар, моча, кровь и др. Иоахим весьма современный врач. И поделился со мной воодушевляющей новостью: у меня превосходная ЭКГ, у меня, говорит он, такое сердце и такое давление, что три четверти человечества могут мне позавидовать. Ну вот, теперь я это знаю и буду радоваться своему здоровому сердцу. Только я ведь не из-за сердца приехал к Иоахиму, в этой области меня не точит, не сверлит. Мне известны случаи, когда сердце у людей было сильным и здоровым, тем медленнее и мучительнее они умирали.
Но Иоахим отличный врач. Я знал, что делал, когда поехал в Н. Все здесь легче и проще, он знает меня, я знаю его.
Десятого, вернувшись к себе в комнату — дома никого не было, жена Иоахима работает детским врачом, ребятишки кто в школе, кто в детсаду, — я ощутил какую-то смутную тревогу. Состояние, ты согласишься, для меня не слишком характерное. Итак, терпеливо ждать. Но как долго? И разве когда-нибудь в жизни, особенно если речь шла о моем здоровье, мне приходилось терпеливо ждать? Что-то не припомню. Я отличался превосходным здоровьем, собственное тело я, вообще говоря, ощущал, лишь выпив лишнее. Как я теперь понимаю, я знал лишь светлую сторону жизни. Где бы я ни работал, все складывалось так, как я того хотел и желал. Не считая тех случаев, когда я сам себе подкладывал свинью.
Что ж, надо запастись терпением. Придется учиться терпению. Иоахим сказал все правильно. Будем надеяться, он еще не опоздал. А знаю я Иоахима уже двадцать лет. Как бежит время. Познакомились мы с ним у нас в Л. Ты удивлена, да?
Три года моей юности я провел в Л. Тебе я о том еще не успел рассказать. Поэтому я после развода и поехал в Л. Никто не понимал меня. С чего это человек, ни в чем не проштрафившись, уходит из знаменитой спецшколы в П. и едет в обычную школу в Л., едет добровольно и питает какие-то надежды? Кое-кто всполошился. Почему бы это? Но ведь человек, гражданин, учитель, к примеру, имеет право из личных побуждений, о которых он никому не обязан докладывать, добровольно сменить место работы. Так зачем же сразу с подозрением листать его анкету? Ну да ладно. Таковы уж наши обычаи, и порождены они, это я признаю, известным жизненным опытом. Но ведь время от времени мы набираемся и нового опыта. Все-таки кое-кому я задал трудную задачку, орешек был им не по зубам. Признаюсь, мне все это доставило кучу удовольствия, но кое-кто и по сию пору тот орешек не раскусил.
Правда, удовольствие я стал получать уже позднее, в этом смысле вся моя затея оказалась оправданной. Конечно, я не ради удовольствия покинул знаменитую спецшколу и не потому, что мне вдруг пришло в голову сменить место работы. Хоть меня и можно упрекнуть в известной склонности к стихийности, на этот раз решение не было внезапным.
Мой шаг был связан с разводом, с требованиями, которые и вслух и молчаливо предъявляла мне бывшая жена, пока мы жили вместе. Создалась удивительная ситуация. Жена через меня наладила связи со школой, ее работа там не должна была бы отрицательно сказываться на наших отношениях. Но она сумела создать для себя, вернее говоря, для своих исследований определенные условия. Ее влияние в школе росло, а я ощущал себя все больше и больше объектом ее безудержной страсти к экспериментированию. Вдобавок я начал замечать, да и теперь так считаю, что наше и без того прославленное учебное заведение благодаря крепнущим связям с институтом стало все больше приобретать этакую исключительность, что, разумеется, сказывалось на нашей работе. Понимаю, я выдал сейчас весьма неприятную истину, и однажды, высказав ее моим коллегам, вызвал их резкий протест.
Случилось это как раз в тот период, когда я собирался уходить, атмосфера в школе стала мне невыносима.
А ведь после развода я хотел остаться в школе. Поначалу у меня и мысли не было бросать там работу. Напротив, я хотел доказать, что я не объект экспериментов жены, что я не пустой фантазер, что я в состоянии вполне научно дать своей высокообразованной бывшей жене отпор — предприятие, заранее обреченное на неудачу, ибо моя жена уже пользовалась в школе большим авторитетом, школа наша должна была и дальше упоминаться в ее научных работах и на конференциях, и я был не в силах оказывать этому противодействие. Курьезное наступило время. Ко мне стали относиться настороженно, с вежливой сдержанностью, меня старались отстранить от всех дел, связанных с институтом и тем самым с моей бывшей женой. Положение сложилось явно ненормальное.
Я начал искать выход. Да, это было скорее бегство, которое, внешне по крайней мере, я сумел обставить как обычный переход на другую работу, по собственному желанию, там, мол, мне интереснее работать, там я освобожусь от комплексов.
Поэтому-то Штребелов и Кеене напрасно копались, пытаясь выяснить, что со мной стряслось в той школе. Слишком уж невероятным казалось им, что человек сам «спускается» по служебной лестнице.
Но работа в новой школе стала для меня тяжким испытанием, а повинен в этом главным образом Штребелов с его недоверием. Правда, я мог бы оставить всю мрачную сторону без внимания, как я нынче понимаю. В конце концов, переезд в Л. отвечал моим самым горячим стремлениям, о таких нормальных условиях я мечтал всю жизнь, добиться именно здесь наивысших результатов — это и значит принести максимум пользы.
Но я хотел рассказать тебе об Иоахиме. Он вырос в Л. А я приехал в Л. учеником на тамошний учебный комбинат. Я учился на инструментальщика, короля среди металлистов. Да, я стал королем. Недурно, а? У комбината была хорошая слава, отец меня туда и устроил. Мне пришлось жить в интернате, что не по душе оказалось матери. Да и мне поначалу тоже, зато потом я полюбил интернат. Через Союз молодежи мы были связаны со спецшколой в Л., где Иоахим был секретарем, а я у себя — членом комитета, так мы и познакомились. Не случайно мы впоследствии служили в одном подразделении в армии, в то время еще два года и добровольно, и с тех пор не теряли связи друг с другом. Нынче наша юношеская дружба сыграла свою роль.
Да, город Л. … Я мог бы переехать в Берлин. Но мама умерла скоропостижно, очень рано, отец до сих пор не в силах преодолеть свое горе. Да, так тоже бывает. Все для него теперь кончено. Жизнь без Марии — разве это жизнь? Ему остается выполнять свой долг. А я, живя с ним, только напоминал бы ему о матери. Именно потому, что мне хотелось остаться жить в П., я два года назад и очутился в Л., в школе коллеги Штребелова.
Об этом я уже с три короба наговорил. Не буду повторяться. Но ведь и Л. интересен для педагога. Промышленный город, крупный завод, разные люди. Тут многое можно сделать. А я чувствую в себе силы кое-что сделать. Я же учился на инструментальщика, год работал на заводе и, вообще-то говоря, после армии хотел стать инженером.
Но человек предполагает…
Итак, в середине пятидесятых годов я жил в Л. Давненько дело было. Ты в те годы, моя дорогая девочка, как раз готовилась к своему первому школьному дню. На этом примере видно, что за древний старик ведет с тобой беседу.
Как я уже говорил, наш учебный комбинат был совсем особенный. И наш интернат тоже. Бог ты мой, какие это были времена! Там, и это я знаю точно, я решил стать педагогом. Благодаря двум воспитателям в интернате. Одного звали Грегор, другого Фалькенберг. Удивительная парочка, эти два педагога. Они принадлежат к поколению Кеене и Штребелова, поколению зачинателей. Те годы были тяжелые, и порой дела наши шли не совсем гладко, но работали все с подъемом.
Стоп, Юст! Не предавайся ностальгии. Молодежь терпеть не может, когда мы расписываем ей то, что и сами уже видели каким-то преображенным.
Стоп еще раз! Ностальгия не разрешена, но воспоминания разрешены.
Итак, я на совести у Грегора и Фалькенберга. Грегор был худощавый мрачноватый человек, говорил иной раз, особенно войдя в раж, много, городил порой вздор, но порой и умные речи вел, вечно носился с какими-то планами, осуществить которые большей частью было невозможно. Ко всему старался приложить руку — играл в гандбол до изнеможения, участвовал в кроссах и в спортивном ориентировании, дискутировал с нами о политике, литературе, моде и многом, многом другом, однажды даже сел в планер, чтобы с полным правом и об этом говорить, довольно много времени посвятил работе на токарном станке, хотел стать настоящим токарем, прислушивался к советам своих учеников и вскоре добился заметных успехов. Он был одержимым. Одержимым, но совсем на иной манер, был и его коллега и друг Фалькенберг. Ужасающе худой, близорукий, он носил очки с сильными стеклами, без которых казался совершенно беспомощным, и смахивал на Иисуса в очках. Человеком он был тихим, терпеливым, податливым, его легко было недооценить. За внешней мягкостью, однако, скрывались упорство и настойчивость, которые ломали любое сопротивление. А самое главное: он был страстный музыкант, играл на аккордеоне, кларнете, саксофоне, гитаре, пианино и черт его знает на чем еще, по сути — на любом инструменте. Вокруг него собиралась каждый год новая капелла, или джаз, или ансамбль, что, собственно, одно и то же. На всех наших торжественных и танцевальных вечерах, как мы их тогда называли, Фалькенберг играл вдохновенно, не жалея сил. Да, Грегор и Фалькенберг прекрасно дополняли друг друга. Сделать бы из них одного человека, считал я, получился бы идеальный воспитатель.
Кроме одержимости, они обладали еще одним общим свойством — умели внушить нам, ученикам, чувство ответственности за порядок в интернате. Сколько бы раз они горько ни разочаровывались, они от своего доверия не отрекались. В их служебной комнате висел плакат со словами Макаренко: я от тебя требую, потому что уважаю тебя. Хорошие слова, считал я тогда, считаю и сегодня.
Вот по вине этих двух чудаков я стал тем, кто я есть, — учителем.
А мои вдохновители, виновники всего, где они теперь? В Л. их нет. Я не искал их. Зачем? Где-нибудь они свое дело делают. Мне стоит только поглядеть на нашего коллегу Штребелова и его заместителя Кеене, и я легко представляю себе, какими могут быть мои вдохновители сегодня.
М-да, Карл Штребелов. Подозревает ли он, что я его в известном смысле уважаю и даже иной раз восхищаюсь им? Он этого не знает. Но его методы руководства, которые я начисто не приемлю, его сверхсерьезность и полное отсутствие чувства юмора меня постоянно раздражают. Тут уж ничего не поделать. Может, я его плохо знаю. Надо бы порасспросить Герберта, тот знаком с ним с давних пор. Может, я относился бы к его методам — для меня, правда, неприемлемым — по крайней мере объективно. А сейчас? Когда он в упор смотрит на тебя, ставит тебе вопросы — сухие и скучные, но без достаточной глубины, — когда он на шутку, на свободное, а порой ироническое замечание реагирует с ужасающей серьезностью, мне хочется хлопнуть его по плечу и сказать: отправляйся-ка на пенсию, коллега. Лучше будет и для тебя, и для других.
Знаю, опять меня занесло. Как сочетать мое утверждение, что я его уважаю и даже иной раз восхищаюсь им, с этим желчным выпадом?
Зримые достижения, которых добился Штребелов, результаты, которых он достиг, нельзя не видеть или оспорить! Разумеется, это результаты не только его личные, я это прекрасно понимаю. И все-таки благодаря его упорной настойчивости, его последовательности нашу школу можно действительно назвать хорошей. И еще: он на редкость удачно умеет организовывать коллективные мероприятия, превращать их в настоящие события, что в свою очередь создает благодатную почву для действенной воспитательной и учебной работы. Порядок и дисциплина в нашей школе на высоте. Поначалу я весьма скептически относился к этому явлению, подозревал муштру и показную дисциплину, очковтирательство. Но убедился, что порядок и дисциплина у нас — нечто само собой разумеющееся.
А этого, моя юная коллега, нужно добиться. Я далеко не все нахожу правильным и не со всем согласен, что мы делаем, дабы удерживать достигнутое, иную кампанию можно бы провести иначе, а то и вообще не затевать ее, но я преклоняюсь перед достижениями директора Штребелова.
Да, вот как все противоречиво. Может, наши отношения сложились бы иначе, если бы Герберт Кеене, которого я люблю и к которому ты, как я знаю, тоже хорошо относишься, если бы Герберт не поспешил задраить люки. Да, именно это он сделал. Сурово сказано? Разумеется. Но я понимаю Герберта. Как учитель, он работает с полной отдачей, в нашей области он собаку съел, знает, как надо работать, и добивается, без сомнения, успехов.
В первые же дни в этой школе я почувствовал его повышенный интерес ко мне или моей работе. Было даже забавно наблюдать, как он вторгается в мою работу. Поначалу я не знал, как это понимать. Его что, обязали следить за мной? Или он хотел положить меня на обе лопатки? Очень скоро, однако, я почувствовал: это что-то другое, скорее любознательность творческого человека. Герберт Кеене, хоть он из поколения, скорого на добрые советы молодым, сам хочет чему-то научиться, интересуется, как я подхожу к решению тех или иных вопросов.
На этой основе и возникла наша — что ж, назовем это так — дружба. Кое-что, однако, мне не по душе. Герберт Кеене — один из заместителей директора, и это, безусловно, ответственный пост. Но слишком уж он осторожный, не принимает, а может, научился не принимать, чью-либо сторону. Я думаю, он делает это скорее неосознанно. Он преждевременно смирился, а может, недостаточно честолюбив для руководящей работы. Что же, и такое бывает. Возможно, у меня тоже нет особенно честолюбивых планов, но я полагаю, что справился бы с руководящей работой, если бы хотел или если бы мне довелось ею заняться. Слабое место Герберта в том, что он не слишком соответствует своей должности. Штребелову нужен помощник сильный, умеющий возразить, а не деликатный, уравновешенный коллега, ограничивающий себя обязанностями учителя и пренебрегающий обязанностями руководителя.
Ну, вот видишь, дорогая Анна, какой я умненький. Я попросту приглашу их обоих к себе, открою бутылку вина, а то и водки и выложу им без обиняков мои взгляды на них и на их работу. Они, понятно, со слезами бросятся мне на шею, и все будет в полном порядке. Мы создадим из нашей школы этакое образцовое педагогическое захолустье.
Мечты.
А я все пишу и пишу. Не сердись, это мое любимое занятие здесь, в изгнании. Лучше разве целый день смотреть телевизор? Радио тоже не будешь долго слушать. А читать? У меня сейчас не то настроение, слишком я занят собственной судьбой, чтобы меня могла захватить чья-то вымышленная. Мне хочется поболтать с тобой и хоть немного отвлечься от проклятой неопределенности.
Прочти или не читай все письмо. К счастью, читать письмо в сто раз быстрее, чем писать.
Теперь я надпишу конверт, еще раз поблагодарю тебя за милые, лаконичные строки, из коих я узнал, что у тебя полно дел, заклею конверт и отправлюсь на вокзал, где меня ждут почтовые ящики с указателями направлений.
Под вечер займусь с ребятишками Иоахима, сооружу им дракона и каких-нибудь чудовищ, я это отлично умею делать. Вечером мы с Иоахимом поболтаем обо всем на свете и только одной темы будем тщательно избегать — разговора об истинной цели моего пребывания здесь.
Времена моего неведения миновали.
А когда настанет поздний час, я приму снотворное и, надо надеяться, засну.
Будь здорова,
твой Манфред.
P. S. Мне кажется, к этому письму необходимо дополнение. Я его все-таки не заклеил сразу же и не отнес на вокзал, я его еще раз прочел вечером, и мое ощущение, что письмо выражает какую-то для меня опасную позицию, подтвердилось. Вот я и пишу дополнение.
Ничего не собираюсь зачеркивать из написанного выше, все остается как есть и передает мои мысли и мои заботы. Но кое-чего существенного в письме недостает. Недостает моего отрицания той схематичной узости, которая характерна для Штребелова, которую он, сознательно или бессознательно, всеми силами осуществляет на практике. А это затрудняет развитие, наносит нашей педагогике вред.
Я ненавижу эту «штребеловщину», самого Штребелова я нисколько не ненавижу. Я пытался и буду пытаться снова и снова разъяснять себе и другим методы Штребелова. Но разъяснять — не значит извинять. Ну вот, я опять попался. Как можно с этих позиций бороться с порядками, которые ты отвергаешь! Быть может, мое состояние сейчас, мои особые обстоятельства делают меня снисходительным. А где в таком случае начинается безразличие?
Но мы не вправе быть снисходительными, дело ведь не в нас, не в нашем благополучии или неблагополучии, дело в детях и молодежи, за которых мы несем ответственность.
Однажды Штребелов присутствовал у меня на уроке. Было это весной, причины его внезапного посещения я не знал. Я давал урок государствоведения и подготовился по плану, но в тот день собирался затронуть и актуальную политическую проблему. Одна из западных телекомпаний показывала тогда серию научно-фантастических передач, которые могли произвести впечатление на молодежь и увлечь за собой. В фильме были хитроумно отобраны проблемы будущего, поставлены острые вопросы, что обеспечивало интерес к передачам. Я знал, что серия обсуждается и нашими ребятами, что они напоминают друг другу об очередных передачах.
В основе фильма лежала человеконенавистническая философия, человечеству рисовали мрачные перспективы, человека полностью закабаляла техника, что в свою очередь использовал сверхчеловек, хладнокровно распоряжаясь судьбами людей на планете. Подавалась эта идея подспудно, была ловко завуалирована.
На том уроке, стало быть, когда у меня сидел Штребелов, я попытался косвенно поспорить с этой передачей, и ребята сразу поняли, о чем идет речь. Признаю, обсуждая не значащуюся в плане урока тему, я отошел от плана.
На перемене ребята, окружив меня, еще долго спорили, и я не заметил, как Штребелов ушел.
На следующий день я заглянул к нему, извинился, что накануне не поговорил с ним после окончания урока. Он не слишком любезно ответил, что все равно собирался вызвать меня, критические замечания по уроку он ни в коем случае не высказал бы мне перед учениками.
Тут я опять не сдержался и буркнул, что его критика наверняка будет разгромной.
Штребелов не колеблясь подтвердил это и заявил, что я не достиг воспитательной цели урока и, стало быть, грубо нарушил учебный план.
Я запальчиво возразил, разъяснил связь урока с западной телепередачей, назвал свой метод ведения урока государствоведения наступательным, исследующим актуальные политические проблемы. От кого же, как не от нас, получат ученики ответ, сказал я. А разве Штребелов против наступательного метода? Не может того быть, если вспомнить требования, какие он, директор, постоянно предъявляет учителям.
Наступательный? Под этим я понимаю кое-что совсем другое, резко ответил Штребелов, а вы сделали как раз то, что хотят нам навязать с запада… В итоге мы жестоко поспорили.
Я ушел, не попрощавшись, из его кабинета, узкой, мрачной кельи. Ждал, какие же будут последствия, собирался защищать свою точку зрения. Но ничего не последовало. И я промолчал. Моя ошибка.
Что значит для меня владеть наступательным методом?
Это, разумеется, не значит, что я без конца подставляю себя под сиюминутные атаки противной стороны, это немыслимо и было бы скорее оборонительной тактикой, тогда мы оказались бы в зависимости от противной стороны. Владеть наступательным методом — значит прежде всего, понимая, какие принципиальные проблемы обрушиваются на нашу молодежь, к примеру вот в такой передаче о будущем человечества, которая вызывает дискуссии, не уклоняться от них. Тут уж мы не вправе стоять в стороне, напротив, мы обязаны защищать наши взгляды решительно, а главное, убедительно. Наступать — это совсем не значит, не глядя ни направо, ни налево, заниматься абстрактными рассуждениями, не достигающими цели. Владеть наступательным методом — не значит соглашаться с мнением, которое удачно выразил поэт: «Ибо, — мудро заключает он, — быть того не может, чему быть не должно»[6].
Вот так-то, Анна. Но я не вынес вопрос на обсуждение, когда Штребелов этого не сделал. А теперь спрашиваю себя: был ли в этом вообще смысл? Как же смогу я, как же смогут другие что-либо изменить, если эту самую «штребеловщину» — буду уж так называть это явление — никак не ухватишь, если она уклоняется от настоящей схватки. А может, я виноват, может, это я не умею успешно и действенно защищать свои воззрения? Известно ли тебе, что такое усталость, не физическая, а душевная? Не изматывай себя так. Да тебе и не придется, ты совсем другой человек. Тебе такая усталость не грозит, в этом я уверен. А мне?
Анна, извини меня за это дополнение, но так уж получилось.
Манфред».
«Н., 16 июля
Дорогая Анна,
четыре дня я не прикасался к авторучке. Буквально с ног валился. У меня такое ощущение, словно меня скалками исколотили. Исследования я прошел, связаны они были с малоприятными манипуляциями. Ну, теперь конец, исследования были нужны врачам — специалистам и Иоахиму, которые считают, что без этого не добраться до сути проблемы.
И все же, когда я сижу перед Иоахимом у его письменного стола, вижу, как он перелистывает мою историю болезни — а она день ото дня устрашающе пухнет, — я с грустью думаю, как хорошо, что до сих пор у меня, собственно говоря, подобных «историй» не было. Быстро все иной раз меняется. Хотел бы отнестись к происходящему как к чему-то забавному, с юмором, да не очень получается.
Иоахим бережно и деликатно старается подготовить меня к мысли, что мне придется перестроить свою жизнь, а это вызывает у меня настороженность. Что он имеет в виду? Какая перестройка ожидает меня? Какое-то время работать вполсилы? Или всегда? Довольно скучная предстоит жизнь. Все во мне восстает против этого. Но мне еще ничего не сказали. Ничего определенного. Сейчас они уточняют мой диагноз и потому не торопятся объясняться со мной. Только намекают, к примеру вот так: что ж, уважаемый, придется нам настроиться на умеренность во всем.
Умеренность? Может быть, в еде? Ем я с удовольствием, особенно острые блюда. Может быть, в питье? Ни пива, ни водки, ни рюмочки вина? К черту, что это за жизнь! Лучше пусть меня сейчас же засушат. А может, мне и любовь запретят? Тогда я поселюсь в пустыне и по ночам стану считать звезды. А если они объявят меня инвалидом? Что тогда? Я же еще ничего в своей жизни не достиг. Я же, глупец и зазнайка, до сих пор плескался лишь на поверхности жизни. И сам я на поверку оказался совсем, совсем другим. Мне везде, если я того хотел, удавалось производить впечатление. Усилий мне это не стоило. Как часто на совещаниях я только для того брал слово, чтобы еще раз покрасоваться, — и почти всегда имел успех, мне, к примеру, часто удавалось загнать Штребелова в угол или разозлить его. А что из всего этого вышло? Ах, Юст, ах, человек выдающийся, особенный, он всегда приготовит для нас сюрприз. А я был всего-навсего самодовольным и тщеславным мальчишкой.
Чтобы ты не подумала, что я занимаюсь самобичеванием, дабы удовлетворить опять же лишь себя самого, я расскажу тебе о моих отношениях с Эрихом, нашим завхозом. Мне кажется, он меня ненавидит, и, я полагаю, не без основания. Ты его тоже знаешь, знаешь, что к ребятам он относится как любящий дедушка и этим добивается успеха. Меня его манера всегда раздражала. Я считал ее смешной и даже вредной. Он у себя в подвале работает как-то по-стародедовски. Однажды я спустился вниз, когда он, собрав ребятню, кажется из шестого класса, сооружал с ними подставку для аквариума. Он как раз сверлил дырки в металлических уголках, и делал это весьма обстоятельно, сопровождая свою работу столь подробными объяснениями, что я взорвался. У меня к нему дело, я спешил, но его это ничуть не трогало, он целиком был поглощен сверлом и ребятами. Тут я точно с цепи сорвался, подскочил к нему, отобрал сверло, потребовал, чтобы он тотчас нашел нужную мне вещь, а я, мол, сделаю его работу. Он, ошеломленный, молча отдал мне сверло. Я же смаковал его замешательство, эге, вот я опять довольно лихо — так мне казалось тогда — положил человека на обе лопатки.
Быстро и умело, не тратя лишних слов, просверлил я дырочки в уголках. Эрих принес мне удлинитель, глянул на мою работу, но ничего не сказал. Я ожидал одобрения. Он не сказал ни слова. Наступило тягостное молчание. Ученики не знали, куда глаза деть. Эрих стал молча искать шурупы — у него на полке стоит множество жестяных коробок с шурупами всех размеров и видов — и, кажется, позабыл обо мне и об учениках. Я ушел, пожелав им хорошо поработать.
На следующей перемене Эрих остановил меня в коридоре. Он сказал: «Чтоб ноги вашей у меня не было. Вы мерзкий зазнайка…»
Я обиделся, хотел ему ответить, но он повернулся и ушел. С тех пор я не ходил к нему. Теперь я целиком и полностью понял, что натворил тогда. Зачем нужно было его обижать? У него свой подход к ученикам. Мне его метод не по вкусу, ладно, вполне возможно, что я даже прав. Но зачем я вмешался в его работу, да еще так грубо? Еще один мой эстрадный номер.
Зачем я так поступаю? Мне же это совсем не нужно. Я ведь кое-что умею. Что и доказал. Но теперь, Анна, когда я сделал для себя выводы, когда у меня есть возможность применять их на практике, именно теперь мне придется работать вполсилы. Или вообще поставить точку. С ума можно сойти. Прекрасно представляю себе, как стану жить по новым правилам. Стану этаким брюзгливым, несносным, склонным к цинизму и меланхолии дядей. А для меня нет жизни без движения, без перемен, в замедленном темпе. Я стану обузой для окружающих. Грустная перспектива. Подобный случай я уже однажды наблюдал. Моя двоюродная сестра несколько лет назад умирала мучительно медленно. Совсем еще юная девушка. Жутко было видеть ее страдания. Неуклонный распад и страстная жажда жизни, которую уже было не спасти. И ложь у ее постели. Все ждали, что она вот-вот отмучается. Но муки ее длились долгие месяцы. Когда наконец мы будем подобные вопросы решать лучше и человечнее?
Эге, дорогая Анна, куда меня занесло! Вот что делает с человеком проклятое ожидание, пухнущая история болезни и молчание Иоахима.
Я опять сижу под моей грушей, в траве порхают бабочки, от леса доносится сильный аромат сухой хвои. Озеро манит, но мне купаться нельзя. Еще одна нелепость и мука.
Да, я и терпение! Напиши, что ты предлагаешь, какая существует метода, дабы научиться терпению. Мне думается, ты в этом смысле больше понимаешь, чем я. Ты — человек уравновешенный, умеешь держать себя в руках. Знаешь, что будет для меня самым действенным средством, дабы избавиться от известных вопросов? Решение просить твоей руки. Ведь я очень люблю тебя.
И знаю, чтобы добиться твоей любви, чтобы завоевать тебя, я должен, во-первых, выздороветь, во-вторых, научиться управлять собой и быть терпеливым, и вообще быть хорошим человеком.
Нелегкая мне предстоит задача, это я сразу понял. Но цель стоящая, за нее я готов страдать, к ней буду стремиться.
А сейчас я набросаю картину будущего. Когда-нибудь, в какое-то вполне обозримое время — забавное, однако, это понятие, ведь всякое время обозримо, даже до года трехтысячного, но уже без нас, — да, во вполне обозримое время, но в не вполне определенный день худущий господин с одухотворенной физиономией предстанет перед Madame. Волосы у него жидковатые, с проседью, на нем строгий костюм с соответствующей рубашкой и галстуком — даже коллега Штребелов доволен. Вот при таком параде… э, стоп, конечно же, в руках у господина роскошный букет роз… при таком, стало быть, параде и попросит сей господин руки Madame. Madame покраснеет, что, кстати, ей очень и очень к лицу, примет букет, украдкой вдохнет опьяняющий аромат роз и объявит: «Что ж, если так, пошли в загс. Мы оба заждались».
Господин обнимет Madame. Что будет ей весьма приятно. И начнется у них прекрасная жизнь.
Господин стал человеком солидным и спокойным, чуть ли не мудрецом. Madame вершит домашними делами и работает в школе. Возможно, господину удастся произвести на свет парочку ребятишек… И если они не умерли, так живут еще и по сей день. Сказке этой суждено стать реальностью, в чем твердо убежден пока еще не мудрый и не выдержанный господин. Реальность эта будет плодом его усилий в борьбе за терпение и самообладание. А раз уж он поведет эту борьбу и выиграет ее, так и награда не заставит себя ждать.
Прекрасная история, как ты считаешь?
Ее мы с тобой и напишем, ты и я. Согласна? В надежде на ее исполнение приветствует тебя
твой Манфред».
«Н., 20 июля
Глубокоуважаемая фрейлейн,
нынче у меня счастливый день. Получено Ваше письмо. И какое письмо! Огромное спасибо Вам от счастливца. Ты меня поняла, ты приняла мою исповедь именно так, как надо, поняла, что она поможет мне. И она действительно помогла, потому что ты отреагировала на нее разумно, со свойственным тебе спокойствием. Правда, кое на что ты возражаешь, но в общем и целом согласна со мной и тем самым вселяешь в меня мужество и надежду. Видимо, совершенно необходимо время от времени подвергать себя беспощадной проверке. Но считаю в корне неверным, что додумался я до этого только теперь, когда обстоятельства вынудили меня. В будущем все будет иначе. Как раз, когда, казалось бы, все у тебя в порядке, необходимо все пересматривать и подвергать проверке. Тогда ты не окажешься безоружным перед лицом удручающих сюрпризов.
Как и положено, я сижу под своей грушей. Была бы это липа, я бы вырезал на ее коре словечко-другое, к примеру дату сегодняшнего дня и твое имя, ведь сегодня пришло твое письмо.
Ситуация с моими потрохами, собственно говоря, не изменилась, историю моей болезни, видимо, пополняют и пополняют, но никто, в том числе и Иоахим, не торопится. Сдается мне, это добрый признак. Я по крайней мере хочу это так понимать. Будь дело спешным, они насели бы на меня как следует. Вернее, на мое нутро. А в нутре у меня все по-прежнему неприятнейшим образом крутится-вертится, да и с чего бы мне полегчало. Не с анализов же. Надо, чтоб началось лечение.
Но, как я уже сказал, никто не спешит, а к кручению-верчению привыкаешь, притом есть ведь на свете таблетки. Стало быть, в этой области все без перемен. А посему покинем ее и обратимся к чему-нибудь более приятному.
Как ты относишься к небольшой экскурсии в наше будущее?
История господина и его Madame, рассказанная мною в предыдущем письме, звучала как будто ничего, но все же в ней было много от сказки.
А не попытаться ли нам заглянуть в наше реальное будущее?
Ты ждешь, что я сейчас скажу что-то необыкновенное — а я хочу поговорить о нашей работе. В конце концов, это тоже добрый знак, если я, в моем положении, возымел охоту поговорить о работе.
Знаешь, как представляю я себе наше будущее-то время, когда мы будем вместе? А вот как. Где-нибудь в городке, похожем на Л., я стану директором школы. Что? Юст, который так любит независимость, эксперимент, живую педагогику, хочет стать наполовину администратором? Возможно ли? Да, именно на этом поприще смог бы я избавиться от сверхувлеченности своей профессией, порождающей иной раз некоторое легковесное к ней отношение. Вернее говоря, я бы хотел себя дисциплинировать и тем самым осуществить свои педагогические мечтания. В Л. я впервые по-настоящему задумался над этим.
О моем отношении к Штребелову я тебе уже писал. Я хоть и критиковал его, но кое-что от его деловитости перенял бы. Понятие это словарь Дудена раскрывает как солидность, прочность, надежность, добротность, а также сдержанность. Эти качества можно приобрести, взяв на себя ответственность за конкретное дело — школа дело чертовски конкретное, — а также за воспитание воспитателей. Но работать я стал бы — и считаю, что это необходимо, — совершенно иначе, чем Штребелов. Я работал бы четко, но смело и вообще творчески.
Кто из нас не знает, что многое зависит от воспитания воспитателя. Собственно говоря, все. У нас превосходные планы, у нас благоприятные условия, пособий хоть отбавляй, развитая система общественных отношений, мы пользуемся огромным уважением, не исключающим действенной критики. Да, мы продвинулись далеко во многих областях, и это еще лет двадцать назад казалось нам утопией, наша педагогическая наука достигла больших успехов. Однако теперь стало особенно заметно, чего нам недостает, где еще у нас царит формализм, где мы пытаемся сплутовать, решая проблемы, которые нам ежедневно подсовывает жизнь, воплощенная в наших учениках.
Нам же первым приходится иметь дело с новыми поколениями. А кто есть мы, воспитатели, учителя? Вот это обобщенное «мы» уже опасно. Ведь и среди педагогов тоже все время появляются новые поколения. Штребелов и Кеене — люди старшего поколения. У педагогов моего возраста совсем иной опыт, за нами идут те, к кому принадлежишь ты. А теперь в институтах учатся молодые люди, которые могли быть моими учениками.
Мне скажут: ну и что? К чему эти глубокомысленные рассуждения? Для чего заново открывать Америку?
А может быть, это нужно, может быть, нам следует кое-что открывать заново. Опыт, например, — у Штребелова его хватает, у Кеене тоже, и у меня, и ты уже набираешься опыта, так вот, этот опыт только тогда принесет пользу, когда нам удастся применить его к постоянно меняющимся условиям. А для этого еще многое предстоит одолеть.
При передаче опыта я никогда бы не допускал рутины, никогда не удовлетворился бы отчетами. Нам, педагогам, споры необходимы как воздух. Такие споры должны быть неотъемлемым элементом нашей жизни. Мы не вправе просто утверждать, что тот или иной вопрос труден, что та или иная проблема сложна, нет, мы обязаны обстоятельно заниматься этими вопросами и не жалеть на это время.
Возьми, к примеру, понятие «коллектив». Сдается мне, мы зачастую поспешно и бездумно пользуемся им. Говорим мы, например, об учителях нашей школы, так Штребелов всегда в тот же миг объявляет, что мы превосходный коллектив. А в самом ли деле мы коллектив? Когда мы действуем как коллектив? А когда нет? Не обманываем ли мы сами себя? Не усыпляет ли нас это утверждение? Все в полном порядке, мы превосходный коллектив. Я был бы скромнее, реже пользовался бы этим понятием. Истинно коллективные успехи, а их немало, подлинно коллективные действия я выделял бы, конкретно показывая, как проявил себя коллектив в том или ином случае.
Стоп, что-то я себя не узнаю. Надеюсь, я не наскучил тебе моим докладом? Не слишком ли нудно излагал я свои мысли? А вообще ужасно, что нам приходится быть сухими и нудными, когда мы затрагиваем высокие материи. Я уверен, что это вовсе не обязательно. Я впал в поучительный тон. Но обещаю, когда стану директором, ежели такое случится, то попытаюсь найти удачную пропорцию юмора и серьезности. Я даже изобрету распорядок — и если смогу, так опубликую его, — который создаст условия для столь необходимых нам веселых пауз на любом заседании, любом совещании. И буду поощрять откровенность. Не петь отвлеченные дифирамбы откровенности, это мы делаем предостаточно, нет, я буду поощрять и награждать тех людей — в нашем конкретном случае тех педагогов, — кто берет слово и заявляет, что ему тот или иной вопрос непонятен, что он с той или иной проблемой не справляется, а в таком-то случае придерживается другого мнения. Знаю, приучить людей к этому нелегко. Это дело накладное и длительное, но оно того стоит.
И соответствует нашим идеалам. Мы боремся за такое соответствие, но никогда не достигаем его окончательно. И все же именно нам следует всеми силами к нему стремиться. Если мы этого не будем делать, то к чему вся наша работа? Тогда проще стать циником или равнодушным обывателем, владеющим определенными правилами игры. И та и другая категория людей у нас, к сожалению, еще встречается.
Видишь, Анна, вот над чем я тут задумываюсь, над чем размышляю здесь, сидя под грушей.
Отчего бы кое-чему из моих мечтаний не осуществиться?
Но увидеть их осуществленными я хочу с тобой, только вместе с тобой.
Какой же сегодня тихий вечер. Воздух чистый-чистый, точно где-то прошла всеочищающая гроза. Я слышу, что подъехала машина. Это жена Иоахима на «трабанте», его выхлопная труба издает весьма своеобразные звуки. Их уже знают во всех деревнях, и всем сразу известно, когда приближается «детская докторша».
На этом кончаю мое весьма значимое послание, сейчас здесь дым пойдет коромыслом — фрау доктор привезла детишек.
Извини меня за педагогические мечтания. Уж такое у меня сегодня настроение. К тому же в них есть тайный расчет — завоевать тебя, ведь я немного знаю твою позицию во всех затронутых мною вопросах.
Мы с тобой, сдается мне, составим вполне приличную упряжку. Тысяча летне-вечерних
приветов от Манфреда».
«Н., 23 июля
Дорогая Анна!
Жребий брошен. Все оказалось именно так, как я предполагал, но чему не хотел верить. Мне придется лечь под нож.
Иоахим очень подробно и научно объяснил мне, какой кус нужно у меня вырезать и почему и что еще нужно изменить в моем организме, чтобы жизнь моя продолжалась.
Я понял одно: под нож. И поскорее. Стало быть, дело спешное. Я понял, что жизнь, какую я вел, какую я любил, миновала. Начинается другая — жизнь инвалида.
Я не вслушивался больше в разъяснения Иоахима, хотя сознавал, что он хочет внушить мне надежду и мужество. Немало есть людей, перенесших ту же операцию, состояние их незавидное, но они живут. Живут? И мне так жить? Не работать? Но почему не работать? Что-нибудь подходящее найдется. Что найдется? Что именно? Перед учениками мне больше не стоять. Когда-нибудь, конечно, все пройдет. Постепенно последствия болезни исчезнут. Когда? И вообще, исчезнут ли?
Да, я повержен. Мне это ясно. Мы же всегда за ясность. Я разбит наголову.
Извини, Анна. Не могу не писать тебе этого. С кем же мне еще поделиться?
С Иоахимом я говорил. Через три недели он избавит меня от боли. И сохранит мне жизнь. Что еще может врач?
Но все мечты и надежды мне следует оставить.
Теперь я жестоко расплачиваюсь за то, что играл весьма однообразную роль в жизни, теперь против меня оборачивается тот факт, что я, собственно говоря, был еще совсем недавно счастливчиком. Так что же дальше, баловень судьбы?
Довольно, однако. Беру себя в руки.
Нужно сделать еще два-три анализа, кое-какие исследования, после чего я уеду домой, чтобы вскоре вернуться обратно. Здесь все и произойдет. Меня это вполне устраивает. Я возьму себя в руки и буду готовиться к «часу ножа», буду по возможности спокойно размышлять над тем, что воспоследует за операцией, и хладнокровно рассчитаю, как нужно устроить свою жизнь. Зачем же человеку дан разум, натренированный логикой? Да и о многом другом следует поразмыслить. К примеру, об образе действий человека нашего времени, в наших условиях, которому внезапно придется практически, на собственной персоне, доказать то, что он много лет теоретически проповедовал в своей воспитательной работе. Ситуация достаточно сложная и необычная. Качества, которые следует проявить в необычной ситуации, человеку этому известны. Твердость характера, стойкость, выдержка, оптимизм даже при тяжких обстоятельствах и так далее, и так далее…
Вот теперь человек этот и пораскинет мозгами, как же ему поступить на практике. И попытается справедливо и объективно оценить свою жизнь. Что, разумеется, чертовски трудно. Но нынче уже нет никаких отговорок, придется ему в собственных интересах решать сию задачу.
Он попытается, но он очень хорошо понимает, что свои «педагогические мечтания» в той мере, в какой их можно рассматривать как мечтания, он должен теперь претворить в жизнь. На фантазии он способен, на духовные взлеты он горазд, и в «воздушном пространстве мечтаний» он перемещается без труда, тут ведь царит невесомость. Но как обстоит дело с претворением мечты в жизнь?
Не следует ли ему начать с собственного «я»?
В этом плане он тоже кое-что знает наверняка, этот человек. Но знать кое-что наверняка — это одна сторона вопроса, вторая — предпринять энергичные меры, дабы приучить к дисциплине это норовистое «я». Он должен побороть свою склонность к поспешным, немотивированным поступкам, свою тенденцию, он должен это откровенно наконец признать, к анархизму. Самого себя нужно ему одолевать, и это всю жизнь, дабы работать разумно и доказательно. Человеку этому, значит, работы будет по горло. Он станет думать о людях, которых он любил, и о других, к которым был равнодушен, хотя не мог избежать общения с ними, и о таких, которых он ненавидел, на время или на всю жизнь. При этом наверняка выявится кое-что удивительное, противоречивое и, конечно же, забавное.
И вот, наткнувшись на забавное, он поймет, что кое-чего добился.
Видишь, так ведь тоже можно жить.
Привет тебе от Манфреда — «храбреца против ножа».
«Н., 26 июля
Дорогая Анна!
Сию секунду почтальонша принесла мне твое письмо. Она положила его сверху, знает, как я жду писем от тебя. Ну вот, ты уже собираешь чемодан, а может, уже на пути в прекрасную Венгрию. Разумеется, ты правильно сделала: поехала сопровождающей с группой молодежи. Желаю тебе провести весело время, быть в хорошем настроении. Желаю тебе также дисциплинированных подопечных, чтобы не было никаких передряг. Да что там, ты хороший педагог.
Чуть-чуть я тебе завидую, но это, надеюсь, разрешается. Эх, вот бы и мне поехать с тобой…
Если тебя уже не было в Л. — ведь ты собиралась к родителям, — значит, ты не успела получить мое последнее письмо. Но я этому очень рад. То письмо, написанное под влиянием дурного настроения, вышло мрачноватым. И хотя мое настроение сегодня ни весельем, ни хорошим самочувствием не объяснить, что было бы странно, я лучше владею собой и стал спокойнее.
Все знакомые собирают чемоданы. Мой дорогой друг Иоахим и его жена тоже. Для их озорников эти приготовления — истинная забава. С жилым прицепом к машине и с палаткой они отправляются в Польшу, там сначала поедут в Гданьск, а затем — к побережью. Среди всей суматохи я чувствую себя каким-то потерянным и с грустью вспоминаю свою поездку в Польшу. Я, как ты знаешь, неравнодушен к этой стране. Видимо, все дело в том, что моя мать полька. Мне по душе образ жизни поляков, вдобавок они люди темпераментные, противоречивые, на их характер наложила отпечаток их сложная история. Какие только влияния не перекрещиваются в Польше, какие только линии не соприкасаются. Да, надо бы основательно заняться всем этим. (А почему бы нет? Скоро, скоро у меня будет полно времени.) Я говорю немного по-польски, а сейчас освежил свои знания, позанимавшись с ребятишками Иоахима. Они ученики смышленые и усердные. В последний раз, когда я ездил с моим классом в Гданьск, я с удовлетворением отметил, что наша молодежь относится к этой стране без предвзятости, с чистой совестью. Хотя, конечно, не все в этом смысле благополучно, прошлое обладает удивительной живучестью. Но мы уже многого достигли, только нельзя упускать из виду, что наши достижения следует закреплять и охранять. Это и напоминание нам, и наша задача.
Иоахим со своей компанией будет загорать на пустынном берегу. Подлечит нервы и после отпуска благополучно прооперирует меня.
Герберт со своей Эвой тоже, если я не ошибаюсь, укладывают чемоданы, дабы совершить экскурсию на Кавказ, в восхитительную Грузию.
Хорошо, что я сумел рассеять сомнения Эвы, может ли она оставить детей на такой долгий срок. Эти Кеене еще, чего доброго, отказались бы от чудесного путешествия.
Мне дважды доводилось бывать на Кавказе, но я бы еще десять раз туда съездил. Только не по путевке. Просто побродил бы по нехоженым тропам в тех горах. А ты бы поехала со мной?
Сейчас я бы охотно съездил вместе с Гербертом и Эвой. Непосредственность Эвы позволяет вновь воспринимать все свежим взглядом. Ей ничего никогда не приедается. Удивительное дело, острый ум сочетается в ней с неподдельной непосредственностью. Такое нечасто встретишь. О да, она тоже могла бы помочь мне, встреть я ее на год-другой раньше, да не завладей ею этот Кеене.
Разумеется, опять мое наглейшее зазнайство, обо всем я сужу со своей колокольни. Я бы стал, я бы мог. А ведь вполне могло случиться, что женщина меня попросту не захотела бы.
Отчего сия мысль не пришла мне раньше в голову?
Откровенную, дружескую манеру Эвы я, признаюсь честно, довольно долго истолковывал превратно, как мне бы того хотелось.
Но, собственно говоря, все это не имеет значения.
Скоро и я начну укладывать свой чемоданчик. Дорога мне предстоит не дальняя, только до П., чтобы там привести все в некоторый порядок. Затем я возвращаюсь, ложусь в клинику и жду Иоахима, когда он, поздоровевший, отдохнувший, покажет на мне свое искусство.
Время, что придется мне пробыть в П., я кое-как перетерплю. Все разъедутся. А я куда подамся? Может, съезжу разок в Л., навещу Штребелова, он-то, ручаюсь, копается в своем садике. Что ж, может, навещу. Нет, лучше не стоит. Он, чего доброго, встретит меня — и не без основания — с подозрением. Все, что я думаю о нем положительного, ему неизвестно, а я, чертов пес, до сих пор не собрался с силами и, видимо, в будущем не соберусь это свое суждение попросту ему высказать. Вот ведь беда — начни я такой разговор, он, пожалуй, сочтет его за издевку, именно издевки привык он слышать от Юста. Пусть уж, пока меня не будет, он постепенно составит себе лучшее обо мне мнение. Замечаешь, я настроен весьма миролюбиво.
Да, мои летние вояжи в этом году виделись мне совсем иными. К примеру, я мог бы съездить с тобой в Будапешт. Но без шумных, веселых молодых друзей! Я бы тебе кое-что там показал, особенно долго стояли бы мы на мостах. Вкусно бы ели и пили и не экономили форинты. Часами лежали бы в теплой целебной воде, ну хотя бы в бассейне на острове Маргит. Пишу, совсем забыв, что ты, когда будешь читать это письмо, все уже посмотришь, прочувствуешь, на все наохаешься. Позади останутся незабываемые дни. Да, когда ты будешь это письмо читать, и мои все трудности, надеюсь, тоже останутся позади.
Будь счастлива, моя дорогая,
твой Манфред».
На моем письменном столе в ярком свете настольной лампы лежало последнее письмо Манфреда Юста.
Я аккуратно вложил его в конверт и присоединил к стопке остальных писем.
Разные мысли теснились в моей голове, и весьма противоречивые. Но одна мысль была особенно четкой: Марк, тебе нечего стыдиться своего учителя. Он вел тяжкий бой и был побежден.
Не оттого ли, что разъехались все, кто мог бы ему помочь в трудную минуту?
Да, Анна Маршалл уехала. Хотя ей, наверное, не следовало уезжать в прекрасный город Будапешт. Она же читала письма, не все, но первые она читала. Правда, письма эти читаешь совсем иначе после извещения в газете. Видимо, Юст и не рассчитывал на Анну Маршалл. А ведь даже она одна могла быть ему опорой в беде. Он сам отметил, что она принадлежит к гармоничному поколению, которым он восхищен, которое он приветствует, с которым вместе готов горы свернуть. Как-то раз Анна Маршалл спросила меня: кто виноват? Я уверен, она не исключала себя. Но на ней вины нет. Она не обладала еще достаточным жизненным опытом. Совершенно неправомочно перекладывать на нее ответственность, что целиком и полностью лежит на всех нас.
Штребелов никуда не уезжал, но к нему-то доступ Юсту был закрыт. Да, Карл, в этом твоя вина, признаешь ты это или нет. Твое упрямство закрыло Юсту дорогу к тебе. Оно в этом случае сыграло большую роль, чем многие думают. Да, признаю, поведение Юста способствовало тому в полной мере, но ты ведь старше. Ты опытнее. Но таков ли ты на самом деле?
И я тоже уехал. А может, и до отъезда Манфред меня не замечал, может, я не стал для него тем, кого он хотел видеть во мне, кто мог бы укрепить его в его борьбе. Я не знаю. Но я тоже виноват. И речь вовсе не о том, чтобы посыпать сейчас голову пеплом, этого в подобной ситуации лучше вовсе не делать. Речь о том, чтобы предупредить повторение таких случаев. Иного вывода быть не может, Кеене. Из поражений не обязательно выходить павшим духом.
Я вспоминаю о светлых, радостных днях и часах в жизни Манфреда, о которых я узнал из его писем. Разумеется, это еще не вся его жизнь, но нам следует помнить об этих часах.
Я решил увидеться с Марком Хюбнером, даже зайти к нему домой. Многое я ему смогу рассказать, не стану скрывать трудностей и сложностей. Думая сейчас о Марке Хюбнере, представляя себе его выразительное лицо, вспоминая его вопросы, настойчивость, с которой он эти вопросы задавал, я называю его про себя представителем всей молодежи, с которой мы имеем дело и будем иметь дело сегодня, завтра и послезавтра.
Нам, педагогам, нужны живой ум и чуткость. Мы же понимаем, что значим в жизни молодых людей.
Марк и другие ребята той же породы когда-нибудь, как и мы, станут хозяевами жизни, жизни такой, какая она есть, во всей ее противоречивости.
Ничто не должно их миновать — ни сложные проблемы, ни борьба. Иначе как будут они перестраивать этот мир? А ведь наша задача была и остается — изменять жизнь, приближая ее к нашим идеалам.
Парень должен вырасти стойким человеком.
Я выступлю перед коллегами. И только в самом начале буду говорить о Манфреде Юсте, но главным образом речь пойдет о нашей трудной и прекрасной работе.
Придется мне стать беспокойным элементом в нашей школе, пусть это будет порой нелегко. Я и сейчас знаю, что мне чаще всего будет нелегко. Но нам нельзя успокаиваться — в интересах нашего дела. Мы должны выступать против застоя и рутины. К себе, если это будет нужно, я буду беспощаден. И если нужно будет, выступлю против Карла Штребелова. Боль в сердце от этого не пройдет, но и хуже мне не станет.
Нет, Манфред, я не задраил люки. Как это тебе пришло в голову?
Мы будем держать люки широко открытыми, и ничто нам в этом не помешает.
Примечания
1
В 1977 г. опубликован на русском языке издательством «Прогресс».
(обратно)2
Иоганн-Вольфганг Гёте. Фауст. Пролог в театре (перевод Н. Холодковского). — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)3
В ГДР так называют людей, с первых же дней после разгрома фашизма принимавших деятельное участие в создании антифашистского демократического строя.
(обратно)4
Восточный район Берлина, где на реке Шпрее находится одна из крупнейших электростанций — Клингенберг и железнодорожные ремонтные мастерские.
(обратно)5
В. Шекспир. Сон в летнюю ночь, действие V, сцена I (перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник).
(обратно)6
Из стихотворения «Невероятный факт» немецкого поэта Христиана Моргенштерна (1871—1914).
(обратно)





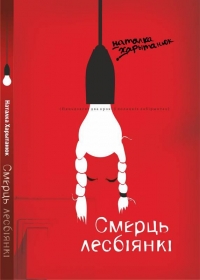
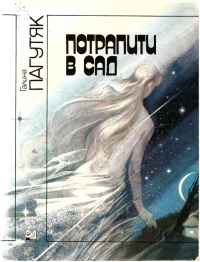


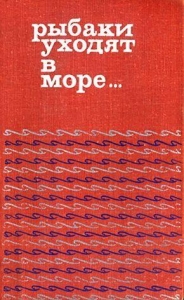
Комментарии к книге «Извещение в газете», Гюнтер Гёрлих
Всего 0 комментариев