Денис Гуцко Большие и маленькие
Серия «Новая проза»
© Гуцко Д. Н., 2017
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
* * *
Тварец
О недавнем весеннем хаосе – днём жара, под вечер снег – напоминают лишь лоскуты подсохшей грязи вдоль бордюров. Июнь наконец развернул свой зелёный балаган. «Лето, лето! Лета кому?!», – воробьи-зазывалы орут-разрываются, лезут вон из перьев. А ведь праздник наверняка будет скомкан: лето небывало позднее. Вот-вот грянет жара, оглушит и придушит, окунёт город в асфальтовый чад. Впрочем, что ж – сегодня славно. Ластится ветерок, облака кружавятся. Стальной сосок отключенного фонтана ослепительно брызжет солнцем. Кленовая ладонь, зачерпывая и выплёскивая свет, превращает изумруд в янтарь, янтарь в изумруд – и так далее. И тени каштанов. Каштаны раскинули дырчатые, как дуршлаги, тени.
Вследствие погоды в сквере многолюдно. Скамейки усеяны самой разнообразной публикой – от кислых стариков, тенистой прохладой врачующих душное своё уныние, до истомных парочек, которым негде уединиться. Парочки тискаются исподтишка, старики осуждающе подглядывают.
На одной из скамеек, утопив подбородок в ладонь, устроился тусклый офисный гражданин с неожиданно колючим взглядом, который, собственно, и думает о погоде, о стариках и парочках, о плавающих у его ног тенях – теми самыми, кружевными книжными словами. Гражданин считает себя писателем. Давно и мучительно. А минувшей весной, столь изматывающе-взбалмошной – решил, что пора, наконец пора.
Хватит с него потной толчеи в колонне, выступающей сизифовым маршрутом от зарплаты к зарплате.
– Задачи ясны? Всем спасибо. Все по рабочим местам! – Пусть другие выстаивают ежеутренние летучки; он напишет о них сагу.
Осмелиться. Стать. Преодолеть.
Собственно, пока речь идёт всего лишь об отпуске, который он от первого до последнего дня посвятит наконец творчеству (каждый раз, произнося мысленно это слово, он смущается). Все с чего-то начинали, у всех случались сомнения, испуг перед началом. Так он пытается приободрить себя. А приободрить нужно: испуг имеет место быть.
Сейчас у Кудинова обеденный перерыв. Шестьдесят минут свободы. Можно не только покинуть помещение банка, но, во-первых, покинуть в произвольном направлении, а во-вторых – не думать о банковской рутине. Совсем. Забыть. Вышвырнуть вон и захлопнуться, как подлодка. Правда, во что-нибудь неотложное можно вляпаться и во время перерыва. Позвонят: «Ты где? Здесь срочно нужно». Но это не часто.
Мысли его невольно поползли к кабинету Башкирцева. Кудинов ещё раз подумал о том, как пойдёт говорить с ним про отпуск. Нужно будет с ходу, не рассусоливая – и таким нерабочим, слегка шутливым даже, отпускным тоном, будто одной ногой уже там: «Вы обещали в начале лета, Дмитрий Семёнович. Вот заявление». О вероятности неблагоприятного исхода дела запретил себе думать.
Тени каштанов чрезвычайно его занимали – дырчатые как дуршлаги. Он повертел ими так и эдак, вдруг вылепил вычурный анапест: дуршлаговые тени каштанов, – отбросил и снова поморщился. Дуршлаг не давался, как ни крути.
Кудинов принялся поглаживать через ткань брюк лежащий в кармане мобильник: отключить? Вдруг всё-таки позвонят: «Ты где? Здесь срочно нужно».
Он долго держался. Считай, со школы, где Валентина Ивановна однажды объяснила ему, что в нём заметны творческая жилка и литературные наклонности. Он блистал на школьных олимпиадах, стенгазету в одиночку выпускал. Завуч говорила: «Наш луч света в тёмном царстве». Среднюю школу Женя Кудинов покинул с твёрдой, несколько снобистской уверенностью, что жизнь – главный писательский университет, а уж складывать слова он как-нибудь научится. Вначале собирался перекантоваться годик – и в армию, но перед самым выпускным случайно попавшаяся формулировка: «журналистика описывает изменения окружающей действительности», – прямо-таки загипнотизировала его своей математической элегантностью, и для ознакомления с жизнью Кудинов выбрал журфак.
Обретённый на журфаке опыт был весьма неожиданным. Одновременно с Кудиновым научиться описывать изменения окружающей действительности вознамерились самые яркие, самые темпераментные девушки города. Пожилые преподаватели, оглушённые разразившейся гласностью, учебным процессом интересовались слабо, так что занять себя всерьёз книгами и лекциями не представлялось возможным. К тому же к третьему курсу Кудинов оказался единственным парнем в группе. Остальные разбежались кто куда. Стечение обстоятельств, вписанное в его судьбу под грифом «непреодолимая сила». Окончив журфак избалованным ловеласом, Евгений Кудинов на будущее своё смотрел как на девушку, к которой он не спешит подкатывать, поскольку недавно порвал с предыдущей и выдерживает положенный карантин – но ведь куда она, милая, денется. Вот окончит универ – и тогда уж…
Будущее оказалось отнюдь не девушкой, а совсем даже наоборот – боровообразным мужиком с модной стриженой бородкой. Устроившись пресс-секретарём к Башкирцеву, Кудинов моментально испустил кураж и, призвав себя быть реалистом – как-никак приличный оклад плюс премиальные по итогам года, – отложил мечту о писательстве на потом, ещё на немного.
Потом умерла мать. Времена были ельцинские, козлы ели людей. Сожрали и Зинаиду Романовну. Работала маляром: потолки, обои. Деньги на книжку – сыну в наследство. А тут обменная реформа. Как услышала, что вклады сгорели, слегла. Вроде бы не болела никогда, и вдруг – одно за другим: желудок, почки, щитовидка. И года не проболела. Была, и нету. Отца не стало давно: рак горла, курил много.
Словом, на плодотворное иждивенство – до первой книжки, разумеется, – рассчитывать не приходилось.
Время от времени, будто спохватываясь о чём-то важном – пора ведь, – бросался в свои уютные катакомбы, в которых подпалины, оставленные чужими шедеврами, подсвечены угольками собственных замыслов, в которых торжественно и страшно от предвкушения чего-то огромного, радостного (примерно так он собирался рассказать об этом в своей большой дебютной вещи, сделанной на автобиографическом материале). Уединялся над блокнотом, урча от страсти – будто теперь уж точно навсегда; но снова и снова оказывалось – ненадолго. Только приладится творить – вламывается беспардонная реальность, суёт в руки дурацкое своё кайло:
– Кудинов, хватит бездельничать. На вот, займись.
Кайло, даром что аллегорическое, довлело над ним с вполне натуралистической грубостью. Пресс-секретарь при Башкирцеве – должность широкопрофильная, выходящая далеко за рамки профессии. Башкирцев, видимо, догадывался о бесполезности пресс-службы в своём филиале: готовые макеты рекламы присылает Москва, общение с прессой случается редко. И потому каждый норовил найти, чем занять скучающего пресс-сека. То документы отвези, то мебель подвигай.
«Всё равно ведь временно», – внушал себе Кудинов, и перед мысленным его взором привычно вздымалась другая – бурливая, полнокровная жизнь мастера: герои нашего времени, проклятые вопросы, фейерверки вдохновения и серафимы на перепутье – жёсткие, но благоволящие.
В тридцать один, когда на темечке проклюнулась плешка, Кудинов, ужаснувшись хроническому своему бездействию, засел за повесть о поваре-пиромане, который томится желанием завершить свою кулинарную карьеру грандиозным праздничным пожаром. Кудинов составил план, написал полглавы – и вдруг женился. На Наде Полищук из параллельной группы, с которой аккурат перед самой дипломной у них обнаружилась взаимная симпатия с перспективами. До перспектив тогда не дошло – Кудинов отвлёкся на Марину Алтуфьеву. Но, вот, спустя девять монотонных лет, скрашенных двумя (всего лишь двумя) вялыми романами с банковскими операционистками, затурканными поболе Кудинова, он, встретив на улице Надю – разведённую, но без детей, – вцепился в неё без колебаний. Будто щёлкнуло: обретая прежнюю свою журфаковскую искристость, Евгений прямо там, в шумном потоке прохожих, рванул в атаку: «Надюх, неужели мы так и не попробуем?» И мину трогательную скроил – как он умел, представ перед Надеждой не проходным кобелём среднего возраста, а обаятельным адептом незамутнённой лёгкости бытия, проводником в счастье земное. Сработало. Надя, смеясь, предложила попробовать безотлагательно. Вечером они были в постели, через два месяца в ЗАГСе.
«Дуршлаговые тени, – думал Кудинов. – Тени как дуршлаги».
Тут он вспомнил, как Надя говорит «отбросить через дуршлаг» – и в кухонной этой фразе увяз окончательно. Как ни пыхтел, всё без толку: через дуршлаг ветвей ни тени, ни солнце отбросить никак не удавалось.
Ветви каштанов… дырчатые как дуршлаги…
Сбился! Утоп в дуршлагах.
– Да потому что неграмотно! – вслух разозлился Кудинов, насторожив шествовавших мимо голубей; продолжил про себя угрюмо: «Отбросить на дуршлаг, НА! Процедить – через!»
Телефон заверещал как раз в тот момент, когда он, стараясь отвлечься от дуршлагов, принялся лепить фразу из «безвкусного провинциального бетона, щедро политого солнцем».
– Чёрт вас всех побери!
Звонила Надя, конечно. При всей сбивчивости её редакторского распорядка звонит она ему только в обед. Кофе пьёт исключительно из старой надколотой кружки. Стрижётся все эти годы неизменно под каре. Любое однообразие для неё – фундамент комфорта. Вероятно, как и сам Кудинов.
– Женёк, ты помнишь, что я завтра номер верстаю? Что у нас на субботу перенеслось?
– И что?
Запнулась. Немного растерянно:
– И поэтому ты весь день с Димкой.
Дальше, уже оправдываясь:
– Просто напомнила. Суббота ведь завтра. А то в прошлый раз тебя куда-то вызвали. Встречать кого-то. Или провожать. Димона на этот раз некуда сбагрить: мои ж на даче.
И участливо:
– У тебя что-нибудь случилось, Жень?
Эта её усугубляющая участливость…
– Надя, ничего у меня не случилось.
Помолчала немного. Тишина какая-то шаткая – будто во время паузы в разговоре она успевает что-то сделать: помахать кому-то рукой, переложить что-то на столе, перейти с места на место.
– Ладно, Жень, обнимаю.
Кудинов нажал на «отбой».
Быть с нею лёгким он сумел совсем недолго. Спёкся сразу после свадьбы. Но Надя, казалось, этого до сих пор не заметила. Как в самом начале она говорит «Женёк», «обнимаю», и шёлковые колокольчики в голосе… Чёрт! Сам он переживает с Надей необъяснимую тревогу – сродни агорафобии. Она так невозмутима, её всегда так много, так много, так непреодолимо много. Нет, быть с нею лёгким невозможно.
– Такие вот дуршлаги, – пробубнил Кудинов. Ещё раз всмотрелся в тени у себя под ногами, примериваясь к неуступчивой метафоре. – Ну и хрен с вами.
Пятница, как водится, дожимает – напоследок командует: «Ап! Ну-ка, в стоечку, в стоечку. Держим-держим-держим». Но сегодня Кудинов вне игры. Дел пятничных не осталось, понедельничные затевать глупо. В окна переходной галереи, выходящие внутрь банка, ему видны кусок холла и оперзал. По залу стелется бубнёж рекламных роликов, транслируемых на огромную «плазму», над галереей гудит вентиляция. В отделе вкладов несколько смурых дёрганых клиентов. Верзила с мотоциклетным шлемом самый непоседливый. Боится не успеть до закрытия. То кинется к кассе, то – обратно в кресло. Шлем его – распухший бедный Ёрик – бултыхается, насаженный на крюк согнутой руки. То в одном, то в другом коридоре за спиной Кудинова цокотят каблуки – то начальственно-вальяжные, то служиво-рысистые. Из подземелья кассы, открытой для проветривания, долетает обрывистый писк и бульки смеха – всё, что осталось от голосов кассирш по пути на поверхность.
Жалюзи нашинковали солнце на тонкие полоски.
Вспомнив тени-дуршлаги, Кудинов раздражённо морщится: пристанет же!
Вот именно эти минуты – не честные последние минуты рабочего дня, а лживые, двуличные минуты перед теми, по-настоящему последними – стабильно вгоняли Кудинова в тоску. Старался проскочить их, подбирая самое бессмысленное занятие – вроде подготовки отчёта о запросах газетчиков, на которые всё равно никто никогда не отвечал. Кудинов давно заметил, что именно бессмысленный труд лучше всего скрепляет этот ежедневный разрыв временного континуума: тоску сменяет сладкая истома обречённости – демон скуки милостиво принимает жертву… Ко всему прочему Башкирцев имел привычку эдак в полшестого наведываться в кабинеты. В какой сунется, угадать невозможно. Правило про снаряд и воронку не работает: может в один и тот же отдел и два, и три раза подряд шарахнуть. Все должны быть на местах, желательно в трудовом загибе. Иначе можно отхватить сюрприз под дых:
– Мне это нужно к двенадцати в понедельник, потрудитесь не задерживать.
Возможно, вернуться к себе, чтобы изобразить финишный рывок, не помешало бы. Идти к Башкирцеву с отпускным заявлением Кудинова отговорила секретарша Олечка:
– Кажется, его Москва сегодня отымела. Я, правда, не уверена. Но звуки из кабинета были, знаешь… характерные… Дударев ему звонил. Смотри, конечно… Я бы не рискнула.
Он тоже – не рискнул. Но, что называется, по случаю, вполне мог бы про отпуск свой ввернуть. Вкатывается к нему Башкирцев – а он, отрывая от монитора сосредоточенное своё лицо, говорит: «Можно к вам зайти, Дмитрий Семёнович?» А подтекст такой – дескать, как удачно вы нас навестили, а то секунды свободной нет к вам выбраться. Башкирцев, не решаясь отмахнуться от взмыленного героя: «По какому вопросу?». А он, устало, но сдержанно пожимая плечами: «Вы отпуск обещали. В июне. Июнь скоро кончится…» – «Заявление готово? Давайте подпишу».
Может. Вполне. Под настроение.
И вот оно, вот – устроиться на лоджии, включить ноутбук… правой кнопкой «мыши»: создать новый… и слово за слово – то хитрым выплетая узором, то сваями вбивая во временно безжизненную пустошь… ну, здравствуй, новый мир, я твой создатель…
Конечно, с большим удовольствием Кудинов положит на стол Башкирцеву заявление об увольнении – но это потом, потом. Аккуратно нужно с мечтой. Мало ли. Как водолазу – с давлением после подъёма с глубины: рванёшь слишком резко наверх, и всё, кессонная болезнь. Рвота, трясучка, обморок. Грубая палубная проза, боль и антисанитария – а всё из-за банальной нетерпеливости. В общем, приближение счастья – не повод для идиотизма.
Он поворачивается к другому ряду окон, выходящих наружу, и видит Башкирцева. Его затылок: две тугие розовые складки, подёрнутые прозрачным пушком. Управляющий идёт к машине. Складки пружинят в такт его шагам. Приостановившись на секунду-другую, Башкирцев поворачивает голову: что-то привлекло его внимание. Складки скручиваются в продолговатый мясной крендель. Башкирцев улыбается, и, проследив за его взглядом, Кудинов видит молодую узконосую дворнягу, азартно гоняющую белоснежный мосол по банковской парковке. Кудинов отворачивается: проявления простецки-человеческого в господине Башкирцеве – вроде способности улыбнуться дворняге – ему неприятны.
Ничего, в понедельник никакая Олечка не встанет между ним и управляющим: обещал отпуск – подписывай.
Голуби, словно выздоравливающие больные, ковыляют мимо фонтана. Кудинов представляет себе, как они переговариваются по дороге: у кого где ноет, как прошла операция, сколько улетело на лекарства.
К истории о поваре-пиромане он давно остыл. Это будет повесть о выжившей Джульетте. Современность. Антураж и детали изменены, только суть. Просыпается и обнаруживает возле себя труп Ромео. Пытается покончить с собой, но это оказывается не под силу хрупкой поэтичной девушке – так, лёгкое ранение. Её находят родственники. Женщины в шоке, Джульетта в депрессии. Организатор похоронного трюка, чудаковатый профессор по фамилии Монах, идёт под суд за непредумышленное убийство Ромео – и тянет за собой Джульетту. Дескать, она инициировала, а он, Монах, сдуру поддался уговорам, которые в известном смысле являлись не чем иным, как шантажом – учитывая влиятельное положение Джульеттиных родителей…
Кудинов вдруг замечает, что на остановку подошла его маршрутка, и бросается к открытой двери, из которой торчит плотная гроздь задов вперемешку с локтями и сумками. Немного усилий, и Кудинов – ещё одна ягодка в маршруточной грозди.
Сидя на стуле и покачивая ногой, на которой повисла наполовину снятая кроссовка, Дима повторяет:
– Пап, хочешь, я тебе покажу, что я сегодня нарисовал? А, хочешь?
Кудинов столкнулся с Надей и Димкой у подъезда. Так глубоко погрузился в Джульеттину историю, что не сразу их признал. Остановилась перед ним женщина, плечо оттянуто рюкзаком, держит за руку мальчика, говорит: «Привет», – целует в щёку. Оказывается, это его жена, ведёт сына из школы.
– Пап, показать?
Надя уже хлопочет на кухне: греет ужин.
Кудинова манит диван. Но отцом нельзя быть во вторую очередь – напоминает он себе. Соглашается:
– Конечно, хочу.
Дима выстреливает кроссовкой под диван.
– Ой! Ну, я потом достану.
Быстрым плещущим движением, как будто умывается, он отбрасывает с глаз отросшую чёлку:
– Идём?
– Пора тебя подстричь, – говорит Кудинов, ероша сыну волосы.
Дима отстраняется, заново прибирает чёлку.
– Идём, пап.
В руках у сына блескучая пластиковая папка – видимо, выужена из рюкзака. Серебристо-сиренево-жёлтая. Переливается.
Они устраиваются на диване. Дима вручает папку с рисунками отцу и вытягивается во весь свой семилетний рост на широкой диванной спинке. Не успевает Кудинов открыть папку, сын скатывается вниз, выхватывает её.
– Здесь на резинках, – Дима срывает резинки с уголков папки и, скомандовав: – Смотри! – возвращается на своё любимое лежбище.
На тонком мелованном картоне – карандашные рисунки. Обычные предметы и персонажи, которыми взрослые традиционно заселяют мир детей: так рисуется зайчик, так белочка, так яблочко, а вот так – во-о-от так – груша.
– О, отлично. Заяц особенно получился. Ушастый такой…
– Да не, это так… вот, здесь.
Алексей кладёт на колени отцу следующую картонку.
Мрачноватое задумчивое существо. Глаза, синий и жёлтый, смотрят несколько вбок. Крупный кочан головы, лицо вполне человеческое, но рот чем-то напоминает кошачью пасть. На шее цепочка с бутоном красной розы. Ноги, как тумбы, и три мощных бугристых руки.
Дима в предвкушении похвал переводит взгляд с папы на рисунок. «Тварец», – читает Кудинов на обороте. Столь беглое знакомство отца с рисунком не удовлетворяет Димку. Сползает по спинке дивана, усаживается поближе. Переворачивает картон обратно, рисунком вверх:
– А? Как? Этот у меня лучше всех получился. Рисовалка сказала: «Теперь рисуйте, что хотите». И я нарисовал.
– Кто? Рисовалка?
– Да. Учительница по рисованию.
– Вы её так называете?
– Ну… да. – Дима неохотно отвлекается на второстепенное.
– Так нехорошо учительницу называть.
– Понятно… Пап. – С заметным нетерпением он возвращается к главному: – Ну как тебе?
– Да отлично. Тип такой… ногастый, трёхрукий.
– Это чтобы больше успевать.
– Рот у него такой… хищный какой-то, – сменив интонацию, Кудинов переходит к критике.
– На самом деле он ветром питается, – спешит пресечь критику Димка. – Роза у него, видел? Это, знаешь, что значит? Знаешь?
– Чем, говоришь, питается?
– Ветром. Если долго ветра нет, он голодает. И отправляется искать, где ветер. А роза – это с его родины. Это чтобы надолго дом не покидать. Как только роза высохла совсем, листья стали опадать – пора, значит, домой. Только у него на родине ветра не бывает почти, он там долго тоже не может. Раньше там был ветер, а теперь нет. Понял?
Рассказывая, Дима непроизвольно вдавился грудью отцу в плечо – чтобы быть ближе и понятней.
– Это Тварец. Видел, сзади там написано?
Кудинов слегка отстраняется от Димы, осуждающе качает головой:
– Э-эх! Грамотей! «Творец» через «о» пишется. А ты как написал? – переворачивает рисунок, постукивает ногтем по незаконному «а». – Слышишь?! – зовёт он Надю. – Как сын твой «творца» написал? Через «а»! Чему только их в школе этой учат?
– Почему через «о»? – тихо удивляется Дима, вновь притискиваясь к отцу.
– Да ладно, Жень! – откликается Надя. – Научится ещё, успеет.
Кудинов чувствует новую волну раздражения в адрес Нади: всё ей мелочи, всё у неё «успеется». Беспечная.
Чувствуя, что перегибает, он всё-таки пытается себя одёрнуть: «Главное, молчи». Если перемолчать, раздражение рассеется. Уйдёт. Потом сам же будет радоваться, что не ляпнул ерунды, Надю не обидел.
– Почему «о»? – снова приступает Димка. – Мы вот с мамой «Маугли» читали. Там было: «Ты из дикого леса, дикая тварь?». Через «а».
– Правильно, – соглашается Кудинов с некоторой неохотой: теперь не осталось ничего иного как пуститься в дальнейшие разъяснения. – Если «тварь» – то через «а». А «творец»… тот, кто эту тварь сотворил… ну, бог, всевышний и так далее – «творец» уже через «о».
Задумавшись, Дима молча забирает рисунок, смотрит. Переворачивает, смотрит.
– Понятно, нет? – миролюбиво заключает Кудинов и трёт лицо, подавляя зевоту.
Кажется, отпустил нервный спазм.
– «Тварь» через «а», «творец» через «о», – на последнем «о» Кудинов всё-таки срывается в долгий глубокий зевок.
Пересев на ручку дивана, Дима думает.
– Нет, не понятно, – наконец сознаётся он. – Почему там через «а», а здесь через «о».
– Потому что так правильно. Творец, понимаешь? Тво-рец.
Некоторое время Дима молчит, всматриваясь в существо с синим и жёлтым глазами.
– Ну, ладно! – выносит вердикт. – А у меня «Тварец». Это другое. Он не бог. Он как бы тоже – из дикого леса, но… – Дима сбивается, но скоро подхватывает: – только может сам разных существ делать. Живых.
Повернувшись к сыну, Кудинов чувствует, что приступ немотивированной досады, который казался преодолённым, вовсе не преодолён. Чудище лишь притаилось, и теперь встаёт во весь рост. Жаль. Жаль, он не в силах с ним совладать… Впрочем, почему это – немотивированного? В школе не учат, так отца послушай. Набирайся знаний хотя бы дома, благо есть у кого.
– Во-первых, слезь с ручки дивана, – холодно чеканит Кудинов.
Смекнув, что нарвался, Дима спрыгивает с ручки – она предательски надрывно скрипит. Этот звук заводит Кудинова на полные обороты.
– Сколько раз повторять, чтобы ты не ломал диван!
– Я не хотел…
Во-вторых, – припечатывает он, не слушая Димкиных оправданий. – Ты запоминай, когда тебя учат. Мотай на ус, а не спорь и не умничай. Сказано: через «о» – значит, через «о». Ясно?
Димка с готовностью кивает:
– Ясно.
– Не через «а». Ясно?
– Да. Ясно.
Всё, отпустило. Будто электрический провод отняли от головы. Переходит на заключительное ворчание:
– Ну, и отлично.
Ой-ой, успел-таки наломать. Дима стоит, вытянувшись по струнке, в глазах испуг и… Кудинов не исключает, что в такие минуты ему это мерещится, но в Димкиных глазах за пеленой испуга он каждый раз видит сполохи жалости.
Если не взять себя в руки хотя бы сейчас, вслед за случайным гневом накатит другая напасть: бурное раскаяние, полное слезливого удушья. Надя явится с рюмкой валерьяны, Димка просидит весь оставшийся вечер беззвучно в своей комнате, а когда придёт поцеловать перед сном, будет отводить взгляд…
– Иди.
Дима разворачивается к двери.
– Забери.
Дима подхватывает картонки, суёт их в папку, уходит к себе. Скорей всего, встанет там перед своим столом, уткнувшись в стену: почему-то всегда переживает стоя.
Кудинов запрокидывает голову на спинку дивана. Разгорается изжога раскаяния. Позвать его, что ли, обратно, приласкать…
– Мальчики, к столу! – зовёт из кухни Надя, не слышавшая того, чем закончился Димкин вернисаж.
Проспав часа три, Кудинов открыл глаза. Сердце стучало ровно и упруго. Но он знал: если сейчас встать, поддавшись обманному ощущению бодрости, уже часа через два его настигнет усталость, безжалостная и неподъёмная. Нарушение сна было делом для него привычным, Кудинов был опытным ловцом сновидений. Новички бросаются сразу считать цветных овец. Бесперспективно – если сначала не дать мозгу пробежать намеченный круг, прокрутить всё то, что не удалось дожить и додумать за день. Что делать, придётся уплатить бессоннице эту дань. И Кудинов заскользил по петлистой границе между мыслью и бредом.
– И ведь обязательно под выходной, – шёпотом, чтобы не разбудить Надю, посетовал Кудинов.
Оттолкнувшись от каштановых ветвей, равномерно проколотых светом, его видения прокатились над оперзалом банка, где, впав в секундное завихрение грёзы, нарисовали то, чего так никогда и не случилось: в опустевшем банке он страстно, смахивая куда попало документы и канцелярскую мелочёвку, любит Галочку Сенькину на рабочем столе… Где она теперь? Говорят, в Германию уехала… Здесь Кудинов прочно вернулся в состояние бодрствования, и, пролистав одну за другой скучные картинки прошедшего дня, остановился на крупном плане складчатого Башкирцевского затылка. В понедельник, подумал Кудинов, нужно будет просто отдать заявление Оле. И всё. А если Башкирцев не подпишет, прийти к нему и спросить – почему, собственно.
«Почему. Да. Почему», – уныло потянул про себя Кудинов, глядя в творожистый ночной потолок, и вздохнул.
Ему вспомнилось, как вечером он совершенно по-идиотски завёлся оттого, что восьмилетний сын недоумевал, почему «творец» следует писать через «о», тогда как «тварь» – через «а», и мысли его покатились по совсем другой спирали: Надя, семья, обязательства… завтра нужно первым делом помириться с Димкой… искупить… эх, нервы, нервы… будешь нервничать, когда призвание принесено в жертву…
«Всё, хватит!»
Подоткнув поудобней подушку, Кудинов поспешил-таки на инвентаризацию ночного стада: одна овечка, две овечки, три овечки, четыре… Сюжет семейный заканчивался известно чем. Дима вырастает и уезжает учиться в другой город. Пять овечек, шесть овечек, семь. Его стареющий жалкий отец, всю жизнь мечтавший писать романы, вместо того чтобы рассылать пресс-релизы, от безысходности разводится с женой. Восемь овечек, девять овечек, десять. Но время, хоть и горит незримо, сжигает наверняка: его заброшенный – отложенный – талант давно превратился в золу. Одиннадцать, двенадцать. Проклятые овцы!
В понедельник заявление ляжет на стол Башкирцеву с самого утра. Точка!
Одна овечка, две овечки, три.
Когда, растолкав спасительных овец, Кудинов в десятый раз ввалился в будущий понедельник и застыл там перед дверью с табличкой «Управляющий» – он решительно отбросил одеяло, встал и, стараясь не цеплять в темноте мебель, отправился на кухню.
На кухне налил стакан вермута, капнул в него апельсинового сока и, запахнув халат, ушёл на лоджию.
Здесь, укутанный в плед, он устроился в том самом кресле, в котором когда-то начнёт свою историю про суд над Джульеттой, и, потягивая из стакана, принялся ждать. Алкоголь действовал медленно и не всегда с первой дозы.
На другом конце посёлка уныло, одиночными лаяла собака. Тоже бессонница. Тоже, значит, считает, чтобы уснуть. Хорошо ещё, соседские бобики на далёкий лай не отзываются. Окрестная тишина нарушалась лишь редким, затихающим покряхтыванием качелей. Неподалёку детская площадка. Наверное, какой-нибудь ночной забулдыга сидел на качелях, недавно поднялся, а они теперь качаются ему вдогонку, скрипят.
Скоро и качели умолкли.
Луна висела спелая, тяжёлая. Открытая луне, серёдка двора льдисто тлела. Под самым забором, за кустом сирени, раздались вдруг шорохи, перестуки. Ничуть не вороватый – по-хозяйски полновесный шум. Невидимый ночной хозяин занялся там каким-то серьёзным невидимым делом. Димка когда ещё уверял, что во дворе завёлся ёж.
Стакан был выпит до половины, когда Кудинов почувствовал первое прикосновение долгожданной ласковой пустоты.
– Привет, кочевница, – шепнул он в монгольское лицо луны.
Лицо осталось траурно-отрешённым, всматриваясь поверх Кудинова в свои холодные потусторонние степи.
– Всегда так, – сказал мама. – Ты разве не знал?
– Нет, – ответил Кудинов.
Мама спустилась со стремянки, одной рукой поправляя съехавшую на лоб газетную «наполеонку», в другой держа задранный кверху длинношерстный валик, с которого капало. Глянула вверх, проверяя равномерность окраса.
– Я думала, ты знаешь.
Кудинов открыл глаза. Сверкало утро. Стакан, целый и невредимый, лежал на полу.
Не выспался – угрюмо констатировал он и устроился повыше в кресле. От сидячего сна шея задеревенела. Скорей всего, весь день будет ныть голова.
Дима, одетый уже совсем по-летнему, в футболку и бриджи, играл во дворе. Игра кипела, заставляя мальчика метаться с места на место, бельевыми прищепками крепить какие-то загогулины к кустам, к скамейке, к рулю велосипеда, тут и там втыкать в землю щепки и веточки, быстрыми короткими тычками отыскивая рыхлые места.
– Хо-хо! – долетело до Кудинова. – Баррабисс! Фрус! Хо-хо!
Кудинов не сразу понял, в чём состоит игра. Присмотревшись, разглядел, что Дима расставляет и развешивает по двору картонные фигурки, пёстро раскрашенные акварелью. Разнообразнейшие фантастические существа, родня вчерашнего Тварца. Самого трёхрукого крепыша Кудинов высмотрел на каменной дорожке, торчащим из двух сдвинутых вплотную кирпичей.
– Пап! – крикнул Дима, заметив, что тот проснулся. – А я тут играю!
Подбежав к лоджии, Дима взобрался на выступ стены, по-птичьи покрутил головой, ища угол, под которым лучше разглядит отца сквозь блики и отражения на стекле.
– Мама на работе, а я играю. – От его рта по стеклу расплывается матовая клякса, которая начинает таять, стоит ему умолкнуть. – Ты видел, сколько я их наделал? То есть, это он их наделал. Ну, мой Тварец. Ну, так по игре. Видел? – Дима мотнул головой в направлении двора, по которому расселился его картонный народец. – Больше двадцати… забыл… а, двадцать три. Я им как раз имена придумываю. Поможешь?
Вчерашний назидательный рык отца забыт напрочь. Дима весь захвачен игрой.
– Пап, хочешь со мной имена придумывать?
Кудинов отвечает с запозданием, долго выбирает, взвешивает слова. Выходить во двор ему не хочется. Рваная ночь повисла на нём тяжело, держит цепко. Он будто рыба, упущенная рыбаком вместе с сетью. Но нужно хоть как-то приголубить Димку – после вчерашнего.
– Я позже, ладно, сынок? Ночью почти не спал. Умоюсь, чаю попью.
– Ладно, – спрыгнув с выступа, Дима бежит к садовому столику, на котором лежат неустроенные пока и безымянные фигурки. – Приходи!
– Приду, – обещает Кудинов и закрывает глаза.
Уснуть бы по-настоящему.
Была, конечно, возможность сходить в отпуск весной: Башкирцев как-то ворчал на летучке – дескать, берите, а то, как всегда, приспичит всем одновременно. Можно было ухватиться – и пойти весной. В апреле.
Включил ноутбук, открыл новую страницу.
Начало… чуткая белая пустошь…
Весной не стал. Весной был хаос: днём жара, под вечер снег. Весной было слишком взбалмошно. Сложно сосредоточиться. Сейчас утряслось. Сохнут лоскуты грязи вдоль бордюров. Зелень, воробьи. Празднично и шумно как в балагане.
Лето.
Наконец-то.
Но скоро жара.
Оглушит и придушит, окунёт в асфальтовый чад.
И что-то про кленовую ладонь. Туда-сюда. Изумруды, янтари. Как-то так. Каштаны ещё. Эти тени.
Да и хрен бы с ней, с Джульеттой. А вот написать бы про Надю. Про то, как ему сладко и жутковато возле неё – как в море, когда берег пропал из виду. Про маму ещё написать. Про схватку её с козлиным веком. Про её мужские руки с разноцветной каймой под ногтями. Как он их стеснялся…
– Баррабисс. Хо-хо.
Сплюнув сквозь щёлку в передних зубах, Тварец повторяет с некоторым нажимом: «Хо-хо».
– Что, простите?
– Дигирума фрус, – отвечает он задумчиво. – Нума. – И ловко отбрасывает Кудинова через дуршлаг.
Лю
Нинка чистит картошку в однорукую кастрюлю. Очистки – на пол. Чистит суматошливо, наспех обвязав порез лоскутом кухонной тряпки: Сом сегодня не в духе, можно и нарваться.
Сом развалился в углу на стуле, слушает сквозняк. Внимательно, как будто решает что-то насчёт сквозняка. Чёрен – изнутри как-то. Взгляд воткнул в стену, куда попало, в застывшие брызги жира над плитой. Губы разбиты, левое ухо торчит лиловым плавником. Локти разбросал – на стол, на подоконник – просторно, во всю ширь. У Нинки, считай, как у себя дома. Считай, хозяин.
Васька в прихожей зашивает кед. Делает вид, что зашивает – давно уже управился, не хочет попадаться на глаза Сому. Васька видел, что было за гастрономом. То, что Сом назвал «схлестнулся там с одним» выглядело на самом деле иначе. Пузатый коротышка – тот, что приходит со стороны частного сектора и ни с кем никогда не разговаривает – с первого удара сбил Сома на землю и разъярённым хряком пробежался по его спине, от шеи до зада. Сом теперь наверняка сорвёт злость на нём с Нинкой. Если бы не две бутылки «Особой» и три пива на кухонном столе, Васька бы вообще на сегодня ушёл. Заранее морщится. Можно попробовать принять – и слинять. Вовремя. Не досиживать. Но если хорошо пойдёт, это сложно. Есть ещё вариант: Сом может ведь оторваться на малом. В последнее время взъелся на малого не на шутку.
Ромка сидит на корточках в комнате за занавеской, щёки расплющил о коленки. Он с самого начала спрятался и сидит тихонько, не шелохнётся. Ноет и ледяным языком лижет спину сквозняк. Под окном собаки бегают за проезжающими машинами – лают взахлёб, лопаются от лая.
Сначала пришла одна Нинка, и он выбежал к ней, потому что хотел есть. Но Нинка принялась ругать его за то, что он покакал на пол.
– Я тебе, сучонок, что говорила, а?! В горшок, в горшок!
И хлестала. Ромка понимал насчёт горшка, просто не успел. Хлестала, но не очень сильно, Ромка поэтому молчал. Потом она вытерла пол и вымыла ему попу. Походила, поворчала и достала банан.
– На вот… ешь…
Лёшка заспешил к брошенному на угол софы банану, но тут дверь хлопнула и появился Сом. Ромка убежал за занавеску и так и сидит здесь тихонько на корточках, сопит в коленки. Отсюда ему видно гладильную доску, баллон с солёными огурцами, веник и софу с жёлтым бананом на самом углу.
На кухне кричит Нинка. Она всегда кричит. Такой голос – как арматуриной по жести.
– Прикинь, – обращается она к Сому. – Хромая вконец оборзела. Я сёдня Хромой в бубен дала.
– Чё такое? – вяло отзывается Сом.
Нинка рассказывает, замедляясь вместе с растущими книзу очистками, прерывается, когда очисток обрывается или когда нужно взять новую картофелину.
– Сука, бутылки мои попёрла. Я спрятала за жбан… ну не во что было сложить… Ага… Пока нашла кулёчек, вернулась – нету. А я ж, сука, видела – Хромая за углом лазила…
Сом, скорей всего, слушает. Смотрит в стену. Закуривает, осторожно щупая фильтр битой губой. На запах приходит Васька. В одном кеде, второй несёт за вытянувшийся шнурок, как дохлую крысу за хвост. Косится на Сома, присматривается – очень хочется курить, но попросить он пока не решается.
– Во, зашил.
– Куда, на хер, в обуви! – рявкает Нинка.
Васька послушно разворачивается и уходит в прихожую.
Возвращается босой, но по-прежнему с кедом на вытянувшемся шнурке – и снова:
– Во, зашил.
– Ну давайте, давайте, – Нинка начинает представлять из себя хозяйку. – Садимся.
Отклячив зад, вертится между столом и плитой. На столе появляется хлеб, соль, помидоры, в колечках лука селёдка, выложенная на четвертушку газеты.
– Картошка скоро уже.
Но раздаётся звонок, и, гулко матюкнувшись, Нинка бежит открывать.
Евлампиха.
Подходит к кухонной двери, но на кухню не заходит, останавливается у порога. Пять бутылок – две светлые повыше, три тёмные пониже – торчат, как башни. Нинка – между Евлампихой и накрытым столом. Стоит, молчит нетерпеливо – мол, ну чего, чего?
– Я ж, Нин, узнала… насчёт логопеда, – начинает Евлампиха. – В понедельник, вторник и четверг… с утра до двух.
– Ясно.
– А нет, в четверг до пяти.
– Ясно.
– А то… если хочешь, я свожу… смотри… – Старушка, решившись, уже саму себя подгоняет, подстёгивает словами: – Мне всё равно туда. Вон, ногу лечить. Хорошие там процедуры, помогают здорово. Ну и Рому свожу, а то что ж он так…
– Не надо, – обрывает её Нинка. – Сама свожу. В четверг. Сама.
Евлампиха переминается с ноги на ногу, качает головой. Хозяйка хмурится: не ко времени, Сом не в духе, совсем не ко времени. Васька, пощёлкивая большими пальцами ног, смотрит на баб. Сом молчит.
– Может, пусть Рома у меня переночует? – в этих её словах ни тени надежды. – А? Я его искупаю, чаем напою… Вы ж всё равно… это… – делает многозначительные глаза на натюрморт. – Ужинать собираетесь.
– Иди, мать, – гремит Нинка. – Иди, Христа ради!
– Нин, ну ей-богу, пусть…
– Иди!
Евлампиха начинает движение к выходу, но потом возвращается, одной ногой решительно ступив за порог кухни, трясёт корявым пальцем в сторону Сома:
– А ты смотри мне, чтоб малыша пальцем не трогал! Смотри не смей, полицию вызову!
– Ну что вы, Екатерина Евлампиевна, – широко осклабясь, тянет Сом. – Ну что вы, – тянет слова как жёваную карамельку. – Ну раз сорвался, с кем не бывает…
Узнав голос Евлампихи, Ромка радостно вздрогнул. Моментально вспомнил про мишку, которого та недавно ему подарила. Он хороший. Он прячется сейчас за шкафом, чтобы не попасться Сому. Жёлтый мишка с одним выпуклым чёрным глазом, у которого есть зрачок и ресницы, и серой пуговкой вместо другого глаза, пришитой крест-накрест. Мордочка со стороны пуговки слегка сплющена – мишка подмигивает.
Пока бубнила Евлампиха и рокотала Нинка, Ромка, затаив дыхание, вынырнул из-под занавески, вытянул мишку из тайника, прихватил банан с софы – и вот теперь сидит с мишкой в обнимку, тычет бананом в красный лоскут языка. Укрывший их тюль, горелый с одного краю, дрожит на сквозняке. Ромка прижимается к мишке щекой.
– Лю… – повторяет он и с серьёзной нежностью заглядывает в выпуклый чёрный глаз и серую пуговку…
– Лю…
И кормит его бананом: ждёт, чтобы тот откусил, и только потом отводит руку.
– Лю…
Это его первое слово, но ни Нинка, ни Сом, ни Васька, ни даже Евлампиха об этом, конечно, не знают.
Здравствуй, куколка
С выпускного в садике появилось две фотографии: на одной фотограф превратил её в фею с крыльями, другая общая. Фею мама сунула в сервант под стекло, общую убрала к документам. Сказала:
– Всё. Гуляй пока.
Настя обрадовалась: поначалу мама грозилась и после выпускного её в садик водить.
Больше всего в садике Настя не любила манку, а после манки – изо. На пении можно было отмолчаться, потому что пели хором – открывай себе рот, делай вид, что поёшь. Другие дети, правда, жаловались на неё Анне Семёновне: «А Настя снова не поёт». Но Анна Семёновна хорошая – только посмотрит строго, головой покачает и даже не ругается. На изо так просто не отвертишься: Елена Борисовна на каждом занятии добивалась, чтобы всё было нарисовано правильно. У Насти не получалось. Домики или, например, цветы ещё ладно (Елена Борисовна так и говорила: «Ну, ладно. Будем считать это цветком»), а когда стали рисовать зайцев и лисиц, Настя совсем замучилась. Елена Борисовна расчертит поверх картинки квадраты, даст Насте такой же расчерченный лист, но пустой, и заставляет из каждого квадрата линии в свои квадраты перерисовывать. У Насти ни разу не получилось так, чтобы Елена Борисовна сказала: «Ну, ладно». «Ты видишь вообще, куда ты карандашом ведёшь?» Порвёт и новый лист с квадратами выложит: начинай заново.
О том, что Насте скоро в школу, напомнил скандал между мамой и Ритой. Рита выпрашивала денег, мама в ответ:
– Какие деньги?! Мелкой в школу!
– В долг ведь прошу, – взвилась Ритка. – Отдам.
– Знаю, как ты отдашь. На вас не напасёшься!
– Как будут, так и отдам.
– Так и я про то! Как будут! А мелкой – вот, в сентябре.
Они поругались, и Рита ушла в маленькую комнату. Когда проходила мимо, поморщилась на Настю, как она умеет. Мама ворчала:
– Только и тянут, тянут из матери. А ты, давай, мать, паши… Эта теперь ещё будет… блин… школьница! Мне разорваться?! А?!
Уже и Рита ушла из дома, хлопнула дверью. И Алла стала маму одёргивать, чтобы та успокоилась. Но мама сердилась всё сильней и сильней. В конце концов наорала на Настю за то, что та ходит дома в уличной одежде.
Настя догадалась, что будущая школа – дело нешуточное. Похуже садика.
Просыпалась в пустой квартире, пропахшей завтраком – на завтрак мама жарила себе и сёстрам яичницу или гренки – и думала про школу. Вспоминала то, что слышала от других, видела по телевизору. Выходило тоскливо: орава детей, и все занятия – как изо, не отвертишься.
Сёстры вспоминали о школе редко. Мама никогда не вспоминала. Папа, пока мама не прогнала его жить на дачу – наоборот, часто вспоминал. Когда приходил не очень пьяный. Таким его Настя особенно любила. Получив от мамы нагоняй (бывало, что и подзатыльников), папа устраивался на балконе или в тамбуре, чтобы никому не мешать, не попадаться под руку. Настя приходила к нему, он усаживал её на колено и что-нибудь рассказывал. Когда про них забывали надолго, успевал добраться до детства. Рассказывал, как бегали на речку – плавать в накачанных шинах. Как пуляли по школьным окнам из рогаток. Как нашли на школьном чердаке кучу старых скрипок. Его рассказы были о каких-нибудь проделках, слушать их было весело. Но теперь Настя запуталась: папины рассказы она бы слушала хоть каждый день – но в школу, где кругом будут чьи-то проделки и могут стрельнуть в окно из рогатки, совсем не хотелось.
Сборы начались в августе.
Субботним душным вечером, обмахиваясь и обтираясь платком, мама вытащила с антресоли баулы старой одежды, которую раньше носили Рита и Алла, и, высыпав тряпки в прихожей, позвала Настю.
– Стой смирно.
Принялась прикладывать к Насте то одну, то другую одёжку.
– Вот ведь в отца уродилась, костлявая, – приговаривала мама. – Ни рожи, ни кожи… кому ты нужна такая будешь, доходяга… Ну?! И в чём тебя в школу вести, спрашивается? Всё мешком висит. Скажут, не кормит.
Отобрали всё-таки несколько вещей, Настя стала их примерять.
Алла с Ритой, устроившись в проёме двери, наблюдали. С непривычки Настя смутилась, покраснела. Сёстры никогда так долго на неё не смотрели.
Разношенные туфли сваливались с Настиной ноги.
– Вот ведь натура цыплячья, – вздохнула мама. – Что смотришь? Смотрит… Придётся туфли покупать! Трачу на тебя, трачу…
Зато туфли, которые они купили в большом магазине, были чудесные. Блестящие, на плоском каблуке. С серебристыми пряжками. В автобусе по дороге домой Настя приоткрыла коробку и любовалась туфлями. Пряжки сверкали. Настя подумала, что школа может оказаться не таким уж страшным местом. Будет ходить там красивая, читать учебники.
– Смотри, чтобы аккуратно носила, – сказала мама. – Ещё осеннюю покупать, потом зима… Папашу-то своего видела? А? Видела, говорю, папашу? Вчера в сквере валялся. Не дошёл.
Настя огорчилась: проглядела папу. Соскучилась. Правда, когда папа слишком пьяный, его не растормошить.
– Смотри, не будешь учиться, станешь, как твой отец, никчёмная.
В школе Насте то и дело начинало казаться, что она угодила в сильный ветер. В ушах стоял шум. Хотелось спрятаться, но спрятаться было негде. Да и нельзя. Приходилось терпеть до самого последнего урока. Одно радовало: мальчишки, которые пихали и донимали других девочек, Настю не трогали. Ещё в садике она научилась быть незаметной, молчать и выбирать укромные места.
На уроках, когда говорила Виктория Леонидовна, Настя какое-то время её понимала. Но рано или поздно учительские слова рассыпались, расплывались и тоже превращались в шум, но размеренный, даже какой-то убаюкивающий. На уроках Настя принималась фантазировать. О том, как гуляет в парке, например. В большом парке, куда её однажды водил папа. Одна. И деревья качаются на ветру. В деревьях прячутся птицы. Не хотят летать в плохую погоду. Сидят и смотрят на Настю. А она на них. Разглядывает, какие у них перья, клювы, какие лапки. Красивые птицы.
Бывало, из шума вываливались отдельные слова: ударные-безударные, сумма и слагаемые. Однажды Настя услышала слово «член» и вздрогнула. Но к её удивлению вслед за учительницей слово стали повторять и дети. Настя втягивала голову и краснела. Из разговоров старших сестёр она знала, что означает это слово.
Виктория Леонидовна спрашивала её о чём-то, заставляла выходить к доске. Иногда Насте удавалось собраться и понять, что спрашивает учительница. Иногда ей даже казалось, что она знает, как нужно ответить на вопрос. Но отвечать не хотелось.
Всё вокруг было чужое и неприятное.
К тому же блестящие туфли порвались на пятках. Сапожник зашил, но Настя зашитые туфли разлюбила.
Перед новогодними каникулами всему классу подарили открытки. Виктория Леонидовна попросила Настю прочитать. Настя не смогла. Хотя буквы все были знакомые. Открытка была красивая. По краям пушистые снежинки. Настя вспомнила, что скоро зима. Зимой папа катал её на санках. Пока не переехал на дачу.
– Настя, прочти нам, пожалуйста.
Почему-то в тот раз Виктория Леонидовна особенно долго не оставляла Настю в покое.
Через два дня мама ходила в школу. Вернулась оттуда мрачная, но молчаливая. Какая-то пришибленная.
– Вся в папашу, – сказала она, поглядев на Настю внимательно и как будто брезгливо. – Дебилка.
– И чё теперь? – поинтересовалась из кухни Алла.
– А чё теперь? – мама пожала плечами. – Куда-нибудь пристроят.
И снова посмотрела на Настю. Настя поёжилась. Дворовые парни примерно так же смотрели на папиного знакомого, бомжа Костика.
После Нового года, на который Настя получила в подарок стопку цветных трусов и носков, мама сходила с ней на комиссию в большой торжественный дом с колоннами и каменными листьями под крышей. Мама была в выходной блузке, крепко надушена. Коридоры внутри были устланы длиннющими красными коврами, которые проглатывали звуки шагов – Настя удивлялась тому, насколько беззвучно они с мамой идут по этим коврам.
Посидели немного в тесной комнате с очень высоким, почти до потолка, окном. Насупленная, похожая на Риту, девушка быстро-быстро настукивала по клавиатуре.
Открылась дверь, сказали: «Входите». Мама вцепилась в Настину руку, и они вошли.
Настю усадили на стул посреди большой комнаты. Рядом села мама. Мама нервничала. За столом сидели ещё несколько насупленных женщин и двое таких же мужчин. Читали какие-то бумаги, передавали друг другу, о чём-то переговаривались.
В углу стоял горшок с фикусом, как в школьном буфете. Между фикусом и окном – золотистый оленёнок на обрубке белой колонны. С лопоухими ушами и растопыренными ноздрями. И длинными растопыренными ногами.
Одна из женщин вышла из-за стола, прихватив с собой стул. Подошла к Насте. И вдруг улыбнулась красиво, как в кино. Поставила рядом с Настей стул, села.
– Настюша, – сказала женщина ласково. – Ты в свою школу больше не пойдёшь. Там тебе трудно, правда? Давай мы тебя отправим в другую школу. У тебя там даже будет комната, вместе с другими девочками. А главное, там будут дети такие, как ты.
Настя подняла глаза на улыбающуюся женщину. Смотрела заворожено, повторяла про себя: «Такие, как я». Чуть не разревелась. Мама бросилась перед всеми за что-то извиняться, потом погладила Настю по плечу. Они посидели ещё немного и ушли.
Новая школа оказалась за городом, называлась «интернат». Настя переехала туда жить.
Вдоль забора было много сугробов, которые делал дворник огромной, необычайно широкой лопатой. По двору бегал чёрно-белый пёс по имени Жук и так молотил хвостом, когда подходил к детям, что чуть не складывался пополам. Когда дворник уходил со двора, Жук пробегал вдоль сугробов и возле каждого задирал лапу, так что скоро все они были помечены его жёлтыми закорючками.
Комната, в которую поселили Настю, была оклеена обоями с Чебурашками и Винни Пухами. Крокодила Гены, Шапокляк и Пятачка на обоях почему-то не было. Насте выделили собственную тумбочку для зубной щётки и тетрадей.
В комнате жили ещё Аня, Катя и Валя. У Ани папа сидел в тюрьме, у Вали родители куда-то пропали, осталась только бабушка. Катя про своих родителей не рассказывала и со всеми ругалась. Или плакала. С Катей Настя решила не разговаривать, на её вопросы отвечала только «да» или «нет» – а если та спрашивала такое, на что нельзя ответить ни «да» ни «нет», молча пожимала плечами. Катя называла Настю балдой, зато не лезла ругаться.
На уроках легче не стало. Наоборот. Учительниц теперь было две: одна учила читать и писать, другая считать и рисовать. Приставали они к Насте на каждом уроке – и не оставляли в покое, пока она не ответит на их вопрос. Если отвечала неправильно, в конце урока её спрашивали снова. Настя стала прислушиваться к тому, что отвечают те, кого дважды за урок не вызывают. Так она научилась запоминать правильные ответы.
Многих детей на выходные забирали домой. Настю мама тоже сначала забирала. Дома ей приходилось спать на старой скрипучей раскладушке, в комнате с Аллой – там, где до этого стояла кровать Риты. Кровать была старая и сломанная, теперь её выбросили, а Рита заняла Настино место возле мамы на диване. Когда Настя ворочалась, раскладушка громко скрипела. Алла от этого просыпалась, охала и велела Насте не вертеться.
Когда ударили морозы, мама перестала приезжать по субботам в интернат. Однажды Настю позвали в учительскую к телефону. Звонила мама, сказала:
– Слушай, не могу приехать. Транспорт не ходит почти. Катастрофа. Я, блин, болеть начинаю. Куда тебя? Заразишься ещё, не дай бог.
И до весны Настя из интерната не уезжала.
Воспитатели, те, что оставались с ними после занятий, были все разные. Но все – не злые. Татьяна Дмитриевна любила поговорить. Расспрашивала, как у них дела с уроками, кто чем дома занимается. С Настей она тоже заговаривала, и Насте это было очень приятно. На вопросы Татьяны Дмитриевны Настя всегда отвечала. Но, когда пыталась сама завязать разговор, почему-то робела и сбивалась. Татьяна Дмитриевна говорила тогда:
– Ничего, потом расскажешь.
Их водили гулять в сосны. Показывали мультфильмы. И по утрам не нужно было вставать так рано, как в садик или в школу. Настя научилась просыпаться сама, раньше побудки. Ей нравилось умываться спокойно, когда вокруг не толкутся другие дети и никто не подгоняет.
Из окна умывальной комнаты открывался вид на дорогу, которая вела к городу. Настя стояла и смотрела на деревья, на проезжающие машины, на вспаханную землю, посыпанную снегом. На то, как от милицейской будки тянется ниточкой пар. Как за заправкой курит и пьёт кофе заправщик. Чернели вороны, стриженные кусты были похожи на высохшие кисточки, когда их раздают перед уроком изо. Было отчего-то горько возле этого окна, но и уходить не хотелось.
Весной, на каникулы, мама наконец забрала её домой.
Домашняя жизнь изменилась. Алла и Рита больше не подтрунивали над Настей. Они будто не замечали её. Совсем как мальчишки в первой школе. И мама больше не ругала. Даже когда в очередной раз стали примерять сестринские вещи из баулов. Только повторяла негромко:
– Повернись. Отойди. Вытяни руки.
Настя и дома переживала непонятное, как возле окна в умывальнике. Вроде бы радоваться, что мама перестала на неё сердиться – а ей, наоборот, делалось от этого грустно.
Настину раскладушку ставили теперь на кухне.
«Такие, как она», которых обещала женщина из комиссии, в интернате Насте не попались.
Самое неприятное началось с одиннадцати лет, когда её перевели в пятый класс и переселили на третий этаж.
До сих пор ей удавалось жить по-своему. Ни с кем не сталкиваться и находить свои закутки. Несколько раз её, правда, колотили девочки из других групп. Настя уже поняла, что мама говорила правду: ни рожи, ни кожи, никому не нужна. Она ни к кому и не лезла. Но многих злила почему-то просто так, сама по себе.
Татьяна Дмитриевна, к которой она успела привязаться, ушла в тот год из интерната на пенсию. Обещала приходить в гости. Настя поплакала несколько раз в туалете – и стала её ждать.
В старшей группе всего оказалось слишком много. Много учителей, много воспитателей. Детей так много, что невозможно всех запомнить. Настя по привычке старалась держаться в сторонке – но это больше не срабатывало.
– Э! Шибанутая! – кричали ей. – Чё там делаешь?
На уроках она снова стала погружаться в шум. Отвечала невпопад. Дети над ней смеялись. Говорили, что скоро её отправят в «дурку». Но это Настю не пугало.
Плохое начиналось после уроков, на этаже.
Из девочек, с которыми она жила раньше, осталась только Аня. У Вали умерла бабушка, её перевели в другой интернат. Катю забрали родители.
С Аней они так и не сошлись, но поначалу на третьем этаже та всё переглядывалась с Настей, жалась к ней. Нарисовала карандашами себя и Настю: стоят под деревом, держатся за руки. Рассказывала, как мама ездила к папе на свидание в тюрьму, сняла его там на видео и показывала ей. Но потом Аня сдружилась со старшими девочками, а с Настей дружить перестала.
Анины новые подружки часто к ним наведывались. У Ани с Настей было свободное место в комнате, жили они вдвоём, две другие кровати пустовали. Аниных подружек Настя раздражала. Они говорили: «Здравствуй, дерево», – и норовили щёлкнуть по лбу.
– Ты, Настя, с пацанами-то трахаешься? Наши к тебе не ныряют?
Сами они говорили об этом каждый вечер. От их разговоров Настя сбегала в вестибюль, смотреть с воспитателями сериалы.
Сериалы она полюбила. Там жили другие люди. В другой жизни. В которой любые неприятности рано или поздно заканчивались. Сериалы как будто обещали Насте, что и у неё всё тоже когда-нибудь неожиданно переменится и будет хорошо.
Домой Настю забирали всё реже. Татьяна Дмитриевна в гости так и не выбралась.
Но однажды в интернат приехали студентки. Нарядные и все улыбаются.
Для встречи с ними в красном уголке собрали девочек средней группы. Директриса велела не шуметь, слушать внимательно – и ушла. Студентки расселись всей гурьбой вокруг учительского стола, и две самые красивые стали по очереди говорить о том, что рано или поздно в жизни каждой девочки появляется любовь. Что любовь нужно ждать. Что очень легко ошибиться, принять за настоящую любовь минутное увлечение – и от этого бывает очень больно и тяжело. Старшие девочки начали хихикать и перешёптываться. Тогда студентки предложили с каждой девочкой поговорить наедине. А чтобы никто не подслушивал, пойти в какой-нибудь пустующий класс. Или во двор.
Настю поманила одна из тех двоих, самых красивых. Настя зарделась так, что горячо стало дышать. И не сдвинулась с места. Тогда студентка подошла сама.
– Я Юля, – сказала она нежно, присев на корточки.
– Настя, – сказала Настя.
От Юли пахло духами – но не так, как от мамы или Аллы с Ритой, по-другому. Этот запах не отзывался во рту привкусом карамели, даже немного горчил.
– Красивое имя, – сказала Юля, взяв в свою руку кончики Настиных пальцев. – Будешь со мной дружить? Это тебе.
И протянула Насте помаду.
Настя взяла помаду, кивнула: буду.
Девочек оказалось больше, чем студенток. Те, кому не хватило пары, и кто оставался ждать следующей очереди, начали было шуметь. Но в красный уголок вошла директриса, и снова стало тихо.
– Давай-ка с тобой во двор выйдем, – предложила Юля. – Там у вас такие сосны замечательные.
Они гуляли под соснами, Юля держала Настю за руку и говорила про любовь. Говорила, что любовь в жизни – самое главное. Настя обрадовалась: она и сама уже успела догадаться об этом.
– Понимаешь, – сказала Юля. – Каждый человек – сам хозяин своей жизни. Сам должен решать, как ему жить. Не надо смотреть на других. И вообще, заниматься этим с парнями – вовсе даже не круто. Понимаешь? Любовь – это другое.
– Понимаю, – сказала Настя и подумала про папу.
Гуляли долго: прошли до конца сосновой аллеи, обогнули стадион.
Наутро в умывальнике Настя намазала губы помадой. Стояла, разглядывала себя в зеркале. От правого рукава водолазки пахло духами Юли.
Мама забрала её домой на майские праздники.
Настя все дни просидела дома, на балконе или на кухне, когда там никого не было. Решила во двор не ходить. Всё равно с ней там больше никто не дружил.
Многое нужно было обдумать.
От общего похода на могилку к бабушке Настя отпросилась. Бабушку она не помнила. А полоть траву на могиле не любила: трава больно резала ладони.
Оставшись одна, вспоминала слова Юли: каждый сам хозяин своей жизни, сам решает, как ему жить. Насте давно уже не нравилось то, как другие устраивали её жизнь.
И ещё вспоминала, как папа, когда отправлялся жить на дачу, позвал Настю в тамбур, сел на корточки – совсем как Юля – обнял крепко и расплакался. А Настя тогда побоялась плакать: мама наверняка заметила бы, устроила бы взбучку.
К концу домашней побывки на душе у Насти было легко.
Она лежала на раскладушке, разложенной на балконе, и катала в пальцах цилиндрик Юлиной помады. Подошла мама:
– Может, сегодня тебя отвезти? Чем завтра ни свет ни заря.
– Я в интернат не вернусь, – ответила Настя, поднимаясь.
Мама переглянулась с Ритой и махнула раздражённо рукой:
– Так! Хватит мне тут! Сейчас поедим и поедем. У меня завтра куча дел.
Пока мама собирала на стол, Настя аккуратно накрасила губы перед зеркалом в прихожей. Взгляд упал на фотографию в серванте – ту, где она фея. Настя забрала фотографию и ушла.
Фотография по дороге где-то потерялась, выскользнула из-под ремня. Но Настя не расстроилась.
Шагнув на грунтовку дачного посёлка, поняла: она не ошиблась, сбежав к папе. Запомнила навсегда, как подлетали к заборам собаки с заливистым лаем, мелькали кузнечики, ветви качались… Так здорово – аж дух захватывает. Обычные воробьи, обычное солнце. Зелень, пыль. Как во дворе интерната. Или за домом возле гаражей. Но всё иначе.
На многих участках кипела дачная работа: копали, подметали, красили. Кто-то бросал на неё мимолетный взгляд, не отрываясь от дела, кто-то всматривался, приложив руку козырьком. Настя чувствовала себя в центре внимания, но это не смущало её, как раньше. Останавливалась, спокойно высматривала дорогу: успела подзабыть, давно не была.
Когда подходила к покосившемуся сиреневому домику, радио выкрикнуло откуда-то: «Всё будет хорошо!». Так и было. Папа оказался совсем трезвый. Лежал в гамаке, натянутом между сливовыми деревьями. Покачивался. Верёвочные петли тёрлись о стволы, тихонько поскрипывали.
Заметив Настю, папа соскочил с гамака, бросился навстречу.
Схватил на руки, расцеловал в обе щёки.
– Настя, Настюха. Ух, какая взрослая. И губы даже накрашены! А вымахала! Ух, взрослая какая! Настюха!
Долго суетился, стискивал Насте плечи, гладил по макушке. То сажал на лавку, то снова поднимал на ноги.
– Дай же я на тебя посмотрю! Выросла как!
Узнав, что она пришла к нему жить насовсем, папа сначала притих. Потом пожал плечами, заговорил тише:
– А чего б и не жить? На своей-то даче. Тут сливы, малина. Воздух, опять же. Зимой печку топить будем. Чего бы не жить? Не пропадём!
Радио пело песенки. Пахло травой.
В домике было тесно и мусорно. За несколько лет дачной жизни папа успел натаскать сюда много всего. У Насти глаза разбегались, когда она рассматривала наваленные вдоль стен вещи: вёдра, тазики, деревянные рейки, старые кроссовки, помятый самовар, счёты с круглыми костяшками, одеяла, пальто, табуретки, складной пластмассовый столик, зонт, вёсла, насос, горка бурого металлолома перед дверью. На табурете, накрытом газетой, – стопка чистых мисок и тарелок, стаканы, кружки, нож. До сих пор любой беспорядок означал для Насти начало неприятностей: за беспорядок кто-нибудь непременно получал – не она, так кто-нибудь рядом. Но дачный беспорядок успокаивал. Накидано, как вздумалось. Потому что – у себя. Никто не заявится, не станет отчитывать. Живи, как хочешь, по-своему.
Правда, было немного голодно. Денег у папы не водилось. Он куда-то уходил и возвращался с едой. Но случалось, приносил только бутылку. Иногда они готовили голубей, которых папа ловил рыболовной сетью. Голубей было жалко, когда папа скручивал им шеи. Их головы валялись за домом и подглядывали мёртвыми глазами из-под серых век. Но голуби были вкусные.
Через несколько дней папа впервые налил ей водки.
– Чтобы не скучала.
Объяснил, как глотать, закуску приготовил – половинку огурца.
Настя взяла стакан, подняла, как папа. Он долго говорил, перед тем как выпить, про то, как скучал без неё, как вспоминал их прогулки, их катания на санках. Под конец махнул рукой:
– Да что там! Кровинка моя!
От жгучей водки Настя сначала задохнулась, а потом сделалось воздушно и весело. Как будто полетела. Смеялась громко. Папа хлопал себя по колену и смеялся вместе с ней.
– Ну, ты и хохотушка!
Через несколько дней на даче объявилась новая папина жена Шура. Вошла в калитку с двумя тяжёлыми пакетами в руках. Оглядела Настю строго.
– Что за трында малолетняя?
Папа замахал руками:
– Да дочка же моя! Ты что?! Дочка! Настя.
– А-а-а, – недоверчиво протянула Шура.
– Я же рассказывал. Настя. Дочка.
– Мало ли что рассказывал? – брякнула Шура и выставила перед собой пакеты. – Нате вот, накрывайте… Я, значит, Настя, мачеха твоя. – И добавила строго: – И кормилица.
Начался пир. Шура принесла много вкусного. Жаренную курицу, картошку. Лимонад. От водки Насте на этот раз не стало воздушно. Наоборот. Голова загудела как от подзатыльника.
Было ясно, что с появлением Шуры жизнь станет сытнее, но всё-таки хуже, чем была.
Настю Шура не трогала, а папой понукала похлеще мамы.
– Дармоед проклятый! Как оно всё даётся?! А?! Задумывался?! Хоть бы раз в дом копейку принёс. Бестолочь! Работать не можешь, иди воруй! Лежит целыми днями! А я – давай, отдувайся.
Когда еда заканчивалась, Шура уходила на трассу, на работу.
– На жратву вам зарабатывать и на бухло, – говорила она Насте.
Уходила на несколько дней, и Настина жизнь снова становилась спокойной.
Водку папа покупал теперь только для Насти. Себе брал дешёвый самогон, который гнали соседи через три квартала, возле поливной бочки. Водку в ларьке перед въездом в дачный посёлок Насте не продавали, так что папа ходил сам. А Настя ходила за самогоном. Правда, и тут были сложности. Хозяйка самогонного дома, Марья Тимофеевна, запрещала Насте ходить через калитку. Приходилось обходить дом сзади, лезть через ров и стучаться в окно. А когда Марья Тимофеевна не слышала, перелазить обратно через ров и кидать камешками в шиферный навес над летней кухней.
Историй у папы было немного, скоро Настя выучила их наизусть. Не беда. Насте эти истории нужны были не ради интереса, как в сериалах. Сидела, слушала папу – а вокруг разворачивалась другая жизнь, в которой в самом центре была она. Или папа.
Рассказывал он про Настино детство. Как она начала ходить, потом говорить. Как сёстры, когда ей было года три-четыре, наотрез отказывались с ней оставаться – из-за того, что была шустрая и болтливая слишком. Как со всего маху слетела однажды с качелей, да на асфальт. Но не разбилась, приземлилась аккурат на ноги. Про своё детство папа, конечно, тоже рассказывал. Но меньше. Про армию, бывало – сколько он там мучений пережил. Мёрз, не спал, били его другие солдаты жестоко. Рассказывал и про маму – про молодую. Как они познакомились и поженились.
Поспела малина. Настя приохотилась закусывать сладкими ягодами.
Шуры не было больше недели. Вернулась с синяком под глазом, с зашитым воротом футболки. Мрачная. Папа про синяк спрашивать не стал и как-то сразу сник. Шура сунула ему в руки пакет с едой, велела накрывать.
Настя с папой нарезали, разложили на газете колбасу, хлеб, помидоры, пакет жареной картошки. Водку разлили по стаканам.
Первую выпили молча. Поели немного, Шура скомандовала негромко:
– Наливай, дармоед.
Папа, как обычно, налил Насте половину стакана. Шура вскинула брови – так, что подбитый глаз выглянул страшно. Как у мёртвого голубя.
– Чё это? – кивнула Шура на Настин стакан.
– Где? – не понял папа.
– Чего экономишь-то? Наливай, раз наливаешь.
Папа замотал головой, убрал бутылку на пол.
– Мала я она. Нельзя по целому.
– Мала я! – всплеснула руками Шура. – Лей давай!
Папа снова замотал головой, стал отшучиваться.
– Чего ты, Шура, в неё ж и не влезет!
Улыбался – но Настя видела: совсем ему не весело.
– Ладно тебе, Шур, – папа потянулся потеребить Шуру по плечу, но не дотянулся, убрал руку. – Куда ей полный? Я ж так только, чтоб ей не скучно. По чуть-чуть… Ну… Куда ей полный? Рано ей.
– Рано! – передразнила папу Шура. – Рано! Вишь ты, рано ей, мала я она! С тобой на пару дармоедствовать не рано, значит, нормально!
Настя сидела молча. Смотрела во двор сквозь распахнутую дверь. Жевала бутерброд. Старалась отвлечься от Шуры. Уж больно день был славный: солнце, ветерок налетает. Доносится запах перезрелой малины, до которой Настя не сумела добраться.
Выпив ещё, Шура немного притихла.
– Чего там рано, – ворчала она. – В самый раз! Всё, что надо, у девки выросло. Подмылась, намазалась – и на трассу, денежку зарабатывать. Губы, вон, уже красит! Сколько можно вас, дармоедов, кормить.
Папа ещё больше засуетился, сказал:
– Иди-ка, Настюха, погуляй пока. А то правда, расселась тут со взрослыми. Скучно тебе… иди поиграй…
Настя выпила свою водку, вышла во двор.
Здорово было необычайно. Как в тот день, когда она пришла к папе. Всё вокруг было облито солнцем: небо, листья, трава. Малиной во дворе пахло совсем уж густо.
Настя легла на одеяло, расстеленное возле малинника, и закрыла глаза. Кто-то заговорил с ней о чём-то хорошем. Настя никак не могла разобрать, о чём. И кто. Юля? Или папа?
Но дрёма рассеялась, и Настя услышала, как Шура выговаривает папе:
– Не мужик ты, понял? Не мужик! Ни денег добыть, ни бабу ублажить.
Сегодня она обижала папу особенно сильно. Настя вздыхала и скорее зажмуривалась, чтобы уснуть и не слышать.
Ночью Шура била папу. Била крепко, с размаху. Папа закрывал голову руками.
Настя нырнула с головой под одеяло, но уснуть сразу не смогла и принялась вспоминать садик.
В садике был сторож Павел Матвеевич. У Павла Матвеевича были большие чёрные сапоги. Когда он ходил, сапоги говорили: шшш-бум, шшш-бум. Ещё у него был свой чулан за кухней. Когда чулан открывался, из него вываливалась метла или лейка.
Она всё-таки уснула, а проснулась уже глубокой ночью – от того, что ей захотелось в туалет.
Отошла к забору, пописала.
На небе было много звёзд, голубых и жёлтых.
Водка выветрилась. Вот рту было сухо.
«Зря папа выбрал себе новую жену такую же, как мама», – подумала Настя и пошла в дом за водой.
Папа посапывал, отвернувшись к стене.
Поискала возле табурета, нашла недопитую бутылку лимонада. Лимонад был тёплый и липкий. Взяла с табурета нож и вышла во двор.
Шура спала возле самого малинника, закинув руки за голову. Футболка задралась, белела полоска живота.
Настя встала поудобней и опустила нож в середину этой полоски.
Шура согнулась, привстала на локтях, громко охнула.
– Тише, тише, – зашептала Настя. – Всё уже, всё.
На суде папа с мамой сидели вместе. Папа побрился, одет был в чистую сорочку. Наверное, мама ему принесла. Или пустила домой – помыться и одеться.
Их спрашивали, они отвечали.
Мама рассказала, как Настя ушла на дачу.
– Убогие они оба, – сказала мама. – И Настька, и отец её. Но любила она отца сильно. Жалела. От этого всё.
Папа рассказал, как они на даче жили. Пока не появилась Шура.
Потом женщина с погонами начала читать по бумажке. Папа крикнул ей:
– Я дочке только хорошую водку покупал! Подороже!
В зале стало шумно. Папа опустил голову и заплакал.
Потом Настю отпустили, но велели прийти на следующее утро, на приговор.
Когда все выходили, папа куда-то пропал. Настя поискала, но не нашла. Мама перед выходом обернулась, спросила:
– Домой поедешь?
Настя покачала головой.
– Как хочешь.
– Ты папу не обижай больше, – сказала Настя. – Никогда.
Мама посмотрела на неё как-то странно и ушла.
Настя добралась до дачи и легла во дворе на раскладушке. Воробьи летали туда-сюда, солнце припекало, светило сквозь веки. Хорошо, давно так не было. Как до появления Шуры.
Папа появился поздно. Вокруг было уже темно, а небо ещё светлое. Зашёл и растянулся. Настя подняла его, довела до постели. Он лёг и молча уснул.
– Всё будет хорошо теперь, – уверенно сказала Настя, присев на краешек его постели. – Не бойся. Шуры больше нет, и мама тебя не будет обижать. Я ей сказала сегодня.
Утром Настя встала, умылась, губы накрасила. Папа спал, она не стала будить. Только поцеловала на прощание. Подумала и прихватила на всякий случай нож – тот самый, сунула в задний карман джинсов. Адрес, куда ехать на приговор, она записала вчера на листке.
Было ещё очень рано, по трассе изредка проезжали машины.
На остановке сидел мужчина – не грязный, не пьяный, но очень неприятный. Увидел Настю, стал её рассматривать, посмотрел на дорогу, ведущую от дачного посёлка.
– Здравствуй, – сказал мужчина.
Настя услышала его голос и поняла, что неспроста он показался ей неприятным. Поскорее нащупала и сжала рукоятку.
– Здравствуй, куколка, – продолжил он как будто ласково. – Что ты такая молчунья, а?
Встал со скамейки, сделал шаг в её сторону – и Настя ударила его ножом. Попала в живот, почти туда же, куда и Шуре попала. Но мужчина не умер. Схватился за живот, завалился обратно на скамейку.
– Вот же мразь! Ножом!
Сам от боли морщится, но как будто и смеётся сквозь боль, удивляется:
– Ты смотри! Охренеть! Ножом!
Настя постояла немного, послушала и пошла по трассе – на ту остановку, которая на повороте. Далеко, но ничего не поделаешь, не стоять же здесь.
Отойдя немного, вынула бумажку с адресом суда, оторвала кусок побольше и отёрла лезвие. Вот и хорошо, улыбнулась Настя сама себе – догадалась нож прихватить.
Убийцы
– Косой! Подавился колбасой!
– Да отстань ты.
– Ну если ты косой!
На площадке, где играли дети, двенадцатилетняя рыжая Настя, особа с характером яростным и бойким языком, цепляла нескладного Толю. Что-то он делал каждый раз не так, швыряя мяч в пластиковые бутылки, заменявшие детворе кегли. Толя, даром что на год старше и выше на две головы, проигрывал рыжей напрочь. И всё глубже увязал в безнадёжной для себя перепалке.
– Да правильно я делаю, поняла?! Неровно тут. Отстань!
– Неровно, ага-а-а, – отвечала Настя дурашливым голосом, манерно поводя плечами. – Руки у тебя неровные.
– Да замолчи ты! Не мешай!
Отставив бокал на потрескавшиеся, перехваченные стальными скобами, перила, Тамара запрокинула лицо к предзакатным шёлковым лучам и подумала – машинально почти, – что Серёжа в этом возрасте знал уже назубок: с девочками ругаться нельзя.
Сама учила.
В пятом, кажется, классе Серёжку взяла в оборот такая вот, похожая на Настю.
Серёжа огорчался.
– Ни в коем разе! Ты что? С норовистыми главное выдержка.
Олега это трогало безмерно – как она вворачивала его словечки в разговоры с сыном, как чётко выдерживала линию воспитания.
– Слушай маму, сынок, – вступал Олег. – Она знает, что говорит.
И бросал на жену исподлобья игривый взгляд.
Сидя в шезлонге, Тамара поглядывает сквозь сощуренные веки на играющих детей, на прибирающихся к беседке взрослых, и вспоминает, как любила сидеть здесь раньше, с бокалом вина под гаснущим солнцем, слушая голоса и звуки, долетающие из дома, в открытые для вечернего проветривания окна.
Раньше. В закончившейся жизни. Когда Серёжа был жив.
Когда он был маленький и по-настоящему свой. И прибегал спросить: «Мамочка, можно я самолётик сверху пущу? Я потом подниму, подниму».
Два долгих года, прошедшие с похорон сына, Тамара и Олег только тем и спасались, что принимали гостей. Поначалу, разумеется, к ним ездили из чувства долга. В ритуальные даты Серёжиной смерти, в дни рождений – его и осиротевших его родителей. В новогоднюю декаду наведывались по одному и малыми группами, избегая неуместной праздничной колготни. Чмокали и обнимали Тамару, заглядывали Олегу в глаза, пожимая вопросительно, будто опробуя, ладонь: ну, что, всё такая же крепкая? Дарили простенькие трогательные подарки, каждому из которых Тамара непременно находила подходящее место, и при следующем визите дарившего отчитывалась: как прижилась, что пережила вещица. Двадцать третье февраля, восьмое марта, Пасха, Троица, Рождество. Скоро сблизились. Стали наведываться с детьми. Съезжались без церемоний, кто во сколько мог. Вечера эти, затягивавшиеся, бывало, допоздна, изломанные приходами и уходами гостей, сменой разговоров и наскоро дорезаемых салатов, хозяева никогда не превращали в поминки по Серёже. На могилу к сыну ездили без эскорта. Управлялись поутру, до первых пробок: Тамаре нужно было ещё успеть прибраться и приготовить, сделать причёску и маникюр. Так мужественно и собрано, не размениваясь на всхлипы, несли они своё горе, что влюбили в себя всех, и мало-помалу дом отставного полковника ФСБ и его очаровательной моложавой жены превратился в столицу обширного клана Мукачевых. Здесь обсуждались новости и перемывались кости. Здесь спрашивали советов и выносили вердикты. Спустя два года после смерти сына Тамара и Олег ощутили вдруг пусть призрачное и опоздавшее, но когда-то такое желанное: быть в сердцевинке большой дружной семьи, в окружении милых сородичей… звонкие детские голоса, обстоятельные петлистые разговоры…
О Серёже вспоминали, конечно. Но вскользь. Совсем как при жизни, в последние годы. Отчего казалось, будто он не уложен с размозжённым, наколотым парафином, лицом в землю на Заречном кладбище, а отсутствует по известным деликатным причинам, о которых не стоит излишне распространяться.
О том, что яркий жизнерадостный Серёжка, атлет и умница, воспитанный в строжайшей дисциплине, в среде здоровой и сугубо положительной, связался с нехорошей «мотоциклетной» компанией, гулящей и чуть ли не криминальной, каждый из родственников узнавал в свой, точно выверенный, час. Кто-то был посвящён сразу. Кто-то – лишь после того, как на ночной сочинской трассе мотоцикл «BMW Adventure» вынес двух девятнадцатилетних парней – сцепившуюся в тесной утробе двойню – под колёса встречной фуре, гружённой кирпичом и стальным швеллером… С тупым болезненным упрямством глаза вчитывались потом в эти кирпичи и швеллеры, зачем-то старательно воспроизведённые в каждой полицейской бумаге… И нужно было ещё пережить гадкие, жуткие слухи: Сева, который управлял мотоциклом, был, оказалось, – гей… и досужие болтуны, разумеется, зашептались по углам… сын таких родителей, перворазрядник по боксу, школа с золотой медалью, вон как обернулось… Тамара с Олегом перетерпели молча, ни один из пытливой своры – «неужели правда?» – не удостоен был ответом. И никто из родни никогда не позволил себе грошового любопытства, ни разу. Хорошему воспитанию Мукачевы присягали с раннего детства и оставались верны до конца.
Олег отбил её у начальника, присматривавшего себе новую жену.
За что и поплатился ссылкой на мятежный юг.
Кавказу Олег Мукачев – в ту пору капитан – пришёлся не по зубам. Несколько раз попадал в серьёзные переделки, жизнь его повисала на волоске. Выбирался без единой царапины.
А сыну везучесть не передалась.
Глаза у Серёжи были – точь-в-точь Олеговы. Подбородок, нос. Пальцы – будто отливались по единой форме. Смеялся, чихал, губами шевелил во сне – совсем как отец. Тамара диву давалась: и как только возможно такое сходство?
Но везучесть – нет, не унаследовал. Самого главного – не перенял.
Первый же дорожный инцидент – в первом мотоциклетном круизе, предпринятом самовольно, тайком от родителей – и насмерть.
Тамара дотянулась до бокала, осторожно сняла его с перил.
Вино всё-таки качнулось, затанцевало в бутоне стекла.
Она глотнула, не дожидаясь, пока уляжется, глубоко утопив губу – так что пришлось облизывать.
«Господи, почему нельзя было оставить мне то, что я так лелеяла? – в который раз вопрошала она. – Почему, как так могло случиться? Почему ты послал мне это?»
Горькие мысли путались, обрывались. Вино, смешанное с лёгким сладковатым ветерком, нагоняло дрёму.
Соскользнуть бы, понежиться.
Однажды, когда она задремала на веранде, на этом самом месте, Серёжа укрыл её пледом. Двенадцать ему было? Одиннадцать? Старался не разбудить, долго крался по рассохшимся доскам. Но она проснулась. Вынырнула ненадолго, не открывая глаз, и погрузилась обратно – пока плед, коснувшись колен, катился мягкой обволакивающей волной до щиколоток, потом до подбородка. Его удаляющихся шагов она уже не слышала.
«Но ведь это было?»
Она позволяет себе улыбнуться – всему, что живёт по ту сторону прикрытых, малиновым теплом пронизанных век. Закат. Забытьё. Детские голоса. Хотя бы несколько секунд иллюзорного, воровато сплетённого уюта… Но уже входит в поток воспоминаний непрошенное… Отмахнуться бы.
В своё последнее лето Серёжа собрался делать татуировку. Долго выбирал. Лазил в интернете, скачивал фотографии. Выбрал. Ожерелье из анатомически детализированных окровавленных сердец – вокруг бёдер. Тамара держалась. И Олег, вроде бы, держался. Развитие ситуации требовало хотя бы короткого перемирия. Но в последний момент, утром того дня, когда Алексей должен был отправиться в тату-салон, не выдержал, сорвался в крик. Много чего наговорил. Пожалуй, хватил через край. Так и остался Серёжа без татуировки.
Хотя, что и говорить, рисунок выбрал безвкусный. И вообще… дурацкая мода уродоваться. Навсегда ведь.
Да нет, не могло такого быть – чтобы Серёжа… и вдруг из этих… Сева какой-то… Нет. Ведь не было никаких примет. В повадках, в голосе. Никаких. А мода нынче действительно сумасшедшая, вывихнутая. Мужики носят розовое, вешают побрякушки на шею – и ничего, никто не шепчется.
Открылась дверь гостиной, послышались шаги. Кто-то шёл к ней, чтобы поговорить наедине.
– Не помешаю, Тамара Егоровна?
Племянница Ира с молодым проворством уселась в соседний шезлонг.
– Что ты, Ирочка. Бог с тобой, – не поворачиваясь, отозвалась Тамара. – Всегда рада. Найди там себе вина, если хочешь. Где-то там, на ступеньках.
– Спасибо. Мне, знаете, хватит. Меня от вина в сон клонит. Домой скоро. Мой страсть не любит, когда я в машине дрыхну. Говорит, и его тогда усыпляет. Я, видите ли, соплю заразительно.
– Ну, надо же. Податливый какой. Восприимчивый.
– А то. Особенно насчёт поспать. Бывает, зевнёшь пару раз, глядь, а он уже дрыхнет.
Тамара пригубила вина.
– Как Маша? Что не пришла?
Долгоиграющая проблема: Маша, младшая из двух сестёр, подцепила редкий и чрезвычайно живучий вирус. На больницу нет времени: карьера в банке только-только пошла в гору. Лечится без отрыва от производства: то один антибиотик глотает, то другой.
– Вроде, получше. Но температура, как вкопанная – тридцать семь. Третьего врача сменила.
– Врачи-то как, обнадёживают?
Ира пожала плечами:
– Работа у них такая, обнадёживать. И пичкать, вон, всякой всячиной. У неё от этих лекарств, пардон, прыщей повысыпало… в подростковом возрасте столько не было. Стесняется подчинённых. В выходные из дому не вылазит. А врачам что? Пичкают, вмешиваются в природу.
Женщины помолчали, глядя, как скачет по мощёной дорожке мяч. За мячом прилетела Настя. Присела, коленями доставая головы – и в следующий миг унеслась обратно.
– Настя рослая какая, – заметила Ира. – И в кого только? Папа с мамой не гиганты.
– Дед у них высокий был, Юрий Ильич. В деда она.
– Вон что. Деда я не застала.
Тамара вежливо поддерживала любой изгиб разговора, задаваемый племянницей – а в голове вертелось всё отчётливей и неотступней… «Мама, когда же вы оставите меня в покое! – кричит Серёжа, сидя верхом на подоконнике, с которого чуть позже спрыгнет в сад, в обход запертой двери. – Ну, ладно он! Настоящий полковник! Но ты-то, мама! Ты же всегда умела понять!» А она ловит тыльной стороной ладони слёзы, добегающие до подбородка, и повторяет жалобно, словно надеясь в тысячный раз – упросить, отговорить, расколдовать: «Серёженька, зачем тебе? Бродяги, шантрапа убогая… Зачем?»
– Мой-то на ребёнка решился. А мне страшно, – шепчет Ирина. – Ох, страшно, Тамара Егоровна. Уже год почти. А я всё никак. Вдруг, как у Машки. Она-то в браке так и не забеременела.
– Всё страшно, детонька, – отвечает Тамара и тянется за бокалом. – И не родить страшно, и родить. Привыкай.
– Ох, привыкаю, Тамара Егоровна, привыкаю.
«Да-да, природа», – рассеяно думает она, разглядывая ворсинки травы в швах керамических ступеней.
Серёжке только что исполнилось десять лет. С отпуском у Олега не получалось. На выходные они уехали на дачу его сослуживца. Дача, как и было обещано, располагалась в волшебном месте. Двести километров от города, на границе с лесофермой. Глушь, чистота, дятлы рассыпают по округе музыкальные дроби. Наскоро перекусили, отправились в лес по грибы. Июнь был дождливый. Грибов повылазило густо. Серёжа с отцом увлеклись, кинулись рыскать наперегонки от ствола к стволу, от балки к балке.
– Ух ты! А здесь сколько!
– Я тоже вижу. Вон, за сосной.
И какая-то тонкоголосая птица, долго сопровождавшая грибников, вставляла забавные протяжные восклицания в их диалоги. Тамара шла за ними неторопливо, закинув пустое пластмассовое ведро на локоть. Корзина была одна, её отдали Серёжке. Чтобы почувствовал себя настоящим грибником. Как на книжных картинках. Вдыхала лесной дурман, смачно хрустела сучьями. Впереди мелькали родные русые затылки. Дрейфовали в разные стороны, смыкались над очередной грибной россыпью. То исчезали совсем за деревьями, то вспыхивали на тропинке под отвесным лучом.
Время от времени они вспоминали о ней. Звали:
– Догоняй!
Она махала им: идите, я следом.
И в следующую секунду Серёжа с Олегом снова впадали в собирательский раж, пускались рыскать по невидимым грибным лабиринтам.
Ей и ночью потом снились их затылки. То исчезали, то вспыхивали снова.
Олег поймал себя на том, что стыдится разглядывать детей.
Злобно одёргивал себя и отводил глаза всякий раз, когда, забывшись, засматривался на мальчишек и девчонок, заполонивших его двор: на веснушчатые скулы, на чёлки, прилипшие к потным лбам, на квадратные молочные зубы, вонзающиеся в шашлычную мякоть.
Тамаре рассказывать не стал. Списал на испорченные нервы.
Не то чтобы он боялся дать волю своей тоске по отцовству – она, кажется, единственная возвращала ему опору в удушливом хаосе, помогала вспомнить, как прекрасен нормальный мир, в котором мужчины любят женщин, дети – родителей, в котором не приходится ненавидеть самых дорогих.
Страх точно был. Но другой. Что-то было в этом запретное. Недозволенное лично ему.
И Олег запирался на все замки. Держался сухарём, с которым ни один ребёнок не заговорит без крайней необходимости.
Толя застал его врасплох.
Олег относил разобранный мангал в пристройку за гаражом и наткнулся на мальчишку, охотившегося за воробьями его рыболовным сачком. Сачок был взят без спроса из кладовки, и Олег уже собирался высказать, что, дескать, не для того эта вещь предназначена, и выгнуть сурово бровь.
– Дядя Олег, – сказал Толя, небрежно роняя сачок поперёк скамейки. – А Серёга был боксёр?
Олег открыл дверь в кладовку, уложил мангал в лоток с щебнем – щебень удерживал золу и окалину, осыпавшуюся с мангала – и только после этого, повернувшись к терпеливо дожидающемуся Толе, ответил:
– Перворазрядник.
Толя уважительно скривил губу, подумал и решил уточнить:
– А это круто?
Чувствуя, что мальчишка настроен на затяжной разговор, Олег собрался было от него отделаться, ответив коротко и неинтересно. Но сделал ровно наоборот.
– В семнадцать первый взрослый выполнил, – он задумчиво растягивал слова, будто то, о чём говорил, допускало ещё какие-то раздумья, последствия. – Для такого возраста очень даже неплохо. У меня, к примеру, не получилось… Если бы дальше пошёл, через год-два запросто мог до камээса дотянуть. – Помолчал, исподлобья оглядел Толю. – Но не захотел.
– Почему?
– Ну, – Олег откашлялся; делал это уже рефлекторно – так проще всего было нарезать паузы, совершенно необходимые в опасных разговорах о сыне. – Охладел к боксу. Бросил.
– Так вот взял, и бросил?
Откашлялся.
– Взял и бросил. Пришёл с тренировки, поужинал и говорит…
Олег спросил себя, так ли необходимо рассказывать всё это мальчику Толе, троюродному племяннику с пухлыми щеками неженки… Столько времени отмалчиваться, чтобы разболтать мимоходом случайному, мало что понимающему слушателю.
– Говорит: «Больше не буду боксом заниматься. Надоело». Я сначала не поверил…
– Ругали его?
Вот и нарвался, недолго пришлось ждать.
– Что? – Олег смутился не на шутку. – С чего ты… почему спрашиваешь?
– Так это… столько тренироваться, тренироваться. А потом вдруг, раз, и бросить. Неправильно как-то, да?
Олег двинулся к скамейке. Толя последовал за ним.
– Не без этого, ругал, – как можно спокойней сознался Олег. – Жалко было. Его же трудов – понимаешь? – жалко. И перспективы открывались. Но… не переубедил.
Поднял сачок, понёс его в кладовку.
– Я тоже боксом буду заниматься, – заявил Толя. – Осенью пойду.
– Ну-ну, – кивнул Олег.
А сам подумал, что этот не для бокса.
Не того замеса.
К тому же растёт без отца. И мать его, Галина, похоже, не из тех, кто справляется в одиночку.
Увы, сплочённость Мукачевых оказалась недолгой. Всё закончилось как-то незаметно, само собой сошло на нет: суетливые времена не благоволили семейным ценностям. Всё реже собиралась родня у Тамары с Олегом. Что в будни, что в праздники – у каждого обнаруживались дела непреодолимой важности, каждый звонил с упреждающими извинениями – дескать, никак не выбраться, увязли с головой. Потом и звонить перестали.
Тамара и Олег попробовали сами поездить по гостям. Ничего путного. Приличия соблюдались дотошно – разговоры не клеились.
– Проект завершён, всем спасибо, – подытожил Олег, когда они возвращались с очередного натянутого вечера, и от дальнейших попыток приманить обратно родню отказался наотрез.
Роль несчастного родственника ему не подходила.
И Тамара начала готовиться к собственному – затяжному изматывающему финалу: дожить, сколько должно, один на один с Олегом, который был когда-то лучшим мужчиной на свете, а теперь не пробуждал в ней ничего кроме тихой жалости – стыдливой и неотступной.
Если бы нужда гнала её на работу – но Олеговой пенсии хватало на всё с лихвой.
Если бы Серёжа не был единственным, если бы…
Если бы решилась родить раньше, сразу после свадьбы – пока Олег пропадал в Чечне и наведывался на короткие побывки…
Если бы не застряли они с Олегом в горьком межвременье: родить поздно, умереть рано.
И, в общем-то, можно попробовать. И плевать, что будут принимать за бабушку. Но было совершенно немыслимо проделать с Олегом то, отчего получаются дети. Всё внутри сжималось и деревенело от одной мысли об этом. Как в детстве, когда разбитная Соня, помощница пионервожатой в «Орлёнке», вдруг взяла и рассказала по дороге в баню, как всё это, собственно, бывает.
Для Олега, наверное, это стало так же немыслимо. Ни притязаний, ни намёков. Подходя к спальне, покашливает издалека, по-стариковски шоркает подошвами.
Выпуская нерастраченный пар, Олег каждое утро ездил на велосипеде – к дамбе и обратно. Чинил всё, что попадалось под руку, строчил жалобы в различные инстанции, ответственные за состояние окружающих электрических столбов, тротуаров, канализационных люков и дорожной разметки. Потом – жалобы в инстанции, обязанные карать тех, кто не содержит в порядке столбы, тротуары и люки.
Постепенно настоялась пустота, оглушила, залепила каждую пору.
В Заречное ездили с прежней регулярностью, и делали там те же нехитрые дела: мыли и обтирали насухо камень, с которого фальшивым плоским взглядом смотрел на них кладбищенский Серёжа, собирали нанесённый ветром мусор, летом тщательно выдирали и выщипывали сорняки, поливали высаженные вьюны и петуньи, зимой счищали и раскидывали по проезду снег, Олег непременно смазывал каждый раз замок, на который запиралась калитка – хотя ограда была низкая и, приходя, калитки они никогда не отпирали, а попросту перешагивали через неё внутрь. Зареченские хлопоты хоть и доведены были до автоматизма, стали занимать гораздо больше времени. Поездки к Серёже растягивались на полдня. Собравшись и выйдя уже во двор, они долго не могли дойти до гаража – то проверяли уложенный с вечера инвентарь, то принимались обсуждать, стоит ли перекрашивать лавочку или лучше сразу заменить.
В машине сидели молчали. Словно добирались к сыну раздельно, каждый из своего далека.
Дома уложился такой же вязкий, мешкотный распорядок, в котором хватило места и восстановленному аквариуму, и телевизору, и кулинарным рецептам из лохматой пожелтевшей тетради. Вскоре Тамара констатировала в себе первые спасительные метаморфозы. Стала спать допоздна, втянулась в телесериал, с соседскими бабками, большими специалистками в мешкотном доживании, научилась поддерживать длительную складную беседу.
Трижды в день супруги сходились за обеденным столом, обменивались заблаговременно приготовленными новостями: Гидрометцентр обещал ранние заморозки, под Омском снова разбился самолёт. Интересовались между прочим самочувствием друг друга. С самочувствием, увы, всё было отменно. Не проклёвывалось ни единой болячки. Жить по финальному распорядку предстояло, судя по всему, долго.
Ирину она встретила случайно, перед школой, к которой забрела по ошибке. Ехала в «Кастораму» за отравой для жуков. Дорога дальняя, неспроста и выбирала. Поначалу удавалось – не вспоминать, не думать. Но как только довёз автобус до городских улиц, урчащих и вопящих – сорвалась, потянулась… Вспомнила, как учила подросшего Серёженьку переходить дорогу. Сначала, конечно, вместе. На разных переходах. Сто раз повторено, когда идти, куда смотреть, откуда ждать лихачей. Потом решилась отпускать одного. В первый раз провела экзамен. Стояла в сторонке, кусая губу, смотрела, как её мальчик шагает по стёртой «зебре»: смотрит налево, смотрит направо… Вышла за три остановки до нужной. Очнулась только тогда, когда вокруг загомонила увешанная рюкзаками и ранцами детвора. Подняла голову, и тут же возле школьных ступеней увидела Иру, сосредоточенно всматривающуюся в многолицый поток. Неожиданная радость полыхнула, Тамара подошла, сияя улыбкой и распахивая объятия.
– Ируся, как же я рада тебя видеть! – выдохнула она, жадно стискивая племянницу.
– Ой, и я, Тамара Егоровна, и я!
Тамара освободила Иру, отступила, смущённая своим порывом.
Стояли, улыбались.
– Вы что тут делаете?
– Неважно. Не на той остановке вышла. А ты?
Ира замялась.
– Да вот, – она пожала плечами. – За Толей пришла.
– За Толей, который Галин сын? – уточнила Тамара.
– Ну да.
– Он разве в этой школе учится?
– Галка перевела его. Здесь, вроде как, учиться полегче. В той школе он не ахти как справлялся. – Ира огляделась: не подкрался ли Толик сзади. – Галка ж, вроде как, мужичком обзавелась.
– О как…
– Она обзавелась, а мне, Тамара Егоровна, аукается. Вот, видите, в няньки определили.
Высматривала в опустевших школьных дверях Толю, заметно волновалась: «Да где он есть?» – но катился, разматывался клубок семейной сплетни.
– В общем, пустилась Галка во все тяжкие. Мужчинка моложе неё. И намного. Лет на пять, что ли, на семь. Тому, ясное дело, ребёнок взрослый… сами понимаете… Умотали куда-то на выходные. Галя меня попросила за Толей присмотреть… Вообще-то в третий раз уже просит. Мне бы, Тамара Егоровна, и не трудно. Но ведь чужой ребёнок. – Она бросила на Тамару красноречивый взгляд. Дескать, вы-то поймёте, что я сейчас скажу. – К тому же ребёнок, мягко говоря, не ангел… Но что поделать… Родня!
– Так ты б его ко мне, – сказала Тамара как о чём-то совершенно очевидном, замирая от резкого холодка в груди: не вспугнуть бы, не испортить опрометчиво. – И сама приезжай. Давно ведь не была. Погости. Твой-то супружник наверняка целыми днями на работе.
– Да зашивается совсем.
– Ну, вот. У меня и воздух посвежей. А нет, так Толика давай одного. Тебе, само собой, не до него сейчас. Чего Галина-то ко мне не обратилась? Мне несложно совсем. С мальчишкой посидеть.
Ира смущённо потупилась.
– Да я, честно говоря, спрашивала. Говорит, не решилась вас просить.
– Вот ещё. И зря. Я только рада буду.
На лестнице показался Толик.
За то время, что Тамара его не видела, мальчик раздался в плечах, подрос. Растаяли пухлые щёчки.
Шарф свисает одним концом до колен. Ботинки не мыты – у матери руки не доходят, а сам не смекнёт.
Она смотрела на Толика новым, вдумчивым взглядом, и сердце её, упакованное в ватный морок, пробуждалось, саднило смутным предчувствием.
Одно дело Толик, мелькавший в ребячьей стайке. Совсем другое – Толик, привезённый и оставленный «до понедельника», с сумкой вещичек в придачу и списком нежелательных блюд. Прогулявшись с ним до большой дороги и выпутавшись из десятка неловких диалогов, Олег к вечеру впал в полнейший ступор и уселся перед телевизором, смотреть второсортный футбол. Тамара увела Толю на банный инструктаж: как пользоваться душевой кабинкой, где оставить грязное бельё. И Олег, было, вздохнул с облегчением. Но после душа, с невыносимой своей непосредственностью, Толя стал проситься на ночёвку в Серёжину комнату. Тамара терпеливо его отговаривала. Обещала, что когда-нибудь после, когда они узнают друг друга поближе, Толе, возможно, будет разрешено там ночевать. А пока ему постелено в кабинете, там тоже интересно: фотографии на стенах, секретные карты. Выторговав в довесок к штабным кавказским картам Серёжин юниорский кубок, Толя ухватил его за ручку – как горшок – заткнул уши наушниками и, крикнув Олегу через весь дом «спокойной ночи», отправился спать.
Олег знал, что Тамара придёт, и всё объяснит. И она пришла, и всё объяснила – рубленными библейскими фразами: так, мол, и так, и третьего не дано. Можно тихонько досохнуть в одиночестве – можно пожить напоследок чужим.
– Выбирай, Олег. Но прежде хорошенько подумай.
Когда-то – не упомнишь, когда – когда он был молод и счастлив, Олег знал, что кровь есть кровь, и её не обманешь. Невозможно, считал он, испытывать к чужим детям даже малую толику того, что испытываешь к собственному чаду, в ком отразился и продолжился, в ком явлен тебе – плотью от плоти твоей – добавочный шанс: доказать, одолеть, добиться. История майора Яковенко, расстрелянного вместе с женой дорожными отморозками, прошла у него перед глазами. Малышей Яковенко усыновил его сослуживец, капитан Палий, тогда ещё бездетный – и Олег, не позволяя себе высказаться вслух, косился на усыновителя мрачно: «Что же ты, умник, будешь делать, когда жена тебе родит? Когда рядом с пригретыми появится родной, настоящий?»
И вот сейчас, когда жизнь под горку, после всего, что случилось, – ему предложен такой выбор.
Об усыновлении, разумеется, не может быть и речи. При живой-то матери. Но что меняет эта формальность?
Он решился, наконец, перебрать Серёжины вещи. Обидных улик набралось немного. Гораздо меньше, чем ожидал. Всего-то пачка сигарет с зажигалкой – всё-таки Серёжа курил, хоть и отнекивался – да посторонний ключ в потайном кармашке бумажника. Массивный, зубастый, с глубокими бровками. Олег прошёлся пальцем по зубчикам и, пресекая услужливый порыв воображения, попытавшегося живописать, что это за ключ – опустил его вместе с сигаретной пачкой в приготовленный бумажный пакет, на выброс. Какая разница… теперь всё равно…
Пока Толя возвращался на пятидневку к матери, дом затихал, впадал в глухое ожидание. Хозяевам вдруг не о чем становилось говорить. Беззвучно и задумчиво, как старые кошки, они расходились по разным концам. Телевизор бубнил вполголоса, овощи шинковались беззвучно.
Мобильник Тамара повесила на шнурок и носила на шее. Боялась пропустить Галин звонок.
Ещё она боялась, что Олег не сумеет принять верное решение. Но он не подвёл.
К началу зимы, когда Галя переехала жить к своему Григорию и навещала мальчика не чаще, чем раз в неделю, Олег и Толя сделались не разлей вода. Подолгу гуляли, перебрасывались короткими шифрованными шуточками, которых насочиняли несметное множество. Олег отвозил мальчика в школу, забирал со школы: на дороге, вдоль которой растянулся коттеджный посёлок, так и не установили светофор. Был куплен второй велосипед, для совместных прогулок в выходные дни. Вечерами шахматы, логические задачки. Трижды в неделю бокс в «Олимпе». Последнее давалось Толе тяжело, он то и дело придумывал отговорки, чтобы пропустить тренировку. Но Олег умел убеждать.
Он снова был собран. Тамара давно не помнила его таким собранным… и содержательным.
Они лежали в постели, каждый со своего краю, слушали далёкий шум машин, полуночного прохожего, вышедшего поскрипеть первым снежком, размеренно дышали и смотрели в голую темноту спальни – без настырных бликов фотографий, почти без мебели, без хрустальной и фарфоровой мелочёвки, научившейся сыпать в глаза самыми неожиданными воспоминаниями. Эту трудную тишину перед сном, когда в завершение очередного дня нужно снова простить себе, что живой – а Серёжи нет – Тамара и Олег по давнему негласному уговору никогда не нарушали. Так оказалось проще – помалкивая и не хватаясь друг за дружку.
Тамара дотянулась до тумбочки, взяла тюбик с кремом. Выдавила, смазала руки, не стесняясь шороха высыхающей кожи. И вдруг, оттолкнувшись от стенки, Олег придвинулся, посмотрел в глаза.
– Ты что?
Он помолчал ещё немного и потащил с неё одеяло.
– Ты что? Что ты? – шипела она, отпихиваясь и схлопывая колени. – Олег, ребёнка разбудим!
И затихла, настороженно прислушиваясь к сорвавшемуся слову.
– Ребёнка разбудим, – прошептала Тамара не своим голосом, обмякая и осторожно касаясь шершавой, за день заросшей мужниной щеки.
Олег пробормотал что-то – она не расслышала. Обняла его и притянула за шею, пряча побежавшие слёзы.
Машкин Бог
Так не бывает. Так неправильно. Так не бывает.
Расплакаться больше не пробовала.
«Но должно же со мной что-то происходить. Внутри. Должно же откликнуться как-то… Хотя бы подумать что-нибудь. Подобающее. Леша умер. Что-нибудь скорбное. Что-нибудь. Любую банальность. Леша – умер».
Запнулась – и снова по кругу: «Так не бывает. Так неправильно».
Сильный теплый ветер. Обдувал ноги, лез под блузку. Это было приятно. Не могла ничего с собой поделать; понимала: не вовремя, нельзя – но на ветру было приятно, и отключить это никак не получалось.
Испугаться, решила она: должно помочь. Стала перебирать в памяти страшное и вдруг вспомнила – снилось недавно. Будто она птенец внутри яйца: пытается вылупиться, клюет проклятую скорлупу, а та не поддается. Клюет – и ни единой трещинки. Белая непрошибаемая стена. Она – слабый липкий комочек. Скоро устанет. Снаружи безнадежно тихо, наседка улетела… Нет. Без толку. Когда приснилось, было страшно, проснулась от страха… А сейчас бесполезно, не выручил птенчик.
Только неправильное.
Вот, например: приятно стоять на ветру.
Проехали поливальные машины по краю взлетно-посадочного бетона. Прибили пыль. За бетоном трава. Запах густой, терпкий. Вдохнула.
Да вот же он – Леша. Недостроенное крыльцо, скучающий на цепи волкодав Мальчик, жужжание газонокосилки возле магазина, старое сливовое дерево с разломленным надвое стволом, стянутым веревкой. Веревка старая, выцветшая до предела: еще несколько проливных дождей, несколько знойных полдней – и вслед за цветом истает, кажется, сама. Леша, голый по пояс, бросает лопатой щебенку в скособоченные мятые ведра. И – будто вчера, каждая мелочь: хруст щебня, утробный запах свежескошенной травы, бисеринки пота на спине, на руках, на плечах. Мальчик, смиренно водрузив голову на скрещенные лапы, тарабанит спрятанным в будке хвостом: вечер, пора бы отпустить с цепи.
Леша умер. И она опоздала к нему на похороны.
Ей приятно стоять на ветру.
Так не бывает.
Если бы не лишний день на болгарском курорте – больше ненужном, превратившемся вдруг в ловушку… Если бы не затяжная задержка рейса. Наверное, дело в этом, решила она. Если бы выехала сразу, сорвалась и бросилась в аэропорт – с Машкиной эсэмэской в руках: «Леша умер. Инсульт. Хороним в среду в 11», – все пошло бы, как положено. Поплакала бы. Купила бы черный платок на голову: Леша ведь умер.
Но как положено не сложилось. Вышла одна суматоха. Спустилась к администратору, за стойкой не застала. Встретился Юра, с которым она таки позавчера переспала и который решил, что должен теперь держаться с ней, как жених. Побежал, разыскал администратора, начал вспоминать английские слова. А потом экскурсовод Галя – допила свой кислородный коктейль, сказала: «Зачем такой напряг? Билет менять… Завтра и так вылетаем. На похороны по-любому успеваешь. Да и вряд ли поменяют, в сезон-то».
Простояла почти весь вечер на балконе. Тянула абрикосовую ракию из пузатой керамической рюмки, рассматривала отдыхающих – на улице, на пляже. При виде спортивной мужской фигуры напоминала себе – рассеянно: «А Леша умер». Знали бы они, плечистые и вальяжные, такие живые, что вертелось у нее в голове, пока она глазела на них с балкона…
«Сначала вымоют. Специальные люди. Профессионалы. В одноразовых перчатках. Намылят везде, обмоют. Будут переворачивать с боку на бок. Добросовестные намыливают добросовестно, недобросовестные намыливают так себе. В моргах тоже разные люди. Добросовестные и так себе. Оботрут, оденут в костюм. Обязательно в костюм. Не любил костюмы. А приходилось носить на работу – дресс-код. Для похорон тоже дресс-код. Интересно, они переговариваются во время работы – эти люди в морге? Про футбол… может, про сериал… масло в движке пора менять… на переезде снова утром пробка… А голову – моют? Или просто причесывают и – лаком? Если моют, наверное, сушат феном».
Очередной крепыш терялся из виду, она принималась разглядывать проплывающие яхты – сначала белые, потом золотисто-розовые, потом закончилась ракия, и она легла спать.
Рано утром позвонила мама. Раз десять, меняя интонации и междометия, просила извиниться перед Машей и остальными (видимо, забыла имена родственников) за то, что не сможет приехать: «Машенька толком меня не выслушала. А у нас с Вадиком сейчас горячая пора, аврал. Не могу вот так взять и бросить». Третий муж. Большие надежды. Продала квартиру, уехала за мужем в Мытищи. Доживать вместе до старости – в пятьдесят шесть такими вещами не шутят. Совместное предприятие, похоже, способствовало достижению мечты: чтобы качественно класть декоративную штукатурку, говорит Вадим, нужно полное взаимопонимание в бригаде. Трудоголик.
Вряд ли Маша обижалась на мать. Даже в детстве не случалось такого, по крайней мере Люся такого не помнила. Учила младшую: «Просто мама устраивает свою жизнь. Ну и пусть, правда? Ей надо. Ее все равно не изменишь». Люсе было одиннадцать, и каждые выходные, проведенные взаперти, пока мать продвигалась по лабиринтам очередного романа, превращались для нее в обиду неподъемную. А Маша – всего-то на четыре года старше – как-то сразу все поняла и приняла легко, весело даже: ну и пусть, дело-то житейское.
Дело житейское – Люся, хоть и запоздало, но усвоила: мать всю жизнь старается прилепиться к мужчине, и так будет всегда, все остальное, включая дочерей и прочее разное – потом, потом, по возможности. «Я бы приехала. О чем речь. Если бы не этот чертов аврал. Но – никак, ну вот никак. Объясни Машке, ладно, Люсенька?» Она обещала. Все ясно: аврал, а без помощника Вадик как без рук.
А потом задержали рейс на двадцать семь часов.
И она снова рассматривала людей. Теперь они были другие, конечно: унылые, раздраженные. Истеричные – когда удавалось выловить представителя авиакомпании. Опустошенные неопределенностью, скандалами, ночевкой в зале ожидания, на поролоновых ковриках с надувными подушками. Этих она пролистывала уже машинально, как страницы залапанного глянца в очереди к парикмахеру или к врачу – помогали занять глаза. Ночевала возле кадки с фикусом. Ничего не приснилось. Ничего не почувствовалось.
И вот, наконец, прилетела.
Теплый ветер, запах травы.
Лешу хоронили вчера в одиннадцать.
Показался аэропортовский автобус.
Растерянность была непреодолима.
Отпустила ворот, ветер надул блузку с упругим хлопком. Ветром принесло мужские взгляды.
«Да-да, нужно заехать куда-нибудь за черным платком. И куртку надеть».
Таксист попался пожилой, но бодрый. Игриво похвалил ее загар, расспрашивал про цены на заморский отпуск. Вежливо отвечала. Когда стояли на светофоре, заметила вывеску: «Бюро услуг «Харон»». Попросила остановиться. Вышла, купила платок – дальше ехали молча.
Леша прилагался к ее взрослой жизни. Предварял. Ярким, навсегда запоминающимся эпиграфом. Она поступила в университет, переехала в Любореченск – а он уже встречался с Машкой, и уже было подано заявление в загс. Приходили вдвоем к Люсе в общежитие, приносили пирожные. Леша бурлил, сыпал шутками, хватал учебники: «А тут про что?» С каждым, кто вызывал у него интерес, умел подобрать интонацию, самых захлопнутых молчунов втягивал в разговор. И людей хватал, как учебники: «А ты про что?» «Какой он классный», – скулили подружки.
Веселые, неприличные Машкины глаза. Невозможно было смотреть, как она касается его руки – всего-то касается руки: «Лех, дай салфетку». Встречаясь с ней взглядами, Люся ждала: сейчас она наклонится к самому ее уху – как в детстве – и выдох нет очередной небывалый секрет: «Люська-а-а-а, что я зна-а-а-ю-у-у!» Впрочем, все и так было понятно. Вполне себе очевидно. Словно у них продолжалось и после постели. Они входили в комнату – и Люся покрывалась гусиной кожей.
В ту осень она твердо решила расстаться с девственностью.
Печальная история. Ей хотелось, чтобы было, как у Маши. Но у Маши был Леша, а к ее берегу прибивалось совсем другое. Прошла осень, прошла зима. Каким бы твердым ни было решение, абы кто ей не подходил.
Удивительно, как Маша ничего не заметила – изумлялась и радовалась впоследствии Люся. Не заревновала – ни единым взглядом, ни полусловом не окоротила: что это ты, сестричка, куда? Она ездила к молодым супругам в Платоновку по нескольку раз в неделю: «Мне у вас так нравится. И место чудесное». Верили. Через реку многоэтажный город, а вокруг – Платоновка: утрамбованная грунтовка, не под каждым дождиком раскисающая, заросший лохматый берег, разномастные кирпичные дома.
Леша тоже не заметил. Во всяком случае, тоже – ни разу не дал понять. Но Люся раз и навсегда положила думать, что не заметили ничего – ни он, ни Маша. И так же раз и навсегда был вычеркнут и выброшен вопрос, могло ли произойти то, что ей грезилось, когда она – понемножку, исподтишка разрешала себе грезить. Перед сном или в ванной. Несколько раз она оставалась с ним наедине. «Да нет, нет, не могло. Слава богу – нет». Для него она была Люсенька-бусинка, младшая сестра жены. Да и ей самой – хватало фантазий. Струились, тяготили, вдохновляли и травили тоской. Они-то, эти фантазии, а не косолапая реальность, в конце концов и слепили из хрупкого отзывчивого сырья женщину.
Да, возможно, прежде это успело ее опустошить. Но ей нравилось. Опустошенность дарила острейшее ощущение настоящего – по-настоящему взрослого.
Люсеньку оставляли ночевать в пустой, только что возведенной, мансарде – матрас на фанерном полу – и она слушала, как они любят друг друга. Бывало, выходила на верхнюю веранду или становилась в дверном проеме; смотрела на реку, на огни городских многоэтажек и слушала, прижав ухо к стене. Когда над рекой повисала луна, зрелище было волшебное. Сверчки, ворчливое сопение Мальчика, позвякивание его цепи, шаги невидимого соседа в каком-то из ближних дворов, плеск волны и вздохи из спальни старшей сестры – украденные, бессовестно подслушанные.
Появился Гена. Закрутилась собственная жизнь, расступились душные пубертатные дебри. Она перестала таскаться в Платоновку. Потом недолгий брак с Геной, переезд в скучноватый Воронеж, возвращение, несколько романов разного накала и глубины, еще один переезд после защиты диплома – в суматошный Краснодар. Новая попытка брака, хладнокровный диагноз: «Нет, не мое», – и работа, работа. Случайная, как у многих, без малейшего пиетета к пылящемуся диплому преподавателя английского языка, без прицела на перспективу. Платят – и ладно. Отдел продаж в автосалоне: клиенты, противные и симпатичные, план, дресс-код «до колена», обед в соседней заводской столовке.
Она давно собиралась поделиться своим секретом с сестрой. При случае. Казалось, будет мило, если вот такое, взрослое-запретное, аукнется с их детством – где они соревновались, кто выложит больше секретов – про себя или про знакомых, и каждому секрету присуждались баллы. По шкале от одного до пяти. Свои секреты, разумеется, стоили дороже чужих – и было время, когда Люся и Маша все, что с ними ни случалось, пытались втюхать друг другу как жуткую, кровь леденящую тайну. «Ну что, Машунь, – сказала бы Люся, признавшись про Лешу. – Кто теперь ведет в счете?».
Катя, Машкина дочка, немногим младше тогдашней Люси.
Об этом и подумалось, наконец-то четко и внятно – про Катю. Не видела ее лет пять.
– На, вот. – Маша бросила перед ней резиновые сапоги. – Обувь потом не отмоешь.
Люся послушно переобулась, отставила кроссовки под вешалку.
– Прям головешка. Не вредно так загорать?
– Не знаю. А Катя где?
– Да где… С женишком своим, – ответила Маша уже из гостиной. Прошла через холл с утюгом в руках: – Сейчас идем, две минуты.
Люся забрала с комода хризантемы: не забыть бы.
В первый момент это ее смутило – этот будничный тон сестры, только что овдовевшей. Ожидала она совсем другого – что теперь-то, после траурных объятий, после жгучего слова «соболезную», все станет наконец, как должно быть. И ей найдется законное дело: утешать, поддерживать под локоть… Ожидала увидеть растерзанную горем сорокалетнюю вдову: черные тени под глазами, трясущиеся губы. Но ее бормотания: «Рейс задержали, ничего не смогла добиться», – Маша прервала, пожав плечами: «Ты ж звонила. – И следом: – Так. Наверное, сразу на кладбище».
Будто продолжила поставленное на паузу.
На кухне быстро и при этом необычайно тихо и четко позвякивала посудой Ольга – дотирала, сортировала, раскладывала по шкафчикам. Новая подруга сестры. Таких возле нее раньше не было – отметила Люся. Тетка. Неухоженные, кое-как обрезанные ногти. Лицо картофельное. Черная сатиновая юбка в пол и черная водолазка. Голоса Ольги Люся пока не слышала – та и поздоровалась, и познакомилась молча, двумя сдержанными кивками.
– Пойдем.
Маша сунула ноги в калоши, стоявшие на крыльце, затянула потуже платок, и они отправились к Леше на кладбище.
Мальчик напряженно привстал, но, поняв, что хозяйка направляется к воротам и его не отстегнет, с печальным вздохом плюхнулся обратно.
Маша была непривычной. Другой.
Взгляд из незнакомой глубины. Жутковатая суровая сдержанность.
«Разве это не Машка? Машенька, Машуня, старшая моя сестричка. Та, которая собирала меня в школу по утрам… будила какой-нибудь веселой тарабарщиной, чтобы я просыпалась скорей: “Представляешь, Люсь, оказывается, если зимой зашкафить мокрый носок, то к весне он так закартошится, что унюхается как из погреба”. Машка – это же Машка».
И как органично смотрелась она в роли детсадовской воспиталки, вспоминала Люся, хлюпая резиновыми сапогами по платоновской слякоти. Пока в поселке не закрыли детский сад, она часто заходила за Машей на работу. Всплыла в памяти картинка: сестра уводит с игровой площадки девочку; держит за руку. Девочка насуплена – по всему видно, не прочь раскапризничаться. Не хочет уходить. Маша присаживается возле нее на корточки, берет за обе руки: «А ну-ка, про мышей. Давай-давай, про мышей. У тебя так славно получается. Ну, пожа-а-а-алуйста, про мышей», – принялась смешно канючить. А потом улыбнулась и вся сияла, как лампочка. И девочка всмотрелась в Машиной лицо, вздохнула примирительно – и начала, сжав кулачки: «Тифы, мыфы, кот на крыфы…» А Машка кивала и улыбалась во весь рот. И шипела там, где следовало шипеть: «шше», «шши», «шше».
…Косилась на Машин профиль и будто слышала: «Ну да, Люсь, теперь я такая».
Ветер ослаб. Пересекли пятачок площади, прошли узким коридором, образованным заборами соседних участков – справа шиферный, слева дощатый. Церковь, выглядывавшая по-над крышами куполами и башенками, открылась в полный рост. Маша перекрестилась. Люся приготовилась к долгому пешему пути на окраину Платоновки – как-никак, на кладбище – но забор кончился, слева показался зигзаг металлической лестницы, сбегающей к реке по слякотному склону – и кресты.
Сердце лизнула тоска: «Здесь?»
Сбоку и сверху кресты смотрелись как стройные степные зверушки, высыпавшие из норок послушать шум, прилетевший с городского берега.
Кладбище, стало быть, в двух шагах от дома; и всегда было в двух шагах. Осознание этого заполняло ее так плотно, что казалось – вот за этим и пришла. Уточняла, растолковывала сама себе, как маленькой: «И тогда, когда, утомленная девственностью, ты подслушивала, как Маша с Лешей пожирают друг друга в спальне – оно тоже было в двух шагах. А ты и не знала».
Живой Леша был победитель. Бросил техникум, из которого должен был выйти механизатором, как отец и двоюродные братья. Поступил в университет, окончил юридический, прошел по конкурсу в юротдел банка. Читал по книге в неделю. Уже после диплома – многое у него было вдруг, ни с того ни с сего, – загорелся бодибилдингом, накачался, как бугай. Все его друзья, все интересы были там, за пределами Платоновки, на городском берегу. И вот – кособокое кладбище, беззащитно распяленное перед городскими кирпичными дылдами. Из ближних домов все как на ладони. «Ты глянь, сегодня аж третьего хоронят». И сейчас, возможно, кто-то смотрел в окно. Разглядывал женщин, ковылявших по шатким ржавым ступеням. Так же и сама Люся разглядывала недавно курортную публику с гостиничного балкона.
Сошли с лестницы. Шагов десять поперек склона, по раскисшей чавкающей тропинке. Пришли. Свежий холмик, заваленный венками и букетами. Венки пластиковые, букеты настоящие. Ленты шуршат на ветру.
– Здесь всегда мокро. Грунтовые воды. Зато к храму близко.
Люся оглянулась послушно на церковь – да, вон как близко.
Какое-то время она примеривалась, но так ничего и не сказала. Здравствуй, Леша? Прости, что не была вчера? Потопталась немного: откуда тут сподручней – шагнула к могиле, положила хризантемы.
Маша выудила из кардигана небольшую брошюру в зеленой обложке, раскрыла и принялась читать молитву. Читала почти неслышно, быстрым напористым шепотом. Иногда из монотонной скороговорки пробивались обрывки слов, порой Люся могла разобрать начало или конец фразы. Сестра ни разу не сбилась. Читала не в первый раз.
Люсе вдруг сделалось неловко стоять рядом.
Отошла на несколько шагов.
Вспомнилось, разумеется, неуместное.
Веранда. От кофе валит густой сизый пар. Майское утро – тепло и прохлада разбросаны отдельными кусками. Вышли в кофтах и толстых носках, но на солнышке припекло, поснимали кофты, бросили в комнату через распахнутую дверь. На полу между шезлонгами – ни дать ни взять, фото из журнала – корзинка с булочками и круассанами, накрытая льняной салфеткой. Леша принес. И ушел штукатурить в мансарду. Дом достраивается. Булочки горячие, из микроволновки. Возле перил, на круглом пластиковом столе, брошюра со странным длиннющим названием «Теперь, когда ты получил меня сюда, что мы будем делать?». Люся, кряхтя и посмеиваясь, дотягивается, берет. Маша усмехается: «Вам еще рано, барышня». – «Вот еще!» Люся раскрывает, начинает бойко читать вслух. И тут же сбивается, увязает в словах, которые вслух читать сложновато, в особенности – сидя на открытой веранде в поселке Платоновка. Маша звонко смеется. Мальчик, прибежавший на ее смех, какое-то время изучает сидящих в шезлонгах сестер, поставив передние лапы на середину крыльца; не обнаружив ничего любопытного, уходит в будку. Они мажут булки медом – мед тянется, пахнет. В кофе плавают кружочки имбиря. От имбиря пощипывает язык. Маша опускает чашку на пол, смачно потягивается: «Эх! А вот интересно, как оно будет после родов». Смотрит многозначительно. Тихим пискливым «ура», беззвучными аплодисментами Люся поздравляет ее с беременностью. А Маша откидывается в шезлонге, прячет счастливую улыбку…
– В эти дни очень важно молитвы по усопшему читать, – объяснила она, убирая брошюру в карман. – Чтобы облегчить его участь. Сейчас все решается.
На сортировочной перецепляли вагоны.
Из-за оградки чуть ниже по склону ветер вытолкал пустой полиэтиленовый пакет. Пакет поскакал, покружился и пропал.
– Если хранишь на него обиду какую-нибудь, – сказала Маша и слегка качнула сцепленными у живота руками в сторону могилы, – нужно бы простить. И помолиться.
Люся кивнула. Ее просили сделать что-то для Леши. Кинулась искать по закоулкам – не завалялась ли какая обида. Леша лежал под этим холмиком, под лентами и цветами. Вот и табличка. Черным по белому: Алексей Леонтьевич Поздняков, две даты, трехзначный номер участка.
– Маш, я не знала, что ты… – Можно было не договаривать, и так понятно: что ты стала такой религиозной.
Маша подняла с земли сброшенные ветром цветы, положила поверх венков, придавила камешком.
– Идем, – сказала она, обтирая платком испачканные пальцы. – Помянем.
На подошвы ее калош налипли комья. И на подошвы Люсиных сапог налипли. Вернутся, закидают грязью брусчатку во дворе.
Ольга разлила суп, воткнула ложку в горку пшеничной кутьи с изюмом.
– Бери, вот, сначала, – Маша подвинула пиалу с кутьей.
Люся съела три ложки. Это она знала: полагается три ложки.
Передала пиалу Ольге.
После кутьи принялись за суп.
– Мы без спиртного, – сказала Маша. – Компот. Если хочешь, тебе налью.
Вина бы Люся выпила. Но что-то подсказывало, что лучше отказаться.
– Я и после похорон ничего не ставила. Посоветовалась с батюшкой. Он сказал, не запрещается, на ваше усмотрение. Главное, чтобы не напивались до непотребства. Но если можете, говорит, совсем без алкоголя, то это лучше. Усопшему наши молитвы нужны, а не пьянка. Я решила, лучше тогда совсем без ничего. Для Леши там сейчас каждая мелочь важна. А как его родня выпивает, мы знаем.
Только тут Люся спохватилась:
– Маш, а где они? Отец Лешин, дядьки, братья.
Маша усмехнулась:
– Ну, так где… Они ж обиженные. Я ж говорю, на поминках не наливала. Они потом, конечно, сами… – Шлепнула себя по горлу. – Я слышала, как ночью от свекра расходились. – Помолчала. – Намекает, что хорошо бы мне съехать отсюда. Мол, Леша дом на свои строил, родня, мол, помогала. – Скрестила руки на груди, вздохнула, откидываясь на спинку. – А я, значит, не родня.
– Леонтий Катю вчера о чем-то расспрашивал. – заговорила Ольга; голос сочный, совсем не подходивший к тусклой внешности. – Если хочешь, я поговорю с ней, когда придет.
– Да ну… – Маша поморщилась. – О чем говорить. Рисуется – какой он примерный дедушка.
Этой стороной Машиной жизни Люся никогда не интересовалась. Считала, все в порядке. Интересоваться специально родственниками Леши – как-то и в голову не приходило. Она и видела-то их несколько раз. Нечем было интересоваться. Отец работал на комбикормовом. Попивал, спьяну буянил, гонял жену, та иногда вызывала на помощь Лешу. Умерла давно – Катя в первый класс пошла. Мотоцикл у Леонтия был громкий. Леша, бывало, услышит, говорит: «О, это наш пепелац пофигачил». На рыбалку ездил. У Леши часто рыба бывала вяленая, ели под пиво. Новую Машкину свекровь Аллу – Леонтий женился на вдове из соседнего переулка – Люся и вовсе не видела. Дядьки, двоюродные братья – про них не запомнила ничего. Страшно сказать: не узнала бы, доведись повстречать на улице. Всему этому Леша был чужой. Сделал себя сам, вытащил себя из Платоновки, как барон Мюнхгаузен, за косичку.
– Люсь, пойдем завтра в церковь, ладно? – Маша сдвинула платок ближе к затылку.
– Конечно.
Ольга тем временем принялась убирать со стола тарелки из-под супа.
– Помочь? – повернулась к ней Маша.
Та отмахнулась в ответ: сиди, я сама.
Маша продолжила:
– Закажи от себя панихиду. Помолись за упокой. Но перед тем хорошо бы службу отстоять. Причаститься.
– Да-да, обязательно. Все, что нужно.
Пюре с котлетой. Компот.
– Правда, Люсь, это важно. Любая мелочь может повлиять, и в хорошую, и в плохую сторону. Все-таки без исповеди умер. И вообще, учитывая обстоятельства… Оксана с ним ночь просидела в больнице. Оксана – это его любовница. Молодая, моложе тебя. Можешь глянуть в соцсетях, Оксана Сотникова. Хорошенькая. Стриженая блондинка.
Вот так, между делом, без сантиментов – и явно не ожидая сочувственных вздохов от сестры. Даже удивляться не обязательно. Люся и не пыталась уже реагировать. Просто не нужно мешать – решила. Пусть эта новая реальность, в которой живет эта новая Машка, часто упоминающая батюшку, складно читающая молитвы над могилой мужа, сожалеющая не о том, что изменял со стриженой блондинкой, а о том, что умер без исповеди, – пусть все это как-нибудь само – пусть как-нибудь само перельется в нее. Как компот в стакан.
«А там разберемся».
– Я знала, куда он едет. Все знала. Про это долго не хочется, ты понимаешь… Она и не первая была. Митрохина даже на похороны пришла, кстати. На поминки, правда, не осталась, постеснялась. С Митрохиной у него давно было. А с Оксаночкой тянулось… сколько? – Мысленно подсчитала. – Почти три года. Да, где-то так. У нее как раз день рождения был. Написал ей в «Одноклассниках»: «Счастлив тот, кого ты любишь». Да. Запал на нее. Пирожок бери.
– Что?
Вот эти с печенкой. – Маша придвинула блюдо, Люся переложила пирожок в свою тарелку. – Он за ней заехал. В ресторан, что ли, собирались. Он уже не врал мне ничего. Я не спрашивала. «По делам». Ну, по делам, так по делам. Подъехал к ее дому, она на Семашко живет, вызвал. Когда она спустилась, у него уже инсульт. Правая сторона. – Маша согнула правую руку в локте, коснулась пальцами плеча: правая. – Вызвала «скорую», увезли в Первую городскую, ближайшую… У меня с утра одно занятие в городе было. Отзанималась, пришла домой. Ну что, вроде уже как-то смирилась, а тут всю трусит. Как в самом начале. Когда началось… измены начались… Стала убирать, полы мыть. Вечером, темнело уже, Оксана мне позвонила с его телефона. Так и так. В Первой городской. Инсульт. Я сорвалась. Все побросала. Выскочила на крыльцо и вспомнила, что автобус только что отошел. Сюда, вон, на площадь подъезжает, мне видно из окна. Следующий через час. А такси попробуй вызови. Попробуй объясни им, как сюда добраться. Это только кажется, что – мы же тут рядом, мимо комбикормового и пять минут езды. У Леши как-то машина сломалась, куда-то ему нужно было срочно. Решил такси заказать. В две компании позвонил, пытался дорогу объяснить. В итоге плюнул, пошел на трассу ловить.
Притихшая Люся цепко всматривалась в сестру – та словно прислушивалась к тому, что говорила. Как будто искала в своих словах что-то, что там есть наверняка, не может не быть – но вот никак почему-то не отыскивается. И она рассказывает это – не впервые, конечно, наверняка рассказывала Ольге – чтобы поискать еще раз: где-то здесь, не может не быть.
– Стою на крыльце. Сумерки уже. А купол на нашей церкви еще слегка краснеет. Помню, детвора на велосипедах пронеслась, и тишина. И так мне грустно стало. Ужасно. Горло перехватило. Думаю, ну что я поеду. Как это будет, зачем? Она там. И мне сейчас туда приехать… здрасьте… Не знаю… В общем, вернулась я в дом, Люсь. Не поехала. Легла, как была, в одежде. Под утро задремала, тут Оксана звонит. Вы, говорит, приедете? А то мне нужно на работу. На работу, говорит, пора уходить.
– Она кассиром в банке работает, – вставила Ольга.
– Пока я добралась, ее в больнице уже не было. Это мне медсестры потом рассказали, как все было. Она какой-то подружке звонила, делилась. Я когда приехала, он в коридоре лежал. Представляешь? Не то что в палату, даже снимок еще не сделали. Не знаю, почему так. Никакого внимания. Сволочи. Бросили, и лежит. Главное, разве я могла подумать, что… вот так. – Выкинула вперед руки, будто это «вот так» распростерлось прямо перед ней. – Она же при нем. Любимая женщина. Я же думала, она позаботится. Всего добьется, что нужно… А она… просидела над ним всю ночь. Там же, в коридоре, стул ей вынесли… А Леша уже не говорит, правая половина вся… Поднял левую руку, показывает, мол, видишь, как вышло… как оно вышло… Ну, что, я всех на уши поставила, грымзе какой-то в регистратуре халат разорвала. И тогда, конечно, начали все делать. Томограмму, в палату определили, прописали лекарства. Но поздно уже. До следующего утра Леша не дожил. Врач палатный меня успокаивала: завтра прооперируем…
Люся принялась за пюре с котлетой. Проголодалась.
Стукнули ворота, запрыгал, гремя цепью и радостно повизгивая, Мальчик.
– Катя, – констатировала Маша.
Цепь затихла и, звякнув, высыпалась на брусчатку двора. Раздался радостный певучий лай и следом бешеный цокот и царапание когтей: Мальчик метался по двору – два прыжка влево, два прыжка вправо, насколько хватало места между грядками и газоном.
Хлопнула входная дверь.
Мальчик унесся на задний двор.
Вошла Катя, поздоровалась. Обнялись, Люся снова промямлила «соболезную».
– Как ты выросла, Катюш. Ростом в папу.
И екнуло внутри: вот и она, со второй же фразы – сразу следом за «соболезную», научилась говорить буднично.
«А что говорить? – урезонивала себя. – Что-то же нужно говорить».
Катя, как и мать, сдержанна. Но сдержанность ее другая – бросилось Люсе в глаза – неуверенная, опасливая.
Ей открылся лишь самый краешек, но она чувствовала, в какую долгую мучительную драму была вписана Лешина смерть. Леша умер – а драма продолжается.
– Зачем собаку спустила? – спросила Маша сухо, строго.
– Пусть побегает, – с некоторой заминкой ответила Катя, не взглянув на мать. – Сколько дней уже.
Села за стол.
– Есть будешь?
– Нет.
– Ну, сама теперь будешь его ловить. На цепь сажать.
Катя в ответ лишь пожала неопределенно плечами.
– Если на ночь оставить, опять полезет по дворам. Мне потом выслушивать.
– Хорошо. – Катя рассматривала дальнюю стену. – Я посажу.
– С ним Леша управлялся, – сказала Маша Люсе. – А мне, подумай, каково с этой тушей. В нем центнер весу. Понял, что Леши больше нет, наказать его некому. Наглеет понемногу. – И продолжила: – Столько всего было, Люсь. И скандалы, само собой.
Катя заметно напряглась. Губы сжались плотней.
– Он все мне пытался объяснить. Не нужно усложнять. Как он говорил? «Давай жить иначе…» Иначе… понимаешь? – Развязала платок, кинула на плечи. – Дурдом… На два дома? Спасибо, дорогой… Если бы не церковь… я, конечно, была в отчаянии. И весь этот кагал моментально… родственнички его… как только усекли, что Леша на сторону ходит, что плохо с ним живем… сразу так себя повели – дескать, ты тут никто и звать тебя никак. Как будто, знаешь, все они поголовно его любовницы и всем он обещал жениться.
Улыбнулась. Без горечи – скорее, устало.
Катя сидела бочком, смотрела в сторону. Понимала, о чем говорит мать. Знала в подробностях. Не жаждала услышать снова, но терпела: пусть. Видно было, пришла из-за тетки, из вежливости – посидеть, отбыть номер.
– Сколько раз в церковь его звала. Пойдем, там помогут. Даже если разводиться, пусть все будет по-хорошему. Про развод заговаривали, но… Ему дом жалко было продавать. Мне страшно… Придумывала себе постоянно какие-то надежды, цеплялась… В церковь не пошел. Не послушал. Ты его помнишь… отшучивался, как обычно. Мы, говорит, пойдем другим путем. «Тебя тоже люблю. Но по-другому…» По-другому, Люсь… Все у него по-другому… умник… Юбилей у нас был прошлой осенью. Забыл. Вспомнил только под Новый год.
Ольга уже мыла посуду. Маша встала, собрала грязные тарелки, поставила в мойку.
Катя успела шмыгнуть прочь из кухни.
В холле на комоде обнаружилась пачка «Парламента»: забыл кто-то из приходивших на похороны. И Люся не удержалась. Больше года не курила. Но от одной же ничего не случится – успокоила она себя. Примостилась за углом дома, у перил веранды. Никотин спасительно шарахнул по организму.
За недостроенным кирпичным забором появился сосед в наброшенном на плечи сером бушлате. Помахал ей рукой, она ответила. «Наверное, Леша нас когда-то знакомил». Прикрывшись рукой от низкого предвечернего солнца, сосед с интересом рассматривал пятачок Машиного двора перед домом. По характерной возне – цокот когтей, позвякивание металла, ворчание и сопение – Люся догадалась, что там происходит. Выглянула. Зрелище и впрямь впечатляло.
Маша с Ольгой тащили к будке Мальчика. Цепь к ошейнику была уже пристегнута. Вцепились обеими руками. Пес поскуливал и упирался, и чем ближе к будке, тем упирался отчаянней. Дергал головой, пытаясь вырваться из ошейника, отчего Машу с Ольгой потряхивало. Ольга закусила от боли губу – цепь врезалась в руки, – но не отпускала.
Тащили молча. Покряхтывали только и отдувались.
Встретившись взглядом с Ольгой, Люся затоптала сигарету и бросилась помогать. Как только подхватили болтавшийся конец цепи – собачий центнер рванул; затопали и зашаркали у нее за спиной подошвы, натянулась цепь… успела, все-таки успела защелкнуть карабин на металлической петле, приваренной к столбу возле будки.
Женщины отошли в сторонку. Ольга и Маша переводили дыхание, поправляли платки.
– Совсем оборзел, – сокрушалась Ольга. – Как же ты с ним?
– Да как. Пусть сидит. Надо бы замок повесить, чтобы Катя не отпускала.
Сосед на крыльце курил.
Маша посмотрела на него и отвернулась.
Вечером ей позвонила мать. Говорила вполголоса – Вадик еще спит, первый выходной за месяц, и то, считай, до обеда, потом в магазин, за новым инструментом. Интересовалась, удалось ли убедить Машу не обижаться. Маша сидела рядом.
– Да, мам, она все поняла.
– Пусть выйдет в Скайп, Люсь. Поговорим с ней хотя бы. Я пока никак не могу вырваться, ну никак.
Маша зашептала, отстраняясь от телефона:
– Не могу сейчас, не хочу. Скажи, Интернет отключен за неуплату.
Можно было соврать, что отпуск ее закончился, и сбежать. Но она решила остаться. Позвонила подружке Асе, предупредила, что задержится еще на две недели, до конца отпуска, так что Асе придется дольше наведываться в съемные Люсины пенаты для полива цветов (рассказала, в чем дело, получила причитавшееся ей как родственнице «соболезную»).
Сочувствие, да, сочувствие. Какой бы Машка ни была другой, незнакомой – своей пугающей невозмутимой цельностью, воцерковленностью своей – Люся, как реставратор, добывала ее из-под верхнего слоя: вот, это хорошо знакомо, это на месте, и тут, и вот это. Неспособность к фальши, точность и легкость интонаций – никогда не запнется, самое трудное выскажет просто, будто вещь уложит в футляр. «У меня никогда так не получалось». Компактные выверенные жесты. Тридцать шестого размера ступня. Тоненький шрам на правой руке, на тыльной стороне ладони – неудачно открывала консерву.
Еще любопытство: как же она со всем этим справится? С родней. С дочкой-подростком. С волкодавом Мальчиком. Закончился морок, в котором ни развода, ни верности, и Оксаночку можно рассматривать в соцсетях, заходясь от обиды. Но как без Леши содержать себя, Катю, этот дом? На то, что она зарабатывает как частная няня, прожить не получится. Даже если подыщет вариант на целый день. Мама вряд ли будет ее спонсировать: Вадик не одобрит, у Вадика в Мытищах недостроенная мечта, крышу нужно класть, осень не за горами. Да Маша и не приняла бы этой помощи.
И еще чувство вины – куда без него. Если бы она не отдалилась, не отложила Машку на дальнюю полку – Машку, Машуню, которая несла в школу ее портфель, бесстрашно драла уши ее обидчикам, читала с ней Ахматову при свечах, инструктировала перед первыми школьными свиданиями, – если бы она не отдалилась…
Муки совести обостряло присутствие Ольги. Посторонний человек. Помогает по хозяйству, поддерживает. И уж точно связь ее с Машкой крепче, чем у родной сестры. Ольга – молчащая, скользящая за спиной вышколенной официанткой, не растворилась тенью по углам, не истерлась о кухонные тряпки… Была еще и ревность, пожалуй.
Жила на другом краю поселка. В день Люсиного приезда Маша оставила ее ночевать: «Оль, ну что ты пойдешь по темноте? А завтра с утра на службу». Ольга пела в церковном хоре. Когда она отправилась в ванную, Люся – как бы между делом, как бы заполняя паузу, расспросила Машку. Разведена. Единственный сын умер от наркотиков. Вела уроки музыки в средней школе, теперь уборщица в конторе сортировочной станции.
Место для ночлега ей было отведено в мансарде, с Катей. В той самой мансарде. Люся туда не поднималась.
– Когда мы с тобой в одной кровати-то спали, сестричка?
Люся задумалась.
– Не помню, Маш. Когда-то давным-давно.
– Ты так смешно брыкалась, когда засыпала.
– Ох. Вечно ты про это.
– А мне потом с синяками ходить.
Пока Люся вслед за Ольгой побывала в ванной, Машка дочитала молитвы перед зажженной лампадой и теперь, переставив лампаду с трельяжа на полку, к иконам, расчесывала щеткой волосы.
– А ты же коротко стриглась, – вспомнила Люся. – В последнее время.
Маша закончила расчесываться, собрала с щетки волосы, ушла выбросить в туалет. Вернувшись, встала к иконам, негромко прочитала молитву. «…Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». Уселась на пуф лицом к темному окну и только тогда ответила:
– Для Леши и стриглась. Когда Оксаночку на фото увидела. Влезла в его телефон… Он в этом плане жутко неаккуратный был. Скрывать толком и не пытался. Да что… представь, познакомить предлагал… а, бредни… дурдом. – Качнула досадливо головой. – У нее ж короткая стрижка. Ну, и я постриглась, думала потрафить. Дура. Просто, Люсенька, очень больно… вдруг перестать быть любимой, почувствовать себя… надоевшей. – Посмотрела отрешенно в окно. – Что у счастья твоего… истек срок годности. Больно, Люсенька, думать, что оно держалось на том, что ему нравились твои волосы, ноги… – Она резко схватила свои крупные груди под обтягивающим трикотажем. – Сиськи твои… Начинаешь метаться, как крыса.
Люся ждала, что после фривольной этой тирады сестра бросится креститься: прости, Господи, что скажешь, – но нет.
– Думаешь – что еще во мне не так? Где отрезать? Где пришить? Ну да ладно. Все в прошлом. – Маша хлопнула себя по коленкам. – Все. Простила.
Люся покосилась на иконы. «Значит, можно при них такое?» И усмехнулась своим наивным ребяческим мыслям: «Ну что ты, в самом деле», – будто усмешка эта чем-то могла помочь. Добавить уверенности.
Огонь лампады тем временем сделал с ликами то же, что делает костер с лицами собравшихся вокруг людей – вовлек в очевидную, почти осязаемую близость: вот мы – а вот тьма. Острое – то самое, а она боялась, что теперь невозможно – ощущение интимного, общего с сестрой пространства. Билет еще действует. Запросто, как в детстве, она пропущена за черту – туда, где досказывается самое главное.
– Я же попробовала, Люсь, как он говорил. Иначе.
Все-таки она туда вернулась, не так-то просто подытожить и выдохнуть прошлое.
– Найти свой стиль отношений, так он еще говорил. «Давай жить шире».
Было слышно, как Ольга в мансарде укладывается спать: приоткрывает окно, переставляет стул – вешает, наверное, одежду на спинку.
– Спокойной ночи! – крикнула она сверху.
И они ответили:
– Спокойной ночи!
Мальчик тоскливо зевнул.
Маша позвонила Кате, бросила в трубку:
– Мы спать ложимся. Ждем тебя. Хватит веяться.
Лежали в зыбучем полумраке – все выпуклое и ребристое позолочено и пущено вплавь – и снова играли в секретики. Правда, совсем не так, как собиралась Люся. Не она рассказывала Маше про то, как сладко таяло внизу живота, когда она смотрела на ее мужа – Маша выкладывала ей свою, другую, болючую тайну. Как однажды Леша забыл про юбилей свадьбы и прислал эсэмэску: «задержусь, ужинай, не жди». Как она запретила себе плакать, сделала прическу и надела лучшее платье… «в бедрах болталось немного, на нервной почве я костлявая стала…» и отправилась по газетному объявлению о вакансии секретаря в какой-то торговой компании с напрочь забытым теперь названием. «Найти работу, чтобы зарплаты хватало на съемную квартиру. И уйти, уйти не оглядываясь». Был конец рабочего дня, боссы уже разошлись, остался только начальник службы безопасности. Попросил прийти завтра. А ей никак нельзя было домой. Куда угодно, только не домой. Она брякнула: «Какие у вас планы на вечер?». Мужчина испугался, конечно. Такая прямота. Испугался. Обжигающих сучьих глаз. «Срочно нужен праздник». Какой еще праздник? Нормальный семьянин. Никаких лукавых мыслей. Но – прическа, ноги, грудь… Столик в ресторане и гостиничный номер – все уложилось в три с небольшим часа. Мужчину звали Костя, кажется. Или Коля. Как-то так. Сидел на подоконнике, курил, смотрел испытующе: чего ждать? не вляпался ли в неприятность? Она доревела, промокнула глаза и ушла. Дошла до лифта, вернулась – извиниться… воспитанная же… Дома Леша и Катя. Доедают ужин, Катя рассказывает, какая музыка была на школьной дискотеке, Леша подзуживает: «Да ну, попсня».
Проснулась с недовольной гримасой. Не успело рассвести, под окном шорхает метла. Не сразу вернулась в реальность, проворчала досадливо: «Какого хрена?» Но вот в просвете штор показался силуэт Ольги – и все встало на свои места. Вспомнила вдруг, что где-то там за углом дома бросила вчера сигарету – ох, стыдно. Метла удалилась, Люся перевернулась на другой бок. «А это откуда? Начинаем стыдиться, а еще никто и не стыдил».
Из-за приоткрытой двери позвала Маша:
– Ты на службу со мной идешь?
Беспечная: отправляясь в церковь, забыла про исповедь напрочь.
А Маша не предупредила.
Хоть разворачивайся и уходи.
Ладони вспотели.
Нельзя же вот так – сразу, не подготовившись.
Нельзя же – прийти и выложить.
Все? Непременно все?!
«О, боже».
Но исповедь была общей. Коллективной.
«Повезло», – подумала она.
Священник перечислял весьма детально описанные грехи – грешен ли в том и этом? «Грешен», – хором подтверждали стоявшие вокруг. И Люся вместе с ними. Несложно.
Но по окончании коллективной исповеди оказалось – это еще не все.
К священнику выстраивались те, кто хотел исповедаться лично. Собрались в закутке между стеной и колонной и – по одному, сначала мужчины.
Люся не сразу поняла, что происходит. А когда поняла, заспешила к выходу. Глаза в пол: лишь бы ускользнуть от Маши, не встретиться с ней взглядом. Лишь бы не выступила в ее сторону из семенящей, теснящейся к стене толпы – и на всю церковь: «Люсь, иди ко мне».
Нет. На первый раз довольно.
Напустила озабоченности – на всякий случай, пусть думают, что торопится по неотложному доброму делу… опаздываю, простите, извините, никак не могу остаться…
Вышла и столкнулась с Машей.
– На личную не пошла? – спросила Маша рассеяно, поправляя платок.
– В другой раз. Это обязательно?
Маша промолчала.
Чем-то она была занята. Что-то происходило внутри. А Люсе вдруг захотелось – остро, хоть за руки хватай – чтобы сестра говорила с ней. О чем угодно. Не обязательно о серьезном. Будто собиралась что-то такое расслышать в ее спокойном, отстраненном голосе.
– Служба скоро? Маш?
– Скоро. Который час?
– Полвосьмого.
– Вот через полчаса. Как исповедь пройдет.
– Полчаса?
– Может, чуть раньше.
– Батюшка не старый совсем.
– Да.
– Давно он… здесь?
Наконец Маша посмотрела внимательно на младшую сестру:
– Третий год служит. – И добавила: – Я в прошлый раз на личной исповедалась, – будто Люся спросила ее об этом вслух. – И тебе не мешало бы. Правда.
Каждый раз, когда ломота в спине и зависть к сгорбленным старухам, которым дозволено сидеть на лавках под лестницами, ведущими на хоры, становились совсем уж невыносимы, Люся смотрела на Машу и постепенно забывала про ломоту в спине и горбатых счастливиц на лавках. Не было в сестре умиления, которое Люся выискивала поначалу (каждый верующий, казалось ей, во время литургии выделяет умиление непроизвольно, как пчелы мед).
Нет, совсем другое.
Ее не гнуло книзу, как многих вокруг. Во взгляде – Люся стояла близко и не могла ошибиться – сгущалось то, чему не сразу нашлось название: решимость… торжественная решимость… упрямство… азарт… «Буду жить. Господи, буду жить».
Вся она была – нежданное возвращение к жизни: болела, уже заглядывала за край, но вот выздоровела, выздоровела, выздоровела. «Господи, я буду жить!»
Если бы Маша прижала сестру к стенке: «Знаю, о чем ты думаешь», – Люся ни за что бы не созналась. Отбивалась бы до последнего: «Ты с ума сошла?» Но никаких сомнений – теперь-то все прояснилось: Люся чувствовала это с самого начала, еще вчера. Во всем: в упругих жестах, в горящих темным пламенем глазах, в ровном, как шлифованный камень, голосе, что бы ни произносила Маша: «который час» или «Господи, помилуй», – во всем; не на виду, где-то очень глубоко, подспудно, пульсировало это стыдливое, но не имеющее сил таиться – облегчение.
Наверное, так бывает после стихийного бедствия, после теракта. Когда рядом кого-то в клочья – а тебя лишь слегка присыпало.
Повторяя слова молитв, печатая крестные знамения, Маша словно уходила – отсюда, от призывного баса священника, от летящих и ниспадающих голосов хора – в свою собственную драгоценную тишину.
Ольга пела прекрасно.
Люсе сделалось плохо, тоскливо. И она разревелась. Хлынуло – не было никакой возможности удержать. Чтобы не хлюпать носом, вытирала рукой.
Весь ужас случившегося – понимал ли его еще хоть кто-нибудь?
Эй! Погодите! Хоть кто-нибудь?
Священник, например.
Внушительный, рослый. Представила, как он ссутуливается, наклоняет шею, когда невелички вроде Машки подходят к нему: «Скажите, батюшка…»
Ольга, чрево которой родило сына, обменявшего жизнь на наркотик, горло которой рождает такие звуки – наверняка о жизни вечной, о чем еще… Кто ее знает, эту Ольгу… Ольга – большой секрет… Ольга может понимать все.
Но сама Маша – Маша, занятая дотошными хлопотами о загробной участи неверного супруга…
«Понимает ли сестра моя, Машка, Машуня, как страшно мне сейчас рядом с ней?»
Страшна, нестерпима оказалась благодарность выжившего. Того, кто, захлебываясь отчаянием, нащупал спасительную твердь и вцепился, каждой клеточкой ухватил – через «не могу», и больше не выпустил… кто благодарит невольно… отправляется в храм, чтобы просить: «Упокой, Господи, душу раба твоего», – но приходит и говорит: «Спасибо».
А раб божий Алексей считал, что может по-своему. Как-то… по-своему. Иначе. Своим путем.
Кто-то тронул ее за локоть, кто-то протянул носовой платок. Взяла, не оборачиваясь, поблагодарив кивком.
Служба у православных долгая, Люся успела успокоиться.
В какой-то момент ей показалось, она поступает нехорошо, оставаясь здесь, среди тех, кто так прочувствованно крестится и повторяет наизусть слова молитв – которых она не понимает почти. Ей было неловко от того, что она стоит с сомкнутыми губами. Боялась, что кто-нибудь смотрит ей в спину осуждающе. Возможно, тот же, кто подал ей платок. Оглянуться бы.
«Я же обманываю. Машку. Этих людей. Священника. Зачем я здесь?»
И напоминала себе строго – тоном, которым запрещают ныть: «Машка просила. Это важно для Леши. Для Леши сейчас все решается».
В руках у нее оказался заламинированный текст: «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли…» Теперь можно было повторять вместе со всеми.
После причастия – дождалась – то, зачем пришла. Поставила свечку за упокой Лешиной души, прочитала короткую молитву с таблички на стене под распятием. Маша стояла рядом, тоже выпрашивала прощения Лешиных прегрешений, вольных и невольных.
Подумала: «Нет, нельзя так, протокольно. С таблички. Нужно, чтобы изнутри». Расстроилась. Хотелось добавить от себя, хотя бы слово. Прилепить в уголок. Как нарисованное от руки сердечко под выверенные официальные фразы. Потому что… это может привлечь внимание… наверное… если Он действительно есть – может привлечь внимание.
«Лешенька, Лешенька», – только и пришло ей на ум.
Она вышла во двор. Уселась на лавку.
Выжата – до капли.
Первая служба, выстоянная от начала до конца. До сих пор заходила в церковь, когда тянуло. Тянуло в приступах одиночества. Не так уж и редко, в общем. Господь ее был прост и доступен по первому требованию. «Слушай, у меня – ну, полный кошмар. Можно зайду?» Просила. Всего, что просят обычно.
Подошла Маша.
– Подожди немного, ладно? Пойду помогу прибраться.
И вернулась в церковь, а Люся осталась ждать ее на лавке.
За оградой разгуливали голуби. Склевывали хлебное крошево с асфальта. Грузные. Переваливались с ноги на ногу, как колченогие тучные бабки. Энергично глотали, приходя в движение от головы до хвоста. Голуби скоро надоели, принялась разглядывать церковь. Белые стройные стены, сверкающие купола. Маша сейчас там, внутри. Помогает прибраться.
– Оленька, сохрани Господь, – послышалось со стороны ступеней. – Как ты сегодня пела! Ты всегда чудесно поешь. Но сегодня…
Ольге целовал руку мужчина средних лет в белой сорочке с длинными рукавами. Сорочка застегнута на все пуговицы, под самое горло. «Видимо, про таких и говорят: благообразный». От усталости мысли ее покатились куда попало. «Если бы каким-то образом сложилась ситуация, что такой, как он, пригласил бы меня посидеть в ресторане – и пришлось бы согласиться и сидеть, я бы, наверное, моментально впала в ступор, как если бы я была студентка, а он мой преподаватель, которого я всегда уважала, а он вдруг…» Заметила, что Ольга смотрит на нее. Не просто так – попалась на глаза; внимательно смотрит, всматривается. Стало быть, человек в застегнутой белой сорочке сказал: «Как ты сегодня пела», – и потянулся целовать руку, а Ольга в этот момент посмотрела на Люсю. Мимолетный случайно пойманный взгляд – Люсе не хотелось ничего в нем вычитывать, не было сил. Отвернулась, поискала голубей.
– Староста наш, – сказала Ольга, подходя.
Села рядом.
– Сразу и не жди ничего. – Она качнулась всем корпусом. – Это многих смущает: ждут. Всего и сразу. А дается, как и во всем, трудами.
Говорила, как радушная хозяйка с малознакомым, но симпатичным гостем. Хорошо говорила, Люсе нравилось – пожалуй, и не хотелось бы, а нравилось. Никакой благочестивой натуги.
«Но лучше бы на ее месте сидела Маша, – подумала Люся. – И говорила со мной о другом. – И дальше, уже не слыша Ольгу, потеряв нить: – Интересно, можно ли спрашивать – сестру, например, в чем она исповедалась? Нет, конечно. Нельзя. Пустые усталые мыслишки».
Дни потянулись одинаковые.
Ольга оставалась ночевать.
Мать принялась названивать Маше. Все то же: «Ну, никак пока. Клиенты вредные, не хотят ждать. Но появилась надежда, попробуем вместо меня взять тут одного, на время. Пока не обещаю».
Но потом Люся познакомилась с Андреем.
Ольга была на работе, Катя пропадала с Вовой. Маша ушла на кладбище.
Люся бродила по дому, открывала шкафы, заглядывала в ящики. Перебирала улики: когда-то здесь жила счастливая пара. Мужчина и женщина, вожделевшие друг друга. Друг без друга невозможные. Одежда, туфли, бижутерия, белье… дорогое вперемешку с простеньким… коробка с фотоальбомами: университет, свадьба, маленькая Катюша, первый семейный отпуск, Катюша-первоклашка… коробка с видеокассетами, надписи фломастером… где-нибудь в кладовке видеомагнитофон, можно найти и запустить… но что скажет Маша, если застукает? Зимние куртки, шуба, спортивная форма… И – ничего, легкая грусть, и только.
Принялась вытирать пыль.
Он зашел во двор, позвал Машу. Мальчик гавкнул для проформы и отвернулся. Люся вышла. Забыла, что на ней короткие шорты и футболка.
– Маши нет. На кладбище ушла.
Среднего роста шатен с карими глазами. Одет в серые джинсовые брюки и повседневный пиджак. На голые ноги и тонкую футболку старался не пялиться.
– Я Андрей, Лешин друг. – Он помолчал, раздумывая. – Можно, я Машу подожду?
Люсю он заинтересовал сразу – этим коротким раздумьем: отправиться ли на кладбище, постоять возле вдовы, погруженной в чтение молитв, или дожидаться дома.
– Проходите, конечно. Я Люда, младшая сестра.
– Очень приятно, – отозвался он, уже стоя на крыльце.
Люся тем временем натягивала на себя махровый халат, весьма кстати подвернувшийся на вешалке в холле.
Сели на кухне.
– Кофе?
– Не откажусь.
Она отправилась к плите варить кофе.
– Девять дней послезавтра. Я обещал Маше помочь, – сказал он.
– Маша говорила. – Она решила пояснить: – Что Лешин друг приедет и всем займется.
А он – сходу, с первых слов принялся делиться своими переживаниями:
– Вот так дружишь с человеком, только вчера, кажется, сидели, разговаривали и вдруг: умер, хороним в среду… – Покачал головой. – До сих пор не могу поверить.
Предъявил, как верительные грамоты: не извольте сомневаться – друг.
В турке начала подниматься шапка. Люся помешивала, чтобы замедлить вскипание, объясняла:
– Получается вкусней.
«Стало быть, так ты с этим справляешься. Вчера сидели-разговаривали, и вот его нет. А я есть. А я по-прежнему есть».
Лешин друг.
Смерть, грех, молитва, глаза сестры во время литургии – все это было по ту сторону от нее. Это можно было обдумать и, наверное, постепенно понять – но невозможно было пережить. Чувствовала: не сумеет, не сможет, даже если очень постарается. Сказала себе… Андрей сидел перед ней, ждал, пока пристынет кофе, пока найдутся слова, чтобы продолжить – обхватив большим и указательным пальцами кофейное крошечное блюдце… и она подумала, довольно невнятно – как-то так, по касательной: «Вот такой Андрей, Лешин друг».
– За два дня до смерти с ним виделись. Правда, мельком. И, главное, запомнилась такая ерунда…
– Какая?
– Да вечером после работы встретились на парковке. Он садился в машину… мне еще показалось, грустный какой-то… чтобы Леша грустил… но… промолчал… не знаю… промолчал, в общем… а Леша мне… усмехнулся еще, как он умел… прибаутка такая, шуточная: становитесь, девки, в кучу, я вам чучу отчебучу.
Люся улыбнулась: слышала от Леши эту прибаутку много раз.
– В общем… махнул рукой и поехал. А у меня эта «чуча» теперь целыми днями в голове крутится.
Она заметила обручальное кольцо на его руке. Последняя деталька встала в свой паз: Андрей был женат – и он был Лешин друг.
Как будто сидела в зрительном зале, смотрела представление – неплохо, местами даже замечательно – и в какой-то момент (ой, чуть не прозевала!) вспомнила, что сама играет в этом спектакле, как раз ее выход, пора.
– Глупо, да? Столько лет были знакомы. Столько всего… А тут какая-то хрень засела и… крутится…
Андрей глотнул кофе. Чашку на блюдце не вернул, подставил снизу левую ладонь. Подержал немного и убрал – горячо.
– Очень вкусно.
Люся и вежливую ложь его оценила: кофе на самом деле вышел плохонький – банка была неплотно закрыта, выдохся.
Что ж, ее реплика. Она сказала:
– В семнадцать лет я была влюблена в Лешу.
Андрей к такому повороту беседы оказался не готов.
Поерзал, покачал стул, продемонстрировал: шатается.
– Вот как.
– Да. Причем по уши.
– Вот как.
Стукнули ворота. Вернулась Маша.
Когда пакеты с продуктами были загружены в багажник, случилась заминка. Ничто не задерживало, и Андрей, как будто шагнул к водительской двери, но остановился. Переглянулся с Люсей поверх машины. Тут же отвел взгляд, принялся рассматривать набережную. С выжидательной полуулыбкой Люся рассматривала набережную вместе с ним.
Экскурсионный кораблик только что причалил. В щель между бортом и причалом выпрыгивала, громко чавкая, вода. «Осторожничает. Ждет подсказки». С одной стороны, сюжет категорически не располагал: девять дней, лучший друг, она в трауре – родная сестра вдовы. С другой стороны… Люся постаралась, чтобы он почувствовал: есть и другая сторона.
«Ничего, Андрюша, ничего, так даже лучше. Можешь не токовать».
– Посидим? – Она показала взглядом на столики за стеклянной стеной.
Дескать, нужно бы закончить прерванный разговор. Но к тому, что на виду, было щедро добавлено: интонация, взгляд, неторопливое движение плеч под темной блузкой.
– Сам хотел предложить. Опередила.
Поставил машину на сигнализацию, тут же снял, нырнул внутрь, полез в карман пиджака: забыл телефон.
– Маше позвоню, предупрежу, что задержимся.
– Не надо, – улыбнулась Люся.
То и дело проваливался в себя – секундочку, мне тут надо… Люся терпеливо пережидала: что бы там его ни окликало – сомнения (не привиделось ли), мысли о жене, природная робость или, наоборот, с ободряющим цинизмом спешил просчитать, во что все выльется и стоит ли затеваться, – что бы там ни было, ее это цепляло. Андрей выглядел трогательно. Подросток, который снует из настоящего в выдумку с надеждой, что и здесь удастся преуспеть, и там ничего не нарушить. «При этом старше меня лет на семь, если не на десять. Вкусняшка какой».
– Давай вон там?
Место хорошее, с видом. За стеклом набережная, прогуливающиеся люди, река.
Люся заказала фруктового чаю. Андрей взял капучино.
– Нужно было пачку кофе прикупить домой, – подумала она вслух. – В смысле, Маше.
– Мы с Лешей здесь сидели однажды. – Он махнул направо. – За тем столиком.
«Ну вот, молодец», – похвалила она взглядом.
– Одни?
Андрей пожал плечами.
– Мы всегда, если сиживали с ним, то одни. С женщинами Леша предпочитал встречаться наедине. Как он говорил, чтобы не отвлекаться от сути.
Помолчал вопросительно: правильно ли понял, что ей про это интересно. Она смотрела ему в глаза: «На – разгляди все, что нужно. Успокойся. Я своя. Все пойму правильно. Со мной можно не ломаться».
– В последнее время редко встречались. Восемь лет без малого знакомы. Как устроился в отдел работать. Но последние года два, наверное… Как-то некогда, ни ему, ни мне… некогда было.
– Обычная история. Времена такие, – развела руками Люся.
Подыгрывала. Показывала: видишь, я тоже говорю банальности, все хорошо, не подведу.
Андрей осваивался. Уходила зажатость.
Принесли кофе и чай в стеклянном чайнике, на высокой подставке, стилизованной под фонарь. Горела плоская свеча, подогревала снизу чайник.
– Иногда завидовал ему. – Андрей потянул губами молочную пенку с капучино. – С Машей об этом не поговоришь.
– Поговори со мной.
– Да. В общем… Темперамент. Кураж. Это или есть, или нет. Правильно? Если уж откровенно. Не скажу, что Леша за каждой юбкой бегал, нет. Не знаю… не стоит его бабником называть… Бабник, это как? Здесь цапнул, там куснул – считай, наелся. Поверхностный подход. Правильно? У Леши такого не было.
– А называли? Бабником?
– Ясное дело. И на поминках тоже. Шептались. У меня другое понимание… Сложно все. И Маше, я тоже представляю, каково было… сложно… Но…
«Давай, Андрюшенька, не останавливайся».
– Смотрю на него… и вижу человека, которому вкусно жить. Вот так скажу, да. Ты прости, если что… У нас же откровенный разговор?
– Конечно. Иначе никакого смысла.
– Всех знакомых переберу. Только он такой. Глаз горит. Искристый человек, понимаешь? Летучий. И во всем такой… я хочу сказать… я все эти дни об этом думал… Ему, в принципе, нравилось жить на две стороны. Без этого не хватало ему чего-то… я так понимаю… вот сколько я его знал… понимаешь… как будто с какого-то момента нужна стала эта разбросанность, как будто только так приходил в норму… Только Маше не нужно это передавать, ладно?
– Ну, что ты, Андрюш.
– Я бы так обрисовал: самого себя слишком много, и некуда приложить… а Маша, когда настал такой этап… ну, у всех настает… привычка, все такое… вот… она, вместо того чтобы помочь ему… ну, сжигать топливо… – Осекся, принялся подбирать слова, да так и не подобрал. – Сложно сформулировать…
Помолчали по-новому. Приложились к чашкам.
Спросил, смущаясь:
– Так у тебя с ним…
– Что ты! – Махнула рукой непринужденно. – Была тихонько влюблена. Ну и взросление, шепот натуры, вот это все… Покурим?
– Фух! А то я уже подумал…
– Нет-нет. Это не наша история.
– Так я и думаю…
Вышли во внутренний плющом заросший дворик. Воробьи шумно разлетелись.
– Ты и с Оксаной знаком?
– Знаком, – ответил нехотя, протягивая горящую зажигалку.
Дал прикурить Люсе, прикурил сам.
– Машу жалко, конечно. Машу жалко.
Аккуратные мусорные жбаны, черный кот с кривым надломанным хвостом. В распахнутых воротах поблескивала на солнце река.
– Но ей жалость ничья, похоже, не нужна, – сказал Андрей вопросительно и посмотрел на Люсю.
Подтвердила:
– Не нужна.
– Немного другой ее себе представлял. Мы редко с ней виделись, честно говоря.
Люся начинала скучать – показалось, Андрей не скажет больше ничего, вытряс себя всего, до крошки. Он сказал:
– Мне рядом с Машей как-то не по себе.
– Почему?
Оглянулся – будто проверил, не подслушивает ли кто.
– Как-то… кажется, она вся еще там… В Лешиной измене…
Кот зевнул. Упруго дрогнула ленточка языка.
– Любила его очень, да?
Не дождавшись ответа, замолчал. Затянулся, выдохнул дым вверх, в липовые ветви.
В глазах у Люси плыло. Что-то нужно было с этим делать. Со всем этим, вываленным в кучу. Андрей, конечно, вряд ли сделает первый шаг. Да и время. Время изматывало.
Уронила сигарету себе под ноги.
Вцепилась, не соизмерив – разбила ему губу. Сквозь табак проступил солоноватый привкус крови.
«Ну, все, все, прости, сейчас, сейчас будет нежно… Милый мой».
Люся с Ольгой накрывали на стол. Ольга вновь была молчалива, как в первый день. Люсю это не тяготило. Спустится с хоров, выйдет из церкви – на какое-то время становится разговорчива, даже болтлива. Потом затихает и молчит, расходует слова скупо, как последние рубли, на самое необходимое.
Обронила, пока расставляли посуду:
– Катя снова, значит, из дома на целый день?
Вздохнула. Тишина. Тарелка снята со стопки, протерта полотенцем, ложится на скатерть. Вилка, ложка, нож.
Люся понимала – это странно: уж очень они разные, начни копаться – во многом полярные. Но она приноровилась понимать Ольгу с полуслова. Научилась дослушивать то, что следовало после слов. Частенько молчанию препоручалась самая суть. Сейчас, например, Оля имела в виду: «Катя снова из дома ушла. Могла бы, кажется, и воздержаться на девять-то дней». Осуждение, в котором больше жалости: глупышка, что же ты делаешь.
Люся видела мельком Вову. Подвозил Катю до дома на своем мотоцикле. Хорошо сложен. Поджарый, длинноногий, плечистый. Симпатичный – если бы не нарочитый подростковый вызов, слепленный, казалось, раз и навсегда, на все случаи жизни. Подождал, пока Катя слезла, чмокнула на прощанье – и рванул с места, обдав любимую клубами пыли.
Ольга здесь не из-за Маши – догадалась Люся.
Достаточно было однажды перехватить ее взгляд, брошенный на Катю, услышать этот горький материнский вздох… мурашки по коже…
К Кате не лезет. Не дотронется, лишний раз не заговорит, не посмотрит. Ей, кажется, и не надо. Держится в сторонке – но в присутствии Кати под беззвучной бесцветной оболочкой что-то большое и мощное, дрогнув, приходит в движение. А когда настанет время, так же молча удалится из Машкиного дома. Иногда, не слишком часто, чтобы не вспугнуть, будет заглядывать в гости – делая вид, что от нечего делать.
Маша не замечала. Маша умела не замечать.
Так и жила Ольга – вприглядку. Случалось, с Люсей позволит себе обронить слово, другое. Люся пыталась было понять, что это – особое ли доверие; так и не преодоленное, даже в храме не избытое, одиночество, или Ольга считала, что пришлой сестричке такого все равно не углядеть, и можно расслабиться. Как бы то ни было, Люся не обижалась: Ольга жалела Катю, Люся жалела Ольгу. Понимала, быть может, как никто другой никогда не поймет. Откуда было знать Ольге, что пришлая сестричка тоже пожила когда-то чужим – молчком, вприглядку.
В открытое окно послышались голоса: возвращались из церкви.
Люся с Ольгой вышли во двор, прихватив каждая по полному ведру и ковшику, сливать гостям на руки. Полотенца кухонные, специально купленные, с фольклорными петушкам. Ольга ездила за ними в город.
Запертый в будке Мальчик принялся колошматить хвостом и вдруг заметался, забился. Так впечатывался в стенки, в крышу, в решетку, что тяжелая дощатая конура ходила ходуном. Каждого гостя встречал оглушительным лаем. Маша несколько раз заглядывала в открытые ворота во двор, чтобы прикрикнуть – но Мальчик на нее не реагировал. Не заходила, что-то ее держало там, за забором. Оттуда долетали сдавленные голоса – Машкин и чей-то мужской.
Андрей был с женой. Приятная, оценила Люся. Голубые глаза. Но слегка оплывшая.
В одном из пришедших – по почтительной дистанции, аккуратно выдерживаемой окружающими, угадывался начальник.
Ольга выглянула за ворота и поспешила в дом.
– Закончишь? Там еще два места нужно организовать. Не рассчитали.
От Лешиных родственников разило водкой. Где-то уже успели – между церковью и кладбищем. Мачеха Алла присела на лавочку у крыльца. Вид озабоченный.
Брызги мыльной воды, падавшей на клумбу, на пыльную брусчатку, пачкали обувь. Те, кого это огорчало, забавно, каждый по-своему, отклячивали зады.
Курильщики успели наспех подымить. Ольга завела всех в дом.
– А я говорю, мы спрашивали у батюшки, – послышался из-за забора тяжелеющий мужской голос. – Сказал, можно.
– Леонтий Сергеевич, будет так, как я решила. Давайте сюда.
– Ну, достала! Самая святая, а?
– Давайте сюда.
– Главное, священник говорит «можно», а эта…
– Как вы отца Афанасия донимали, я наслышана. И как именно он вам ответил.
– Да как ответил? Если, говорит, нету сил отказаться, лучше немного выпить, чем из-за этого скандалить. Я и говорю. Как ответил?
– Вот и не скандальте. Отдавайте. Ваше «немного» я знаю. Бухла на поминках по моему мужу не будет. Все.
– А по моему сыну?! Поминки, бля, по моему сыну!
– Я вам все сказала.
– Нет, ну! Точно!
– Не устраивайте, пожалуйста. Хватит.
– Сына в могилу, сука, свела, так еще и помянуть по-людски не дает.
Во двор вошел Леонтий, Машин свекор – мрачный, играющий желваками. Следом Маша. В руках авоська. Шагнула к собачьей будке. Авоська звякнула стеклом. Маша вытащила из дужек замок и, придавив коленом, приоткрыла решетку. Сунула – почти швырнула авоську внутрь. Собиралась закрыть, но тут Мальчик боднул решетку, решетка больно ударила Машу – и, с хрустом ободрав бок о металлические прутья, пес вырвался наружу. Убежал за будку, сколько позволяла цепь.
– Да и хрен с тобой! – вздохнула Маша.
Леонтий тем временем бросил Люсе: «Привет», – сунул руки под струю воды из ковшика и прошел в дом. Алла, поджидавшая на крыльце, вошла за ним следом. Изловчилась хмыкнуть ему на ушко:
– Говорила же, сцапает.
Маша стояла посреди двора. Сняла платок. Запрокинув голову, поправила волосы.
Люся обняла ее за талию, потянула:
– Идем, ручки помоем?
Сестра на мгновение обмякла. Поддалась. Но тут же – затвердела, расправила плечи.
– Мыло уронили. – Сама же наклонилась, подняла. – Лей.
Ольга успела рассадить гостей.
Катя с Вовой. Время от времени она трогала Вову за руку, заглядывала в глаза – сверялась, все ли в порядке.
Ольга выставила на стол графины с компотом.
Маша встала во главе стола. Напротив, в рамке, перехваченной по углам траурной лентой, – Лешин портрет. Моложе лет на десять. Еще с длинными «студенческими» волосами. Еще любящий одну только Машу.
– Новее не нашлось? – участливо поинтересовалась Алла, кивнув на портрет.
Маша не ответила.
– Дорогие друзья, близкие и родные.
За столом притихли.
– Спасибо, что пришли. Спасибо, что помните моего мужа. Леша каждым из вас дорожил. Вы знаете, как он умел ценить дружеское общение.
– Как-то непривычно, с пустыми руками, – точно рассчитанным, услышанным в каждом углу шепотом сказала жена одного из братьев.
Маша и на нее не обратила внимания.
Лихорадочный неподвижный взгляд, нацеленный мимо стола.
– Спасибо всем, кто в эти дни нашел время помолиться за Лешу.
Она прочитала «Отче наш» и перекрестилась, глядя на образ в правом от себя углу. Перекрестились и остальные. Перекрестился и Леонтий – предварительно ехидно вздохнув. Некоторые, проследив за Машкиным взглядом, развернулись в сторону иконы. Ножки стульев визгливо проскрипели по полу.
– Пожалуйста, угощайтесь.
Ольга пустила по кругу пиалу с кутьей.
– Мы собрались здесь для того, чтобы помянуть Лешу. Если кто-то из вас захочет поделиться историей… сказать какие-нибудь слова… не стесняйтесь.
Маша села. Начали есть.
– Прям как молокане, – буркнул Леонтий и принялся за лапшу. – Только без молока.
Ложки постукивали. Во дворе Мальчик позвякивал цепью.
– У молокан песни поют, – добавила Алла.
Люся наблюдала за Катей: в глазах у Кати стояли слезы. Целая технология – как скрыть, что плачешь. Сморгнула несколько раз, выдавила слезы на ресницы, украдкой сковырнула ногтем выскользнувшую слезинку – сделала вид, что зачесалось в краешке глаза.
Ложки постукивали. Поскрипывали стулья.
Одного из коллег пихнули в бок. Поднялся с компотом в руке. Нет, что-то не то. Вернул компот на место.
– Юрий. Начальник хозяйственного отдела, через кабинет сидели.
– Завхоз, – шепотом перевела Алла Леонтию.
Рассказал случай, как Леша во время визита московской комиссии, вечером, на фуршете, пришел и тут же снял напряжение… «и, смотришь, пошло-поехало, беседы за жизнь, анекдоты».
– Ну, нет, – Леонтий отодвинулся с грохотом от стола. – Анекдоты… Могу я сына помянуть по-человечески? Что я, сектант какой-то? Да испокон веку… Да что!
Он швырнул льняную салфетку об стол – от свекольного салата на ней начало расплываться красное пятно. Поднялся.
– Миша, Дима, идем ко мне. Помянем по-православному. Виталик, Юля, давайте… Света, – принялся он скликать своих.
Алла уже вышла из-за стола, прошмыгнула ближе к выходу.
– Дядь Леонтий, – попытался урезонить старший из двоюродных братьев Леши.
Но Леонтий слушать не стал.
– Все! Могу я выпить за помин души?! Сына моего?! Единственного сына моего Алексея!
Вышел стремительно. За ним вышла Алла. Остальные потянулись следом.
– Прости, хозяйка… Мы лучше…
И бочком на выход.
Со двора раздался лай. Алла вскрикнула, Леонтий выругался. Возня, глухой стук удара, визг Мальчика.
Люся выглянула в окно. Леонтий тащил из конуры авоську с бутылками. Алла давила локтем на ручку ворот, пытаясь открыть. В руках у нее была Машкина кастрюля. Прихватила по пути.
Родственники ушли все. Последняя, жена одного из двоюродных братьев, перед уходом что-то долго нашептывала Маше. Та сидела, не шелохнувшись.
Суп съели в тишине. Люся с Ольгой собрали тарелки, подали второе.
Андрей ограничился обязательной программой: сказал о том, какой Леша был энергичный и яркий человек. «И прекрасный работник», – добавил. И жест в направлении начальника – будто отдал пас. Начальник продолжил про прекрасного работника: что ни поручишь, всегда в срок и в полном объеме, ответственность, добросовестность… вот, мы тут еще немного собрали и как бы квартальная премия, уже была выписана… нашли выход, решили вам передать… конверт повис над столом – куда: налево к портрету или направо к вдове… налево ближе… конверт улегся возле молодого улыбающегося Леши.
И выдохлись.
Зашептались, принялись играть в гляделки: скажи – нет, ты давай скажи.
– А кто-нибудь знает из вас, как мы с Лешей познакомились? – спросила Маша собравшихся. – Леша рассказывал?
Андрей поднял руку: я знаю, мне Леша рассказывал.
– Я на четвертом курсе училась. Леша только поступил тогда, он не сразу после школы поступал… я первое время подтрунивала над ним: первокурсник… Начало сентября. Солнце, погода чудесная. Шли с подружками от нашего «педа», а у юристов в нашем здании занятия по иностранному были. Идем, на светофоре мотоцикл стоит. Мотоциклист в шлеме… Вы заметили, тут в Платоновке до сих пор в каждом дворе мотоцикл, если не два… Мы перешли уже, почти до остановки дошли. Вдруг подлетает, снимает шлем, подходит. Быстрый, красивый. Это в нем как-то особенно сочеталось, всегда… Девушка, говорит, детали можно уточнить позже, но вам придется стать моей женой. Подружки грохнули… ну, посмеялись, и дальше к остановке. Повеселил, и ладно… А я с места не сдвинулась. Сама не знаю. Так он это сказал, как будто и вправду знал что-то. Про нас… Поехали в центр. Кататься. Шлем он мне отдал.
– Мам, – просительно обронила Катя.
Но Маша продолжила. Ровным негромким голосом.
– Сам едет, волосы по ветру… лохматый стал… львиная грива. – Подержала растопыренные пальцы у головы, покрытой черным платком. – В парке Горького гуляли. Проговорили до ночи. Целовались в общаге, на лестнице. Комендантша нас усекла, кричит: «А я сейчас в милицию, я сейчас в деканат…» Через неделю заявление подали в загс… Леша тогда дом достраивал… Иногда просыпалась ночью – страшно: разве бывает такое… как это все уместить… Потом Катюша родилась…
– Мам…
Чем дальше рассказывала Маша малознакомым ей людям о том, как была когда-то счастлива… слушайте-слушайте, сегодня не отвертитесь… тем меньше оставалось в них поминального благолепия. Лица менялись. Растерянность. «А ведь чувствовал, что не нужно ехать», – вырвется у кого-нибудь по дороге назад.
Люся, не таясь, разглядывала каждого.
Завхоз Юрий… «через кабинет сидели»… тоже, конечно, общался с Оксаной. Новый калькулятор, перегоревшая лампочка, расходные материалы – все к нему. «Просим предоставить для производственных нужд кассы номер»… как-нибудь так… «Ксюш, пора уже Плюшкину писать. Пломбы заканчиваются». Молодым всегда спихивают такое. Оксаночка улучает минуту и пишет. Резинки, пломбы, гель для пальцев, обязательно новых инкассаторских сумок (подчеркнуто). Завхоз Юрий встречает ее с комичным ворчанием. «Ну-ка, поглядим, что там опять накатали? Э-э-э, сколько всего! На продажу, что ли?» Видно по нему: балагур. Жизненная программа – всегда выглядеть бодро. Шутки-прибаутки в каждом кабинете. Завхоз обязан нравиться. Пройдет какое-то время после Лешиной смерти, в кассе что-нибудь закончится, Оксану отправят к Плюшкину. Она придет к нему с заявкой: шпагат, мыло, две пачки писчей бумаги… ленты, которыми оборачивают пачки денег… как они там называются…
Люся долго за ним наблюдала. Случайно упал взгляд, и прицепилась. Пока Маша рассказывала – напялил умильную улыбку и держал, держал. Как гимнаст держит уголок. А Люся ждала, на сколько его хватит.
Крепкий. Она устала раньше. Перевела взгляд.
Шерстяное пузо. От неожиданности она чуть не хохотнула. Пузо подглядывало в глазки промеж пуговиц натянутой туго сорочки. Размера на два меньше, чем нужно. С прошлого раза – когда кто-то умер и пришлось покупать черную сорочку, господин поднабрал килограммов. «Интересно, что с остальной одеждой, – подумала она. – Бывает, носят упрямо не свой размер. Уже по швам трещит, а носят: ничего, это я временно, скоро похудею».
Рассматривала их и повторяла, как считалочку, только что придуманный список: пломбы, резинки, бумага, шпагат.
И наверняка есть те, кто оставался в неведении до самого финала. Проморгал всю историю. «Да ты что! Я один, что ли, не в курсе?» Выспрашивали подробности.
Только не начальник. На то и начальник, чтобы все подмечать… стоял в своем кабинете у окна, смотрел, как Оксаночка садится в Лешину машину, вздыхал завистливо – самому бы, эх…
Все они – кто больше, кто меньше, знали о Леше с Оксаной. Каждый, слушая Машу, неминуемо вспоминал что-то свое – такое, что при ней никак нельзя произнести вслух. Нет, Люся не искала среди них виноватых. Просто сравнивала – невольно. Маша в своей распахнутости – настежь, на всеобщее обозрение: проходите-проходите, вот, здесь у нас так, а здесь, не поверите, эдак… – в своей откровенности, которую кто-то мог посчитать истеричной, но истерика, если и кипела, то глубоко, далеко, неслышно… Маша в своей откровенности, безответной и отклика не ищущей была такая большая. А они – такие маленькие, ерзающие. Вздыхающие. Выбитые из колеи.
«Да, Андрюша, с Машей всем не по себе».
Ей хотелось, чтобы все они ушли. И Ольга, и даже Катя – чтобы Маша осталась с ней наедине. Чтобы дорассказала ей одной самое главное. Что там? Что оказалось бы главным в ее пересказе?
Сломался автобус, курсировавший между Платоновкой и Комбинатом. Приехал вовремя, посигналил. Те, кто собрался домой и решил ехать автобусом, попрощались и ушли. Но вскоре вернулись. Водитель выставил на лобовое стекло картонку «Сломался» и прилег на лавочку возле магазина – дожидаться тягача.
– Это у нас бывает, – сказала Маша, и по ее губам скользнула улыбка. – Это наши, местные, возят. Взяли где-то полуживой автобус, подлатали. Городские перевозчики Платоновку с себя спихнули. Невыгодно ездить… Леша рассказывал. – Она пожала плечами – мол, само собой, от Леши знаю, откуда еще.
– А вам бы подписи собрать, и к депутатам, – предложил начальник.
– Да, Леша пытался. Прошелся по кварталу и плюнул. Соседи… сами понимаете… Тысячу вопросов зададут, начинают дебаты разводить: а будет ли толк, а не будет ли хуже.
И снова – это выражение на ее лице: будто прислушивается к собственным словам. Переводит с иностранного. «Про подписи говорю. Гостям рассказываю. Леша пытался подписи собрать. Автобус. Депутаты. Дебаты».
– Как бы нам выбраться? – робко поинтересовался один из тех, кто понадеялся на платоновский автобус.
Засобирались. Начали распределять по машинам, кто кого подвезет. Вышли в холл – для удобства.
– Так, те, кому в район телевышки, давайте налево. Центр – вставайте сюда.
Маша сидела за опустевшим столом, уложив руки на колени. На противоположном конце стола, за рядами тарелок, Лешин портрет. Конвертик.
Оказалось, за один раз всех не развести. Пятеро приехали в поселок с Витей – тем, что в тесной сорочке. Но Витя в город не возвращался, в соседней Камышовке его ждали по важному делу родственники. «Ну, никак. И так торопят». Он стучал пальцем по телефону.
На комоде зажужжал Люсин телефон. Эсэмэска от Андрея: «Тебе в город не нужно?»
Оглянулась: нет его. Спрятался.
Уши у нее зарделись – нежданно-негаданно, как у девочки. Захлестнуло. Не заметили бы.
Отправила Андрею ответную эсэмэску: «Очень».
Скорей бы.
«Так нужно», – сказала она себе.
Уже томилась: зачем это все, дурацкая колготня напоследок…
– Ты стой здесь. Ты туда. Валентина Петровна, перейдите в эту группу.
Тасуются, высчитывают оптимальный вариант.
Начальник мог забрать только одного – которому по пути. Тоже, стало быть, дела. Андрей вошел в дом, с порога вызвался развести всех, кого не успели распределить. Насчиталось шестеро. Не ехать же друг на дружке – придется возвращаться.
Жена первым рейсом.
Люсе долго искать повода не пришлось – отпуск заканчивался, нужно бы съездить на вокзал, купить обратный билет.
– Если не сложно, Андрей. А обратно я сама на такси.
Разумеется, несложно. И жена его подтвердила: несложно, все равно мимо вокзала ехать.
Он посмотрел так, будто между ними все уже было. И тронуло нестерпимо глубоко. Будто была уже минута тишины и опустошенности – они уже лежали, голые не только телом, глядя каждый в свой угол… все зрелое, взрослое, спасительно упрощающее и приуменьшающее, грамотно разлинованное… «хорошо, что хорошо кончается», – все это смято, разорвано, раскидано по углам, все это еще только предстоит нащупать и склеить обратно, чтобы было, куда шагнуть от кровати, чтобы было, чем отгородиться от нелепого, несбыточного: родной мой… а пока дозволено лежать, касаться друг друга подушечками пальцев – карауля, кто первый посмеет сорваться, отчалить в обратный путь – и не думать… пока ни о чем не думать, выдыхать украдкой переполнившее тебя небо… Посмотрел так, будто все это только что случилось и вот он по неосторожности заглянул ей в глаза.
«Так надо. Я знаю».
– Спасибо, что пришли.
– Крепитесь.
– Спасибо.
Уехала первая партия.
Дожидаться Андрея остались двое мужчин и женщина в кружевном декольте.
Пока Люся с Ольгой прибирали со стола, Маша занимала оставшихся гостей разговорами о Платоновке: летом дорогу начнут асфальтировать, участки с начала года подорожали; говорят, какой-то богатей выкупил сотки возле пруда… вон там, из окна видно забор.
Катя с Вовой ушли, взявшись за руки.
Андрей развез первую партию и вернулся. Взгляд беспокойный.
– Спасибо, что пришли.
– Ну, что вы…
В машине дружно отмалчивались. Женщина позвонила. Наверное, мужу. «А ты где? Да? А музыка откуда?». Выслушала удивленного мужа. Стоит себе муж, допустим, в колбасном ряду, перед ним тележка с покупками – вокруг него гипермаркет, из-под потолка музыка в стиле поп – и весело отчитывает супругу за внезапную подозрительность: «Ты что, мать, сбрендила? Сама же послала… – И с внезапным воодушевлением (надо же, приревновала, что творится!) провожает взглядом проплывающие мимо аппетитные формы. – Все, давай, дома увидимся». Женщина в кружевном декольте убрала в сумочку телефон и тоскливо вздохнула.
Двоих развезли быстро.
Последний взялся осложнить ситуацию. Человек-навигатор, знаток переулков.
– Сначала Люду вези на вокзал.
Здесь налево, там направо, немного дворами – и выскакиваем на Первую Майскую. Настырный. Чуть не за руль хватал. Андрей не решился отбояриться. Переглянулись, когда выходила.
– Спасибо, Андрей.
– Не за что.
В кассы – очередь на ползала. Не пошла. Купит билет по Интернету, из Машкиной спальни.
Ждала Андрея на лавочке, под навесом автобусной остановки.
«Как вокзальная шлюха, пока не подберут».
Пусть и он, когда подъедет, так подумает. Пусть заведется. Пусть растерзает ее, как Леша когда-то терзал свою возлюбленную Машку.
Позвонил минут через десять.
– Я освободился.
– Подъезжай к главному входу.
Улыбнулась сама себе, своему голосу – не помнит, когда он был таким откровенно-липким.
Подъехал Андрей.
Разнервничался вдрызг. Голос дрожит.
– Сказал жене, что буду поздно. Сказал, нужно с сыном повидаться. У меня есть сын от первого брака.
– Ты только не нервничай так, ладно? Все хорошо.
– Стараюсь.
Оказалось, она и сама не знает, как держаться. Это его «стараюсь» – будто просила что-то починить.
Свернул на эстакаду, в сторону западной окраины. На выезде из города наверняка мотели. Фуры припаркованы под окнами, вдоль трассы. Когда они войдут, представила Люся, администраторша – хмурая, навсегда усталая, примет его за дальнобойщика, а ее за плечевую. «И хорошо. И правильно». И следом: «Вот, интересно, Леша возил Оксаночку в такие места? У нее своя квартира. Но вдруг. Для остроты ощущений. Был ли он любитель поиграть? А она? Какой бывала она с ним? Узнать бы».
Андрей придавил газу, чтобы успеть проскочить на желтый.
Вопросы тем временем сыпались один за другим: «Чувственней Машки или просто – моложе? Заскучал – или всегда тосковал по новизне, по другому изгибу?»
– В дом отдыха, – сказал Андрей; скорее, спросил, – не против?
– Отлично.
– Были там однажды на корпоративе. Без ночевки. Заглядывал в номера. Приличные. Ремонт.
– Это тот корпоратив, про который сегодня рассказывали?
– Что? – Но он уже вспомнил, о чем речь. – А, да. Тогда из головного целая делегация прибыла, решали насчет… ну, вряд ли сейчас стоит про это…
На перекрестке небольшой затор.
– Прости. Не знаю, о чем говорить. Не хватало еще про работу…
– Почему нет? Можно про работу. Все равно.
Или связало Лешу с Оксаночкой то другое – неназываемое всуе, чему дела нет до анкетных предпочтений… то, что прорастает сквозь телесное – соединяет внезапно, наперекор… то самое, что умеет едко посмеяться над очередной затеей «только на одну ночь»?
«Так! – одернула себя. – Сосредоточься. Не о том сейчас. Не о том».
Мотель, скорей всего, будет «три звезды». И хорошо бы, номер чистый. И нестарая кровать. На стене потешная пасторалька: река, кусты, рыбак. Обязательно. Без пасторальки никак. Стену того номера, куда Маша затащила своего начальника охраны, тоже наверняка украшала какая-нибудь мазня… В том гостиничном номере Маша была в шаге от другого поворота – не кровожадного, хоть и неправедного. Или правильней – не кровожадного оттого, что неправедного?
Могло быть и так: он не остановился бы на полпути, тот Костя или Коля, а Машка забыла бы про свои слезы. Он разыскал бы ее потом. Она гнала бы его и говорила, что все было ошибкой, ужасной ошибкой. Он сумел бы ее убедить, что ошибки – не самое страшное… Он излучал бы уверенность: соглашайся, знаю, что делаю. Они начали бы встречаться. И все завертелось бы иначе. И как знать, куда бы вынесло… И Леша – тогда и Леша мог бы остаться живой. Потому что в тот вечер, когда позвонила бы Оксана, уже сама Маша не остановилась бы на полпути, не вернулась бы с порога, не расквасилась от жалости к себе… успела бы в треклятую больницу.
В Люсиной взвинченной реальности все кончилось через несколько минут.
Встали на очередном светофоре. Андрей спросил, тоном немного наигранным (будто придумал наконец: вот же о чем нужно) – откуда ее загар. Люся начала отвечать и назвала его Лешей. Слетело с языка. Так вышло.
И невозможно было ни извиниться, ни перевести в шутку.
По встречке тянулась колонна междугородних автобусов. Красивый вишневый цвет, желтые волны по бортам. Ей почему-то запомнилось.
Мотель был уже не нужен. Вот уж точно – невозможен. Надо же! И как такое в голову могло прийти?
– Андрюш, прости… Отвези меня, пожалуйста, обратно. В Платоновку.
Он как ни в чем не бывало перестроился в правый ряд – к эстакаде и на разворот. Как будто: «Сам хотел предложить. Опередила».
Подъем закончился, справа открылась Платоновка. Деревья и крыши, на солнце сверкают стекла в одном из домов. Андрей съехал на обочину и остановился.
– Постоим немного?
– Конечно.
Он открыл окно, потянул сигарету из пачки.
– Будешь?
Закурили.
«Одежда провоняет, Маша будет морщиться».
– Ты Оксану видела? В Сети?
– Да.
– Оксана в день похорон хотела тоже к Леше на могилу… попасть. Просила меня… Чтобы я ее свозил, вечером. Но как я? – Он дернул плечами. – Я Маше помогал, все устраивал. Потом, вдруг заметили бы. Отказался. Было бы нехорошо, если бы заметили. Правильно?
– Правильно. Или нет. Откуда мне знать.
Он посмотрел на нее. Не стала поворачиваться. Не хотелось поддерживать разговор. Больше не хотелось. Все, казалось, произносится теперь только для того, чтобы загладить неловкость. Сделать вид, что – ничего, нормально, всякое бывает.
– Я, знаешь, все думаю про Оксану… как она там, с Лешей… в больнице… сидит, не понимает, во что вляпалась… сидит, ждет взрослую тетеньку, которая сейчас приедет и все решит…
«Так! А вот сюда теперь не надо. Не надо теперь».
– Докурил? Поехали.
Застали представление в полном разгаре. Леонтий на такие был мастер – это Люся знала. Когда-то Леша и Маша, на фельетонный манер, рассказывали ей в два голоса, как бузил свекор – в прошлый запой. Своими глазами, правда, наблюдала впервые. И было совсем не до шуток.
– Что ты, сука, молчишь?! – орал он, покачиваясь и растопыривая локти. – Брезгуешь говорить со мной? Ты ж смотри, твою мать!
Маша, поджав губы и поглядывая на пьяного Леонтия так, будто раскапризничался ее подопечный, вредный и безнадежно избалованный ребенок, но отшлепать никак нельзя, приходится ждать, пока услышат и прибегут родители, продолжала прибираться во дворе перед домом. Расправила половую тряпку, только что вымытую в ведре, подошла к крыльцу, перекинула тряпку через перила. Заметила Люсю с Андреем в воротах, но виду не подавала. Наклонилась к ведру, взболтала, выплеснула грязную воду на увядшую грядку. Леонтий резким черпающим движением попытался ухватить Машу за локоть, но промахнулся. Зашатался, переступил несколько раз, ища равновесия. Постоял, подумал – и смачно плюнул на только что вымытую брусчатку.
– Была бы нормальная, разве б он от тебя гулял? – выкрикнул Леонтий и рукавом вытер губы. – В могилу загнала. Тварь. Никогда тебе не прощу. Ясно?
Маша молча занималась своими делами – но не забывала посматривать на Леонтия. Продолжай, мол, слушаю.
Люся шагнула во двор. Андрей следом. Она вздрогнула от неожиданности – не услышала, как Андрей вышел из машины и встал у нее за спиной. Кивнул вопросительно Маше: что делать? Маша скривилась: да ничего не делать, ерунда. Люся представила, как Андрей сейчас уедет, и они с сестрой останутся одни с буйным пьяницей. Вся надежда на Мальчика. Тот лежал неподвижно, наблюдал. Леонтий стоял от него слишком далеко – цепи не хватит.
– Думаешь, устроилась?! Думаешь, сжила Лешку со свету и устроилась тут?! А на вот, это вот видала?!
Леонтий хлестко хлопнул левой рукой по правому плечу.
– Поняла, сука? Чтобы сорок дней и – все, духу твоего здесь не было. Ясно?
Он размашисто шагнул вперед и, низко наклонив голову, чтобы перехватить взгляд невестки, сказал с какой-то новой, разнеженной злостью:
– Не жить тебе здесь. Запомни.
Маша накинула платок на голову, затянула узел.
– Ничего, – сказала она. – Бог даст, проживем. У вас не спросим.
– Да заткнись ты, сука, богомолица нашлась!
Андрей все-таки вмешался.
– Уважаемый, – протянул он руку к Леонтию. – Давайте я вас до дома подвезу.
– Что-о-о? Ты что за хер с бугра?
Андрей вовремя шагнул в сторонку. Леонтий влип в газовую трубу.
Люсе было страшно. Вот он – в двух шагах. Рассмотрела слюну, забрызгавшую подбородок – хорошо прорисованный, с неглубокой ямочкой подбородок, совсем как у Леши. Испугалась всерьез, но стояла, не шелохнувшись, как зачарованная наблюдая за Машей – любуясь каждым ее движением, плавным и свободным, ничем не стесненным… «Вот же он, Машенька, в двух шагах… а ты его дразнишь». Слова слились в сплошное матерное рычание, Леонтий кинул себя вправо, влево и, выправив наконец траекторию, пошел на Андрея.
– Уважаемый, ну что вы, честное слово.
Люся видела, как Маша подошла к Леонтию с лопатой наперевес, слышала, как в живот ему с тяжким отрывистым звуком врезался черенок. Леонтий выдохнул всем нутром… будто вынул и сунул Люсе в лицо свой желудок… и рухнул, заранее свернувшись калачиком. Мальчик, не выпрямляя лап, подполз чуть ближе к Леонтию – но тот по-прежнему оставался на недосягаемом расстоянии. Маша поставила лопату к забору.
– Андрей, вытащить помоги, – попросила она.
Подхватив под руки, Андрей с Машей поволокли в ворота хрипящего, по-рыбьи разевающего рот Леонтия – и где-то там, за забором его громко стошнило.
– Езжай, Андрюш, – проговорила Маша. – Спасибо. Езжай, ничего не будет, не думай.
– Уверена?
– Уверена. Езжай.
Андрей присылал ей эсэмэски, звонил. Предлагал встретиться. Первый блин комом. Говорил, что вспоминает о ней целыми днями. Она соглашалась так, как обычно соглашаются, чтобы мягко отказать. Да-да, как-нибудь – непременно, но пока никак, ох, ах.
Больше не нужен. Спасибо. Продолжения не будет.
Не могла ему этого сказать.
То есть – могла бы. Но нужно было собраться. Чтобы сказать так, нужно было снова стать собой. Нужно было выбраться из путаного незнакомого пространства, в котором она очутилась – где много молитв, но мало радости, где Маша заслуженно уцелела, а Леша совсем наоборот. Нужно было вернуться к прежней, собственноручно отстроенной жизни, чтобы снова научиться легко говорить и делать, как хочется.
Оставалось переждать последнюю неделю.
Выручала домашняя рутина. Мыла полы, помогала готовить. Ходила в магазин. Шла каждый раз, как голая, через площадь.
Ей-то казалось, нигде уже не разглядывают пришлых с таким азартом, с таким пристрастием. Разве что в недосягаемой какой-нибудь глуши, специально отобранной на кастингах, досочиненной, докрученной, киношной. «Что нашли-то во мне, какой интерес?» Леша и Маша рассказали ей когда-то множество историй. Про местных. Множество колоритных и забавных персонажей было вынуто тогда из небытия – тот мужик, у которого баркас во дворе гниет, та тетка, у которой козел на крышу забрался, – повеселили и благополучно в свое небытие вернулись. Никого не запомнила. И вот кто-то ей кивал, кто-то с ней здоровался – осторожно, как бы на пробу. Тот, у которого баркас? Та, что с козлом на крыше? Никто не заговаривал (за что она была им безмерно благодарна). Видно, еще не время. Проходил некий ритуал, Платоновка переводила ее из категории «что за фифа залетная» в категорию «то ж Люська, Машкина сестра». Немного подождать, не забывая сохранять желаемый образ, и все свершится в положенный срок.
А город даже слышно, не нужно и слух напрягать. Жиденькие платоновские звуки запросто перекрикивает распластавшийся под боком город-миллионник. Шум с проспектов прошивает здешние улочки насквозь, вокзальный диктор вещает в каждом дворе. И вот надо же – глазеют из-за заборов…
Ольга, показалось, приревновала ее к Маше.
Но причина нарочитой прохладцы могла быть и в том, что Люся не стала ходить с ними в церковь.
Маша не настаивала. Ни разу не посмотрела с многозначительным сожалением – как Ольга. Отпустила. Молча согласилась с тем, что младшая сестра внушала ей всем своим видом: не мое это, Машенька, не место мне там.
Катя не выдержала, снова спустила Мальчика с цепи. И он убежал со двора. Носился, одурелый, по Платоновке, в репьях от хвоста до ушей. Придушил на дальней окраине цыпленка, Маше пришлось расплачиваться с хозяином.
Собрали урожай слив. Ольга настояла: «Ну что они сгниют». Весь оставшийся день выковыривали косточки, варили варенье и повидло. Хватило и на следующее утро, провозились до обеда.
Однажды Ольга привела Катю домой.
Растеряна донельзя, но глаза сухие. На виске свежая ссадина.
Люся шагнула навстречу.
– Что случилось, Катюш?
Не отвечая и на Люсю не глядя, поднялась к себе в мансарду. Наметила сразу новую дистанцию: все, никаких сюсюканий из вежливости, надо будет – сама заговорю.
– Мимо проходила, – рассказывала Ольга Маше. – Ну, ты знаешь, я всегда там хожу. Оно дальше, но дорога ровней. Задержалась немного под окнами. Сначала подумала: показалось. Потом слышу – точно, Катька. Забежала, а этот гаденыш руки ей крутит.
– Дальше.
– Ну, я крик подняла, он сразу смылся. Вовкин дружок.
– Там сейчас?
– Нет. Я Кате и говорю: «Пойдем сейчас же домой». Ну, и она сразу: «Да, тетя Оля, идемте».
Маша дала дочке день отмолчаться и вечером поднялась в мансарду.
В основном говорила Катя. Начав бодро и как будто насмешливо рассказывать, вскоре принялась невесело чему-то удивляться, дальше и вовсе сбилась на плаксивый тон. Маша бросила что-то жесткое, совсем не жалостливое – и разговор был окончен.
Люсе Маша ничего пересказывать не стала. А та не расспрашивала.
Оставалось совсем немного.
Швабра, кухня, сливовое варенье – в самый раз, чтобы скоротать последние дни.
И все разложить по полочкам.
Все, в принципе, просто.
У Леши была любовница.
Маша очень мучилась, но нашла опору в боге.
А Леша в церковь не пошел, продолжал грешить. А потом умер.
Инсульт. Не спасли.
Леши больше нет, есть Маша и Катя, есть Ольга – от них неподалеку, на подхвате, всегда готовая пережить, как свое, чужие крохи – сколько дозволено. Остался свекор Леонтий. Буйный во хмелю. Но Маша уверена, что справится. Ничего не будет.
А Люсе пора. У нее работа. И совсем, совсем другие сюжеты.
Маша с Катей как раз были в церкви, когда она – еще разочек, последний – полезла в Интернет, посмотреть на Оксану. Можно было просто перейти из поисковой строки на страницу. Но так она уже делала – так видишь аватарку и столбик общей информации: профиль открыт только для друзей. Долго рыться не пришлось. Маша не преувеличивала: Леша не умел или не хотел ничего прятать. «Нельзя с такими привычками заводить любовниц, Леш. Неуважительно – по отношению к обеим». На флэшке папка «keys» – «ключики», стало быть, в ней все пароли.
Люся пересмотрела ее фотографии. Красивая улыбка. Яркая. Когда не улыбается, рот крупноват. Чувственный рот. И не сказать, что губы эталонно красивы: нижняя растянулась чуть шире, чем нужно… уголки книзу… но в этой неправильности – что-то притягательное, своя собственная, вне геометрии состоявшаяся, гармония. Она проглотила их переписку. Торопилась: вдруг Маша с Катей уже возвращаются, вдруг раньше обычного. Перечитала еще раз, медленно. Леша был лирик. Наивно, местами приторно. Наверняка был влюблен.
Дочитав, закрыла его аккаунт и отправилась курить. Сейчас покурит, подметет вокруг дома, придумает еще что-нибудь полезное, потом вернутся Маша с Катей (и к ним, скорей всего, присоседится Ольга) – она предложит им чаю… рассядутся пить чай со свежеприготовленным повидлом…
Не стала даже прикуривать. Вынула сигарету из пачки и поняла: все, не помогает. Рутина больше не действует.
И еще поняла – не сможет сейчас спокойно встретить Машу. Спокойно с ней заговорить. Спокойно сесть за один стол. Чай разлить по чашкам. Смотреть на нее, спрашивать, отвечать. И снова, в который раз – не посметь сказать то единственное, что давит и рвется наружу: «Машенька, ну как же ты к нему не поехала?»
Другая женщина. Измена. Счастье закончилось. «Как я без Леши?» Люся старалась, но никак не могла из всего этого – из этих колючих, болючих, но пропитанных жизнью… все-таки жизнью, деталек – сложить безысходный финальный ужас. Лежать в коридоре на облупленной каталке. Вечер и всю ночь… Больше ничего не будет. Коридор. Любопытные взгляды. Это все. Ненадолго в палату и сразу в морг – и вот уже умелые крепкие руки в резиновых перчатках намыливают, переворачивают с боку на бок.
Как она сумела убедить себя, что можно было, что правильно было не ехать? Молитвы из зеленого буклета… трижды в день… «бухла на поминках не будет»… выжить – и вцепиться намертво в благочестивые мелочи… верить во что-то, в чем закончился воздух прощенья…
Может быть, ей нужно к Оксане? Может быть, там отыщется объяснение. Все не так – все вот как, смотри. На одном из кадров – там, где Оксана выходит из подъезда – был номер дома. Улицу Люся знала.
Вернулась Маша с Катей. Ольги с ними не было, зато явился незнакомый мужчина лет тридцати в нелепом джинсовом комбинезоне. Сам худосочный, голова – как тыква.
Остановились сразу за воротами.
– Но давайте по-взрослому, – сказал он. – Мы не обязаны из-за вас страдать.
– Вчера вечером ходила, искала, – оправдывалась Маша. – Не нашла.
Люся догадалась, что речь о собаке.
– Снова цыпленка сгрыз? Мерзавец.
Человек в комбинезоне посмотрел на нее хмуро: вы тут, что ли, шутить пытаетесь?
– Ребенка покусал, – сказала Маша, опуская глаза. – Ногу прокусил. Зашивали.
Катя спросила:
– Точно наш?
– Да ваш! – Мужчина начинал нервничать. – Так что давайте. Вперед и с песней. Сутки даю. Достаточно.
– Да что ты их уговариваешь, Леня? – послышался из-за забора женский голос.
Женщина – крепкая, с тугими широкими икрами – появилась справа от ворот, где заканчивалась кирпичная кладка и начиналась сетчатая ограда.
– Ты у меня пожалеешь! – бросила она Маше. – Не запрешь собаку свою – о-о-ох, горько пожалеешь. Богом клянусь! Тебя саму так покусают, мало не покажется.
Помахивая куском свиной грудинки, Люся шла по Платоновке.
– Мальчик! Мальчик! Ко мне!
Люди выходили во дворы, советовали свернуть направо или налево – вроде, там видели недавно, бегал. У дома Леонтия сидела Алла на полусгнившей лавке, лузгала семечки.
– Мальчик! Мальчик! Ко мне!
От свинины рука ее стала скользкой, сальной.
– Мальчик! Мальчик!
Мальчик лежал посреди перекрестка. Встал, глянул на приманку, на Люсю, дернул обрубком хвоста – словно усмехался: ты серьезно? нашла, что ли, дурней себя?
Люся собралась звонить Маше – та шла по соседней улице. Мальчик фыркнул и не спеша затрусил прочь.
Ходили несколько часов. Больше он им не попался.
Наутро мохнатая собачья туша лежала возле ограды.
Две дырки посреди просторного лба. Крови немного.
Вчетвером – Люся, Маша, Ольга и Катя – повезли Мальчика к реке на садовой тележке.
На крутом спуске еле удержали. Катя упала, перепачкалась.
Копали яму в мясистой, воняющей тиной земле.
С городского берега, как обычно, пялились многоэтажки.
На правой ладони от черенка лопаты у Люси вздулся волдырь.
– Папа его из пипетки вскормил, – сказала Катя, глядя на выросший холмик с темными рыхлыми боками.
Без слез, сухо.
«Как они с Машкой похожи».
Постояла немного и первая двинулась обратно, вверх по склону.
– Оксана, я сестра Маши, вдовы Алексея, – выпалила она заготовленную первую фразу, десятки раз прорепетированную мысленно по дороге и все-таки прозвучавшую диковато – эта с чрезмерной грамотностью вставленная на место «жены» «вдова», как она и опасалась, резанула ухо. – Я пришла поговорить.
Звякнуло вино о банку консервированных персиков – получилось глупо: дзинь, пришла не с пустыми руками.
– Что вам нужно?
– Ничего, правда. В смысле, ничего определенного. – Заготовки закончились. – Поговорить. Правда, Оксана, я без скандала. Откройте, пожалуйста.
Оксана раздумывала дольше, чем она могла ей позволить.
– Мне очень нужно, пожалуйста, откройте.
Открыла.
Заспанная. Звонок в дверь ее разбудил. Насторожена. Давай скорей, сестра вдовы… что там тебе очень нужно… Волосы с правого боку свалялись и встали торчком.
– О чем вы хотите говорить?
Отступила на шаг, пропуская.
Люся понимала: вид у нее нелепый – в обнимку с бумажным пакетом из супермаркета.
Что-то в этом девчачьем лице с красными зареванными глазами, с красным носом… в ее доверчивом бледном лице… в этих тонких руках, обхвативших локти… в этом шелковом бирюзовом халатике… успокоило Люсю.
– Понятия не имею. О чем получится, – ответила она так, будто приехала к давней подруге скоротать по-свойски вечерок.
И скинула туфли.
Впервые за много дней казалось, что она контролирует ситуацию.
– Просто посидим, и я уйду.
У нее губы обветрены. Вдруг осознала совсем уж неожиданное: хочется коснуться рукой. Просто потрогать, помять – ощутить, как устроен этот рот. Неправильный, но чувственный. Леша так делал?
– Можно руки помыть?
– А… Да. Ванная там. Полотенца в шкафчике. Берите любое.
Смотрела ошарашено.
– Куда? – качнула Люся пакетом с провизией, на этот раз намеренно добившись красноречивого звяканья. – Тут вино и все, что под руку попалось. Кешью, шоколад, консервированные персики… что там еще… оливки… и маслины заодно.
– Давайте. – Оксана забрала пакет.
– Меня Люда зовут.
– Знаю. Леша рассказывал.
В ванной Люся управилась быстро. Торопилась – не вспугнуть бы момент, собственное настроение. Не могла больше: думать, чувствовать – и ничего не делать. Но дальше все сыпалось само собой.
Оксана сидела у стола – бочком, на краю углового диванчика. Отвернулась. На столе пакет. Рядом бутылка бургундского. Начала, наверное, выкладывать и – резануло: с Лешей так же садились. Вино, свечи.
– У меня отпуск заканчивается, – сказала Люся, подходя, и принялась выкладывать на стол остальное. – Я должна была с вами увидеться.
– Да, – сказала Оксана, не поднимая глаз; было непонятно, с чем она соглашалась, но не уточнять же. – А мне отпуск дали, – добавила осипло и откашлялась. – Я не просила. За меня попросили. Дали отпуск. Не могу работать. Сплошные ошибки.
– Много дали?
– Две недели. Все смотрят. Болтают за спиной.
– Я похозяйничаю, ладно? Чтобы вас не беспокоить.
Вазочки для персиков и ананасов нашлись в ящике со стеклянной дверцей. Там же два подсвечника – стеклянные шары. Витые до половины сгоревшие свечки. Коробка спичек. К бабке не ходи: Леша зажигал эти свечи этими спичками. Вынимал из коробка, чиркал. Что-нибудь говорил. Шутил. Он всегда много шутил. Или с ней бывал другим? Притихшим? Сентиментальным?
– Он сюда приходил?
– Сюда.
Накрыв на стол, Люся достала свечи. Говорила без умолку – чтобы отвлечь, не дать ей расплакаться в самый ответственный момент, пока зажигаются свечи. Перешла ненароком на «ты» и уже не стала поправляться, испрашивать разрешения.
– Не знаю, зачем я пришла. Возможно, зря. Как только я стану в тягость, ты скажи. Намекни, и я уйду. Хочется запомнить, какая ты. Не могу объяснить, зачем ты мне. Но вот так.
Первая свеча зажглась.
Оксана наблюдала, не отрываясь, за ее руками.
– Сегодня поняла, что все эти дни хотела с тобой увидеться.
– Спасибо.
Вторая свеча.
– Я тут совсем одна, знаешь.
Выключив люстру, Люся села за стол, разлила вино по бокалам. Оксана развернулась лицом к столу.
Она не выглядела хрупкой. Сложное сочетание: подростковые ломкие линии, тонкая кость и при этом – сочная женственность. Настоящая, природная. Которая сама по себе, сама себя не замечает. Она отзывчива. Мужчинам нравится ее опекать. И Леше нравилось. Она решила – это может быть надолго, почти навсегда – ну и ладно, пусть он женат.
Даже такая, только что оторвавшаяся от подушки… сколько она так – поплакала, подремала… даже такая она сохраняла обаяние; подавленная и раскисшая, умудрялась сплести эту цепкую паутинку.
– Не знаю, Оксан, насколько правильно. Для меня. Для тебя. Но…
– Я теперь совсем одна. Совсем-совсем. Даже в детстве не было такого одиночества.
Люся дотронулась до ее руки.
И все. И как будто открыли окно – и хлынуло. Как будто шагнула под птичий гомон, под живительную прохладу из вязкой, пыльной духоты.
– Я хочу к нему на могилку. Это можно? Я не решаюсь. Боюсь столкнуться с его женой… Я даже по имени ее называть не решаюсь, никогда не решалась… Когда Леша в разговоре называл ее по имени, мне так неуютно делалось… Как будто – все, что угодно, только не называй при мне по имени… Сначала казалось унизительно… говорила себе: а ты думала, как это бывает… – Она отпила. – Леша тоже такое покупал. Меня приучил. Я сладкое раньше пила… Можно передать через тебя? Кате… можно дочке его передать… что он… очень ее любил… не знаю… нет, наверное, не надо… не надо, – заключила тверже. – Зачем это? Нельзя.
Встретились взглядами.
– Знаю, я столько боли ей причинила… Я не хотела…
Халат одернула, потрогала припухшие веки.
– Я во всем виновата, да?
Люся прервала ее торопливым жестом.
– Не надо со мной об этом. Хорошо? Не хочу про это.
– Ладно.
– Совсем. Про то, кто виноват.
– Ладно.
Лицо, руки, колени, вырез халата – Люся открыто ее разглядывала. Оксану не смущало. Как будто признавала за ней такое право: ну да, что такого, надо ей – пусть рассмотрит.
– А ты как меня нашла?
– На фотографии подсмотрела номер дома. Внизу у тетеньки спросила квартиру. Она на лавочке сидела.
Баба Зоя, она всегда там сидит. Когда Леша делал тот снимок, баба Зоя тоже на лавочке сидела. В кадр не попала. Я выходила, а он щелкнул неожиданно. А баба Зоя сказала: «А-а-а, попалась!» Я сама с ней как-то не очень общалась. Но Леша с ней дружил. Разговаривал. Смотрю в окно – подъехал. Жду, жду, нету. Потом приходит. С Зойкой, говорит, беседовали, записывай: Мишка из сорок шестой квартиры барыга, а Семеновы после ремонта собираются квартиру продавать… Она на днях спрашивала, когда Леша объявится. Давно, мол, не видно. Я ответила, что он в отъезде… Не решилась сказать…
– Может, и не надо.
– Да надо, конечно. Лучше сразу – попричитает, и все закончится. А так…
Легко не стало. Но теперь Люся точно знала, что этот неправильный выбор – приехать к Оксане – что каким-то запутанным и необъяснимым, но совершенно неопровержимым образом этот неправильный выбор единственно верный. Для нее, лично для нее.
– Платье испачкала на кладбище, – сказала Оксана. – Не стираю. Земля пахнет…
Настала ее очередь помолчать. Устала – столько слов.
Но Люся ей помешала: рано было молчать. Было не о чем пока молчать.
– Про меня Леша рассказывал?
Сделала глоток. И Оксана следом.
– Конечно. Что ты была в него влюблена.
– А еще что? А он?
– Что он?
– Он был в меня влюблен?
– Н-нет, ничего такого.
– Что еще говорил?
– Да ничего. Просто обмолвился.
– Вот как.
– Знаешь, эти ночные разговоры… вроде отчетов, кто как жил… кто кого любил… Он всего-то два раза на ночь оставался. Но если не считать, то кажется, целая жизнь.
«Ну вот, – сделала Люся пометку. – Мелькнула я, стало быть, строчкой в ночном отчете: еще в меня была влюблена младшая сестра жены. Вписал. Перешел к следующему пункту. Становитесь, девки, в кучу».
Сбилась. По дороге собиралась наговорить много чего – про то, как поначалу старалась выбирать парней, похожих на Лешу, как мало в этом преуспела…
И раздумала вдруг откровенничать.
– Мы в ресторане собирались посидеть. Давно не получалось. Леша переживал: обещал, и все никак. Собрались, наконец.
Пожалуй, этого было не избежать: Оксана принялась рассказывать о последней ночи. Как не подходили врачи. Как она звонила подружке. Посоветоваться. «Что делать? Он лежит, ему хуже». А подружка сразу все поняла и сказала: «Звони жене, Ксюш. Звони…» Эти звонки, подслушанные медсестрами… звонки все решили. С самого начала не заладилось, пошло вкривь и вкось. «Вы жена?» – спросили. «Нет». – «Родственница?» – «Нет». Звонила – сначала подружке, потом Маше. Медсестры подумали-подумали… городская больница, недалекие толстокожие бабы – решили промеж себя: «Пусть жена уже подъедет. Мало ли. Эта ей позвонила, вроде». И Леша – это недолго – из тяжелого пациента превратился в героя сериала. «Кто у вас там в коридоре? С вечера ж лежит». – «А зайди, дверь закрой, сейчас расскажем».
Оксана плакала у Люси на плече:
– Своди меня на могилу. Пожалуйста, пожалуйста.
«Спасибо, Лешенька. Легче. Лучше, наверное, так – выгореть в пустоту, но стать свободной. Легкой. Научиться жить проще. Где-то досочинить, где-то принять, как есть. Не обязательно горячо, может быть, и тепло. Тоже сгодится».
Дома Маша звонила клиентке: готова выйти на работу, сидеть с ребенком.
– Что делать, Тамара Борисовна, нужно себя содержать. Мужа больше нет. Муж не прокормит… Да. Спасибо, Тамара Борисовна. Если вы не против, я с понедельника. Как обычно? С восьми до четырех?
Билет взяла на самолет, хотя собиралась на поезд.
Уговорила Машу не провожать ее.
– Ну что ты будешь таскаться лишний раз? Тебе оно надо?
На самом деле хотелось поскорей остаться одной, поскорее оттолкнуться от сурового Машкиного берега.
Маша это поняла – и перестала настаивать.
– Ну, езжай. Вещей немного.
Долгий, долго гаснущий взгляд. Прощалась с младшей сестрой. Как бы дальше ни повернулось – обе знали: все между ними заканчивалось. Все уже отдалилось и стало по-настоящему прошлым: книжки, прочитанные вместе, с фонариком за полночь, тайком от мамы… игра в секретики… взросление – сначала Машино – разделяющее, вдруг прочертившее между сестрами пустоты и провалы, потом – Люсино, побежавшее вдогонку: ах, вон оно что, и я теперь знаю, и я как ты… и даже взрослая, ровная нетребовательная дружба их – заканчивалась.
Больше ничего этого не будет.
Выезжала с первым автобусом, за четыре с лишним часа до рейса: «Чтобы не рисковать. Эти ваши пробки».
Посидели на дорожку. «Чудотворец Николай, освети путь мой неблизкий…» Маша перекрестила сестру, улыбнулась.
– Я буду звонить, и ты сама звони. Как только буду нужна… Ладно, Маш? Сразу… Хорошо? Маш? Договорились?
– Договорились.
Обнялись торопливо. Потом с Катей.
– Катюш, и ты, при первой необходимости, ладно? Обещаешь?
– Да.
Все, вырвалась.
Через пять минут она была в автобусе. Через час в аэропорту.
Табло, чемоданы, суета. Где-то там, по ту сторону от зоны досмотра – самолеты. Один из них взлетит и понесет ее отсюда.
Но нет, не получилось.
Не смогла.
«Напоследок, – твердила она себе в такси. – Напоследок. Так нужно».
Дом оказался недалеко от аэропорта.
Таксист помог вытащить сумку.
Баба Зоя – как положено, сидела на лавке.
Оксана открыла, удивленно посмотрела на сумку, на Люсю.
Она вошла и закрыла дверь.
– На секунду. Проститься.
– Проходи.
– Нет… я… Стой…
– Что?
Подошла вплотную, провела пальцами по ее губам. Оксана отпрянула испуганно к стене.
– Ты что?
Схватила, накрыла этот трепещущий, зовущий рот ладонью – вот так, смять, почувствовать его отзывчивую упругость.
«Леша так делал? Делал так? Потом расспрошу».
Пощипывает кожу – лопнул волдырь.
Оксана вырвалась. Скользнула в угол.
– Ты что? Перестань.
Испуг. Кровь прихлынула к скулам.
Красивая какая.
– Не перестану.
Дернула пояс халата, полы порхнули в стороны.
Наваждение не отпускало, выстукивало напористый ритм в висках. «Вот и хорошо. И хорошо. И пусть будет так, как нельзя. Пусть будет».
– Люся, – забормотала еле слышно, – отведи меня на могилку. Пожалуйста. Люся.
– Молчи.
– Не надо.
– Сейчас же замолчи.
– Отведи…
– Все. Отведу. Завтра. Замолчи.
«Вот за это… за это… Леша поплатился вот за это».
Маша устроилась нянькой на целый день. Богатая семья, платят прилично.
Мать выбралась на сорок дней. Собиралась с Вадиком – но у того не сложилось: срочный большой заказ. Отпустил – ничего не поделаешь, нанял помощника.
Леонтий попытался подать заявление в суд – потребовать долю в Лешином доме. Но оснований никаких, заявление у него не приняли.
Алла распускает слухи, что Маша не позволила врачам сделать мужу важное обследование – от этого он и умер.
Скандалы участились. Леонтий напивается, вламывается во двор, орет. Приходил однажды с намотанным на руку ремнем. Замахивался, но ударить не посмел.
Катюша снова сошлась со своим Вовой, снова пропадает допоздна.
Ольга сначала шпионила за ними, прогуливаясь мимо флигеля, в котором живет «женишок», потом и вовсе стала туда наведываться. А если не открывают, стучит в окно: «Кать, у тебя все нормально?»
Маша затеялась выращивать цветы. Вечерами сидит на веранде, любуется. Решила поставить на могилу Леше дорогущий памятник. Лешиных сбережений хватит как раз. Из черного мрамора, со вставками кованого металла. Объездила мастеров, выбирает из двух вариантов: со скорбящим ангелом (низко склоненная голова, обвисшие до земли крылья) или просторная площадка с беседкой (ажурные резные балясины, решетки, византийская вязь по перилам). Ольга советует вариант с беседкой.
Люся тоже приезжала на сорок дней. К Оксане не наведывалась. Не звонит и в Сети не переписывается: незачем.
Происхождение
Когда свершится будущее, где-то там, на другом конце жизни, девочка Яна с удивлением обнаружит себя одинокой старухой, надевшей новый байковый халат (синие цветочки на коралловом фоне) к приходу разносчицы пенсий. Пожмёт плечами, отвернётся от своего непрошеного отражения в оконном стекле, продолжит мысленный разговор с Шурой-из-собеса – женщиной недалёкой, но в целом неплохой (старший сын таксист, дочка разведена). За умеренное вознаграждение Шура вымоет полы и сходит в магазин. Хочется шоколадных батончиков. С орешками. И с вафельной крошкой. Впрочем, Шура будет ещё нескоро. Будущего у Янки много, невообразимо много.
* * *
Читать надоело.
Из окна пахнет листьями.
Зубы действительно кривые. Придётся соглашаться на пластинки.
Туман расползается как молоко в чае. Когда добавляешь по капле.
Папа не любит, когда – по капле.
«Хватит цедить. Налей, сколько нужно!»
Ужинать велено самой. Родители заскочили в гости.
На заборе сидят мальчишки, над забором сорока в матовой пустоте машет чёрно-белыми флажками.
Родители придут нескоро, а когда придут, будут допытываться, что ела.
Вымазала нож в масле, положила в мойку. Скажет, что съела бутерброд.
В Доме творчества травят тараканов.
Жанна Дмитриевна, репетитор немецкого, заболела гриппом.
И вдруг выяснилось, что свободное время – та ещё головоломка. Куда-то его нужно деть.
Однажды давно, Янке было лет пять или того меньше, они с мамой переходили в тумане дорогу, а прямо на них ехала машина. Фары, казалось, вот-вот вылупятся из дрожащего света. Янке стало страшно. Но мама держала её за плечо и шла не спеша, как ни в чём не бывало. Фары лизнули у самых ног. Янка вырвалась, пустилась бегом на другую сторону. Перебежала, обернулась. Взвизгнув по-щенячьи, машина остановилась перед переходом. У водителя было круглое спокойное лицо и пушистые белёсые брови. Совал в рот незажжённую сигарету и смотрел на маму. Запомнился зачем-то. Мама подошла и пробормотала рассеянно, думая о своём: «Смотри, юбку заляпала». Янка посмотрела – и запомнила это тоже, свою заляпанную на подоле юбку.
Травят тараканов, а разбегается гипсовый инвентарь: посреди холла на полу и на ящиках столпились ступни, голени, головы, руки, люди по пояс и целиком. Будто бросились бежать, но остановились в последний момент: куда бежать-то в эдаком виде?
Дружить не с кем.
Родители обещают перевести её в другую школу, хорошую. Там у неё должно появиться много друзей.
У родителей много друзей.
На прошлый Новый год одежда гостей не помещалась в шкаф, её складывали на кровать в спальне. Вырос высокий пёстрый холм. Здесь гладкий, там мохнатый. Рукава будто норы. Когда за столом стало совсем шумно, ушла в спальню расселять по норам цветных змей: отрываешь кусок от конфетти, рисуешь фломастером два глаза – готова змея. Кто-то подглядел в дверную щелку и сказал, отходя:
– Нормально. Играет. Я на стрёме.
Мама иногда курит. От Янки скрывает, прячется на балконе.
Обычно Яна не прочь посидеть в родительской компании. Всё интересней, чем со сверстниками – с одноклассниками или с дворовыми. Но лучше в сторонке. Устроиться на кухне возле горшка с драценой. Прихватить что-нибудь вкусное. И чтоб её не замечали. Особенно – чтобы не замечали те, кто норовит посюсюкать с хозяйским ребёнком.
Папа часто рассказывает о том, как он целый год жил во Владивостоке, и пережил там жуткий потоп. И про заграничные машины, которых во Владивостоке – каждая вторая.
Мама любит вспоминать про свой прыжок с парашютом, про недолгую учёбу в хореографическом училище и про то, как папа за ней ухаживал.
Мамины подруги жалуются на своих детей и хвалят Янку, а мама, хоть и гордится, каждый раз делает строгое лицо: «Хватит. Сглазите мне дочку».
Кроме сглаза мама верит в рассыпанную соль и в то, что нельзя кудыкать под руку, когда она куда-нибудь собирается.
Ещё бывает интересно, когда приходит папин друг Юра, и они сначала поспорят о чём-нибудь политическом, а потом поют под гитару.
Зовут старуху сложно и красиво: Кочубей-Кугушева Н. П. Сложным красивым почерком с завитками и хвостиками это прописано на металлической табличке, привинченной к облупившейся двери.
«Н. П.» – Надежда Павловна.
Но для всех она просто Кочубейша.
– Слушай, а Кочубейша-то жива ещё! – весело кричит папа из прихожей. – Я думал, отмаялась. Ан нет, живёхонька.
– Да, я тоже видела её недавно, – отвечает мама с дивана и, отложив книгу, потягивается с хрустом, вытягивает руки вверх, так, что рукава халата падают к плечам. – Ужинать будешь?
– Обязательно.
Янка смотрит на мамины руки, белые и тонкие, слушает, как папа разувается: снятые ботинки шлёпают басовито, устало, упавшие под ноги тапки шлёпают звонко и радостно, и пытается вспомнить, видела ли она недавно Кочубейшу. Жива ли старуха и для неё тоже.
Подпёртый костылём силуэт, седая макушка.
Вдалеке, на заднем плане.
Ковыляет по узенькому скособоченному дворику. Сидит на площадке наружной лестницы, на специально вынесенном табурете.
Соседские дети забавляются, выкрикивают в мешкотную шаткую спину совиное «ку-гу». И с ноги на ногу переминаются, как совы на ветке. Молчит, чертит костылём как циркулем.
Вот, собственно, и всё. Мало ли на свете старух.
В тот день Янка возвращалась из художки мимо кирпичного дома, и захотелось ей подняться на второй этаж, к огромной сосульке, отросшей от крыши до асфальта. Сосулька была крепкотелая, ноздреватая, с бурым от натёков ржавчины нутром. Через дорогу, возле Янкиного подъезда малыши лепили снеговика. А получалась пирамида. Янка весело и небрежно погладила и похлопала выпуклый хребет сосульки, вспомнив, как поглаживают и похлопывают крупных собак, и, машинально поправляя на плече лямку этюдника, оглядела веранду.
Квартиры налево пустуют, на дверях и окнах решётки. Квартиры направо в таких же решётках. Таблички прикручены: «Не входить!», и череп с костями.
Жильцов в кирпичном доме немного. Потому что он ветхий. Трещина через весь фасад. Несколько раз в году к ветхому дому подъезжает такая же ветхая, кашляющая страшным железным кашлем белая «Волга», из неё выходит молчаливая щекастая тётка. Постоит перед трещиной, посмотрит. Заклеит бумажной полоской с синими печатями, и уезжает.
На первом этаже – пьяница Коля, огромный, как столб, и его собутыльники, которых Коля, случается, колотит и прогоняет. С матерными криками, с беготнёй и добавочным мордобоем «на посошок», если успевает догнать. Есть ещё злобная престарелая парочка Вова и Марина. Если остановиться у них под окном, могут плеснуть чаем или бросить что-нибудь гадкое. Яичную скорлупу, например. Или картофельные очистки. Склизкие, несвежие. Брр…
На дальнем краю веранды Янка заметила тень. Пока гадала: сугроб или человек, – тень шевельнулась. Кто-то стоял за углом. Притаился? Шпионит? Янка подалась было к лестнице, чтобы скорее бежать домой. Но вспомнила, что дома опять – пустые комнаты, не политая с понедельника герань с укором щурит подсохшие цветочки, на кухне моргает красным огоньком автоответчик. Нажмёшь на кнопку, мама скажет с усталым вздохом: «Ты опять где-то веешься. Звоню, звоню. В холодильнике суп. Разогрей. Не бездельничай. Почитай что-нибудь. Звони», – гудок, и красный огонёк погаснет. Передумала бежать. В общем-то, и страшно было совсем немного. Всё-таки ещё светло, возле многоэтажек полно людей, и лестница – рукой подать.
По расхлябанному полу веранды крадучись двинулась вокруг, хитро заходя тому, кто прятался за углом, со спины.
Кочубейша стояла возле перил и трогала снег. Рука дрожала. Рвалась тонкая ледяная корочка, покрывавшая пухлую снежную полоску, порхали сверкающие на солнце струйки. Юбки и кофты, надетые одна поверх другой. Костыль прислонён к перилам. Валенки с резиновой подошвой, следы ёлочкой. Кочубейша растопырила тёмные шишковатые пальцы и, подцепив ломоть снега, поднесла ко рту. Укусила, пожевала. Челюсть ходила потешно, сбивчиво – будто успевала заблудиться на своём коротеньком пути, тыкалась наугад во все стороны. Крякнула тихонько, принялась месить в кулаке снег. Капли мочили край рукава.
Янка наблюдала, затаив дыхание.
«Думал, отмаялась… ан нет, живёхонька…»
Вряд ли папа здоровается с Кочубейшей при встрече. Вообще-то, он только дома, со своими, такой искристый и весёлый. Снаружи, с посторонними – становится молчаливым, суровым. Будто в маске. Выйдет – и сразу надевает. И идёт.
Этюдник гулко боднул перила. Янка ойкнула. Кочубейша повернула к ней маленькую седую голову, и долгополая кожаная складка, висящая над залежами воротников, качнулась. Янка скривила губы: противно… Хуже родинки Жанны Дмитриевны или кровавых заусенцев Кати Родионовой, с которой пришлось сидеть за одной партой в прошлой четверти. Хуже даже, чем потные прыщавые громадины за пазухой у Юленьки, маминой сотрудницы: когда папы нету дома, Юленька любит расстегнуть пуговицы, и обмахивает, промокает себе там платочком, не прекращая разговора.
– Не вижу против света, – проскрипела старуха. – Кто-то незнакомый.
Янка подумала, что пора уходить. Поглазела, и ладно. К тому же, раз тебя не видят, то и грубости нет никакой в том, чтобы развернуться и уйти.
– Кто-то мелкокалиберный, – добавила Кочубейша, и Янка услышала тихий смешок, похожий на птичий клёкот.
Вспомнилось, как дворовые дети кугукают ей вслед… а Кочубейша на сову не похожа… нет, на какую-то другую птицу.
– Здравствуйте, я тут гуляю, – брякнула вдруг Янка вместо того, чтобы уйти.
– А-а-а, – одобрила Кочубейша, обращаясь к пустоте значительно левее Янки. – Я тоже, вот, гуляю. Прекрасный день. Хрустальный.
Она наконец нацелила подслеповатый взгляд на Янку.
– Солнышко, снег. Да.
Янка глянула в позолоченную синеву промеж высоток.
– Да, тихо. Но ещё же все в школе.
– А ты что же?
– Я во вторую смену. К часу.
Янка никогда не была такой болтливой с незнакомыми людьми. Но какая же Кочубейша – незнакомая?
Мама рассказывала, что, когда Яна только-только училась ходить, они вышли на пятачок возле памятника, мама вынула её из коляски и поставила рядом: иди, доча. Яна стояла, держалась за коляску. Не решалась отчалить. Заметила на другой стороне улицы старуху с костылём и, тыча в неё пальцем, принялась возбуждённо что-то объяснять на тогдашнем своём, не ведавшем слов, языке. «Не иначе, требовала предоставить опору, – шутит мама. – Костыль ребёнка явно впечатлил». Папа добавляет: «Уже тогда была смышлёной и ленивой», – и нравоучительно качает головой.
Встрепенулось и выплыло из полумраков забытого одно за другим.
Про блошиный рынок сначала: пока могла дойти до остановки, старуха возила на блошиный рынок какие-то старые вещи.
Её обворовали – она даже в милицию не позвонила.
Кажется, она дворянских кровей. Точно. Папа что-то такое рассказывал Юре, тот увлекается всяким таким дворянским.
Кочубейша выронила спрессованный снежок. Щурясь и покряхтывая, сделала два шажка. Костыль воткнулся под правую руку, фигура обрела знакомые очертания.
– Что это у тебя такое большое на боку?
– Этюдник.
– Ах, вон что! – пискнула радостно Кочубейша. – Этюдник! Какая интересная девочка забрела в мои катакомбы. Обычно сюда мальчишки бегают. Покричат, Колю рассердят… слушаешь потом рулады. Что же ты сегодня рисовала?
– Натюрморт.
– Натюрморт?! А какой, позволь узнать?
– Ваза, камень и груша.
– Чудно. Ваза, камень – и груша.
– Но груша восковая.
– Чудно, чудно… Жёлтая или зелёная?
– Зелёная. С черешком.
– Прекрасно.
Улыбка на изжёванном, обляпанном коричневатыми пятнами лице… Но Янка перестала морщиться. С каждой фразой Кочубейши, то скрипучей, то писклявой (возвышая голос, она попискивала, как дошколёнок) Янке делалось всё интересней. Неприятное переставало цеплять. Повеяло вдруг уютом с обледеневшей веранды. Захотелось сказать что-нибудь такое, что вызовет ответный интерес этого скукоженного существа, мимо которого она могла пройти понизу несколько минут тому назад, не заметив. И старуха наверняка не заметила бы её с веранды – против света. Вон какие глаза – кожистые, тусклые. Не смотрят – ощупывают. Разве что услышала бы шаги. И что-нибудь хорошее подумала бы об этих шагах. «Лёгкие», – например: «Какие лёгкие шаги». И звук Янкиных шагов присоединился бы к вкусу проглоченного снега, и ко всему тому, что старуха насобирала за сегодняшнюю прогулку. Потом к звуку Янкиных шагов присоединилось бы что-то следующее, потом ещё, и ещё – пока старуха не устанет низать своё ожерелье.
Можно про грушу ещё сказать. Здорово намучилась Янка с грушей.
– Груша труднее всего была. Тени пока прорисуешь…
– Да-да, – согласилась Кочубейша. – Понимаю… Я тоже когда-то рисовала.
– Правда?
– Очень давно… А вчера ветер кусался как собака, носа не высунуть. У меня так в форточке свистало, на разные голоса. Концерт!
– Рамы рассохлись?
– А? Да, рамы… Я газетой затыкаю. В прошлом году проигрыватель сломался. Раньше, когда ветрено, я пластинки ставила. Милое дело… Да.
Сердце у Янки заныло. «Одиноко ей», – догадалась. Но тут же подумала завистливо, что старуха, похоже, умеет с этим справляться. Без всяких друзей, сама. А она, Янка – не умеет.
Пока старуха кряхтит в сортире, приходится ошиваться неподалёку. Для соседских глаз, которые могут подглядывать из провалов распахнутых окон, Янка делает вид, что она сама по себе: ходила-гуляла, заглянула вот в кирпичный дворик. Чего б не заглянуть. Мимоходом. К тому же здесь тень. «Фух, какая жара», – время от времени картинно машет на себя ладошками. Старательно изображает обычную дворовую девочку, которая не застала во дворе подружек. Покачается на липе, нацарапает крестики-нолики в подсохшей луже. Посмотрит на муравьёв, снующих в кирпичной трещине. Как они тащат в темноту, в невидимую потайную глубь, травинки и соринки – свои муравьиные кирпичики. Интересно и немного жутковато – смотреть и представлять, как внутри человечьего дома, поперёк всего, над головами, под ногами у жильцов, кипит невидимая, неслышимая стройка. Растёт новый муравьиный дом. И когда-нибудь прорастёт насквозь. Стены рассыплются. Вывалятся мебель, одежда, телевизоры, посуда побьётся вдребезги. Сами жильцы будут лежать вперемешку с мебелью и битой посудой, в неудобных вывернутых позах, как куклы на помойке.
Но старуха, конечно, спасётся.
Янкин папа говорит, что даже находиться возле кирпичного дома смертельно опасно.
– Это же смертельно опасно, как ты не понимаешь! Совсем не понимаешь, да?! Инвалидом хочешь остаться?
Ругается, велит маме запретить Янке сюда ходить.
Но мама перестала делать то, что велит ей папа. Без всяких ссор. Просто взяла и перестала, и всё.
Так даже лучше. Когда они с папой ссорились, ходили потом с покорёженными лицами, и каждый норовил Янку побаловать: то вкусного принесут, то книжку почитают. Папа «Тома Сойера», мама «Алису в Стране чудес». Янку ни вкусности эти, ни книжки не радовали. Потому что было это – ненастоящее. А в ненастоящем хуже всего то, что после него даже самое настоящее как будто слегка привирает.
Теперь родители не ссорятся. Книжки так и лежат недочитанные, высунув закладки, как языки. У «Тома Сойера» зелёный, у «Алисы» жёлтый.
Главное, не прозевать, когда старуха заворочается в щелястой кабинке, заскребёт костылём и, тараща водянистые глаза, высунется в солнечный свет.
– Яночка, – протяжно зовёт она, не находя перед собой протянутой руки. – Я-а-аночка.
И тогда всем, кто прячется за окнами обступивших Янку многоэтажек, становится ясно, что она здесь вовсе не сама по себе, а как раз таки со старухой. Привела её, стало быть, в туалет. Сейчас поведёт обратно. Вниз по горбатой тропинке, вверх по железной лестнице – медленно, долго, с бесконечной передышкой на площадке между пролётами.
До лестницы дотягиваются ветки липы: просовывают изумрудные листики в решётку ступенек. Янка со старухой ступают прямо по листьям, оттаптывают их нещадно. Узловатые скрюченные пальцы – когтистые корешки – крепко обвивают Янкино запястье. На запястье остаются синяки. Заметив их, мама учинила допрос, откуда синяки, кто наставил. Янка подумала, и соврала: не было настроения рассказывать правду. Сказала, что на перемене играли в ловитки, и кто-то схватил её, спрятался за ней от лова.
– Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо, – не переставая, нашёптывает старуха, переставляя непослушные ноги.
Будто колдует. Как будто, стоит ей замолчать, Янка исчезнет. В тыкву превратится или в мышь.
Без подмоги поход в туалет для Кочубейши – тяжкое испытание. В последнее время, когда Янка стала забегать к ней чуть ли не каждый день, старуха дожидается её прихода, терпит. Встречает просящей гримасой:
– Деточка, отведёшь?
Жалость тут ни при чём. Жалость быстро закончилась. Поначалу Яна даже расстраивалась, что она такая чёрствая. Но потом решила: ну и ладно, какая есть.
Что и говорить, водиться со старухой непросто. Не так представляла себе Янка дружбу.
Во-первых – вот, путешествие к сортиру.
Во-вторых, приходится помогать ей с обувкой. Ох.
В-третьих, одноклассники стали воротить от Янки носы. От приставучего старушечьего запаха. Дразнят «трупяшкой».
– Нашла себе подругу, – удивилась мама, когда узнала. – Осталось только вшей принести. Позора не оберёшься.
Правда, запрещать не стала. Заставляет каждый раз проветривать на балконе одежду: не настираешься!
Янка думала забросить Кочубейшу. Ну, а каково всё это?
Не смогла.
Заскучала без волшебного аттракциона, когда сидишь в обшарпанной комнате с обвислым ковром во всю стену, смотришь на старуху, как она смотрит в окно, или, нахмурившись, дремлет в кресле после бессонной ревматической ночи, или посасывает ложку с овсянкой, дёргая длинными седыми волосками над верхней губой, и перебираешь в уме истории, в которых она – не она, а та смуглая глазастая красотка с желтоватых обтрёпанных фотографий. От несоответствия, от ослепительного этого контраста, перехватывает дух. Всего-то и нужно – глядя на старуху, подумать о той, молодой, с бровями-арками и чёлкой, складчатой смуглой волной сбегающей к правому виску. Или даже о той, из детдома: косы, галстук, лобастые сапоги из-под юбки.
Игра захватывает Янку.
Ей, конечно, хотелось бы понять, почему так. Почему захватывает. Но это может и подождать, это не к спеху.
– Милая, – просит старуха. – Нарисуй мне фонтан. Поняла, какой? Тот.
Яна рисует.
Тот фонтан втиснулся между окнами, вплотную к фасаду. Надюша просыпалась под его журчание. Задумчивая женщина в хитоне льёт себе под ноги воду из наклонённой амфоры. Увидев однажды такой фонтан на экскурсии с детским домом – вспомнила и разревелась. Хватило ума не сознаваться воспитателям, по какому поводу слёзы. Понимала уже, чего от неё ждут.
Рисовать тот фонтан несложно. В Доме творчества женщины с наклонённой амфорой – гипсовые, карликовые – расставлены в каждом классе.
Шуршит карандаш, обшарпанная комната ползёт по швам.
Отец военврач. Сослуживцы подарили ему белую бурку, Надюше разрешали с ней играть. Бурка пахла зверем и табаком. Отец набрасывал её, когда выходил покурить на крыльцо.
Мать, прежде чем отправиться с Надюшей в сад после классов, снимала кольца. С чеканным увесистым стуком выкладывала кольца на комод. Девочка считала: раз, два, три… Как только на комод уляжется последнее, мать распахнёт объятья и бросится ловить хохочущую улепётывающую дочку. Колец ровно восемь. Иногда мама жулит, незаметно снимая два кольца за раз.
Остальное размылось и выветрилось. Даже лиц не различить.
Бурка и кольца.
И ещё горстка разрозненных осколков.
Белый кружевной фартук, колючие пяльцы, марширующий по улице оркестр, лестница в чулан, Рождество, ссыпанные в ведёрко столовые приборы с запахом нашатыря, арбузные ломти, к которым не добраться из-за пчёл, ходики, патефон, люстра с ажурными бронзовыми гирляндами – опущенная на пол и обмякшая.
Убитыми их не видела. Её сразу забрали, на следующее утро.
В детдоме была лучшая ученица. Грамот – пачки.
Выносила знамя на торжественные линейки. Знамя тяжёлое. Древко пристёгивали лямкой через плечо, конец вставлялся в петлю, висящую на ремне. По бокам другие отличники, держат салют. Пока дойдут под барабанный бой и горны до трибуны, вся взмокнет, хоть выжимай.
Мраморные колонны в зале белили.
Сандалии тоже надлежало натирать мелом, чтобы выглядели белей и новей.
У повара жил попугай Фря. По выходным повар разрешал кормить его тем, кто хорошо себя вёл в столовой. Однажды попугай клюнул Зину в плечо, и повар рассмеялся, что эта Фря умеет спутать корм и кормильца.
– Готово, Надежда Павловна. Смотрите.
Пока карандашный фонтан отплясывает цыганочку в руке Кочубейши, а та пытается поймать его лупой, как муху стаканом, Яна продолжает листать пересказанную ей давнишнюю жизнь, отыскивая в нездешних картинках какую-нибудь особенно яркую, подходящую на сегодня.
Платье, сшитое из бывшей занавески.
Газетные папильотки на ночь.
Гигиенический осмотр. Ужас.
Острый запах библиотечной пыли.
Летучий фонарик со свечой внутри, посреди ночи вплывший в окно девичьей комнаты. Визг, беготня. Фонарик ткнулся в потолок и погас. И рухнул на пол.
На выпускном два брата по очереди признались в любви. Кидали жребий, кому признаваться первым.
Комендант общежития тайком бегал в церковь, просил за больную жену.
С чердака можно было разглядеть корабли в порту.
Использованные пробирки лежали на подоконнике и делали радуги. Заходишь в лабораторию – снопы радуг тебе в лицо.
Закончить химфак экстерном не удалось: посоветовали не высовываться с таким происхождением.
Научилась читать египетские иероглифы.
Зазубрила рецепты ста блюд. Некоторые даже готовила на общежитской кухне.
Наука казалась спасением.
«Наука, деточка, казалась спасением. Я так загорелась».
Влюбилась безответно, отчего пришлось отказаться от аспирантуры. Он был младший научный сотрудник. Сказал, что мог бы воспользоваться, но как честный человек и ответственный сотрудник обязан сознаться: любви с его стороны нет и не предвидится.
Через много лет, после войны, встретились: заматерел, стал руководителем кафедры. Подарил гвоздики, приглашал заходить без церемоний. Она не решилась снять пальто, под которым был фронтовой китель с медалями. Так и не зашла ни разу.
Медали унесли воры, восстанавливать не стала. Перед кем хвалиться?
В Бессарабии ели лошадь.
– Замечательно фонтан у тебя получился. Так и лопочет.
– Я могу ещё что-нибудь. Я сегодня не спешу.
– Нарисуй, Яночка.
– А что?
– Да что хочешь.
Съеденная лошадь, как её ни отгоняй, возвращается. Если уж вспомнилась, так на целый день.
После боя пришли местные, сказали, что в болоте лошадь раненая увязла. Передние ноги перебиты. Всё равно сдохнет. Попросили разрешения добить и съесть. Командир разрешил, но бойца не послал: давайте сами как-нибудь. Сами они добить не сумели. Не смогли, наверное, до шеи по трясине добраться. Резали мясо с задней ноги. Лошадь было слышно в дальних окопах. Мясо коптили в воронке, пряча тлеющие угли под плащ-палаткой – для маскировки. На тех же углях пекли картошку, и те, кто ел только картошку, не пострадали. А тех, кто ел лошадь, ужасно несло.
«Всю ночь топотали, бегали в кусты».
Янка вынимает из папки новый лист бумаги и принимается набрасывать: верхушки леса, взрывы, багры.
Переправлялись ночью через реку, многие утонули. Местные с берега цепляли баграми тех, кто доплывал, вытаскивали.
Надю зацепили за ворот, когда уже выбилась из сил.
После переправы приказали выпить спирта. Не стала. Совсем не пила, не переносила спиртного. Сосед по строю шутки ради доложил командиру – саботаж, дескать, Кугушева не пьёт. Командир подошёл и вылил ей спирт за шиворот мокрой гимнастёрки. А потом влез туда рукой и стал растирать. «Всем, кто не пьёт, растираться!» В первый раз её так нескромно касался мужчина. Бежали потом километров десять. Пар клубился над спинами.
С Витей встретилась в передвижном госпитале. Угодила туда после осколочного ранения. Ранило пустяшно, навылет в мякоть плеча – но рука не рабочая, и командир отослал подлечиться в тыл. Жалел её всегда.
Судьба отвела ей на Витю лишь несколько дней.
Познакомились на танцульках. Поезд стоял вторые сутки на разъезде под городком Яссы, и прямо на платформе приключились танцульки под гармонь.
Надя танцевала со всеми, кто приглашал, Витя, с зашитым животом, плясал вприглядку. Улучив момент, подошёл, решительно оттёр намечавшихся кавалеров.
Сиренью пахло до оскомины.
Артиллерист. Красавец. До войны работал на метеостанции.
«Любовь была такая, что казалось – война закончилась».
До городка Яссы было несколько километров. В Яссах можно было бы расписаться. Витя даже разузнал, где там комендатура.
Но перед отправкой на Ковель Надю из госпиталя выписали.
«Всегда заживало на мне, как на собаке. Вот и в этот раз».
Вернулась в корпус. Вскоре поняла, что беременна. Решила: при первом же удобном случае скажу командиру. Но на очередном марше началось кровотечение. И ребёнка не стало.
Чтобы нарисовать танцульки, Яна расспрашивает, как выглядела станция, как сидел баянист, где сирень росла, про фонари уточняет.
Шуршит карандаш, расползаются швы.
– А мы с Витей где же, Яночка?
– Вон, двое, под фонарём, видите?
Ах, да, вижу. Вижу. Вон они мы. Беседуем. Обо всём сразу. О войне, о том, кто что успел до войны. О чём мечтали. Моментально стали родными. Никаких тебе вступлений. Так бывает, девочка, так бывает… И рука у меня на перевязи, да… Он порой забывался, как притиснет, у меня искры из глаз… а я молчу, и целоваться…
О том, что Витя погиб в Румынии, узнала только через полгода. Всё это время ждала от него весточки, сама выискивала, бегала встречать почтальонов. Получила письмо от его сослуживца: «Уважаемая Надежда, поскольку Виктор был мой верный боевой товарищ, с прискорбием сообщаю…»
Рисовала старухе её воспоминания и не заметила, как повзрослела.
Когда-то ждала с нетерпеньем, караулила, как праздник.
Никакого праздника.
Легче не стало.
Мальчишки смотрели по-новому – одни гадко, другие задумчиво. Гадкие донимали пуще прежнего, добавив к обычным шпилькам шуточки, вгонявшие Яну в краску. Задумчивые, напротив, переставали при ней материться (на большее мало кто решался).
Родительские друзья вдруг сплошь потускнели. Разговоры их, одни и те же, растянувшиеся на много лет, невозможно стало слушать.
Хотелось грубить по любому поводу.
Жанна Дмитриевна раздражала так, что к концу занятий начинала болеть голова.
Любимое домашнее дело – помечтать у окна – забыто напрочь.
Папа первым подвёл черту. Оглядев пришедшую из школы Яну, сказал:
– Пора бы уж подлиннее юбки носить, – и чиркнул в воздухе ладонью.
Всмотрелась вслед за ним: так и есть, и в зеркале другая Яна, и в мыслях.
Ужиться бы с ней, с другой.
Родители вдруг спохватились, что Янка со старухой – уж слишком далеко зашла.
– Растёт без бабушек-дедушек, – сказала мама. – Вот и прибилась.
Папа хмуро промолчал. Но вскоре после этого мама звонила своей маме, бабушке Люде, и уговаривала её приезжать, общаться с внучкой.
Других бабушек-дедушек Яна не знала. Ольга Панкратовна, бабушка по папиной линии, умерла, когда Яна пошла в первый класс. Мамин папа, Фёдор Васильевич, вообще умер молодым: на заводе упал в коллектор. Про дедушку по папиной линии известно только, что жив – но далеко, где-то за Уралом. Бросил семью ещё в папином детстве. Не звонил, не писал. И поэтому как бы не в счёт.
С бабушкой Людой тоже не всё гладко. У них с Янкиным папой конфликт и разрыв отношений. Но мама поговорила с ней основательно как никогда, прикрикнула даже и всплакнула. И однажды воскресным утром, родители ещё не вставали, бабушка действительно нагрянула. С плетёной корзинкой фруктов на локте. Вымыла фрукты «в трёх водах», промокнула полотенцем, усадила Яну за стол. Сидели, бабушка предлагала попеременно то персик, то виноград, расспрашивала, как у Яны с учёбой. Янка футболила по тарелке отвалившуюся виноградину, через силу отвечала, ждала окончания. Проснулась мама, заглянула на кухню. Бабушка сделала ей замечание, что та спит до полудня, и с утра пораньше выглядит так, будто воду на ней возили. Мама, не успев спросонья собраться, огрызнулась. И понеслось.
Думала, что сама-то Кочубейша ничем удивить не может. Старуха представлялась ей заколдованным коконом, из которого время от времени – и только для глаз, готовых увидеть – вылупляется в кровавых сгустках прошлое, чтобы мелькнуть, завораживая мощью и запредельностью полёта – и погаснуть.
Ошиблась.
Перед Новым годом пили чай с лимоном, когда заявился тот гражданин в шикарной меховой шапке и потёртом пальто.
Поздоровался певучим баском, отвесил поклоны.
Кочубейша узнала пришедшего сразу. Как-то вся собралась, приосанилась. Спрятала за коробку рафинада чашку с блюдцем, полным пролитого дрожащей рукой чая. Яна и не знала, что старуха может так прямо разогнуть спину. Что дряблые мешочки и лоскутки способны сложиться во вполне понятный, безошибочно узнаваемый сарказм.
Казалось, и бровь выгнулась аркой, и подбородок проступил острей.
– Позвольте? – поинтересовался гражданин и осторожно дотронулся до шапки.
– Слушаю, Сергей Петрович, – ответила Кочубейша таким упругим голосом, что Яна забыла отпить чай из поднесённой ко рту кружки. – Чем обязана снова?
Сергей Петрович помялся, демонстративно покосился на вешалку возле двери. Но старуха молчала, таращась на него в упор, и он остался в пальто. Уселся на стул, стоявший напротив Яны, нахлобучил шапку на колено.
Яна смекнула, что этому гостю чаю предлагать не нужно. Принялась смачно отхлёбывать и отдуваться у него над ухом.
– Как и обещал, пришёл справиться, не переменили ли вы своего решения, дражайшая Надежда Павловна.
Он улыбчиво замолчал. Старуха, помедлив, и как будто не сразу поняв, что от неё ждут ответа, развела руками.
– Помилуйте, Сергей Петрович. В четвёртый раз об этом спрашиваете.
– И в пятый, Надежда Павловна, если придётся, кротко и терпеливо спрошу. И в двадцатый.
– Ой! – испугалась она. – В двадцатый?!
– Вы, как всегда, в своём духе, – гость в пальто махнул на старуху шапкой, глупо рассмеялся и тут же сделался нарочито серьёзен. – Имею сообщить вам, Надежда Павловна, что у нашего собрания теперь есть постоянный спонсор. Пока инкогнито, но весьма, весьма достойный человек. К дворянству, правда, никакого отношения не имеющий, но человек, поверьте мне, очень достойный. Расскажу подробней, как только вы почтите нас своим визитом. И непременно пред ваши светлы очи представлю.
– Сергей Петрович, я же вам русским языком сказала… Вот ведь чудак, ей-богу.
– Надежда Павловна, но подумайте вот о них. – Не без раздражения он кивнул в сторону Яны, с причмоком и сопеньем допивавшей чай. – С вашим происхождением и, так сказать, при нашей поддержке… Ведь собрание могло бы стать, вы подумайте, указующим маяком…
– Фу ты, – старуха поморщилась, пробурчала себе под нос. – Указующим маяком…
– Что, извините?
– Я говорю, к истории вашего… э-мм… дворянского, так сказать, собрания я, древняя, но из ума не выжившая старуха, не имею никакого, ну ни малейшего отношения. Да, впрочем, я вам уже говорила. Вы ведь не слушаете.
– Да как же…
Он повозился с пуговицей, достал из рубчатых шерстяных недр беленький конверт, внимательно оглядел стол.
– Вот, – выложил конверт на самый угол – видимо, клеёнка там была почище. – Здесь официальное обращение к вам членов уездного отделения.
– Правда?
Сергей Петрович подозрительно помолчал.
– Члены уездного отделения просят вас его возглавить. Поверьте, милейшая Надежда Павловна, вы не пожалеете, всё будет сделано в лучшем виде. Через пару месяцев…
Снова поморщилась, перебила его:
– Сергей Петрович, позвольте заметить, что «пара» обозначает два однородных предмета, составляющих целое. Пара перчаток, пара брюк.
– Да я просто…
Он неопределённо повёл плечами, осмотрел зачем-то свою шапку.
– Ладно. Пара, да… я понял, – сказал он упавшим голосом и скользнул взглядом по пузырчатым обоям над головой старухи.
Запал его сошёл на нет.
– Телефонщикам, кстати… то есть, к слову… телефонщикам мы уже направили запрос. На предмет изыскать возможность телефонизировать вас от ближайшей точки. Пока не ответили.
Кочубейша плавно, почти без трясучки, скрестила пальцы, откинулась на спинку и вздохнула.
Яна жадно запоминала, как это выглядит: как расправлены цыплячьи плечики, как голова наклонена, чтобы смотреть несколько исподлобья. Как чернеет складка в уголке рта. Каждую чёрточку старалась высмотреть и запомнить: наверняка пригодится.
– Нет, правда, так нельзя, – бормотал Сергей Петрович. – Такое необъяснимое, простите, упрямство.
Старуха молчала.
– Может, вам всё-таки что-нибудь нужно? Там… утвари, предметов первой необходимости. Хотя бы. Мы могли бы.
Попыталась постучать подушечками пальцев друг о дружку. Не вышло. Убрала руки на кресло.
– Вот вы отказываетесь постоянно. Отказываетесь…
– Сергей Петрович, – она снова его перебила. – Неотступное вы моё дежавю, хватит ко мне ходить. Перестаньте. Это, в конце концов, смешно.
И он потопал к двери.
Как только вышел, старуха ссутулилась с заметным облегчением, водрузила локти на стол.
– Вот прицепился, – проскрипела она. – Прощелыга.
– Телефонизировать от ближайшего колодца! – азартно подхватила Яна.
С приторно-патетическим выражением, как когда-то стишки о Первом сентября, она читала официальное обращение членов Уездного Дворянского собрания к Кочубейше, смеялась вместе с ней – не столько над витиеватым текстом, сколько над старушечьим смехом, похожим на бесконечный чих – и чувствовала себя избранной: с потешным Сергем Петровичем Кочубейша своей жизнью не поделилась. Ни за какие коврижки. А ей – дарит по собственной воле. Самые душевные подробности.
– Вы, стало быть, такая знатная? Они вас так обхаживают.
– Ооох, – выдыхала старуха остатки смеха, выдавливая кулаком слёзы из уголков глаз.
Досмеялась, развела руками – дескать, ну да, такая. И потащила к себе остывший чай, ухватившись за краешек блюдца.
Ничего кроме этого «ох» в затихающем смехе, да мимолетного жеста Яна на свой вопрос не дождалась и о знатности больше не спрашивала.
Весной пришлось выбирать специализацию в художественной школе: живопись или скульптура, – и Яна никак не могла выбрать. Сегодня решительно остановится на холсте и кистях, завтра – на глине и гончарном круге. Особенно если мама в очередной раз решит агитировать против скульптуры: мозоли, как у мужика, глина под ногтями. Но как ни ершилась, выбрала всё-таки живопись. Лепка давалась ей хуже.
Летом впервые отдыхали на Чёрном море. Круглосуточный гомон, горячая вода по расписанию, на пляже в непосредственной близости чужие пупки и подмышки.
Пока были на море, из старухи вышел почечный камень. Неделю провела в больнице. «Скорую» вызвал какой-то прохожий, до которого докричалась Кочубейша. На столе поселилась коробочка с лекарствами, костыль обзавёлся парой: остался после кого-то в палате, и медсестра, провожая, по ошибке отнесла в машину: возвращали Кочубейшу тоже на «скорой». Врачица устроила.
Яна стала бояться всего подряд: то ночью воры влезут, то в школьной булочке яд или волос. Мама сказала, у неё в этом возрасте тоже было.
Папа и бабушка Люда кое-как примирились, та продала наконец свою четырёхкомнатную в центре – и на выделенную «матьпомощь», как называли это родители, была куплена новая трёхкомнатная квартира. Просторная, с окнами на бульвар.
В новой школе, куда Яну перевели, действительно оказалось хорошо.
Поначалу сторонились, присматривались. Вадик Семиглазов, признанный острослов класса, пробовал новенькую на зуб – но быстро сообразил, что себе дороже.
Задружила. Сначала с Вадиком, потом с Леной и Мишей. Потом примкнули две Татьяны, Боброва и Миленкова, и к концу осени – впервые в жизни – Яна очутилась в центре бурливой компании, которая всё тащила и звала куда-то дальше, за новый поворот. Дискотеки по субботам. Прогулки после уроков. Школьное «Что? Где? Когда?», позволившее почувствовать себя восходящей звездой. Миленкова ревновала к Мише, в которого была влюблена с третьего класса. Это смешило. Но и вдохновляло одновременно: Миша считался красавчиком.
Вадик по дороге из школы сделал ей первый в жизни – и такой неуклюжий комплимент: «Слушай, ты здорово выглядишь». Огорошил: куда только подевалось тренированное острословие?
Подстриглась. Начала делать маникюр.
Да, с ровесниками бывает интересно.
К старухе наведывалась реже.
Редко.
Далековато, да и времени не стало совсем.
Что поделаешь, обстоятельства.
– Деточка, – сказала старуха, когда Яна пришла к ней после особенно длительного отсутствия. – Я тебе так признательна. Позволь мне сделать тебе подарок.
Яна легкомысленно согласилась, ожидая какой-нибудь безделушки старинной или трофейной, уберегшейся от пресловутых воров, – колечка или костяного гребешка… или что там бывает такое. Вдогонку мелькнула несимпатичная мысль, что выглядит это так, будто Кочубейша её подкупает: ходи ко мне, деточка, как раньше ходила, буду подарки тебе дарить. К подобным огорчительным мыслям, которые витают в эфире как мусор по тротуарам, Яна успела привыкнуть. Не нужно даже спрашивать себя: правда ли, насколько правда. Хочешь – хватай и тетешкайся. Нет – позволь мусору дальше лететь.
Старуха доковыляла до комода, костылём выдавливая из досок знакомые щелчки и стоны. Достала из ящика что-то небольшое, спрятала в карман халата, чтобы не выдавать прежде времени. Пересекла комнату в обратном направлении, уселась за стол и, пристроив после долгой возни костыль к подоконнику, застыла. Не дождавшись, когда старуха заговорит, Яна подсела рядом, пропела с шутливой торжественностью:
– Та-дам!
Старуха по-прежнему медлила, и Яна, зажмурившись, протянула раскрытую ладонь.
Что-то лёгкое легло. Прямоугольник тонкого картона с обрезными фигурными краями. Узнала, не открывая глаз: фотография Нади. Та, на которой у неё волнистая чёлка.
– Бог весть, какая ценность. А всё же хочу тебе подарить.
– Спасибо.
Старуха поправила ей волосы шершавой ладонью.
– Милая, возьми, пожалуйста, – попросила она. – Мне важно, чтобы ты взяла.
– Конечно, что вы… Спасибо.
Яна вконец смутилась. Продемонстрировала, держа небольшое фото обеими руками: вот же, взяла же.
Старуха затолкала ей за ухо последнюю упорствовавшую прядку, грустно улыбнулась.
Яна помолчала, сказала на этот раз без суеты, осмысленно:
– Я сохраню, Надежда Павловна. Обязательно.
Дома прятала и перепрятывала подаренную фотографию по самым потаённым местам. Боялась, что найдут и пристанут с расспросами: что да как, да почему ей такое подарено. Снова бабушку Люду подсунут.
На Кочубейшу совсем не стало времени.
Нет, подарок ни при чём. Просто наваливалось.
Взрослость разрасталась как снежный ком, становясь всё увесистей и непреодолимей.
Одни физиологические новшества чего стоили. И каждый раз, гори оно ясно – повод вспоминать о старухе. Про её ночной переход.
Возможно, мама бывает иногда права. Когда говорит, что ни в чём не стоит заходить слишком далеко: «Слишком далеко – всегда не в ту сторону».
Размер ноги тридцать восьмой. Господи, вот бы на этом и остановился.
На лбу случаются прыщики.
Снова полюбилось читать.
Обнаружила у себя отсутствие музыкального слуха, и долго по этому поводу переживала.
Всерьёз раздумывала, не покраситься ли в блондинку.
Несколько акварельных работ отобрали на большой Московский конкурс. Про Яну написали в городской газете. Через месяц с конкурса прислали грамоту «За участие».
Родители снова начали ссориться, но дочку вспышками сепаратистской родительской любви больше не донимали.
Снова напялили зубные пластинки: довыправить верхний резец.
С завучем наметилась вражда из-за того, что Яна отказалась рисовать стенгазету.
Миленкова лишилась девственности с Мишенькой и принялась изводить Яну своими исповедями и страхами. Звонила вечерами, вызывала во двор.
Устала от Миленковой.
Увлеклась лепкой кукол.
Сама шила для них костюмы. Донжуаны в плащах. Напудренные дамы с мушками.
Кукол охотно принимали в комиссионке при магазине «Художник». За полцены, зато сразу на руки.
Первые деньги. Слишком ранние, считала мама и советовала откладывать на зимнюю куртку.
«Учись копить».
Пришлось кукольное производство законспирировать: хранить всё в тумбочке и при родителях не вынимать.
Полученные делом, которое вряд ли стоило называть трудом, деньги радовали неожиданно чистой, поэтической радостью. Рука не поднималась распорядиться ими практично или обыденно: копить на куртку, транжирить в школьной компании, осваивающей сигареты и пиво под песни «Ласкового мая».
По секрету от всех, изредка, чтобы не попасться, Яна прогуливала нелюбимую физкультуру или биологию – с шиком и размахом. Обедала в пафосном ресторане, с кланяющимися официантами и меню, утонувшем в толстенной кожаной папке. Или отправлялась на конную прогулку в загородный парк «Дерби», полный развязных богачей с хлыстиками и шпорами. Особенно хорошо вышло с дельфинарием возле «Дерби», в который забрела случайно в неурочный час. Представлений в тот день не давали, но охранник – он же кассир – согласился впустить её за обычную плату. Зрительские ряды были пусты. Яна уселась в самую серёдку. Дельфины мирно плавали в бассейне от борта до борта, гоняя тихую невысокую волну. Яна видела их грифельные спины, выписывавшие гибкие петли в водной толще, плавники и мордочки. Вода пошлёпывала по кафелю, из каморки смотрителя доносился бубнёж телевизора. На поверхность высунулся дельфин, скомкал водную гладь. Покусывая воздух мелкими белыми зубками, посмотрел на Яну.
Если бы можно было оставить всё так, как оно сложилось в тот год.
Жизнь легка и податлива.
Внутри светло.
Новое одиночество, самовольное и обустроенное по вкусу, исполнено смыслом.
Остаться повзрослевшей, никогда не становясь взрослой.
И жить припеваючи, сбегая с нелюбимых уроков.
Первая любовь состоялась тогда же. С Вадимом Семиглазовым.
Он вдруг отдалился, торжественно притих. Обжигал её взглядами. Повадился провожать со школы, но прямо признаться в любви не решался. Смешно подступал издалека. Говорил, что Яна нравится ему больше всех девочек в классе, в школе, вообще больше всех, кого он знает. Всегда нравилась. Яна опешила. Никогда не думала о Вадике, как о возлюбленном. Да и вообще, любовь ожидалась попозже, в других декорациях. Порывалась сказать ему: «Вадька, ну ты и выдумал!». Но потом что-то где-то случилось. Стали интересны его руки-ноги, походка, поворот головы, смех его немедленно сделался заразительным, а в глазах усматривалось то, от чего кожа покрывалась мурашками и в горле таял медовый ком.
Было несколько иначе, чем себе представляла. Проще. Но и вкусней, пожалуй.
Разговоры как-то сразу не задались. Всё то, о чём разговаривали до сих пор, пока были друзьями, казалось пустым. О сокровенном получалось сумбурно. Вадим рассказывал, что уже пять лет болеет за «Барселону», что однажды чуть не попробовал дурь, но его стошнило от первой затяжки, про родителей своих рассказывал: как они его донимают учёбой. Яна больше отмалчивалась. Всё её сокровенное почему-то не поддавалось пересказу. Запах листьев из окна, первый нетронутый снег – рано утром, и чтобы твои следы были первыми. Солнце сквозь дождь, луна под вуалью облака. И все эти мимолётные подарочки, которые нужно успеть заметить и ухватить. Что там ещё? Ласковая печаль, которая приходит не пойми откуда, которую, бывает, ждёшь. И ещё старуха, под чутким взглядом превращающаяся в Надю, в Надюшу. Не рассказывать же Вадиму про старуху.
Научились обходиться горсточкой слов.
Самыми важными стали: «за школой, у наших качелей».
Блаженный угар прикосновений и поцелуев.
Вечера взахлёб.
Ах, надо же, тело полно сюрпризов.
Отыскать в округе темноту для поцелуев бывало сложно. Слонялись по кварталу. В плохую погоду или когда все укромные уголки возле школы и в соседних дворах оккупировала местная гопота, оставались только подъезды – место ненадёжное, чреватое допросами и криками бдительных жильцов.
Хотела спросить у него: «Что дальше?». Но каждый раз одёргивала себя: «Что за глупый вопрос».
Вадик подрался из-за неё со старшеклассником.
Вадик поклялся, что ради неё всего в жизни добьётся.
И бросил курить.
Теперь, когда одиночества не стало совсем, Яне его не хватало. Те крохи, которые перепадали, расходовались на странную расплывчатую мысль: я не умею жить… Спроси её кто-нибудь, почему ей так думалось, Яна ни за что бы не объяснила. Но отделаться от этой мысли не могла – как от лошади, которую съели в Бессарабии.
Пришло время, и прикосновений стало недостаточно. Они больше не насыщали – дразня впустую, заманивая к запретному.
Вадик снова обжигал взглядами. Уверял, что уже пора и всё будет хорошо.
Яна оттягивала. Делала вид, что ей страшно. На самом деле прислушивалась к внезапному, столь некстати грянувшему отрезвлению. Развеялся угар, всё схлынуло куда-то, возвращая до дыр знакомый, ничуть не изменившийся берег: вон универмаг, вон парковка, жбаны, спортплощадка, аптека, лужа, качели, гопота. За приблизившейся чертой ворочался, опасными громадинами перекатывался взрослый мир, которому Яна чувствовала себя почему-то ровней. А Вадик был ещё такой маленький, такой желторотый.
Дальше? Нет, кажется, ничего. Дальше пока не предусмотрено.
Впервые была себе невыносимо противна.
«Не слышала разве, дура, что нельзя экспериментировать на людях?»
Однажды вечером пришла из Дома творчества – живописью она занималась теперь во вторую смену – и столкнулась в прихожей с отцом Вадима. (Кажется, Дмитрий Иванович.) Напротив него плечом к плечу стояли её родители. Лица вытянуты. Взгляды строгие.
– Но нам всё-таки наедине лучше, – уныло сказал Дмитрий Иванович, прерывая унылую паузу, в которую вторглась Яна.
Так и не поздоровавшись с Яной и на неё не глядя, взрослые уединились в гостиной, за хлипкой филёнчатой дверью. Пожала плечами, отправилась мыть руки. Только закрыла кран, услышала сдавленные мужские голоса.
– Ваша дочка…
– Ваш сынок…
И голос мамы, то шикающий и призывающий не устраивать базар, то вступающий в базар возмущённой тирадой.
– У него и так две тройки. Выпускной год.
– Да почему вы нам это говорите?
– Ш-ш-ш!
– Не менять же из-за этого школу.
– При чём тут школа, не пойму?
– Да что вы от нас-то хотите?
Перешли на рычащий шёпот, отчего стало казаться, будто ссору транслируют по старенькому радио.
– Ничего не боятся! А если, как у Миленковых? А? В шестнадцать лет аборт. И если бы тайком удалось, так нет!
– Вы на что намекаете?
– Я вам прямо говорю.
– Совсем сбрендил.
– Нет, вам это надо? Нам нет.
– Вот и делай мозги своему сыночку. Ненормальный.
– Сделал уже, не волнуйся. Ты теперь вертихвостке своей сделай.
Ещё несколько реплик, и голоса заклокотали, потом резко оборвались – послышалось странное копошение, с шарканьем ног и дребезжанием двери. Яна выглянула в прихожую. Они пихались за матовыми прямоугольниками стёкол, по-преж нему – по инерции – стараясь делать всё как можно тише.
Янкин папа победил. Вытолкал Дмитрия Ивановича за шиворот в прихожую.
– Ненормальный, – шептала Янкина мама. – Чокнутый. Пшёл вон вообще.
Яне было сказано, что если ещё раз, хотя бы раз увидят её с Вадимом, то пусть она, Яна, не обижается.
Наутро Вадим сказал с заговорщицким видом, что им придётся залечь на дно. На какое-то время. Ради их же будущего.
Путаный внешний мир, как обычно, распутывал себя сам.
Витя приснился несколько раз. Артиллерист. Красавец. Просыпалась с тревожным чувством: к чему бы это?
Старуху вспоминала целыми днями. В школе на уроках, за мольбертом в Доме творчества. Представляла, как они идут с ней рядом. По красивой алле. Тень под деревьями плотная, с синеватым отливом.
А лучше – не со старухой идут, а с красоткой Надей. У обеих осиные талии, спины стрункой. Надя может быть и в военной форме. С медалями. В кокетливо заломленном берете.
Может быть не с Яной даже.
В струящемся платье, с шаловливым шарфиком на шее, который пришлось увязать на два узла, чтобы не улетел.
Каблучки стучат. Ветер перебирает листвой.
Витя вышагивает рядом, то и дело отступая чуть в сторонку, чтобы разглядеть свою жёнушку получше, охватить её счастливым взглядом всю.
Пигалица моя. Видишь, сбылось.
Лежала на кровати, смотрела в потолок, наблюдая, как по белой плоскости струятся чужие мечты, у которых не было ни малейшего шанса.
Когда Вадим и всё, чем он закончился, было изжито, и вернулось упрямство жизни, настаивающей на продолжении, Яна купила на «кукольные деньги» вишнёвый пирог в кондитерской «Интуриста» и отправилась к Кочубейше.
Вокруг дворика-пенала появился синий жестяной забор. Окантовал старый кирпичный, частично осыпавшийся. Ворота полуприкрыты.
В трещине вместо муравьёв поселились осы. Полосатая жужжащая свора.
Липу спилили и сожгли вместе с сортиром.
Смрадные эти уголья, в общем-то, объяснили всё как нельзя доходчивей, но Яна делала вид, что ничего не понимает, беззаботным шагом поднимаясь вверх по решётчатой лестнице, без липовых веток снизу сделавшейся непривычно сквозистой и ненадёжной.
Дверь была заварена. На решётке табличка с черепом: «Осторожно!»
Яна подержалась за ребристый прут, ещё не ржавый, маслянистый.
«Вот так, вот так, вот так, – монотонно застучало в висках. – Вот так. Вот так».
– I could say “bella, bella”… even say “Wunderbar”…
Из всего вороха воспоминаний выхватила, наверное, самое неожиданное. Кочубейша стоит посреди комнаты, выплюнувшей из пыльных недр своих дощатый овощной ящик. Пыль кувыркается в солнечном луче. Ящик пуст. Хранившиеся в нём пластинки, одни голые, другие в квадратных цветастых конвертах, рассыпаны по столу. Над столом, приставив к груди чёрный круг пластинки, стоит Кочубейша и, зажмурившись, размеренно бурчит – напевает.
– Each language only helps me tell you how grand you are.
Она заметила Яну, помолчала.
– Обожала эти мелодии.
Смотрела издалека. Оттуда.
Яна сконфузилась. Показалось: будет бестактно удивиться тому, что услышала от Кочубейши иностранную речь – ух ты, вот так номер! Доложить, что поняла услышанное показалось хвастовством… Перемудрила, словом.
Внизу, на лавочке перед кирпичным домом, парень лет двадцати лузгал семечки. Яна подошла.
– Простите, вы живёте поблизости?
Смерив её надменным взглядом, парень бросил в рот семечко, сплюнул под ноги шелуху.
– Ч-чё?
– Не знаете, что стало с женщиной со второго этажа? Там старая женщина жила. Надежда Павловна.
Он пожал плечами, бросил в рот семечко. Сплюнул.
– И чё?
– Там решёткой заварено. Не знаете, что с ней стало?
– Я откуда знаю?
– Простите.
Яна двинулась к своему бывшему двору. Кто-нибудь должен знать. Кто-нибудь должен.
«Вот так. Вот так, Яна. Вот так».
– А! – крикнул парень ей вдогонку. – Их же расселили.
Яна вернулась.
– Расселили?
– Ну. И Коляна-великана, и остальных.
– Расселили?
Он хмыкнул, дёрнул головой.
– Расселили их, – сказал громко, как для тугоухой; и руками махнул у себя над головой в разные стороны, показывая, мол, расселили.
– Спасибо.
– Ага. На здоровье!
«Расселили, Яна, расселили», – сменился рефрен у неё в голове.
Шла домой пешком, повторяя про себя одно и то же, стараясь, чтобы звучало повеселей.
Качалась на бечёвке коробка с пирогом. Рассматривала узор с колосками и бубликами, и воображала, что у неё сегодня праздник.
Старуху-то расселили!
Родители, как обычно по четвергам, задерживались на работе, чтобы не задерживаться в пятницу, у Яны было время, чтобы почаёвничать основательно, не спеша, как когда-то у Кочубейши, подогревая и подливая чай.
– Вы опять не едите, Надежда Павловна. Опять я всё сама стрескаю.
* * *
Всё-таки полное отсутствие честолюбия – серьёзный изъян. Нужно хотя бы немного. В качестве фермента.
И ужас перед банальным глуп. Сколько искреннего и живого – кровь с молоком – упустила, виртуозно уклоняясь от банальности. Чтобы однажды догадаться: жизнь, Яночка, банальна, хоть ты тресни.
Долго не решалась сесть за руль.
Вовремя отказалась от тихой дизайнерской работы в рекламном агентстве.
К безденежью привыкла легко. Режим был как в монастыре. Работа, работа, работа – внешняя и душевная.
И вдруг как прорвало: одна за другой две премии, персональные выставки, заказы. Иллюстрации к серии «Детям о взрослых» неожиданно сделали её знаменитой. Разумеется, в узких кругах. Но где нынче круги пошире? Выставки шли одна за другой: только из Москвы, зовут в Прагу.
Успехом своим наслаждалась со стороны, как хорошим, ладно скроенным фильмом.
И к тридцати восьми годам, когда завистливые взгляды перестали сначала радовать, а потом и раздражать, созналась: все её победы – обман.
Театрализованные триумфы, золочёное папье-маше.
Не моё, не так, не настоящее.
Гейнц, немецкий агент, отобрал пятнадцать картин, обещал заняться ею всерьёз, пробиваться в Лондон.
Этот пробьётся.
Но теперь не понятно, что делать с успехом. Который вломился без предупреждения, когда у неё такой кавардак.
Наверное, всё закономерно. Можно было бы сказать: «По плану», – если бы был план.
Мужчин всегда хватало. С мужчинами сложилось вполне.
Теперь был с ней Володя. Гитарист, работающий по приглашению с российскими звёздами. По совместительству – товаровед в магазине музыкальных инструментов. Яркий, но не капризный.
Замуж не ходила, от брачных предложений отказывалась дважды. Могло быть больше. Но в ней как-то сразу распознавали ту, что гуляет сама по себе: можно мило погостить – затевать семью бесперспективно. Или она сама научилась выбирать таких, которые не спасаются от одиночества постоянством, не паникуют, когда их не зовут быть рядом навечно. Рано подметила, что в организме её отсутствует тот специальный орган – присосочки такие или, может, крючочки, которыми женщины прикрепляются к мужчинам. Ну и ладно, решила. Не беда. Можно делить с ними лучшее – оставляя худшее жёнам.
Пока живы были родители, приходилось изображать нормально нацеленную на замужество, но патологически невезучую особь. Водила тех, что задерживались подольше, на смотрины.
– Попробуйте, салат с черносливом, Коля. Попробуйте.
– Замечательный салат, Галина Степановна, я уже пробовал.
Володю пришлось предъявить ни много ни мало трижды: отношения затянулись.
Затянулись так, что успела подзабыть: навсегда никого не бывает.
Но всему своё время. И Володя вот-вот закончится. Та, что будет после Яны, уже пришла, уже оставила первые метки: на одежде волосы её, рыженькие, длинненькие. Володе не то чтобы всё равно – просто не замечает. Мелкие детали для него существенны только тогда, когда записаны на нотных листах. Редкие вечера набегу и ворох эсэмэсок: не смогу, не успеваю, позвоню, буду в среду, прости. Уйдёт, конечно. Он не из тех, кто и тут, и там. Он любит сосредоточенность.
Есть вероятность, что пополнит список тех, кто возвращается – с кем бывает сладко предаться ностальгии: а помнишь? а ты помнишь?
Уйдёт.
И ей впервые страшно оттого, что мужчина уходит.
Возраст, видимо.
Будет другой, напоминает она себе. Непременно будет другой.
Жаль, стали редко попадаться сухопарые. А Яна любит сухопарых. Поджарых. Поджаристых. Жилистых. Стало надежней с содержанием – содержание оправдывает ожидания, промашек почти не бывает. Не то что в сумбурной молодости. Но оболочка оставляет желать. Ровесники – увы, раз за разом попадаются оплывшие, свисающие по-над ремнём. Яна смотрит на себя: никакой складчатости. Чуть мягче здесь, чуть тяжелее там. Но юбка студенческая в пору.
Ну да ладно, привыкла и к упитанным.
Будет другой. Лучше бы не сразу после Володи. Сразу после случаются те, которые проходные. Сквозняк от них и чувство вины.
Другого, который будет после Володи, уже не нужно предъявлять родителям, вводить в курс дела, инструктировать, как отвечать на вопросы о планах на будущее.
Родители ушли.
Умирали трудно. Измучились.
Сначала отец, от рака лёгкого, следом мама, от сердечной недостаточности.
Как только скрутили их болезни, жить стали душа в душу. Никогда так не жили. По крайней мере, Яна не помнила. Слиплись как новобрачные. Как перепуганная детвора. Сидят или лежат по своим углам, и – то один, то другая спрашивает: «Тебе ничего не надо?» Чаще всего не нужно было ничего. Но всё равно спрашивали. Перекликались напоследок. Носили друг другу таблетки и воду на крошечном подносе. Стояли, взявшись за ручки, на балконе. Дышали воздухом. Накрывали скатертью стол, ждали к ужину непутёвую дочь. Такое себе придумали дело – ждать к ужину непутёвую дочь.
Как только родители слегли, Яна переехала к ним.
Кирилл от переезда отказался наотрез.
«Мама, у меня учёба. Мне о будущем нужно думать».
Навещал, правда. Притом весьма пунктуально, каждую субботу. Дежурные полчаса: расспросы о самочувствии, что-нибудь о себе, – и на выход.
«Мне пора. Не болейте».
Сын.
Да, сына упустила.
Сын: отличник, стипендиат, вот-вот соавтор научной статьи (что-то про методы вычленения целевых групп) – проигран вчистую.
Не любит её – но тут всё честно и справедливо. Она тоже не любила родителей. Вот только под конец, ухаживая за ними дома и по больницам, глядя, как скрупулёзно стараются додать друг другу то, чего не умели дать раньше, жалкой своей заботой больного о больном расплачиваясь сразу по всем долгам – только тогда испытала жгучую, удушливую жалость. Но равна ли жалость любви? Пусть даже дочерней. Неясно.
Как бы то ни было – бодрилась Яна, любовь дело наживное. Мало ли на свете нелюбимых родителей. Каждый рано или поздно получает хоть что-нибудь. Не этим удручал Кирилл. К своим девятнадцати был он меркантилен неистово, карикатурно. В поступках пошловат, в словах расчётлив. Ничто не мешало ясности ради обвинить во всём его отца, который всегда щеголял своим цинизмом, уверяя протестующих близких, что цинизм для предпринимателя – вакцина от сумасшествия. Но Димкин цинизм подкупал изящностью. Не искал грошовой выгоды, не был зол – и главное, знал меру.
С Кириллом всё не так.
Он края не видит.
Терпеливой осадой добивался права ухаживать за Томой Осокиной, барышней вызывающе тупой, неумело спесивой – зато приходящейся приёмной дочерью новому мэру.
К исходу второго курса добился.
Просил Яну написать её портрет. Яна отказывалась. Ко всему прочему, писать предлагалось по фотографиям: портрет должен был стать сюрпризом Томочке на день рождения.
– Мама, ты так брезгуешь всем, что связано со мной… Ты зачем вообще ребёнка заводила? Отец, полагаю, предлагал аборт? Уверен. Он, по крайней мере, был честен.
Что было делать? Чувствовала себя загнанной в угол. Оконфузившейся на весь мир.
Промолчала. Как всегда, когда он так с ней говорил.
Смотрела в его удаляющуюся спину, спешила ускользнуть в тот день, когда при виде двух сакральных полосочек на тесте вдруг сорвалась и полетела… поняла, что мечтает стать матерью – давно мечтала: вон сколько любви успела накопить к этому червячку… задохнуться… Не пожалела ни разу. Ни мамины рыдания: «Одиночка, на шею себе, да так рано, так рано! Зачем?», – ни тяготы и лишения незамужнего материнства не замылили, не омрачили. Но упрёка от него боялась с самого начала. Отсюда и вечная забота, чтобы мальчик поддерживал отношения с отцом. Что было непросто с учётом пристрастия папы Димы к перемене жён.
Вот мальчик вырос. И попрекнул.
Не разговаривал с ней неделю. Звонил молодой мачехе Вике, демонстративно любезничал. Старался ужалить ещё больней: эту мачеху Яна приручала особенно трудно, терпеливо объясняя и доказывая, что к Диме она давным-давно равнодушна, что общаться с детьми своего мужа от предыдущих женщин – признак цивилизованности, уровень… если угодно, стиль.
Яна уступила, как всегда. Согласилась писать портрет Томы. Попросила только познакомить с моделью – разглядеть, уловить линии. Что за портрет с фотографий? Не творчество это, механический эрзац.
В сложносочинённые планы Кирилла, однако, знакомство матери с Томой не вписывалось.
– Мама, мы не на той стадии, чтобы вас знакомить.
– Погоди. Но ты ведь к ним ходишь?
– Я хожу. Но вас знакомить рано.
Было решено, что Кирилл приведёт Тому в кафе, где в творческой засаде притаится Яна.
Так и сделали. Прикрывшись ноутбуком, она умудрилась изрисовать целый блокнот.
Сидела к ним слишком близко, слышала, о чём говорят. Потом, приступив к работе, никак не могла отстраниться от этих блёклых куцых разговоров. В попытках приукрасить реальность испортила несколько пачек бумаги. Наконец, плюнула, вписала гагаринскую улыбку в некрасивое пустое лицо, и за ночь отработала маслом.
Вернувшись со дня рождения, Кирилл чмокнул её в щёку. Выглядел окрылённым.
– Все в восторге, мама. Вот теперь можно думать и о знакомстве. Но лучше немного подождать. Поверь, я знаю, что делаю.
Вскоре посыпались заказы от Томочкиной родни. Методику дистанционного портрета Кирилл усовершенствовал, заменив наблюдения из засады на видеосъёмку: пикники, семейные торжества.
Уступив раз, Яна решила не капризничать. У Гагарина больше не воровала. Но без шутливого плагиата не обошлось – нужно же было чем-то себя развлечь. Мэр получил взгляд с автопортрета Дюрера, его супруга – изгиб Царевны-Лебедь.
Яна просматривала съёмки безвкусно-зажиточной жизни, в которую так рвался её Кирилл, морщилась от ухваток свежеобретённого барства – и уже понимала, что всё, никаких шансов. Кирилл промелькнул несколько раз по краешку кадра. Подчёркнуто благожелательный, трезвый. С глазами элитного мажордома. Она останавливала, откручивала назад, нажимала «пуск». Будто ждала, что включит – и не застанет его в кадре. Или увидит другого Кирилла. Совсем другого. Своего. Смешно прищурившегося, в растянутой майке с пёстрым пятном во весь живот.
– Кирюша, ты что рисуешь?
– Ещё не известно.
Увидит в кадре десятилетнего героя, который посреди ночного ливня, когда рвануло в электрическом щитке, растолкал её и скомандовал собирать вещи на случай пожара – вместо вот этого, выпрашивающего себе приличного местечка под чужим солнышком.
«Когда это случилось, Яна? Где ты была, на что разменяла?»
Ездила на кладбище к родителям, меняя время от времени маршрут: то по центральной аллее, то с восточного въезда. Вела медленно, пробегала глазами фамилии на мраморе. Притормаживала, вчитывалась… Хвостики и завитки, растянувшиеся на дверной табличке, стояли перед глазами.
«Столько лет прошло. Ведь, казалось, уже и забыла о ней. А теперь почему-то скучаю».
Позже отыскались слова поточнее. Тяготила её Кочубейша – старуха, умевшая превращаться в Надю с бровями-арками. Недосказанностью тяготила, которую не досказать уже никогда.
«Было хорошо. Мне было у неё хорошо. Было вот что – чувство своего места. По пальцам перечесть, когда пережила это чувство – потом, после неё».
Бывало, задумывалась: хотела бы она повторить, срисовать с Кочубейши?
Коротенькая любовь, каждую чёрточку которой будешь вспоминать, перебирать лилейно перед смертью – украденная у войны, вписавшаяся «от» и «до» в остановку медицинского эшелона где-то на разъезде под Ковелем, в приторных зарослях сирени… Перетерпеть что угодно. Продолжать жить. Победить. И ничего не дождаться в награду. И не ждать ничего…
Яна точно знала ответ: нет, не хотела бы. Но продолжала себя об этом спрашивать.
Сходила в кладбищенскую контору. Сказали: «Нет такой». Сказали, могли кремировать, но крематорская база в прошлом году накрылась, сломался жёсткий диск.
– Идите в Загс. Может, они помогут.
И правда, помогли. В Загсе Яне дали новый адрес Кочубейши. Старуху действительно успели отселить. Прожила в благоустроенной хрущёвке чуть больше месяца.
Жильцы на этаже успели смениться дважды. Нет, никто такую не помнил. Что вы, столько лет прошло! Прожила всего месяц? Так что вы хотите?
Разыскала Сергея Петровича.
Уездного Дворянского собрания, разумеется, простыл и след. Бывший Предводитель Сергей Петрович Измайлов нашёлся с первого клика «ВКонтакте». На детальное письмо Яны с просьбой встретиться, рассказать ей о Надежде Павловне, с которой она была близка в далёком детстве, отозвался не сразу, зато по существу: «Могу передать Вам собранный мною архив. Он невелик, поэтому стоить будет недорого, десять тысяч рублей».
Они встретились в разгар буднего дня в «Пить кофе». Сергей Петрович немного опоздал: из-за первого снега пробки в самых неожиданных местах. Яна узнала его, как только вошёл. Никакого диссонанса в одежде, который уловил когда-то подростковый въедливый глаз. Прилично одетый средней руки гражданин. Куртка, брюки, нестарые ботинки. Вожделенная для Яны папка спрятана от непогоды в цветастый пакетик.
Помахала ему из-за столика: здесь, сюда.
Он разоблачился у ближайшей к столику вешалки, одёрнул тёмно-серый костюм – пожалуй, излишне педантично: полы, рукав, лацканы. Залысины в полголовы, мешки под глазами. Лет и впрямь прошло немало.
Подошёл, завис перед столиком.
– Великодушно извините. Пунктуальность в этом городе – непозволительная роскошь. Пришлось бы выезжать каждый раз часа за два. И ведь не угадаешь, попадёшь в пробку или нет.
– Ничего, я бы дождалась.
Сел. Уложенный на стол пакет ушасто оттопырил ручки.
– Уже звонить вам собирался.
Неловкие секунды. Нужно бы сказать что-нибудь пространно-вежливое в ответ, понимала Яна. Зарифмовать мизансцену. Но вместо этого лишь кивнула ему на книжечку меню.
– Благодарю, ничего, – отказался Сергей Петрович, глянув в её опустевшую кружку.
«Интересно, – подумала Яна, – помнит ли он, с каким остервенением девочка с зубными пластинками отхлёбывала чай у него над ухом?»
Возрастом своим Сергей Петрович пренебрегал. Молодился и держался бодрячком. Это там, у несговорчивой старухи, не предложившей ему раздеться, он терялся и не мог побороть волнение. С нынешней ситуацией – с Яной, перегнавшей его тогдашнего годами, справлялся играючи.
– Итак, решили разузнать о Кочубей-Кугушевой? – Сергей Петрович сам перешёл к делу.
– Да. Решила. Многое упустила тогда. Не понимала. Глупая девчонка.
– Все мы упустили, дорогая моя, – сказал он, с нескрываемым удовольствием смакуя ироничное «дорогая моя», и улыбнулся.
Выдержал полновесную паузу, в которой так и звенел невысказанный упрёк: «Отказала – а что ей стоило?» Будто подаваясь нажиму очевидного, Сергей Петрович покачал головой:
– Приодели бы. Отвезли-привезли. Мемуары издали бы. Спонсор уже был. Эх, с таким-то происхождением!
И замолчал. Компактненько уложился.
«Дело прошлое, моя дорогая, – договаривал его одновременно скорбный и деловитый взгляд. – Таких, не понимавших, видано-перевидано. Впрочем, что дальше?»
Вглядываясь в подчёркнуто бодрого, с негаснущей искоркой в глазах, Сергея Петровича, Яна хотела уже только одного: скорей бы уж всё это кончилось. Соображала, как бы ей расплатиться: выложить деньги на стол? протянуть ему? ждать, пока не напомнит?
– Здесь всё, что я сумел найти, – сказал он, потыкав пальцем в пружинящий пакет. – А я, поверьте, искал. Но информации крайне мало. Не слишком заметный род, надо признать.
«Спросить, что ли, чей он потомок? – размышляла Яна. – Потрафить. Что мне стоит».
– Ветвь, осевшая в своё время в Петербурге, отметилась в модных литературных салонах. Но так, знаете, по мелочи. Кое-кто из двоюродных расстрелян с красновцами. Братьев-сестёр не было.
– Вот, – Яна вынула приготовленные купюры, положила перед Сергеем Петровичем.
Он взял молча, кивнул, не снимая улыбки с лица.
– Надежда Павловна работала в книжной сети, торговала пластинками. Да вы, верно, знаете. Я было прошёлся, но… ничего. Дескать, помним, замечательный человек, на пенсию провожали всем коллективом. Но так, чтобы близко…
– Может, всё-таки чаю? Кофе?
– Спасибо-спасибо, – заторопился Сергей Петрович. – Побегу. Обращайтесь, если что.
Ушёл. Так и не спросила о корнях.
Взяла ещё кружку капучино, принялась просматривать папку.
Досье, как и предупреждал Сергей Петрович, было худенькое. Несколько перестроечных статей, подписанных бароном Измайловым. Генеалогическое древо с пробелами, справки и отписки из архивов.
В истории, что жила в этой стопке бумаг, старуха была не более чем эпилогом, беглым и несущественным.
С непривычной для газет сентиментальностью – в девяностые Яна газет не читала – выцветшие «Комсомолка» и «Спид-Инфо» поведали о княжеском роде караимов Кочубей-Кугушевых, последняя представительница которого скончалась в возрасте семидесяти семи лет, большую часть своей трудной незаметной жизни прожив в полубарачной развалюхе без удобств и телефона. О родителях, получивших блестящее образование в Петербурге, знавшихся с Гиппиус, щедро жертвовавших на театр и живопись и застреленных неизвестными неподалёку от своего особняка в девятнадцатом году, написано было пространно – дефицит фактов восполнялся сентенциями Сергея Петровича о людоедской эпохе. В справке архива Министерства обороны о рядовой Кугушевой сообщалось, что служить начала в 1942-м при медчасти 5-го кавалерийского корпуса, впоследствии, служа в 4-м гвардейском кавалерийском корпусе, за проявленную в боях храбрость и в связи со знанием немецкого языка часто откомандировывалась к разведбатальону. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Красного знамени. Две записи в трудовой книжке. Четыре боевые награды. Так и воевала – нарасхват: то при медиках, то в разведке.
Кратенький список упоминаний Кочубей-Кугушевых в исторических источниках.
Справка с силуэтом скорбящей женщины: квартал 25В, захоронение номер 1452.
Сердце у Яны заныло, когда на картонном донышке с приклеенной тканевой завязкой она наткнулась на фотографию старухи.
Кочубейша стояла на фоне весенней липы. Верхушка костыля выглядывает из-за спины. Левая рука подпирает локоть правой, пальцы которой веером расправлены на ключицах. Прячет обвислый подбородок. Яна и не знала, что она его стеснялась. Прячет неумело, как и костыль. Сергей Петрович рядом вполоборота, чуть пригнув голову, чтобы быть поближе к низкорослой княгине. Улыбается сдержано, не забывая сохранять благородную меланхолию во взгляде. Когда запечатлелся? Возможно, в первый визит. Пока не успел ещё утомить старуху уговорами возглавить галерею выживших отпрысков.
Вечность после детдома, института, после переправы через Буг и сирени под Ковелем – целая вечность прошла, прежде чем девочка Яна стала наведываться в гости к Кочубейше. Долгая-долгая жизнь. Какая?
Пусть без семьи. Без детей. Но ведь были те, кто умел любить её основательнее и дольше раненого артиллериста. Были? У неё не могло не быть.
Но – ни словом, ни разу.
Ни о чём.
Ну да, девочка Яна легковесна была и разбросана. Не умела расспрашивать. Спрашивала про сирень, про баяниста. Но что-то подсказывало нынешней Яне, что старуха вряд ли сумела бы рассказать ей про другое – про долгую-долгую жизнь. Старея, забывала не то, что прожила давно, а то, что прожила тускло. Сбрасывала мёртвые чешуйки – собиралась в последний полёт.
* * *
То лето было обильно холодными обложными дождями. Залило пол-Европы. Куда ни приедешь – течёт, капает, моросит. К счастью, без жертв. Яна выписала серию акварелей: люди под тучами, на фоне предгрозового неба. Проверяют зонты, чинят дорогу, обнимаются. Критика встретила сдержанно. Гейнц взял на пробу несколько работ, но тоже был не в восторге. После первых продаж на Сотбис он ждал от неё продолжения: кипучие полотна с надломанной перспективой, рваная реальность, причудливо склеенная по прихоти художника. А тут – бытовые, в общем-то, сцены. Зачем-то прихлопнутые пасмурным небом. Яна сказала Гейнцу, что перерабатывает собранный материал. На самом деле кипучее и причудливое давно её покинуло и возвращаться, похоже, не собиралось.
В Киеве, где Яна сняла до конца октября студию в мансарде на Андреевском спуске, не работалось вовсе. Часами простаивала у окна с чашкой чая, как в детстве. Добросовестно рассматривала сценки, предлагаемые перекрёстком внизу и крышей дома напротив.
Прогулялась по Крещатику с фотографией Нади в кармане. Посидела на террасе неподалёку от Лавры с видом на Днепр.
Вернувшись в мансарду, фотографию сожгла. Выдула пепел на покатую крышу, и глупые голуби приняли его за корм. Слетелись, оглушив крыльями, замолотили клювами по железу.
– Вот дурни, – сказала она голубям. – Сейчас хлеба насыплю.
Мужчины не плачут
Егор опять собрался уходить. К кому на этот раз, Лилечка не знала. Либо коллега, либо пациентка. При его цельнометаллическом графике романы возможны только производственные. Но тридцать пять не двадцать, и Лиля не устраивает больше слежки, не караулит в соснах перед больницей, не допрашивает, наглотавшись валерианки, а Егор не торопится открыть имя новой разлучницы, длит интригу. Впрочем, к тридцати семи он таки вырастил из Лилечки ту, о которой мечтал с самого начала: она принимает его как стихийное явление. Сегодня есть. Завтра нету. Живём по обстоятельствам.
Мама до сих пор не устаёт напоминать, что она сказала, когда Лилечка познакомила её с Егором: «Пеняй на себя, дочка».
Дома пока ночует, но редко. За ужином помалкивает, смотрит испытующе. Будто проверяет, не закралось ли в решение ошибки, точно ли не может он с ней жить. Спать ложится в детской, стелет в проходе между кроватей мальчишек.
– Ну, ты ведь сачок насчёт секса, я так понимаю, – говорит Марина, давняя Лилечкина подруга и с недавнего времени начальница. – А твой-то гигант. Вот ему и давит.
У самой Марины грустный многолетний роман с заведующим третьей кардиологией, вдовцом, обременённым дочерью наркоманкой. Каждый раз, когда у Марины срывается свидание с Павликом из-за того, что у Кати ломка, или её забрали менты, или она решила вешаться, и Марина проводит очередной одинокий вечер при свечах, она является на работу с недоеденными деликатесами, устраивается после утреннего осмотра в кабинете и принимается анализировать несчастливую Лилечку.
– Ты не обижайся, Лиль. Но заметно же. Просто чаще надо с ним, понимаешь? Чаще. Чаще.
Лилечка любуется тем, как из судка под рассуждения о её вялой сексуальности одно за другим улетают канапе с ветчиной и креветками – будто тарелочки для стрельбы влёт, – а на стол, прямо на чью-то историю болезни, словно отстреленные гильзы, падают освобождённые от канапе зубочистки – и ей становится легче. Стихии стихиями, но кое-что навсегда. Например, это странное умение казаться кем-то другим. Лилечке не привыкать к неожиданным толкованиям собственной персоны. В восьмом классе отправилась на гандбольный матч, поболеть за подругу. Стоит возле ворот, никого не трогает. Вдруг подлетает тренер: «Ничего себе капитан! Все давно переоделись, а она тут ворон считает!» Соседка долгое время считала её радиоведущей: «Да нет, не разыгрывайте. Я же слышу! Я вас каждое утро в машине слушаю». Совсем недавно старушка Арзуманян в палате «люкс», из тяжёлых, поманила её к себе, усадила:
– А вы, доктор, простите, армянка? Я вот смотрю на вас…
– Нет, простите.
Соломенные волосы, молочная кожа – как можно было предположить в ней армянскую кровь… Старушка вздохнула задумчиво. Лилечка встрепенулась, наклонилась поближе:
– Я на первом курсе с Геной Межлумяном поцеловалась. Это не в счёт?
Старушка из вежливости улыбнулась, но шутить не была настроена. О чём-то серьёзном поговорить хотела.
– Да-да, молодость… первый курс, поцелуи, – покряхтела она, сворачивая разговор.
Лилечка после долго вертелась перед зеркалом в ординаторской, трогала свой нос, щупала скулы. И весь вечер напевала: «Ах, сирум, сирум…»
Арзуманян умерла через два дня: тромб, медсестра не успела довезти до реанимации.
Один-два раза в месяц, всегда неожиданно, Лилечка срывается в Москву, к любовнику. Андрей наезжает туда из Воронежа. Он сценарист, пишет для сериала «Терапия» и в столицу мотается часто. Но к Лилечке в Смоленск не может. Женатый человек. Жена бывшая актриса, играла в Москве, знакома с начальством Андрея, и отследить его незаконные перемещения ей ничего не стоит. Ему, однако, ничего не стоит прилепить лишний день к легальной московской поездке. Поэтому – исключительно в Москве, и только суточные свидания, словно кто-то из них отбывает тюремный срок.
Познакомились осенью в подмосковном пансионате. Марина вытолкала Лилечку в отпуск, отдохнуть с детьми, отвлечься от семейной рутины. Андрея пригласил продюсер – обсудить в расслабляющей обстановке сюжетные линии. Продюсер в первый же день расслабился сверх всякой меры, так что Андрей остался без дела и отправился скучать в зимний сад, где Лилечка, заслав мальчишек на коллективную велопрогулку, собиралась дописать отчёт для главврача (тот был большой любитель статистики). От медицинской темы и оттолкнулись. «Вы врач? А я про врачей пишу». Оттолкнулись и поплыли – и как-то незаметно к исходу недели заплыли за буйки.
Многое было за то, чтобы этот роман начался и, начавшись, увлёк её на самую глубь. Разумеется, им сводничала осень: стягивала нежную петлю туманов, дурманно дышала сухой листвой. И, разумеется, на ночных прогулках-посиделках, которые доставались им после того, как отключались измотанные велосипедом и лесными тропинками дети, Андрей держался на «отлично»: не напирал, но и не запаздывал, и каждую черту переступал уверенно и красиво. В постели он оказался чутким и основательным, и настолько не похожим на неистового Егора, который каждый раз словно беса из неё изгонял, что Лилечка почувствовала себя так, будто новая жизнь началась. Всё выглядело предрешённым, она обожала привкус судьбы.
– У меня так торжественно внутри, что снова хочется перейти с тобой на «вы».
– Погоди, я чепец надену.
– Насмешница!
– Не обращай внимания. У меня у самой – торжественно.
Захлестнуло с головой, готова ради взбалмошных этих свиданий метелить в Москву, отрывая деньги от скудного своего бюджета, с трудом договариваясь с коллегами о подменах, возбуждая любопытство всего отделения. Скрывать такое от подружки-начальницы чревато, пришлось рассказать.
– Ну, ты даёшь, – удивилась Марина. – Сразу так радикально? Лиль, ну, не думала, что так тебя задену, правда. Мужчина-то стоящий?
В декабре Егор ушёл окончательно, с вещами. Ушёл неожиданно мягко, без скандала. В стены кулаками не лупил, не рассказывал, что Лилечка пожирает его мелкими кусками и скоро прожрёт насквозь.
– Растёшь, Карагозов, – попрощалась с ним Лилечка в подъезде. – Интеллигентно уходишь. Любо-дорого.
В прошлый Большой Уход, через два года после рождения Саньки, пытался уйти вот так же чинно, предварительно объяснившись с детьми: Тима по-взрослому за столом гипнотизирует стену, Саша в гамаке пузыри пускает, два чемодана посреди ярко освещённого холла – как значок «пауза».
– Мы с мамой очень разные люди. Мы решили пожить врозь.
Но чинно тогда не вышло: задержался, испортил финал. У Лилечки после все руки были в синяках. Нужно было что-то последнее досказать, дообъяснить ей. Хотя, казалось бы, объяснил ещё в двадцать, когда узнал, что она беременна и будет рожать: «Я, Лиля, одомашниванию не поддаюсь. Учти». Оказалось – нет, чего-то самого важного Лилечка никак не могла понять, и Егор хватал её за руки своими пятипалыми капканами, сжимал добела.
– Ты не хочешь понимать меня, Лиля! Не хочешь! С тобой как в комнате с глухонемыми, Лиля! Душно мне, понимаешь! Все эти твои обеды воскресные! Этот запах полироли!
А в мятущемся взгляде страх: вдруг снова – ошибся, снова не туда, и никакой новой жизни, яркой и праздничной, не будет, никогда уже не будет, совсем никогда… В детской мальчишки, таясь друг от друга, размазывают по щекам слёзы… и Егор наверняка не решится к ним зайти. Постоит под дверью, мрачно шепнёт: «Спят. Не буду будить», – и затопает решительно на выход, как солдатик в увольнительную. Жалко безумно… С Лилечкой жалость неизменно проделывает странный фокус: как только ужалит – эмоции отключаются, организм собирается пружиной, готовый немедленно действовать, вмешаться и прекратить. Однажды спрыгнула с подножки отъезжающего троллейбуса, заметив на остановке раненого кота (успешно пристроен к больничной столовой, зовётся Марио). Отравленная жалостью к Егору, Лилечка привычно собиралась, прицеливалась… но всё, что могла в предлагаемых обстоятельствах – затихнуть и ждать. Чтобы отбушевал поскорей, ушёл, не терзал себя и всех вокруг. Он же при виде её выжидающего спокойствия ещё больше бесился. Называл чудовищем.
В этот раз, видимо, начал смиряться – то ли с Лилечкиной жалостью, то ли с чем другим. Пробурчал из лифта:
– Прости.
Как будто между ними ещё возможны такие начальные мелочи, как обиды и прощения. Кто ж виноват, Карагозов, что такая трудноуправляемая досталась тебе игрушка – твой собственный норов. Иди уж, доигрывай…
В январе маме заменили раскрошившийся от остеопороза бедренный сустав. Московские поездки пришлось приостановить. Андрей прислал ей эсэмэской четверостишие: «Москва без тебя – столица печали. Январского неба пустой стакан. В сугробиках снега – трупики чаек, Рискнувших любить не свои берега». Уложив в тот день детей, Лилечка устроила мобильник в большой шарообразный бокал напротив себя, выпила в компании с ним вина.
Мама после операции приходила в себя тяжело. Злилась на собственную хромоту, на неуклюжесть. Отец спасался от неё на подлёдной рыбалке. Ухаживать за собой, мыть полы и готовить мама не позволяла. Но и Лилечку от себя не отпускала. Пересмотрели фотографии, мама подолгу вспоминала, рассказывала давным-давно знакомые, заученные наизусть истории. Как за молоком на комбинат ходила – в пять утра, через пустырь, как у Лилечки был самый пышный бант на Первое сентября. Всё перебирала – будто нащупывала в прошлом опору. Когда воспоминания закончились, закончилась и послеоперационная депрессия. Мама повеселела, расписала цветочками костыль, папа забросил удочки.
Про Егора родители не расспрашивали давно. В какой-то момент просто устали запоминать: вместе живут или врозь.
После маминой операции неприятности посыпались пачками.
Сначала прохудился шланг у стиралки. Долго зазывала к себе сантехника из ТСЖ, сантехник не желал отвлекаться на эдакую мелочь, за которую непонятно, сколько запросить. Поканючив, пообещал сделать бесплатно, но когда – не сказал. Потом стало не до сантехника. В закрытой на ремонт первой кардиологии взломали сейф, вынесли подчистую все обезболивающие и наркотические. Сигнализация не сработала. Лилечка в ту ночь дежурила, и следователь назначил её главной подозреваемой – даром что первая кардиология на другом этаже, ключи у охраны. Прессовал основательно, со сталинским огоньком. Намекал на показания свидетелей, стыдил детьми. От офицерского его хамства у Лилечки разыгралась гипертония, да так, что пришлось мотаться в обед на уколы. Потом авария. Новую «Тойоту» Егор забрал, оставил ей старую «Ниву». К удивлению Лилечки, ржавая коробочка заводилась без колебаний и бегала как живая на первых трёх передачах. Чётвёртую выбивало. Но четвёртая в городе почти не нужна, а если приспичит, можно рычаг рукой придержать. И вот – сестра Жанна уезжала с мужем на две недели к родне, предложила свою «Мазду». Лилечка сдуру согласилась. Просто стояла на светофоре. Печка греет, сиденье не скрипит, льётся лёгкая музыка. Сзади по касательной её черканул лихой мотоциклист. Вырулил и умчался: как раз включился зелёный. Не гоняться же за ним. Номера не разглядела. Заняла у Марины денег, отогнала «Мазду» в ремонт. В обед поездила в мастерскую на ржавой «Ниве», торопила мастеров, которые никак не могли покрыть лаком покрашенное уже крыло: лакировщик болел, маляр капризничал, не хотел делать чужую работу. Закончили за день до возвращения Жанны. Ещё через день с больничной крыши на голову Лилечке рухнула сосулька. Спасибо, не насмерть.
– Ты хоть поплачь, что ли, – советовала Марина, обвязывая ей лоб на манер камикадзе и поглядывая в буддийски отрешённое лицо. – Полегчает.
Лилечка только плечами пожала:
– Мужчины не плачут.
Они переглянулись – и расхохотались так, что в кабинет к ним ворвались медсёстры: чего смеётесь, и нам хочется. Но разве объяснишь им всю соль? Молодые ещё, живут по нарисованному, будто в классики прыгают.
Обычно Андрей приезжал в Москву за день до неё, улаживать свои сценарные дела. Но для Лилечки свидание уже начиналось. С утра ходила, пританцовывая. Больные отпускали ей комплименты. Вечером, перед отъездом, Лилечка укладывала мальчишек спать и, запершись в ванной, наслаждалась нехитрыми сборами. Она бы не прочь наслаждаться ими подольше, как положено: сходить в парикмахерскую на маникюр-педикюр-укладку, выбрать в роскошном магазине новое бельё под настроение, перехватывая понимающие и слегка завистливые взгляды продавщицы. Выспаться. Но, во-первых, на всё это нету денег-времени-сил. Во-вторых, и те крохи, которые остаются, Лилечка норовит по привычке смахнуть набегу. Егор впервые решился переехать к ней, когда Тима начал ходить. Декрета, считай, не было, продолжавшие преподавать родители помогали эпизодически – с тех пор заставить себя делать что-нибудь медленно очень непросто. На прошлое Восьмое марта Марина водила её на чайную церемонию, так Лилечка чуть с ума не сошла от напряжения, несколько раз одёргивала себя – всё порывалась помочь: чашку подвинуть, щёточку подать.
Когда волосы высушены, Лилечка в четыре отработанных приёма собирает их в хвост, садится на край ванны и, переведя дыхание, не спеша, с удовольствием натягивает на ноги белые чулки с резинкой. Ей нравится прятать молочную ногу в кипельно-белый чулок. В подарочную упаковку. В дороге немного неудобно, резинка съезжает. Зато в номере, с ветра и холода, в запашном разлетающемся платье, как только Андрей разглядит на ней чулки – будет хорошо. Постарается растолковать ему без слов, как следует с неё эти чулки снять – медленно и плавно, стянуть, скатать податливую белизну. Распаковать подарок. С Андреем легко… И снова – стоило о нём подумать, толкнулась в сердце нетерпеливая радость: можно? можно уже?
Видела ведь, Лиля, куда плывёшь. Влюбилась? Влюбилась, глупая тётка. Можете открывать с Мариной клуб безнадёжных сердец.
Лилечка бросает в сумку косметичку, выходит из ванной.
– Ма, – сонным голосом зовёт Тима. – Я вспомнил, у мелкого завтра физра. У него же кеды порвались.
Выложив пятисотенную на комод, уклонившись от хмурого взгляда из тёмного зеркала: опять детей бросаешь одних, – Лилечка входит в детскую.
– Сынок, сможешь с ним завтра на большой перемене сбегать в обувной на углу? – шепчет она на ухо Тиме. – Там кеды обязательно будут.
– Могу, конечно, – отвечает Тима смешным басовитым шёпотом.
– Тридцать четвёртый размер.
– Да я в курсе.
– Ещё раз, вкратце. Еду разогреваешь. Посуду моешь с двух сторон. Я твой плеер в дорогу взяла.
– Ну, мама, – ворчит для порядка Тима.
Для детей она в командировке, отвозит важные документы в Минздрав.
Тима великодушно позволяет чмокнуть себя в лоб. Саша, не просыпаясь, принимается хныкать, бубнит что-то неразборчивое. Сдерживая смех, Лилечка торопится расцеловать спящего у другой стены Сашку. Даже во сне умудрился приревновать к старшему.
Тима просто так суровость свою четырнадцатилетнюю на телячьи нежности не разменивает, только в особых случаях, и то нужно изловчиться, не вспугнуть. А Саньке всегда мало. Всегда голодный – как голокожий слепой птенец с жадно распахнутым клювом, алчущий корма, ежеминутно караулит, выпрашивает материнской ласки. Вовремя не приласкаешь – захандрит. Вечер напролёт готов возле матери просидеть. В последнее время Лилечка старается сокращать порции, меньше с ним сюсюкать. Тима начал посматривать на него свысока – дескать, маменькин сынок. А Сашке дружба со старшим братом ох как нужна. Слишком Саша нежный, несдержанный в нежности – как отец его в мужественности своей не сдержан. Больно ему будет жить. Так же, как его отцу. Слава Богу, Тимоша понимает меру, не расшвыривает себя.
На редкость разные у неё дети.
Андрей не узнает никогда о том, что предшествует их встречам – о её вечерних сборах, о том, как она запирает дверь, оставляя мальчиков одних. Такой Андрей учредил порядок: о семьях ни слова, двойную жизнь употребляют, не смешивая. Их мир каждый раз заново складывается за другой – гостиничной – дверью, и, как только они за неё выходят, рассыпается в прах… Это Андрей так думает. Для Лилечки это невыполнимо. Разъять и отложить на время, чтобы не путалось, она не умеет. И когда Андрей отправляется в туалет, Лилечка, как оставленный без присмотра шпион, хватается за телефон, отправляет эсэмэски Тиме: «Как дела? Поели? Уже дома?» У Тимы – свой, не всегда предсказуемый, ритм, и ответы приходят порой в самые неподходящие моменты (Лилечка отключает звук, но тогда телефон истерично жужжит и ползает по прикроватной тумбочке в поисках хозяйкиной руки).
О жене Андрея, Татьяне, Лилечка тоже думает часто. Не то чтобы думает – но помнит. Принимает в расчёт. В сегодняшней Лилечкиной ойкумене жена Андрея – крайняя точка, терра инкогнита. Неведомая и запретная, именно она определяет пространство, в котором всё будет кружиться.
Странно быть любовницей. Вот теперь и она…
В многочисленных паузах её замужества у Лилечки случались мужчины, но всегда мельком, не претендуя на большее, и в ней ничем большим не откликаясь. Разве что бывший одноклассник Денис, с которым они дружили и который в десятом мучительно с ней советовался: кто, Ира или всё-таки Надя, запомнился пьяными есенинскими стихами и нырянием в заиндевевший фонтан. Андрей стал первым после Егора, кто появился, чтобы жить – как умел, как осмеливался, – но жить, подробно и горячо.
Лилечка нажимает кнопку лифта. Завтра. Завтра утром он встретит её на перроне. Первые секунды будет смущаться, попробует отделаться сдержанным приветствием. Но, как только потянется к ней навстречу, тут же соскользнёт преждевременно, вопреки собственным правилам – туда, куда можно, только когда они остаются наедине. Прилипнет губами. И рад бы оторваться, люди вокруг, опасно – да не может. И Лилечка невольно рванётся, поплывёт. Слаще всего, что будет дальше, наедине – это мгновение в перронной толкотне. Ощутить, что ему физически тебя не хватало. Было плохо без тебя. Пожалуй, только в роддоме, когда приносят на кормёжку новенького ребёночка, и тот вопит нетерпеливо, учуяв близкое молоко – пожалуй, только тогда бывает ещё вкусней.
Гостиница на ВДНХ, в которой они останавливаются – ведомственная. По крайней мере, в девичестве. Сейчас тут сдают номера от двух часов, у метрдотеля за отдельную плату можно взять электрочайник, микроволновку и DVD-проигрыватель с дисками, коробочки которых стыдливо заклеены непрозрачным скотчем. Гостиница пережила, судя по всему, множество поверхностных ремонтов. Но советское прошлое проступает тут и там. Щурится, покашливает из каждого угла: вытертые красные дорожки в длинных приземистых коридорах, привинченные шурупами к дверям белые металлические плошки с номерками, гулкие жестяные ванны, чугунные батареи, столы с корявой клинописью инвентарных номеров. В стрельчатых окнах – чужой двор. Чужие машины прячутся под несвежими сугробами, чужие дети топают в школу. Качаются заснеженные ветви, с которых вороны, взлетая, стряхивают сверкающие россыпи.
– Сучка, – шепчет Андрей, покусывая ей ухо. – Сучка моя.
Голос его трепещет как сыплющиеся с веток искры.
– Сучка, – весело повторяет Лилечка вслед за ним, прислушиваясь к слову.
Странно слышать его от благовоспитанного Андрея. Кто бы мог подумать, что оно может прозвучать так нежно. Трогательно так.
– Конечно, я сучка. Да. Тебе нравится?
Когда они перебираются из постели в кресла – покурить, потягивая вино – с Андреем случается то, чего раньше не бывало. Он делается печален. Становится к окну, обмотавшись полотенцем, выдувает струйку сигаретного дыма в открытую форточку. Лилечка рассматривает его с рассеянной улыбкой. Совсем неспортивная фигура. Крепкий, но фигура неспортивная. Ему бы сбросить кило пять. Рассматривает – и смакует новое чувство близости. Необжитое, с пылу, с жару. Вот эти его плечи, и островком заросшая грудь, и живот батончиком, и широкие костистые колени, – всё только что стало родным.
Нет, Лиля. Врастать не нужно было. Несбыточно…
И будто откликаясь на Лилечкины мысли, Андрей говорит, глядя в окно:
– У меня накануне отъезда раздрай в семье приключился… На пустом месте. Не знаю… может, Таня что-то заподозрила.
Тушит окурок в пепельнице, потом смахивает в неё рассыпавшийся пепел. Прикуривает вторую подряд.
– Таня сложный человек. Импульсивный. Забрала ребёнка, ушла к маме. У нас девочка, девять лет… Не знаю, что меня ждёт, когда вернусь. Если вправду разузнала про нас – скорей всего развод. Или ужас на всю оставшуюся жизнь… посмотрим…
Говорит медленно, затягиваясь между фразами. И по тому, как свободно Андрей смешивает оба компонента двойной жизни, Лилечка догадывается: всё кончено. Что бы ни поджидало Андрея дома, с Лилечкой он решил закругляться.
– Несбыточно, – напоминает она себе.
– Что? Не расслышал.
– Ничего, Андрюша. Давай выпьем и пойдём в постель.
Но ему нужно выплеснуть: давит.
– У нас с ней непростые времена. Была любовь. Непростая история, Таня бросила жениха. Она моложе меня… это так, к слову. Ушла из театра, перебралась в провинцию. Ей в Воронеже тоскливо. Нервы…
И дальше – уточняет, дорисовывает бурную историю Татьяны, закончившуюся побегом от выгодного столичного жениха в вечный воронежский штиль.
– С моей стороны будет свинством бросить её после всего, с ребёнком. Я так не могу.
Коньяк они допивают в синем полумраке. В окне поселяется закат. В густую тишину вплетается гул пылесоса и редкие вороньи крики. Андрей встаёт, идёт к вешалке, быстро возвращается.
– Вот. Это тебе.
Кладёт на столик перед ней коробку с серебряным колечком. Больше не смотрит в глаза. Делает много лишних движений, прежде чем добраться до главного.
Колечко великовато. Надев его, Лилечка сгибает пальцы, чтобы это не бросалось в глаза.
– Спасибо. Оно замечательное.
– Можно, я тебе денег оставлю? – бормочет он. – Билеты, всё такое…
– Перестань, Андрюша. И я очень хочу с тобой в постель. Как никогда.
– Я на ночь не могу остаться. Прости. Возвращаюсь ночным поездом.
Лилечка внимательно следит за тем, как он одевается – точнее, за самой одеждой. Брюки, майка, носки. В институте вот так же, не отрываясь, следила за инструментом, когда впервые пришла на вскрытие.
Андрей почти одет. Глядя на его пальто, ожидающее своей очереди на опустевшей вешалке, Лилечка представляет, как эта обшарпанная, с фанерными латками, дверь закроется за ним… шагов не будет, шаги украдёт ковровая дорожка. Она выпархивает из кресла.
– Подожди. Я тебя провожу.
Шершавая ткань пальто, под которой ходит его рука, запах табака, оттенённый лёгким морозцем, равномерный поскрип снега, вечерняя улица. На перекрёстке Лилечка останавливается.
– Всё. Иди.
– Ещё можно, если хочешь.
– Нет. Ты иди, только не оглядывайся. Я буду смотреть. Хочу тебя запомнить.
Здесь подходящие декорации: широкий провал перекрёстка, свет витрин. Будет удачно сочетаться с берёзовой аллеей в пансионате, по которой они гуляли в начале.
Поцелуй прохладен.
Спина Андрея удаляется, время от времени теряясь в пешеходной толчее, выныривая снова, пока наконец чей-то силуэт, ничем не примечательный, спешно пролистанный, как все остальные, не закрывает его от Лилечки насовсем – и её растерянный взгляд возвращается к этому последнему, распознаёт в нём студента в полосатом шарфике, с наушниками в ушах, с торчащими из кармана перчатками – и, кажется, надеется разглядеть в нём отблески Андрея.
Вернувшись в номер, Лилечка ложится, не раздеваясь, на кровать – и лежит так тихо, без сна, слушая каждый ночной звук и шорох, как беспомощная больная сука, терпеливо дожидающаяся выздоровления. Она помнит одну такую. Старая тонкомордая дворняга. Сломала где-то лапу. Лежала на ступеньках сторожки и смотрела страшными человеческими глазами.
Хорошо, что поезд ранний. Плохо, что завтра выходной.
Дома, отослав детей к бабушке с дедушкой, Лилечка погрузилась в изматывающий марафон генеральной уборки, вплоть до мытья люстр, до выскабливания пластилина из-под плинтуса, до пересаживания кактуса в новый горшок. Совершенно случайно на лестничной клетке выловлен и водворён к поломанной стиралке сантехник. Давным-давно купленный шланг заменён – и после ухода сантехника генеральная уборка продолжена стиркой штор.
К середине ночи можно было выпить и позволить себе вспомнить Андрея. Ничего кроме водки в доме не нашлось. В уголке холодильника скромно старился апельсин. Лилечка выдавила сок, смешала себе «Отвёртку» и встала к окну – так же, как стоял Андрей, рассказывая про Москву и Воронеж.
– Спасибо, – сказала она в чернильное звёздное небо, покручивая на пальце прощальное колечко. – Было замечательно.
Андрей ещё попытался наладить с ней переписку по электронной почте – о том, о сём, о погоде, о своём сериале – но Лилечка не смогла. Впустую просиживала перед компьютером, не в силах набрать хотя бы несколько предложений. Так и не осилила шутливый светский тон, предложенный Андреем, и переписка угасла сама собой.
Больничные будни затянули в привычный круговорот, спасая от всего несбывшегося. Тяжёлых было не по времени много: до весеннего пика далеко, но множественных инфарктов и сердечной пневмонии – полные палаты. Теперь приходилось ещё и за Мариной следить, оберегать от проколов. После того как на Павлика завели дело в связи с кражей препаратов, Марина сделалась сама не своя. Препараты – то, что от них осталось – нашли у Павлика дома, в бачке унитаза – и в тот же день заключили под стражу. Марина методично, каждый четверг, напрашивалась к нему на свидание, и каждый день убеждала Лилечку, что в сейф залез не он, а дочь его Катя, которая одно время работала здесь санитаркой и больницу знает как свои пять пальцев. Непривычно часто звонил Егор: справиться о детях, поинтересоваться состоянием Лилечкиного кошелька. Перебежал он, как говорили, туда же, куда и шесть лет назад, к бывшей своей пациентке. Жгучая брюнетка, метр восемьдесят, мастер спорта по синхронному плаванию.
– Ну, может, отмучился мужик, – размышляла Марина, отвлекаясь ненадолго от мыслей о своём Павлике. – Остановился же на чём-то.
Саша просил купить ему новый телефон: в классе у всех уже сенсорные. Лилечка обещала на Новый год, выторговав взамен годовые «пятёрки» по всем предметам. Тима подрался. Видимо, неудачно. На зашитой губе остался шрам. Лилечка ждала, пока сын смирится с поражением и будет готов рассказать ей о драке – но была уверена, что в истории замешана девочка.
На Восьмое марта, вечером, пришёл Егор. Мальчишки в качестве трудового десанта были откомандированы к бабушке – намечалось крупное семейной застолье – о чём Егор, судя по всему, знал: незадолго до этого ходил с детьми на каток.
Пришёл с большим жёлто-красным букетом роз. Портфель выразительно позвякивал.
– Бог мой, – удивилась Лилечка нелепому букету. – Это что за язык цветов, Карагозов? Переведи, не томи.
Заставив прежде принять у него цветы и поставить их в вазу, Егор усадил Лилечку на диван и рассказал, что уже больше месяца живёт один, у своего интерна. От пловчихи ушёл. Как отрезало. Всё осознал. Во всём виноват. Был сволочью.
– И остаёшься, – поправила его Лилечка.
– И остаюсь, – покорно согласился Егор. – А этот букет… красное – любовь, жёлтое – измены. Не сочетается, правда?
И подойдя к вазе, Егор принялся вытаскивать оттуда жёлтые розы. Вынув все до одной, выбросил в холл.
– Егор! Нет слов! – всплеснула руками Лилечка. – Я отвечу тебе позже, ага? Мне нужно подготовиться. У вас, кстати, клумбы перед больницей не убрали?
Но было ясно, что Егор намеренно валял дурака. Решил потешить сентиментальной клоунадой. Для него это нечто. Как если бы знаменитый тореро в зените славы решился выскочить на арену в рыжем парике. Егор обычно возвращался без лишних слов. Подкупал подарками детей… «Ма, ну пусть папа сегодня переночует. Поможет мне самолёт дособирать, нам ещё долго…» Мог привезти новый холодильник и пробраться в дом вместе с грузчиками. Или его привозили друзья с загипсованными ногами: нырял со скалы, там мелко оказалось.
– И зачем ты мне рассказываешь о своей личной жизни, Карагозов? Хочешь дружить – зарегистрируйся в «Одноклассниках».
– Лиля, я не решаюсь просить прощения… Но я… В общем, другой человек… Как выяснилось.
– Так! – скомандовала Лилечка. – На выход! Она почти его выпроводила. Стоя в дверях, Егор вспомнил:
– А Тима-то из-за нас подрался.
– Что?!
– Да кто-то ляпнул, что у него родители шизанутые.
– Кто?
– Да какой-то пентюх во дворе. То ли Вова, то ли Валя.
И Лилечка его вернула. Усадила на кухню, принялась расспрашивать. Егор сначала рассказал ей о драке, о которой успел допытаться у Тимы. Потом намекнул, что видел Тишкину пассию. Незаметно на стол из портфеля перекочевала бутылка абсента, сироп.
Поговорили о мальчишках.
– Я в церковь ходил, – произнёс вдруг Егор сипло, голосом смертельно раненого. – Насчёт венчания.
Лилечка снова принялась его выпроваживать, потянула из кухни. Но, оказавшись в холле, посреди жёлтых роз, Егор сгрёб Лилечку в охапку и утащил в спальню. Она расцарапала ему горло, но всерьёз не сопротивлялась.
Кое-что навсегда. Есть в его неприкаянной брутальности чары, от которых Лилечка так и не нашла отворота.
Наутро всё-таки прогнала.
К пловчихе Егор действительно не вернулся. От интерна съехал, снял квартиру в соседнем подъезде и, напичкав её веб-камерами, соединил в сеть с домашним компьютером: аскетизм онлайн, никаких баб, покаянно жду прощения. Лилечка реалити-шоу «Егор-2» игнорировала, а мальчишки приняли с восторгом. Весь вечер только и слышно:
– Папа футбол смотрит. Папа на кухне. Папа мыться пошёл.
На работе легче не стало. Больные лежали уже в коридорах, ремонт во второй кардиологии затягивался. Затягивалось и расследование по делу Павлика. Павлик путался в показаниях и на следственном эксперименте, когда его попросили продемонстрировать, как он шёл на дело – умудрился ошибиться дверью. Марина добилась свидания, а по возвращении устроила жуткий разнос медсёстрам: ляжки наружу, халаты не стираны. «Просил за Катей присмотреть, – поделилась она с Лилечкой наедине. – Лучше б удавить попросил, ей-богу. Рука б не дрогнула».
Первые робкие догадки мелькнули в начале апреля. «А вдруг?», – затаив дыхание, думала Лилечка и, как могла, старалась отвлечься от преждевременной радости. Отдежурила лишнюю смену. Сходила с мальчишками в кино. И вот уже пьяное счастье журчит по венам: беременна.
– Мама, мамочка! Я беременна!
Остальным не говорила, хотела оттянуть. Возраст, мало ли что. Но Марина догадалась сама: курить бросила, на лице такое выражение – будто голосам внимает.
– Лилька, ну ты ваще! Авантюристка.
Заметив живот, Егор вернулся без спроса, самозахватом – так же, как подарил ей третьего. Забавлял её хозяйственными подвигами: надраивал полы, закупал продукты. Даже попытался готовить, но у Саши на отцовскую стряпню не хватало характера, и Егор из кухни отступил.
– Карагозов, ты так резко одомашнился, я за тебя боюсь. Хотя бы в боулинг со своими сходил. Или… не знаю… в бассейн.
Узнав о том, что мама родит ему брата или сестричку, Тима совершенно растерялся. Понимал, что должен теперь вести себя как-то особенно, но не мог придумать – как. Полы и посуда были уже заняты. Для начала, к радости Егора, принялся подтягиваться на турнике. Родители реагировали в том же ключе, что и Марина: «Авантюристка!», – но более развёрнуто. Один лишь Саша держался как ни в чём не бывало. Так же звонил на работу, льнул к Лилечке по вечерам, просил о чём-нибудь с ним поговорить, посмотреть вместе мультик. Подарил рисунок: папа, мама, он с братом – и огромный, как подъёмный кран, аист опускает в их вытянутые руки белый свёрток с жирной красной «тройкой» поперёк.
Третий, показало узи, тоже мальчик.
Лилечка уединяется с ним в ванной. Растворяет морскую соль, капает на плошку со свечой ароматического масла. Персика. Или лаванды. И укладывается, внимательно наблюдая за погружением живота – будто живот может уплыть от неё или нырнуть слишком резво. Пускает тонкую струю воды, чтобы монотонным её шумом отгородиться от звуков, долетающих из-за двери, и бережно гладит пальцами восхитительный розовый купол, сгоняя с него стайки вертлявых пузырьков. Лилечка разговаривает с ним о многом. О том, какие обои встретят его дома. Какую она купит ему кровать. О том, что будет зима. Ранняя, переменчивая. С ветром и мокрым снегом. Неприятно, зато проскочишь сразу, даже не запомнишь. Будешь наблюдать из тёплой лоджии, сидя у мамы на руках, как рвётся с цепи декабрьская непогода. Весной будет сквер, уложенный квадратными плитами, в стыки которых протиснулись коготки травы. Много детей вокруг, шумных, с игрушками наперевес. Потом будет лето. Зелень, жара, облака. Потом настанет осень.
У каждого из тех, что остались за дверью ванной, есть несколько вариантов имени для малыша. Лилечка просила каждое утро за завтраком называть ей по одному. Кто-нибудь из них произносит имя, Лилечка отхлёбывает чай и прислушивается, как оно звучит. Выбирает.
Пальцы располнели, и подаренное Андреем колечко сидит как влитое. В прошлый четверг он прислал ей длинное нервное письмо, в котором объяснял, почему не может бросить жену, хотя любит Лилечку безумно, как никого никогда не любил. Лилечка пока не решила, что ему ответить.
Тбилисоба
Мать сказала: приезжай. В этот раз не ходила кругами, не выспрашивала, когда можно ждать. Не агитировала: съездили бы куда-нибудь, столько интересных мест – хоть в Мцхета, хоть в Бакуриани. Долго и обстоятельно рассказывала о недавней вылазке в центр, делилась мелкими дворовыми новостями. А когда Влад спросил про Гурама: как себя чувствует, что говорят врачи, – как спрашивал тысячи раз, как было заведено у них закруглять телефонные разговоры и беседы в Скайпе – обо всём, дескать, поговорили, сейчас про Гурама, то-сё и прощаться – сказала: «Приезжай». Молча кивнул. Всё ясно. Глупо уточнять. Будто всучили повестку в суд. Не «приезжайте» – знала, что с семьёй не приедет. Только на прошлой неделе объяснял ей, почему в этот отпуск непременно Германия: Машка стала учить немецкий, думает поступать на иняз, пора бы ей побывать в стране…
– Я приеду.
– На его день рождения.
– Хорошо.
– Денег много не вези, я отложила. Нужно сделать ему праздник, сынок.
– Да.
– На тот год может быть поздно.
– Да, мама. Я понял.
В последнее время всё реже подкатывала Гурама к ноутбуку, когда созванивались по Скайпу. «Сегодня он не в форме».
Гурам угасает.
Долго держался. Первые годы инвалидности казалось – ничем не сломить. Сражался фанатично. Каждое утро, лишь бы не снегопад, не ливень – на каталке до Нахаловки и обратно. Попросил соседей, сделали ему перекладину в углу двора – низенькую, чтобы доставал сидя. Подтягивался по двадцать раз.
Здесь, в России, Влад вспоминал отчима каждый раз, когда нужно было собраться, одолеть уныние, ухватиться покрепче. Вспоминал витальность его, цепкость и цельность звериную – и успокаивался. Укреплялся. Сколько раз, бывало, закрывал глаза и представлял, что он – Гурам: голову вот так, выше… плечи… голос пружинистый, с хрипотцой… трогал лицо своё, будто лепил, как нужно – вот так, подбородок, брови, насмешка прячется в уголках рта… Но тут предел любой витальности – сдался мозг, повреждённый тридцать лет назад гематомой. Бывает, встанет на перекрёстке и стоит полдня, пока не наткнётся на него кто-нибудь из знакомых: забыл дорогу домой. Вдруг вытрет руки о занавеску. Испугается дворового тузика, подобострастно молотящего хвостом. Врачи сказали: деменция. Слабоумие. Всё произойдёт быстро. Возможны рецессии, довольно длительные, но финал предрешён.
Отца Влад не помнил. Отец прошёл краешком. Так – фотографии, мамины рассказы: обида, обида. Развелись и пропал. Как не бывало.
Про Гурама мальчик узнал в последний момент. Мать долго не решалась рассказать – а роман развивался стремительно.
– Аба, бичо, гамомартви, – сказал он, весело вваливаясь в его жизнь.
Распахнул дверь плечом, протягивает охапки авосек с рынка. Костюм, галстук. Глядя на озадаченного Владика, перешёл на русский:
– Забери, а, – улыбнулся, переходя на русский. – Помогай давай. Сейчас знакомиться будем. Я на твоей маме женюсь.
Дворовые мальчишки жаловались как-то на своих отцов – один начал, и пошло-поехало: наказал, накричал, не отпустил. Владик жалел друзей – но и радовался тайком: с Гурамом такое было невозможно. Гурам вступал с ним в переговоры. Главный лейтмотив: «Подожди. Послушай. Хорошенько подумай». Не мог убедить – соглашался, вздохнув: «Ладно, парень, иди, набивай себе новую шишку».
Девять лет ему было. Отчима полюбил безоговорочно – по-щенячьи вечно голодной, торопливо вгрызающейся любовью. Как ходит, как говорит, как подкатывает рукава сорочки, как ест, как починяет дверную петлю – всё было ценность для Влада в этом подарочном человеке. Так называла его мать – по секрету, Гураму это почему-то не нравилось.
– Ты бриться? Подожди!
– Вай мэ, Владик! Придумал забаву!
– Стой!
– Ну, давай скорей.
Тёр ладонью по густой щетине. Щетина шуршала.
– Мама, слышишь?
Мужчина морщился, мальчик смеялся.
Подглядывал, как Гурам рубится во дворе в домино – выхватывает камень из руки, размахивается с обязательной коротенькой паузой в верхней точке и отрывисто щёлкает камнем по дубовой столешнице: «Чари-яки! И считаем, считаем. Алес-гонсалес, дорогие товарищи». Вечера стали одинаковыми: сидел дома, читал или делал уроки, дожидался отчима с работы.
– Смотри, что я выпилил.
– Что это? Не говори! Угадаю. Головастик.
– Нет.
– Тогда это кольцо. Для салфетки. Угадал?
– Нет.
Мама подсказывала из-за спины. Влад слышал, как она звякает связкой ключей, видел её отражение в окне, но виду не подавал. Пусть.
– А! Это… – всё-таки сомневаясь. – Брелок?! Конечно! Я же вижу, это брелок для ключей.
И Гурам носил этот чудо-брелок, выпиленный из фанеры – несуразно большой, неудобный, с щербатыми краями, которые цеплялись за карманы.
Его первая жена погибла в аварии. Гурам был за рулём. Лопнул тормозной шланг по дороге с Черепашьего озера, «Нива» слетела в кювет. Жену выбросило в окно, у Гурама ни царапины. Несколько раз в году он пропадал на целый день допоздна. Влад с мамой затихали и, пряча друг от друга глаза, ждали, когда он вернётся к ним из той, предыдущей своей жизни.
Чуть подрос – стал стесняться своего чувства. Какое-то время придирался мысленно: он это специально, он играет, он знает, как. Наверное, не без того: Гурам умел и любил нравиться. Но если и было его обаяние мастерством – это было мастерство, сумевшее стать природой. Дождь мокрый, в августе жарко, Гурама все любят.
Собрался ехать – и как-то сразу всё стало проще. Со Светой стало получаться без ссор. Сдача билета в Берлин, отмена трехместной брони, новая бронь, уже только на Свету и Машу – долго выбирали подходящий отель, мест осталось мало, Света обижалась, упрекала его в эгоизме: «А мне одной с ребёнком в чужой стране! Что такого, если ты немного отложишь, слетаешь после дня рождения, на новогодние праздники, например?» Но – без скандала. Ничто не могло смутить обретённой ясности: еду к своим, так нужно.
Нахлынуло, как только приземлился в Тбилиси.
В последние разы летал с семьёй.
– Пап, а что там написано? А смотри, как всё светится. А купи мне эту штучку.
В последние несколько раз столько было примешано туризма, что своего Тбилиси Влад почти не почувствовал. Сейчас, в одиночестве, мгновенно наполнился с краями. Напел себе под нос обрывки грузинских песен, какие смог вспомнить.
– Аба, э! Отвезу по счётчику. Себе в убыток!
Давненько не был здесь по-настоящему. К счастью, всё на месте. Все ниточки целы. Моё. Город, тут и там нарядившийся Европой, не ускользнёт от него, не отделается витринным блеском.
Попросил таксиста проехать через центр. В рассеянности назвал улицу по-старому: Монтина вместо Зазишвили. Таксист, хоть и выглядел намного моложе Влада, переспрашивать не стал. Давно, стало быть, таксует – нахватался от пассажиров старых названий. В зеркале мелькнул диагностирующий взгляд: «Из бывших местных?»
– Музыку включу?
– Конечно.
– Так не громко?
– Отлично.
Когда проезжали по Воронцовской набережной, где случилась с Гурамом беда, не отвернулся, как делал обычно. Мысли не скользнули, как обычно, в сторонку. Сонная Кура. Мутный задумчивый поток из-под невидимого гончарного круга. Все реки, впрочем, одинаковы – сонные ли, шумные: текут, забывая, обучая забвению. Дотекли, дотянулись до Гурама глинистые воды: пора забывать, дорогой, давай, хватит, пора. Что лепилось, что разбилось – уже не важно. Забудь. Разожми, не цепляйся. Плыви туда, где будет всё равно.
В том году Гурам начал ходить на школьные собрания. Учительницы шептались, старшеклассницы зыркали. Владу понравилось. Собрания назначались на субботу, после последнего урока, и Влад задерживался перед школой, чтобы Гурам – плечистый, искристый, на виду у всех поздоровался с ним за руку.
– На Тбилисоба, – сказал Гурам, – поплыву на плоту. Друг приехал, позвал. Прости, Владик, не могу тебя взять. Договорились без детей. И без молодых джигитов, – поспешил исправиться.
Влад с мамой прогуливались по набережной, под всхлипы и хохот дудука, сквозь шашлычный дымок, мимо развалов со сладостями и фруктами. Октябрь выдался волшебный: холодок и яркое спелое солнце. Говорили мало. Посматривали на реку, чтобы не пропустить плот с компанией Гурама. Особое развлечение оставленных на берегу женщин и молодых джигитов – окликнуть тех, кто восседает за вытянувшимися вдоль плотов столами, заставленными едой и выпивкой: «Счастливо погулять! У нас всё отлично!», – помахать рукой и пойти вровень с неспешным плавучим пиром, сквозь крикливую ярмарочную кутерьму, уже с другой, особенной улыбкой, с видом человека, причастного к празднику чуть больше, чем остальные прохожие: видели? наши-то!
Плоты проплывали. Другие люди повисали на балюстраде, выкрикивали приветствия. Гурама всё не было.
– Не могли же мы прозевать?
Чувствовал: мать волнуется. Подтрунивал над ней: ну, задерживаются, что могло случиться с Гурамом, я тебя умоляю.
Услышали в гуще толпы:
– Владик! Татьяна!
Она сразу побледнела, молча подтолкнула сына: иди, узнай.
Незнакомый человек. И – с первого взгляда – подтверждение страшного её предчувствия. Эта скорбная мимика, эти замедленные ритуальные жесты.
– Жив?
– Жив, но в больнице.
Трагическая, немыслимая случайность. Один момент – и… никто ничего не понял… К плоту подплыл спасательный катер. Доставил опоздавшего. Спасателей, конечно, не отпускали просто так, налили, угостили. Катер был пришвартован к ножке стола. Отплывая, спасатели забыли отвязать верёвку. Верёвка дёрнулась – Гурам сидел на углу, в этот момент как раз вставал. Никто не понял, как это случилось. Почему такие последствия. Плот даже не накренился. Гурам перелетел через угол лавки, упал – и больше не смог подняться.
Двор был покрыт чернильными и бурыми кляксами от раздавленных тютин. Когда-то – когда Влад жил в этом дворе и мир был другим, асфальт под деревом застилали тряпками: собирали плоды, чтобы делать тутовую чачу.
Гурам сидел, прислонив голову к ручке каталки. От его улыбки – незнакомой, рассеянной – тоскливо засосало под ложечкой. Рядом стоял Димитрий, сосед из дома напротив, рассказывал про какую-то стройку:
– Котлован почти вырыли, а там в одном углу подтекает. Дренаж, короче, надо делать. Ещё одна работа, амис дэда ватыре.
Специально вышел поговорить или проходил мимо. Все соседи это делают. Разговаривают с Гурамом. Обычными ровными голосами. Не замечая инвалидной каталки. А если он молчит – как сейчас, отгороженный сгустившейся пустотой, не замечают и этого. Инвалид? Какой инвалид? Это Гурам, мой сосед.
– Ауф! Кто приехал!
Димитрий заметил Влада. Обнялись.
– На день рождения? Ай, молодец! Гурами, смотри, сын к тебе приехал.
Влад наклонился, обнял отчима. Тот потянулся навстречу – непривычно медлительный и рыхлый, непривычно пахнущий старостью. Как быстро, испугался Влад.
– Владик, – сказал Гурам. – Ты давно здесь?
Влад растерянно переглянулся с Димитрием.
– С аэропорта, Гурами, видишь, с сумкой, – поспешил на помощь Димитрий. – Татьяна с утра на кухне. Леван ей полный багажник выгрузил. Молочный поросёнок! Кейфанём по-царски, а!
Когда лет пять тому назад Влад решился наконец предложить матери переезд – и сходу принялся оправдываться, что со Светой, увы, без трений не обойдётся, сложный характер и, потом, здесь всё, знаешь, по-другому, никто никому не должен… – она отмахнулась: «Да ты не о том. Как я останусь с ним одна? Без соседей? Леван берёт его с собой на охоту. Ну, ясно… одно название… ждёт в сторожке с лесничим, когда те вернутся. Но с вечера вместе ружья смазывают, байки свои травят. Понимаешь, второе ружьё не пригодится, оно с Гурамом останется, но смазывают два. Раскладывают патроны, перебирают что-то… Кто-нибудь возьмёт его там на охоту?»
Влад повесил сумку на ручку каталки.
– Ну, что, поехали домой?
Неестественно вышло. Какой-то клоунский тон.
– Ничего, – шепнул Димитрий. – Не постоянно так. Чуть-чуть, и отпускает. Но день рождения, думаю, Татьяна перенесёт.
Добавил громче:
– Там помощница к вам пришла. Натела матери помогает.
Влад словно о воздух споткнулся.
Полез в карман – сделать вид, что внезапно решил покурить.
– Ну-ка, ну-ка, – потянулся Димитрий. – Что вы там в России курите?
– Да то же, что и вы здесь.
Закурили.
– Помнишь же Нателу? Кажется, вместе учились? Вряд ли лукавство, скорее форма вежливости. Не может сам Димитрий не помнить, что Натела для Влада не просто одноклассница. Первая любовь. Сказал так, чтобы Влад мог подготовиться, выбрать, как реагировать – радостно или сухо. В конце концов, разве взрослый женатый мужчина не имеет права забыть, кого любил сто лет тому назад.
– Откуда вдруг? Почему?
– Ну, они же всегда поддерживали отношения. Мать не говорила? Не часто, но заходит, – Димитрий пожал плечами. – Она же давно без родителей. Муж в длительном турне. Ну, ты понял, да, – подмигнул. – В турне на тюрьме. Не знаю… тоскует по-своему… я так понимаю. Одиноко.
Любовь была короткой. Не протянула и года. Но – всё было, как положено: ослепительно, нежно. Нателу у него отбил Мераб. Года через два после школы они поженились. Влад уже уехал в Краснодар, учился в университете. Мераб занимался кузовным ремонтом машин. Занял денег у воров, выкупил мастерскую. Уже после того, как расплатился, пришло время оказать кредиторам ответную услугу: не в банке всё-таки, не всё измеряется деньгами. Услуга выглядела невинно: за ночь отремонтировать битую БМВ. Документы были в порядке. Угоном не пахло, хозяин пригнал сам. Потом оказалось, на этой машине сбили сына прокурора. Правосудие свирепствовало, гребли всех подряд. Мераб пошёл как член преступной группировки: обвинение доказало, что его мастерская выкуплена на деньги, добытые преступным путём. Срок получил небольшой. Но в тюрьме озлобился. После освобождения сошёлся с теми самыми ворами всерьёз. Карты, наркотики. Вскоре сел за вооружённый грабёж, вышел, сел снова.
– Ната, боже мой, как хорошо, что ты здесь. Мама не говорила, что вы общаетесь. Рассказала как-то про тебя, как у тебя всё сложилось. И всё.
– Наверное, решила не грузить тебя ненужными подробностями. К тому же ты не интересовался – видимся, не видимся.
– Да я подумать не мог.
– Почему? Мне твоя семья всегда очень нравилась. С твоей мамой однажды встретились на улице, поговорили. Она приглашала заходить, ну и… я стала заходить… прости, если…
– Что ты, Наточка! Такой подарок! Правда. Я так рад. Сердце сейчас выпрыгнет. Вот послушай.
– Владик, прошу тебя. Отпусти руку.
– Нет, я просто…
– Мне придётся уйти и больше не появляться.
– Ната, перестань. Я ничего такого. Я просто очень, очень рад тебя видеть. Сам не ожидал. Чёрт! Прямо не знаю… видишь, щёки горят.
– Как всегда.
– Что?
– Когда ты волнуешься, у тебя щёки горят.
– Слушай, ты прекрасно, удивительно хорошо выглядишь.
– Вот, точно. Давай лучше так. Как-нибудь куртуазно. Комплименты, всё такое. Отпусти же ты руку, Владик.
Торжество перенесли на два дня: приступы у Гурама были недолгими. Выпадала среда, будний день – что, увы, сулило укороченное застолье.
Вино от Кетеван, многозначительно предупредила мать и поджала губы – что означало: огорчена. Влад молча кивнул, не понимая пока – чем вызвано огорчение. Все знали, что Кетеван приторговывает отменным кахетинским вином: помогает деревенским родственникам сдавать его бочонками в рестораны.
– Так вышло, слушай. Думала, куплю спокойно. Ну, чуть уступит, как соседке. Она сначала отказалась – мол, всё распродала. А назавтра племянник её притащил. Пошла к ней, а она деньги не берёт. Ну, я ей: не те времена, говорю, я так не возьму. Еле уломала. Вот, боюсь теперь – не обидела?
Натела пришла с сыном. Решила-таки закрепить дистанцию, подстраховаться.
– Малхаз.
– Влад. Очень приятно.
Старательно крепкое подростковое рукопожатие.
Для приличия уточнил, сколько лет, отметил высокий рост. На большее не хватило.
Юноша улыбался с трудом, держал ухо востро. Натела, судя по всему, посвятила его в нюансы. Ну и зря.
Тамадой посадили Левана. Нугзар был старше, к тому же весьма ревниво охранял собственную репутацию идеального тамады – но мать всё уладила. Отвела Нугзара в сторонку, пошептала немножко, ласково теребя рукав его нетленного парадного пиджака.
– Как скажешь, Татьяна-джан. Нужно же и ученикам своим дорогу давать.
Левану, разумеется, ещё накануне было велено шпильки Нугзара пропускать мимо ушей.
Но приходилось учитывать ещё и Хромую Кетеван, которая, выпивая наравне с мужчинами, к середине празднества неизменно принималась вести себя несколько по-мужски – точнее, совсем не по-мужски: сыпала тостами едва ли не чаще тамады, а если не получала требуемого внимания, принималась стучать костылём в пол. Димитрий повеселил Влада её новым прозвищем: Теневое Правительство. Это бы ничего, собрались только давние знакомые, натренированные терпеть друг друга похлеще иных супругов. Но, понаблюдав за Гурамом и убедившись, что тот пребывает в здравом сознании, Кетеван огорчилась от совершающейся несправедливости: кахетинское, которое наливали Гураму, было щедро разбавлено безалкогольным вином из супермаркета.
– Это, конечно, абсолютно не моё дело, – бубнила она на ухо Татьяне. – Я с большими извинениями. Но, Таня, зачем поить Гурама этой отравой? Такой день всё-таки. Пьёт, наверно, и думает: что за гадость стала привозить эта хромая ведьма.
Распереживалась. Сколько мать ни шикала на Кетеван, сколько ни цокала возмущённо языком, снова и снова объясняя, что Гураму вообще пить нельзя, но, вот, он заупрямился, и теперь приходится хитрить – Кетеван лишь вздыхала и печально склоняла седую голову. Но, когда подали её любимую долму с чесночным соусом, всё-таки отвлеклась, прицепилась к кому-то из гостей в дальнем углу с просьбой рассказать «ту хохму, про цыплят в чемодане».
– Кетеван-бабо! Это не со мной случилось! С моим братом.
– Э! Ну и что. Ты лучше рассказываешь.
– Я не помню.
– Нехорошо старой женщине врать. Нехорошо, мой мальчик.
– Спасибо за «мальчика», уважаемая Кетеван! Давненько не слышал в свой адрес. Мне недавно сорок два стукнуло.
– Да ты что! И с женщинами уже гуляешь?
Он всё-таки рассказал, как к его брату на автобусе приехал тесть из деревни, брат встретил его на автовокзале, начал помогать с вещами, потянул чемодан из багажного отделения, чемодан раскрылся и оттуда высыпался десяток живых цыплят.
– Ты расскажи, как они их там ловили! И кошки набежали, стали охотиться.
– Вы уже рассказали, Кетеван.
– Нет, ты красиво расскажи. Как ты умеешь.
Гурам украдкой гладил руку подсаживающейся к нему жены, подмигивал Владу и действительно выглядел молодцом. От недавнего приступа не осталось и следа. Вместо каталки стул с высокой резной спинкой. На спинку наброшен пиджак… с вашего позволения, дорогие, слишком жарко. Осталось совсем немного, лёгкая ретушь воображения – и можно, кажется, прокрасться туда, где Гурам не взошёл ещё на злосчастный плот, ещё не толкнулось о берег кормовое весло, и неизвестный опоздавший, которого повезут вдогонку на своём катере отзывчивые спасатели, ещё никуда не опаздывает… Мешало подсмотренное с утра: в несколько отточенных ловких движений мать надевает носки на его белые безжизненные ноги, вставляет ноги в туфли.
– Владик, а ты помнишь, как мы за льдом ходили?
– Не за льдом. За сосульками.
– Какая разница. Ты в шестом классе был? Нет, в пятом.
Гурам нашёл взглядом Нателу на противоположной от Влада стороне.
– Короче, то ли книжку какую-то читал про зиму, то ли что, – принялся он рассказывать Нателе. – Приспичило ему сосулек.
– Я хотел из них человечка сделать.
– Говорю же, приспичило. А тут как назло ни одной сосульки.
Пока Гурам рассказывает, есть законный повод открыто смотреть на Нателу – и ждать, когда она подарит ответный взгляд. На языке вертелось: совсем как в школе. Натела, мне кажется, мы сейчас в школе, сейчас вызовут к доске. И что тут такого – ворчливо думал Влад: наклониться, сказать ей… просто такое настроение… все и так знают, это же детство, всего лишь детство. Одёргивал себя – впихивал себя обратно в реальность: всё прошло, ничего больше нет.
Малхаз давно уже насупился и бросал на Влада грозные взгляды.
– Ну вот. Пошли искать сосульки. Мешок с собой взяли. Всё Монтина прошли, дошли почти до третьей школы. Ну, нету. Этот канючит: давай поищем, мне нужно. Смотрю, висит одна. Но частный дом, неудобно. Как раз над забором висела. Давай, говорю, подсажу тебя, ты отломаешь. Отломать-то он отломал. Но сосулька же во двор упала. Там собака. Как разоралась. Хозяин, представляешь, с ножом выскочил, думал, мы воровать лезем… Ой, комедия. Влад, правда, не растерялся. Говорит, так и так, мне ваша сосулька нужна. Тот по-русски плохо понимает. Не поймёт, чего от него хотят. Я стал расшаркиваться, извиняться – мол, ребёнок попросил, такое дело. Пустил меня во двор. Сам с ножом. А сосулька на мелкие кусочки. Покидал я их в мешок. В итоге отправились домой, не стали больше искать.
– Человечка получилось сделать? – спросила Натела.
– Нет, – Гурам всплеснул руками. – Осколки, видишь ли, неподходящие оказались.
Старался. Отворачивался от неё, вступал в застольные беседы. Но неожиданно сложно оказалось противостоять капризу. Мысли прочно обосновались в возлюбленном прошлом. Весёлый гомон праздника, с положенной регулярностью прерываемый тамадой, никем как будто не замечаемое, забавное состязание в красноречии, разворачивающееся между Леваном и Нугзаром: «Если уважаемый тамада позволит, я бы добавил к сказанному всего лишь несколько слов», – и так едва ли не каждый тост; мрачный юноша Малхаз, громкоголосая Кетеван, мать – то возле отчима, то в дверях кухни, с подносом или блюдом в руках, – всё это неудержимо отдалялось, становилось декорацией другой, оборвавшейся когда-то истории. Уже заглядывал боязливо за черту – а что, если… И тянуло сказать что-нибудь непоправимо банальное: «Ната, ведь всё было всерьёз», – глядя на неё честными наивными глазами, какими не смотрел уже целую вечность ни на кого. Почему нельзя? Здесь – где человек, словно хрупкий сосуд в дорогу, обёрнут в эту мягкую ветошь традиций, старинных, по наследству передаваемых дружб. Разве не для того здесь играют в эти филигранные канонизированные слова, чтобы уберечь от удушающей взрослости, дать поблажку, позволить не стесняться простоты, потому что… ведь не было ещё ничего, ничего не было… мир, чем древней, тем новей и наивней – так откуда же взяться банальности?
Могло повернуться иначе – Мераб не отбил бы у него Нателу, первая любовь не оборвалась бы на первых страницах. Всё решила обида. Заметил её с другим и обиделся. Как ты могла. Раздраконил себя, упился обидой вусмерть.
Гурам, когда сумел наконец выпытать у Влада причину его терзаний, рассердился не на шутку. Хлопнул по столу.
– Ты что, дурак? – вскочил, закрыл дверь к матери в спальню: не для женских ушей. – Просто взял и отступил? С ним не подрался, с ней не поговорил? Вай мэ, Владик, это ты вообще?
Но и драться, и говорить было тогда уже поздно.
Кетеван, видимо, не утерпела, подсунула Гураму кувшин с неразбавленным вином. Она, разумеется, отрицала. Во всяком случае, умысел: «Клянусь, случайно вышло, спутала». Хватились, когда Гурам основательно захмелел. Мать попросила Влада присмотреть – за всем сразу: за Гурамом, за кувшинами, за озорными руками Кетеван-бабо, – и отправилась варить кофе. Предупредила:
– Не расходимся. Просто именинник попросил кофе. Кому ещё?
Случилась пауза – из тех, в которые курильщики отправляются покурить под неспешный разговор, а собравшиеся уходить пускаются в извинения за то, что вынуждены раскланяться так рано. Мужчины позвали Малхаза на веранду – что прилип, парень, встань, разомнись. Натела сходила на кухню, наполнила опустевшие блюда.
– Славно смотритесь, – сказал вдруг Гурам. – Вы всегда хорошо смотрелись вместе. Сразу было видно – пара.
Почувствовал по ответному напряжению: сказал что-то не то, – внимательно всмотрелся в их лица.
– Что-то я устал.
И попросился в постель.
– Мама кофе тебе варит.
– Не хочу кофе. Лечь хочу. Не обижайтесь. Устал. Полежу, а вы дальше гуляйте. Может, я ещё к вам присоединюсь. Полежу немного.
Влад сходил за каталкой, Натела помогла пересадить Гурама.
– Оставь так, Владик, – попросил Гурам в спальне. – Позови маму, она всё сделает.
Когда, отправив мать к отчиму, Влад вернулся в гостиную, праздник уже клонился к финалу. Гости расселись по местам, но сидели молча, как сидят в аэропорту в зале ожидания, карауля голос диктора с номером своего рейса.
Испугался: и Натела сейчас уйдёт? И это всё?
– Он просил не расходиться, – сказал им Влад. – Ещё, может, выйдет. Полежит немного.
Но уже успели обсудить и принять резолюцию.
– Владик, дорогой, да неудобно как-то, – начал Леван. – Будем шуметь, мешать. Потом, вдруг он огорчится. Понимаешь? Мы тут пируем, а он с нами не может. Всё-таки надо учитывать, да.
– Но ещё совсем рано! – запротестовал Влад.
Дескать, мыслимо ли доброму празднику закончиться засветло?
– Нет, правда. Мы шумим. Как человек отдохнёт? – подключился Тенгиз. – Если даже уважаемой Кетеван рот завязать и костыль отобрать.
Кетеван погрозила Тенгизу кулаком.
Видел уже, что не в его власти. Он здесь такой же гость. А что ты хотел? Приехал без жены, без ребёнка – не уважил по-настоящему, да. Гость и есть.
Хозяйка могла бы их остановить. Но хозяйки здесь не было. Хозяйка хлопотала в глубине квартиры, выполняя свою рутинную работу, которой всегда хватает при муже-инвалиде. Открывались и закрывались двери: спальни, туалета, ванной, снова спальни.
Леван велел наполнить стаканы, но тоста не произносил, ждал – последний, стало быть, тост, за хозяйку этого дома.
– Пожалуйста, останьтесь, – сказала она, входя.
И застолье продолжилось.
Она больше не бегала на кухню. Всю суету: подогреть и принести кофе, сварить ещё, подать пирог, сменить приборы, – взяла на себя Натела.
Мать подсела к сыну, крепко обняла за плечо и сидела так, не отвлекаясь на еду и, сколько возможно, на разговоры. Ему было не по себе от такого её объятия. Будто насовсем. Будто собиралась так, через долгое жадное прикосновение, отправиться с ним туда, в Россию, в его далёкую отдельную жизнь. Хотя бы так. По-другому невозможно. Говорено-переговорено. Десятки причин. Но теперь – с прежней, казалось, давно истраченной остротой проснулась полузабытая тоска: не сумел, не отстроил свою жизнь так, чтобы можно было забрать их туда. Не справился, не осилил, проиграл… Он налегал на кахетинское и упрямо дразнил себя фантазией: какой могла быть его другая – здешняя жизнь.
А всё-таки вечер заканчивался. Всё-таки неожиданно рано: оранжевое предвечернее солнце только что залило окна гостиной. Но, однажды сбившись с ритма, праздник так и не смог набрать должную силу. К тому же Гурам так и не вернулся к гостям. Натела помыла посуду, прибрала со стола. И гости, переглянувшись, отправились на пронизанную солнцем веранду – на последний перекур. Вышли все, даже некурящие.
Кто-то сказал:
– Давно на Кукийском не был. Трое у меня там похоронены. Что за жизнь пошла. Никак не выберусь, некогда.
Снова засуетилось сердце: «Как так? Зачем? Почему про это?»
На Кукийском кладбище Влад признался ей в любви. На Кукийском кладбище они поцеловались в первый раз.
Натела откликнулась:
– Да, и я в который раз приезжаю в наш старый район, а на кладбище к своим не иду. Сегодня тоже думала, заедем. И не получилось.
Спокойна. Голос ровный. Неужели не помнит? Сказала – и ничего как будто не шевельнулось в ней… Притворяется?
– Вот сейчас поговорим и снова отложим, – вздохнул кто-то.
Вызвалось человек десять. Выстроились во дворе. Неутомимая Кетеван, почему-то без костыля, азартно покряхтывая, вертя пухлыми ручками в поисках равновесия, доковыляла до каждого, каждому заглянула в лицо. Чересчур высоких, не церемонясь, наклоняла пониже, отловив неожиданно цепкими пальцами то локоть, то лацкан.
– Нет-нет-нет! Ты за руль не сядешь! Чтобы и не думал. Ты хорошенький.
Малознакомые улыбались молча. Нодар, её внучатый племянник ворчал:
– Бабо, ты что, в патрульные устроилась?
– Гляньте на этого юмориста! А если что случится!
Отправились на двух машинах
Нателу пригласили в белое «рено», Влад отправился за ней на заднее сиденье. Малхаз, как и следовало ожидать, влез между матерью и Владом. Хмель начинал густеть, давить. Влад подумал: надо было добавить перед выездом.
Вертел головой, делал вид, что рассматривает улочки детства, косился на неё всю дорогу. Натела смотрела перед собой, улыбалась еле заметно. Сердце его поскуливало. Нет, не получалось отделаться. Это было сильней. Слишком близко. Одно слово, одно касание – и распахнётся потайное пространство, которое никуда не исчезло, счастливо избежало забвения и ждёт, нетронутое, готовое продолжиться. Нужно лишь знать, как туда попасть.
Другая жизнь была возможна когда-то. И почему бы в неё не сыграть.
Мелочи пролистывал мельком. В девяностые многие русские меняли фамилии – способствовало карьерному росту – и он, скорей всего, взял бы фамилию Гурама. Стал бы Шавердашвили. Симпатичная фамилия, на звук – как шуршание трёхдневной щетины на гурамовой щеке. Жили бы у Нателы – у неё своя квартира в Дидубе. Жили бы, скорей всего, гораздо бедней, чем он сейчас живёт… Но нет, мелочи не увлекали. Какая разница?
Томился: ведь ни разу… даже не смотрел, даже не видел без одежды… ни разу. Трогал, когда разрешала – когда сама распалялась от поцелуев. А сейчас – даже если… Сейчас – стало бы это продолжением того юношеского, отбушевавшего целомудренно? Или было бы совсем другое, происходящее с другими людьми? То, для чего юность всего лишь сводня? Влад подглядывал, как Натела поправляет волосы, и понимал, что согласен на любой из двух вариантов.
Ехали медленно: мы же не какая-нибудь шантрапа кукийская, чтобы гонять в нетрезвом виде. Дорога в горку, двигатели басовито гудят на низких оборотах.
Над кладбищем, над плотной окантовкой зелени – небо и крест часовни.
– Слушайте, шевелиться надо. Скоро ворота закроют.
Двинулись вверх по тропинке – мимо затянутых плющом склепов, мимо втиснувшихся впритык могил.
Там, где всё начиналось, Ната и Влад идут рядом, по этой же тропинке – разве что нет асфальта. И солнце яркое, дневное. Сверкают стрекозы, воробьи суетятся. У него канистра с водой, у неё небольшой бидон. С таким ходят за квасом. Её рукав иногда касается его плеча.
– Владик, а у тебя тут кто?
– Бабушка с дедушкой. А у тебя?
– Бабушка и тётя. Только в разных концах.
Он говорит: давай вместе. Она кивает: конечно. Всё так славно устроилось, так чудесно совпало: обоих отправили прибрать могилы перед Пасхой. И не разминулись, сошлись аккурат у ворот. Неспроста же это. И как будто всё уже сказано между ними. Он точно знает – заранее: всё будет хорошо. Они уже вместе. Сначала могилы её близких. Он выдёргивает сорняки, она протирает мрамор.
– Тётя Этери – это дочка бабушкиной родной сестры.
– Надо же, как похожи. Прямо мать и дочь.
Нет, не так – он волнуется, он говорит обрывисто, бурчит себе под нос:
– Похожа. Очень.
– Да. Этери часто принимали за дочку Нино. От её голоса в горле у него делается приторно.
Ладони липкие, в травяном соке.
– Бабушка Мзия ревновала. Даже сейчас ревнует. Говорит, Этери к Нино в гости отправилась.
Он пропалывает тщательно и проворно – корешки летят кувырком за ограду, сыплют комьями в разные стороны. Вот, мол, посмотри, каков я есть.
– Влад, сюда же к твоим? – сверху, с поворота тропинки, крикнул Димитрий.
– Да, правильно.
– Сейчас к моим заглянем, тут в двух шагах. А то стемнеет скоро.
Не убежала вперёд, не отстала. Дошла рядом с ним.
Здесь они тогда поцеловались. Дома, рассыпанные вдоль границы кладбища, были пониже, попроще. Она поливала ему на спину, забравшись на верхушку ушедшей под землю каменной оградки. Он наклонился, широко расставил ноги. Вода утробно булькала в полупустой канистре. Выпрямился и сразу шагнул к ней, мокрый. В последний момент вытер воду с губ. Она подалась навстречу. Закрыла глаза. Вцепилась пальцами в правое запястье… Интересно, подглядывал кто-нибудь за ними в окна? В окна тех домов, что стояли здесь раньше?
– Там польские могилы были. Старые.
Рядом стоял Нодар, племянник Кетеван. Какое ему дело до остатков польских могил… Но Влад поспешил договорить – выплеснуть хоть что-то.
– Вон там, – Влад махнул рукой чуть выше по склону, в сторону роскошной могилы из белого мрамора: улыбчивый толстячок на корточках на фоне «шестисотого» мерседеса, ласточки в правом углу. – Деревья росли, а под ними две польские могилы. Заброшенные. Пан такой-то, пани такая-то.
Нодар вежливо покивал.
Могила бабушки с дедушкой подзаросла: мать наведывалась нечасто. «В другой раз прополю, – мысленно пообещал Влад. – Клянусь, приду завтра же и прополю. Завтра. Сейчас, простите, я… в общем, сами видите».
Подошли остальные.
– Жаль, вина не взяли, – вздохнул кто-то. – Раньше, помнишь, брали, поминали.
Нодар нырнул за пазуху, вытащил одну за другой две бутылки.
И сразу оживились.
– Вот это я понимаю.
– Ай, молодец.
Захрустел гравий под подошвами.
Влад нашёл её взглядом. Она осталась в стороне – встала как раз там, где стояла тогда, поливая ему на спину. Где торчали из земли покосившиеся надгробья, на место которых въехал улыбчивый господин с мерседесом и собственными ласточками в правом верхнем углу. Было не разглядеть – как она смотрит. Солнце догорало у неё за спиной, размывало силуэт. Додумывай, дорисовывай. И на том спасибо. Казалось – девятиклассница Ната стоит там с бидоном воды.
– Скажи что-нибудь, Владик.
Ему протянули стакан. Вина на два пальца, экономно. Много могил предстояло обойти.
Он сказал всё, что от него ждали. Про память, про землю, про дружбу.
Выпили, помолчали. Отправились дальше, вниз по крутому восточному склону.
Влад не двинулся с места. И – случилось, как он надеялся. Ната осталась с ним.
Подошёл вплотную. Запах незнакомых духов.
Как же назывались те её духи? Прибалтийские. Она хвасталась: прибалтийские, маме привезли. Нате разрешалось пользоваться.
Она заговорила первой, но совсем не тем тоном, какой бы его обрадовал – урезонивая и остужая:
– Владик, ну что ты так разволновался? Больно на тебя смотреть. Что ты мне в душу заглядываешь?
– Ната, прости. Чувства. Вдруг.
– Ты нетрезвый, Владик. Зачем начинаешь? Давай не будем разменивать. Что было, то было. Добавить нечего.
– А, может, и есть. Может, есть, что добавить. Откуда ты знаешь?
– Влад…
– Прошу тебя, побудь со мной. Давай завтра встретимся. Посидим где-нибудь. Поговорим. Прошу.
– Влад…
Он заметил только мелькнувшую тень, его ухватили за локоть – и аккурат в челюсть, чуть сбоку, врезался плотный хлёсткий кулак. Зубы звякнули, замельтешило в глазах оранжевое солнце.
– Ты что, ненормальный? Ты ненормальный? – сдавленным шёпотом повторяла Натела сыну, то дёргая его за сорочку, то толкая в плечо. – Отвечай. Что ты себе позволяешь! С ума сойти! Повёл себя как босяк! И где!
Малхаз отмалчивался, с нарочито скучающим видом рассматривал гравий.
– Всё. Простите, – Влад сделал шаг в их сторону; качало, во рту было солоно от крови. – Простите. Спасибо, Малхаз. Помогло, кажется.
Натела снова была рядом.
– Ну-ка.
Её пальцы на его подбородке. Подняла его лицо к свету.
– Ничего, зашивать не надо… Так, – она повернулась к сыну. – Иди к ним, скажи… Нет, соврать нормально не сумеешь. Я пойду. Скажу, что дядя Влад нехорошо себя почувствовал, мы повели его домой. А ты чтобы! – погрозила пальцем. – Убью!
Она ушла, Влад присел на низенькую ограду могилы. Улыбнулся осторожно опухшими губами.
– Слушай, не злись. Я бы ничего такого себе не позволил. Я… – и рукой махнул. – Ладно, всё, умолк.
По дороге его и вправду развезло. Да так основательно, что на одной из щербатых лесенок споткнулся и чуть не упал. Испачкал колено об стенку. То ли последний глоток на кладбище был лишним, то ли в сочетании с кулаком Малхаза вино от Кетеван дало столь сокрушительный эффект. Вели, поддерживая под обе руки. Слева Натела – но справа Малхаз. Так что всё, чем был облагодетельствован слева, упразднялось тем, что подпирало справа, недовольно при этом сопя и подло оттаптывая ногу.
Мать не испугалась расквашенной физиономии. Не огорчилась даже.
– Что это? – и тут же сама догадалась. – А. Понятно. Ну, не страшно.
Попросила Нателу:
– Посиди со мной минутку.
Влада устроили в зале, на допотопной скрипучей тахте. Мать его разула, уложила поудобней, Натела подтолкнула под голову подушку. Под закрытыми веками плавно, уверенно добирая по пути подробностей и красок, поплыла та самая – другая его жизнь. Он немного перебрал с друзьями. Лучше полежать. Женщины о чём-то негромко беседуют на веранде. Откровенничают, судя по интонации. Прекрасный, прекрасный вечер – твои женщины сидят на веранде, разговаривают… старая и молодая… Быть может, перемывают тебе кости. Или говорят о своём. Про рождение, про смерть, про то, как устроено время. Или размышляют, когда покупать сливу на ткемали: уже пора – или ещё подешевеет. Главное, чтобы чеснок был мясистый, не такой квёлый, как в прошлом засушливом году. В колодце двора бесшумно мечутся летучие мыши. Густеют сиреневые тени. Занавеска колышется. Сверчки. Хорошо. Боже, как хорошо. Как я без этого?
С утра сеанс самобичевания: всё испортил, всё профукал, как всегда. У мамы в глазах огоньки насмешки.
– Опасное вино у Кетеван. Да, сынок?
– Мам, а где она работает?
– Кетеван?
– Мам, ну хватит издеваться.
Посмеялась неслышно, помолчала – обдумывала, стоит ли говорить.
– По сменам она работает. В торговом центре. Сегодня дома.
Чмокнул мать в знак благодарности.
– Ох, сынок, сынок… время не догонишь… только надорвёшься.
Не стал тянуть. Умылся, побрился и сбежал. Мама только крикнула вдогонку через весь двор:
– Когда тебя ждать?
– Не слишком поздно!
И весь двор теперь знает: Влада дома нет, вернуться обещал не поздно.
«Как тогда, – повторял себе упрямо. – Всё, как в детстве».
Купил возле Переходного моста торт и цветы, отправился на метро к Нателе.
Даже гул и стремительный мрак метро, казалось, был заодно с ним. Сколько раз ездили с Нателой… придерживал её бережно за локоть… шептал на ухо глупые нежности…
«Я ни на что не претендую. Я ничего не выпрашиваю, – готовился Влад по дороге. – Просто посиди со мной, поговори. Только и всего. Неужели нельзя?»
Открыл Малхаз. За его спиной тишина. Натела не вышла в прихожую, не крикнула из глубины квартиры: «Кто там?» Влад ожидал продолжения, новой волны подросткового отпора.
– Послушай…
Но Малхаз молча отступил в сторону, приглашая войти.
– А мама?
– Вышла мама. На кухню проходи.
Сам ушёл в комнату. Влад прикрыл входную дверь, послушно отправился на кухню – старенькую, потёрханную. Уселся за покрытый простенькой клеёнкой стол. Торт поставил на подоконник, сверху цветы.
«Вот так бы примерно и жили. И ладно, и хорошо».
Малхаз вернулся со стопкой фотографий, выложил перед ним.
– Смотри.
– Что это?
Зацепил краем глаза: парк, пышная клумба, маленький Малхаз на руках у отца.
– Моя жизнь, – ответил Малхаз, усаживаясь за стол.
– Малхаз, дорогой, – начал Влад, но вдруг нарвался на его взгляд и осёкся.
«А не выйдет ничего».
– Вот. Это мы в Пицунде, – взял в руки фотографии, сам начал раскладывать перед ним. – Мне тогда пять лет было. Меня что-то такое за палец укусило, палец распух, я боялся, что умру… Это папа из тюрьмы вышел в первый раз. Видишь, худой какой. Глаза уже совсем другие…
– Слушай, Малхаз, я совсем не собирался…
– А что ты собирался?
Законный вопрос – но Влада почему-то застал врасплох. А ведь готовился, целую речь наговорил… С Нателой наверняка сумел бы – выговориться, подобрать правильные слова. Но вот сидит перед Малхазом – и ни одно из слов не подходит. Не желает звучать.
– Тогда я скажу. У них… у отца с матерью, и так всё на волоске. Мама столько раз мне говорила: не знаю, смогу ли я с ним жить, когда он выйдет. Полгода ему осталось. Понял, нет? Полгода. Я её не заставляю и не прошу. И никто её не заставит. Я всё понимаю. Но он для меня отец. Он хороший отец. И я хочу, чтобы у них всё получилось. Он имеет право на этот шанс. Вот так. А ты сейчас влезешь… Короче, не влезай, – опустил глаза. – Прошу.
У Влада сорочка прилипла к спине. Сидел раздавленный. Вот так – пока он глотал воздух, мальчишка… этот собранный, серьёзный мальчишка, сумел подобрать и произнести слова, каждое из которых, как увесистый удар в челюсть: можешь ещё очухаться, попытаться ответить… но нет, кажется… нет, разве что пролепетать что-то невнятное в ответ.
– Ладно. Прости. Пойду я. – Вышел в прихожую, потянул дверь. – Маме привет. Дружеский.
Дошёл до угла дома и через дорогу, на пешеходном переходе, заметил Нателу. Шла не спеша, смотрела задумчиво себе под ноги.
«Обо мне думает, – уцепился Влад за соломинку. – Пусть хоть это…»
Уехал.
И снова – суматошливый необъятный город, соседи, которых не знаешь, как зовут. Встретился в лифте с одними – не удержался, пригласил в гости: «Столько лет в одном доме. Приходите, грузинским вином угощу». Посмотрели удивлённо, вежливо отказались. Душа не на месте, не на что опереться – пустота. Не ждал, не гадал, что снова навалится. За столько лет научился, натренировал себя жить в этом зачехлённом мире, где никто никому ничего не должен, где каждый каждому – никто.
Вернулись жена с дочкой из отпуска. Сувениры, туристические впечатления: «Нет, отель на четыре звезды ну никак не тянул. В бассейне столько хлорки, что я потом кашляла весь день». Вечером, за ужином – слайд-шоу на экране телевизора: это мы там, это мы тут… Делал вид, что жутко интересно, а сам вспоминал тбилисский двор на бывшей улице Монтина, старую ветвистую шелковицу и стук доминошек с весёлыми воплями: «Чари-яки! Ду-беши! Ду-шаш!» Как только разбрелись по своим углам – дочка чатиться с френдами, жена выкладывать фотки в «Одноклассниках», – полез в кладовку, отыскал на верхней полке, в потрёпанном пыльном альбоме школьную фотографию: он и Натела, щекой к щеке. Услышал шаги – чуть не свалился со стремянки. Будто занят был незнамо чем.
Сунул фото между пустых банок.
– Что ты там ищешь? – удивилась дочка.
– Да так… смотрю… повыбрасывать бы тут…
Дочка выпила сока на кухне, ушла.
Спрятал фото, как страшный компромат, в портфель, с которым езди на работу.
Продолжилась трудовая рутина. И всё, казалось, в ажуре. Влад – менеджер, каких поискать. Начальство довольно, повышение не за горами. У всех всё хорошо. Дочка умница, нажимает на языки. Даже летом, даже на каникулах не филонит. Света, возвращаясь с работы, ложится с планшетом на диван, погружается в любимое пространство: сайты туристических компаний, отзывы путешественников о турах и отелях.
– А вот в Греции ещё есть парочка приличных мест. Как насчёт пляжного отдыха в следующий раз?
Только из отпуска – уже мечтает о следующем. Дело привычное, так и живут последние несколько лет: тянут лямку с перерывом сначала на новогодние, потом на майские – и, вот оно, отпуск, впечатления, жизнь! Глоток – и снова пресная муть: работа, работа, работа.
Но в общем, если разобраться – у всех всё хорошо.
– Влад, посмотри, вот интересный вариант.
– Я лучше потом. Ты сама пока повыбирай.
Однажды вечером – уже спать собирались ложиться – вытащил из шкафа нарды, прихватил бутылку вина, выгреб какую-то снедь из холодильника и сорвался во двор.
– Устроил чёрт-те что, опозорил перед соседями, – сказала об этом Света.
Ходила потом удивлённая и обиженная.
А всего-то и было – разложил нарды на покосившемся столике у гаражей, поставил бутылку вина, закуску пристроил. Стал играть с самим собой. Смачно стучал шашками. То ли соседи позвонили в полицию – помешал кому-то спать, то ли патруль мимо проезжал. Полицейские вышли из машины, спросили документы. Кто такой, что здесь делает – опять же, почему спиртное пьёт в недозволенном месте. Забрали бы, наверное, в участок. Но Влад – недаром же приговорил полбутылки кахетинского от Кетеван-бабо – настроен был светло и дружелюбно. Обрадовался полицейским, как давнишним друзьям, стал зазывать сразиться в нарды или в шашки. Нежданно-негаданно один из них согласился. Выпивать, конечно, не стали: на службе. А сыграть – «Эх, уломал, чертяка. Помню, в армейке на дежурстве сутками рубились. Давай партийку в короткие».
Света с Женькой подоспели – перепуганные, отбивать мужа и отца от полицейских. Застали картину маслом: полицейский с Владом сражается в нарды.
Плот с длинным столом, уставленным винными кувшинами и закусками, плывёт вниз по Куре. Мужчины поют на несколько голосов. За столом Влад, Леван и Гурам на своей каталке, в оранжевом спасательном жилете. У Гурама снова приступ прогрессирующей деменции. Но здесь это никого не смущает. Здесь можно быть наивным и даже глупым – не важно. Гурам выглядит совершенно счастливым. Тихонько, себе под нос, чтобы не мешать настоящим мастерам – подпевает… помогает себе руками – дирижирует, долепливает пальцами песню…
По набережной, вдоль сцен с танцующими, под стук барабана, под плач и хохот дудука, сквозь шашлычный дымок, прогуливаются Татьяна с Нателой. Чуть поодаль Малхаз – и сегодня он, наконец-таки, не угрюм. Натела замечает приближающийся плот, женщины машут руками, мужчины отвечают им шумным приветствием. Плот проплывает мимо, Натела роняет голову на плечо Татьяне и плачет. Но вокруг кипит праздник, и мужчины на плоту поднимают свои стаканы на призыв тамады, наслаждаясь умелой витиеватостью тоста.
Амэ фури
Захлопнула дверь, прижалась плечом.
– Фух!
Опять проспала на урок.
Весь вечер её осаждали мысли, тоска держала мёртвой хваткой. Что дальше? Тридцать семь уже. Ни детей, ни мужа. Кандидатов – около нуля. Один только Григорий Семёныч терпеливо строит глазки, надеется взять измором.
Про нового ученика совсем забыла, не завела будильник. А утром открыла глаза: мать моя! меня ж японец ждёт!
Мальчик стоял посреди класса. Подбородок кверху. Правую руку прижал к бедру, левая на грифе чуть выше деки. Стойкий оловянный солдатик. С виолончелью вместо ружья.
Он-то спокоен. По крайней мере, выглядит спокойным. Не то что тётя училка, трусливо прилипшая к двери.
– Коннитива, сенсе.
– Здравствуй, дорогой. Извини, проспала. Совсем разболталась.
Ей бы сейчас уткнуться в подушку и лежать – беззвучно, безжизненно.
От нервов и на охранника набросилась. Тот как раз звонил в учительскую – дескать, здесь иностранец ничейный, что с ним делать… Теперь интернат наверняка загудит-зашепчет: Киру снова кроет.
Ну и ладно. Пусть себе. Не в первый раз.
Вынула из кармана листок, на котором записала имя мальчика.
Мацуда Сабуро. И что здесь – имя? А, вот же – подчёркнуто.
– Сабуро, ты сядь пока, – она махнула в сторону стула. – Посиди.
Кивнул. Обхватил инструмент поперёк, подтащил к стулу, сел.
Кира колебалась. Но без утренней сигареты никак.
Она пересекла класс и распахнула окно.
Воздух был душистый, полный пасмурной истомы. Облака теснились. Небом, как перламутровой крышкой, прихлопнуло, ни единого просвета.
Уже закурив, Кира решила, что дверь лучше бы закрыть на защёлку. Ввалится, чего доброго, директриса – взбодрит по самое не могу. Глядишь, и мальчишку у неё отберёт. Запросто. Под горячую-то руку. Желающие взять японского ученика в очередь выстроятся. Азиаты упорные, известное дело.
– Сабуро… – Кира обернулась. Указав на дверь, крутанула несколько раз кистью. – Закрой-ка… там… фиговина такая… поверни…
– Хай.
Он встал, прислонил виолончель к шкафу. Отправился запирать дверь.
– Спасибо.
Затылок коротко стрижен. Сквозь волосы кожа просвечивает.
Вспомнилась картинка из выпусков новостей: усыпанный обломками, растерзанный берег. Вперемешку машины, дома. Жилища, бесстыдно вывернутые наизнанку. Хаос застыл, но как будто временно. Будто решил передохнуть немного – а потом снова рванёт, бросится наверчивать смертельные спирали.
Кира не запомнила, что говорила ей Александра Львовна: то ли побывал мальчишка в переплёте, то ли их семью обошло стороной.
– Да уж, – тихо проговорила Кира. – Вот так живёшь, живёшь… а где-то копится, созревает… потом шарах, и в щепки…
Какие-то родственники у него без вести пропали. Кажется, тётка – мамина сестра. Точно. Мать потому и не приехала с ним, осталась до выяснения.
– Сейчас, дружок. Немного очухаюсь, и начнём.
– Хай.
Не рифмуется жизнь, хоть ты тресни.
За кого тут замуж-то выходить? Свои, музыкантишки, – либо уже пристроены, те, что поприличней, либо скучны, как бульварное чтиво. А те, на которых ложится глаз – которые попадаются на гастролях и конкурсах, яркие и убедительные, ничего содержательного не предлагают. Ни она к ним, ни они к ней. Якутск – не адрес, Якутск – готовая судьба.
В нижних кабинетах начали долбить сольфеджио. Воробьи прыснули из кустов.
Кира обернулась в класс и увидела, что Сабуро всё ещё стоит у двери.
– Ой, а ты на стрёме? – она улыбнулась. – Неплохо мы с тобой начинаем… далеко пойдём…
Мальчик прислушивался, пытаясь уловить смысл её слов. Но и это – спокойно, без натуги. Он не делает ничего излишнего, нарочитого, отметила Кира. Свой человек.
– Брось, – поманила она. – Не стой там. Сейчас урок начнём… Извини… Сейчас начнём.
Сабуро вернулся на стул, Кира крепко затянулась последней затяжкой, выдула струю сизого дыма в небо.
Выехать бы за город, к реке. Она и в городе впечатляет – там, где распахивается во всю ширь. Многоэтажки на противоположном берегу стоят торжественные. Исполняют неожиданно серьёзные для многоэтажек роли. Лена вообще – пространство крайне серьёзное. А уж за городом, на воле, как начнёт бормотать у берега, думы свои проговаривать – страшно ей мешать. Так бы и стояла, не шевелясь, задумавшись с рекой на пару. Но бывает и другое. Когда выйдешь на верхнюю палубу «Кометы» – навстречу вода и свет, глаз не раскрыть, мокрый ветер обжигает лицо, а в сердце восторг… отчаянный, сладкий…
– Да, надо бы выбраться.
Докурив, собиралась пульнуть окурком во двор, но постеснялась мальчика. Затушила, затолкала окурок под наружный жестяной подоконник.
Сабуро смотрел на неё, терпеливо ждал указаний.
– Ты, стало быть, прилежный ученик, а? Правда-правда?
Кто бы ей самой надавал указаний: сделай, Кирочка, то-то и то-то – и жизнь твоя изменится. Нащупает новое русло. Новую даль разглядит.
Умнеть пора, Кира. Ну, или взрослеть для начала.
Так! Нужно заняться мальчишкой.
– Что ж… надо бы выяснить, какая у нас база, дружок…
Отец у него дипломат. Незадолго до землетрясения в Хабаровск назначили, в консульство. Весь такой холёный, с манерами. «Мацуда Юута – можно Юра». Оставил ей специальный мобильник для связи. Обещал звонить каждый вечер. Прощаясь, папа с сыном даже не дотронулись друг до друга. Мальчик махнул отцу рукой, тот в ответ подмигнул.
– Сабуро, ты бывал у океана?
Кира и не рассчитывала, что мальчик поймёт вопрос. Не важно. Её настроение он уже уловил. Она чувствовала это по его взгляду.
– Когда океан спокойный – бывал? Я нет. В Токио, кстати, была однажды. На фестиваль ездила с выпускниками. В прошлом году. А океан только из самолёта видела. Жутко… В смысле – даже когда штиль, жутко. Да… Ну, что ж, начнём помаленьку.
Сняла с полки нотный сборник. Полистала, выбрала «Наш край» Кабалевского.
– На, вот, – сказала Кира, придвинув к мальчику пюпитр с раскрытыми нотами. – Послушаю, что ты уже умеешь.
Она помогла ему установить стул на нужную высоту. Инструмент он взял довольно уверенно. Подпёр деку коленом, расслабил плечи.
Кира вернулась к окну.
– Играй, как будешь готов. Я слушаю.
На дальнем повороте дороги водитель пинал ногой колесо микроавтобуса, размахивал руками. Автобус наверняка сломан, водитель огорчается. Если не успеет починить до конца рабочего дня – выслушает много разных слов от преподавателей, которые собирались ехать на ночь домой.
У Сабуро получалось неплохо. Только каждый раз, как он менял направление смычка – начинал тянуть на себя – звук огрублялся, каменел.
– Погоди.
Мальчик опустил смычок.
Кира поставила стул возле него, взяла его правую руку, показала, как надо.
– Вот, понимаешь, мягче. Мягче нужно. Пробуй.
Сабуро начал играть, но на первой же фразе стало ясно, что он не вполне уяснил, чего требует от него учитель. Получается плавно, но по-прежнему грубо.
Кира прошлась по классу.
– Как же тебе объяснить? – она остановилась, скрестила руки. – Задачка… Говорили мне, учи английский. Сейчас бы инглиш не помешал.
– Ай спик инглиш, – отозвался Сабуро.
– Да знаю, знаю, – сказала она. – Я-то ни бельмеса не спик.
Дошла до стены, обдумывая внезапно пришедшую к ней мысль. Решила попробовать. В той фестивальной поездке их водили в театр Кабуки. Кира запомнила на слух рефрен, который пел женский хор. Там было про дождь и про снег. Как раз то, что нужно.
– Смотри, – она подошла, остановилась перед Сабуро, ткнула пальцем себе за спину, в направлении открытого окна. – Там облака, дождь из них пойдёт. Рейн. Второй день уже собирается, обязательно пойдёт… э-э-э… В театре Кабуки ты был? Водил тебя папа? А? Кабуки… Да? Отлично! Как там женщины поют про дождь: «Амэ фури», – Кира попробовала воспроизвести мотив. – Амэ фури, амэ фури. А потом, когда сильнее: «Мотто афури», – воздев руки кверху и слегка наклонившись, изобразила актрису Кабуки, которая сетует на усилившийся дождь. – Так вот! Не надо, чтобы смычок двигался по струнам так, как падает дождь. Понимаешь? – сложила предплечья крестом. – Не надо. Вот он падает – отвесно, тяжело… Рейн… Падает, падает… Рейн – донт. Бэд рейн. Смычком так не надо. О’кей?
Растопырив пальцы, Кира показывала, как падает дождь. Лицо её в это время изображало недовольство – дескать, это совсем не то, что нам нужно. Дождь – это плохо. Не нужно дождь. Забудь.
Наконец, мальчик кивнул.
– Хай, сенсе.
– Ага. Отлично. Это ты понял. В общем, тяжело тянуть не надо. Теперь – как надо…
Для пущей доходчивости она выдавила умильную улыбку.
– Снег идёт. Как там… Юки фури. Да? Юки фури. Вот он идёт, летит вниз плавно, легко… танцует… лёгкий такой, летучий…
Показала, как парят снежинки.
– Юки фури… Эээ… Сноу. Да. Вот сноу – как раз-таки гуд. То, что нам надо – сноу. Юки фури… Юки фури – ферштейн?
Сабуро кивнул.
– Хай, сенсе.
– Ну, вот. Делов-то. Давай, дружочек, пробуй.
Он взял инструмент, пристроил деку к колену.
– Юки фури! Не забудь!
На этот раз у него получилось. Не идеально, но гораздо лучше. Парнишка, кажется, из тех, что хватают на лету.
– Да, – кивала Кира. – Именно.
Тихонько похлопала в ладоши.
– Молодец.
Дав ему новое задание – упражнение на равномерность – Кира вернулась к окну.
– Я вообще-то не курю в классе, ты не подумай. Просто проспала же… дома не успела… Твои-то не курят, конечно.
Сабуро не прерывал упражнения. Ни разу не сбился. Хотя учительская болтовня под руку наверняка мешала. Да ещё сольфеджио снизу.
Кира слышала небольшую ошибку: сосредотачиваясь на смычке, Сабуро начинал слишком шумно перемещать по струнам пальцы левой руки. Но это мелочь. С этим они позже разберутся.
– Что тебе сказать… Техника на уровне. Недурственная техника… Ты, скорей всего, упёртый, это важно. Я тоже из таких… Помню, в детстве, мозоли долго на пальцах не нарастали. Только к струне – слёзы фонтаном из глаз… Нежные очень пальцы были. Ничего, прошло… Научилась.
Пронзительно заверещал звонок. Сабуро оборвал игру, вскочил на ноги. Покосился на дверь.
– Не бойся, это у нас так заведено, – Кира подошла, села рядом с ним на стул. – Большая перемена. На большую перемену всегда такой звонок.
Она вдруг поняла, что мальчик испугался землетрясения. Принял звонок за сигнал тревоги.
– Не бойся. Здесь не трусит.
У младших классов начинался общеобразовательный блок. Репетитор Сабуро прибудет только завтра, чем занимать мальчика в эти часы, Кире никто не сказал. Или она пропустила мимо ушей.
– Что будем делать? – откинулась на спинку. – У меня вообще-то урок. Со мной на урок? Или к себе пойдёшь?
Она показала пальцем на Сабуро, потом на себя.
– Виз ми?
Мальчик кивнул.
– Или… – она махнула по направлению комнат воспитанников. – Ёр рум? А?
Он отрицательно покачал головой.
– Ия, сенсе. Виз ю.
– Ну, ладно. Познакомлю тебя с моими оболтусами. То есть, класс-то хороший. Это я так… Там есть, с кем дружить. По-английски кое-кто говорит, кстати. Ты садись, в ногах правды нет.
Сабуро сел.
– Сейчас перемена. Посидим немного здесь, ладно? И пойдём.
Они посидели, глядя в окно, в перламутровое низкое небо.
Какое-то время с дороги слышался натужный, захлёбывающийся гул двигателя. Потом оборвался.
– Дождь пойдёт, думаю. Вчера собирался, не пошёл. Сегодня наверняка.
– Маа…
Переглянулись.
– Чё это нет? Пойдёт, говорю тебе.
Сабуро вежливо промолчал.
– Вот увидишь.
Мальчик и учитель снова посмотрели на небо.
Мальчик протянул с сомнением:
– Саа…
– Вот ты поспорить горазд! – Кира хлопнула его по колену, запела дурашливым сопрано. – Амэ фури, юки фури, мотто афури…
Сабуро захохотал в голос.
Сын Валька
Рванулся, вынырнул из подушки. Вроде бы тихо. Только дождь лупит. Но разбудил не дождь. Зарядило ещё с вечера, когда ужинали. Может, тёщин пёс? Никитична живёт через квартал. Её Пират вот уж второй месяц район терроризирует, завёлся лаять по ночам… Не воет, а именно лает. Тягуче так, переливчато. Будто говорить учится.
Нет, не слыхать Пирата.
Валёк примял подушку, улёгся обратно. От здоровенных домашних подушек, которые проглатывают голову целиком, Валёк успел отвыкнуть. Он, собственно, последние месяцы дома почти и не жил. После того как Любка вышла замуж, дома стало тесно. Зять его Толик мужик, похоже, нормальный. Не пьёт, и такой молчаливый – будто немой. Но какой бы ни был, вчетвером в двух комнатах не разгуляешься. Жена однажды позвонила Вальку на работу, поздний вечер был, он с бензонасосом тогда завозился. Поинтересовалась, собирается ли он домой с работы переться, в такую-то даль.
– А то, может, остался бы, – предложила тогда Лара. – Есть ведь, где.
Так и повелось. С понедельника по пятницу на колонне, в выходные домой – помыться, домашнего пожевать. Нормально.
Валёк зевнул, перевернулся на бок. Сладко спать под дождик, когда за окном гудит и булькает…
И вдруг его сорвало с постели будто взрывной волной. Свалился на четыре кости, матюкнулся негромко. Кинулся по комнате штаны искать.
«Ванька, – шептал он себе под нос. – Ванюша!»
Понял вдруг, что его разбудило.
Мальчишка появился во вторник.
В тот день Валёк повёз Костю «восемьсот десятого» к кузовщикам. Костя дверь пассажирскую об дерево помял, Ахмедыч заставил ремонтировать. Там и пешком недалеко, но Костя попросил подбросить, а Валёк, как известно, человек безотказный. Заехали в кузовной на Наримановской поинтересоваться, что да как. Оказалось, дверь Косте сделали, так что везти его обратно Вальку не пришлось. Шёл назад к машине – курить ему приспичило. А пачка недавно закончилась. Двинул к ларьку.
Там на перекрёстке старый дом стоит. Трёхэтажный. В народе прозывается «лётный». В войну в нём инструкторы лётные жили: на месте свалки авиашкола тогда была. Изначально дом этот, как и многие в городе, топили углём. В подвальном полуэтаже два широких квадратных провала, туда уголь ссыпали. Давно уже центральное отопление провели, но угольные подвалы так и остались. И заколачивали, и заваривали – ненадолго хватает. Решётки, как ни крепи, кто-нибудь непременно сорвёт и утащит. На какие-нибудь дачные нужды. Ну, и доски, ясное дело, всегда в хозяйстве сгодятся.
В одной из тех угольных ям Валя и приметил пацана. Лет десяти-одиннадцати с виду. Лежит себе на картонке, дремлет. Ну, пацан и пацан. Мало ли – выпил лишку. Сейчас они рано начинают. Или ещё чего… Валя дошёл до ларька, купил пачку «LM». Возвращается к своей «Газельке», на ходу сигарету выуживает. Зажигалка никак не зажигалась. Камень стёрся: чиркнет, лизнёт язычком, и гаснет. В тот день ветрено было. Валёк свернул к лётному дому, прижался к стене, чтобы от ветра укрыться.
Мальчишка уже сидел, подтянув колени к груди, пялился снизу на прохожих. Глаза у него редкого оттенка. Тёмно-серые.
Валя наконец прикурил.
Вообще он страх как не любил заговаривать с посторонними. Тем более на улице. Трудно. Незнакомый человек всегда проблема. Делаешь над собой усилие, приближаешься, заговариваешь. А он скорей всего гадкий. Или бестолковый. Словом, Валя этого избегал. Давно, после армии, у него иногда бывало: потянет поболтать с чужаком, душу вывернуть. Но редко. Потом прошло.
С Ваней получилось само собой – и неожиданно просто. Валёк даже примериться не успел: заговорил, будто весь день болтали; прервались ненадолго, теперь вот продолжили.
– Озяб? – спрашивает.
И тот ему отвечает, как своему:
– Немного. Сейчас греться пойду.
– Куда?
– Не знаю, поищу. Спать хотелось, залёг вот… Там в глубине воняет.
– Где живёшь?
– А что?
– Ну… так… Напрягся, что ли? Я ж не мент. Спросил…
– Сейчас нигде не живу.
– В смысле?
– Из интерната сбежал.
– Чего сбежал-то?
– Да-а ну их… – Мальчишка мотнул головой. – Надоели…
Тут бы, казалось, и распрощаться: «Ну, бывай, парень. Удачи». Может, денег дать. Жвачку купить или «Сникерса». Но Валёк не ушёл. Если бы кто спросил его, отчего он вцепился в этого простоватого ничейного мальчишку – Валя не смог бы ответить. Он был небольшой охотник копаться в себе. Расскажи ему такую историю о ком-нибудь другом, он бы хмыкнул: «Прям как в кино». Он всегда чурался тех, кто рвёт на себе рубаху. Не любил резких движений. Всё опрометчивое, безрассудное всегда было у него под запретом. Он и машину так водил: за пятнадцать лет ни одной аварии по его вине. Чтобы подобрать на улице одиннадцатилетнего мальчишку – запросто, словно котёнка – это было совсем не в его духе.
Чем Ваня взял? Глаза у него, конечно, редкого оттенка. Да и кроме цвета что-то в них есть. Смотришь – ни с того ни с сего тревога накатывает. Странная такая неприкаянность. Похоже бывает, когда остановишься на трассе во время ночной пурги, переждать. Вокруг свистит и воет. Хлещет в лобовое стекло. В машине у тебя уют и благодать. Радио мурлычет. Включённая «аварийка» тихонько пощёлкивает. Можно чаю вскипятить. Можно пива глотнуть – и в люлю. Не маленький и, вроде, робеть не привык. Да робость и ни при чём. Но такое настроение – хочется выскочить и бежать. Куда глаза глядят. В эту снежную чёртову картечь, в озверевшую пустоту. Бежать и орать благим матом…
Сам-то Валёк ни разу не задумался – почему он тогда не ушёл. Понял: если уйдёт, будет плохо. Ему самому. А откуда такой настрой – вопрос туманный. Но бывает. И не такое бывает. Всё же возраст у Валька был опасный – под пятьдесят.
– Хочешь, поехали со мной греться?
– Куда это?
– На работу ко мне. В автопарк.
Когда Валёк выскочил в прихожую, Лара как раз возвращалась, тихонько прикрывала за собой дверь. Дотронулся до её плеча – она с испугу скакнула как мячик, вскрикнула.
– Ох, будь ты неладен, – выдохнула, стаскивая пальто. – Напугал. Заикой с тобой станешь.
– Где Ванька?
Лара повесила пальто, но осталась к Вале спиной. Уперев руки в стену, принялась разуваться. Долго стаптывала, спихивала одним ботинком другой.
– Я что, караулить должна? Спит, наверное, на кухне, где постелено.
Валёк наклонился, заглянул ей в лицо:
– Нету на кухне.
– Я что, караулить его должна? – взвилась Лара, задрав на Валю подбородок. – Я что ему, нянька?
Я в няньки ему не записывалась… Спал себе на кухне. Я откуда знаю?
– Ты куда ходила-то? – Валя от смущения насупился.
Ей показалось, видимо, что всё улажено: муж, как обычно – чуть цыкни, сразу шёлковый. Сменила тон.
– Не спалось, подышать выходила… Напугал как… сердце вон чуть не выскочило, – сказала она с укоризной, заканчивая возиться с обувью. Выпрямилась, руки под грудью скрестила: – Крыша у тебя, Валя, съехала. Привёл какого-то беспризорника, теперь вот налетаешь на меня, как псих. Его в детдом вернуть надо, а ты чего удумал? Взял бы ты отгулов, что ли, отдохнул…
Валя уже не слушал. Потащил с вешалки брезентовую плащ-палатку, в которой раньше рыбалить ходил.
– Ты куда это? – удивилась Лара.
Из комнаты молодых раздался сердитый голос Любы:
– Пап, ну чего ты весь дом на ноги поднял? Ну, хоть бы и смылся твой детдомовец. Не держать же его!
В прихожую вышел Толик, направился в туалет. Бросил по дороге:
– Вы бы деньги проверили. И вещи.
Оттеснив жену от входной двери, Валя скинул цепочку и выскочил в подъезд.
Тяжело топоча, слетел вниз. Завтра наверняка кто-нибудь из соседей полюбопытствует: «Что у вас ночью стряслось? Шум, беготня…» Дом у них образцового содержания. По чистоте, и вообще. Жильцы как на подбор – аккуратисты, ни одного алкаша. Есть, правда, один инвалид в третьем подъезде, вечно костылями своими стены пачкает. Но на каждом этаже цветы, пепельницы. На фасаде специальная табличка, в которой сказано, что дом – образцового содержания.
– Вань, – позвал он осторожно, стоя под козырьком подъезда.
Двор под дождём бурлил и пузырился. Фонари на обвислых растяжках болтались из стороны в сторону, отчего всё вокруг кишело тенями и бликами. Было похоже на огромный садок, до отказа набитый серебристой рыбёшкой. Мальчишки нигде видно не было, ни в беседке, ни под навесами других подъездов. Валёк накрылся капюшоном и вышел под дождь.
Было горько узнать, что Лара способна вот так, исподтишка, прогнать сироту. Прожили с ней двадцать лет. Валя всегда считал, что с женой ему повезло. Женщина с характером, цапнет – так до кости. Но ему такая и нужна. Валёк понимал, что сам он человек вялый, без огонька, и Ларискина хищность ему только на пользу. За двадцать лет всякое случалось. И обижался, и бунтовал. Но в конечном счёте убеждался, что Ларкиным норовом вся их семья держится. Как бы ни взбрыкнула, рано или поздно окажется: была права, всё сделала к общей пользе. «Стальной сердечник», – думал о ней Валя в минуты нежности.
Валька раздирало напополам. Помнил, что Лара всегда права – но именно сейчас никак не мог с этим смириться.
– Как же? – бросил Валёк через плечо, в сторону собственных окон. – Что же ты?
Свет не включила. Наверное, наблюдает за ним из темноты.
Пошёл через двор, мысленно себя распаляя:
– Поднялась потихоньку, разбудила и выставила. Хотела так представить, будто сам сбежал. Что же ты, Лара, итить твою дивизию…
Валёк действительно не ожидал такого поворота. Казалось – всё путём. За столом сидели в некотором напряжении. Но Валя решил – это из-за того, что нагрянул с Ваней без предупреждения. Собирался позвонить, предупредить – но потом передумал. Настроя не хватило. За столом Лара мальчишке вопросы задавала – как он учится, и всё такое. Ваня отвечал. Спать пошли мирно, Лара сама постелила Ване на кухне. В спальне прошептала, как всегда, молитву, перекрестилась – и улеглась. Правда, ни слова больше не произнесла, легла к Вальку спиной. Переживает, думал Валёк, обдумывает, не буду мешать. А оно вон что.
Дойдя до конца двора, остановился. Куда?
И вдруг навалилась тоска. Она была такая огромная, такая нестерпимая, что Валёк замер от удивления. Не знал, что тоска бывает такой. Мучительной. В армии первые полгода зашивался. Перед ночным забытьём, бывало, задумаешься – так впору вешаться. Родителей недавно схоронил, одного за другим – было очень тяжко. Но ни в армии, ни на похоронах отца или матери такого не испытал.
Поперхнулся вдруг, закашлялся. В буквальном смысле – забыл, как дышать.
Валёк прислушался – и удивился ещё больше. Эта безразмерная, оглушительная тоска напомнила ему совсем уж неожиданное. Однажды он точно так же: «Ух ты, вон как бывает», – удивлялся другому своему чувству. Тысячу лет назад, на чердаке родного ПТУ, где лишился невинности с подвыпившей Мариной Черкашиной. Тогда было очень хорошо, сейчас – очень плохо, а удивление одинаковое.
Выскакивая из дома, Валёк убеждал себя, что бежит проститься с Ваней. Извиниться – дескать, видишь, мало й, и вправду тесно тут, негде тебя разместить… заходи, если что, в гости, на колонну… Ошибся – чувствовал теперь, что не сможет остаться без Вани: страшно. Будто это он, Валёк – маленький ребёнок… остался тут один без взрослых.
Переступая по островкам посреди луж, он медленно прошёлся по кругу, и вдруг почуял, что мальчишка где-то рядом. Совсем близко. Скинул капюшон. Дождь щедро его умыл, полился за ворот. Ничего кроме тяжёлого густого шума.
Ноги сами понесли его за угол, к автобусной остановке.
– Ну, слава богу!
Ваня был здесь. Сидел, вцепившись в складной зонт, который выдала ему Лара. Под мышкой пакет – видно, с кроссовками. На ногах его красовались старые резиновые боты, красные в жёлтый горох. «Любкины», – вспомнил Валёк эти боты. Тоска совсем зашкалила – но отпустила, как только Ваня ему улыбнулся:
– Ты смешной в этом балахоне, – сказал он и зевнул во весь рот.
Выглядел сонным. Оно и понятно: не было времени проснуться. Подняли, можно сказать, по тревоге… Валя отогнал очередной приступ обиды на жену, уселся на лавку, шумно расправив брезентовые полы.
– А сам не смешной? – Валёк неловко хохотнул, кивнул на девчачьи боты, надетые на Ване.
Тот вытянул ноги, посмотрел на свою обувку – будто в первый раз её видел.
Посидели какое-то время молча. Пластиковый навес над ними грохотал как барабан.
– Балахон… – фыркнул Валёк. – Понимал бы, шмакодявка. Эта плащ-палатка, между прочим, у меня из армейки. На память… Там внутри хлоркой моя… – он зевнул вслед за мальчишкой. – Фамилия моя прописана. Потом покажу.
Очень скоро ему сделалось легко возле Вани. Даже празднично. Детство вспомнилось. День рождения, перед самым приходом гостей. Мать уже мечется, накрывает на стол. Велит разложить вилки-ложки, но при этом не влезть локтями в салаты. Перебираешь в уме, кто должен прийти, думаешь о подарках. Сильно тянет шуметь. Петь или смеяться. Но петь он стесняется, а смеяться нечему. Поэтому – носится по квартире, изображая мотоциклетного гонщика.
– Ты чего подорвался? – спросил Ваня, глядя на мутные дождевые реки. – Ты же спал.
– Не знаю, – ответил Валёк и пожал плечами. – Чего ты один будешь? Давай уже вместе.
Ваня тоже пожал плечами:
– Ну, давай. – Потом добавил: – Если хочешь.
Не удержавшись, Валёк по-дружески потрепал мальчишку за колено.
– Говорил, не надо домой, – сказал Ваня.
– Да ладно, – Валёк сплюнул в дождь. – Хрен с ними.
– Она мне денег дала, – Ваня полез в карман, вынул сторублёвую бумажку. – Вот. Я не хотел брать.
Валёк взял деньги, прибрал в карман брюк.
– Она сказала, скоро будет первый автобус на Северный.
– А что на Северном?
– Как – что? Интернат мой на Северном.
– А. Ну да.
– Она сказала: «В твоих интересах туда вернуться». Когда вырасту, они мне жильё должны дать. Я и сам это знаю. – Ваня помолчал, будто взвешивая. – Но я всё равно не хочу.
Из темноты, где-то в самом начале улицы, рыкнул автобус.
– Ну, так и не надо.
– Не хочу терпеть, пока вырасту.
– И не надо, чего… На колонне живи. Я же живу… Там посмотрим.
Сидя рядом с Ваней посреди потопа, Валя впервые почувствовал, что может запросто развернуться и уйти из дому. И ничего. И не пропадёт. И даже так ему лучше будет.
Перед тем как привести Ваню домой, Валёк успел пожить с ним на колонне. Жили в гостинице.
Гостиница – громко сказано. Два года назад Захарыч решил надстроить этаж над мастерскими. Уместилось пять комнат, отсюда и название: «Пять звёзд». Официально – комнаты отдыха для водителей. Сдавали их в основном дальнобойщикам, которые шли на юг. Им удобно было: с трассы на развязку, два светофора, и ты на месте. К тому же, фуру можно во двор загнать. И отремонтироваться, если надо. Примерно год гостиница процветала. Потом какой-то гаишный полковник, который район контролирует, про неё проведал, потребовал ему отстёгивать. Запросил слишком дорого, Захарыч так и не сторговался, отказал. Тогда гаишники со стороны развязки знак повесили: поворот запрещён. Дальнобойщикам неудобно стало ездить – крюк большой получался – и гостиничный бизнес у Захарыча угас. После этого туда много кого пускали: и справочную, и булочную. А осела служба эскорта, путаны по вызову. Их кто-то другой крышевал, повыше гаишника. Путаны занимали две комнаты возле лестницы, Валёк с мальчишкой поселился в конце коридора.
– Слышь, Валёк, ты когда стал на ночь в нумерах оставаться, мы сразу неладное заподозрили. Но чтобы сразу взросленький сыночек?
Хохмачи, каких всегда полно среди водил, засы пали его такими шуточками – мол, Валёк-тихоня мальца на стороне прижил. Валёк отмахивался, беззлобно матюкался в ответ. На самом-то деле по женской части он был не ходок. В молодости поозоровал вдоволь; можно сказать, про запас. Кстати, в смысле отношений у Валька никогда не складывалось. Девчонки при нём не задерживались. Им другие нравились – яркие, заводные. Ему одна так и сказала: «Ты, Валя, вариант для свадьбы. И то – если придавит». С Ларой он сам на свадьбу нацелился, с самого начала. Видно было по ней: семейная, надёжная. И ведь не ошибся. В этом – точно не ошибся. Ведь жили – грех жаловаться. Пока Ваня не появился…
Мужики, которые посерьёзней, на второй же день подступили к Вальку с вопросами: что за мальчик, откуда. Валёк принялся рассказывать, как было, и запнулся. Только тут по-настоящему задумался. Осознал, насколько всё зыбко. Дико прозвучало бы, если б правду сказал: встретил парня на улице, ночевать ему негде, голодный, взял его с собой… Неправдоподобно. Валя правду говорить не стал. Сказал первое, что на ум пришло. Попросился, мол, мальчишка соседский пожить. Родители в запое. Неделю перекантуется, пока родители бухают, и уйдёт.
Потом распереживался: зачем родителей запойных сироте приплёл?
Ваня, будто подслушал тот разговор – спросил перед сном:
– Валь, а сколько я могу здесь жить?
– Да сколько хошь, – ответил Валёк, а у самого горло перехватило.
– Честно?
– Честно. Мне в компании даже лучше. Веселей.
Валёк и Ване не решился сказать правду. Что он к нему прикипел – неведомо как, но крепко-накрепко. По утрам открывал глаза с опаской, боялся обнаружить, что Ваня от него ушёл. А отыскав его рядом, облегчённо вздыхал. Продолжал праздновать свой тайный праздник. Вальку достаточно было взглянуть на Ваню: на его хрупкие острые плечи, на рёбра, проглядывающие сквозь тонкую кожу, на то, как Ваня бежит, смешно запрокинув голову, – и сердце его начинало сладко ныть. Будто и впрямь – родной ребёнок, а не оборвыш с улицы.
Немного попривыкнув, Ваня облюбовал «тридцатьчетвёрку» перед диспетчерской. Часами по ней лазал. Танк этот ещё при советах вытащили поисковики из болот под Пятихатками. Вытащили, приволокли на колонну. Лучшего места ему не нашлось. Тогда говорили – весной отреставрируют и поставят перед горкомом. Так с тех пор и стоит.
До пенсии Вальку далеко, но работа у него, считай, стариковская. Совсем недавно страну вдоль и поперёк утюжил, теперь пристроился на каботажные рейсы – яйца возить. Утром сгонял на птицеферму в Рассвет, принял там яйца, развёз по магазинам. К трём, бывало, освобождался. Пока он ездит, Ваня или на танке, или в бытовке, или в боксе – наблюдает, как машины чинят. Мастера приноровились мальца в ларёк гонять: за сигаретами, за водой, к вечеру – за пивом.
– Эй! – кричат они Ваньке, – Валентинович! Будь другом, сбегай!
И Ваня бежит. Ему в радость.
– Пойду в ларёк схожу, – скажет кто-нибудь.
– Да чё ты пойдёшь. Крикни вон, сын Валька сбегает.
Так и закрепилось прозвище. Мужикам понравилось, первое время только и слышно было на колонне: сын Валька то, сын Валька это.
Ваня был потомственный детдомовец. Родители познакомились и сошлись в том самом интернате на окраине Северного, из которого Ваня сбежал две недели тому назад. Обоим было по семнадцать.
Заведующая, Эвелина Марковна, была категорически против. Когда заметила живот у своей воспитанницы, отхлестала её по щекам, велела делать аборт. С отдельной жилплощадью для молодых мамаш в интернате всегда был напряг. Не говоря о том, что это вообще не предусмотрено. Всё равно рожали, конечно. Несмотря на запреты и наказания. Таких упрямиц в интернате не жаловали: из-за них всем остальным приходилось уплотняться. Их называли «свиноматки». Мочились им в постель, плевали в тарелки, всячески пакостили. Когда-то давно устраивали «тёмные». Но про это Нина, юная Ванина мать, знала только понаслышке. Рассказывали, что однажды во время такой «тёмной» приключился выкидыш, и когда этот выкидыш нашли в мусорке, поднялся шум. Завели уголовное дело, нескольких воспитанниц отправили в колонию. Чаще всего, «залетев» и не желая делать аборт, интернатовские сбегали на несколько месяцев, отсиживались где-нибудь на стороне до того срока, когда аборт уже делать поздно. Партизанили – так про них говорили. Некоторые возвращались уже с ребёнком на руках. Нина Солнцева отсиделась до восьмого месяца в нежилой «хрущёбе», брошенной после пожара. Так уж сложилось: в Ванину судьбу с самого начала вплелись пожары. Пока партизанила, просила милостыню возле церкви. Ей хорошо подавали.
Коля, Ванин отец, ещё до его рождения отправился шабашить в Ставрополье – кто-то ему шепнул, что на тамошних стройках за лето можно на машину заработать. Назад Женя не вернулся. То ли сбежал, то ли погиб. Ваня знал отца только по фотокарточкам.
Когда Нине исполнилось восемнадцать, и она с маленьким Ваней выпустилась из интерната, ей выделили квартиру в малосемейке. Квартирка была угловая, холодная, зато самая тихая в доме. Сверху чердак, снизу чернобылец – по полдня в поликлинике, всё лето в санатории. За стенкой бездетная парочка: она русская, он вьетнамец. Эти вообще жили беззвучно: музыку не включали, дверью не хлопали, после десяти запрутся и сидят тихо, как диверсанты. Ване потом очень этой тишины не хватало. И вида из окон: в одном окне порт, в другом – новый мост через реку.
Мать – чем дальше, тем больше грустила. Частенько рассказывала Ване историю его рождения. Вспоминала подробно. Жалела, что не послушалась заведующей. Говорила то со слезой, то со вздохом: «Любила, дура, отца твоего. Доверилась. Чтоб ему ни дна, ни покрышки».
Когда Ваня учился во втором классе, у матери завёлся постоянный мужичок, Дима, кандидат в Ванины отчимы. Ваня плохо его помнил. Дима разговаривал с ним редко. Когда приходил – ел, и мать отправляла Ваню гулять. Больше запомнился картонный планер, который тот ему подарил на Новый год – крылья были раскрашены в цвета российского флага, а под крыльями чёрные бомбы.
Диму посадили за торговлю наркотой. Во время обыска менты не сообразили влезть в аквариум, под пластмассовые развалины замка, где хранился контейнер с порошком. Хозяин ларька, в котором Ванина мать работала продавщицей, на всякий случай её уволил. Искать новую работу мать не стала, и Ваня скоро понял, что она сама занаркоманила.
Плакала под конец часто, гнала Ваню из дома.
Во дворе ему не понравилось. Не поладил с дворовыми. Драться он не умел. Пробовал, но не получалось, рука не слушалась. Замахнётся – и замрёт как памятник. Даже ругаться – и то не научился. Его и в хвост и в гриву, а он насупится и молчит, и сразу уходит. В общем, во дворе он прослыл тютей. Пацанве, ясное дело, такой только для того и сгодился, чтобы его шпынять. Но и роль жертвы Ване тоже оказалась не по нраву.
Оставался в школе до вечера. Сначала продлёнка, потом библиотека. Когда библиотека закрывалась, и учителя расходились, прятался где-нибудь в коридоре или в туалете. Но сторож во время обхода его находил и отправлял домой. Однажды, придя из школы, Ваня увидел пожарные машины у подъезда и обугленное окно. На подоконнике остов лопнувшего аквариума, на асфальте растоптанные рыбки. Мать отключилась с сигаретой в руке. «Частый случай», – сказал Ване следователь.
Осиротевшего Ваню определили обратно в интернат. К этому времени здесь всё изменилось. Марковну сняли. Она осталась на должности старшей нянечки – следить за порядком по вечерам и в выходные. Теперь в интернате жили одни мальчики. Командовали бывшие военные. Такой здесь ввели эксперимент. Воспитанники ходили в форме, с ними проводили армейские занятия: строевая подготовка, тир, полоса препятствий.
Однажды кто-то назвал Ваню старожилом. Дескать, он жил в интернате при старом порядке. Старый порядок считался теперь позорным, потому как жили вместе парни и девчонки, занимались чёрт-те чем. Ваню даже принялись расспрашивать. Но сам он ничего не помнил, только из рассказов матери. Так и ответил:
– Не помню я. Вы что? Я ж маленький был.
И его стали дразнить Жмаленький. И ещё – Старожил. Других старожилов в интернате не было. Не считая бывшей заведующей – но её-то не подразнишь.
Сначала всё шло ни шатко ни валко. В отстающие Ваня не попадал. Учился нормально, и даже физкультура была на высоте. Так что, класс из-за Вани не наказывали, а класс не крысился на него. Словом, поначалу Ваня, вроде бы, вписался. Жизнь в интернате была сшита по армейской колодке, свободного времени у ребят оставалось немного. Перед отбоем старшие, бывало, подкалывали младших со скуки. В коридорах или в умывалке. Но необидно, терпимо.
Потом с Ваней стряслось очередное невезе ние. Как-то вечером он проголодался и отправил ся к поварам на кухню. Если бы Ваня был повнимательней, наверняка бы знал, что «парашничать» – есть в неурочное время – считалось среди интернатовских очень серьёзным проступком. Уличённых в «парашничестве» – «парашников» – опуска ли на самый низ.
На кухне Ваня никого не застал: повар курил на заднем дворе. Ваня взял кусок оставшегося с ужина хлеба и включил электрочайник. Как назло, именно в этот момент в розетке случилось замыкание. Выбило пробки, Ваня с испугу опрокинул на пол весь хлеб. Сбежались с фонариками, столпились в дверях. Ваня тогда ещё ничего не понял, принялся в свете фонарей собирать рассыпанный хлеб. Вкрутили пробки, пришла Марковна. Выслушав и отодрав Ваню за ухо, велела дежурным впредь запирать кухню сразу после ужина.
– Спалить нас собрался?
Снова отодрала за ухо, добавила:
– Чего ещё от такого ждать. Детдомовец во втором поколении…
С того вечера Ваню окончательно зачислили в изгои. Получать он стал часто – в основном, по вечерам, когда командиры расходились. Делалось всё втихую, и Марковна не вмешивалась. Ваня однажды ей всё же пожаловался.
– Мать свою покойную благодари, – ответила Марковна. – Не послушалась меня в своё время, сучка малохольная.
«Парашнику» полагалось воровать из столовой хлеб, масло и печенье, делать запасы. Потом к нему приходили «деды» из старших групп и заставляли съедать всё с завязанными глазами, подсовывая в какой-то момент несъедобный бутерброд: с туалетной бумагой, например, или с толстым слоем соли. Но Ваня в этом участвовать не захотел. Сбежал. Нынешний побег был у него вторым. После первого его быстро отловили. Издевательства прекратились, но насмехаться и мелко гадить ему не перестали. Ваня пожил так немного и снова сбежал.
После того как Лара турнула Ваню из дома, и Валёк вернулся с ним на колонну, они поначалу вселились обратно в гостиничный номер. В одном конце коридора путаны из «ВИП-эскорта» дежурят, в другом – Валёк сыночком обзавёлся.
Ваня продолжал обживать свою «тридцатьчетвёрку». Звёзды кирпичом нарисовал, цифры какие-то. Влезет и вьётся ужом вокруг башни.
Что интересно: Валёк не часто с пацаном возился. Особой ласки не проявлял.
Ваня вставал рано. С непривычки к утреннему шуму просыпался, как только заводились первые движки. Шёл в туалет, умывался – и к танку. Валёк вставал чуть позже: торопиться ему было некуда, в Рассвет он ездил к десяти. Открывал окно, окликал Ваню. Перекинутся несколькими фразами:
– Как дела, мало й?
– Хорошо, Валёк!
– Я ночью здорово храпел?
– Как обычно.
– Ты выспался? Или меня слушал?
– Выспался.
– Ну, дуй сюда, завтракать будем.
Вот и весь разговор. У них все разговоры были такие. Пустячные.
После того как Ваня рассказал Вальку про свою жизнь, а Валёк пихнул его нежно в плечо и пробубнил: «Да уж, намаялся», – серьёзные разговоры между ними закончились. Будто уговорились – ни о чём серьёзном. Но им и не нужно было. Разговоров. Что-то между ними происходило без слов. Вроде, каждый сам по себе, а как будто вместе. Порой уставятся в разные стороны, а кажется – друг на друга глядят. Молчат – и вдруг заговорят одновременно. И разулыбаются.
Многие уже тогда пальцами у висков начали вертеть, перешёптываться. Тут ещё Лара на колонну позвонила, Ахмедычу. Расспросила, как Валя, объяснила, что мальчишка вовсе не соседский, подобран на улице.
Дело небывалое. Стали к Вальку присматриваться. Внешне он действительно заметно переменился. Стал непривычно улыбчивый – и при этом задумчивый до крайности. Закончит «Газель» ковырять, усядется на покрышку от БелАЗа, которую под клумбу приспособили. Сощурится куда-то по-над забором – и сидит, сам с собою нежится. Ни дать ни взять – командировочный на пляже.
Выходных Вальку тогда выпало немерено. На куриной ферме грипп случился, кур поперебили, назначили карантин. Пока начальство искало, куда перебросить Валька на его «Газельке», он загорал. Кстати, в прямом смысле слова. Погоды после дождей установились не по времени тёплые. Солнце раззолотило всё насквозь. Коты на каждом шагу распластались и дремлют. Вороны орут, с ветки на ветку скачут – маются, не поймут, где они и когда.
Валёк с пацаном на бульвар ходил гулять. На бульваре хорошо было. Клёны листву ещё не сбросили, солнца много – деревья светились как свечки. Даже запах стоял с горчинкой, точно от воска.
Спешить им было некуда, вышагивали чинно, вскидывали головы на шорохи листьев. Лист продерётся сквозь ветки, выпорхнет наружу и летит – а Валёк с Ваней стоят, наблюдают.
– Ты какое время года больше любишь? – спросил Ваня.
– Я? – вопрос, вроде, был простецкий, ни о чём, но Валёк задумался. – А что?
– Ну, просто… Осень?
Валёк кивнул:
– Может, и осень.
Ваня чему-то обрадовался.
– Я тоже люблю. Однажды мы с мамой на набережной были. Осенью, рано утром. Людей никого почти не было. Там над рекой такие тучи синие стояли. И чайки медленно так летали. И перекрикивались. Вот так.
Ваня показал, как чайки перекрикивались.
– Хочешь, на набережную сходим? – предложил Валёк.
– Нет, – махнул Ваня рукой. – Я ходил. Когда в прошлый раз сбежал. Там теперь стройка. Всё огорожено. Шум ужасный, сваи забивают. И чаек нет.
Прошли немного молча, Валёк усмехнулся:
– А, в общем, глупо в наших краях осень любить.
– Почему?
– В смысле, трудно.
– Почему?
– Так ведь погода обычно… тушите свет, сушите вёсла. Это сейчас благодать. – Валёк обвёл взглядом клёны. – Я и не припомню, когда в последний раз в ноябре так было.
– Мы сегодня будем пирожные есть?
Повадились ходить в кафе «Синяя птица» на углу Красных Зорь и Буденновской. В «Синюю птицу» Валёк бегал ещё школьником. Очень ему нравились тамошние пончики с заварным кремом. Несколько раз бывал там и с одноклассниками, когда с уроков сбегали. Здорово было. Приходилось головой вертеть, разглядывать прохожих, чтобы не нарваться на родительских знакомых или на учителей… Пончиков в «Синей птице» больше не делали. Валёк брал бисквит, Ваня буше и «корзиночку».
– Слушай, тебе же учиться надо, – спохватился как-то Валёк.
Ваня ему:
– Нет, сейчас у всех каникулы.
– Но всё равно ведь надо.
– Я в интернат не пойду, – нахохлился Ваня.
– А тебя никто и не гонит. Разберёмся. Каникулы так каникулы.
Думалось Вале в те дни много и сбивчиво. Унесло в такие дебри, которые раньше стороной обходил. Заглянет, помнётся – и ходу. Потому что всё равно одно расстройство. Встрянешь – потом не выберешься, пойдёшь круги наматывать: почему здесь так поступил, да почему там эдак. Ничего уже не изменишь – но будешь себя терзать, морить укорами. Так, вроде, и вышло: стоило потянуться – и сорвался по следу, в погоню за собой. Но обошлось без терзаний. Погоня та мгновенно обернулась для Валентина свободой, которой он и вкус успел позабыть. Сиднем сидит, мысли в голове гоняет, а чувствует себя – как малолеток на первой дискотеке. Думает о сложном и неприятном – а ему лёгко. Свобода!
Валёк поначалу было насторожился: из семьи, фактически, ушёл – чему радоваться? Но сделать с собой ничего уже не мог. Мальчишка успел окончательно выбить его из колеи.
Вспоминал Валёк своё прошлое – бесцветное и немудрящее. Таким как он прошлое вспомнить, что на балалайке сыграть: трень-брень, вот и песня. С молодости корячился. Да все вокруг корячились, тянули ярмо. Они с Ларой неплохо управлялись. Как «Варяг» – врагу не сдавались, держали марку. После свадьбы жили по-советски скудно. Потом, в девяностые, совсем впроголодь. Теперь, можно сказать, нормально. Только вот кроме пайка, усмехался Валёк, ничего в его жизни не менялось: сплошная пахота, упёрся – и тащи. Душе отвлечься не на что.
«Даже не выслушала, – вздыхал он, думая о Ларе. – Что же это?»
Конечно, Лара все эти годы его подбадривала. Держала в тонусе. Из Валиных знакомых многие спеклись. Не выдерживали натужной монотонности. Это ведь как на войне: хуже нет окопной. Кто-то сразу спился. Кто-то перетерпел, но потом послал всё на хрен – и спился. Кто-то в деньгах поднялся, но удержаться не смог: со свиным рылом в калашный ряд больше нету хода. Лара от любых авантюр Валька отговаривала, от бутылки в своё время спасла. Жили. Пусть без прорывов, зато и без потерь…
Валёк в эти дни часто вспоминал жену. Однажды почувствовал, что не просто вспоминает – прощается.
Лара ему не звонила. И Люба тоже. Ей, конечно, мать запретила.
Валёк понимал: Лара, согласно своему характеру, решила проявить строгость до конца. Решила: муженёк побунтует немного, и успокоится. Как обычно.
«Она удивится», – думал Валёк; свобода так и шуровала у него по венам.
От этой своей свободы вид он имел несколько хмельной. Как Валёк выглядит, когда по-настоящему пьян, никто уж не помнил. Но веселье без видимой причины – верный признак. Подослали Ахмедыча, тот подошёл, завёл рабочие растабары. Долго тёрся вокруг, принюхивался. Тут мальчишка к Вальку бежит, кричит:
– Там люк открылся!
Танковый люк от ржавчины освободил. Сам чумазый с ног до головы, чёрно-буро-оранжевый.
– Можно, – говорит, – я внутрь спущусь?
Валёк запретил. Велел для начал попросить у вахтёрши фонарик, в люк посветить. Мало ли что там – может, снаряды. Кто его проверял? И снова улыбается, это у него запросто:
– Как фонарик добудешь, меня позови. Вместе пойдём.
– Честно?
– А то.
Дождавшись, когда Ваня отбежал далеко, Ахмедыч первым сказал Вальку то, что уже витало в воздухе:
– Пацан ведь, считай, беглый. Ты бы вернул его. Пока на неприятности не нарвался.
Выслушав начальника, Валя помрачнел, сплюнул себе под ноги.
– Дай, начальник, время, – говорит. – С мыслью собраться.
И больше ни гу-гу.
Всеобщий интерес к сыну Валька быстро сменился прохладой. Больше других неожиданно ощетинились гвардейцы – ровесники Валька. Особенно Сёма, Лёша, Эдик «двести двадцать пятый». Костя к ним примкнул. Устроил, говорят, детдом возле борделя. Смотрела гвардия хмуро и красноречиво молчала. Но Валёк, вместо того чтобы вернуться в реальность и устроить всё по уму, продолжал витать в облаках. Подумал, что ещё успеет об этом подумать.
Вскоре из «Пяти звёзд» им пришлось убраться. Случилось вот что. Валёк помогал Мишке «триста восьмому» переобуться. Похолодало как раз, по утрам туман лежал, асфальт как мылом намазан. Народ начал зимнюю резину ставить. Моросило, Валёк попросил Ваню во двор не выходить.
– Дома посиди. Порисуй. Ты же любишь.
Новая забава у Вани появилась: рисовал карандашом в блокноте, который Валёк ему купил. Солдат рисовал, взрывы, танковые сражения. Хорошо получалось.
Ваня порисовал, потом сложил из листка самолёт, стал его пускать по комнате.
В комнате у путан в это время Костя «восемьсот десятый» разгулялся. У «ВИП-эскорта» телефонная линия порвалась, охранники бросились улаживать, мастеров подгонять. Попросили Костю присмотреть. За офисом и за девками заодно. Костя, не будь дурак, путан подпоил, раскочегарил шуточками своими. Раскрутил их устроить смотр. Встал за кресло, будто за трибуну, надел на голову коробку от торта. Девки маршируют перед ним с голыми сиськами, а Костя им честь отдаёт и командует: подтянись, чеканим шаг, – и так далее. Он всегда был у них любимчик. Умел подход найти.
Ваня к тому времени со своим самолётиком в коридор перебрался: запустит и замеряет, в который раз самолёт дальше улетел. Один раз за себя пускает, другой – вроде как за своего соперника. Как будто соревнования.
В это время охранники из «ВИП-эскорта» вернулись. И надо же было так всему совпасть: они вошли, расхохотались от увиденного, бросили дверь открытой – и точнёхонько в этот момент туда влетел Ванин самолётик. Ваня заскочил вслед за самолётиком, протиснулся между спин – и прямиком на марширующих девок. Те завизжали, будто зверь на них бросился. Ваня схватил самолёт и – дёру. Но в «ВИП-эскорте» веселье свернулось. Умел мальчишка всё обострить, этого у него не отнимешь.
В тот же вечер Ахмедыч вызвал Валька к себе и попросил освободить номер.
– Звонили, – сказал Ахмедыч, вскинув взгляд в потолок.
Пришлось Вальку с Ваней перебраться в бытовку в глубине двора. Это был небольшой щитовой домик, задней стенкой сросшийся с сараем. Когдато, когда в колонне размещалась инкассаторская фирма «Когорта», в бытовке стояла радиостанция и сидел диспетчер. Когда инкассаторы ограбили банк, «Когорту» прикрыли, а в бытовку поставили стол, стул и двухъярусную кровать. Нормальное жилое помещение. Правда, умываться и по нужде теперь приходилось ходить в здание конторы. Но Вальку в бытовке даже больше понравилось: вдалеке от всех, тихо и спокойно.
– Нужно было сразу сюда, – сказал он Ване.
На Валька с мальчишкой теперь смотрели косо. Перетёрли друг с дружкой и постановили, что ребёнку здесь не место. Механизмы вокруг, машины. А он бегает. Не заметишь, шмыгнет под колёса – и сядешь как миленький, лет эдак на пять. Ну, и вообще.
Стали капать Ахмедычу:
– Детство у Валька взыграло. Как такому человеку машину доверять?
Жора сходу своего племянника на место Валька предложил.
Не мог Валя не замечать завязавшихся пересудов и происков. Замечал. И даже огорчался. Но как-то не всерьёз. Это было как разглядывать аварию на трассе. Сбросишь скорость, едешь, смотришь на задранные к небу колёса, на блестяшки битого стекла, на ментов с бумажками и жезлами. Покачаешь головой, языком поцокаешь. Ну, перекрестишься – если авария со жмуриками. Проедешь, придавишь газу, и – дальше покатил. Так и Валя: вздохнёт, поморщится и зовёт своего Ваньку – по бульвару пройтись.
Несколько раз, гуляя с Ваней, Валёк встречал соседей. Здоровались, но не подходили. Некоторые и вовсе шарахались. Только заметят – шире шаг, равнение в сторону. Валёк не обижался. Соседи оставались такими, какими были всегда – людьми за стенкой. Так заведено. По крайней мере, в их доме. Друг к дружке никто никогда не лез. Ни в гости, ни в жизнь. Бывает, в ванной или в туалете по трубам долетит, как плачут или ругаются. И всё. Грязное бельё напоказ не выворачивали, окружающим не досаждали. Словом, жили чинно и мирно. Образцово. Но Ларе соседушки, разумеется, донесли. Гуляет, дескать, ваш супруг по городу с непонятным ребёнком. Лара Вальку не позвонила. Позвонила в контору, опять с Ахмедычем разговаривала: Захарыч ещё был в отпуске. Лара Ахмедыча зарядила по полной – так, что тот на Валька собак спустил. Ты, говорит, жене своей объясни, что я не кагебе, что я своим работникам мозги промывать не обязан. А вообще, говорит, мне ваш сериал давно остохерел, давай-ка собирайся скорее с мыслями, и вези мальца в детдом. Валёк ещё немного времени попросил. Ахмедыч побагровел, сказал:
– Вам хоть вечность выложи, вы ещё немного попросите. – И ушёл мотористов дрючить: те на «семьсот сорок седьмом» никак не могли цилиндры отрегулировать.
С мыслью Валёк так и не собрался. Снова вышло всё само собой. Сидели, завтракали под рычание двигателей и шипение воды на мойке. У Вани левое ухо насквозь светом от лампы пронизано – так что виден каждый капилляр, каждая прожилка. Валёк рассматривал его ухо и думал, что оно напоминает ему крыло стрекозы. И вдруг сказал, для самого себя неожиданно:
– Ты, главное, не сомневайся. Я тебя усыновлю.
Стало очень тихо. Будто все двигатели заглохли, и мойка отключилась.
Валёк отхлебнул чай, прибавил, глядя на Ваню поверх дымящейся чашки:
– Вот так.
Ваня кивнул, не подымая глаз.
– Домой нам сейчас дороги нет, это ясно. – Валёк принялся болтать; так, как болтают, когда опасность дышит в шею – чтобы отвлечься и расхрабриться. – Может, со временем. Но ты в любом случае не робей. Что-нибудь придумаем. Прорвёмся.
За завтраком Ваня ничего не съел: в горло не лезло. Сладкого чая похлебал, и то полчашки. Когда Валёк доел и собрался вставать, спросил как бы между прочим:
– А она что?
В ответ Валёк скривился:
– А что – она? Она тут не при делах. Сказано тебе, не сомневайся.
Валёк понимал: разговор с Ларой неизбежен. Но к такому сражению он был уж точно не готов. С Ларой нужно будет всё сделать чётко. С первой попытки. Допустим, предложит она развод – нужно будет согласиться. Сразу и спокойно. Нужно ещё немного выждать, дозреть, – заключил Валёк: нельзя такие вещи с кондачка.
Но не только из-за своей мягкости Валёк хотел оттянуть решающую минуту. Хотелось ему немного побыть в тишине. Насладиться тем, что происходило внутри. Ему тогда казалось, для него всё начинается заново. Ему подарена новая жизнь. Как с ней быть, Валёк не представлял. Догадывался, что главное – заботиться о Ваньке, с которого эта новая жизнь началась. «Как-то всё это нужно будет оформить», – думал Валёк нехотя. И тут же повторял про себя Ванькины слова: «сейчас у всех каникулы», – как отговорку. Мысль о том, что «усыновить» связано уже не с самим Ваней, а с кучей муторных кабинетных людей, вгоняла Валька в ступор.
Валька уже открыто осуждали. Обстановка накалялась. Кто-то в рейс собирается, кто-то из рейса вернулся. Третьего и вовсе раненным на буксире приволокли. А тут Валя, вечно выходной, со своим детдомом. Раздражало. Валёк, чтобы народ сверх меры не злить, полмашины перебрал. Слегка подлатал бытовку: заткнул щели в окне, болтающуюся проводку закрепил. Ушёл с головой в своё незамысловатое хозяйство. Как-то возле бытовки стирал Ваньке одежду в тазу. С непривычки по локоть в пене, вода на ноги выплёскивается. Разогнул затёкшую спину, оборачивается – Ваня рядом стоит. В замасленном «общаковом» бушлате, голые коленки торчат.
Валёк:
– Ты чего?
Тот подошёл, обнял.
– Что ты? – Валёк ему снова; ничего другого не сообразил сказать.
Тут их выхлопом окатило: кто-то мимо проезжал, газанул.
Скоро Валька определили на картонажную фабрику, собирать макулатуру с пунктов приёмки. В первый день, выезжая на маршрут, выглянул из кабины. Ваня стоит на крыльце бытовки, смотрит ему вслед. Тонюсенький. Валёк высунулся из кабины и посигналил. В ответ Ваня помахал ему рукой. Деревянно как-то, нескладно. Никому до сих пор не махал, подумал Валёк.
Он подозревал, что дело не в одном лишь мальчишке, но и в нём самом. Так уж сошлось. Что-то в нём самом, видно, долго вызревало. Исподтишка. И на Ваньку откликнулось. Так же злость, к примеру, вызревает. Один тебе гадость сделает, другой, третий. Сдерживаешься, не среагируешь: запаришься на каждого реагировать. На дороге такое часто бывает. Одна мелочь, другая: подрежут, выехать не дадут, облают за то, что медленно едешь – а у тебя тонн двадцать в фуре, и движок вот-вот застучит. Ходишь потом, ходишь, с виду обычный. Вдруг кто-нибудь тебя плечом заденет, случайно – и всё, привет; вцепишься в него как в фашиста под Сталинградом. Словом, Валёк докопался, что это долго в нём копилась. Просто он не замечал. Вылилось в незаконное отцовское чувство. А мог вместо этого просто взять и повеситься. Не окажись рядом Вани. И так ведь бывает, вешаются. Без видимой на то причины. Родные-близкие потом только руками разводят: «А кто его знает. Может – порча на нём была?»
Иногда, лёжа в постели, когда Ваня уже сопел на верхней койке, Валёк погружался в мечты. Представлял себе, как, помыкавшись с мальчишкой, он налаживает житьё-бытьё. Снимают флигель. Рябина в окне. В кресле котяра вальяжный пузо мохнатое вывалил. Можно будет одного из здешних забрать. И вот приходит Лара. С вишнёвым пирогом. Просит прощения у Вани, говорит: места себе не нахожу. Перебирайтесь, скажет, домой, в тесноте да не в обиде.
Валёк покряхтывая, переворачивался на бок:
– Ничего, ничего…
И долго не мог уснуть.
Жалко ему было, что не пережил он такого, как с Ваней, с родною дочкой. Такой нежности. Пока Люба росла, вкалывал без передыху. График был – пишите письма: в воскресенье из рейса, в понедельник в рейс. На дочку ни времени, ни сердца не оставалось. Всё впопыхах, машинально. Было дело – Любаша только в школу пошла – он предплечье сломал, на мазуте поскользнулся. Выбыл из строя на месяц. Режим изменился. В рейсы не ходил, перевёлся в ремонтники. Но и тогда легче не стало. Лара тоже работала – причём в другом конце города, на хлебозаводе. Утром перед работой он должен был забросить дочку в садик, вечером после работы из садика забрать. Утром Люба дремлет или хнычет. Вечером хочет поговорить, но к вечеру он сам такой уставший, что впору хныкать: одной рукой работать – тот ещё аттракцион. Классу к третьему Люба уже и не пыталась наладить с ним дружбу. Привыкла, что папа устал, и дёргать его не нужно. Ближе к праздникам он сам спросит: ну, какой ты хочешь подарок? Валёк замечал, к чему идёт. Но что тут изменишь? Лара молчала – Валёк считал, всё в порядке. Он был кормилец. Для того и вкалывал, чтобы Любаше было, что есть, что надеть. Дочка вырастет, повторял он себе, всё поймёт и будет его любить… Выросла вот…
Однажды открывает глаза: пуговицы с орлами. Сел в постели, поднял взгляд – военный над ним стоит, говорит что-то. Валёк на всякий случай кивнул, сказал «здравствуйте». Сразу понял, откуда здесь вояка и зачем. Заволновался за Ваню: не попался ли, – но виду не подал. Молодой, на отставника никак не тянет, оценил гостя Валёк. По голосу – лет двадцать, не больше.
– Просыпайтесь скорей, Валентин Георгиевич.
Валёк, когда его по отчеству называли, впадал в неприятное волнение. Привык, что, если по отчеству – значит, государственный человек с ним заговорил. Значит, будут сейчас давить, гнобить и выкруживать. И если это не гаишник – то проблема, скорей всего, не на пять минут. В общем, от собственного отчества Валёк поневоле сжимался и готовился к неприятностям. Сейчас ему было особенно неуютно – сидеть в трусах и обвислой майке перед юнцом, одетым в форму, хоть и без знаков различия.
Человек в форме отступил на шаг от кроватей, и сразу к делу:
– Валентин Георгиевич, я приехал за Иваном Солнцевым. Я его новый наставник. Где он?
У Валька отлегло: не взяли пока мальчишку. Сдержался, изобразил озабоченность. Оглядел не спеша бытовку, потыкал поднятой рукой в сетку верхней койки.
– Он, наверное, к вам пошёл.
– К нам? – удивился наставник, но тут же нахмурился. – Вы меня, пожалуйста, не обманывайте. Не стыдно вам? Мальчик втемяшил себе, что в интернате ему плохо, и бегает. А некоторые несознательные взрослые ему потакают.
– Почему «втемяшил»? – буркнул Валёк.
– Потому что, – осадил его наставник, и прошёлся по бытовке. – Где он, Валентин Георгиевич? Я спешу.
– Нет, ну почему «втемяшил»? – не унимался Валёк. – Если ему там плохо? Если его обижают?
Валёк посмотрел на наставника в упор.
– Я, знаете, с вами не диспуты приехал разводить, – сказал тот и нервно сел на стул.
Валёк заметил под стулом Ванькины кроссовки, и понял, что Ваня улизнул в самый последний момент. Валёк с силой потёр ладонями лицо, окончательно разогнал сон.
– Всё это мы знаем. Что его обижают. Что с ним дружить никто не хочет. Да, не сразу узнали. Но теперь знаем. И, поверьте, прилагаем все возможные усилия, чтобы оздоровить ситуацию. Где он? Позовите его, пожалуйста.
Валёк мало-помалу приходил в себя. Гость его оказался хоть и при орлах, но довольно квёлым и неопасным.
– Вы-то сами в этой истории кто? Чтобы нас упрекать? – произнес наставник запальчиво. – Прекрасно ведь понимаете, никакого права на мальчика у вас нет. Что это у вас тут? – он широко повёл рукой у себя над головой. – Что за условия? Как вы себе это представляете, Валентин Георгиевич? Привели мальчика в… – снова махнул рукой, – в какую-то конуру. Это что вам, игрушки? Это не игрушки, Валентин Георгиевич. Это всё очень серьёзно.
– Так я…
– Не перебивайте, пожалуйста. У меня мало времени. Пока нашёл тут вашу автоколонну… – он задрал правый рукав, посмотрел на часы, снова оглядел бытовку. – Так вот, мальчик должен быть возвращён в интернат. Ваша супруга абсолютно разумно вам сказала: в интернате ему будет лучше. Ваше легкомыслие…
– Так я усыновить его хочу, – перебил Валёк. – Какое легкомыслие? Хочу усыновить. И Ваня согласен.
Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Валёк спешил подобрать слова поубедительней. Собирался сказать про то, как он относится к Ване. Про то, как от встречи с Ваней у него началась новая жизнь. Про то, как он теперь всё переменит. Заживёт по-настоящему. Как они с Ваней будут жить душа в душу. Хотел сказать: «Я не калека, не пьяница, смогу Ваню прокормить, поставить на ноги». Валёк много чего хотел сказать, но промямлил только самое простое:
– Я же не бухаю… мне можно доверить…
– Знаете что, – снова вспылил человек в форме, – это несерьёзный разговор.
– Да нет, я…
– Ну, перестаньте, Валентин Георгиевич! Какое усыновление, если ваша супруга против? Где Ваня? Некогда мне, нужно ехать, я уже опаздываю.
Тут он заметил узкую дверь за спиной у Валька – в углу, за торцами кроватей.
– Там у вас что?
Дверь выходила в небольшой сарай. Поначалу там помещался склад для сезонной резины, но, когда охраны не стало и резину принялись таскать, склад превратился в хранилище для ненужного хлама. Крытая отапливаемая свалка. Валёк и сам уже догадался, что Ваня там. Больше некуда ему было уйти, его застали врасплох. Ванька, скорей всего, услышал сквозь сон чужие шаги на крыльце и, соскочив с верхотуры, юркнул в сарай.
– Покажите-ка. Там открыто?
– Пожалуйста, – засуетился Валёк; решил в отместку за нервный тон сыграть перед ним дурачка.
Валёк был уверен, что малец не попадётся.
Они протиснулись за кровати, Валя толкнул незапертую дверь и, включив в сараюшке свет, спрыгнул вниз. Сарай располагался немного ниже примыкавшей к нему бытовки. Хоть и отапливаемый, но с бетонным полом. А поскольку песка в бетоне было намного больше цемента (цемент растащили строители), пол крошился и рассыпался, и был покрыт толстенным слоем белёсой пыли. Валёк специально и спрыгнул с притопом, чтобы продемонстрировать. Пыль поднялась густым облаком. Наставник покосился на свои начищенные ботинки, и спуститься в сарай не решился. Окинул взглядом стопки покрышек, дисков, банки с «отработкой».
– Ваня! – позвал он. – Если ты здесь, выходи. Поехали домой, Вань. Мы накажем твоих обидчиков. Вот увидишь.
В углу, между ним и Вальком, стояла покрышка от КрАЗа, в которой, свернувшись калачиком, Ваня и отсиживался. Валёк успел с ним переглянуться. Мальчишка сидел, вцепившись в ворох своей одежды. Какое-то время Валёк прислушивался, задрав ухо, потом вздохнул:
– Не. Откуда тут?
Наставник развернулся, пронзительно скрипнув подошвами, и затопал к выходу. Валёк подмигнул Ване и бросился следом.
– Вы не сердитесь, – успел он крикнуть в стриженый затылок, уже исчезавший в двери, которая вела во двор.
Валя плюхнулся локтями на стол, выглянул в окно. У здания конторы курили несколько водил. Заметив в окне Валька, отвернулись как по команде. Человек в форме вышагивал возле своей «Приоры» и говорил по мобильнику. Что – Валёк не слышал. Судя по лицу, говорил с кем-то из старших. Докладывал.
– Э-э-эх, – протянул Валёк с досадой, когда «Приора», хрустнув галькой, рванула по двору мимо разрисованной Ваней «тридцатьчетвёрки». – Не надо было с ним так. Разозлил. Настроил против нас.
– Да ну их, Валь, – раздалось из сарая. – Они всегда так.
Ваня уже переступал с ноги на ногу, надевая джинсы.
– Как «так»? – уточнил Валёк.
– Да так! – бодро ответил Ваня; его била крупная дрожь, но он старался не поддаваться. – Ничего с ними не получится, Валь. Им только понятно, когда перед ними прогибаются. Особенно этот… я его знаю. Сейчас бы привёз меня туда, сунул бы мне бумагу, пиши: кто тебя обижал, как обижал. Каждый раз так… Ты чего, Валь?
Валёк и впрямь изменился в лице. Он вдруг подумал, что прогнуться-то и нужно было. Сейчас, как никогда. Если когда и прогибаться, то именно теперь. Не спорить с ним нужно было, а основательно, в пояс, прогнуться. Показать благонадёжность, что ли. Понравиться. Может, этот юнец и не решает ничего – а может, и решает. Поди угадай с ними.
Только теперь Валя прочувствовал до конца, какое неподъёмное дело затеял. Ведь не отдадут: Лара против, жилья отдельного у него нет. Разводиться и делить квартиру?
Валька прошиб холодный пот.
Попробовал улыбнуться Ване, но не вышло. Покачал головой собственным невесёлым мыслям, нашёл на столе сигареты, прикурил. Затянулся смачно, пустил сизое облачко к потолку. Негромко протоковал:
– Так-так-так.
И как бы подытожил:
– Так.
В тот день Валёк еле дотерпел до вечера. Вечером побрился и отправился домой.
Ване велел запереться, выключить свет и сидеть мышкой. Никому кроме него не отпирать, по нужде ходить в сарае в ведро.
Мальчишка молча кивал и глаз на Валька не поднимал. Затаился. Валя понимал, что творится в душе у Вани. У самого внутри всё трещало и рушилось. Замялся в дверях, думал как-то приободрить Ваню. Хотел сказать: всё сделаю, как надо; выстоим; победа будет за нами. Но от нервов опять растерял все слова. Пробормотал:
– Всё, ладно, давай, – и вышел.
«Газель» Ахмедыч ему не дал: неожиданно зацепился за полузабытый приказ, запрещавший «в целях повышения порядка пользоваться рабочим транспортом в личных целях». Валёк удивился, но настаивать не стал. Отправился на автобусе.
Предстояла решающая битва, к которой Валя так и не успел подготовиться. Ещё бы день-другой – он бы собрался. Но теперь, после того как интернатовские их накрыли, времени на подготовку не осталось.
Расклад был самый неподходящий. Валёк отправлялся к Ларе сразу после того, как его посетил подосланный ею детдомовский сотрудник. Тем самым Валя признавал, что Лара попала в цель. Она наверняка ждёт его визита во всеоружии. Ему бы переждать, сбить ей боевой кураж. Сделать вид, что ничего страшного не случилось – руки коротки у интернатовских властей, чтобы дотянуться до него с Ванькой… Но было ясно, что вслед за хлипким желторотиком оттуда придут другие, зубастые. Возможности для маневра не было никакой. Попросить кого-нибудь, чтоб приютил? Почти у всех его бывших напарников есть дачи. Он с Ваней мог бы там перезимовать. Но сейчас ни к кому из них Валя не подойдёт. Момент не тот.
Случись всё это лет на десять раньше, когда Валёк ходил в дальние рейсы – может, и нашёл бы союзника. Если бы история завертелась в подходящий момент. Момент – это всегда важно… В те неспокойные годы было принято в рейсы ходить вдвоём. С напарниками у Валька всегда складывались близкие, родственные почти, отношения. В дальнем рейсе иначе никак. С Костей чаще всего выпадало, с Толиком, с обоими Антонами, Зубковым и Тимофеевым. Со всеми Валя находил общий язык. Рейс превращался в долгий задушевный разговор. Бывало, радио не включали целыми днями. Казалось каждый раз, что стали друзьями – не разлей вода. Но дружбы все почему-то оказывались недолговечными. Не только у Валька, все в колонне так дружили – взасос, но временно. Стоило начальству перетасовать колоду: сменить тебе напарника, перебросить тебя самого, – и человек, который ещё вчера был тебе за брата, делался вдруг чужим. Ты больше не тащился с ним в Воронеж или в Назрань, не ночевал в одной кабинке или гостиничном номере, не сторожил по очереди груз от дорожных шаек – и ваша дружба мигом сходила на нет. «Привет, как дела?» – «Спасибо, нормально». Всё возвращалось на исходную. Вчерашний брат мог запросто тебе нагадить. Скажем, настучать на тебя начальству – чтобы выпросить для себя рейс получше, или машину, а то и просто так, от плохого настроения. Мог инструмент прибрать, случалось и такое. А потом вас опять ставят вместе – и у вас опять дружба.
Когда напарничал с Тимофеевым, в выходные между рейсами они даже ходили на рыбалку, перезванивались. Вот если бы в такой момент свалился на него Ваня…
Валёк крепко сомневался, что удастся уговорить Лару. Если уж сказала «нет», костьми за своё «нет» ляжет. Такая натура. Но не пойти нельзя. Обнадёжил Ваню. Как ему в глаза теперь смотреть?
Впервые в жизни Валёк лез на рожон, понимая, что шансы нулевые. Раньше в такой ситуации отступил бы, глазом не моргнув. Когда надежды никакой – зачем калечиться? Теперь он вспоминал, как они с Ваней гуляли под клёнами, как мальчишка его обнял – и был готов на любую бессмыслицу.
Был у него в запасе один довод – насчёт Зои Никитичны. Валёк и на него не сильно рассчитывал, но вдруг сработает… Тёщу его чужая женщина вырастила, удочерила во время войны. Осенью сорок первого пятилетняя Зоя с матушкой отправилась в эвакуацию. Из Воронежа в Новосибирск. Зоина мать была сильно простужена, и на второй день пути умерла. На ближайшей станции её вместе с другими умершими сгрузили, а Зою в общей неразберихе оставили. Сначала кто-то забрал её от мёртвой матери подальше, потом она сама со страху забилась за какие-то ящики. Про неё и забыли. Женщина, которая на тех ящиках ехала, долго на неё смотрела. Сахаром угостила, стала расспрашивать. Зоя – молчок. Испугалась, что её накажут – за то, что в поезде осталась. Женщину звали Лариса Фёдоровна – у Лары в честь неё имя. «Пойдёшь ко мне в дочки?», – спросила Лариса Фёдоровна, Зоя ответила: «Пойду». Доехали вместе до Куйбышева. Пока завод разворачивали, Зоя с другими эвакуированными детьми в клубе жила. Как только запустили завод, Лариса Фёдоровна записала Зою на себя, им выделили угол у кого-то из местных. Вырастила Зою одна, без мужа. Муж у неё на фронте погиб. Умерла давно, ещё в Сибири. Больше про приёмную мать своей тёщи Валёк ничего не знал.
Почти стемнело, когда он подходил к дому. На фоне серо-голубого неба чернели длинные силуэты «панелек». Вальку родной пейзаж показался картонной картинкой. Неприятное наваждение. Во дворе пусто. Доминошники разошлись, молодёжь ещё не вышла.
На лестнице между вторым и третьим этажами столкнулся с Юлей, соседской девочкой. Прошла, не поздоровавшись. Не узнала, наверное.
Люба бросила: «Привет», – и ушла к себе. Зять Толик мелькнул на диване, пока открывалась и закрывалась дверь; выходить не стал.
– О! Муженёк. Без вести пропащий. – Лара держалась, как ни в чём не бывало. – Мой руки, ужинать будем.
Пряча победную улыбку, усадила Валю в его любимый угол. Скатерть стиранная, выглаженная. Как флаг на парад.
– Чай фруктовый будешь? Или обычный заварить?
– Всё равно.
Заварила в одной чашке пакетик фруктового, в другой – обычного.
– Мы тебя в прошлые выходные ждали, – сказала Лара, нарезая сыр. – Чего не пришёл?
– Не знаю, – прогундосил Валёк. – А ты чего не звонила?
– А ты? – легко отбилась Лара.
Валёк промолчал.
– Ты ж сбежал посреди ночи, – говорила она, делая бутерброды. – За своим бомжем малолетним. Думаю, пусть в себя придёт, пусть мозги на место встанут.
Накрыла на стол, уселась напротив мужа. Поставила перед ним сразу две чашки: выбирай. Валёк взял не глядя, отхлебнул – фруктовый.
– Наверное, ты этот хотела? – засомневался он.
– Пей уже. Или не нравится?
– Да не, нормально.
Лара налила чаю в блюдце, отпила. С кокетливой хитринкой – это она умела – улыбнулась Вале:
– Ну? Образумился?
Валёк и пяти минут не пробыл дома, а слабость уже нахлынула. Чем дальше, подумал Валя, тем будет хуже. И рванул в атаку:
– Ларис, никогда я тебя не просил ни о чём так серьёзно. Сейчас прошу… Мне это очень важно, Лар. Очень.
Увидев, что жена собирается что-то сказать, Валёк вскинул руку:
– Погоди ты!
Сам от волнения заговорил громче:
– Давай Ваню усыновим. Пожалуйста. Он очень хороший мальчишка. Вот увидишь. Запало сердце…
Атака его захлебнулась быстрей, чем он рассчитывал. Даже о Ванькиной судьбе не успел рассказать.
– Чего-чего? – негромко спросила Лара. – Повтори, я не по няла.
Простенькая фраза скосила Валька как пулемётная очередь. Умолк на полуслове и повторить уже не смог. Выдавил только:
– Пожалуйста.
Лара выдохнула:
– Валя, Валя.
Сказала с упрёком:
– Ты в своём уме, нет?
В ответ он кинулся рассказывать, как они с Ваней успели сродниться за эти дни. Лара не слушала, и Валёк замолчал.
– Валь, ты бы подумал своей головой заранее. Может, тогда и до выходки твоей киношной не дошло бы… Тоже мне, артист. Выскочил, убежал. Куда, зачем? Твой этот… Ваня… ты же сам сказал, что он на улице жил. А я его обратно в интернат отправила. Денег дала. Одела-обула… Ты бы видел, как ты на меня тогда смотрел. Я потом уснуть не могла. Плакала. В воскресенье полдня в церкви провела, чтобы в себя прийти.
Она печально глотнула чаю, печально откусила сырный бутерброд. Валёк успел ввернуть:
– Жалко ведь мальчишку.
Лара прихлопнула ладонью его руку. Торопливо прожевала, проглотила. Сказала:
– Мы ж сами еле-еле концы с концами сводим. Да если б только это! Дочка у тебя замуж вышла. Не сегодня-завтра забрюхатеет, родит. Куда ребёночка? Ясное дело, сюда – на наши квадратные метры. У тебя скоро свой будет внук. Или внучка. А ты что? Какое, прости господи, «усыновить»? Куда усыновить? Да тут скоро как в трамвае будет.
Валя бросил в бой последний резерв – напомнил, что Ларискину мать, как-никак, чужой человек вырастил.
– Валя, ты чё, контуженый? Давай уже начистоту, а?
Валёк обречённо кивнул.
– Я сначала, конечно, решила, что это твой пацан, – Лара пытливо прищурилась. – Я ж чего вас и посадила в тот вечер рядом, на свет. Чтобы рассмотреть.
Тут она слегка улыбнулась – опять по-своему, с подначкой.
– Рассмотрела. Нич-чего твоего в нём нету. Ну вот ничегошеньки. У меня глаз верный. Не твой это ребёнок, Валя. Не твой, – Лара победно выпрямилась.
Валёк молчал, ошарашенный. Лара добавила:
– Я, Валя, из-за баб с тобой скандалить не стану. Пустое. Знаю, не девочка.
– Чего знаешь?
– Знаю, кто у вас в гостинице обретается, – она выдержала многозначительную паузу, продолжила примирительно. – Все вы, водилы, одним миром мазаны. Ныряете куда ни попадя. С вами жить – как на вулкане. Не знаешь, какую заразу подцепишь.
– Лара, да ты… – попытался протестовать Валёк. – Ну, ведь ни разу…
– Ладно, – отмахнулась Лара. – Всё прощаю. Знала, за кого шла. Только что бы тебе эта сучка ни говорила, не твой это ребёнок. И всё. С другим нажит.
– Лара! – очнулся Валёк. – Да что ты… что ты хрень городишь! Что… блин, было-не было… Вот же… На улице я его встретил. Понимаешь? На улице. Сердце, говорю, запало!
Лара прикрикнула шёпотом:
– Хватит! Сердце у него… Мне только педикулёза тут не хватало…
В её взгляде было поровну строгости и муки. Вспомнилось вдруг: когда-то с таким же точно взглядом Лара уговаривала его взять кредит, чтобы продать две «однушки» – их старую, на Шеболдаева, и его покойных родителей на Каменке – и купить вот эту «двушку». Ближе к центру, дом почти новый… Валёк тогда отбивался до последнего: отдавать-то потом вдвойне. Но – уговорила. Посмотрела вот так же – строго и скорбно – и уговорила. Разве против неё попрёшь, когда она смотрит на тебя как Родина-мать…
Валя прихлёбывал остывший чай и думал: бесполезно. Хоть вены режь. Ей всё равно. Постоит полдня в церкви, успокоится – и как огурчик. И ещё Валя думал, что их с Ларой отношения – как дружба на колонне. Шаг в сторону – дружбе конец. Вот и с Ларой так же: стоило ему отклониться от утверждённого маршрута, свернуть, куда душа позвала – и не стало у него заботливой жены, верной боевой подруги. «Почему?», – снова изумлялся Валёк. Почему она – чужая? Неужели всегда так было? «Как на вулкане… знала, за кого шла». Неужто все эти годы так о нём думала? Если так – стало быть, жила не с ним. С кем-то другим, придуманным. Валёк ощутил брезгливость. Как бывало, когда в автобусе какая-нибудь немолодая прижмётся слишком тесно, со всеми своими немолодыми запахами.
Лара давно подняла бутерброд, но так и не откусила. Распалилась не на шутку.
– Уж какая там у тебя на стороне история была, какие там страсти-мордасти – это пусть всё на твоей совести… Но, знаешь… Какого ляда мне за твои грешки расплачиваться? А? Ну, вот скажи? Пришёл, ребёнка непонятного притащил… Наглости хватило… Усыновим, – передразнила она Валька. – Лопух, он и есть лопух. Нарвался, видать, на ушлую, да, Валя? Подсунула – приюти, мол, сыночка. Говорю тебе: не твой это ребёнок. Разуй глаза!
Дальше пошло на повышенных тонах.
– Да слышишь ты, что тебе говорят? – заволновался Валёк. – Чужой ребёнок, да. Совсем чужой. Ничей.
– Хорош долдонить! – отмахнулась Лара. – Ничей… Если ничей, то тем более. Чего ты его в дом тянешь?
– Лара…
– Что – Лара? Пусть вон богатенькие усыновляют. Им сам бог велел.
– Да при чём…
– А при том!
– Я же… что же… – Валя опять сбился, замычал невнятное; и тут уж не выдержал, метнулся к выходу.
Лара ухватила его за руку:
– Да приди ты в себя, дуралей. Куда нам усыновлять? Куда? И так по головам друг у друга ходим.
Выскочил в прихожую и чуть не налетел на Любу, которая подслушивала под дверью. Дочка почти ускользнула в свою комнату. Но передумала: всё равно застукали. Решила не церемониться. Встала в проёме кухонной двери, накинулась на мать:
– По головам, мама, да? – сказала она. – Значит, по головам? И житья тебе от нас нету?
– Да перестань ты! – попыталась отмахнуться Лара. – Не о том.
Но Люба уже разревелась. Говорила сквозь слёзы:
– Я ведь спрашивала тебя перед свадьбой. Можно, мы у нас будем жить. Конечно, ты говорила, можно. Предупреждали ведь: у Толика нам жить нельзя, там старуха больная. Совсем неходячая. А с нашей бабушкой тоже… попробуй поживи…
– Да кто тебе слово против сказал? – отбивалась Лара. – Живите! Дай с отцом твоим разобраться. Видишь, что…
– Я давно заметила, мама, что ты нам не рада.
– Да с чего, с чего ты это взяла?
– А с того.
– Ну, с чего?
Никогда раньше Лара с Любой не скандалили. По крайней мере, в присутствии Валька. «Чудно, – усмехнулся он про себя. – Чем всё обернулось». Наблюдая за их перепалкой, Валёк смекнул, что может употребить её себе на пользу. Прошмыгнул во «взрослую» спальню, где спали они с Ларой, открыл осторожно бельевой шкаф и сунул руку под стопку полотенец. Здесь Лара прятала деньги. Понятно, не все. Но тысяч пять-десять там вполне могло оказаться. Хватило бы им с Ваней на первое время. Валёк растопырил пальцы, пошарил – пусто. Перепрятала. Ну, Лара. Стратег! И это предусмотрела. Валёк стал перебирать одну стопку за другой: полотенца банные, кухонные, простыни махровые, обычные, наволочки, пледы, – и вдруг почуял, что они стоят в прихожей. По тишине догадался. Обернулся – так и есть. Даже Толик вышел. Выстроились втроём, смотрят.
– До чего докатился, Валя, – тихо отчеканила Лара. – Опомнись.
Возле колонны Валёк чуть не нарвался на вояк из интерната. Заметил их издалека, подходя к перекрёстку. Двое, под самым фонарём, в новенькой полевой форме. Ботинки со шнуровкой, на толстой подошве. Кепки у обоих свёрнуты и засунуты под фальшпогон. Звёздочек Валёк и в этот раз не разглядел. Один, тот, что стоял к Вальку спиной – молодой, который был утром. Второй – седой как лунь, но осанистый, крепкий. Комбат-батяня-батяня-комбат. Таких в кино любят показывать: они говорят солдатам «сынок» и не боятся начальства. Вояки мялись у ворот, вертели раздражённо головами. Стараясь не привлекать внимания, Валёк зашёл за киоск «Союзпечати» и встал здесь, рассматривая их сквозь щёлочку между журналов. Они собирались уходить, но почему-то медлили. Старый, похоже, что-то обдумывал.
– Ладно, – бросил он молодому. – На связи!
И они разошлись в разные стороны.
Валёк перенервничал: слишком много всего для одного дня. Покружил немного по кварталу, чтобы успокоиться. Не помогало. Встал возле магазина, закурил.
Посреди перекрёстка с визгом остановился «мерс». Водитель собирался проскочить, но в последний момент понял, что не успевает, наступил на тормоз. Валёк невольно вспомнил, как в прошлом году на этом же месте такой же гонщик, не удержав руль, вылетел на тротуар. Два трупа, на месте. Он подумал, что, в общем, и сам был бы сейчас не против. Только если на месте, сразу. Потому что сейчас нужно идти к Ване и что-то ему говорить.
Докурил, пульнул окурок на проезжую часть и отправился в магазин. За водкой.
Вахтёрша Ира крикнула ему навстречу:
– А вот и наш отец-героинь! Неуловимый! – и рассмеялась.
Уже, видимо, приняла. Ничего, скоро и он примет.
Было совсем темно. Фонари с высоких мачт били крест-накрест, прямо в лицо. Приходилось пригибать голову. Дойдя до середины двора, услышал громкий стук в стекло. Остановился. Сверху, невидимый из-за яркого света, позвал Ахмедыч:
– Поднимайся ко мне.
Ахмедыч иногда задерживался допоздна. Когда с бухгалтерией бодяжил. Заодно вечернюю жизнь в колонне контролировал. Но сейчас, догадался Валёк, Ахмедыч поджидал персонально его.
В кабинете Ахмедыча пахло настоявшимся сигаретным дымом. Посреди исцарапанного, с советских времён сохранившегося лакированного стола – переполненная пепельница. К этому столу приставлен ещё один, буквой «Т».
– Зачем звал, начальник?
– Садись, – сказал Ахмедыч. – И не паясничай. Валя сел верхом на стул.
– Тебя уже ищут.
По голосу Ахмедыча Валёк понял, что тот настроен мягко.
– Только что ушли, – кивнул Ахмедыч в сторону ворот.
– Видел.
– Мобильный забыл в бендеге?
Валёк обхлопал карманы – действительно, телефона не было.
– Да там он, там, – сказал Ахмедыч. – Я тебе звонил, телефон из бендеги пиликает. Хорошо хоть, записку оставил – а то эти гаврики хотели дверь ломать. Она и так ломана-переломана. Вас потом не допросишься починить.
Стало быть, Ваня снова всех перехитрил – просунул в дверную щель записку; нацарапал что-нибудь вроде: «Будем поздно. Ваня и Валя». Получалось, что ушли они вместе, а раз бытовка пустая, то и дверь выносить ни к чему.
Валёк достал сигарету, Ахмедыч дал ему прикурить, прикурил сам. Два облачка поплыли к потолку.
– Они второй раз за сегодня приходили. Сначала, как только ты ушёл. С милиционершей из опеки.
– Откуда? Милиционерша-то?
– А я знаю? Сказала: «из опеки». Детьми ведает. Ждали около часа. Ушли, потом одни мужики вернулись.
Помолчали.
– Ахмедыч, давай выпьем? – рубанул Валёк; и добавил. – Очень надо.
Ахмедыч скривился в раздумье, потёр шею. Долго не кочевряжился.
– Наливай. Только, смотри мне…
– Обижаешь, начальник! – Валёк развёл руками. – Ни одна тварь не узнает.
Было ясно, что Ахмедыч сам не прочь посидеть. Это было очень даже кстати. Удачно. Иначе пришлось бы самому, где-нибудь за углом.
Валёк выставил на стол банку маринованных огурцов. Ахмедыч пожурил его насчёт скудности закуски, вынул из ящика стола горсть карамелек, стопари. Разлили, выпили. Валёк зажмурился, сосредоточился на волне радостного тепла, которая покатилась по телу, и подумал, что зря он столько времени воздерживался. Глупо. Себе дороже.
Ахмедыч сказал:
– Как-то у тебя всё нескладно, Валя.
– Знаю, – согласился Валёк.
– На что рассчитывал?
То, что Ахмедыч сразу перешёл к главному, тоже было хорошо. Вальку хотелось выговориться.
– Не каждый же день такое, Ахмедыч. Чтобы ребёнка решил усыновить.
– Решил, говоришь? А Лариса, значит, ни в какую?
– Да.
– Да-а-а…
Помолчали снова и снова выпили. Огурцы были кислые, один уксус.
– Ты, может, решил, что я против? – Ахмедыч протянул Вальку конфету. – А я совсем не против. Я тебя отлично понял. Что-то такое на тебя нашло, – он покрутил рукой возле виска, будто лампочку выкручивал. – Со всеми когда-то бывает… такое. Хочется взять и расхреначить всё вокруг. Взорвать к едрене-фене. Ну, или… – он досадливо поморщился и почему-то не договорил. – Или, знаешь, – снова подхватился Ахмедыч, – встать рано утром, собрать вещи и уехать куда глаза глядят. Никогда не хотелось?
Теперь пришла очередь Вальку изобразить досаду:
– Я и так полжизни проездил. Куда мне?
После третьей закурили, Валёк сознался:
– Я, Ахмедыч, не знаю, что теперь делать. Хреново мне. Обещал Ваньке…
Ахмедыч промолчал. Валёк спросил прямо:
– Вот что мне теперь делать, начальник? Скажи, если знаешь.
– Как что, Валя? – сказал Ахмедыч. – Не дури ты ему голову. Не получится у тебя усыновить. Сам говоришь, Лариса не желает. А одному тебе не дадут. Где жить…
– Да знаю, знаю, – перебил Валёк. – Уяснил.
Ахмедыч встал, обошёл стол, уселся на свободный стул возле Валька.
– Слушай, – сказал он. – Я тебя понял, но и ты меня пойми. Завтра Борис Захарович приезжает. Детдомовец ещё ладно. Но эти полувоенные… Узнает, что они сюда шастают… ты же его знаешь, он… – Ахмедыч опять повертел рукой, будто лампочку выкручивал, только на этот раз очень большую, – человек сугубо гражданский… Особенно после подлянки гаишников. Тебе работа эта нужна?
– Нужна.
– Так ты меня понял?
– Понял.
Через полчаса разлили по последней. Как только пустая бутылка стукнула донышком об пол, Валёк встрепенулся.
– Всё?
– Долго ли умеючи, – Ахмедыч звонко хлопнул в ладоши. – И мне, наверно, пора.
Валёк посмотрел на него внимательно, поманил пальцем. Ахмедыч слегка придвинулся.
– Мне, знаешь, кажется, я на самом деле не жил.
– Чего? – не понял Ахмедыч. – Повтори помедленней.
– Серьёзно. Не жил по-настоящему. Хернёй прозанимался. Дом-работа, работа-дом. По-на стоящему – что у меня было? Вот у меня самого, понимаешь? Я тут подумал, знаешь… Вот умри я, допустим, завтра. Поеду за яйцами, автобус выскочит на втречку, и алес.
– Типун тебе…
– Ну, к примеру. К примеру… Значит, закопали меня, поминки. Поминки, само собой, с размахом. Это мы умеем, да. Это мы любим. И, слушай… Надо же будет про покойника говорить – как обычно, какой он… я то есть… чудесный был распрекрасный, то-сё. Но если по-честному – совсем по-чест ному – то что говорить? А? Скажи, Ахмедыч – вот что бы ты сказал? Ну, если бы на поминках у меня сидел? Ну, представь, чего… Представь. Хочешь, я для наглядности лягу?
Валёк разлёгся на столе, руки на груди скрестил. Вместо свечи сигарета, морда камешком. Получилось похоже. Ахмедыч посмеивался, но не то чтобы весело.
– Давай, – Валёк приоткрыл один глаз. – Чё молчишь? – подождал, затянулся сигаретой, сел. – Нечего сказать, да… Вот и мне тоже. В смысле, я тоже не знал бы, что говорить. То есть, что-нибудь сказал бы наверняка. Наплёл бы чего-нибудь, что обычно плетут. Про то, какой я был замечательный товарищ, работник… ну, короче! Чего-нибудь наврал бы. А вот если бы врать никак нельзя? Ты представь, – Валёк вернулся со стола на лавку. – Обычные поминки, у нас в столовой, всё как обычно – лапша, плюшки, компот. А под стендом… ну, там, где олень с листиком… стоит натуральный архангел с огроменным таким мечом. И чуть кто слово соврал – шарах ему мечом по шее. Только правду разрешает говорить, понимаешь? Только правду. Ну, вот. Чего бы вы сказали? Про меня? В смысле хорошего. Да и плохого, в общем, тоже, – вздохнул Валёк. – Попотеть бы вам пришлось, чтобы вспомнить. Говорю же: не жил я.
– Так семья же, – начал Ахмедыч, но разразившаяся икота помешала ему закончить.
– Вот-вот. Я тоже думал – семья: «для семьи», «зато семья»… И что? Где она, семья, ау? Что у нас общего кроме прописки? Встретил Ваню, сердцем потянулся… Ваня, знаешь… Ваня во мне такое… Где стаканы? Давай-ка, Ахмедыч, за Ваню.
Всё кружилось. Света было мало. Текучие, мутные блики. Пока смотрел на свет – качка стихала. Но ненадолго. Тут же наваливалась темнота, сбивала с ног. Чьи-то слабые руки толкали его в нужном направлении, усаживали, стаскивали ботинки.
– Вань, ты?
– Тише, тише.
Чувствовал себя так, будто сунули в бочку и пустили с горы. Так бывало по молодости, после дальних ходок. Ляжешь дома в чистую постель, закроешь глаза – а на тебя летит дорога: асфальт, деревья, встречные машины. Сейчас летели слова. Его собственные. Те, что наговорил Ахмедычу под конец попойки, когда сорвался с тормозов.
– Ваня…
– Тише, тише.
– Ванюша, прости. Прости меня, прости.
Много извинялся. Повторял на разный манер: прости да прости. Попробовал заплакать, но уже начал отключаться. Перед сном подумалось: «Хорошо посидели. Кажется, полегчало».
Наутро Ваня впервые смотрелся угрюмым. Валёк и не подозревал, что мальчишка может быть таким. Прямо волчок.
Подал мокрое полотенце, обтереться. Как только Валёк пришёл в себя – выставил бутылку пива.
– Откуда?
Ваня сидел напротив, одетый, сунув руки глубоко в карманы куртки.
– Сходил, пока ты спал, – сказал он. – Пей, если надо.
Дождавшись, когда Валёк оторвался от горлышка, сказал:
– Я, это… ухожу. Ахмедыч велел. Он сюда заглядывал, сказал, что скоро тут директор будет. Ворчал на тебя, что ты его вчера напоил. Сказал, что выходной тебе дал. Ещё один. У медсестры справку выписал, что у тебя давление. Кажется, всё. В общем, я пойду…
И глаза отвёл.
Валёк отставил пиво на подоконник, вскочил.
– Так я ж с тобой, – засуетился он; постарался изобразить бодрость. – Мы ж вместе. Вместе, Ванюша, вместе.
Бросился к двери искать ботинки, не нашёл. Оглянулся – они под кроватью. Пока обувался, почувствовал, как растекается по телу жестокое похмелье.
– Слушай! – вспомнил вдруг Валёк. – Так мне ж Ахмедыч ключ дал! От дачи!
Валёк присмотрелся к Ване – тот сидел, по-прежнему глядя в пол.
– Он мне ключ от своей дачи дал, – повторил, улыбаясь, Валёк. – У нас с тобой теперь жильё есть.
К удивлению Валька, Ваня безрадостно покачал головой. Взял со стола свой блокнот, свернул его, сунул в карман куртки. Туда же ссыпал стреляные пистолетные гильзы, которые они в танке подобрали.
– Он ключ назад забрал, – сказал Ваня, вставая.
– Как забрал?
– Так. В карман тебе залез, нашёл и забрал. Сказал, вспомнил, что у него на даче родственник живёт.
Снова ехали в автобусе, как в самом начале. Тот же автобус, третий номер. Те же полуживые кварталы: Мясокомбинат, Чушка, Грузовой порт. В прошлый раз, когда ехали из дома в колонну, лил дождь. И районы в прошлый раз тянулись в обратном порядке. Но картинки те же. Облупившиеся фасады, пёстрые надписи, выведенные дурацким почерком – Валёк никогда не мог их прочесть. Асфальт как после обстрела, яма на яме. Всё какое-то тусклое, с гнильцой. Прохожие такие же. Пёстрые вывески только усугубляют – не к месту, режут глаз. Но в прошлый раз, несмотря даже на ливень, эти же самые картинки будоражили и бодрили Валька. Теперь – вгоняли в тоску. В прошлый раз он рассматривал в окно Грузовой порт, Чушку, Мясокомбинат – которые знал наизусть – и ему казалось, что он сбежал из всего этого. Больше не вернётся. Рядом сидел Ванька, приваливался плечом к его плечу, подскакивая на ухабах. Угрюмые пассажиры, которые наполняли автобус, смешили Валька. Думал: неужели и я такой бываю? Теперь Ваня сидел напротив. Сам непривычно хмурый, замкнутый. Валёк старался на Ваню не смотреть. А если вдруг забывался, Ваня встречал его взгляд насторожено.
Валёк не знал, куда они едут.
Как только увидел одетого, собравшегося уходить, Ваню – запаниковал. Представил, что вот сейчас мальчишка уйдёт – и он останется ни с чем. И запаниковал. И тут же принялся бодриться перед Ваней, нагнал на себя деятельный вид. Заболтал Ваню. Как когда-то давным-давно забалтывал маленькую Любу, если та принималась капризничать, а Лара была далеко.
В итоге они с Ваней сидели в автобусе и куда-то ехали.
От былой близости между ними не осталось и следа. Наоборот – стена. И с каждой секундой всё выше, всё толще. Валёк списывал это на своё похмельное состояние и очень по этому поводу сокрушался.
Отказаться от Вани самому, добровольно – было для него равносильно открытому предательству. Чтобы Ваня от него не сбежал, размышлял Валёк, нужно придумать нечто конкретное. Пока что единственным пунктом назначения ему виделся железнодорожный вокзал. Передремать в зале ожидания до утра. Если менты не дободаются. А с утра, на свежую голову, разработать настоящий план…
Начал накрапывать дождь, когда автобус свернул на Дачную.
– Почему свернули? – испугано крикнул кто-то из пассажиров.
По автобусу прокатилось волнение.
– Садовую ремонтируют. Перекрыто, – отозвался водитель. – Объезжаем по Дачной.
Завязалась перебранка между водителем и пассажирами, которым нужно было на Садовую. Пассажиры упрекали водителя в том, что он не предупредил об объезде, водитель отвечал, что нужно читать объявление, на входе висит.
– К тёще моей едем, – сказал Валёк таким тоном, будто решил наконец раскрыть Ване свой замысел.
Время от времени Валёк подумывал о Никитичне, но – в общем, издалека. Не те у них отношения, чтобы на постой к ней проситься. Тем более, учитывая подробности. Точнее сказать, отношений у них никаких, одна только вежливость: «Как самочувствие? Что вам положить?». Виделись в основном на Пасху и на Новый год. Иногда Валёк заезжал помочь ей по хозяйству: забить-подкрасить, подновить тут и там по мелочи. Когда возникала такая необходимость, Никитична сама звонила, вызывала Валька. Подразумевалось, что после её смерти дом ему с Ларой достанется – и Валёк не столько старушку обихаживает, сколько за своим будущим наследством следит. Как бы то ни было, обходились без отношений. Никитична – человек себе на уме. К тому же старый. Раб собственных привычек, как говорит про неё Толик. Сама в гостях никогда не ночует, дольше двух-трёх часов не сидит, как её ни уговаривай. И у себя гостей оставлять не любит. Я, мол, часто по ночам встаю, бессонница – что же, если кто-то в доме, каждый раз одеваться, в порядок себя приводить? Наверное, это у неё после трудного детства.
Проситься к ней было, наверное, такой же провальной затеей, как ехать уговаривать Лару. Но когда автобус свернул на Дачную, Валёк посчитал – это знамение.
Никитична встретила их, как и ожидалось, без энтузиазма. Но у неё это в порядке вещей – минимум эмоций. Валёк первые годы, пока к тёще привыкал, звал её про себя «каменной бабой». Наверняка и Лара успела провести с ней разъяснительную работу. На мальчишку Никитична не взглянула, как Валёк ни подталкивал его к ней поближе, как ни нахваливал. Молчала, склеив сухие белые губы.
– А где же Пират? – поинтересовался с показной беззаботностью Валёк.
Это была первая фраза, на которую тёща ответила.
– За домом, вражина. Отлёживается. К ночи сил набирается.
– Дела-а-а, – протянул Валёк. – И что на него нашло?
Никитична поддёрнула концы платка, сказала:
– Заходите, чего стоять, – и заковыляла по ступенькам к двери.
Валёк положил руку на плечо Ване. Почувствовал, как тот напрягся.
– Идём, не боись, – приободрил его Валёк.
Мальчик продолжал молчать. Входил в дом как разведчик в лес: весь начеку, в любую секунду готов метнуться прочь.
– А что, Валя… – обратилась Никитична к зятю, взявшись за ручку двери. – Может, завёз бы ты этого гада подальше? И все тебе дела. Сил больше нет его терпеть.
Валёк остановился на середине крыльца, жарко закивал:
– Можно. Почему бы нет. Можно. Как буду на колёсах, заскочу. Вывезу его к птицеферме. Оттуда не вернётся.
– Вот и договорились, – заключила Никитична и открыла дверь.
Устроились в большой комнате – «светлой», как называла её сама хозяйка. Никитична устроилась у окна, к фикусу и телевизору. Подпёрла щёку рукой. Валёк с Ваней ближе к выходу, на скрипучих венских стульях. Для Валиной тёщи эти стулья – великая драгоценность. Тащила из самой Сибири. Антикварные – и какое-то воспоминание у неё с этими стульями связано. Что-то важное.
Высокие перины – штук десять, одна на другой. Над кроватью цветастый ковёр. На прикроватной тумбочке – фотография в рамочке: мощный сруб, крытый деревянной черепицей, вокруг молодые дубки и сосны. Через всю картинку надпись: «Весна в Сибири».
Тишина в комнате была неустойчивая: стулья под Валей и Ваней поскрипывали при малейшем движении. Валёк ждал, что тёща предложит им поесть. За столом бы и поговорили. Но Никитична сидела, расплющив щёку о кулак, и молчала. Валёк не решался заговорить с ней в лоб. Скажет: «нет», – что дальше?
– Уголь уже привезли? – спросил Валёк; вспомнил ещё одну тему, которая наверняка должна заинтересовать Никитичну.
– Привезли, – ворчливо отозвалась она. – Толку… Перетаскать-то некому. Два мужика в доме, а перетаскать некому. Ты вон пропал. А молодой ваш, Толик, всё тянет, отнекивается. Занятой, едрить его за ногу.
Валёк приободрился.
– Ну, так может, мы и перетаскаем? А? В четыре руки… Ты как, Вань? Поможем Зое Никитичне?
Ваня пожал плечами – мол, отчего не помочь.
Валёк поднялся:
– Нам хлеба не надо, работу давай!
Работа закипела нешуточная. Похмелье у Валька как рукой сняло. Он вертелся за двоих. Наполнял углем вёдра, тащил в сарай. Пока он тащил, Ваня накидывал уголь в свободное ведро. Не успевал накидать даже до половины – Валёк оборачивался быстрее. Хватал вторую лопату, заполнял вёдра, снова тащил, возвращался бегом – и всё это с шутками-прибаутками. Даже Никитична немного оживилась. Морщины разгладились, вроде как улыбка наметилась. Выносила работникам чаю горячего попить, с малиной. Чтобы не простыли.
– Эт мы так быстро управимся, – радовалась она. – По-стахановски.
– Э-эхх! – гаркнул Валёк. – Где наша не пропадала!
И стянул через голову свитер с майкой. Работал дальше голый по пояс. Пот ручьями, от спины пар. А он посмеивается:
– Дадим тёще угля!
– От ить шальной, – не выдержала Никитична, рассмеялась.
Пират наблюдал за трудовым подвигом из-за угла сортира, чихал от угольной пыли.
Куча таяла быстро, а всё же работа растянулась до вечера.
Вечером Валёк помылся в тёплой ванной – на скорую руку, чтобы не оставлять надолго Ваню с Никитичной наедине. За всё это время мальчик и старушка так друг с другом и не заговорили. Но у Валька зашевелилась надежда: должно же быть снисхождение к героям труда.
Следом за Вальком в ванну отправился Ваня.
Никитична накрыла на ужин: хлеб, масло, варенье.
– Есть не буду, Ваньку подожду, – сказал Валёк, садясь за стол. – Чаю только попью, сушь внутри ужасная.
Никитична налила, Валёк отхлебнул, одобрительно причмокнул. За окном уже сгустилась темень. После изматывающей, в охотку, работы Вальку было уютно и хорошо. «И зажили бы, – думал он. – И Лара с Любой постепенно к Ваньке прониклись бы».
– Смотрите-ка, Пират не гавкает, – сказал Валёк.
– Так я и сама сижу, слушаю. Удивляюсь. За столько времени – в первый раз.
Никитична показалась Вальку размякшей. Самую малость – но всё же. Он решил, что пора.
– А что, Зоя Никитична, может… мы у вас поживём? Пират, вон, одобряет. И от нас, опять же, какая польза…
Валёк ожидал чего угодно – что тёща начнёт кряхтеть, кивать на Лару. Ему казалось, тогда он сумел бы своего добиться. Упросил бы. Чего ни стоило. Были, были предпосылки для такой развязки. Закидать весь уголь в один заход – это чего-то да стоит.
Но Никитична ответила коротко и веско, как отрезала:
– Никак нельзя.
– Зоя Никитична…
– Нет, сказала. Глупостям потакать не приучена. А Пирата ты завезти обещал.
Говорила Никитична без малейшего волнения – тихо, будто сама с собой. К ней вернулось её обычное невозмутимое состояние.
Валька её категорический отказ надломил. Он заерзал так, что стул под ним запищал как скрипка.
– А Лара потом всё поймёт, Зоя Никитична. Она же… она поймёт… И примет нас. Да. Ведь мальчишка славный. Вы же сами видите.
– Да кто ж его знает? Мало ли кто с виду славный. А потом ножиком пырнёт, и все дела. Вон на прошлой неделе по телевизору показывали.
– Зоя Никитична!
– Нет, Валя. Нельзя у меня. Я старая…
– Да знаю, знаю. Старая, ночью часто встаю… Но, Зоя Никитична…
– А чего ты меня кривляешь?
– Да нет, я не кривляю. Я вот что… Зоя Никитична, вы ведь сама приёмная. Если бы не Лариса Фёдоровна, что бы с вами было? Вас ведь саму так же подобрали, как я Ваньку… Вы же её любили… Прошу вас…
– Любила, – согласилась с Вальком Никитична, поправив платок. – И до сих пор помню, и за упокой свечки ей ставлю. Только при чём тут это?
Валёк смешался.
– То есть, как – при чём?
– А так, – Никитична убрала руку от щеки. – Что, по-твоему, если меня удочерили, то и я обязана? Вот уж… Мне такая судьба выпала, я не выбирала.
– Зоя Никитична, никто ж не говорит, чтобы вам… я сам хочу его усыновить.
– Ага, на чужом горбе в рай. Ты на работе, а я ему и приготовь, и обстирай. Премного благодарны, Валентин Георгиевич. – Никитична слегка склонила голову, будто поклонилась. – Ты, Валя, одно с другим не ровняй.
– Почему?
Всплеснула руками:
– Да уж потому, Валя, потому самому. Тогда война была. А ты чего развёл на ровном месте?
«Устал я с вами, – грустно подумал Валёк. – Всё, на вокзал. До утра. Утро вечера мудренее».
– Пацанёнок не брошенный, – рассуждала Никитична. – Пристроенный. Чего ты так вспапашился?
Валёк подумал – не выкинуть ли уголь обратно из сарая на двор. Но понял, что к повторному подвигу не готов. Спину начало ломить.
– Вань, ты скоро? – крикнул он в сторону ванны и поднялся из-за стола.
Прислушался – тихо, вода не льётся. Валёк подошёл к ванной, открыл дверь. Вани внутри не было. Стреляные гильзы стояли на углу раковины. Под низким потолком чернела распахнутая форточка. «Ушёл», – хотел сказать Валёк, но захлебнулся тоской.
Ваня возвратился в свой интернат. Сам. Чем сильно удивил тамошнее начальство.
А вот Валёк в семью так и не вернулся. Хотя, вроде бы, собирался. Говорил несколько раз с Ларой по телефону, Лара к нему на колонну приходила, приносила поесть.
Когда на птицеферме закончился карантин, и Валёк начал выходить на свой «яичный» маршрут, он заехал к Никитичне – чтобы, как обещал, избавить её от Пирата. Изловил пса, связал. Сунул в кабину и уехал. Что у него по дороге в голове приключилось – не известно. Только куры Валька так и не дождались. «Газель» потом нашли на повороте к птицеферме, ключи и документы на сиденье. Валька объявили в розыск. Искать его, конечно, никто не искал, но скоро и так прояснилось: Валёк подался бомжевать. Водилы видели его то тут, то там на московской трассе. То возле дорожных гостиниц, то неподалёку от крупных хозяйств. Нанимался, наверное, туда в чернорабочие. От знакомых шарахался, на контакт не шёл.
В город Валёк вернулся через полгода, летом. Уже абсолютным бомжем. Как положено – спившийся, грязный. С бородой. Домой не заявлялся. Кто-то распознал его, сообщили Ларе. Ахмедыч несколько раз выделял ей бывшую Валину «Газель» с новым водителем. Кружили по городу, Лара высматривала мужа в окно. Но не станешь же целыми днями колесить. Зарплата маленькая, бензин не бесплатный. Тем более – Валя сам так решил…
Лет через пять или семь своей бомжицкой жизни Валёк встретился с Ваней.
В тот день Валёк был в порту, отсиживался под бетонной лестницей. Вдруг – Ваня, в форме военного курсанта. Сел рядом. Прямо под лестницу влез. Валёк сперва перепугался, с пьяных глаз показалось – мент. Пригляделся, узнал – сразу и в смех и в слёзы. Хватается за Ваню, тут же руки отдёргивает, обтирает о штаны.
– Ванюша, – бормочет. – Ванюша.
Ваня сидит в растерянности. Соберётся что-то сказать – и передумает. Просидели так недолго. Мимо Ванины однокашники проходили. Заметили. Рассмеялись, кричат:
– Ты чего, знакомого встретил?
– Решил присоединиться?
– Прощай, товарищ!
– Приходи полы мыть. Не обидим по старой дружбе.
Ваня покраснел, сделал вид, что ищет что-то.
– У меня, – говорит, – червонец сюда закатился.
Вылез из-под лестницы и ушёл со своими.
Валёк до конца набережной за ними следом тащился, на расстоянии. Потом курсанты его заметили. Двое самых буйных принялись камнями кидать, и Валёк отстал. Кстати, его с тех пор больше не видели. Ни в городе, ни на трассе. Может, помер.
Турчин
За треснувшей сосной кисло запахло свалкой. Аня скривилась: «Фу-у», – и они как по команде повернули обратно.
Гриша взял левей, подальше от девчонок. Слушать их было забавно – но, стоило приблизиться, то одна, то другая пыталась втянуть его в разговор. А говорить с мелюзгой – не то настроение.
На опушку из лесопосадки выползали рыхлые, будто оспинами усыпанные снежные останцы. Наступил – и ледяная корка податливо хрустнула.
– Ещё бывает, муж в курсе и молчит, – сообщила Надя.
Аня прыснула:
– Что ж это за муж тогда?
– А вот. Бывает… Не знаю, – Надя пожала плечами, – я б за такого не пошла.
– Так откуда бы ты знала?
– Что откуда?
– Что он такой. В смысле, заранее бы ты не знала же.
Вовка всё ещё ломал ветку: то об колено – ай, больно, – то упёр концом в землю, прыгнул сверху – и чуть не улетел головой в кусты. Надя снова прикрикнула на брата:
– Да брось ты! Угробишься!
Вовка ухом не повёл. Попробовал третий вариант: саданул палкой по дубу. Звук вырвался гулкий, но отрывистый. «Так всегда среди деревьев», – напомнил себе зачем-то Гриша.
Надя ещё строже:
– Бросай, сказала! И шарф поправь.
Вовка ударил снова. Гриша подумал: «На выстрелы похоже».
– Так! Ты что обещал? – теперь уж Надя непременно должна была добиться своего от младшенького. – Я тебя с нами взяла, потому что ты обещал слушаться. Нет, значит вали обратно на площадку.
Сохраняя вид невозмутимый и независимый, будто и нету тут Нади, покрикивающей и грозящейся испортить прогулку, Вовка метнул непобеждённую палку в канаву и припустил по тропинке.
– Шарф поправь! Не носись! Вот опять себе что-нибудь расхерачит, а я, как всегда, виновата, – проворчала Надя и не удержалась, покосилась на Гришу.
Сунув руку в карман куртки, Гриша катал, перебирал пальцами гильзы от «сайги». Их было семь. А выстрелов было девять. Три на улице и потом шесть, когда Турчин добежал до посадки. Значит, ещё две гильзы где-то валяются. Хорошо бы найти.
– Он их, наверное, всё равно убьёт, – сказала Аня.
– Хм, убьёт… Сначала нужно выследить. – Наде категорически не нравился мрачный финал. – Сразу не убил, теперь ищи-свищи.
– Тю! – сказал Аня. – А куда им ехать. В Ростов поехали, куда ещё.
– А если сразу в Москву?
– Ну и в Москву. И что?
– Ну, и подумай сама, – наседала Надя. – Как он их найдёт? В Ростове сколько народу! А в Москве!
– Найдёт, – пожала Аня плечами. – За не фиг делать. Своих людей разошлёт, кого-нибудь наймёт. Деньги есть. Захочет – найдёт, короче.
– Не факт.
– А вот увидишь.
Гриша вынул из кармана гильзу и, спрятав от девчонок в кулаке, поднёс к носу. Он не смог бы объяснить словами, да и некому – но запах горелого пороха из узкого пластикового нутра волновал необычайно. Делал странное. Переносил в недавнюю беспокойную ночь – под эти же сосны и дубы, но в сырую непроглядную темь, в которой двое прятались, а третий рыскал, палил наугад, зверея от бессильного желания покарать, покарать, покарать… Гриша не знал – так и не выбрал – кем бы ему хотелось быть в этой истории: сбежать по-киношному с чужой женой – или рвануть за беглецами с «сайгой» наперевес. И та, и другая роль захватывала, смутно томила – каждая чем-то своим… Нюхал гильзу и оказывался сразу по обе стороны.
Дошли до трубы. На бетонных кубах, на которые уложена закутанная в пластиковую изоляцию труба – пёстрые граффити. Гриша тоже отметился в своё время: в нескольких местах красуется заковыристый вензель «ОГО», пронзённый наискось восклицательным знаком, напоминающим молнию – Грачёв Григорий Евгеньевич.
Галю, Турчинову жену, пацаны рисовали в школьном туалете. «Весёлые картинки» – понятно, какие, – подписывали: «Галя». Или: «Супер-Галя». К каждой новой картинке постепенно много чего пририсовывалось и дописывалось. Пока завхоз не замажет. Красивая она невозможно. Других таких вживую Гриша не видел. Турчин уезжал по делам своего автомобильного бизнеса то в Финляндию, то в Германию, а она, стало быть, закрутила с фотографом, который держит студию «Мгновение» возле спортшколы. «Вот тебе и фото, срочное и художественное», – удивлялся Гриша, вспоминая, как ходил в «Мгновение» фотографироваться для школьной доски почёта и мастер – лысый и скучный – быстрыми, но аккуратными, как бы притормаживающими в последний момент пальцами брал его за виски, ставил голову прямо, а потом тыльной стороной ладони, шершавыми костяшками, приподнял подбородок. Провкин Олег. Никто бы и не знал, как зовут, – если бы не сподобился окрутить Супер-Галю. Лица его Гриша так и не вспомнил. Говорят, Турчин вернулся среди ночи, раньше времени. Галя была у любовника, муж начал её вызванивать. Говорят, Галя и Провкин решили открыться. Провкин привёз Галю на своей «Калине», вошёл с ней в дом. Это особенно удивляло Гришу: вошёл в дом… лысый фотограф Провкин с шершавыми костяшками – любовник Супер-Гали и входит с ней, не таясь, в дом Турчина… ещё и за руки, наверное, держались… Само собой, Турчин взорвался. Как уж там вышло, не ведомо, не мог же фотограф одолеть Турчина – но факт: парочка умудрилась сбежать. Машина Провкина осталась брошенной: выронил ключи.
Вот где-то здесь всё и происходило.
Гриша стал внимательней смотреть под ноги: вдруг гильзы. Или выстрелов было всё-таки меньше девяти?
Ботинки всей подошвой уходили в грязь, слякотно ещё в посадке.
Согнувшись, пробрались под брюхом трубы. Аня задрала голову, чтобы рассмотреть вблизи – мелкие квадратики текстуры, пятна и разводы, порезы, в которые выбилась махра стекловаты. Гриша и сам любил когда-то вот так порассматривать – представить, к примеру, что это исполинская инопланетная змея, а он единственный спасшийся в округе.
«Интересно, что Анька представляет? Вдруг совпало бы». Но не спрашивать же.
Вовка стоял на дальней опушке, чёрными подгнившими шишками обстреливал дорожный знак.
Отсюда был виден дом. За деревьями позолоченный солнцем переулок и линялый зелёный когда-то забор, над ним два окна. В родительской спальне включен свет.
Постояли втроём над овражком, в котором прятались Галя с Олегом. В зернистом всклокоченном снегу широкая борозда, кое-где доставшая до земли… скатились сюда и затихли. Следы от подошв. У Галины поменьше, остроносые. У него побольше, рифлёные. Округлое углубление – кто-то опустился на колено. Чуть в стороне на склоне отпечаток руки. Вот как было: Турчин рванул в другую сторону, а они прошли тихо по снегу и ускользнули. Гриша подумал с сожалением, что следы эти недолго продержатся. Не сегодня завтра припечёт солнце, проберётся сквозь ветки в овраг, и всё растает.
– Давайте спустимся, поищем чего-нибудь, – предложила Аня.
Надя сомневалась: задрала брови, оттопырила губу.
– Может, у них что-нибудь выпало. – Аня толкнула подружку локтем, подзадоривая. – Вдруг колечко.
– Не надо, – сказал Гриша. – Отсюда же видно. Только затопчите.
– И что? – удивилась Аня.
– Да ничего, – проворчал. – Пусть побудет. Сама же стоишь, смотришь.
Девчонки перекинулись непонимающими взглядами, но тут же и покивали, соглашаясь с Гришей: ну да, конечно, пусть.
В окне родительской спальни дёрнулась занавеска. Потом ещё раз. Гриша присмотрелся – ничего. В окно никто не выглянул. Но отец, скорей всего, дома.
– Хорошо, что сюда сообразили, – сказал он вдруг, отворачиваясь от окна. – Если бы сюда не прыгнули…
Из-под трубы выглядывал Лёлик. Встретились взглядом, Лёлик осклабился:
– Чё, экскурсии проводишь? А мне можно?
Пролез под трубой, пошёл в их сторону.
– Не, тебе нельзя, – ответил Гриша с нарочитой ленцой, переключаясь на принятый в их компании тон шутливого высокомерия и подковырок.
– А чё?
– Ограничения по ай-кью. – Гриша пожал плечами. – Всё равно не въедешь.
Девочки рассмеялись. И стоило Лёлику переспросить, скроив непонимающую физиономию: «Чи-и-иво?», – рассмеялись ещё громче.
– Тут, говорю, не для средних умов, – объяснил Гриша, сопровождая слова подробными жестами, как если бы Лёлик был глуховат. – Тебе не нужно.
Ухватил краем глаза: свет в спальне погас, включился в зале.
Ответной колкости Лёлик не сочинил и потому решил не продолжать. Ухмыльнулся примирительно. Поинтересовался, заглядывая в овраг:
– Здесь, что ли, ныкались?
– Вон, видишь следы? – ответила Надя, чересчур звонко после недавнего смеха. – Если бы не сообразили сюда…
– Видал? – Лёлик выбросил перед собой правую руку.
Пальцы растопырены, на указательный и безымянный насажено по гильзе.
– Нашёл, – он кивнул в направлении переулка, по которому прибежали в лесопосадку любовники, а следом свирепый Турчин. – Говорят, вчера мент какой-то приходил, типа расспрашивал, – закончил он и хвастливо подрыгал надетыми на пальцы гильзами.
Старательно сохраняя безразличный вид, Гриша посмотрел на вытянутую в его сторону руку. Те самые. Ярко-зелёные, с жёлтым латунным донышком. Всё-таки выстрелов было девять, верно сосчитал.
– Где нашёл?
– Да вон, – махнул Лёлик. – На щебёнке. С маманей из «Магнита» шли, смотрю – опа, лежат. Она, типа, брось. Ага, щас…
Входная дверь открылась. По-над забором показались отцовская голова, плечи. Лица не разглядеть. Следом вышла мать.
Гриша шагнул к Лёлику.
– Дашь одну?
– Но! – Лёлику отдёрнул руку. – Вот это мне «дашь»…
Тут же переключился обратно на шуточки-насмешки, обрадованный тем, что так скоро вышло поквитаться.
– Спички детям не игрушка. Лучше, вон, Надьку с Анькой попроси. Может, дадут чего.
– Дурак, – отреагировала Аня.
Надя смерила Лёлика презрительным взглядом.
– Зажал, значит, – сказал Гриша.
– А то.
– Зачем тебе?
– А тебе?
«Зря, не уболтаешь», – догадывался он, неприятно удивляясь внезапной своей настырности, но продолжал уговаривать.
– Дай одну, чего…
– Да, да. Только сбегаю, в подарочную бумагу заверну.
Задрав руку, Лёлик поиграл гильзами, будто куклой в кукольном театре.
Ворота скрипнули. Ворота в последнее время стали скрипеть громко. Слышно за квартал. Вышел отец, за ним следом мать. Сердце у Гриши ёкнуло. Неловкая, вся какая-то пришибленная. Отец в расстёгнутом зимнем пальто. Надел, наверное, чтобы не мять. Под пальто любимая бежевая сорочка. Большая спортивная сумка на плече. Вот так, значит. Всё-таки вот так. Мать, зажмурившись, ткнулась лбом ему в грудь. Отступил в сторону, отвернулся. Постоял, кивнул и пошёл к остановке. Мать бросилась во двор, будто её там ждало что-то неотложное.
– Я, может, Турчину гильзочки отнесу, – проговорил Лёлик. – А он мне за спасибо отслюнявит. Может, штуку, может, две.
– Три, – ввернула Надя, и Лёлик замахнулся ногой, делая вид, что собирается её пнуть.
– Ой, страшно.
Гриша смотрел, как отец идёт по переулку – завалившись на бок из-за тяжёлой ноши, но всё равно легко и размеренно. Сухопарая фигура ныряла за дерево и появлялась снова. Дёрнул ремень сумки, пристроил удобней. Как будто в командировку отправился – в пятницу вернётся, привезёт гостинцев. Он лёгкий. Уносит свой мир с собой в спортивной сумке. Мать другая.
Просветы между стволами сузились. Отцовское пальто с развевающимися на ходу полами появлялось, чтобы мелькнуть и тут же исчезнуть.
Гриша отвернулся.
Лучше болтать.
– А машину этого чувака, с которым Галя свинтила, Турчин спалил, – сказал он. – Прикинь.
– Ой, да, – Аня хлопнула себя по бокам. – Я хотела рассказать, и забыла. Стоит такая страшенная. Стёкла повыбиты.
– Я, когда вчера шла, она ещё внутри дымилась, – сказала Надя и, задрав куртку, подтянула джинсы.
«Надо, наверное, домой, – думал Гриша, перебирая гильзы в кармане. – Мать одна. Я здесь. Надо бы».
И, спасаясь от этой, подталкивающей к трудному, мысли, принялся рассуждать о том, что беглецы, скорей всего, сели в такси, которое подвернулось им где-то неподалёку – вон, перед рестораном допоздна дежурят – могли на такси рвануть прямиком до Ростова, запросто… Собственный голос звучал странно, оторвано – будто слушал его по радио.
«Нет. Всё-таки надо. Побуду с ней».
– Ладно, пойду, – буркнул он и направился к дому.
– Э, куда? Погнали во дворы, – позвал его Лёлик. – Там все наши. Хорёк звонил.
Мать сидела посреди кухни на табурете, незряче глядя в пол. Локти упали на бёдра, голова опущена. Как рухнула, так и сидит.
Раззявив глубокую квадратную пасть, громко, с присвистом, шипела плита.
Гриша подошёл, закрутил один за другим вентили, закрыл духовку.
Стало омерзительно тихо.
– Ма, ты не дури, ладно? – сказал спокойно.
Постоял, выжидая: не будет ли истерики. Она сидела, не шелохнувшись. Газом не пахло, но было душно.
«Надо же форточку».
Со свежим воздухом прилетели звуки редких негромких ударов – то звонких, то хрустких, в зависимости от того, каким концом шишка попадала в металл. Вовка всё ещё обстреливал дорожный знак.
Надя окрикнула брата:
– Ну, ты идёшь?
«Дальше-то что?», – заторопил себе Гриша. Нужно что-то ещё сказать, сделать что-то. Мать, наверное, ждёт. Но в голову пришло только одно: «Может, покормить её? Наверняка так и не поела».
– Есть будешь, ма? Я могу яичницу приготовить. Или пельмени сварить. В морозилке осталось.
Молчала.
– Ма, ты есть будешь?
Не сразу, но шевельнулась, разлепила спёкшиеся губы – лиловые, с шершавой белёсой каймой.
«Вот так, значит. Значит, так», – завертелось по новой.
– Он придёт ещё, – сказала.
Вот – опять это радио. Теперь её голос передают. Осипший, механический.
– Паспорт на комоде забыл. Хватится, придёт.
Гриша заметил, что кухонный ящик с вилками-ложками выдвинут. Задвинул.
«Нужно что-то отвечать? Ну, придёт. Ладно».
– Поговори с ним, – и, глотая подступившие слёзы, пискнула: – Пожалуйста.
Съёжился внутри. Если бы можно было просто уйти в свою комнату. Уроки не сделаны. Или почитать. Можно даже прибраться.
– Конечно, я… поговорю… да.
– Скажи, чтобы он не уходил, – выдохнула мать.
– Да, мам.
– Скажи, что, – она подбирала слова. – Что тебе будет плохо.
– Да.
– Он послушается. Вот увидишь. А вдруг он послушается.
Гриша налил фильтрованной воды из графина в стоявший рядом стакан, подошёл.
Она, было, потянулась. Но не стала. Махнула рукой: не хочу.
Поставил стакан на стол.
Если бы она держалась… ах, если бы она держалась… по-разному же бывает… по-разному расходятся.
Смотрел на неё сверху, на плечи, на макушку с изгибом пробора, на некрасиво ссутуленную спину – и не решался подойти ближе. Понимал: надо, – но не решался приласкать. Потому что – скорей всего она сорвётся, скорей всего вцепится в него и заголосит, как в прошлый раз. Дотронулся, проходя мимо, до плеча – осторожно и торопливо.
– Не надо, ма.
– Поговори с ним.
– Конечно. Я с ним поговорю.
– Всерьёз поговори с ним, Гриш.
– Да, мам.
Она принялась раскачиваться, хлопая себя по ногам – хлопнет у изгиба бёдер и проведёт руками к коленям.
– Ты бы легла. Может, уснёшь.
Гриша постоял немного и пошёл к себе.
Стянул водолазку, бросил на спинку кресла.
Вспомнил, что гильзы остались в прихожей, в кармане куртки. Пошёл, забрал. Расставил ровным рядком по краю стола, посмотрел, решил собрать в стопку разбросанные по столу тетради. Одна гильза упала, задел её локтем. Поднял, вернул на место и, оглядев рассеяно комнату, будто искал, но не нашёл себе ещё какого-нибудь дела, уселся на офисный стул с колёсиками и, толкнувшись, отъехал к стене между шкафом и диваном.
Вот, стало быть, во что складываются все те картинки из родительской жизни, которые подглядел когда-то, в разное время, и хранил, сам не зная зачем. А это, стало быть, вот что.
Поздние, за полночь, возвращения отца, которых мать ждала, шлёпая тапками от одних окон к другим. Привычная ночная беготня. Бывало, разбудит – но можно повернуться на другой бок и спать себе дальше.
Напряжение, душной пеленой накрывавшее дом перед каждой отцовской командировкой. Гладит ему сорочку, брюки, собирает поесть в дорогу – сосредоточенная, хмурая.
– Ну и видон у тебя! – усмехался он, проходя мимо, похлёстывая себя смоченными одеколоном пальцами по бритым щекам. – Как в последний путь собираешь, ей-богу.
Недобро усмехался, с ледяным, с заматерелым каким-то раздражением.
Она однажды плакала в подполе, куда отправилась за солёными огурцами к обеду. А Гриша сидел с отцом в зале – каждый со своей книжкой – и оба, будто был такой уговор, делали вид, что ничего не слышат.
Теперь-то ясно: долго тянулось.
Когда был маленький, часто ходили в гости. С ними странно было в гостях. В какой-то момент непременно оказывались врозь. Отца относило в самую гущу, в танцы, в шумные сквозь смех разговоры. Громкий, говорливый. Мать всегда оставалась с краешку – одна или с кем-нибудь из таких же, притихших. Старательно улыбалась, роняла короткие тревожные взгляды в сторону разгулявшегося отца.
Замечать замечал – но жили ведь, ничего по-настоящему плохого не происходило, никаких скандалов. Мало ли что подглядишь.
Заверещал мобильник. Не вставая, Гриша выудил его из заднего кармана джинсов – эсэмэска от Жанны-Ванны: «Напоминаю, сегодня на полчаса раньше». И смайлик.
«Чёрт, совсем забыл!»
Гриша прислушался к себе, чтобы понять: раздосадован он этой эсэмэской-напоминанием, что в полпятого нужно быть на занятии по математике, или обрадован. Настроение, конечно. И лучше бы остаться с матерью. А всё-таки есть веская причина не оставаться. Она же сама придумала нанять ему репетиторшу: «Математику нужно подтянуть. О профессии пора задуматься, хватит в облаках витать». И, потом, вот сидят они по разным углам – что толку? Всё уже, отревела, ничего не будет.
Встал и, дойдя до двери, остановился на пороге – по давнишней привычке поставив ступни на выступающую кверху деревяшку так, чтобы можно было подогнуть пальцы и балансировать, то приподнимая, то опуская пятки.
– Ма, – позвал он. – У меня математика сегодня. Пойду?
Слышно было, как хрустнули её колени, когда она встала с табурета.
– Иди, конечно.
«Ну, точно, всё закончилось», – заключил, услышав её голос. Он пересёк коротенький коридор и заглянул на кухню.
Она тёрла лицо ладонями.
– Ты ложись, – сказал он как можно мягче, дождавшись, когда она опустит руки. – Ладно?
– Ладно, – ответила мать, но тут же вскинула голову и сделала глубокий вдох, будто о чём-то вспомнила. – А ночью что? Буду потом куковать всю ночь. Нет.
– Только не дури, мам. Не надо.
Она вздохнула, сказала:
– Чай закончился. По дороге чая купи, на утро тебе. Деньги в вазочке.
– Хорошо.
Он взял ботинки и отправился с ними в ванную, отмывать.
«Уравнения, блин… со смайликами».
На весь перекрёсток разлилась лужа. Целое озеро. Возле берега-бордюра плавали грязные айсберги. Люди шли, брезгливо морщась. Девушка со сложенным зонтом, зажатым под локоть, топила ноги осторожно, а выдёргивала резко, с бульканьем и брызгами, с ужасом на красивом лице – видимо, боты её в горошек каждый раз зачерпывали воды. Тётка, смешно ковылявшая через лужу на пятках, так была похожа на утку, что Гриша не смог отказать себе в удовольствии завершить, озвучить образ – крякнул тихонько. Понаблюдал, как кружатся и, чавкая, влипают в бордюр мини-айсберги, – и двинул дальше, к следующему светофору. Приличный крюк. Но в мокрых носках не хотелось к ней являться. Вроде бы мелочь, а выйдет целое дело. Заметит – прицепится, чтобы снял. Чтобы подсушить на батарее. И что? Придётся отдать ей в руки свои мокрые носки? Унесёт в ванную, сполоснёт, будет отжимать их над раковиной… И сиди босиком. Не заметит – ещё хуже: вдруг завоняют во время занятия.
Ей, по Гришкиным прикидкам, лет тридцать. Может, меньше. Жанна Ивановна, учительница из математического лицея.
Вспомнил шёлковый, крупными разноцветными листьями обляпанный халат, в котором она в последнее время стала проводить занятия, и приуныл. Не ко времени, вот что. Ни выдерживать её насмешливые, дразнящие взгляды, ни уклоняться от них сегодня не хотелось. Потянул через губу, как будто кому-то из дворовых рассказывал:
– Репетиторша, мля.
Всю оставшуюся дорогу раззадоривал себя, сочиняя фразочки, место которым на стене школьного туалета. Но как только оказался в её надраенной, чем-то замысловато пахнущей, обвешанной китайскими висюльками и картинками прихожей, как только ткнулся взглядом во вспученный мясистыми буграми халат – весь задор улетучился. Пожалел, что пришёл. Зря. Можно было эсэмэской отписаться: мать болеет, сегодня пропущу.
– Здрасьте.
Торопливо, себе под нос.
Не говорит ей больше «Жанна Ивановна». Глупо было бы. Учитывая халат, и взгляд её, и вот это всё.
– Здравствуйте, Дмитрий.
Пропела каждый слог. Нарочито церемонно, с эдакой подколкой на «вы». И тут же переключилась на обычный тон. Как ни в чём не бывало. Такая уж игра.
– Припозднился ты. Звонить собиралась. Ноги не замочил? Вечно там эта лужа.
– Нет, обошёл.
– Раздевайся, проходи.
Развернулась, пошла в гостиную. Взгляд привычно прилип к её заднице.
Сегодня в гостиной, не на кухне. Значит, младшей сестры Аллы, с которой они живут вдвоём, нету дома.
Повесил куртку на вешалку. Вынул из внутреннего кармана тетрадь, прошёл в комнату.
На журнальном столике в толстобоком стеклянном блюде виноград. Карликовая собачка Зюзя, умевшая носить свою стриженную под линейку глянцевито-бежевую шерсть, как манто, глянула на Гришу, спрыгнула со стула и вышла из комнаты.
– Молодец, воспитанная собачка, – похвалила хозяйка.
Гриша сел на диван, к журнальному столику с виноградом.
– Угощайся. Кишмиш, без косточек.
– Спасибо. Может быть, потом.
– Воспитанный мальчик.
Долго ждать не пришлось, поймал её насмешливый взгляд. Выждал секунду-другую – ну, и что, и смотри на здоровье – раскрыл тетрадь. Игра эта длилась давно. Уже прошли и первая парализующая оторопь, и пугливые сомнения. «Ну, да, и так бывает. Сплошь и рядом. Мало, что ли, историй». Освоился. Правда, не знал пока, что дальше. Качало из стороны в сторону. То лучшей идеей казалось обломать репетиторшу – ну, как обломать… не реагировать никак, прикинуться дурачком. То накатывала немыслимая вчера ещё дерзость, от которой внутри приключался столь бурный и шумный переполох, что закладывало уши. Подначивал себя: «Давай, не тормози», – но раз за разом переживал свой приступ дерзости оглохшим и одеревеневшим.
– Дома повторял?
– Повторял.
– Хорошо. Галя со своим в аварию попала, слыхал?
– Нет. В аварию?
Она села на стул перед Гришей, закинула ногу на ногу, неторопливо запахнула полы халата. Светло-розовый тапочек с тёмно-розовым помпоном отклеился от босой ступни и повис на носке, мягко подрагивая.
– Этот, фотограф, взял машину у друга. Той ночью. Одолжил на время. На трассе, под Ростовом, автобус междугородний в них въехал. Повело, и прямо на них. Водитель, видать, задремал. Ну, и прямо в бочину.
Протянула руку к журнальному столику, отщипнула несколько виноградин. Смотрит на свою руку, любуется.
– И что? – уточнил Гриша.
– А? А, нет, живы. Но машина в хлам. Тётка Галкина в буфете у нас работает, рассказала.
Забросила виноградины в рот, прожевала.
– М-м-м… сладкий. Говорят, до середины следующего дня стояли, гаишников ждали. Ну, что, Дмитрий, начнём? Готов?
– Готов.
Она раскрыла лежавший перед ней учебник, он вдавил кнопку авторучки.
– Не задалось у Гали-то, – протянула рассеяно, водя взглядом по странице, отыскивая нужно место. – Так. Вот. Условия. Дети решили сравнивать свои возраста. Коля говорит: «Я на два года старше Васи», – диктовала она. – Боря говорит: «Петя вдвое старше меня». Лёша говорит: «Я на год младше Саши». Саша говорит: «Я на четыре года старше Васи». Петя говорит: «Я на два года старше Леши». Сколько кому лет?
Сбивался. Эти «возраста» мешали ему.
– Что там? Не понятно что-то?
– Вроде так неправильно.
– Что неправильно?
– Возраста.
– Что? Не поняла.
Гриша повторил.
– Так написано, – она показала ему разворот учебника.
– Ладно. Я так, просто.
– Ну-ну. Прям умненький какой ты у нас… Я пока повторю условия.
Она ему не нравится – подумалось наконец чётко и веско. Дело не в том, что – училка, тридцать лет и всё такое. Не в этом дело. Не нравится. Эти взгляды дурацкие. Улыбки. Ужимки. Голос приторный. «Утренник тут у нас, что ли? А сейчас, дети, посчитаем до трёх и будет сю-у-урррпри-и-из…» И смайлики! И собачка Зюзя в бежевом манто. Воспитанная, сука.
– Записал?
– Записал.
– Как будешь решать? Давай, начинаем думать вслух.
Турчин подолгу не задерживался. Какой смысл крутить одно и то же? Вот он бежит, сжимая «сайгу», орёт и палит в темноту. Вид, как полагается, устрашающий. Взгляд звериный. Вот он громит машину фотографа, поджигает. Снова такой же – бешеный. Отсветы от огня на лице и на руках. Впечатляет. Но машина сгорела, зрители разошлись, уехали пожарные – и что дальше? Каким был Турчин – потом, после? Что делал? Какие у него были глаза? Не получалось представить. Про «своих людей», которых он отправляет на поиски Гали с любовником – это девчачьи выдумки. Всё-таки Турчин не мафиози какой-нибудь. Нет никаких «своих людей». В общем, как ни хотелось Грише, чтобы человек, который стрелял под его окнами, который готов был убить за измену… даже случайного прохожего мог застрелить – даже самого Гришу, если бы Гришу отправили, к примеру, выбросить мусор… как ни хотелось ему, чтобы Турчин выбрался наконец из той заполошной ночи и явился другим, с другим выражением лица, готовый рассказывать дальше… увы, этого не происходило. И гильзы не помогали.
Другое дело беглая парочка. С этими само сыпалось – только успевай. Пригибаясь и оглядываясь, сдавленно дыша, выбрались из оврага и побежали – бросились из лесополосы во дворы, из одной темноты в другую. Он чуть впереди, она за ним. Держались за руки. А когда поняли, что убежали далеко и погони нет, остановились перевести дыхание. Смотрели в разные стороны, стеснялись своих испуганных лиц. Олег ещё раз проверил свои карманы: ключей от машины не было.
– Где я их выронил? – сказал и закашлялся.
Галя покусывала губу и молчала.
Не нужно ей ничего говорить. Позже. Пока не нужно.
Потом, стало быть, метнулись к приятелю Олега. Мог быть тоже фотографом – но это не важно, не важно, кем он был, даже лишнее. Приятель увидел его с Галей и обалдел от неожиданности. Посидели на кухне немного. Или совсем не проходили внутрь, остались у двери.
– Некогда, старик. В другой раз.
Олег вывалил всё, как есть, простыми словами: так, мол, и так, у нас с ней любовь… и в качестве доказательства взял её за руку… решили, мол, пусть всё по-честному, и вот, пришлось бежать, а с машиной ерунда получилась, еле ушли.
– Выручи. Одолжи свою.
И приятель – пусть тоже будет с лысиной, в домашних растянутых спортивках – посмотрел на Галю. А Галя стояла растерянная, с блестящими глазами. Он посмотрел на Галю и пошёл за ключами.
– Спасибо, дружище. Твой должник.
Потом Олег гнал по ночной трассе. Гнал уже не от страха, что Турчин их догонит. Просто настроение было такое – как раз, чтобы гнать по ночной трассе. Они всё бросили. У них любовь. Неизвестно, где заночуют, что будет завтра. Но главное при них. Ночь, фары, асфальт. Он включил музыку. Галя придвинулась на краешек сиденья, положила голову ему на плечо.
Перед Ростовом, наверное, стали разговаривать. Было о чём. Как жить, как всё устроится. Не успели обсудить. Разговор вышел серьёзный. Олег невольно сбросил скорость. И тут в них врезался автобус.
Ждали гаишников. Мимо проносились машины. Галя задремала, а Олег смотрел в окно, наблюдал за тем, как светлеет небо, как блекнут звёзды, как выползает из бирюзовой берлоги оранжевое солнце. И в какой-то момент он наклонился и тихо поцеловал Галю в губы. Разбудил её… пусть так: разбудил, но она не стала открывать глаза. Улыбнулась только.
Отец пришёл через три дня, в четверг около десяти утра. Столкнулись в прихожей – Гриша как раз направлялся в школу. Увидел его на пороге – и опешил от собственной мысли: «Эх, не успел, выйти бы на пять минут раньше». Тут же, конечно, и пристыдил себя. Даже испугался: не заметил ли отец? Вдруг обидится. Мать стала ужасно обидчивой. Чуть что не так сказал или промолчал невпопад – в слёзы: «И ты туда же, папин сын, и тебе всё не слава богу».
Похоже, придётся теперь учиться правильно держаться с родителями: что говорить, как смотреть, – как учился когда-то держаться с дворовой компанией. Вот такой поворот. Там были чужие. С которыми нужно было притвориться своим. Чтобы облегчить себе жизнь. Тут – родители. Папа, мама. И – нате, то же самое: притвориться, чтобы облегчить…
– Привет, пап.
Получилось гладко, зачётно получилось.
– Привет, сынок.
В руке пустая спортивная сумка, та, с которой уходил.
– Хоп! – ловко перебросил её через всю прихожую за угол коридорчика, ведущего в комнаты. – Трёхочковый.
Потрепал сына по плечу, скинул незнакомые, но порядком ношеные туфли… «стало быть, мать права, давно он на стороне прижился – туфли, вон, успел сносить»… и, как обычно с улицы, отправился в ванную мыть руки. По пути наклонился, поднял с пола монетку. Положил, резко прищёлкнув, на комод.
Это неприятно кольнуло – вся эта обыденность. Обыденности, казалось, не должно больше быть, а она вот, тут как тут: пришёл, моет руки, вода шумит.
Гриша принялся разуваться. Не уходить же. Всё равно первые два урока – «труды». И матери обещал поговорить с ним. Обещал же, надо.
– Я раньше планировал, – вытирая руки, отец выглянул в прихожую. – На кольце в пробке простояли. Раскопано, трубы какие-то тянут.
Подготовиться к разговору не успел. Много раз Гриша примеривался, подступал и так и эдак – и сбивался. Не давалось. Если сказать: «Папа, мама просила с тобой поговорить», – получится ерунда. Получится: самому-то мне всё равно – мама просила. А если: «Папа, нам нужно поговорить», – то звучит, конечно, солидно. Только попробуй потом всё остальное договори так же солидно. Сомневался, сможет ли. И, главное, что говорить? От фразы: «Не уходи, мне будет без тебя плохо», – передёргивало. И лучше было не задумываться – почему. Действительно всё равно? Не будет плохо? Совсем? Оттого, что он уйдёт и у него будет другая семья. Сначала другая жена, потом, наверное, другой сын… или дочь. И если всё равно – что это значит? Что он, Гриша, бездушный чурбан? Или передёргивало от чего-то другого? Ответа не было, но откуда-то была уверенность, что без ответа спокойней.
– Ты как, – отец вышел из ванной, – в школу не опоздаешь?
– Труды у нас. Ничего, один урок пропущу.
– Давай записку учителю напишу, хочешь?
– Да ну, – Гриша махнул рукой. – В крайнем случае в наказание скажет класс подмести, де лов-то.
– Ну, смотри. Может, чаю по старой дружбе? – он зачем-то подмигнул.
– А чай закончился.
– Да? – как всегда, когда нужно было быстро что-то решить, отец проглотил губы и слегка сощурился. – Но в магазин уже некогда, – заключил он и развёл руками. – Тоже… думал по дороге забежать… пирожных каких-нибудь… и забыл. В другой раз.
– Позвонил бы.
– Да как-то…
И выдохлись оба. Отец стоял молча, зацепив большими пальцами ремень.
– Мне, сынок, кой-какие вещи забрать. И паспорт я забыл.
– В спальне. Там, на тумбочке.
– Слушай, а времени-то у нас немного. Мне нужно ещё в одно место заскочить… с полдвенадцатого до двенадцати… в общем…
– И мне на второй урок желательно попасть.
– Вот-вот.
Помолчали, разглядывая каждый свой кусочек прихожей.
– Ты что там встал? – крикнул отец как можно веселей. – Так и будешь?
Школьный рюкзак всё ещё висел на плече. Гриша снял, пристроил в угол за скамеечку.
Пока отец складывал в сумку то, за чем пришёл – всякую всячину из шкафа и тумбочек: ремни, сланцы, одеколон, папку с газетными вырезками, – Гриша стоял, прислонившись к стене, и суетливо перебирал слова. Какие-то ложились уже на язык, он прокатывал их по нёбу, пробуя напоследок – но нет, всё оказывалось не то, неподходящее.
«Мог бы и сам заговорить, – рассердился Гриша. – Или как? Мы с мамой расходимся, не сложилось, не держи зла, ла-ла-ла, – всё, что ли, тема закрыта? Типа, всем спасибо, все свободны?»
– Ты коньки не видел?
– Что?
– Коньки мои старые. Ну, помнишь? С винтами такие. На антресолях были. Нету.
– Нет. Я не видел.
– Раритет. Ещё дед твой дарил. Жаль.
И выдвинул нижний ящик в шкафу. Ящик был забит пухлыми фотоальбомами. Он вытащил сразу два, сдул пыль, отвернувшись к двери, и уселся с ними на кровать.
– Где-то тут был твой снимок, – протянул задумчиво, переворачивая тяжёлые картонные страницы. – Хочу забрать.
Приподнял ненадолго голову.
– Ты что смурной? – бросил как бы между прочим и вернулся к фотографиям. – Понимаю, сынок, радоваться нечему. Всё это трудно. Мне тоже непросто далось. Да я говорил, – он просмотрел одним альбом и принялся за другой. – Но не конец же света. Будем встречаться, куда-нибудь вместе съездим. Чего ты? Не зажимайся.
Глядя на то, как переворачиваются страницы с детсадовскими утренниками, с первосентябрьскими букетами и шарами, Гриша понял, что, если не заговорит с ним сейчас, не заговорит уже никогда.
– Коньки я найду, пап.
– Хорошо бы.
И уже без паузы:
– А ты уверен, что тебе нужно уходить?
– А, вот! – Он отыскал нужное фото, вынул из прозрачного кармашка. – Отлично ты тут получился. – Показал снимок Грише.
Третий класс. В руках грамота за успеваемость. Ровнёхонький, только что из-под маминой расчёски, пробор. Чрезвычайно важный вид.
Отец спрятал фотокарточку в кармашек сумки, сел ровно.
– Сынок, поверь…
С первых же слов, с первых звуков посерьёзневшего, торжественно отяжелевшего отцовского голоса – казалось, собрался читать стихи – Гриша пожалел, что всё-таки затеял этот разговор. Поздно, придётся теперь договорить: отец, похоже, настроился.
– Поверь, если бы можно было что-то сохранить, я бы сохранил обязательно. Но нечего. Нечего. Ну, просто нечего. Понимаешь?
Гриша послушно кивнул.
И у отца тоже нервы, можно было сразу догадаться.
– Не смогу я. Сколько можно переступать через себя? Не пара мы с ней. Понимаешь? Ну, не пара, хоть убейся. Только хуже… А ты всегда для меня останешься сыном. Это без вопросов, поверь. Это разные вещи.
Он посмотрел на Гришу каким-то особенным взглядом – старался, чтобы получилось именно особенным. Получилось.
Притворяясь, что расчувствовался и ему грустно, Гриша опустил голову. Крупный спил сучка в дощечке паркета – старый знакомый, филин одноглазый. На паркете спальни ещё много разных узоров. Другие, правда, попроще: кроты, устрицы разные, есть лошадиная голова слева от шкафа. Филин самый интересный. Когда Гриша был маленький и случалось настроение побыть одному, занырнуть поглубже, он уходил в самую тихую комнату, в родительскую спальню, и просиживал здесь, пока не хватятся. Паркетные персонажи сами собой попадались на глаза. Скользнут внутрь и тогда уж непременно заманят мысли в какие-нибудь петлистые фантастические лабиринты.
– Я же не сгоряча. Всё взвешено сто раз, перемеряно. Или спиться, или с ума спятить… или окочуриться от инфаркта. Чужая. Ну, чужая! Ошибся! Прости! Что мне теперь, удавиться?
«Теперь он всё выскажет, – Гриша вздохнул украдкой. – А не собирался ведь. Отмалчивался».
– Ты взрослый уже. Должен понять.
«Мать будет расспрашивать. Непременно. А он что? А ты что? Учует враки, разобидится вдрызг. Плохо ей».
– Папа…
– Я знаю, знаю прекрасно… у тебя сейчас возраст, все дела… и тут такая подстава с моей стороны… Но, сынок… ну, вот… – он выразительно прихватил себя под горло.
Гриша не знал, что говорить дальше.
«А что она сказала бы?»
– Пап, всё нормально же было.
Отец смахнул лежавший на коленях альбом, вскочил, широко разбрасывая руки.
– Да какой там нормально?! Ты слышишь меня или нет?! – И смутился, притих. Сделался наконец настоящим. – Прости… разорался тут…
Гриша с удивлением обнаружил, что у него щиплет в носу.
– Пап, ей плохо.
– Знаю! Знаю я. Но… Столько лет это останавливало, а теперь… – Он покачал головой. – Не тяни душу, Гриш.
– Может, повременишь окончательно решать.
– Да сколько можно…
– Пока побудете врозь. Временно.
– Да я в постель с ней лечь не могу! Какой там… временно?!
И ещё одно удивление: Гриша был абсолютно уверен, что понял сказанное отцом во всей полноте, в тончайших оттенках – о существовании которых только что, секунду тому назад, имел довольно смутное представление. «Да я в постель с ней лечь не могу».
Дальше он не слушал.
«Ты это о моей маме? Ты сейчас о моей маме говоришь?»
Наверное, отец заметил. Скомкал какую-то фразу.
– Гриш, ты чего?
– Я?
Отец скрестил руки на груди, прошёлся к окну и обратно.
– Вот поэтому я и не хотел говорить. Чтобы тебя ещё не втаскивать.
Гриша уже выходил из комнаты. В коридоре прибавил шагу, вылетел одним махом в прихожую.
– Ты чего? Сынок! Ну, сам же разговор затеял!
Никогда бы не подумал, что может приключиться такое – что будет клокотать и обжигать нестерпимо желание ударить его – со всей силы, разбить ему в кровь лицо.
– На, – Жанна быстренько вытерла у себя и передала полотенце Грише. – Справишься? Туда всё, – она тряхнула рукой, будто согнала муху.
Стараясь не заляпать простыню, Гриша стянул полотенцем отяжелевшую склизкую резинку.
– На ковёр. Я уберу.
Он сбросил махровый ком на пол.
Сначала сел на краю кровати, но оглянулся на Жанну: та лежала, глядя в потолок, – и лёг обратно. Нужно ещё полежать, значит.
– В следующий раз сам наденешь, – сказала она, не поворачиваясь. – Потренируйся заранее.
– Угу.
Разговаривать он не хотел.
Жанна весело вздохнула и, выпростав запутавшуюся в простыне ногу, потянулась.
– Ну, вот. А то всё глазки мне строил.
Гриша глянул, как натянулась на рёбрах кожа, как вдогонку заломленным за голову рукам перекатилась грудь, и отвернулся. Внутри уже стихло, схлынуло. А минуту назад было – вот-вот порвёт на кусочки. И – надо же – хотелось прошептать её имя… пусть бы даже она не расслышала, совсем тихо, для себя.
«Полежу немного и пойду», – решил он, стараясь запомнить, как журчала, накатывая, волна, как покалывали нежные иголочки.
Жанна повернулась, подула ему в висок.
– А вспотел-то…
В закрытую дверь поскреблась собачка Зюзя.
– Так! – крикнула Жанна. – Сейчас кто-то тут огребёт!
Зюзя ворчливо поскулила и ушла, цокотя когтями.
– А для начала-то совсем неплохо, – сказала Жанна. – Я в тебе не ошиблась.
Она подтянулась повыше на подушке.
– Можно не подрываться, конечно, но через полчаса мне нужно уходить. Давай сразу договоримся, ладно? Ты про это молчишь. Ни гу-гу. Никому, никаким лучшим дружкам, даже под большим секретом. Если хочешь, чтобы это продолжалось. Да?
– Угу.
– Вот тебе урок номер один. Либо болтаешь, либо… – не договорила, вместо слов придвинулась ближе.
– Угу.
– Вот и славно.
Села по-турецки и, выудив из щели между матрасом и изголовьем кровати слетевшую заколку, принялась собирать волосы в хвост. Гриша поднялся и начал одеваться.
– Ты, кстати, слышал, Галя домой вернулась?
Жанна закончила с волосами, встала, надела халат.
– Люблю эту вещь, – она погладила расписанный листьями шёлк, – и продолжила про Галю. – Посидела, видать, со своим на съёмной квартирке, подумала, и обратно. Гульнула дурочка. Устроила… Никто ничего не знал, так нет…
Пусто.
«Ладно. Так, значит, так. Будем знать».
На другой стороне улицы заметил знакомых парней. С ними Надя и Аня – шли из школы, повстречали старшеклассников, прибились. Видно было издалека – парни над девчонками подтрунивают. Любимая забава: кто-нибудь задаст невинный будто бы вопрос, девчонки ответят – а следующим номером прилетит ехидная шуточка; ясно, про что. Аня с Надей то огрызаются, то хихикают. Бывает, обидятся, уйдут. Если совсем уж выйдет грубо у парней.
Спрятался за ларёк. Заметят – начнут звать или сами перебегут на его сторону: куда, откуда, почему с уроков свинтил? Постоял, пережидая, а когда выглянул обратно – дворовая компания была далеко.
А казалось, должно быть иначе. Казалось, чпокнет Жанну, и всё вокруг как-то изменится. Станет проще. Удобней станет, потому что – проще. Придётся впору, по руке. Порадует глаз, как уравнение с найденным неизвестным.
Одиночество – вот что это. И не понятно, что с ним делать, как прожить.
Наваливалось и раньше. Но не таким удушающим мороком, не так, не насмерть.
Прислушивался – ждал, когда затянет в полную силу вкрадчивый, но цепкий, дочиста опустошающий сквозняк, от которого сначала делалось зябко и безысходно – а потом где-то глубоко, сразу не разглядеть, вдруг обнаруживалось новое, до сих пор ускользавшее, пространство – такое неожиданно большое, немного пугающее… Теперь ничего. Глухо и гладко. Вообще – непонятно, как раньше из тоски получалось что-то такое особенное. Разве что переждать. Пройдёт.
Фонари. Вылупили розоватые тлеющие бельма. Пивная «Фрау Дитрих», слепленная без затей из бывшей столовой: пластиковые окна вставлены в облупившийся фасад, вывеска, подсветка, перила. Старуха в бижутерии – фрау Дитрих, звезда проспекта Строителей. Прохожие. Продавщица из ларька «Цветы и букеты» гонит от входа пьяного мужичка. Мужичок на костылях. Повис на них, задрал плечи выше затылка, готовый уснуть и рухнуть под «Цветы и букеты». Всматривается в горластую тётку, выдернувшую его из сгущавшейся дрёмы. Торговый центр. Стеклянные этажи втиснулись между домами. За спиной сквер. Хрустящие шаги по гравию.
Гриша уселся на низкую решётчатую ограду.
Выудил из кармана телефон.
– Скоро буду, мам.
– Ты с кем? Темнеет уже.
– С ребятами, с кем ещё.
– С каким ещё ребятами? Которые, вот, в лесопосадке?
– Нет, я с другими. Тут рядом. Скоро буду, ма.
– Смотри там, осторожно, будешь мимо Турчиных идти. Музыка весь вечер орёт. Галка ж вернулась. Мало ли. Что у них там? Опять что-нибудь выдаст, а он стрелять затеется.
– Да я с другой стороны пойду.
– Ладно. Недолго.
Снова ревела. Слышно по голосу. Пришла с работы, наревелась и ждёт Гришу. Поделиться новыми подробностями обиды. Каждый день вызревают новые, и она приносит их ему, как кошки приносят мышей: вот, посмотри, вот ещё, видишь, вот ещё как. Войдёт в комнату, сядет на краешек дивана. Посидит, помолчит – выдохнет:
– А папа раньше говорил, что ему дома плохо?
Приходится сочинять какие-то слова в ответ. Так быстрее закончится. От его слов расплачется, выплачет последнее, до чего не сумела доковыряться сама, в одиночку. Но перед тем как расплакаться, будет высматривать внимательно, ревниво: ну, что, жалко тебе мать, жалко? Под этим взглядом Грише хочется накричать на неё, со всей дури хлопнуть дверью – так, чтобы хрустнуло и зазвенело, чтобы картина «Грачи прилетели» сорвалась со стены. Отец никогда не кричал. Не в его характере. И Гриша не накричит. Потому что – да, жалко. Жалко, но сколько можно смаковать. Будто всю жизнь ждала – и вот дождалась наконец, и не наиграется никак.
Запруженная вечерняя улица. Вылавливал из неё то одно, то другое. То опущенную до самого асфальта «десятку», напоминающую хмурого толстенького грызуна, то людей, вышедших из одного автобуса, но из разных временём года: одни в ветровках, другие в сорочках, кто-то до сих пор в пуховике. Серый «лексус», припаркованный возле остановки. Ещё не понимал, почему, но приклеился взглядом. «Турчина машина, – додумался наконец. – В пивнушке сидит». Машина частенько ночует под пивной, Гриша видел её здесь не раз по дороге в школу.
Встал и пошёл. Легко, будто само собой разумелось.
Бармен собирался его окликнуть, но, видно, заленился голос повышать, перекрикивать музыку. Стряхнул куда-то под стойку полотенце, принялся складывать. Мрачный и большой. Сам себя шире. Слушать не станет. Закончит с полотенцем, займётся Гришей: «Что ты тут делаешь? Давай, на выход. Бегом».
Занято было лишь несколько столиков по разным углам.
Турчин сидел один. Напивался, не отвлекаясь на закуску. Тарелка с рыбной соломкой стояла полная. Три пустых кружки. По стенке одной из них сползала пена. Допил и отставил – и снова пялится в стол.
Гриша сел напротив. Сползающую пивную пену на всякий случай запомнил, отложил машинально в памяти – забавно: точь-в-точь как морская, только медленная.
Не поднимая головы, Турчин посмотрел на него и хмыкнул раздражённо. Не понравилось; сидел тихонько, тут на тебе, малолетка.
– Ну? Чего?
Что сказать, Гриша придумать не успел.
А бармен шагах в двадцати.
Щепоткой, нанизав на кончики пальцев, вынул гильзы. Расставил в ряд.
Турчин пронаблюдал, глянул на Гришу вопросительно, но мельком – просто чтобы удостовериться: всё, что собирался, малец сделал.
Смотрел на гильзы. Зелёные, с латунными донышками. И Гриша на них смотрел.
– Вернулась сучка, – негромко сказал Турчин; будто продолжил прерванный ненадолго разговор. – Дома сейчас. Меня ждёт.
Бармен, наконец, подошёл. Навис, загородив лампу.
– Всё в порядке, Лёш. Это сосед мой. По делу.
Но тот стоял, кривил губу многозначительно.
– Да ладно, – Турчин мотнул головой. – Не нуди, всё в порядке.
И бармен ушёл, прихватив пустые кружки. Нелепый натюрморт: стреляные гильзы и тарелка с рыбной соломкой.
– Третий день, как вернулась.
Посмотрел на Гришу. Грише показалось: растерянно.
– И вот что теперь?
Нет, не показалось: так и есть, он растерян.
– Вот как? Теперь. А?
Стало заметно, что Турчин насквозь пьян.
– Не получается ни разу. Не принимает…
Он посмотрел себе на грудь – вместо пояснений. И, вскинув голову, навёл резкость на Гришу. Дескать, понял, нет – про что я?
– Ну, не принимает. Никак. Я бы рад. И плевать, кто что скажет. По хер! Я б такой, чтоб простить. Хочу. Простить. То есть, знаю, что надо бы простить. Забыть. Совсем. Потому что… да что там… один же хрен, без неё только хуже будет. – Поймал ладонью лоб, но, не соразмерив силу, пришлёпнул слишком хлёстко. – Башка на части.
А Гриша подумал, что – вот ведь, всё это вроде бы странно. Оказаться в пивняке. С Турчиным. Слушать Турчина. Такое, чего никогда не ждал от него услышать – потому что он то ли немножко бандит, то ли был когда-то бандитом. Должно быть странно, как ни посмотри. Должен чувствовать себя не в своей тарелке. Но почему-то ничего такого. И даже совсем наоборот. Вот именно здесь – всё очень просто. Нормально. Ну, пивняк. Ну, Турчин. Пьяный. Испуганный. Болит у него. Не знает, что делать. Нормально. Правильно.
И Гриша успокоился.
– Убил бы сгоряча, – Турчин дёрнул пальцем в сторону гильз. – И всё. Точка. И никаких проблем. И себя, наверное, шмальнул бы заодно. Сгоряча. И точка, понимаешь? А и не шмальнул бы себя, всё равно… разрешилось бы, короче… Понимаешь, нет?
Гриша пожал плечами: понимаю, чего тут не понять.
– А так… Беспонтово, понимаешь? Пшик.
Раскрыл для наглядности ладони, показал: пшик.
– А?
Это был вопрос. Гриша, подумав, кивнул.
– Вот, малец. Такие дела. Как сажа бела!
Турчин черпнул рукой над столом, ища ручку кружки. Свалил несколько гильз. Повёл взглядом руке вдогонку, вспомнил, что пиво допито.
– Я бы, наверное, отпустил. Отпустил бы. Да. Правда. Переболел бы. Бесился бы, ясен хрен. Но потом… отпустил бы. Но она, сука, вернулась.
Нужно было запомнить побольше. Унести с собой. Полупустой зал «Фрау Дитрих» – неуютный, кисло-серый, обшарпанный вечность тому назад. Спины и лица. Пульсирующий гул голосов. Пивные кружки. Запах. Горький и водянистый. Всё, как есть. И сдавленный, о хмель спотыкающийся голос Турчина. И его приплюснутые неровно подстриженные ногти.
– Дома сейчас. Уходил – на диване сидела. Укуталась в плед. Такой, знаешь… плотный, с таким рисунком… узором… Косичку заплела. Специально, ясен хрен. Знаешь… Как же я, сука, люблю, когда она косичку заплетает. Прям, знаешь… шиза какая-то. Прям переворачивает. Когда она с косичкой. И такая, знаешь, сразу нежность…
Говорил всё тише. Некоторые слова Гриша уже угадывал.
– А ещё спина. Когда, знаешь, она стоит ко мне спиной голая… Как сказать? Такая… спина… как у девочки, в струнку. Лопатки торчат.
Он сел повыше на стуле.
– И вот я не знаю теперь, совсем… что со всем этим делать. Вот как всё это…
Поднялся решительным рывком. Стул противно взвизгнул.
– Добавлю ещё пару. Надо мне.
Отправился к бару.
И завис там. Сразу врос локтями в стойку, обмяк.
Лёша, бармен, повторял ему что-то короткое, однообразное. Уговаривал, наверное: давай такси тебе вызову, езжай домой. Турчин в ответ мотал головой.
Дима не стал его дожидаться. Пора было домой.
Животное
В реальность его вернула поднявшаяся вокруг суматоха. Затопали, зашуршали одеждой. Тени скользнули по векам. Он приподнял голову: компания расходилась в разные стороны от костра.
– Вставай, дров соберём, – легонько пнул его в подошву Бычок. – Подмораживает.
Циба встал, выбрал направление, откуда не раздавалось шума и треска, и двинулся в темноту, рассеяно глядя под ноги.
– Мужики, желательно потолще! – крикнул Витя. – Чтобы угли получились.
До тошноты деловитый, родной с первого «здрасьте». Это он улаживал всё с гаишниками. Кто-то у него там работает. Да и в морге хлопотал один за всех.
Коваль был в сиську пьян, когда ему позвонили менты. Сидел в Витином баре. Тот вызвался помочь. Возил Коваля повсюду. Потом с похоронами помогал – сам же и напросился. В общем, вцепился намертво, с каким-то азартом даже. Будто полжизни сидел и ждал, когда у кого-нибудь из его завсегдатаев разобьётся жена, и можно будет влезть распорядителем в чужое горе. Теперь вот – душа компании. Командир костра. Именно Витя, когда поминки подходили к концу, обошёл всех, пошептал: «Поехали на левый берег, посидим своей компанией. Помянем Сонечку в узком кругу». Уродец… Когда он шептал всё это на ухо Цибе, того одолевал острый позыв вцепиться ему в горло, сомкнуть пальцы за гортанью, как делал когда-то в армии, уча уму-разуму солобонов… Какое-то время раздумывал: не отказаться ли. Но пустота, поджидавшая его дома – голодная, вторые сутки не кормленая пустота, – показалась настолько жуткой, что он лишь кивнул послушно. И поехал со всеми.
Углубившись в темноту настолько, что костёр превратился в мерцающий оранжевый зрачок, Циба остановился. «Надо было дрова собирать», – спохватился он, обнаружив, что всё это время шёл бесцельно, не подобрав ни одной ветки. Над головой его мерцали другие зрачки – холодно-голубые. Смотрели внимательно, прямо в него. Свора невидимых чёрных кошек – притаилась, одни глаза видны. «Хотя бы Милу у Коваля забрать, – подумал Циба про Сонину кошку. – Ему всё равно ведь… Но как? Что сказать?» Резко сел на корточки и, запечатав ладонью рот, захрипел, зарыдал неумело.
Трудней всего в эти дни было скрывать боль. Притворяться одним из массовки. Соблюдать приличия. Чужая жена. Чужая жена, Господи. Чужая.
Он повалился на бок. Валежник под его весом оглушительно затрещал. Циба лежал, глядя на серебрящийся в камышах Дон, а в голове его снова развертывался, каруселью раскручивался тот сладостный исчезнувший мир, в котором Соня была его любовницей и единственным смыслом жизни.
Она прикладывает палец сначала к своим, потом к его губам. Улыбается: «Пойду пройдусь». Выходит голая в сад и идёт под яблони. Идёт медленно. Каждый раз, когда налетает порыв ветра, она жмурится от холода – и улыбается, подставляет холоду лицо, отводит назад плечи. Цибе кажется, он видит – через всю комнату, веранду и сад, – как её кожа подёрнулась мурашками. Он чему-то смеётся вместе с ней. Провела ладонью по стриженному затылку, снизу вверх. Ещё раз. Никак не привыкнет к своей новой мальчуковой причёске. Улыбнулась ему через плечо, замерла на несколько секунд, разглядывая розовые отблески у себя на животе, на ногах.
– Смотри, Циба, я вся розовая. Красиво, да?
Всё понимает. Наверняка понимает. Как глубоко она в его сердце, как оно сейчас раскрыто – насквозь. Понимает – и не боится там быть. Может быть, этому и улыбается? Его любви. Его нежданной мучительной любви. Стоит под яблоней, смотрит вверх. Переступает с ноги на ногу. В конце концов разводит руками – дескать, нету.
– Где яблоки, Циба? Что за происки?
– Сонь, какие в мае яблоки?
– Ну, какие… зелёные, маленькие такие. Хоть какие. Хоть завязи.
Молчит, снова высматривает в ветвях яблоки.
– Хотела явиться к тебе – на рассвете, с яблоком… А у тебя тут одни листья, Циба.
– Да нету, не ищи, – он пытается изобразить ворчание.
– А когда появятся?
Он пожимает плечами, будто Соня может заметить оттуда.
– Циба, когда, говорю, завязи появляются?
– Да мне почём знать? Я что, садовник?
Соня идёт обратно в дом. Когда входит в дверь веранды, он видит, что кожа её действительно сплошь покрыта пупырышками. Грудь от холода затвердела – не дрогнет при ходьбе.
– Я садовником родился. Не на шутку рассердился, – заводит она, приближаясь к кровати и постепенно скукоживается, сдаётся наконец холоду. – Все цветы мне надоели… кроме… – И, упав руками на кровать, она врывается к нему под одеяло, прижимается нежной ледышкой.
– Соня, – блаженствует он, собирая её всю, вжимая в себя руками и ногами.
– Циба, Циба, – вздыхает она ему в подмышку. – Откуда ты свалился?
Справа раздаются голоса: Коваль и Бычок. Переговариваются о чём-то. О расходе дизеля, что ли. Так и есть, об этом: «А у тебя зимой сколько?» – «А на твоей какой расход?» Отходчив Коваль. По крайней мере, от горя. Вот уже и разговор о машинах не вгоняет его в ступор, не заставляет замереть на полуслове от мысли: разбилась – она разбилась.
Впрочем, чего уж – беззвучно скалится Циба, девяностокилограммовым эмбриончиком свернувшийся в темноте. Все они, тут собравшиеся, обречены с каждой минутой верней и глубже вползать обратно в живую жизнь. Кто легче, кто трудней. Он и сам – вот-вот заговорит с кем-нибудь о чём-нибудь, о какой-нибудь жизнеутверждающей херне. Пустоту нужно же чем-то кормить.
Если бы удалось напиться. Водка не берёт. Одна изжога от неё.
– Игорян, – слышится голос Бычка. – Я уже потащу к костру. Лучше вернусь ещё раз.
– Давай, давай.
Циба притаился, ждал, пока стихнут шаги.
На время похорон все они, не сговариваясь, стали звать Коваля по имени, Игорем, Игорьком, Игоряном. Когда обходительное «Серёжа» сменится обратно на свойское «Коваль», решил Циба, это будет, видимо, означать, что поминки окончены – и в узком кругу тоже. Обычно в их компании его и Коваля звали по фамилиям. Приклеилось ещё в качалке, где каждый был терминатор, и старался говорить наотмашь. Обладатели звучных коротких фамилий неизбежно лишались имён, вот они и стали: Циба и Коваль. С Бычком другая история. Тот любил назначать своим барышням свидания перед залом: выходил с тренировки, навстречу ему длинноногая фея. Они менялись у него примерно раз в месяц. За то и получил титул быка-осеменителя. Позже прозвище сократилось до «Бычка». Был этот Бычок из тех, кому никакой кач не впрок – худосочен.
«Зачем я здесь? – маялся Циба, стараясь дышать ровно и тихо. – Не поможет ведь».
– Ты тут нормально, Игорёк?
– Да иди уже. Шею, смотри, не сверни.
Вокруг него было довольно мусорно. Забрёл на окраину базы, обрастающей мусором как трудовыми мозолями: сколько тут пикников перегуляно, сколько сожрано-выпито. За спиной, совсем недалеко, загудели брошенные оземь деревяшки. Послышалось журчание струи. Закончив, Коваль застегнул молнию и вздохнул. Стоял, не уходил.
– Э, – услышал Циба у себя над головой. – Живой, нет?
Мысленно чертыхнувшись, Циба перевернулся на спину. Буркнул:
– Живой, вроде.
– Циба? – удивился Коваль. Помолчал, добавил врастяжку: – Чего разлёгся?
– Да перебрал, – ответил Циба совершенно трезвым голосом, поднимаясь и отряхивая одежду. – Прилёг вот. Закачало.
Врать Ковалю было привычно. Тьма была весьма кстати: не пришлось взгляд сочинять, наклеивать маску. Вспомнив, что плакал и, возможно, сохранились следы, Циба шумно, будто пытаясь себя взбодрить, потёр лицо.
– Бывает, – сказал Коваль, и Циба почувствовал, что и тот – совершенно трезвый, как стёклышко; а ведь старался, тянул одну за другой.
Наедине как-то неожиданно звучал его голос, как-то по-новому.
– Оклемался? – спросил Коваль, стоя к нему вполоборота. – Идёшь?
– Иду, дровишки вон подберу… – Циба потоптался по валежнику. – И иду.
Коваль пропал в темноте, затрещал сучьями. Циба тоже наклонился, принялся сгребать валежник в охапку.
«Вымажусь с ног до головы».
– Мальчики, вы где? – звала их Катя.
«Намекнул бы Коваль Катьке, что хватит ей пить».
Мусорные мысли. Много мусорных мыслей. Нагоняют брезгливое чувство. Как рваные пакеты, как грязный пластик и сплюснутые пивные банки, чётко проступавшие теперь из клочьев травы, забившиеся под кусты и в самую их серёдку.
Вскинул голову: луна уставила на него свою грустную ублюдочную морду.
– Мальчики! Ау-у!
На её голос взахлёб откликнулись охраняющие базу собаки. На собак прикрикнул сторож, но вяло, они не послушались.
В тот день Соня приехала к нему домой. Сразу вслед за ним. Загнала машину во двор – он даже ворота не успел закрыть. Только поднялись в гостиную, на мобильник ей позвонил Коваль. Смотрела на фотографию мужа, выскочившую на экране телефона, с какой-то неразрешимой мыслью в глазах. Знать бы, о чём она тогда думала. Какую задачку пыталась решить. Взяла трубку – Коваль звонил сообщить, что задерживается и, похоже, надолго: в магазине обнаружена пропажа, он заперся с продавцами, заставил их пересчитывать при нём товар – не разойдутся, пока всё не пересчитают. Поговорив с мужем, Соня села на стул – как была, в плаще. Циба понимал: не стоит её сейчас трогать. Устроился на диване в другом конце комнаты. Так они посидели в протяжной выматывающей тишине. Как на дальнюю дорожку. Потом Соня хлопнула себя по коленям и засобиралась.
– Ты куда? – удивился он, попросил: – Останься.
В ответ она лишь нахмурилась и вышла на лестницу. Обернулась, сказала:
– Да врёт он насчёт магазина, проверяет… Прости, Цибулюшка. Испортила тебе вечер.
Соня просила никогда её не провожать. «Терпеть не могу дверных прощаний». Глядя ей вслед, Циба распустил, стащил с шеи галстук. Она вернулась, стремительно пересекла комнату. Притянула его голову, поцеловала в губы.
– Хочу, чтобы ты знал, – сказала, отстраняясь. – Я с ним больше не сплю.
Циба потянул её к себе, но она ускользнула.
Потом было ещё много ворованного хмельного счастья. Много. Хватит на всю оставшуюся жизнь – вспоминать. Перебирать по крупицам. Её смех, её походку, её точёные узкие ладони, которые он так любил разглядывать… держал у себя перед глазами и смотрел, гладил осторожно, гулял по ним пальцами – разными тропками, с ложбинки на горку, с ладони на запястье… пока Соня не отнимала у него свою руку, хныча дурашливо: «Цыба, затекла уже вся, отдай»… и каждый отловленный, спасённый от небытия жест этих рук будет вспоминать, и тянуться навстречу… и свет, и тени, и запах её жгучего тела, и каждое сказанное слово… она была немногословна… как он любил эту её немногословность, эту сдержанность, обрывающуюся вдруг.
«Почему ты нас не застукал, Коваль?! Почему не нагрянул? И всё разрешилось бы – иначе».
Катя отправилась искупнуться. Видимо, почувствовала, что её развозит. Подошла к воде, стянула брюки и трусы. Осталась в футболке. Решила, глупышка, что её от костра не видно. Проглотив водку, Циба смотрел на её выбеленные луной, моргающие из-под футболки ягодицы: вместо закуски.
Всё началось при Кате. Можно сказать, из-за неё. В боулинге, в дурной новогодней компании, Катя предложила сыграть в бутылочку. Ей тогда приглянулся паренёк, приглашённый кем-то – или объявившийся самостоятельно. Чей-то друг. То ли Саня, то ли Ваня. В него она и целилась. Коваль метал шары, упрямо пытался выбить два страйка подряд. Его звали, он послал всех подальше. Компания решила поддержать Катю. Циба раскрутил бутылку и тут же стал выбираться из-за стола: играть в пионерские игры он не собирался. Бутылка остановилась, указав горлышком на Соню. Катя завопила, что он обязан, что его отказ для Сони оскорбителен.
– Я вас прикрою, – промурлыкала она, растянув шарфик.
Циба посмотрел виновато на Соню. Она с обречённой улыбкой развела руками. Ни разу до того момента, когда его лицо наклонилось к её лицу за устроенной Катей ширмой, Циба не засматривался на Соню, не думал о ней так. Пожалуй, почти не замечал её: табу, жена старого друга… Он собирался чмокнуть её в щёку, но их губы встретились сами собой – и жадно сцепились. Будто преодолено было критическое расстояние, на котором уже невозможно ускользнуть от судьбы, отделаться поцелуем в щёчку.
Занятый добыванием страйков, Коваль ничего не заметил. Да и остальные – вряд ли. Не заметили, как всё только что началось. И уже не отпустит за просто так. У Кати с тем парнем, Саней или Ваней, ничего не сложилось. Как обычно. Даже в бутылочку не поиграли: куда-то он сразу же испарился.
Марина, новая жена Бычка, просила есть. Бычок кивал: скоро, скоро будешь есть. Костёр разгорелся высокий, заклекотал, махнул по небу искрами. Витя старался. Рассадил всех на пледы: я сам. Поодаль ждала своей череды последняя порция шашлыка, штук пять шампуров.
– Вот так живём, братцы, и не знаем, что нас ждёт за поворотом, – рассуждал Витя. – Кажется, вечность впереди. А на самом деле последний день настал. Спокойно просыпаешься, умываешься, завтракаешь. А уже начался тебе обратный отсчёт.
Бычок подхватил:
– Да не говори. Обратный отсчёт. Она в тот день рано встала, Коваль? Авария в двадцать один десять, так? Сколько она прожила-то, в последний день?
Коваль промолчал. Махнул нехотя в сторону Бычка – отстань, мол.
Сидящий по-турецки Циба закрыл глаза. Как будто это могло оградить его от их разговоров.
«Нужно уходить, – тупо повторял он про себя. – Встать и уйти. Вызвать такси и сразу идти к воротам. Они быстро приедут, они тут возле моста дежурят».
Раздали стаканчики водки. Циба выпил со всеми. Витя продолжил было свои душещипательные речи, но его перебила вернувшаяся Катя – затянула «Чёрного ворона». Циба вздрогнул: его любимая песня. Переглянулся с Катей и понял, что она всё знает. Про него с Соней. И песню сейчас запела – ему. Успела переодеться в дорожный жилет – взяла, наверное, из Витиной машины – и теперь полыхала из-за костра ядовито-лимонным цветом. Подпевать Циба не стал: понимал, что сорвётся. Ком в горле – не проглотишь.
Пока Катя пела, пропустили ещё по одной. Подпевала ей только Марина. В женском исполнении эта песня исцарапывала душу вдрызг, в лохмотья. Не дослушав последнего припева, Цыба поднялся. Катя оборвала песню, замолчала.
– Пойду, – бросил он.
– Спать, что ли? – поинтересовался Бычок. – Вон те домики наши, – ткнул пальцем в сторону двух силуэтов, темневших чуть поодаль от остальных.
– Нет, я домой, – сказал Циба. – Домой поеду.
Свои промолчали. Только Бычок удивлённо ругнулся. Катя с Мариной смотрели настороженно из темноты. Коваль шуровал веткой в костре, выуживая оттуда снопы искр. Луна пялилась на них с каменным безразличием.
– Всё.
– Да ты чего? – всполошился Витя. – Зачем домой? Три часа ночи. Домики сняли. Отличные. Чистые.
И снова – само собой случилось.
Его колотило, зуб на зуб не попадал, когда он подошёл к Ковалю. Тот продолжал ковырять веткой костёр.
– Я любил твою жену, – выдавил Циба, борясь с наседающей дрожью. – Люблю.
Стало тихо. Только плескался на отмели Дон и перегавкивались вдалеке собаки.
– Я не знал, что умею… так… любить, – продолжал Циба. – Мы оба с ней не знали, когда всё это начиналось. Не понимали.
Он переглянулся с Катей.
– Всё, Коваль. Теперь ты знаешь.
Плескался Дон. Лаяли собаки.
– Вот так поворот событий, – восхищённо протянул Витя.
– Всё? – уточнил Коваль, поднимаясь.
– Всё, наверное.
Он подцепил его подбородок левой и тут же кинул правый прямой. Целил в кадык, чтобы срубить наверняка. Циба инстинктивно отклонился, вскинул плечо. Удар чиркнул по плечу и врезался в ухо. Покачнулся, но устоял.
– Прости, – сказал Циба.
Собственный голос долетел откуда-то издалека, с другого берега. Он повторил, прислушиваясь:
– Прости меня.
Коваль качнулся вправо и, не мудрствуя, дёрнул Цибу правой в подбородок. Снова инстинкт заставил Коваля прикрыться плечом. Смягчённый удар пришёлся сбоку в нос. С ног не свалил, но юшка потекла. Потекла щедро. Инстинкты только мешали. Не давали ударам Коваля сделать то, что следовало. Падая от следующего удара, прилетевшего точнёхонько в лоб, Циба чувствовал, как распускается внутри тугой, душивший его узел. «Полегчало», – думал он, слизывая с разорванной губы кровь и землю.
И ещё думал о том, что Ковалю, с которым они лет десять ходят в одни и те же залы, наверняка всегда хотелось схлестнуться с ним на ринге понастоящему. Не сдерживаясь, без тормозов. Проверить, кто круче. Коваль обожал – по-настоящему. В юности с удовольствием ломал новичкам носы. В последнее время попритих, пообмяк. Но Циба читал по его глазам: хочет, очень хочет – интересно ему, кто же из них двоих круче. Хочет, но воздерживается: всё-таки старый друг.
«Прости и за это заодно, – подумал Циба, вставая и вертя головой в поисках Коваля. – И сейчас не дам тебе проверить. Бей уже так». Вкус собственной крови, хруст костей и гул в голове оказывали целебное действие. Каждый вонзившийся в него удар приносил облегчение. Он перестал уклоняться. Открывался навстречу ударам. Как совсем недавно Соня открывалась холодному ветру в его саду.
Он лежал пластом, и Коваль его больше не трогал. Коваля вообще не было рядом.
– Не успели мы. Не успели, Соня, – бормотал Циба, поднимаясь с земли.
К нему бежали, кричали, чтобы не лез, пихали его – прочь, убирайся прочь, ты и так нагадил достаточно. В круговерти испуганных и озлобленных лиц он попытался сосредоточиться на лице Вити – вот бы кого припечатать. Но они пихали, мешали поймать равновесие. Циба навалился, откинул их от себя. Подошёл к Ковалю, стоявшему лицом к Дону, к тлеющим вдалеке огням ночного Ростова.
– Прости, – прошепелявил Циба, не придумалось ничего другого.
На этот раз Коваль свалил его ударом в грудь.
Бил остервенело. Топтал и гвоздил, сосредоточенно сопя и похрипывая. Ему тоже мешали. Пытались схватить за руки, удержать, оттащить. Они всем мешали.
Вокруг скакали, захлёбывались лаем прибежавшие на шум заварушки собаки. Из-под их пружинящих о землю лап разлетались облака пыли.
– Не поверишь, у меня пыль – одно из ярчайших воспоминаний детства, – говорила Соня, отходя от только что прикрытого окна: на соседнем участке мастера принялись шкурить оштукатуренные стены, пыль полетела по всей улице.
В стакане, который держала Соня, покачивался апельсиновый сок. Бёдра её покачивались, когда она шла от окна. Душа его покачивалась. Это был один из тех редких случаев, когда на Соню нашло настроение поговорить.
– У нас в военном городке окна выходили на склон холма. Долгий такой, покатый склон. Сбегал до самой дороги. Летом на каникулах меня редко куда вывозили. Книжки все я быстро перечитала. Рисовать у меня плохо получалось. Сидела возле окна часами, смотрела, как проезжают по дороге машины. И за ними клубится пыль. Бывало очень красиво, когда солнце под нужным углом. Пыль тогда сверкала как бриллианты.
– Вот именно так? – рассмеялся он. – На сколько карат, Сонь?
– Не знаю, Цибочка. На миллион, наверное. На миллион карат.
Когда мир перестал падать и лишь тихонько сползал куда-то вбок, Циба открыл глаза. Он лежал на скамейке, на которую его отнесли Бычок с Витей – перед крайним коттеджем. Попробовал привстать. Не получилось, остановила серьёзная резкая боль вдоль всего организма. Его бурно вытошнило сгустками проглоченной крови. Кто-то подошёл, придерживал ему лоб. Женская рука. Проблевавшись, Циба тронул помогавшую ему руку в знак благодарности. Утёрся сгибом локтя.
– Сволочь ты, – вздохнула Катя, усевшись на качели перед лавкой. – Сволочь и дурак.
Циба молчал, соглашаясь. Говорить и не хотелось, и не моглось.
Боль сделалась вязкой, застыла студнем. В голову начала вползать трусость. Стал прислушиваться к себе: что поломано, каков итог. Коваль поработал над ним основательно. До носа таки добрался. Возможно, не один раз. Оба глаза заплыли. Рёбра, справа. Похоже, почки. И почему-то руки болтаются как плети.
– Зачем было ему говорить? Теперь-то зачем?
Качели нежно поскрипывали. Раскачиваясь, Катя вытягивала вперёд ноги, и Циба видел её дочерна испачканные землёй подошвы.
– Легче тебе стало? – спросила она, останавливаясь и наклоняясь вперёд. – Легче, я же вижу… Все вы, мужики, эгоисты. И сволочи.
Катя снова успела набраться. Хорошая она. Только вся какая-то жалобная, с сучьими покорными глазами. Заглядывает этими своими глазами на мужиков, выпрашивает большой радости. А получает мелкие подачки. Соня говорила про неё: «Катерина – праздник, который некому отпраздновать». Циба набрал было воздуха, хотел сказать Кате, чтобы она не пила больше. Но она уже уходила от него – к Дону, к пляшущему между сидящими человечками костру.
Циба попытался подняться с лавки – и не смог. Встревожился: не позвоночник ли. «Отлично, – говорил себе с горечью. – Начинаю бояться за своё драгоценное здоровье. Считаю косточки. Так возвращается жизнь. Назад, Цибулёнок, на мусорную землю. Жить, Циба, жить».
Следующим пришёл Бычок. Пьяный, конечно.
Принёс бутылку минералки, зачем-то напоил насильно Цибу, того ещё раз вырвало. Бычок сел на качели, с которых недавно ушла Катя. Разговор его долго плутал, срывался, утыкался в глухие тупики.
– Знаешь, Циба, – сказал Бычок, повышая голос. Помогло: он взял себя в руки, заговорил почти что связно. – Я тоже, знаешь… Тоже на Соню слюни пускал. Ох, пускал. Но… не решился, блин. Не решился.
По щеке у Цибы покатилась беспомощная слеза.
– Она, между нами… да-а-а. Супер. Видно было. Но… я не такой, как ты. Да. Я не решился. Скажешь, трус, – Бычок мотнул головой. – Ладно. Зато не крыса.
Оторваться от лавки никак не получалось. Голова отрывалась, но спина лежала как привинченная. Циба пробовал по-всякому. Никакого результата.
«Ну, что, сволочь, позвоночник?» – спросил он себя. И теперь испугался всерьёз.
– Как она танцевала… м-м-м… Заводная девка была. Да. Повезло Ковалю. Ну… и тебе малёхо…
«Так теперь и будет всегда, до конца. – В прорези заплывших глаз Циба рассматривал Бычка, мечтательно уставившегося в ночное небо. – Кто-нибудь будет приходить, садиться возле тебя. И говорить. Говорить. И ты не сможешь ничего сделать».
– Слушай, Циба. Хочу спросить тебя. Скажи по-братски… А как она в постели была? Ну… если по пятибальной шкале.
«Боже, неужели это всё? Неужели – всё?»
В глазах искрило, но ему удалось сбросить себя с лавки. Встал на колени, упёрся локтями.
– Чего ты? Встать? – Бычок сам подошёл к нему, помочь.
От близости его физиономии зудели руки. Циба встал. Это оказалось проще, чем он думал. «Позвоночник целый», – мелькнуло. Бычок стоял как раз, как надо.
– Слышь, Циба, как она в постели была, а?
Выбросил левую в боковом – промазал – вдогонку бросил правую и почувствовал, услышал даже, как звонко щёлкнуло в спине. Как недавно щёлкал под его ногами валежник. Тоже промазал. Перед Цибой проплыли испуганные глаза Бычка, и тот исчез из поля зрения. По рукам, по спине растёкся жар.
«Стало быть, целый».
– Ты что там, гадёныш? – услышал он голос приближающегося Коваля. – Мало тебе? Добавить?
Циба стоял, понуро свесив голову.
Коваль ткнул его в живот – несильно, но ослабевший Циба согнулся пополам и уселся на траву. Коваль постоял над ним, сел рядом.
– Живой, нет? – спросил он, сплёвывая себе под ноги.
– Ты уже спрашивал.
Они помолчали. Цибе снова захотелось уйти поскорей. Куда угодно. Подальше.
– Вызови мне такси, – попросил он.
– Хрена лысого, – отрезал Коваль. – Перебьёшься.
Помолчали ещё немного.
– Я знал, – сказал наконец Коваль. – В тот самый день узнал. – Он пожал плечами. – Переживал сильно. Больше, чем ты знал… А когда она… когда всё случилось, решил… простить. Забыть. Решил не говорить ничего тебе, скотине.
Из темноты показался Витя со сторожем. По тому, как они осмотрели Коваля и Цибу, было понятно: Витя бегал к сторожам всё утрясать, договариваться, чтобы не вызывали ментов.
– Видишь, нормально всё, – сказал Витя сторожу.
Мрачно и коротко Коваль послал их обоих. Они ушли.
– Думаешь, почему так вышло? Я нашёл письмо у неё в машине. Полез за навигатором, и нашёл. Она и не старалась его спрятать. Собиралась, видно, тебе в собственные ручки отдать. Я прочитал… прочитал… Почему-то она тебе написала, а не мне. Обычно наоборот, вообще-то… пишут тому, с кем расстаются…
В темноте стронулся и низко завыл мотор: сторожа включили насос, закачивающий воду в подземные цистерны для полива.
Опираясь на плечо Коваля, Циба поднялся на колени.
– Что там было? В письме?
– Заткнись, Циба, – прошипел Коваль. – Заткнись и слушай… Она… к тебе собралась… На трассу, наверное, поехала проветриться после нашего разговора, успокоиться. Мы с ней крупно поговорили, я остаться её просил… Она всегда куда-нибудь уезжала, когда сильно нервничала. Выбиралась на трассу и гнала куда-нибудь. Скорость, мол, успокаивает…
Циба улыбался во весь свой растерзанный рот.
– Значит, она собиралась уйти ко мне?
Коваль посмотрел на него с презрением.
– Я хотел убить тебя сейчас. Когда бил, – сказал он задумчиво и принялся кидать перед собой камни, подобранные с дорожки. – Не знаю, почему не получилось. Видно, не судьба тебе. А теперь настрой не тот. Живи, тварь. Вина наша поровну. Так что живи.
Циба подполз на коленях поближе к Ковалю.
– Да, Игорь, так было бы лучше, как ты задумал. Нам обоим… Что там было, в письме?
– Пшёл вон, животное, – Коваль устало толкнул его и поднялся.
Сделал несколько шагов – и не удержался, выронил, как неподъёмный груз:
– Она беременная была.
– Коваль! – позвал Циба.
Тот не обернулся. Сплюнул и пошёл дальше по дорожке к костру, откуда его уже высматривали с беспокойством Витя и Бычок. Катя положила голову Марине на колени. Похоже, дремала. Коваль встал над костром, ему протянули стаканчик.
Телефона в кармане не оказалось. Такси не вызвать. Не нашлось и кошелька. Коваль выбил из карманов и то, и другое. Возвращаться к костру казалось немыслимым. Как пройти сквозь стену. Поскуливая от боли, подбадривая себя желчными смешками, Циба поднялся на ноги.
В воротах его кинулись облаивать тузики. Угрюмый сонный сторож одёрнул их не сразу, на всякий случай дал полаять на окровавленного хромого придурка. Уже за пределами базы, там, где тянулся за сетчатым забором газон, Цибу обдало водой: включились поливальные брызгалки.
Сначала идти было трудно. Он думал о письме, которое ждёт его – наверняка ждёт – в искорёженной машине на спец-стоянке, начинал гадать, какими словами писала Соня, как называла его: Цибулька, Цибочка? И чем глубже он погружался в свои мысли, тем легче шёл.
«Соня, – стучало в висках. – Сонечка».
Небо уже начало выцветать. В посадке суматошно перелетали с ветки на ветку разбуженные его шагами птицы. Кое-где из коттеджей лилась романтическая музыка. Кто-то ещё не долюбил, ещё не желал мириться с наступающим новым днём. Пред самой трассой с обочины при его приближении сорвалась и нервно умчалась «десятка». Выбравшись на асфальт, Циба толкнулся и побежал. Всё в нём оказалось целое, ни единого перелома. Кроме носа. Каждый шаг отдавался молотом в ушах – но это мелочи, он мог бежать.
Впереди, за мостом, громоздился серыми глыбами Ростов. Водители торопливых утренних машин успевали бросить на него любопытные взгляды. Один даже притормозил, опустил окно. На большее не решился, проехал, как и все, мимо.
Мост уходил немного в гору. Если не возьмёт его быстро, с налёта – выдохнется. Нужно было подналечь. Он зарычал и прибавил скорости.
«Давай, животное, давай», – подбадривал он себя.
В какой-то момент Циба почуял, что сможет, добежит. Он теперь всё может. Но теперь – слишком поздно. Если бы это пришло к нему раньше, она осталась бы с ним. Живая, Господи. Живая. И ребёнок…
Сознание захлопнулось в узенькую щёлочку.
Оставалось ещё её письмо. Которое он должен прочитать.
«Давай, животное, беги».
Над Доном, тяжело отрываясь от изрубленного городом горизонта, ползло свежее розовое солнце.
– Смотри, Циба, я вся розовая. Красиво, да?
Животное бежало упруго и размеренно.
Сороковины
– Опоздаешь!
Сонный Щербаков возился с ботинками, пытаясь впихнуть, втоптать в них пятки.
– Ломаешь ведь задник, – вздохнула Аня.
Громко щёлкнув коленями, она присела на корточки и расстегнула на ботинках застёжки. Щербаков наконец обулся и полез в пальто.
– Не забудь, – помогая мужу одеться, повторяла она. – Не забудь. Пакет поставишь возле… ну, там будет такой столик стоять со свечками. Квадратный. Все круглые – а этот квадратный. Запомни. Прямоугольный, вернее. Конфет возьми хороших. Раздашь бабушкам. Скажешь: «помяните новопреставленного Андрея». Всё запомнил?
Забросив на шею шарф, Щербаков кивнул.
Аня пристально глянула ему в лицо.
«Да запомнил я, – угрюмо подумал Щербаков. – Мука, сахар, гречка. Конфеты. Квадратный столик».
– Спросишь, где панихиду заказать. Это там же, где свечки продают. – Аня стала говорить размеренно, голосом, которым читает в классе диктанты, голосом, который кладет слова как одинаковые суровые стежки. Щербаков слышал, как она читает диктанты, когда был ещё не таксистом, а учителем физики, и работал с ней в одной школе. – Свечку возьми, не забудь. Свечку поставишь. Понял? Главное: тебе дадут бумажку, впишешь туда имя отца. Разборчиво пиши, чтобы батюшка прочитать смог. А то с твоим почерком… Ручка есть? Ну, у них будет ручка.
Она помогла ему расправить воротник, и Щербаков шагнул в пронизанный сквозняком подъезд.
– Петя, мобильник в куртке, – крикнула она вдогонку его забарабанившим вниз по пролёту шагам. – Позвонишь, если что.
Он услышал у себя за спиной голос Артёмки, вяло позвавшего из спальни: «Мам, а папа куда?» – и гулкий стук двери, отсекший от него свет лампы, недавно отремонтированную квартиру, Аню, с которой женаты одиннадцать тихих одинаковых лет, сына, разбудившего их среди ночи: «Мам, пап, а я заболел», – и Щербаков остался один. Он сразу ощутил – остро и безнадёжно – что идёт туда один. Вот только он, только он – и никого рядом. Всё то, что сделала бы за него Аня, привычно подсказывая и подталкивая (встань здесь, возьми это), если бы не разболелся Артём, – всё это придётся сделать самому.
Он не любил ходить в церковь. Всегда выходил из церкви очень растерянным.
Сорок дней, прошедших со дня смерти отца, Щербаков наблюдал за собой. Думал тревожно: «Ну что-то же должно происходить в человеке, когда у него отец умер», – и ждал. Спохватывался в самые неподходящие моменты: «Отец умер».
Хотел прочувствовать. И растрогаться.
Всюду теперь на глаза ему попадались старики. Щербаков и представить не мог, что их так много вокруг. Ковыляющий с палочкой – будто ковыряющий асфальт перед собой, прежде чем ступить, и потом вдруг столбиком застывший на самой середине перехода, чтобы передохнуть и оглядеться. Поджарый и лёгкий, с голыми синеватыми ляжками, наматывающий круги на стадионе. Напряжённо, с прямой спиной, восседающий за рулём своей перекошенной «копейки». А то вдруг в такси к нему садился старик, который как-то так похоже крякал, переваливался, устраиваясь на сиденье… Щербаков всматривался в зеркало, а в голове ухало опять: «Отец умер»…
Аня спросила:
– Он во сне к тебе не приходит?
Еле сдержался, чтобы не осклабиться:
– Не приходит.
– Ко мне вчера приходил. Улыбался. Значит, доволен всем, всё мы правильно сделали. Да и знаешь, я потом подумала: место, в принципе, хорошее. Через год разрастется кладбище, там тоже дорожки забетонируют.
В последние годы мало, конечно, общались. На праздники, за столом. Первого января, конечно, заглянут всей семьёй. Так, чтобы сесть поговорить о чём-то, провести вместе пару часов – такого не было. Но ведь где бы взялось на это время? В детстве, конечно, всё было иначе. Это Щербаков точно помнил. Но когда пробовал отыскать в памяти какую-нибудь живую картинку – будто в туман уходил.
Мать умерла, когда ему не было и года. «Инфекция, неправильно лечили…» Это ведь слова отца? Но сам отец – как выглядел, когда говорил это, что был за день вокруг?
– Слушаю вас. Покупать что-нибудь будете?
Конфет здесь не оказалось. Только в коробках. Щербаков в коробке брать не стал: как их раздавать – шоколадные-то? Куда потом коробку девать? Взял всё остальное, решил, что пойдёт без конфет. «Не проверяют же там». Вышел из магазина и зашагал по дороге между промзоной и бетонными высотками в сторону вспухших в пустом осеннем небе куполов.
Однажды, когда стоял под «Ашаном», дожидаясь клиента, вспомнил наконец, как по утрам отец водил его в садик – через задний двор магазина, где горы ящиков иногда осыпались сами по себе и где ходило и лежало много толстых собак… со стороны отца тянуло табачным дымом, сизое облачко залетало порой вперёд, зашторивало путь прямо перед носом – и тут же таяло.
Церковь совсем рядом, из дома видно. Они живут на окраине, возле Восточного кладбища. Отца похоронили на Старом – это в другом конце города. Сегодня втроём собирались в ту церковь, где отца отпевали. Аня сказала, Артёмке тоже нужно. «Пора», – сказала. После службы собирались на могилу сходить, как положено. Но вот заболел Артёмка. Нужно будет успеть к врачихе в поликлинику, ко времени, когда та на вызовы выходит – чтобы к ним к первым. Забрать её и привести к Артёмке. Если по телефону вызвать, полдня прождёшь.
Дорога как холка борова. В будние дни здесь ездят грузовики на мясокомбинат. Солома, налетевшая с грузовиков, торчит из подсохшей грязи как пучки щетины, липнет к подошвам.
Щербаков шёл по самой серёдке, стараясь пошире расставлять ноги, чтобы не обляпать обшлага. Шёл и слушал, как с тихим посвистом трётся о куртку висящий на локте пакет, в котором гречка, сахар, мука. Конфет в магазине не было. Нужно положить возле прямоугольного столика. Попросить бумажку, отца туда вписать. Сегодня сорок дней. Панихида. Заказать панихиду – и бегом в поликлинику.
В тот день ему позвонила соседка отца. Та, у которой в каждом окне – синие и розовые кляксы герани. Сказала: вчера весь день кошка мяукала за закрытой дверью, и на звонки никто не подходил, она даже в службу спасения звонила, но там ответили, что без милиции вскрывать не имеют права.
Когда Щербаков приехал, кошка Надя уже выбралась через открытую форточку. Сидела на дереве перед подъездом, смотрела оттуда с упрёком – явился, мол, не запылился. Уже в подъезде выяснилось, что он забыл ключ. Нажал на звонок, постоял, прижав ухо к двери. За дверью шуршала, как сильный жук в спичечном коробке, беспокойная городская тишина.
Пришлось возвращаться домой.
Рация без устали горланила: «Тридцать первый! Прими заказ!», – и ему пришлось соврать, что он сейчас с клиентом, едет в Аэропорт. Но через час, когда Щербаков во второй раз подъезжал к отцовскому дому, диспетчер предложила ему взять заказ как раз возле Аэропорта. Догадалась, наверное. Диспетчер не любит его, называет за глаза интеллигентом. Ничего не ответив, Щербаков выскочил из машины, забежал на второй этаж. Угрюмая Надя, подоткнув под себя лапы, лежала вплотную к двери. Чтобы войти, пришлось сдвинуть её ногой.
Через минуту он стоял над мёртвым отцом, калачиком свернувшимся посреди комнаты, а крики рации: «Тридцать первый! Ответь первому! Тридцать первый!», – летели через распахнутую дверь его такси, через открытую на кухне форточку. Он заткнул уши.
Щербаков удивился, как тупо он стал соображать, лишь только произнёс: «Отец умер». Стоял над ним неподвижно, с пальцами в ушах, а внутри – да, как в спичечном коробке ворочался этот жук, молотил когтистыми лапками, пытался растормошить его, растолкать.
Он ждал.
Очень ждал в день похорон, но тот день был наполнен на удивление жалкой и обыденной суетой. До сих пор Щербаков умудрялся оставаться в стороне от организации похорон. Вот Анину бабушку хоронили, и тётку Жанну, сестру отца – как-то там всё обходилось без него. Оказалось, между моментом человеческой смерти и рыхлым холмиком, на который можно бросить цветы, уйма дел.
– Врачи сейчас на место не выезжают, – инструктировала его Аня по телефону, когда он курил на отцовской кухне. На столе лежала вчерашняя «Вечёрка», сверху очки со связанными резинкой дужками. Он слушал Аню, слегка раскачиваясь, и в линзе очков росли, выскакивали из строки буквы: одна, другая, третья. – Возьмёшь отцовский паспорт, приедешь, скажешь: свидетельство о смерти оформить. Тебе, скорей всего, прямо там всё и сделают. Встретимся в агентстве.
Было очень похоже на какой-нибудь большой поход на рынок или путешествие по врачебным кабинетам. Или на тот же ремонт. Тоже нужно выбирать: это дороже, это дешевле… Женщина, выправлявшая все необходимые бумаги за столиком, втиснутым в шеренгу гробов, была такая же пасмурная и отрешённая, как терапевт в поликлинике. На крестах и венках – миниатюрные ядовито-салатные ценники. Очереди. Аня ставила его в одну очередь, сама занимала в другой. Подходила, спрашивала, какой гроб заказывать, весь чёрный или с лиловой каймой. Позже, уже на кладбище, землекопы предлагали место получше, за пять тысяч: ближе к дороге, рядом с богатой могилой. И были заранее грубы. Сморкались на землю. Матерились как бы невзначай. Как бы предупреждали: если что не так, могут запросто всё испортить. Щербаков, постаравшись сказать как можно печальней: «Помяните, пожалуйста», – отдал старшему пакет с водкой и колбасой, заготовленный Аней, попросил, чтобы крест выбрали получше, без трещин.
Потопав, чтобы сбить налипшую солому, Щербаков шагнул в ворота церкви.
В просторном дворе никого. С макушки ближайшей ели, сам себе судорожно сдережировав крыльями, сухо каркнул ворон.
Поднявшись по высоким ступенькам церкви, Щербаков стянул вязаную шапочку, сунул её в карман, перекрестился. «Отец умер», – напомнил он себе. Он потянул за массивную ручку, подёргал. Дверь не поддавалась. «Заперто. Закрыто ещё». Посмотрел на часы: пять минут десятого. Мелькнул смутный страх: опоздал, а теперь церковь заперли, опоздавших не впускают. Но тут же подумал, что так не бывает, он о таком не слышал, чтобы опоздавших не пускали. Всё-таки прислушался: тихо. Свободной рукой нахлобучив шапку на голову, развернулся, оглядел двор. Никого. В глубине двора – большой двухэтажный дом, крытый шифером. Без всяких изысков, весь как один исполинский кирпич. Напротив, у самой ограды – сторожка. Щербаков пошёл туда.
Постучавшись, толкнул дверь.
Из-под потолка смотрит икона. Возле стены слева пустой письменный стол. Стул задвинут спинкой вплотную к столешнице. Очень чисто и аккуратно, крашеный пол намыт до блеска.
В дверях, ведущих во вторую комнату, появился мужчина лет пятидесяти.
– Скажите, а церковь ещё закрыта? – спросил Щербаков, не решаясь шагнуть на чистый пол.
– Закрыта.
– Скоро откроется?
– В три часа откроется.
– В три?
– Да. В три.
– Почему?
Мужчина пожал плечами.
– Здесь в три открывается.
Щербаков уставился в пол, пытаясь сообразить, что теперь делать.
– А… как же…
Ехать в ту церковь, где отпевали отца, к Старому кладбищу? Не успеет. Далеко. Ну, и врачиха, опять же. Не успеет. Надо было заранее, вчера надо было. А так можно? Наверное, нет.
Он вернулся во двор. Тот же ворон на макушке ели, так же взмахнув крыльями, каркнул снова. «И что теперь делать?» – подумал Щербаков, растеряно посмотрев на свой пакет.
– Так вам что надо? – услышал Щербаков с крыльца сторожки.
– Мне сорок дней… – с надеждой отозвался он. – Панихиду заказать.
Мужчина вышел на дневной свет, и Щербаков заметил, что он тоже – очень чистый и аккуратный: и одежда аккуратная, и ступает он аккуратно, и даже лицо – очень аккуратное, равномерно-бледное.
– Это там можно, – кивнул он Щербакову на большой кирпичный дом в глубине двора.
Щербаков увидел крест на шиферной крыше.
– Там тоже церковь?
– Ну да.
– Спасибо.
Ещё раз, по диагонали, он пересёк двор, поднялся по ступенькам.
Из полумрака на него задом, волоча по полу мокрую тряпку, надвигалась женщина. Смутно, по золотистым и бронзовым бликам, угадывались впереди иконы, в глубине темнел алтарь.
– Извините, – позвал он. – Мне бы панихиду заказать.
Голос его гулко покатился по храму.
Женщина быстро разогнулась. Одной рукой вывесила мокрую тряпку над ведром, чтобы не капало на пол, другой быстро поправила сбившийся платок. Не оборачиваясь, сказала:
– Подождите пока. Нет никого.
Он отошёл немного в сторонку от этого большого дома, который тоже оказался церковью, поставил пакет себе под ноги и закурил. Успокоился: значит, не опоздал.
Ягоды калины в инее будто в сахаре. Щербаков дотянулся до грозди и осторожно зажал одну в щепотке пальцев. Скоро между пальцев стало мокро. Он убрал руку. В посахарённой инеем грозди появилась блестящая ярко-красная ягода.
Где-то недалеко и как-то вдруг загудел двигатель приближающегося автобуса. «ПАЗик» с чёрными полосами вдоль бортов вынырнул из-за сторожки, плавно въехал во двор. Щербаков зачем-то сорвал «свою» ягоду, сунул её в карман.
Автобус одним широким виражом развернулся посреди двора и стал сдавать задним ходом к церкви, возле которой стоял Щербаков. Водитель затормозил ровно в тот момент, когда заднее колесо коснулось нижней ступеньки, а выхлопная труба прошла над верхней. Тут же распахнулась единственная пассажирская дверь, и двигатель замолк.
Щербаков услышал, как водитель протопал к зависшей над ступенями корме автобуса, как вручную открылись разбитые, судя по хрусту и скрежету, задние дверцы. Потом водитель, низенький и как-то младенчески, нежно щекастый, взбежал к дверям церкви, открыл их двумя энергичными рывками, и уже совсем другим, плавным жестом человека, исполнившего всё, что от него ждали, извлёк из внутреннего кармана сигареты.
Невдалеке от Щербакова безмолвно собирались люди. Трое молодых крепко сбитых парней компактной стайкой обогнули его, направляясь к церковному крыльцу. Один скрылся за автобусом, двое встали рядышком, развернув к Щербакову свои джинсовые спины, украшенные фирменным логотипом: силуэт скорбящей женщины, обрамленный сверху названием: «Харон-2», снизу – номером телефона. Автобус качнулся, послышался негромкий деревянный стук, пара таких же негромких коротких реплик. Скоро среди их напружинившихся спин, среди посуетившихся и вдруг замерших локтей, показался гроб. Маленькое жёлтое лицо, утонувшее в чересчур просторно повязанном платке, запрокинулось сначала к небу, потом выровнялось и поплыло к темноте в проёме храмовых дверей.
– Куда?! – раздался из темноты решительный женский окрик.
Передние уже успели переступить через порог. Так и остановились, внеся гроб лишь наполовину.
– Не расставлено же! Ну надо ж сначала зайти, поинтересоваться. На время-то смотрите? Стойте!
Теперь Щербакову не видна была сама старушка. Только мыс льняного платка над белой подушечкой. Лучше всех, наверное, с макушки своей ели, торчащей рядом с церковной крышей, видел её ворон. Свернул голову набок и наблюдает, как замерло давно ему знакомое, в несколько шагов, шествие, и, высунувшись из церкви по пояс, она медлит, и подставляет невидимому осеннему солнцу сухое своё безглазое лицо.
Внутри вспыхнул свет.
– Заносите!
Старушку занесли.
Щербаков затянулся и посмотрел в другую сторону, туда, где кучковались живые, приехавшие на этом «ПАЗике».
То один, то другой вскидывал руку, и пальцы его затевали бойкую, но недолгую пляску, снуя от груди к голове, от плеча к мочке уха. «Немые», – Щербаков в который раз подивился этой всегда внезапно явленной, выскакивающей из обыденности как чёрт из табакерки, с мимикой, неприлично обнажившей лица – непреодолимо другой, безголосой, жизни.
А в ворота уже въезжал следующий, с такими же охряно-чёрными боками, «ПАЗик». Разворот посреди двора, отработанный за многие и многие повторы. Лаконичные движения парней из «Харона-2».
«Кто?» – заглянул он. На этот раз мужчина, не очень старый.
Щербаков бросил окурок за ограду.
Наблюдал, как в просторном этом дворе тихо, но бойко, будто в телевизоре с прикрученным звуком, разгорается новое утро.
Два водителя сошлись недалеко от него.
– Я думал, Булочник раньше тебя приедет, – сказал с улыбкой тот, у которого были щёки младенца.
– Ку-у-да там, – протянул в ответ второй. – Булочник не скоро будет. Он пока через жену перелезет, то-сё.
Они говорили, почти не жестикулируя, по привычке сдерживая голоса.
Скорым маршевым шагом, от которого подрагивали края чёрной фетровой шляпки, в ворота вошла по-борцовски коренастая, плотно сбитая женщина. Рядом с нею, трепеща хвостом и пытаясь заглянуть ей в глаза, трусила тонконогая серенькая дворняга, на которую женщина, впрочем, не обращала ни малейшего внимания.
Женщина в шляпке подошла ближе, и водители поздоровались с ней мимолетными, условными улыбками.
– Вы что, а? – на ходу бросила она водителям. – Сегодня совсем! Что ни день, прямо… – Было заметно, что она охотно дала бы волю своим чувствам, если б не обстоятельства.
– Так вышло, – весёлым шёпотом отозвался один из водителей.
– Вы б вечером так привозили, как утром привозите, – продолжила она, ни на секунду не останавливаясь, не глядя в их сторону. – Вечером вас не дождёшься.
Дворняга подождала, когда похожие на мячики икры перестали мелькать над бетонными ступенями, и скучно затрусила прочь.
Щербаков смотрел на исполосованный шинами иней, на свои ботинки, из-под которых торчала солома, на низенькую сторожку, стоящую в виду сразу двух церквей – одной для живых, другой для мёртвых. Порой вслушивался в слова, произносимые кем-нибудь рядом с ним.
Они шли курить к ограде, рассматривая одиноко стоящего Щербакова. Кто-то что-то вспоминал: «Куда положили?» Кто-то бежал в автобус, нёс это что-то, благополучно найденное под сумками. Кто-то, озябнув, втягивал голову в плечи, подносил ладони ко рту и прятал их в густом облачке пара. В неподвижном сыром воздухе звуки вырастали большими, увесистыми. Все старались говорить потише. И только немые беседовали громко, часто сопя, размахивая руками и хлопая друг дружку по плечам, чтобы привлечь внимание. Когда подъехал батюшка на стареньком «опеле», Щербаков наблюдал, как тот выходит, прижав локтем полы кожаной куртки, и одновременно пальцами подобрав рясу, чтобы не замарать.
Щербаков вздыхал, и осень холодными змейками вползала в его ноздри.
Отец любил осень. Редко говорил о чём-то, что любил. Почему? Люди ведь любят говорить о том, что они любят. Любят рыбалку – говорят о рыбалке. Любят машины – говорят про машины. Отец и на рыбалку ходил, и с «четвёркой» своей сколько возился, – и никогда не говорил об этом. А про осень – говорил? Про эту осень успел сказать что-нибудь? Нет. Точно нет. Про эту – нет. В последний раз видел его живым на фоне открытого окна – за окном огненно-рыжие листья. Интересно, что за дерево растёт у него за окном? Если не успеет в поликлинику до десяти, врачиха может уйти. Хорошо бы заскочить на рынок, купить Артёмке калины.
Сразу два автобуса подъехали к воротам.
«ПАЗики» парковались так мягко и точно, будто водители щеголяли друг перед другом своим мастерством. Открывались пассажирские двери, осторожно, чтобы не поскользнуться, сходили люди. Тех, кто были главными пассажирами в этих автобусах, крепкие парни уносили в храм.
Вернувшись, парни становились в сторонку. Старшие от каждой четвёрки подходили к родственникам усопших – у живых здесь такое название – тихими вежливыми голосами говорили примерно одно и то же:
– Наши услуги здесь заканчиваются. Обратно в автобус вы сами заносите. А возле могилы вас встретят.
Щербаков помнил всё это – с ними было так же.
Кто-то растеряно скажет:
– А у нас некому… в автобус занести.
Ему ответят:
– Это за дополнительную плату.
В какой-то момент Щербаков вдруг подумал, что ему, наверное, можно уже зайти.
Он вошёл.
В просторном помещении храма, разлинованном ближе к центру несколькими колоннами – пять гробов. Каждый на двух табуретах, в первом ряду три гроба, во втором два. Старушка, которую привезли первой – с правого от алтаря края. Ее немые родственники держат в руках незажженные свечи.
Щербаков нашел взглядом прямоугольный столик, о котором говорила ему Аня. Возле него уже стояла пара пузатых – более пузатых, чем у него, заметил Щербаков – пакетов. Из одного торчала коробка конфет. «Все-таки можно было в коробке», – расстроился он.
Подошёл к церковной лавке. Внутри сидела та строгая женщина, что несколько минут назад отчитала водителей за ранний приезд. В платке она преобразилась, выглядела благодушной деревенской тётушкой. «На работе», – подумалось Щербакову.
– Мне, пожалуйста, для панихиды… все, что нужно.
Она протянула ему в окошко небольшой листик, ручку, спросила:
– Службу стоять будете?
– Нет, не буду, – сказал Щербаков, неожиданно для себя сильно смутившись.
«Нет, стоять не буду. Не успею к врачу», – за чем-то повторил он про себя и вписал в листок имя отца.
– Это куда?
– Мне оставляйте, – она забрала листок. – Свечу какую? За десять, за тридцать, за пятьдесят?
– За тридцать. Нет, за пятьдесят.
Она протянула ему толстенькую свечку, Щербаков забрал её и, расплатившись, пошёл вглубь церкви.
«А ставить куда?» Нигде ещё не горело ни одной свечи.
Он испугался. Сейчас сделает не так, не туда поставит свечку. В голове застучало, он замедлил шаг. Немые переводили взгляд со своей старушки на него – и обратно. На него – и обратно.
Может быть, он не туда идёт? Почему они смотрят?
В самом дальнем углу церкви священник поправлял на затылке седой, перехваченный резинкой, пучок.
Спросить у него? «Батюшка, куда свечку ставить?»
Нет, конечно, не спросит. Это так – само собой подумалось. Давний, переросший в хронически невыполнимый, позыв – заговорить со священником. Так никогда и не решился. Да и где, когда? Бывал на службе в соборе. Проходил вместе со всеми цепочкой к причастию. Не заговоришь же там. Да и что сказать, о чём заговорить – никогда толком не знал. Однажды в набитом автобусе наклонился, чтобы спросить у впередистоящего: выходите? – увидел бороду, рясу в распахнутом плаще – и будто язык проглотил. Начал молча протискиваться, наткнулся на строгий взгляд.
Один из водителей, крестясь на ходу, подошёл к батюшке, шепнул ему что-то на ухо. Батюшка молча скользнул прямой ладонью по стриженной бороде – сначала сверху, потом снизу, тыльной стороной.
Щербаков подошёл туда, где оставил свой пакет. Судорожно обернулся: если не сюда – может, кто-то из немых поправит его, покажет – куда…
В церковь входили люди. Издалека вглядывались в гробы, задирая подбородки. Отыскав своих мёртвых, брели к ним почти бесшумно, будто подкрадывались. Женщины, надевшие обувь с каблуками, вышагивали по каменному полу на носочках. Возле гробов начинали шептаться, соприкасаясь головами. Немые порой одёргивали друг друга, когда, забывшись, кто-нибудь начинал изъясняться слишком размашисто.
Никто не замечал замешательства Щербакова.
Между двумя гробами в заднем ряду пустовало место – два выставленных в линейку табурета. «Будут ждать», – догадался Щербаков. Будут ждать шестого, припозднившегося. Где-то он уже едет, кивая головой на рытвинах и кочках: скоро, мол, скоро, без меня не начинайте. Ничего, его дождутся, не начнут без него.
Лежат ровнёхонько, при жизни незнакомые, случайно сведённые вместе в этом похоронном храме. Как на скамьях в зале ожидания. И образа на грубых кирпичных стенах кажутся тоже – немножко ожидающими, замершими тут на время, до того, как голос с потолка объявит, на какой им путь. Такой вот отдельный храм, только для мёртвых. Для живых – тот другой, уютный, с белыми стенами и золотыми куполами.
Запалив зажигалкой свечу, прикрыл ее ладонью от сквозняка.
Батюшка шёл к алтарю, неся над полом мягко побрякивающее кадило.
Щербаков вставил свечу в трубочку подсвечника, перекрестился, глядя на рыскающий разгорающийся огонёк, и пошёл к выходу.
Он дважды посмотрел на часы и шёл теперь быстро, время от времени поглядывая через плечо: не появится ли на дороге машина, он бы попросился до поликлиники. Воздух потеплел, наполнился горьковатым духом гниющих листьев. Солома, торчащая клочьями. Щебень. Тёмные пальцы ветвей, погружённые в молочное небо.
«Отец осень любил, – нервно повторял про себя Щербаков. – Любил осень. Я это знал. Отец, кажется, никогда мне об этом не говорил. А я откуда-то знал. Откуда-то знал».
Он нащупал ягоду у себя в кармане, вынул её и шёл, глядя, как она катается, вздрагивает у него на ладони. Во внутреннем кармане жужжал мобильник.
Пластмассовый глок
У Юры с Сашей был пистолет. Один на двоих, но совсем как настоящий. Снизу ещё фонарик прикреплён небольшой. Они прятались под лестницей в мансарду с очень серьёзными лицами. Юра подержал пистолет и протянул Саше, рукояткой вперёд. Саша принял и задрал пистолет к плечу, как в кино делают. Ларочка подошла к ним и спросила:
– Вы во что играете?
Юра схватил Ларочку за рукав и втянул под лестницу.
– Спалишь, получишь, – прошипел Саша.
Выглянул осторожно в ту сторону, где гостиная, где взрослые заперлись и включили музыку, и снова под лестницу. Саша пихнул Ларочку в бок (несильно, но всё же):
– Иди давай. Это не для тебя.
Она хотела сначала обидеться и даже пойти пожаловаться взрослым, но передумала. Всё равно Юру с Сашей никто не отругает, они могут делать всё, что захотят. Ларочка, к примеру, видела, как эти двое изрисовали из баллончиков соседский гараж какими-то непонятными буквами. И все это видели, потому что был день. Через двор шли люди – через двор к остановке удобно – и никто ничего не сказал, шли и шли, проходили мимо. Саша с Юрой написали, посмотрели, как получилось, и ушли по своим делам.
И потом, честно говоря, Ларочке стало жутко интересно. Саша с Юрой ни с кем никогда не играли. Только друг с другом. Вот и почему? Какие у них игры?
– Какой красивый, – сказала она и кивнула на пистолет. – Стреляет?
– Да тише ты, мелкая, – снова зашипел Саша. Он усмехнулся. Передразнил её: – Красивый… Понимала бы.
– Я и понимаю, – пожала плечами Ларочка, и голос такой, мол – что тут особенного. – Называется глок. Вон, написано.
Успела дотронуться. Пластмассовый всё-таки. Но с виду не скажешь.
– Стреляет?
Юра с Сашей переглянулись и, наверное, решили её пока не прогонять. Ларочка это почувствовала и попросила осторожно:
– Возьмите поиграть. Пожалуйста.
– Этого мы не можем, – сказал Саша, но уже как будто без злобы.
Ларочка – совсем без нытья, как будто не очень и хочется, у самой же есть куча всего, чем заняться:
– Почему?
А Саша гнёт своё, но объяснять не хочет:
– Потому что.
– Расскажите хоть.
Саша с Юрой переглядываться не стали, но Ларочка догадалась, что настрой у них уже изменился – расскажут, наверное. Саша прислушался к музыке и голосам из гостиной. Там пошумели немного и стихло.
– Вы туда? – поинтересовалась Ларочка, хотя и так было ясно.
– Туда, туда, – это Саша, вздохнул глубоко – не отвяжется же – и пистолет опустил.
Ларочка кивнула. Стоит спокойно, ждёт: ну всё, начал уже, давай дальше рассказывай.
– Миссия у нас.
Вот ведь как знала!
– Да? А какая?
– Уничтожить их.
И наверняка ведь – сделают и выйдут сухими из воды.
– Всех, что ли?
– Всех.
– Достали, – подтвердил Юра.
Ещё серьёзней стал.
Но и Ларочка никакая не мелкая. Отличница вообще-то и на областной олимпиаде пятое место.
– А можно вопрос? – говорит. – Один.
Саша головой качает, но видно – заинтригован: что за Ларочка подвернулась, что за вопрос у неё.
Ларочка спросила – и Юру, и Сашу сразу:
– Почему всех?
Они смотрят, улыбаются снисходительно.
А Лара им:
– Так как-то неправильно.
Тут уже их очередь настала спрашивать:
– Почему? – Юра вслух спросил, а Саша молча, всем своим видом.
– Потому что достали, да. Но разные же бывают.
– И что? – Саша пистолетом нетерпеливо дёрнул.
– Как что? – удивилась Лара. – Там могут быть хорошие. Не в смысле – так себе, а очень.
– Ну кто например?
Ларочка задумалась. Если уж называть кого, то наверняка.
– Например, Терентьевы. Или тётя Рита с дочками.
– С племянницами вообще-то, – уточнил Саша. – Они ей племянницы.
– Да, с племянницами. – Лара изображает такую послушную, что слегка даже глуповатую. – Какая разница? Или, скажем, те двое, которые на маленькой такой машинке приезжают. Которые птиц ещё держат.
– А, эти, – вспомнил Саша. – Да, держат птиц.
– Хорошо, – сказал Юра. – Ладно. Посмотрим сначала, там они или нет. Если там, отложим миссию, перенесём.
– Это как это – перенесём? – удивился Саша (и пистолетом по ноге себя похлопал: не понравилось).
– Да ладно. – Юра на пистолет покосился. – Действительно. Чего всех разом-то? Нормальных вместе со всеми.
– Так а по-другому как? Или всех, или никого. Уйти потом как? Ты же знаешь, как принято.
– А я и говорю, перенесём, если что, – сказал Юра.
Ларочка стояла и слушала внимательно. Разворачивалось, как она хотела, но мало ли что.
– Можно уточнить? – спрашивает и руку не тянет, как на уроке.
– Чего ещё? – Саша, похоже, не рад, что втянулся в разговор.
– Вы миссию перенесёте, если все они там или если хоть кто-то из них?
Юра, глядя на Сашу (согласен, нет?):
– Хоть кто-то. Так логично будет.
Саша добрее, наверное, Юры. Но и Юра не злой.
Просто вот – миссия, бывает.
Если уж «логично», то Лара знает, как должно быть.
– И можно ещё вопрос? Последний.
– Неужели последний? – съязвил Саша.
Лара сказала:
– Может же и кто-то один-единственный там оказаться. Хороший. Так тоже может быть. Сам втянулся в компанию, но сам в стороне. Бывает же.
– И кто, например, один?
– А тот, помните, который кошку с дерева снял. Как его?
– Григорий Валентинович, – кивнул Саша.
– Ну вот. Мне кажется, он очень хороший.
– Ладно, всё. И ради Григория Валентиновича твоего – отложим. Всё, довольна?
Ларочка подумала, сказала:
– Довольна. Потому что всех без разбору – это неправильно.
Но они её уже не слушали.
Саша выскользнул из-под лестницы, спиной по стенке. Нырнул за угол, в коридор. Открылась дверь – в кладовку, наверное. Потом щелчок – и свет везде погас, темнота.
Ларочка почувствовала – как ветром дунуло в темноте, Саша выпорхнул бесшумно вслед за Юрой. У двери в гостиную полыхнул свет – включился фонарик, который к пистолету приделан.
Саша заскочил – и сразу крик. Что-то грохнулось на пол – большое, и стекло звякнуло. И тут уже все закричали сумасшедшими голосами:
– Григорий Валентинович! Григорий Валентинович, что с вами! Свет включите! Что это? Кто? Дурацкие шутки! Вызывайте скорую!


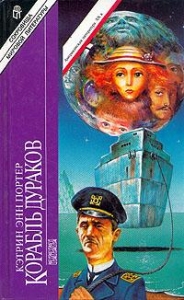

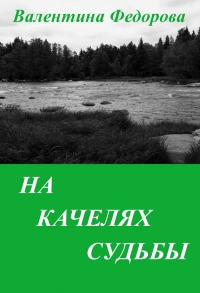
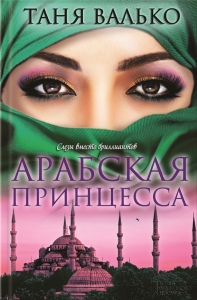

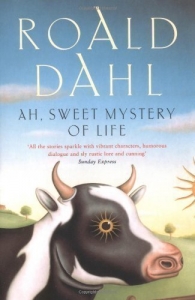


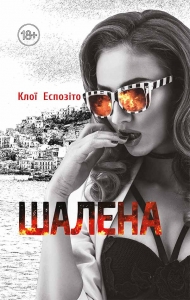


Комментарии к книге «Большие и маленькие», Денис Николаевич Гуцко
Всего 0 комментариев