Тьерри Коэн Пока ненависть не разлучила нас
Тем, кто покинул нас и оставил в наследство память.
Моим бабушкам и дедушкам: Жюли и Симону Коэн, Аарону и Якот Коэн
Моему тестю Моисею Хаджаджи
Thierry Cohen
Avant La Haine
© Editions Flammarion, Paris, 2015
© Кожевникова Е., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Э“», 2017
Пролог
Эта книга — моя, Как Марокко — короля, Если кто ее возьмет, Того дьявол унесет!Мысленно повторяю строчки смешного детского заклинания, не улавливая в них даже смысла. Наслаждаюсь ароматом давнего, забытого. Глубоко-глубоко вдыхаю, грудь наполняется теплом, боль стихает. А когда выдыхаю, горло снова перехватывает. Прошлое… Оно очнулось. Вспоминать всегда и сладко, и больно, вспоминаешь события, понимаешь, как много утекло времени.
Но почему вдруг эти четыре строчки всплыли из глубины моей памяти в этот миг?
Не понимаю.
Во всяком случае, не сразу.
«Французы — трусы! Отдали собственную страну мусульманам, как в войну нацистам! Прогнулись, пресмыкаются! Стоит показать кулак, и они уже скукожились. Пригрози — будут кланяться. Народ-коллаборационист, я всегда это говорил!»
Дан стоял, покачиваясь на носках, и говорил, рубя ладонью воздух. Потом притих и снова уселся рядом со мной. Через секунду снова вскочил и обрушил новую филиппику на французов, считая, что обличать можно только стоя, громким театральным голосом, изображая каждым движением неистовый гнев. Может быть, он хотел привлечь внимание сидящих в сторонке пассажиров, мирно дожидавшихся объявления о своем рейсе за чтением утренних газет.
Эта книга — моя…С чего вдруг эти слова, эти воспоминания?
Я уже не слышал обличений своего друга. Повернув голову, взглянул на жену: в бежевом костюме и темно-коричневых, незнакомых мне туфельках, она сидела растерянная, прижав к груди руки, и смотрела недоумевающим взглядом. Она даже не подкрасилась, и бледность выдавала ее возраст. Но как ни странно, никогда еще она не казалась мне красивее, несмотря на покрасневшие, усталые глаза. Я слышал, как сегодня ночью в ванной она плакала. Я не пошел к ней, не стал утешать. Внутри меня пустота, мне неоткуда взять сочувствие. Или вернее, меня заполонили собственные эмоции.
С тех пор, как мы решились на этот шаг, чужие чувства долетают до меня, ударяются о мою оболочку и отлетают, чтобы рассеяться, понятия не имею где. Душа у меня отяжелела и сжалась в комок, оберегая последние крохи моей энергии. Я медленно меняюсь. Помогаю себе рефлексией. Что мной руководит? Инстинкт выживания? Это он заслоняет меня от сомнений, боли, атак внешнего мира? Он отстраняет чувства, которые могут помешать мне рассмотреть будущее и принять правильное решение?
Но какое решение будет правильным?
Все последние дни я не столько жил, сколько прятался от жизни, и вот теперь сижу в аэропорту, собираясь лететь в неизвестность. Мной владеет странное неприятное ощущение, будто я наблюдаю за происходящим со стороны, будто кто-то другой принял решение о моем отъезде, собрал вещи, привез в аэропорт.
Как Марокко — короля…И вот тут-то я внезапно и вспомнил, как дедушка с бабушкой сидели рядом на пристани. Бабушка плакала. К пристани подплывал пароход.
«Ты сам видишь, Рафаэль, что ты кругом прав. Что нам делать в стране, где позволяют нападать на евреев, где боятся пальцем пошевелить, опасаясь, как бы не растревожить предместья и не „травмировать“, как они говорят, мусульман!»
Я столько раз слышал слова Дана, что могу закончить вместо него каждую его фразу. Я ограничиваюсь кивками, а сам поглядываю на сыновей. Они сидят напротив и выглядят на удивление спокойными. Дети часто хранят спокойствие, когда взрослые переживают трагедии, — насыщенный грозой воздух сковывает их, лишает подвижности, наделяет торжественностью, в которой они застывают.
Аарон делает вид, что занят своим смартфоном. Но я знаю: он ловит каждое слово из громких филиппик Дана. Аарон доискивается до смысла тех перемен, что происходят с нами в последнее время, он хочет понять, почему мы оказались здесь, в этом зале ожидания. На лбу у него морщинка тревоги.
«Они проиграли! Сдались, признали свою слабость! Знаешь, когда я это понял? Во время матча между Францией и Алжиром, когда алжирцы освистали „Марсельезу“, а французы закрыли на это глаза. У них поджилки затряслись от страха, и они проглотили то, что прощать нельзя. Газеты писали о „вполне понятном проявлении радости“. А на самом деле — о чем они написали? О том, что страна распростилась с собственной честью. Там, где люди не сумели защитить гимн, не будут защищать и страну! А уж евреев тем более!» — Рука Дана вновь рассекла воздух, и он издал саркастический смешок. Он не ждал моего мнения, он искал в своей полной обид памяти еще подтверждений, еще фактов.
Помню, меня тогда тоже больно задело попустительство властей. Я даже удивился своему яростному возмущению. Но я же чувствовал тогда себя французом. Любил свою страну. Любил свой гимн.
Если кто ее возьмет…Дедушка с бабушкой послали мне знак. Улыбались мне, хоть и невесело. Теперь я понял, что они хотят мне сказать. Вот они встали со скамейки и затерялись в толпе, поднимающейся по сходням. Как бы мне хотелось их догнать и обнять крепко-крепко. Да, сегодня я очень нуждался в чувстве уверенности.
Я знал, что Дан вовсе не испытывает той ненависти, которую так картинно выплескивает. Он исполняет ритуал, прогоняет страх, давая каждой опасности имя. Так поступают все, кто смотрит в будущее и видит там грозные тени, те же самые, что преследуют их и в ночных кошмарах.
Дан старается успокоить меня, убедить, что я сделал правильный выбор. И кто станет спорить? Все, что он говорит, оправдывает необходимость сидеть всей семьей в зале ожидания, ощупывая билеты во внутреннем кармане пиджака, оправдывает покрасневшие глаза Гислен, шрам на лбу Аарона. В конце концов, его слова пробились к моему сердцу, и оно сжалось, стеснилось. Разум подчинился велению обстоятельств, но сердце… Оно застыло неприступным бастионом с надписью «Франция».
«Франция», слово-чемодан, с ним мне и придется скитаться по свету, бережно спрятав туда воспоминания, надежды, иллюзии. В слове «Франция» — вся моя история. Мне понадобится немало времени — годы, я думаю, — прежде чем я открою этот чемодан там, где ждет меня новая жизнь. И что это будет за жизнь — без привычных слов, без имен и лиц, с которыми я сейчас расстаюсь? Без моих друзей детства? Без девушек, с которыми был знаком когда-то? Без моей бедности? А потом годов успеха? Моей женитьбы? Рождения детей? Без любимых долин, деревьев и рек, которые с жадностью влюбленного я мысленно сфотографировал?
Моя боль сродни струйке лавы. В один прекрасный день она пробьется наружу, возможно, уже остуженная подземными водами. Возможно, уже застывшая навек.
Но сейчас я не позволяю себе грустить. Я смиренно пригнул голову, стремясь пробиться вперед.
Хочу видеть один только шаг, на который продвинусь. Хочу, чтобы у моих детей было более надежное будущее.
Я ищу слова, которые помогли бы мне определиться.
Я еврей и сижу в аэропорту.
Я отец ребенка, ставшего жертвой антисемитской агрессии, которая навсегда оставит свой след у него на лице и в душе.
Я наследник вечно изгоняемых предков.
Я мужчина, но у меня так больно перехватило горло, что мне придется пойти в самолете в туалет и поплакать.
Объявляют посадку на рейс в Тель-Авив. Мы поднимаемся. Дан нас целует.
«Вот увидишь, там все будет хорошо. Это же наша страна. Скоро и я приеду».
Я стою и улыбаюсь своему другу. Главного он не знает: с моей страной я прощаюсь сейчас навсегда.
Того дьявол унесет…Дедушка с бабушкой растворились в толпе. Я остался один. Теперь мой черед. Уезжаю.
Мунир
Весь вечер я следил за противоположной стороной улицы. Стоял за занавеской и надеялся, что ничего особенного не увижу. Что отъезд всего только слух, не больше. Что тоскливая тяжесть, давящая сердце, рассосется. Неприятное, надо сказать, чувство. Порой мне до жути хотелось сказать времени «стоп» и разобраться в его подспудных течениях, которые не дают мне покоя. И вообще все остановить! Понять, почему все так получилось. Почему я прячусь за занавеской и слежу за домом Рафаэля? Почему мне хочется взвыть и комок подступает к горлу? Почему араб готов разреветься из-за отъезда еврея-сиониста?[1] Не реви, Мунир! Из-за чего реветь? Из-за того, что он был твоим другом? Глупости! Время показало, что ты ошибся. Давай, Мунир, перетряхни сундучок с воспоминаниями молодости. Выкини школу, стычки, первых девушек, первые демонстрации… Вспомни, что вас разделило, и торжествуй победу!
Часов около семи глухой шум привлек мое внимание. Я осторожно раздвинул шторы и увидел их всех. Ребятишки садились в такси, а тот, кто был моим другом, стоял неподвижно, пока шофер носил тяжелые чемоданы и укладывал их в багажник. Мне показалось, что Рафаэль почувствовал, что я рядом, он посмотрел в мою сторону, а я отступил от окна, спрятался в сумраке комнаты. Впрочем, нет, он уже заторопился и тоже сел в такси. Вот показалась его жена, худенькая, едва идет. Вышла из подъезда и обернулась на дом, подняла голову к окнам, где они жили. Она была сейчас одна-одинешенька на этой улице. Наедине со своей болью. Она зажала рот рукой, чтобы не разрыдаться. И я тоже. Я тоже зажал рот рукой, чтобы не разрыдаться и не разбудить жену.
Нет, в истории нашей дружбы ничего не говорилось о бегстве.
«Скатертью дорога!» — гаркнул один идиот в кафе, подняв рюмку, когда распространился слух об отъезде Рафаэля. Другие у стойки с воодушевлением подхватили: «Одним меньше!» Вот так отнеслись к его отъезду. Поспешный отъезд Рафаэля показался обитателям квартала слишком крутой мерой по сравнению с нападением на мальчишку. Толковали о неоправданности такого решения. Подумаешь, ударили, обидели, оскорбили! Смеялись над трусостью Рафаэля. Уехать значило сбежать. Вот тут-то я и стукнул кулаком по столу: «А ну, замолчите!» На меня посмотрели с опаской и вопросительно. В расслабляющей жаре летнего вечера не стучат кулаками.
«О какой трусости вы говорите? Уж вам-то лучше всех известно, какого мужества требует отъезд! Вы что, забыли, как плакали наши матери в день, когда мы уезжали? Как сурово стискивали зубы отцы? А как были растеряны мы сами среди плача и жалоб родни? Вспомните, как нам было страшно, когда за спиной остался берег Марокко, Алжира или Туниса и мы видели перед собой одно необозримое море. И все-таки мы уезжали, и, возможно, даже без таких драматических причин. Уезжать, потому что чувствуешь угрозу, потому что посягнули на твою плоть и кровь, совсем не трусость. Трусы мы! Если бы мы боролись с тем дерьмом, которым набивают головы наших мальчишек „просветленные“, мы бы не оказались там, где сейчас! Вы все понимаете, о чем я говорю! Если бы я мог остановить время и найти настоящие слова. Если бы каждый из нас не впустил в себя ненависть, которая развела нас так далеко!»
Я поднял стул и ударил им об пол — жест бессмысленный, театральный. И ушел.
Мы с Рафаэлем назвали наши отношения «дружбой», и до поры до времени ничего этому не противоречило. Похоже, мы с ним не ошибались. Похоже, так оно и было: мы дружили. Но приблизительность всегда коварна. Она ненадежна и неустойчива, она искажает реальность.
И что теперь делать? Попытаться догнать Рафаэля? Поговорить с ним? Вернуть?
Слишком поздно. Он наверняка уже сидит в самолете.
А что я хотел бы сказать ему? Что тоскую о тех временах, когда мы были мальчишками и когда подружились — два маленьких чужака во Франции? Временах, когда мы еще не стали иудеем и мусульманином? Что мы могли бы опять стать близки, вспомнив дружбу, с которой выросли?
Почему мне хочется сказать это? Почему хочется снова дружить с Рафаэлем? Да, Мунир, перестань стесняться и признай, что ты никогда не терял надежды вернуть вашу дружбу. Ты никогда не испытывал ненависти к Рафаэлю, ты ненавидел трещину в ваших отношениях, которая вас развела. Ты обижался, что он не направил всю силу дружбы на желание понять тебя. Ты не уставал надеяться, что он придет к тебе, сядет рядом и скажет: «Давай, брат, разберемся. Объясни мне спокойно, что происходит. Говори со мной, как с другом. Я не могу согласиться с тем, что вижу, но хорошо тебя знаю и уверен, ты не хочешь плохого».
А сам я когда-нибудь попытался с ним так поговорить? Нет. Такое желание вспыхивало во мне после приступа гнева, но я ни разу не последовал ему. А что, если сейчас пришло время для такого разговора? Да, именно сегодня, сейчас, когда друг уехал и мне осталась болезненная неразбериха. Вот теперь и стоит вглядеться в прошлое, перебрать день за днем, снова пережить каждый. Надо вспомнить пережитое, случаи и события, которые сделали нас такими, какие мы есть. Давай взвесим наши чувства, сложим, подытожим, уравновесим коэффициентом рассудка. Давай совершим путешествие в прошлое и попытаемся понять, когда случилась эта беда. Что сделало нас другими, не такими, какими мы были в детстве и какими надеялись стать?
Попытаемся понять, когда и как зародилась ненависть.
Рафаэль
С билетами в руках мы медленно приближались к стюардессе. Шаг, и еще, и еще. Мы шли гуськом. Продвигались еле-еле. Где-то глубоко внутри нас гнездился страх. И моя судьба предстала передо мной в образе печального клоуна. Он растянул губы в улыбке, протянул мне руки. В правой руке у него колода карт, в левой — мое удостоверение личности. Вот он вложил карточку в колоду, ловко перетасовал и показал мне. Фокус-покус, нет никакого удостоверения. Клоун-маг пожал плечами и сделал огорченную гримасу: проиграл! Ничего не поделаешь!
Я что, брежу? Нет, превращаю чувства в картинки, растравливаю боль. Мне нужно страдание, я хочу всерьез почувствовать, чем плачу за свой отъезд, хочу заплатить наличными.
Сколько было споров, ожесточенных дискуссий, идей, обязательств, надежд… И все впустую? Да, все впустую. Часть моей жизни лишилась смысла. Знакомство с Францией, студенческие выступления, борьба против крайне правых, победа Миттерана, борьба с расизмом. Выбросить все. Уехать налегке.
Выделить, переместить в корзину. Освободить корзину.
Папка Мунир Басри: выделить, переместить в корзину, потом очистить ее.
Допущена ошибка: папка не может быть уничтожена, она продолжает использоваться.
Неужели продолжает?
Да, этот человек связан со мной неразрывно, с моими радостями, с моими бедами. Но если я не могу его забыть, значит, не могу забыть ничего.
Продолжает использоваться?
Да, это так. В последние дни мне то и дело представлялось лицо Мунира. Как бы я хотел поговорить с ним! С худшим из друзей, с лучшим из врагов.
Что он думает о случившемся? Меня интересует мнение не ангажированного француза-мусульманина, а мнение друга, каким он был для меня. Нужно ли нам уезжать? Только он мог меня успокоить.
Как же мне хотелось позвонить ему в дверь, попросить прощения за нашу ссору. Или просто с ним попрощаться. Но теперь нас отделяет так много от тех, какими мы когда-то были.
И через несколько часов разделят еще и тысячи километров.
Часть 1 Детство
1. Твое место во Франции
Рафаэль
История начиналась так…
Люди часто путают воспоминание и фотокарточку из альбома, собственные истории с историями семейных рассказчиков. Кому на самом деле принадлежат воспоминания о первом шаге, первом зубе, первом ушибе? Кое-кто оставляет за собой способность помнить себя с ранних лет. Но я совсем не уверен, что помнятся именно шаги и зубы.
Я постараюсь держаться фактов: событий, которые меня сформировали, послужили опорными точками на жизненном пути. Постараюсь быть точным и объективным. Сегодняшний взрослый передаст слово ребенку и подростку. Возможно, он подменит слова, но не исказит истины.
И как начало я выбираю бесконечно важный для меня день, день моего поступления в школу. Тот самый день, когда я под диктовку дедушки писал на учебниках магическое заклинание, отпугивающее воров:
Эта книга — моя, Как Марокко — короля, Если кто ее возьмет, Того дьявол унесет.Потому что я так ясно это помню.
Потому вспомнил об этом в день отъезда.
Потому что это хорошее начало моей истории.
Мне шесть лет. Высунув язык, я тружусь над буквами, выводя их прямо под названием, прижимая растопыренной рукой титульный лист. Дед сидит со мной рядом. Он с нарочитой серьезностью следит, как я вывожу буквы, сражаясь с моей детской небрежностью. Ему хочется придать «обряду» торжественность, которая откроет мне всю важность этого момента — момента передачи ценностей. Он склонился над моим плечом, диктует, медленно повторяет слова. Я вдыхаю запахи одеколона и его стариковской кожи.
Но сначала он написал на листке бумаги все четыре строчки, чтобы я мог их скопировать. Мама научила меня списывать из букваря буквы, надеясь, что это умение даст мне преимущество перед моими будущими школьными товарищами.
— То-го дья-вол у-не-сет, — ласково повторяет дед.
И я чувствую, но не умом, несоответствие тона и смысла. Дьявол далек от ласки, от яркого солнечного дня, его место в ночных кошмарах. Дьявол, да? Я прекращаю писать и набираю побольше воздуха.
— Пиши, малыш.
И вот я написал последнюю букву, и дедушка улыбнулся. Я счастлив. Он так редко улыбается.
Мама входит к нам в комнату.
Дед, ее отец, встает — ему неприятно вторжение, мешающее нашей уединенной близости, он бы хотел, чтобы мы сидели так вечно. Но потом он смиряется: счастье — залетная птица, оно из страны мечты. На короткий миг он понадеялся совместить оба мира: реальность, из которой выбыл, и мир теней, в котором жил теперь.
Мама говорит, что ищет брошку. Говорит не для того, чтобы объяснить, почему к нам вошла, а надеясь, что брошка отзовется. Мама всегда что-то ищет, спеша мелкими торопливыми шажками по комнатам и тихо что-то приговаривая. Она очень миниатюрная, очень красивая, у нее блестящие вьющиеся волосы, и они летят за ней, желая ее догнать. Она замечает мою довольную рожицу. Я ничуть не сомневаюсь, что она тоже будет счастлива моим подвигом. Ее глаза опускаются на открытую передо мной книгу. Дедушка застыл в неподвижности. Он снова в своих далеких мирах, и его не будет со мной, когда разразится скандал.
— Что это ты делаешь? — спрашивает мама, и по ее голосу мне уже понятно, что она успела догадаться, что я делаю.
Она подходит, берет учебник, и в глазах у нее вспыхивает ужас и отчаяние.
— Так вот оно что! Ты портишь свои книги?! — кричит она так, словно я зарезал собственного брата.
Дедушка отдаляется от действительности еще на несколько сантиметров.
Мама поворачивается к нему. Она знает, что виноват он, и, кипя гневом, открывает рот, забывая о дочернем почтении, но благородная осанка отца принуждает ее к некоторой сдержанности.
— Как ты мог? Ты понимаешь, что ты наделал? Это же его учебники! Что подумает его учительница? Ты хочешь, чтобы с первого дня он оказался у всех на виду, чтобы его считали маленьким марокканцем? Но мы уже не в Марокко, папа! Ты больше не работаешь в порту в Касабланке! Уже три года, как мы оттуда уехали. Их король не наш король!
Дедушка смущенно смотрит на дочь. Он ненавидит ссоры. Он поворачивается к маме спиной, делает несколько шагов и медленно усаживается в свое красное плюшевое кресло напротив окна.
Мама, не выпуская из рук книгу, продолжает упреки и жалобы, но дедушка ее не слышит. Он не понимает той жизни, которую она описывает и к которой стремится. Он понятия о ней не имеет. Он видит перед собой волнующуюся синеву, видит, как к пирсу подплывает торговое судно. Сейчас начнется разгрузка, крики, тяжести, пот. Одним словом, жизнь. Лицо дедушки смягчается.
Мунир
Начало нашей жизни во Франции навсегда связалось у меня с черными злобными глазами, светлыми волосами цвета паленой соломы, белой кожей с красными прожилками и ртом, искаженным ненавистью.
У каждого из нас затаилась в глубине души память о каком-то злобном существе. Злодее. Бандите, который преследовал нас в детских ночных кошмарах. О чудище, прячущемся в темноте и готовом нас растерзать. Кто, как не оно, шевелило на окне занавески, это его тень медленно ползла на стене. Случайный встречный, испугавший нас, а может быть, герой фильма становились живым воплощением нашего ужаса.
Мой ужас хранится в архиве памяти под этикеткой «Первое французское лицо». Стоит мне услышать недоброе слово, мозг дает опасливый клик, и оно выскакивает, как выскакивает гифка. Это лицо наклоняется надо мной, кривит рот и повторяет одни и те же слова: «Грязный араб!»
* * *
Мы только что сошли с парохода в Марселе. Папа судорожно подтаскивает к нам чемоданы. Нас с братом крепко держат за рубашки, чтобы не потерялись в толпе.
Дорога была долгой и трудной. Честно сказать, я даже не знаю, сколько мы плыли. Время на пароходе кажется тягучим и жарким, и даже морским брызгам его не освежить. Лица вокруг сумрачные, тревожные. Встречаясь глазами, люди ищут поддержки и тепла. Правильно ли мы сделали, что уехали? Как нас примут во Франции? Будет ли у нас кров? Будет ли хлеб? Мама время от времени смахивала слезу оранжевой от хны ладонью. Муж не должен видеть ее печали. Она не имеет права класть на его сердце камень своего горя. И муж делал вид, что ничего не видит, он глаз не отрывал от синей глади, которую с победительной яростью вспарывал пароход.
Мне кажется, что мы даже не разговаривали. Какие слова могли передать зыбь страха и надежды, на которой мы качались.
Когда появился берег Франции, губы тронула улыбка.
— Папа, это Франция, да?
Я постарался засиять от радости. Выразить восхищение. Отец кивнул и потрепал меня по голове. Он тоже улыбнулся.
Отец, весь в поту, судорожно оглядывает пристань в поисках хоть какого-то указателя. И мы по его примеру смотрим во все стороны, широко открыв глаза.
Франция!
К нам подходит носильщик, недовольно смотрит на нас маленькими черными глазками. У него светлые грязные волосы, лицо в красных прожилках, а губы сложены для плевка.
— Эй, ты! Нужна помощь?
Сразу чувствуется, что помогать ему вовсе не хочется. И поэтому он сразу обращается к отцу на «ты».
Отец улыбается ему и поднимает руку.
— Нет спасибо, вы очень любезны.
Наш папа, он что, не понял, что перед ним носильщик? Он вовсе не любезен, он предлагает услугу за плату!
— Ну и как ты поволочешь свои чемоданы?! — продолжает все так же враждебно носильщик.
Отец пожимает плечами и отвечает по-прежнему с улыбкой:
— Ничего, как-нибудь справимся. Спасибо вам большое.
Думаю, что с этого дня я возненавидел приправленную сиропом униженность отца. Большинство эмигрантов его поколения считали своим долгом именно так разговаривать с французами: опустив голову и плечи, согнув спину, чуть ли не делая реверанс.
— Черт бы вас побрал! И зачем мы связались с такими нищебродами! Грязный араб!
И в следующую секунду носильщик избавился от плевка, который приготовил давным-давно.
Брови у отца сдвинулись, он уставился на хамское мокрое пятно у своих ног, а губы его еще хранили застенчивую улыбку. Потом он выпрямился, взял чемоданы и повернулся к жене.
— Hada mahboul… Zid, zid… Пошли!
Мы должны были сесть на поезд, чтобы ехать в Лион, где нас ждал дядя Али, он помогал нам во всех перипетиях переезда.
Отец поспешно внес наши вещи в вагон, искоса наблюдая за носильщиками, толкавшими тележки. Он пристроил чемоданы в коридоре и показал маме рукой, чтобы она села на самый большой.
— Папа! В кабинках есть места!
Я был счастлив своим открытием, улыбнулся отцу и показал на пустое купе.
Мама взглянула на мужа — решения принимал он.
Отец не обратил на мой палец никакого внимания, он еще раз проверил, все ли чемоданы на месте.
Но я продолжал настаивать:
— Папа! Да посмотри же! Там свободно!
Отец посмотрел на меня, приложил палец к губам, прося замолчать, а потом показал рукой на чемоданы, мол, нам и здесь хорошо.
— Но ведь…
Продолжать мне не пришлось.
— Ewa safe! Scout! — воскликнула мама.
Папа вовсе не стремился оказаться на виду. Но мы остались в коридоре и загромоздили проход. Когда очередной пассажир протискивался мимо нас, отец смотрел на него с застенчивой улыбкой, бормотал слова извинения, поднимал нас, склонял голову, а люди недоумевали или сердились, что мы расположились здесь, когда есть свободные места.
Появился контролер.
— Нельзя сидеть в коридоре! Есть же места! Занимайте! Занимайте!
Отец поблагодарил служащего в униформе и лихорадочно принялся переносить чемоданы. Потом уселся на скамейке. Доброжелательность контролера искупила в его глазах все наши неудобства, униженную вежливость.
Он устроил маму, посадил Тарика к себе на колени. А я уселся у окна, радуясь, что могу полюбоваться незнакомой страной. Отец окликнул меня и, мотнув головой, приказал отправиться обратно в коридор. Что я о себе возомнил? Как посмел злоупотреблять оказанным гостеприимством? Неужели посмел хоть на секунду вообразить, что доброта контролера распространяется и на ребятню?
Рафаэль
Вот уже больше двух часов мы странствуем по магазинам на улице Репюблик.
Мама выбирает одежду, в которой я пойду в школу. Она вся на нервах, взвинчена до ужаса — что ни говори, дело-то крайне ответственное. Через несколько дней начнется моя — и отчасти ее тоже — новая жизнь. Мы не должны упустить ни одного шанса, выходя на сцену, где нас ждет успех. В моих способностях мама не сомневается ни секунды. Я же самый красивый, самый умный, самый… и дальше торопятся слова, которые шепчет мне только мама. Любовные слова, об этом мне говорят ее взгляд и улыбка. И если бы я доверился только звучанию, то подумал бы, что она творит магическое заклинание: «Memsi kpara mdoura yana rlek». Как ни старается мама стать француженкой, арабский, вернее, еврейско-арабский остается для нее языком, на котором она выражает свою любовь. И свое недовольство тоже.
Сейчас ей скорее хочется закатить мне пощечину. Мое нытье и полное равнодушие к ее стараниям бесят ее до крайности.
— Я не шучу, Рафаэль, если ты еще раз мне скажешь, что устал, проголодался или не знаю, что еще, мы тут же отправляемся домой, и завтра ты идешь в школу хуже нищего!
«Даже в туалет нельзя?» — хочу я ее спросить. Но не спрашиваю, чтобы не почувствовать у себя на щеке ее маленькую ручку. Мама переходит от ласковых слов к пощечинам с такой быстротой, что я не успеваю увернуться. И с той же скоростью она переходит от поучений к натянутой улыбке, переступая порог очередного магазина.
— Здравствуйте, мадам. Я могу вам чем-то помочь?
— Да, но не мне, моему сыну, — отвечает мама и гордо показывает меня продавщице.
— Какой славный мальчик! И что нужно этому славному мальчику?
Нам попалась добрая продавщица.
Мама пристально смотрит мне в глаза и еще шире улыбается. Чего она от меня хочет? Ждет, что я взаправду скажу, что мне надо? Но она же знает, что я рта не открою. Я стеснительный. Заикаюсь. И вообще, не разбираюсь ни в какой одежде. Я думаю, что мама ждет чуда. Ей бы очень хотелось, чтобы я открыл рот и заговорил, как говорят мальчики в телевизоре, в рекламе или в кино. Выдал бы какую-нибудь прочувствованную сентенцию голосом маленького гения. Я был бы рад ее порадовать, но знаю, что буквы «р» сейчас же начнут путаться с «п», перепутаются все носовые, и в конце концов ей будет за меня только стыдно. Так что я, как обычно, только улыбаюсь.
— Как хорошо ты улыбнулся, сынок. Знаете, он так хорошо улыбается, мадам. У него такие умные глазки! Нам нужна пара носков для самого аккуратного, образцового школьника!
Продавщица и в самом деле оказалась очень доброй.
Мунир
— Вот увидишь, здесь хорошо, — сказал дядя Али. — Здесь живут евреи.
Для моих родителей присутствие евреев было гарантией благополучия и залогом добрососедских отношений с французами. В Касабланке евреи жили в богатых кварталах, среди французов, у них это получалось. Они работали с французами, торговали, не жалели времени, чтобы стать на них похожими, и почти от них не отличались. А вот это самое «почти» сближало их с нами. В него входили клише культурных, религиозных и бытовых навыков, от которых не получилось отказаться. Сблизившиеся делились на «недо» и «чересчур». На «недо» плохо сидели пиджаки, на рубашках могли быть пятна, брюки съезжали, и они немилосердно коверкали «язык Мольера». «Чересчуры» были подчеркнуто хорошо одеты, ходили с прямой спиной, высоко вздергивали подбородок, полуприкрывали глаза и не жестикулировали, но не могли избавиться от акцента, который неуклюже пытались компенсировать устаревшими жаргонными словечками.
Может, евреи и не хотят этого признать, но у нас с ними много общего. Мы говорим на одном языке, слушаем одинаковую музыку, у нас одинаковые кулинарные пристрастия. Наши отношения — парадокс, в них переплетаются привязанность и страх, уважение и недоверие. Но наше сходство сильнее всего остального.
В общем, известие о евреях, живущих в этом квартале, было отличным. Хотя сам квартал Оливье-де-Серр показался нам очень унылым. Он состоял из семи рядов темных домов, и не сказать, что повсюду возле подъездов очень было чисто. Мы с братом не заметили ни одной площадки, где могли бы играть. Проходы повсюду узкие, дома обветшалые. У домов в центре Касабланки был совсем другой вид. Хотя надо сказать, мы были совсем не в центре Лиона, а в Виллербане, его ближайшем предместье. Да и в Марокко, если говорить откровенно, мы жили вовсе не на красивых улицах Касабланки, а в нескольких километрах от города, в деревеньке, где точно так же теснились не похожие на эти дома. Но все там было гораздо доброжелательнее.
В квартире три комнаты и кухня.
— Придется вам потерпеть какое-то время. Думаю, через несколько месяцев сможете снять и побольше, — сказал дядя Али.
Он прекрасно знал, что при нашей неустроенности эти три комнаты для моих родителей — просто находка, но ему хотелось отделить прошлое от настоящего, подчеркнуть, как выгодно положение эмигранта.
Мы шагали за ним следом в полном восторге.
— Пойдемте на балкон. Взгляните вниз, видите? Мясная лавка. Она кошерная[2], так что проблем не будет. И халяльные[3] продукты есть… Согласитесь, лучше не бывает. Рядом овощная лавка, но фрукты и овощи лучше покупать на рынке. Там и выбор больше, и цены ниже. Рынок недалеко, на площади Гранклеман (мои родители будут называть ее «Гронклемон»). Школа для ребят за этим домом. Называется Жюль-Перри или Ферри, не помню. Мунир пойдет осенью в школу. Он же у нас большой! А Тарик в детский сад. Их надо записать как можно скорее. Начало занятий не за горами. Но вы не беспокойтесь. Здесь с этим нет проблем. Завтра пойдем в мэрию и все уладим.
Когда я узнал, что пойду во французскую школу, мне стало нехорошо. Как там меня примут? Что скажут? Заметят мой акцент? Ладно, по-французски я говорю хорошо, но это по сравнению с моими дружками-марокканцами. А тут может выясниться, что я делаю ужасные ошибки и исправить их уже невозможно!
Мне захотелось выскочить и побегать, избавиться от напряжения и страха. Я подал знак Тарику, и мы с ним побежали на улицу.
У подъезда стояли и разговаривали несколько арабов, они нам улыбнулись. Алжирцы. Папа недолюбливал алжирцев. Называл забияками. Их арабский тоже отличался от нашего, они говорят жестче и быстрее, поэтому со стороны и кажется, что они ругаются и ссорятся.
Ватага ребят спорила вокруг мяча. Они посмотрели на нас, подождали, пока мы подойдем.
— Сгоняем в фут? По-швейцарски?
В недоумении я взглянул на Тарика.
Что значит — «сгоняем»? Почему не сказать — «давайте поиграем в футбол»? И что значит «по-швейцарски»? Алжирцы, они и есть алжирцы! У них все не как у людей!
Но времени на размышления не осталось. Мяч уже подкатился к моим ногам. Ну сейчас я им покажу, как умеет играть марокканец!
Рафаэль
Это был важный день. Настолько важный, что мама не пошла на работу.
Она суетилась, бегала туда-обратно, из спальни в ванную, из ванной в спальню, то в испуге, то в эйфории. А я неподвижно стоял перед зеркалом.
Это меня она одевала, причесывала и давала советы. Наставляла. Предостерегала.
— Имей в виду, я на тебя рассчитываю, ты должен показать, что ты воспитанный мальчик. Я тебе уже говорила: очень многое зависит от впечатления, которое ты произведешь на учительницу. Сегодня решающий день. Ты идешь в школу! Нет, ты можешь себе представить? Сегодня начинается твоя жизнь! Как же я горжусь тобой!
Мама застыла на месте и посмотрела на меня.
— До чего хорош! Просто плакать хочется!
Мама плачет по любому поводу. От песни про любовь, от романа в газете, от поцелуя в щеку, от неудачной прически, от подгоревшего жаркого.
Я не уверен, что я так уж хорош, как она говорит, но мне это безразлично. Я в бермудах и клетчатой рубашке. У меня красивые коричневые ботинки и белые-пребелые носки почти до самых колен. Костюм для меня настолько непривычный, что я воздерживаюсь от какого-либо мнения.
Мама торжественно протягивает мне темно-синий школьный халат и помогает надеть его с такой осторожностью, что мне начинает казаться, будто нейлон — очень хлипкая материя.
— Я с таким трудом нашла его! Мне так хотелось, чтобы ты носил настоящий школьный халат, как все французские школьники. В Марокко такие носили только ученики самых богатых закрытых школ.
И зачем она потратила столько времени на мое одевание, если закрыла мои бермуды халатом?
Жюльен проходит мимо нас, он давно уже оделся. Остановившись, он взглянул на мое отражение в зеркале и пожал плечами. Ему не нравится, что сегодня я на первых ролях. Его поступление в эколь матернель[4] обставлено совсем не так торжественно. Для мамы эта школа тот же детский сад, ну, может быть, чуть получше. Настоящая школа — это там, где учат чтению, арифметике и всем другим наукам, открывая дорогу в будущее. А сад есть сад, и Жюльену приходится довольствоваться моей старой одежкой.
— А где мой халат? — начинает он плаксиво.
Мама разворачивает красный халатик и натягивает на него.
— А почему не синий, как у Рафаэля?
Мама не отвечает, она устремляется в спальню к нашему младшему братцу Оливье, ему два года, и он еще не принимает участия в наших разговорах.
— А что написано у тебя на халате? — спрашивает Жюльен.
Я только что спрашивал об этом маму, и она мне гордо ответила: «Жан де Лафонтен. Знаменитый писатель. Вы обязательно будете учить его басни».
— Имя одного футболиста.
— Надо же!
Жюльен под впечатлением.
— Классного?
— Ага. Жюст Фонтен. Команда Реймса. Он там лучший.
Брат наклоняет голову и смотрит на свой халат.
— А на моем что написано?
— Реклама. Порошок для чистки тубзиков.
Жюльен посмотрел на меня с ужасом.
— Мама!!! — отчаянно завопил он.
— Успокойся! Я пошутил. Откуда мне знать, что там написано, дурачок! Я же только сегодня пойду в школу.
Пора выходить.
По дороге мама, кокетливая и горделивая молодая женщина, улыбается прохожим, которые на нее и не смотрят. А ей, ослепленной своим волнением, кажется, что весь мир понимает важность этого дня, что он в восхищении от ее трудов. Она потихоньку дает мне последние советы, то и дело проводя рукой по моим волосам, чтобы пригладить воображаемый вихор. Мы с Жюльеном шагаем по обеим сторонам коляски, из которой Оливье созерцает движение облаков.
Перед школой мама берет меня за плечи, поворачивает к себе, оглядывает, все ли в порядке. Хочет поцеловать, но не целует — боится испачкать помадой — и просто прижимает к себе и стоит, закрыв глаза. Потом искоса оглядывает других ребят, исподволь отмечая, как одеты они сами и как их мамы.
Я вхожу во двор под арку и чувствую спиной мамин гордый взгляд.
Мунир
Папа купил нам ранец и принес «обновки из секонд-хенда», так он сказал, вернувшись из странствия по площади Дю Пон.
Площадь Дю Пон. Оазис посреди городской пустыни. Мусульмане встречаются там с друзьями, останавливаются, рассказывают о работе, квартире, надеждах, разочарованиях. Иной раз появляется там новичок. Бредет с растерянным взглядом, неуверенной улыбкой. Как ему хочется встретить знакомое лицо, увидеть односельчанина, соседа по дому. Завсегдатаи присматриваются к нему. Вспоминают себя: и они были так же растеряны, не уверены в себе, сбиты с толку. И старожилы не оставляют новичка блуждать в одиночестве. Присущее им гостеприимство, солидарность земляков в чужой стране заставляют их окликнуть новичка. И вот его уже втянули в разговор, угостили чашечкой кофе.
На площади Дю Пон можно все продать, все купить, все рассказать и помечтать о чем хочешь. Здесь предложат пару кроссовок и вполне еще сносные брюки, там гору носков, а дальше несколько платьев на любую фигуру. И еще множество всяких мелочей, купленных дешево оптом, так сказать, «с грузовика», тоже, как все остальные товары, разложенных на земле.
Папу, когда он впервые оказался на площади, приняли тепло. Он с большим удовольствием нам рассказывал, с какими «солидными» людьми он там познакомился, и даже встретил друга-марокканца.
Мама выстирала и отгладила наши «обновки»: темно-синие хлопчатобумажные шорты, белые рубашки. К ним еще куплены туфли на каучуке и школьные халаты. Мы с Тариком смотрим на себя, пытаясь понять, как нас изменили новые костюмы. В Касабланке так ходили маленькие французы.
Мама приготовила нам сытный завтрак. Обычно нам хватало пиалы какао с набухшими в ней кусочками вчерашнего хлеба. Мне вообще по утрам есть не хочется. Но сегодня не стоит капризничать, это точно. Мама постаралась, накрыла особенный завтрак: купила свежий хлеб, нарезала его большими ломтями, щедро намазала маслом, а потом конфитюром. Рядом с пиалами стояли стаканы с апельсиновым соком. Мы с Тариком смотрели на это пиршество, не отваживаясь сказать ни слова. Мы молчали, а в нас просыпался аппетит. Два маленьких француза сейчас сытно позавтракают, а потом отправятся в школу. Как же мне хочется этого хлеба, этого конфитюра, этой новой жизни, которая вот-вот начнется! Хочется стать французом.
Мама улыбнулась, довольная, что мы такие нарядные. Но когда мы подошли к столу, нахмурилась, словно вспомнила о чем-то страшно важном.
— Ну и ну! Какую мы сделали глупость! Вы же сейчас все испачкаете! А ну снимайте рубашки!
Папа согласно закивал головой.
— Zid! Zid!
— Давайте мы вокруг шеи повяжем салфетки! — жалобно предложил Тарик.
— Никаких разговоров!
И вот мы уже в трусах и тапках сидим в кухне на табуретках.
Школьники-французы тоже завтракают в трусах? Что-то мне это не нравится.
Даже аппетит пропал.
Мы подходим к школе. Мама в панике. Она теряется, видя перед собой нарядных светлокожих женщин. Остановившись вдалеке от входа, она принимается искать кого-то глазами. Увидев группу арабок из нашего квартала, направляется к ним. Ее приняли с распростертыми объятиями, но разговор здесь ведется тише, чем на улице возле нашего дома. Все эти женщины чувствуют здесь себя скованно. Одежда, акцент, родной язык отличают их от местных. Женщины гладят нас по головам, хвалят маму за наши костюмы. Рядом с мамами стоят сыновья и дочки и тоже смотрят на нас. Кое-кого из мальчиков я уже знаю, мы вместе играем в футбол, встречаемся на улице.
До меня доносится голос, усиленный мегафоном: детей просят подойти к входу в школу. Страх скрутил мне кишки. Чего я боюсь?
Рафаэль
В мегафон нам читают список, мы слушаем. Бетонные стены дворика отзываются эхом, которое тонет в нашем гомоне. Маме то и дело чудится мое имя. Когда его наконец произносят, она вздрагивает и ведет меня к указанному месту. Я вижу, что она пытается встретиться взглядом с учительницей, но та занята наведением порядка. Учительница будет учить нас чтению, письму, счету и, похоже, очень хорошо понимает, какая она важная. Сухопарая, с острыми чертами лица, с прямой спиной. Она смотрит на нас критически, готовая каждому сделать замечание за недисциплинированность. Я ее опасаюсь, почти боюсь. Подняв голову, принимаю вид бодрого солдатика.
Мама меня одобряет. Поправляет воротник куртки, гладит по щеке. Но я не знаю, готова она расплакаться или рассмеяться. Лично мне хочется больше плакать. Жюльен улыбается мне, я ему тоже.
Перед тем как войти в класс, учительница просит нас снять куртки и повесить их на вешалку. Мы входим в большую комнату, где пахнет пластиком и моющим порошком. Учительница велит нам выбрать себе парту и встать возле нее, поставив у ног ранец.
Я выбрал место в глубине класса. Строгие светлые глаза учительницы обежали ряды и остановились на мне.
Она подходит ко мне, улыбаясь. Улыбка у нее благожелательная, но чуть-чуть насмешливая.
— Вижу, что не всем родителям сообщили о переменах. Скажи маме, что халаты теперь не обязательны. Ты можешь ходить в нем, если нравится, но в школе их больше не требуют.
Вокруг меня раздается тоненький смешок. Я оборачиваюсь и вижу щекастого паренька, чей безгубый рот с острыми зубами растянут в улыбке. Смотрю на других ребят и вижу, что все они в обычной одежде. Во рту у меня пересыхает, перед глазами плывут пятна, мне кажется, что моя голова буквально набухает от стыда. Как же я смешон в своем синем халате, с косым пробором и в белых носках.
— Это и к тебе относится! — продолжает учительница.
Слева от меня, через три ряда, мальчик поднял голову, словно давая молчаливый отпор насмешкам.
— Похоже, что в Северной Африке школьные правила не менялись, — предательски усмехается учительница.
И снова слышится смех. Кто-то смеется громче других — тот же парень со злобным взглядом.
Нас, новоявленных французов, сразу вывели на чистую воду. Мы заложники гражданства, французы, но не такие, как настоящие. Слишком старательно одеваемся, улыбаемся, подделываемся и выглядим карикатурами. Одним словом, Северная Африка…
Я мало что помню о Марокко, но Марокко меня выдает.
Через две минуты, во время переклички, я узнаю, что весельчака-идиота зовут Александр Бланшар, а второго североафриканца — Мунир Басри. Когда я отвечаю «здесь», он поворачивает голову, и наши взгляды встречаются.
В первую секунду мы друг друга ненавидим. Друг в друге мы видим отражение своего стыда и унижения, но, закончив короткий молчаливый разговор, понимаем, что между нами установилась связь. Независимо друг от друга мы жили похожей жизнью, и теперь наши дороги пересеклись. На перекрестке начальник сразу же потребовал от нас документы.
Прожито всего только шесть лет, а за спиной уже прошлое.
2. Взгляд со стороны
Мунир
Я выбрал себе место в третьем ряду и стал рассматривать одноклассников. Придумывал, как они живут, представлял, какие у них папа, мама, квартира, собака или кошка. Разглядывал, кто как одет, кто как себя ведет, подмечал что-то особенное и старался заглянуть в их жизнь. Обычно с симпатией, изредка без, смотря по обстоятельствам и настроению. Таким образом я общался с Францией.
Самая прекрасная жизнь придумалась у меня для мальчика по имени Франсуа. Он всегда был хорошо одет, красиво причесан и отлично учился. Ранец, мешок для обуви, одежда — все говорило, что он и есть маленький француз, любимый и балованный. И мне становилось стыдно, что я за ним слежу. Что он обо мне подумает? Что подумает о моих носках, которые вечно съезжают, линялых бермудах, поцарапанных ботинках? Я искал в его взгляде насмешки или жалость. Но нет, он смотрел весело и доброжелательно.
Я видел его дом, окруженный красивым зеленым садом. Отец у него высокий, худой, живой и любезный. Он целый день на работе, а когда приходит вечером, вешает плащ и ставит портфель с бумагами. Потом целует жену, садится на диван и берет в руки красивый журнал. Жена ему ласково улыбается. У Франсуа красивая мама. Даже очень. Ходит в сером костюме, а когда садится, красиво скрещивает ноги. Потом отец подходит к Франсуа, заглядывает к нему в тетрадку, проверяет домашнее задание, объясняет непонятное, гладит по голове. Они смеются. А потом все вместе садятся ужинать. На тарелках у них что-то очень вкусное, и они ведут серьезный разговор об очень серьезных вещах.
Потом мама садится на край кровати любимого сыночка и рассказывает ему разные истории. Глаза у Франсуа закрываются. Она его целует, поправляет простыню и тихо выходит. Вот так в моем воображении живет Франсуа. Ничего особенного, я знаю, но мне такая жизнь нравится больше всего. Клише за клише, согретые ровным семейным теплом. Фантазия, а точь-в-точь соответствует реальности. Соответствует Франсуа — поведению, одежде, спокойствию, с каким он смотрит.
Когда я сообщил родителям, чем занимается отец Франсуа, они с уважительным восхищением покачали головами. Я вообще-то немного преувеличил. Повысил его отца в должности. Я знал, что тот работает в банке, и сделал его директором, чтобы доставить маме и папе удовольствие. Подумать только, их сын учится в одном классе с сыном директора банка! Ничего не скажешь, дядя Али выбрал очень хороший квартал! Надо сказать, что у нас в доме считается, что директор банка — самая благородная в мире профессия. Вы только представьте, каким надо быть замечательным человеком, чтобы тебе доверили хранить деньги честных людей! Я видел: перед сияющими гордостью глазами мамы и папы проходят такие же, как у меня, воображаемые картины. Мечты о жизни.
Какие? А вот какие: в один прекрасный день я стану французом, и у меня все будет точно так же, как у Франсуа. Папа будет возвращаться домой, вешать на вешалку плащ, ставить кейс, целовать маму, проверять у меня уроки… Конечно, я знаю, что такое невозможно: мама всегда будет носить свои широкие до полу платья и шаркать туфлями, всегда будет оборачивать голову платком и по целым дням стоять у плиты, напевая что-то протяжно восточное.
А к вечеру с вечным своим «yame» рухнет в потертое плюшевое кресло в столовой.
Папа, усталый донельзя, придет с работы, поздоровается с мамой беглым взглядом и устроится у телевизора, улыбаясь во весь рот испорченными или позолоченными зубами. И всегда будет произносить все слова неправильно. Да, такие у меня родители, и они такие же хорошие, как у Франсуа. А то и лучше. Мне не за что за них краснеть. До чего же я их люблю! Бывает, конечно, что мне хочется, чтобы они немного изменились, держались посдержанней, одевались не так ярко, говорили по-французски грамотнее. Но нет, невозможно. Мы живем во Франции, но мы еще не французы. И даже если станем ими, по нашему удостоверению личности не дадут кредита в дорогих магазинах. Мы не изменим фамилий, лиц, привычек.
Но иногда я все же мечтаю, будто я это Франсуа. Мне нравится так мечтать. Я мечтаю об этом в классе, глядя на его аккуратный затылок, отглаженную рубашку, начищенные ботинки. И когда наслажусь в полной мере разделяющей нас бездной, загляжусь на другого ученика. Пьера, Марка, Жозе, Энзо… У меня нет затруднений в выборе. У них отцы кто рабочий, кто продавец, кто разносчик. Профессии поскромнее, манеры попроще, язык погрубее. В общем, я продолжаю мечтать. Представляю их жизнь, и меня разъедает кислота пожеланий. Как бы ни жили мои соученики, мое положение самое незавидное. Они французы, у них светлая кожа, гладкие волосы и возможность стать когда-нибудь Франсуа или хотя бы встать от него неподалеку.
На самом деле легче всего мне представить себе — причем без малейшей зависти — жизнь Рафаэля. У него глаза, как у моего брата Тарика, он приехал из той же страны, что и я. Иногда, когда он говорит, я чувствую своим ртом те затруднения, которые он испытывает, у нас одинаковые проблемы с произношением. Особенно носовые: баллон, волан… Я видел его маму в школьном дворе. Она одета лучше моей, евреи больше стараются стать похожими на французов. Но в ее походке, улыбке, взглядах на других мам я чувствую то же стеснение, какое появляется в моей маме, когда она выходит в город.
И мы с Рафаэлем ведем себя одинаково. Он часто поглядывает на меня исподтишка. Я чувствую к себе его симпатию. А иногда враждебность.
Но он приспосабливается лучше меня. Он уже в приятельских отношениях почти со всеми в классе. Надо сказать, что у него и кожа светлее, и имя французское. «Евреи умеют раствориться в узоре», — как-то сказал мне папа. Они умеют ладить. Мне ни с кем не захотелось ладить. Или можно сказать по-другому. Я чувствую, что никто из них не хочет кинуть мне мяч, позвать играть в свою команду. И я иногда ненавижу их за то, что они так бездумно хохочут и только и знают, что играть в футбол и подсчитывать голы. Но когда я присоединяюсь к ребятам-арабам и говорю, что со своими лучше, когда болтаю, не задумываясь, мешая французский с арабским, то внутри у меня сосет червячок. Мне обидно, что я не с французами, а Рафаэль бегает с ними в центре двора.
Рафаэль
Обстоятельства, при которых мы Муниром стали друзьями, определили наши отношения. Случилось это вскоре после нашего поступления в школу. Я легко подружился с французами. Мунир оставался в стороне. Позже он говорил, что это был его первый опыт дискриминации. И нельзя сказать, что он был неправ. Арабы для других детей словно бы не существовали. Не было никаких внешних проявлений неприязни — дразнилок, обидных слов, — а если и бывали, то крайне редко — отталкивали взгляды, молчание, и арабы сбивались в отдельную кучку.
Было бы нечестно не признаться и мне: я и сам вел себя точно так же. И… мне было даже приятно, что это так. Выходило, будто я сам не иммигрант. Но я думаю, мы были одинаковыми, два темных пятнышка на светлом фоне. Однако моя почти европейская внешность, привычное имя послужили мне пропуском: ребята очень скоро стали звать меня играть. Меня, но не его.
Мунир иногда смотрел, как мы играли в футбол. Он ничего не говорил, не выражал никаких чувств, но следил за нашими передачами, дриблингами, голами с бесстрастием опытного игрока, отмечающего все промахи мальчишек своего возраста. Я знал, он ждет, что мы его позовем. И знал, что позвать его могу только я.
Я старался не замечать его, и в то же время невольно искал глазами, замедляя пробежку, меняя направление, обрывая смех. В глазах Мунира теплился особый огонек — огонек жизни, которая просыпается только в тех, кого задели колеса истории. Любопытство, смешанное с опаской, не дающее человеку заснуть, чтобы не сумели застать врасплох. Желание найти ответы на множество вопросов. Оно жадно вбирает в себя окружающее, заполняя пустоты, которые выдул в душе ветер перемен, заставивший сняться с места и так и не утихнувший.
Но сблизился я с Муниром не только потому, что в глазах у нас тлел одинаковый огонек, но еще и потому, что новые мои друзья были еще очень маленькими и желания их казались мне детскими. Они жили в сегодняшнем дне, у них не было прошлого, а будущее сводилось для них к завтрашнему матчу или веселой шутке, которой хочется с кем-то поделиться. Я смотрел, как они заводят себя, веселятся, смеются. Но никогда не был с ними целиком и полностью. Я был среди них. Между нами была дистанция, и она позволяла мне проживать настоящее и наблюдать за ним. Я не только кричал, но еще и слышал, как я кричу. Как «бодрствующие сновидцы» наблюдают за собой во сне, так я наблюдал за собой, живущим рядом с ними, повторяя чужие движения и слова и отдавая себе отчет, что подражатель я не из лучших. Настоящее не поглощало меня целиком. Часть моей жизни осталась за порогом, она не давала мне «раствориться в узоре», как говорили у нас в Марокко.
С Муниром мы подружились во время футбольного матча. Но, вполне возможно, я придал такое важное значение именно этому матчу много позже. Придал ему тот смысл, которого в нем тогда не было. Есть у меня недостаток: мне кажется, что каждое мгновение моей жизни — это пазл, что в нем есть особое значение, которое откроется в будущем. А вы? Есть у вас такое ощущение?
* * *
В общем, так: мы играли в футбол. Мяч ушел за линию. Я побежал за ним. Он катился прямо на Мунира, и тот уверенно его остановил, поставив ногу. Он хотел было послать его на поле, но удержался, дожидаясь, когда я подниму на него глаза. Я улыбнулся ему и поблагодарил за мяч. Он посмотрел на меня. И столько было сказано этим взглядом. Я больше не колебался.
— Будешь играть?
Мунир не ответил. Он двинулся за мной и повел мяч.
Ребята не знали, что сказать. Одни не смотрели на нас, другие смотрели с полным безразличием. Никто не возражал. Да что, собственно, возразишь?
— Будешь в моей команде. Давай, иди вперед.
Остальное решила игра Мунира. Сложные, но эффективные дриблинги вмиг показали его лучшим игроком. Он двигался вперед напористыми толчками, набычившись, отвоевывая каждый сантиметр поля. Его неутомимость удивляла. Я посмотрел на Александра, главного нашего заводилу, он был в ярости. Ему не нравился я, не нравился Мунир. По сути, ему никто не нравился. Он делал вид, что покровительствует тем, кто сразу подчинился его силе, но я знал: их он тоже презирает. Он умел общаться только с позиции силы. То, что Мунир умеет играть, было ему как кость в горле. До сих пор мы просто гоняли мяч, подражая кое-каким пасам, не слишком напрягаясь, чуть ли не дожидаясь, когда мяч сам закатится в ворота. Мунир вел мяч, передавал, бил по нему, чтобы выиграть. В каждое движение он вкладывал волю. Взгляд у него стал совсем другим. Он видел цель, обходил противников, безмолвно упрекал своих за малейший промах. Мне нравилась его игра, и я ее боялся: она нарушала равновесие, делала его главным на поле. На мой взгляд, было бы лучше, если бы он открывался постепенно, пробуждая желание его принять. Ну вот для чего ему так издеваться над противником, расставив ему ловушку, а потом обойдя? Что ему за радость с такой легкостью забивать за голом гол? Что он хочет доказать?
Теперь в игре участвовали две футбольные команды, и еще два лагеря. Один состоял из тех, кто, оробев, сразу подчинился напору Мунира. Это были самые беззубые, они почувствовали его силу, возможность конфликта, но не вступили в него, им понравилась энергия Мунира, которой им самим не хватало. Другой состоял из его противников, хороших игроков, забияк, сильных личностей, которых злили его мощь и ловкость.
Но противоречивые чувства не помешали восхищению, я обнаружил, что аплодирую приемам Мунира, хохочу, увидев расстроенные лица наших противников, гордо приветствую наш финальный счет. Игра кончилась, и я, смеясь, подошел к Муниру, хлопнул по плечу, пожал руку. Он улыбнулся мне и опустил глаза. Он снова стал маленьким мальчиком, смущенным тем, что на него смотрят.
Мунир
Рафаэль часто рассказывал историю со школьным халатом, которая будто бы нас сдружила. Лично я такого не помню. Еще он говорил, что мы сдружились во время футбольного матча. Возможно. Футбол был нашей страстью, мы так из-за него ругались.
Я не мешал ему рассказывать свои истории. Они родились, когда мы, гордясь нашей дружбой, пытались создать собственную легенду, пазл, который бы занял место в общей картине. Легенду, созвучную ходу истории. Пазл, представляющий нас моделью возможного согласия.
Так значит школьный халат… Ну, не знаю… Футбольный матч… Честно сказать, не помню. В любом случае, двух этих историй маловато, чтобы объяснить нашу дружбу. Дружба требует не историй, а какого-то существенного события.
По мне, так мы подружились позже. Когда стали ходить в бассейн. У меня есть точная точка отсчета: в тот год я научился плавать.
* * *
Раздевалка муниципального бассейна. Первый урок плавания. Я весь на нервах, подавлен, напуган. Ночью почти не спал. С открытыми глазами шаг за шагом представлял себе будущий кошмар. Теперь мне предстояло его прожить.
Я не умею плавать. И французам предстоит об этом узнать. Они поднимут меня на смех.
Еще несколько минут, и урок начнется. Запах хлора добирается до легких, я даже немного задыхаюсь. До раздевалки из бассейна доносится ребячий гам, видно, другие классы уже в воде. Я стягиваю с себя свитер. Болтун Александр строит из себя знаменитого пловца и рассказывает о своих подвигах кучке болванов, которые предпочитают посмеиваться, но одернуть его не решаются. Мне зябко. Меня подташнивает. Стараюсь не думать о неизбежном унижении.
— Ну что? Есть тут кто-нибудь, кто умеет плавать? — спрашивает Александр.
Я мгновенно напрягаюсь. Это он ко мне?
Нет, это он ко всем, ко всему классу. Воцаряется тишина, и мы исподволь посматриваем друг на друга. Я чувствую, как у меня колотится сердце. Я чувствую, сейчас они выберут меня.
— Ну! Кто умеет плавать, поднимите руку!
Я внимательно слежу за руками. Поднимается только три! Я в шоке. Ну надо же! И тревога меня отпускает, кровь снова бежит по жилам, мне уже не так холодно.
— Лично я плаваю по-индейски, — объявил один из пареньков.
Александр расхохотался.
— Всего-то! А остальные? Сколько, однако, у нас девчонок!
Мне очень хочется съездить ему по морде, но я ему и благодарен тоже, волей-неволей он помог мне успокоиться. Да наплевать мне, что он разыгрывает из себя героя, раз мне не придется позориться.
И тут раздается голос Рафаэля, он смотрит на Александра и говорит:
— Ну ты и тупой! Мы же здесь как раз, чтобы научиться. Повезло тебе, что у твоего папаши денег куры не клюют и он возит тебя отдыхать и платит тренерам.
Александр усмехается, но он немного растерян, отпора он не ожидал. Рафаэль ненавидит его не меньше меня, и это нас с ним сближает.
— А с чего это он взъерепенился? Девчонок на свой счет принял?
Глаза его хитро поблескивают.
— Ладно! Думаю, тут и парней немало! Вот оно, доказательство!
Александр стягивает плавки и берет в руки свой прибор.
Ребята хохочут.
— Давай показывай свой!
Рафаэль отворачивается к стене. Он снимает брюки, не обращая внимания на хамлюгу.
— Ой, да! Я же забыл! Ты еврей! А вам яйца отстригают при рождении!
Все притихли, услышав насмешку.
Уставились на Рафаэля в плавках, а он замер с брюками в руках.
— Вы что, не знали? Да! Евреи при рождении делают себе обрезание и становятся девчонками. Сейчас увидите. Давай, Рафаэль, показывай!
— Вот я сейчас тебе покажу, гнида! — отозвался Рафаэль, не поворачивая головы.
Насмешка касалась и меня, я это почувствовал. Александр ко мне не обращался, но мне показалось, что его издевательство метит и в меня тоже. Может, потому, что я тоже обрезанный. Или дело в другом? В чем бы ни было, он пытался унизить и меня тоже.
— Ишь, как он со мной разговаривает! Что? Не хочешь показывать? А нам посмотреть охота! А ну, парни, помогите, мы сейчас поможем ему снять трусы!
Два или три паренька из свиты встали, ухмыляясь. Александр, чувствуя за собой поддержку, сделал шаг и положил руку на плечо Рафаэля. Тот обернулся. Лицо его выражало отчаянную панику и отчаянную решимость. Александр увидел только панику и протянул руку, чтобы схватить его за шею. К нему поспешили помощники. Рафаэль вывернулся и нанес удар точно в нос. Мне показалось, что я услышал хруст носового хряща, а уж потом тонкий взвизг поросенка, которого режут. Остальные, почувствовав угрозу, толпой окружили Рафаэля. Я встал с ним рядом и одного из надвинувшихся отодвинул, прижав к стене.
Дверь раздевалки распахнулась.
— Что тут происходит?
Инструктор по плаванию, коренастый широкоплечий мужчина, уставился на Александра, увидев кровь у него на руках и на груди. Потом перевел взгляд на сбившихся в кучу ребят и, проследовав за их озадаченными взглядами, обнаружил нас, стоявших рядом и приготовившихся к обороне.
Факт свидетельствовал против нас, дело было очевидным.
Рафаэля вызвали в кабинет к директору первым. Я дожидался в коридоре и очень боялся. Месье Лапорта боялись все. Говорили, что для озорников и неслухов он скор на оплеухи, а его любимое наказание — поднять человека на метр от земли за уши. Плотный, высокий, с низким голосом, густыми бровями и пронзительным взглядом — таким вот был месье Лапорт, и от одного его вида все трепетали. Я ждал, что сейчас Рафаэль закричит от боли, и к горлу у меня подкатывал завтрак, с которым я готов был расстаться. Но пока до меня доносились только громовые раскаты голоса людоеда. Сыпались устрашающие слова: идиот… наказание… родители… выговор…
Дверь открылось, и мне захотелось убежать. Но чудовище уже стояло рядом, оно вывело Рафаэля в коридор. Я уставился на приятеля, боясь, что увижу следы пыток. Но, похоже, его не тронули.
Директор посмотрел мне прямо в глаза, он явно колебался, а у меня душа ушла в пятки.
— Ладно, хорошо. Отправляйся в класс.
Мне показалось, я ослышался, но в следующую минуту, ошалев от счастья, уже ринулся вслед за Рафаэлем. Я постарался немного продышаться и только потом с ним заговорил:
— Я сказал, что ты ни при чем. Наоборот, хотел нас разнять.
— Спасибо.
В легких у меня было слишком мало воздуха, чтобы выразить всю полноту благодарности.
Рафаэль повернулся ко мне и улыбнулся.
— Спасибо? Это я должен тебя благодарить.
— Да нет, что ты!
Вообще-то мне сейчас было не до разборок, кто и кому должен быть благодарен, мне хотелось отдышаться и точно узнать одну вещь.
— Он тебя бил?
— Нет, не по-настоящему, — спокойно ответил Рафаэль.
— За уши, да?
— Да.
— Плакал?
— Нет. И, похоже, это его разозлило.
Я посмотрел на его уши, они были красные.
— Высоко поднял?
Я не мог не спросить об этом!
— Да нет, не поднимал. Просто тряс.
— Понятно!
— На триместр запретил ходить в бассейн, но на это мне наплевать. И еще назначил одно наказание.
— Какое?
— Написать триста раз: «Я не должен драться со своими товарищами».
— Жуть!
— Но это еще не все. Он зовет к себе завтра моих родителей. Мне теперь хоть умирай!
— Да ты что…
Вот тут-то я понял, до чего же мне повезло, что меня отпустили! Я представил себе, как плачет мама, как воздевает вверх руки отец…
— Но и это не худшее.
Я оставил своих родителей в трагических позах, точно зная, что мне такого наказания более чем достаточно, и спросил:
— А что еще?
— Я должен извиниться перед сволочью Александром.
— Ух ты! Но это уж слишком!
Рафаэль
Я боялся, что скажет отец. Человек спокойный, мягкий, он совершенно менялся, если речь шла о школе или учебе. Школа — святая святых, главное в жизни, показатель достоинств и недостатков, успехов и провалов, от которых зависит будущее.
Отец прочитал записку и удивленно посмотрел на меня.
— Ты? Дрался?
Его недоверие говорило, что до сегодняшнего дня меня считали дома кроткой овечкой.
— Я защищался.
Отец повысил голос:
— Ты прекрасно знаешь, что я не хочу, чтобы ты дрался. Если кто-то из ребят пристает к тебе или дразнит, ты должен подойти к учительнице и сказать, а не распускать руки.
— Знаю, но он меня…
— Не хочу ничего знать. — Отец сурово взглянул на меня и стиснул зубы. — Ты не должен был его бить. Точка.
Он сердился на меня, и у меня защипало в горле.
— Нет, ты послушай! Он сказал, что мне… Хотел…
— Замолчи! Ты не имеешь права бить своих товарищей!
Я расплакался. Слишком тяжкий день выпал мне на долю, я же еще не взрослый. Драка. Гнев Лапорта. Мои несчастные уши. Страх перед наказанием.
— Реви, сколько хочешь! — сердито продолжал отец. — Как я завтра буду выглядеть перед директором? Дураком?!
— Успокойся, Жак, — вступилась мама, чувствуя, что отец разгорячится сейчас без меры.
— Успокоиться? Да как я могу успокоиться? Разве так я воспитывал своего сына? Хотел вырастить из него драчуна и бандита? Что я буду говорить директору? А если родители этого мальчика подадут на нас жалобу? Если мы с тобой пойдем из-за него в тюрьму?
Папа любил все преувеличивать, но зрелище моего отца в наручниках и мамы, рыдающей у его ног, потрясло меня.
Отец схватил меня за плечи и принялся трясти. Похоже, взрослым кажется, что детское недомыслие — это что-то вроде кожуры, от которой нужно избавиться, чтобы мозги освободились.
Жюльен выскочил из соседней комнаты, наставив указательный палец на отца. Конечно, он стоял за дверью и подслушивал. До поры до времени он сдерживался, но больше не мог.
— Отпусти его! Не смей ему делать больно!
Все мы знаем, что Жюльен всегда вмешивается. Он вмешивается в любую ссору и всегда на стороне слабого. Дома его прозвали «защитником безнадежных». Я ценю мужество моего брата, но его вмешательство меня не радует. Сейчас папа разозлится еще больше. Первая пощечина достанется брату, все остальные мне.
Жюльен, набычившись, чтобы придать себе весу, продолжает, дрожа от гнева и ужаса:
— Он сказал, что Рафаэль еврей. И еще… говорил про его…
Жюльен замолкает и показывает себе между ног.
— Да! И он имел право защищаться, — заключает он дрожащим голосом.
Речь адвоката закончилась. Речь короткая, сбивчивая, но действенная. Слова Жюльена подействовали как магическое заклинание — все молча застыли на месте. Папа с приоткрытым ртом — он уже не грозит мне больше! — крепко держал меня за плечи, но уже не тряс. На лице у мамы читалось неодобрение, она была недовольна вторжением Жюльена. А я? Я смотрю на брата с восхищением и немного растерянно. Он по-прежнему целит в папу указательным пальцем, и тишину в комнате нарушает только его сопение. Папа отпускает меня.
— Что ты такое говоришь? Какой еще еврей?
— Рафаэль еврей! Ты что, не знаешь? — отвечает Жюльен, раздраженный нелепостью вопроса.
— Да я-то знаю, — сердито отвечает папа.
— Тогда чего спрашиваешь? — вздыхает Жюльен, глядя на меня и пожимая плечами.
— Над тобой смеялись, потому что ты еврей? — спрашивает папа, нахмурившись.
Жюльен догадывается, что правильно выбрал довод. Он слышал на переменке, как ребята обсуждали нашу драку, и после уроков засыпал меня вопросами, крутясь вокруг, как упорная маленькая собачонка. Я не хотел ему отвечать, и тогда он пристал к моим одноклассникам, с которыми прекрасно ладил. Адвокат и следователь в одном лице.
Я кивнул и вытер слезы, которые все еще текли по щекам.
Папа с мамой тоскливо переглянулись. Отец, насвистывая, уселся в кресло.
— Иди-ка сюда, — позвал он меня.
Я подошел с немалой опаской.
— Да, — с торжеством продолжал Жюльен. — Он сказал, что у евреев нет… Ну, в общем, краника. И хотел снять с него трусы. И..
Папа повернулся к брату и показал ему на дверь.
— Быстро в кровать! И посмей только еще раз говорить со мной таким тоном!
— Но это же несправедливо! — заявил младший с горечью.
— Отправляйся!
— Почему я не могу остаться? Ты узнал правду, потому что я ее сказал! Если бы я не сказал, ты бы надавал как следует Рафаэлю, а потом что? Хорошо бы было?
— Спать, я сказал!
Приказ не подлежал обсуждению, Жюльен понурился с обиженным видом.
— Ну и ладно, но все равно несправедливо, — пробурчал он и побрел в детскую, сердито перебирая босыми ногами.
— Рафаэль, давай рассказывай, что у вас на самом деле произошло.
Я рассказал, что случилось утром в раздевалке. Лицо отца становилось все суровее и серьезнее. Когда я кончил, он взглянул на маму, в глазах у него светилась досада.
Мама сидела в кресле, сложив на груди руки, и по лицу было видно, что она в отчаянии.
— Ты правильно сделал, что дал этому идиоту по морде, — совершенно неожиданно сказал отец и сразу же пожалел о сказанном. — То есть я хочу сказать, что могу тебя понять. Но в будущем я бы предпочел, чтобы ты обращался ко мне, а не принимал подобных решений.
Я видел, что отец в затруднении. Случай был не из обыденных, у него в запасе не было готового решения, которое он мог бы мне вручить.
— Ну-у… Если бы я стоял и ждал, они бы меня раздели…
Отец закусил губу.
— Да, я понял. Ладно, иди спать, — проговорил он, желая собраться с мыслями. — Завтра поговорим.
Жюльен меня дожидался. Ему не нужно было ничего рассказывать, он все уже знал, стоял за дверью, приложив ухо.
— Спасибо тебе, — сказал я.
— Можно я к тебе спать? — спросил он, поспешив воспользоваться своим преимуществом.
Я кивнул, и мы нырнули в мою постель. В голове у меня крутилось множество слов и событий, их следовало привести в порядок, если я хотел заснуть.
Прошло несколько минут, дверь открылась, и, освещенный светом лампы из столовой, появился отец.
— Спокойной ночи, сыновья!
— Спасибо, пап, — хором ответили мы.
Он закрыл дверь и тут же открыл ее снова.
— Хорошую дулю он от тебя получил, так ведь, сынок? — прошептал он заговорщицким тоном.
Мне показалось, я чего-то недослышал.
— Ну-у… Да!
Жюльен поднялся на кровати и возбужденно заговорил:
— Классную дулю, папа! У идиота этого нос прямо хрустнул. Он так и повалился на пол. Настоящий боксерский удар! И даже…
— Скажи, пожалуйста, я тебя о чем-то спрашивал?
— Нет, но я…
— Ложись и спи!
— Несправедливо!
* * *
Драка с Александром положила начало моему внутреннему самоопределению. До этого я называл себя евреем, как француз может назвать себя бургундцем, фанатом клуба «Сент-Этьен» или поклонником Парижа. Небольшие, присущие нашей жизни особенности были настолько привычными, что я их не замечал: два-три раза в год мы ходили в синагогу, у входа висела мезуза[5], коробочка с благословением дому, на книжной полке лежал молитвенник. А несколько традиционных блюд казались мне привезенными из Марокко — страны, где я родился. Драка стала эпицентром моей внутренней, личной жизни. Историей о неслыханном насилии, о готовности надругаться над моими мечтами, над детской беззаботностью, о желании заслонить от меня мир пыльной ледяной завесой, сквозь которую не пробиваются ни краски, ни свет.
Я не знаю, правильно ли поступил отец, открыв мне слишком рано слишком многое. Возможно, из-за случившегося он поспешил взять на себя роль проводника, желая уберечь меня от других случайностей. Уверен, о трудном нашем разговоре он думал с самого моего рождения, а возможно, и еще раньше. Но, конечно, он рассчитывал, что разговор этот состоится гораздо позже, когда я пройду бар-мицву — обряд, после которого меня будут считать мужчиной.
Но разговор состоялся неожиданно рано. Я был ребенком и не подозревал, что существует такое чувство, как ненависть. И вот она вторглась в мою жизнь. Отец постарался смягчить потрясение.
* * *
— Знаешь, не думай об этих глупостях, — сказал он мне на следующий день. — Есть люди, которые не любят евреев, болтают о нас неведомо что, смущают народ, хотят, чтобы нас ненавидели.
— А что мы такого сделали, что нас ненавидят?
— Ничего. Ничего мы им не сделали.
— Не любят не на пустом месте.
Отец на секунду задумался, сбитый с толку моим замечанием.
— Это долгая история, — сказал он недовольно.
— Что за история? Какая?
— История ненависти, ревности и непонимания.
Я чувствовал, что отец в затруднении и не знает, с чего, собственно, начать. Потом он сообразил и начал не с самого простого:
— У людей есть существенный недостаток: каждый уверен, что владеет истиной, и хочет навязать ее всем остальным. Человеку нестерпимо знать, что кто-то думает по-другому, по-другому живет. И он начинает сражаться, чтобы заставить весь мир жить его мыслями, разделять его образ жизни, служить его величию.
— Подожди, я чего-то не понял… Я думал, люди идут войной, чтобы забрать чужие богатства.
— Это одно и то же. Желать чужих богатств — значит, думать, что ты их достоин больше других.
— Ну и какие богатства хотят забрать у нас?
Папа вздохнул. Задача, которая стояла перед ним, была необозрима.
— Была одна идея, которая изменила жизнь множества народов, и эта идея принадлежала евреям.
— Что за идея?
— Евреи первыми поняли, что есть только один Бог. И стали бороться с теми, у кого было много разных божеств. Прошло время, и возникли другие религии, тоже исповедующие единого Бога. Распространившись, их приверженцы стали считать своими врагами евреев. Хотели перекрестить их в свою веру или уничтожить.
— А евреи не захотели другой веры?
— Нет, не захотели. Они до сих пор живут, сохраняя верность своей вере. Их преследуют, унижают, уничтожают, но они хранят свою веру.
— Уничтожают? Что значит уничтожают?
— Понимаешь… — замялся папа. — Были разные времена — инквизиция, погромы, холокост. Будешь постарше, все узнаешь.
— А давно это было?
— Холокост? Вчера…
— Как это вчера? — испугался я.
И отец решился. Принял решение. Он встал, подошел к книжному шкафу и взял с полки книгу.
Я не сразу осилил название. Слово было трудное, и буквы пропадали в языках пламени.
Отец открыл толстый том. На первой странице призраки в полосатой одежде уставились на меня страдальческими глазами.
Призраки, которые и сегодня преследуют меня по ночам.
Спешит мужчина в помятом костюме — смерть в газовой камере. Раз. Женщина в белом платочке. Смерть в газовой камере. Два. Молодая женщина с малышом (Господи! Еще и малыш!). В газовой камере. Три и четыре. Все пассажиры автобуса на остановке, человек тридцать, наверное, в газовой камере. Мотоциклист, автомобилисты, все прохожие, что идут мне навстречу. Они все отравлены газом.
Я досчитал до тысячи. Тысячным был мальчуган в песочнице. Больше считать я не смог. Идти дальше тоже, слезы застилали мне глаза. Сколько же дней мне нужно будет ходить по Виллербану, а потом по Лиону, чтобы насчитать шесть миллионов?
Шесть миллионов! Шесть миллионов женщин, детей, младенцев, стариков, отцов, матерей, сыновей, дочерей, дедушек, бабушек. Шесть миллионов лиц, улыбок, взглядов, голосов, прошлого, будущего. Шесть миллионов. Невозможно представить себе величину этой цифры! Посмотреть каждому в лицо, узнать семью, познакомиться с судьбой. Шесть миллионов — это почти бесконечность. Бездна. Бездна и бесконечность для маленького мальчика. Считая прохожих, я пытаюсь добраться до горизонта. Не доберусь никогда.
Я прошел через весь город. Вышел из Виллербана и пошел по бульвару Эмиля Золя, потом по бульвару Лафайет и добрался до полуострова. Вообще-то мне разрешили только перейти через улицу и купить хлеба, но это разрешение меня освободило. Я почувствовал себя свободным. Со вчерашнего дня я очень вырос, повзрослел за несколько минут.
Я не мог стоять возле дома и плакать на глазах у сверстников. Я почувствовал себя совсем другим. Почти мужчиной. Какой мог быть страх? Что могло сравниться с тем ужасом, который я только что открыл для себя?
Я сидел на скамейке в маленьком сквере на площади Белькур. Дети помладше и мои ровесники веселились. Я не был на них в обиде из-за их безразличия к моему горю. Точно так же, как я вчера, они еще ничего не знали и думали, что живут, чтобы смеяться и веселиться.
Сегодня утром, когда я проснулся, душа, вернувшись ко мне, была уже другой. Она отяжелела от судеб многих других душ, которые жили до нее. Миллионов других душ, которые я буду теперь считать до конца жизни.
Мунир
Араб. Четыре буквы, чтобы нас обозначить, выделить, определить, окликнуть. И оскорбить тоже. Четыре. Сакральное число. Основа основ. Равновесие. Земля и дух. Творческое начало. Но где спрятаться от расистских взглядов, которые ищут в нас признаки (генетические?) нашей ущербности, что дает право нас ущемлять?
Быть арабом значит быть «грязным арабом». И быть таким постоянно.
На улице, в магазине, в очереди, выстроившейся в кино. Араб, потому что глаза, жесты, даже молчание говорят об этом. Ты никогда не просто-напросто прохожий, клиент, ребенок. Никому не важно, что ты тунисец, или марокканец, или алжирец. Никому не важно, что слово «араб» ничего не говорит о нас.
Национальность? Араб. Народ со смуглой кожей, черными жесткими волосами, черными глазами. Воинственный, непочтительный, неблагодарный, всегда готовый вцепиться в руку дающего.
Родная страна? Здесь. Там. Во всех концах земли понемногу. Мы захватчики. Сродни тем, которых Дэвид Винсент определял по негнущемуся мизинцу[6]. А наша особенность — большой палец. Он всегда возражает, противится, возмущается. Он как палец Корсики, не дающий покоя попе Франции.
Я марокканец. У меня с другими арабами очень мало общего. Мы не схожи внешне, говорим на разных языках, у нас разные обычаи и традиции. Мы, марокканцы, знаем, что ничуть не похожи на алжирцев, а они не похожи на тунисцев, но для тех, у кого страх отнял рассудок и человечность, подобные мелочи не имеют значения. Мы фоторобот, который создали наспех, собираясь расправиться со «злом». «Да, это он, мсье следователь. Но точно не знаю. Кто их разберет, все на одно лицо!» Нет! Мы не на одно лицо. Мы принадлежим разным культурам, пользуемся непохожими словами, готовим разную еду. «Эй! Кончайте с клонами! Кускус для всех! Йалла, йалла, музыка!»
* * *
Первое приглашение на день рождения. Как же я намучился! Обычно меня ни к кому не приглашали. И вдруг пригласил Франсуа, самый симпатичный из белых, меньше всех расист, или даже не расист вовсе. Он протянул мне листок бумаги, где были написаны день, час и адрес. А я так давно мечтал посмотреть, как он живет!
Я уже шел к нему и остановился. А что, если взять и не пойти? Оставлю себе подарок, который купила мама, и никто ничего не узнает. Кто меня заставляет проходить через это испытание? Пойду погуляю вокруг небоскребов и вернусь домой. Нет, пожалуй, слишком опасно. У родителей много знакомых, меня могут увидеть, рассказать. И что мне делать с этой маленькой машинкой? У нас никто не играет в такие машинки. Интересно, кто посоветовал маме ее купить? Но самое главное: мне очень хочется узнать, как здесь празднуют дни рождения? Что едят? Я хочу посмотреть, где живет Франсуа. Увидеть квартиру банкира. Посмотреть, какая у них столовая, какие комнаты, какая ванная, туалет — из чисто человеческого интереса к жизни своего одноклассника, с которым вижусь каждый день и которого совсем не знаю. Я хочу познакомиться с семьей, которую так часто себе представлял.
Дом меня разочаровал. Я бы даже сказал, шокировал. Муниципальная многоэтажка. Эти дома только снаружи претендуют на что-то особенное, а внутри то же самое, что и у нас: скучный вход, холодный коридор, ярко-зеленые двери и запах помойки. Я позвонил. Открыла худенькая женщина в бежевом костюме. Она, должно быть, только что улыбалась, и теперь улыбка застыла у нее на лице.
— Ты к кому?
Она надеялась, что я ошибся дверью.
— Я пришел на день рождения Франсуа.
Я произношу «Фронсоа».
Какое разочарование! Значит, вот какая у Франсуа мама, а я-то представлял ее изысканной красавицей! А она урод. Да нет, это я зря, она самая обычная, одна из тех нервозных мамочек, которые работают с утра до ночи, без конца курят, глотают таблетки и надеются, что жизнь вот-вот наладится и они все же станут Джекки Кеннеди, а в этой жалкой квартиренке они живут временно и вскоре переедут в дом своей мечты. Уродливой она стала от огорчения. Я для нее — новый знак ее неудачливости. Напоминание, что ее сын учится не в элитной школе, что живут они в паршивом квартале.
Франсуа выбегает мне навстречу.
— Привет, Мунир! Это подарок, да?
Он забирает у меня сверток и ведет в столовую. Комнатка маленькая, мебель старая, обои выгоревшие.
Неужели это столовая французов!
Из проигрывателя доносится песня Клода Франсуа[7] «Как обычно».
Грусть певца, наверное, созвучна настроению мамы моего приятеля.
Остальные ребята уже сидят за столом, уставленным вазочками с печеньем и конфетами. Все чувствуют себя скованно, говорят мало и тихо. Рафаэль мне кивает. Он смущен, как и я. Или тоже разочарован?
— Сейчас мы выпьем лимонаду, потом пойдем во двор и поиграем в футбол. А потом вернемся перекусить и посмотреть подарки, — объявляет радостно Франсуа.
Вот, значит, как празднуют дни рождения французы. Посмотреть бы им на наш праздничный стол! Чего только нет, каких только лакомств на меду, а какие запахи, а красота какая! И все смеются, поют. Конечно, так не каждый день, но на свой день рождения каждый имеет право. И на каждый праздник тоже.
Франсуа разлил нам по стаканам лимонад, и мы выпили его, словно какой-то чудодейственный напиток.
Присутствие матери Франсуа смущало нас — она наблюдала за нами из угла комнаты, — мы старались изображать хорошо воспитанных мальчиков. Франсуа завел разговор о фильме с Джерри Льюисом[8], который показывали вчера по телевизору. И каждый вспомнил эпизод, над которым особенно смеялся.
— Ну что, пошли поиграем в футбол, — предложил наконец Франсуа.
И все вздохнули с облегчением.
— Можно мне в туалет? — спросил Люсьен.
— Да, в конце коридора.
— И мне. — Я пошел вслед за Люсьеном.
Мне на самом деле вовсе не хотелось в туалет, мне хотелось посмотреть, какая у Франсуа квартира. Пришла моя очередь, и я с любопытством вошел. Надо же! Туалет француза! Крошечная комнатка, слабо освещенная лампочкой. Крышка с трещиной. Коричневый налет в глубине унитаза. Мама бы не пустила в такой туалет ни детей, ни мужа.
Я спустил воду и отправился в ванную. Как они ухитряются мыться в такой маленькой ванне? Плитка выщерблена. По углам потеки от сырости.
Я вышел из ванной и прошел дальше по коридору. Наверное, это спальня его родителей. Поддавшись непреодолимому любопытству, я тихонько вошел в комнату. Спальня настоящих французов. Ничем не отличается от спальни моих родителей. Тоже постель, комод, платяной шкаф. Я услышал, что ребята уже уходят. Мне надо их догнать.
Я повернулся, и сердце у меня замерло.
Передо мной стояла мать Франсуа.
— Что ты здесь делаешь?
Я мгновенно понял, о чем она спрашивает.
Мне захотелось оттолкнуть ее и кинуться бежать, я был перепуган, но страх не мешал мне понимать, что происходит.
— Я… Я ошибся дверью, — пролепетал я.
— Ошибся, значит? Ну-ну! А ну подойди ко мне!
Лицо у нее было недобрым.
— Покажи руки! — скомандовала она и взяла меня за руки.
Ничего не нашла и обшарила мои карманы.
Меня била дрожь. Слезы наворачивались на глаза. А что, если ребята, выходя из квартиры, увидят меня?
Досмотр закончился, мать Франсуа встала, она была очень недовольна.
— Хорошо, что пришла вовремя. Тебе нечего делать в нашей комнате. Марш отсюда! Беги догоняй!
Я послушно направился к двери. И услышал, как она со вздохом сказала мне в спину:
— Араба притащил! Почему сразу не черного?
Я скатился по лестнице через три ступеньки, рискуя сломать себе шею и едва удерживая слезы. На первом этаже вышел не во двор, а на улицу. И побежал. Бежал. Бежал. Слезы застывали на холодном ветру. Я задохнулся и остановился. Настала пора навести порядок в круговерти картинок, которые кружились у меня в голове, сея панику. Пора было их остановить и рассмотреть каждую. Мне пришли на ум слова, которые я должен был бы сказать этой женщине. Я понял, как должен был себя вести, чтобы покончить с недоразумением и выйти с гордо поднятой головой. А я? Я молча убежал. Обиженный, униженный. И тогда я дал себе клятву: никогда никому я больше не позволю так со мной обращаться. И если снова попаду в такую ситуацию, то отвечу. Я буду говорить точно так же, как они, потому что я ничуть не хуже. Сколько же я напридумывал! Нафантазировал! Их квартира? Да моя больше и гораздо чище! Столовая у них хуже, туалет грязнее, ванная старее. И как разобижена на всех эта злая женщина с ввалившимися глазами! Радость вспыхнула у меня в груди, смех прогнал обиду и горе. У араба квартира лучше твоей, уродина! Он тебе не завидует, ему нечего у тебя красть!
Я тогда был ребенком. Не арабом. Любопытным ребенком. Не вором.
Араб. Четыре буквы.
Основа основ.
Любой мусульманин помнит свою первую обиду, первое унижение, первую стычку. У любого иммигранта копится их за плечами множество. Такова неизбежность. Взрыв агрессии — зачастую результат накопленных обид, не раз подавленного гнева. Первая стычка — не просто обмен ударами, ей предшествует непростая история. Драка кажется случайному наблюдателю неоправданной дикостью, но к ней привела долгая дорога.
* * *
Я иду по двору, направляясь к Рафаэлю. Он стоит с ватагой ребят, они делятся на команды, собираясь играть в футбол.
— Грязный крысеныш!
Я спешу, хочу попасть в команду, ругательство пролетает мимо моих ушей. Но раздается следующее, и я останавливаюсь.
— Черножопый!
Я оборачиваюсь и вижу Александра и его белокожих приятелей. Они на меня не смотрят, делают вид, что болтают между собой, а сами по-идиотски ухмыляются.
Я в нерешительности, игра вот-вот начнется. Но ухмылка Александра заслуживает наказания. Я не выношу его высокомерного вида, с каким он стоит среди своих подлипал. Он вмиг растеряет все высокомерие, если получит от меня как следует. Я не собираюсь больше терпеть его презрение, насмешки над одеждой, словами, акцентом… Под предлогом игры в футбол я готов был снова опустить голову. Не смей, Мунир! Не будь идиотом! Лицо носильщика на пристани в Марселе, лицо матери Франсуа обожгли меня, как две пощечины. Хватит!
Я снял ранец и направился к Александру, сжав кулаки. Вид у меня был настолько угрожающий, что его приятели подались назад.
— А ну повтори что сказал!
Александр сделал удивленное лицо.
— Кто? Я?
Я знаю наизусть, что обычно бывает дальше: начинается танец трусов, парад блефа. Парни толкаются, хватают друг друга за руки, выкрикивают оскорбления. Ругательства свидетельствуют о силе и мужестве тех, кто никак не может решиться на драку. Бывает и драка, ребята кидаются друг на друга, надеясь, что учительница немедленно их разнимет. Но это не сегодняшний случай, сегодня все по-другому. Ненависть смела страх, который мне всегда внушала силища Александра. Я хочу покончить с его подколодными насмешками, гадючими подмигиваниями и ухмылками… Он открыл рот, чтобы ругаться, а я его ударил. Кулаком по роже.
Александр пошатнулся от удара, и я наподдал ему коленкой в живот, а потом еще кулаком в плечо. Не больно, наверное, но равновесие он потерял и растянулся на земле. Его приятели бросились на помощь.
Мои тоже подбежали ко мне, среди них Рафаэль. Снова ругань, толкотня, удары. Бой прекратился из-за отсутствия бойцов. Французики разбежались, поближе к учителям. А два учителя, свистя, уже бежали к нам.
Александр лежал на земле, а я стоял над ним, сжав кулаки, пылая гневом.
— Вы все одинаковые! Только и умеете, что оскорблять исподтишка! Вы все трусы! — ору я в раже.
Мадам Желен, наша учительница, смотрит на меня, слышит мои слова. Мне кажется, что со мной все это уже было. В следующий раз, когда я ударю, я тоже растянусь на земле.
Меня ведут в кабинет директора. Все, что известно о нашей драке, говорит не в мою пользу. Кто слышал оскорбления Александра? А мои звенели по всему двору.
Когда я возвращаюсь домой, мама готовит обед на кухне. Я не нахожу другого выхода: мне нужно заручиться ее поддержкой.
Я протягиваю маме дневник. Она смотрит на запись, смотрит на меня и снова на запись.
— Сынок! Ты мне показываешь дневник. Ты разве забыл, что я не читаю по-французски?
Я не забыл, что мама вообще не умеет читать. Но я хочу ей дать понять, что дело обстоит очень серьезно.
— Сынок! Ты что, наделал глупостей?
— Меня исключили из школы.
Сообщая о наказании, я опускаю голову, и на лице у меня еле сдерживаемое отчаяние. Мама тоже приходит в отчаяние, и мне становится стыдно, что я ее так мучаю.
У мамы широко раскрываются глаза, и она хлопает себя по щеке.
— Ой-ой-ой! Исключили из школы! Сынок! Что ж ты такое натворил?! Что же с тобой будет, если школа от тебя отказалась?!
Я молчу, позволяя ей представить своего любимого сыночка нищим, выпрашивающим медяки на кусок хлеба, а потом продолжаю:
— Меня исключили не навсегда. Только на два дня.
Мама вздыхает с глубочайшим облегчением.
— Ох-ох-ох! Как же ты меня напугал!
Она уже готова мне улыбнуться, но вспоминает, что не все так уж у меня гладко.
— Скажи, за что?
Я излагаю ей свою версию событий, нажимая на начало, а не на продолжение, всеми силами изображая себя несчастной жертвой. Мама принимает мои объяснения, ей становится легче, и я чувствую, что не так уж я виноват. Моя версия, во всяком случае, ее устраивает. Я рассказал еще, как мучил меня директор. Поднимал за уши над землей.
Мама снова хлопает себя по щеке. Я принимаюсь плакать, и она сразу же преисполняется ко мне сочувствием.
— Папа меня теперь убьет!
Мама погружается в размышление.
— Знаешь, а мы пока ничего не будем говорить папе. У него и без того много забот. Подпиши сам и спрячь.
Я прекрасно знаю, что для мамы просто нестерпимо скрыть что-то от мужа, но ей хочется защитить меня. Избежать в доме неприятностей.
На следующее утро я встаю, завтракаю, одеваюсь. И как только папа уходит на работу, снова раздеваюсь и ныряю в постель.
Труднее всего уговорить молчать Тарика. За молчание пришлось отдать костяные бабки и еще шарики. Ничего. С каждым сражением я только крепче.
Рафаэль навестил меня после школы. Он так и сияет.
— Ну ты молодец! Влепил гаду. У него глаз распух.
— А что говорят ребята?
— Ребята? Ты теперь герой. Александр обещает, что отомстит. Говорит, что ты застал его врасплох. Но все же видели, как вы дрались.
Мне бы гордиться, радоваться, что повалил силача на землю, посчитался с ним за насмешки, но я переживаю, что учителя и одноклассники-французы теперь будут считать меня психом.
— Сначала ему разбил нос еврей, потом араб. Думаю, мы только укрепили его в расизме, — смеется Рафаэль.
У нас с ним теперь общий враг. В будущем появятся и другие. Новые Александры. Подлые, но по-другому. Расисты, но на свой лад. Жалкие глупцы, трусливые крикуны.
3. Быть непохожим
Рафаэль
— Нечего есть некошерное!
Мамины брови взлетели вверх. Папа удивленно поднял голову от тарелки.
— Да, нечего есть некошерное… дома.
Я счел нужным прибавить это уточнение, чтобы смягчить строгость предлагаемой меры.
Папа вздохнул, давая понять, что он в недоумении.
— Откуда такие строгости?
— Ну-у… Мы евреи, а евреи едят кошерное.
После истории в бассейне и рассказов отца я стал одержим своим еврейством. С высоты девяти лет я с особой строгостью относился теперь к вопросам религии. Этому способствовали и беседы с Джеки, дворовым приятелем, сыном раввина. Вообще-то не знаю, был ли его отец в самом деле раввином, но он так одевался, и Джеки всегда носил кипу и снимал ее, только входя в класс. Джеки был старшим из семи братьев и сестер.
— Тебе нельзя есть некошерное мясо в столовой, — сказал он мне неодобрительно. — Это большой грех.
— Я и не ем свинину, — ответил я.
— Само собой, но в столовой некошерное мясо. Есть его такой же грех, как есть свинину.
— Но… Папа никогда меня не ругал за это.
— Конечно, я понимаю. Но вы евреи, и вам нужно жить так, как живут евреи.
Замечание меня поразило. Словно волшебное заклинание, оно сразу заставило меня по-другому посмотреть на привычное.
— Да… Конечно… Но мы чувствуем себя евреями. И живем, как евреи.
Если я и пытался оправдаться, то без большой убежденности. Просто пытался обозначить свою принадлежность, которая от меня ускользала.
Мой ответ его удивил.
— Знаешь, чувствовать себя евреем и жить вне религии это… все равно что считать себя футболистом и никогда не играть в футбол. Понимаешь, что я хочу сказать? Чувствовать себя евреем можно, только постоянно совершая то, что требуется. Быть евреем — значит верить в Бога.
— Я верю в Бога. И мои родители тоже верят.
— Конечно. Но верить в Бога означает еще и почитать Тору. Я как-то видел твоих родителей на рынке. Они покупали кучу запрещенных вещей и собирались праздновать Рождество. Евреи не празднуют Рождество. Евреи такого не едят.
Я остался крайне недовольным нашим последним Рождеством. Бродил вокруг накрытого стола и возмущался родителями и гостями, а они радостно наслаждались запретной пищей. Устроили, так сказать, «день открытых дверей» для всего запрещенного, марафон по нарушению религиозных запретов. Без всякой к тому же кулинарной и гастрономической логики. Все в одну кучу: устрицы, креветки, улитки, паштет из гусиной печенки. Все встречалось радостными возгласами. Отказались только от свинины. Вот уж не знаю, по какой причине она подверглась остракизму. Пиршество Гаргантюа и Пантагрюэля с вином и шампанским, а рядом дети, которые смотрят с опаской, как их родители поедают эти странные блюда. А родители, чтобы подавить робкие попытки возмущения старших детей, разрешают им есть сколько угодно чипсов, арахиса, жареной картошки с майонезом и сладостей. На следующий день недозволенные празднества продолжаются: мы получаем подарки, как положено послушным маленьким французам.
— Папа вряд ли согласится, — говорю я Джеки.
— А мой папа говорит, что все евреи хотят жить как евреи, надо им только указать путь. — Он ненадолго умолкает и добавляет: — В Торе говорится, что дети приводят родителей на путь религии.
Я стою напротив папы и начинаю сомневаться в справедливости утверждения Торы.
— Спасибо за уточнение, сынок, — говорит мне папа. — А что ты еще от меня потребуешь? Скоро захочешь, чтобы я носил кипу? Отпустил бороду? Одевался в черное?
Я понимаю, что не должен поддаваться на провокацию. Отец раздражен и надеется в маминых глазах прочесть достойный ответ. Мама опускает ресницы, словно советуя ему взять себя в руки и ничего не говорить. Святая женщина! Она знает, что под горячую руку сказано будет слишком много!
Папа встает и выходит из комнаты, с трудом сдерживая гнев.
А на следующий день, вернувшись из школы, я продолжаю разговор с мамой.
— Тебе кажется, что я требую чего-то ненормального? — спрашиваю я.
— Почему? Это естественно. И папа так считает. Но не все так просто. Ты же знаешь, папа не любит, когда ему указывают, что он должен делать. Поэтому не возобновляй с ним этого разговора. Я сама поговорю с ним и постараюсь его убедить.
— Но если ты со мной согласна, почему сама на этом не настаивала? Ведь все это настоящий грех.
Мама ерошит мне волосы.
— Кошерная пища, грех… Ты пока сам не знаешь, что это такое. И мы тоже толком не знаем. Скажу тебе только одно: когда мы едим что-то недозволенное, нам всегда не по себе. Могу тебе сказать, что на один вечер мы попытались забыть, кто мы такие. Примерить на себя чужую жизнь. И вот наш сын показал нам нашу глупость.
Я повторяю маме сказанное мне Джеки о долге детей перед родителями. Мама ласково мне улыбается и обещает непременно сказать об этом папе и постараться его убедить.
Мунир
До сих пор моя причастность к религии сводилась к одному-единственному запрету: нельзя есть свинину. Правда, во Франции и этого запрета достаточно, чтобы чувствовать себя не как все. Я не думал, мусульманин я или не мусульманин, я жил в Марокко, я был марокканцем. И религия оказалась в том самом чемодане, который остался в Марокко, как ненужный для нашего будущего. Но когда мы жили на марокканской земле, религия была неотъемлемой частью нашей жизни, частью природы, частью экосистемы. Мы вдыхали ее с воздухом, жили в ее ритме, слушая лепет сур, растворяющийся в теплом ветре. Марокканец и есть мусульманин. Мусульманин и подданный короля, это у марокканцев врожденное. И если вдруг иной раз морской ветер приносил к нам на пляжи песню свободы, мы едва слышным шепотом, опустив голову, осмеливались критиковать установленный порядок. Критиковать кого? Бога? Короля? Никогда в жизни! Равно как и тех, кто их представляет, и законы, порядки, несправедливости, которые в наших глазах стали причиной наших трудностей.
Приехав во Францию, мы почувствовали себя свободными от привычного уклада, захотели стать гражданами, сделаться французами. За пределами Марокко власть короля на нас больше не распространялась, хотя мы все-таки ощущали на себе ее влияние. А вот от Бога никуда не уйти, пусть обряды и уклад ислама словно бы подернулись дымкой. Исчезли минареты, вязь надписей, яркие цвета Востока… Религия затаилась внутри нас. Она питала нашу душу энергией, достаточной, чтобы жить привычными ценностями. Превратилась в ток слабого напряжения с редкими разрядами. У родителей ток был, конечно, более сильным. И конечно, они ощущали себя виноватыми, хотя отдалились от своей веры только на время. Люди их поколения закрывали глаза и открывали сердце, как только к ним приближалась святыня. Любое слово против Бога или короля считалось кощунством, которое может навлечь проклятие на всю семью. Политика, религия, суеверия смешались воедино, и мы пили это, словно целебный бабушкин отвар. Рецепт неведом, но ведома мудрость предков, желавших, чтобы мы избежали злой судьбы, болезней и смерти.
Переехав, мы отложили на время свое мусульманство, желая осмотреться и обжиться.
Даже в мечеть мы ходили редко. Небольшая квартирка, ставшая домом молитвы, наполнялась только по пятницам и праздничным дням. Два или три раза я ходил туда вместе с папой, и с первых же минут меня поразила ревностная истовость молящихся. Что это за удивительная сила, способная так захватить людей и поднять их так высоко? Для папы и многих других мусульман время молитвы становилось временем встреч. Взрослым людям нужно повидаться друг с другом, потолковать, вместе повспоминать былое.
Как мучительно раздвоение — постоянно принуждать себя быть каким-то совсем другим и в то же время стараться оставаться самим собой. Самыми сильными среди нас были те, кто, казалось, сумел примирить и свое и чужое: всю неделю ходили в европейском костюме, а национальную одежду надевали в пятницу вечером; говорили по-французски без всякого акцента (кое-кто верит, что такое возможно!), а вечером по-арабски, с широкой улыбкой, показывая золотые зубы.
Все покачивают головами, выражая свое восхищение, с завистью разглядывая складки праздничного наряда старшего мастера, который получает чуть больше, чем все остальные. Если приглядеться к этому праздничному костюму, то обнаружится грубый ручной шов, обвисшие шаровары, слишком короткие рукава кафтана, пожелтевшая рубашка. Но кому охота приглядываться?
Мусульманину хочется шагать прямо, смотреть гордо, носить красивый костюм, выговаривать сложные слова без акцента, вызывать восхищение своей красотой. И любой из нас верит, что достаточно хорошенько почувствовать Францию, пить ее, есть, и, когда все поры нашей смуглой кожи будут источать ее, кожа посветлеет и нас примут. Но это иллюзия. Теперь я знаю это твердо. Сколько бы мы ни старались, все будет мало.
Рафаэль
Загород! Поехать за город — да это же чудо какое-то! Своим наваждением я доставал родителей по утрам в воскресенье, когда наш квартал, не желая просыпаться, объявлял, что этот день он посвящает счастливой праздности.
И что это — «загород», куда толпой устремляются французские семьи, чтобы замечательно провести там воскресные дни? У каждой семьи свой загород? Или он один на всех, и там все встречаются, отдыхают и наслаждаются красотами природы?
— Папа, почему мы никогда не ездим за город?
— За город?
Папа на секунду оставляет газету и окидывает меня недовольным взглядом.
— Да, за город! Там полно зверюшек, там цветы, их можно собирать бесплатно! У нас все в классе ездят за город!
— Да, я знаю, ты мне уже говорил. Но у всех в классе есть домик за городом, или они навещают бабушку с дедушкой. А мы куда поедем? Повидать дедушку и бабушку? Так они живут на соседней улице.
Отец улыбается, довольный своей отповедью, и снова погружается в газетный калейдоскоп событий. Я так до конца и не понял, зачем ему нужен был этот калейдоскоп. Он радовался, что всевозможные неприятности обошли его стороной? Или старался лучше понять Францию, знакомясь с всевозможными отклонениями?
— Есть загород и для тех, у кого нет ни дома, ни родни, — вступает в разговор Жюльен, мой союзник по доставанию родителей. — Туда ездят, просто чтобы провести воскресенье.
— Хватит, дети. Я читаю газету. Идите во двор и поиграйте.
— Ага, поиграйте! Ты всегда читаешь газету или спишь! А нам скучно в этом паршивом дворе!
Похоже, братишка немного перегнул палку.
— Я работаю шесть дней в неделю как каторжный! И в воскресенье имею право отдохнуть! — взрывается отец.
Думаю, что Жюльену дорог не загород, а наше противостояние. Он никогда не говорил мне, что мечтает поехать в деревню. И двор наш мы вообще-то очень любим.
Мою страсть к загороду разжигают рассказы сверстников в понедельник утром. Коровы, лошади, куры, долгие прогулки в лес за грибами, малина, черная смородина, из которых варят варенье. Счастье кажется таким простым, таким доступным. Быть французом значит проводить воскресенье за городом.
Но дело не только в этом. Каждый понедельник, когда учительница просит принести в класс листья, цветы, шишки или еще что-то загородное, чего днем с огнем не найдешь на нашей улице, сердце у меня сжимается, и я вижу папу, который дремлет перед телевизором, опустив на колени газету. И в моей душе загорается гнев, и гасит его совсем другая картинка: папа ворочает баки с грязным бельем, вытирает пот, работая на гладильной машине. Мы купили прачечную, и папа изнашивает свое здоровье в жаре и парах перхлорэтилена, получая минимальный доход, потому что рядом открылся пункт сетевой чистки и услуги там дешевле.
И тогда мой гнев обрушивается на дуру учительницу, которой дела нет до того, что большая часть учеников в ее классе понятия не имеет, что такое загород.
И вот у меня два решения проблемы: или облазить весь квартал в поисках драгоценных даров природы, сумевших выжить в городских условиях, или выменивать их у счастливчиков на наклейки, шарики и другие ценимые нами вещи.
Но мне больше не хочется прибегать к этим крайним средствам. У меня созрел план.
— А ты что принес, Рафаэль?
В руках пусто, в ранце тоже. Доказательство преступной лени налицо. Такого спускать нельзя. Наказание: написать пятьдесят раз «Я участвую в работе в классе, я приношу на урок листья и цветы из загорода». Вообще-то мне велено написать только первую часть этого предложения, вторую я добавил сам, в надежде, что она мне поможет. Учительница не пожалеет о моем приливе рвения.
Я написал предложение пятьдесят раз и отправился к папе за подписью. Главное: полное спокойствие, никаких опасений, расстроенное лицо.
Отец, прочитав все пятьдесят строчек — как будто там могло появиться что-то новенькое! — реагирует так, как я предполагал: он в недоумении, огорчен и прячет свое огорчение за притворным гневом.
— Опять наказан!
Тут папа преувеличивает. У меня это всего-навсего второй случай, до привычного еще далеко.
— А где я их найду, эти листья? На балконе, что ли?
Папа хочет ответить, но ничего достойного ему в голову не приходит. Он в ловушке. И, естественно, возмущается.
— Ну и дела! Мне кажется, твоя учительница не имеет права распоряжаться моим свободным временем! Я напишу ей записку, выскажу свое мнение!
Караул! Непредвиденный поворот событий! Учительница ответит чистую правду: «Рафаэль должен был принести несколько листочков, сорванных в сквере». Нужно срочно ответить. Они не должны вступить в переписку!
— Не стоит, папа! Она только рассердится на меня. Она сказала, что мы могли бы поехать совсем близко, всего за несколько километров. Да и вообще она обойдется без подписи.
Я хватаю тетрадку и убегаю к себе. Боюсь, что папа меня окликнет, остановит. В ожидании задерживаю дыхание. Нет. Ничего. Я бросаюсь на кровать. Нужно успокоиться и обдумать свой провал.
Но мой план все-таки сработал.
В следующее воскресенье папа утром объявляет, что мы едем на пикник. За город.
Он разгадал мой план? Простил меня? Да ладно, не важно! В путь! Навстречу приключениям!
Мы все уселись в наш «Пежо 504». Мама взяла с собой завтрак — думаю, его хватило бы на целый летний лагерь. Мама очень не любит, когда нарушается привычный порядок дня. Но наш восторг примиряет ее с нарушением.
— Ну, ладно… Загород… А где это?
Все молчат.
— Рафаэль, куда ездят твои одноклассники?
Опять молчание.
— Не знаю. За город. Куда еще?
Папа ворчливо объявляет:
— Едем в сторону Вильфранш, там вроде зелено. Потом посмотрим.
Сердце мне сжимает тоскливое предчувствие. А что, если у нас ничего не выйдет? Что, если мы останемся в дураках? Разве есть указатели, на которых написано «Загород»? Нам что, трудно было разузнать о нем заранее?
Мы выезжаем из Вильфранша и едем узкими дорогами среди зеленых полей и пышных виноградников. Слева от меня Жюльен уткнулся в окно. Справа Оливье напевает песенку из «Белль и Себастьян»[9].
Папа нервно переключает скорости, вперившись в горизонт. Мама ласковым голосом подсказывает:
— Может, свернем направо? Поедем по этой дороге, здесь, мне кажется, очень загород.
Папа в ответ что-то ворчит и в конце концов останавливается у обочины.
— Думаю, приехали, так ведь? Можем тут расположиться и поесть на травке! Не ехать же целый день!
Мы оглядываемся. Зеленые поля и деревья насколько хватает глаз.
— Да нет… Я так не думаю. Здесь ни коров нет, ни лошадей…
— Даже ни одного петуха и курицы, — добавляет разочарованный Жюльен.
— Нет уж, дети! Мы за городом. Это очевидно. Кругом природа. Хоть два грузовика набивай листьями. А что до коров, так они, наверно, домой вернулись.
— Куда домой? Здесь и фермы нет. Нет, это не загород, — твердо заявил братишка.
— И выехали мы совсем недавно. Может, стоит еще проехать? — Мое предложение звучит крайне осторожно. Папа может взорваться и вообще повернуть домой. А представить себе, как мы, сидя в машине, едим бутерброды… Нет, это выше моих сил!
— А что, если спросить у кого-нибудь дорогу? — Мама, как всегда, попыталась исправить ситуацию.
— И что мы спросим? Скажите, как проехать загород? И у кого? Здесь, как видите, ни души, — сердито отозвался папа.
— Давай кого-нибудь найдем. Местные жители нам скажут, где можно устроить пикник, — примирительно предложила мама.
Папа ворчит. Мама говорит разумно, но ему не нравится. И все-таки мы снова пускаемся в путь, ищем местных жителей.
Через несколько километров папа заметил домик и старушку, сидящую на стуле возле крыльца.
Мы остановились, мама опустила стекло.
— Добрый день, мадам, мы ищем место, чтобы устроить пикник…
Старушка разевает рот и хохочет. Во рту у нее торчат несколько жалких черных корешков. Вряд ли такими можно жевать. Маму, похоже, напугало это зрелище, губы у нее брезгливо кривятся. Старушка бормочет что-то непонятное и машет рукой, показывая, куда ехать.
— Жак, поехали! У нее слюна изо рта течет, — шепчет мама.
Она скоренько благодарит старуху и поднимает стекло.
— Нам туда, — прибавляет она. — Она показала в ту сторону.
— А мне показалось, что она нас не заметила, — проворчал отец себе под нос.
Жюльен, который махал, прощаясь, старушке, поворачивается к нам.
— А что у нее во рту? — поинтересовался он встревоженно.
— Почти ничего. — Отец расхохотался так громко, что мотор стало едва слышно. И мы тоже вслед за ним стали смеяться, радуясь, что так неожиданно спало напряжение.
Папа передразнивал старушку, и мы просто падали от хохота — не так уж часто наш вечно хмурый и озабоченный чем-нибудь отец валял дурака.
Вскоре мы заметили небольшую площадку и на ней несколько машин.
— Должно быть, приехали, — успокоившись, объявил папа.
Среди деревьев зеленела лужайка, несколько семей завтракали, сидя вокруг раскладных столиков или на подстилках. Мы тоже остановили машину.
Папа достал из багажника пластиковые пакеты с завтраком. И мы сразу замечаем недостатки своей экипировки — у нас не было ни корзинки, ни сумки-холодильника. Гора еды на пакетах выглядела совсем не так аппетитно, как в аккуратных фирменных контейнерах у соседей.
Папа ел и с деланым восторгом любовался окружающей зеленью. Похоже, он чувствовал, что все на него смотрят, и старался выглядеть как можно более выигрышно и уместно.
— Чудные деревья, — говорил он, покачивая головой. — Красивы на удивление. Сорви несколько листочков для учительницы. И скажи, как это дерево называется. Наверняка ты знаешь. Ты же такой хороший ученик!
Я не решался поднять голову, не хотел видеть папину улыбку. Он что, не может спокойно есть, как другие, и говорить потише?
Еда была мне не в радость. Я автоматически проглотил все, что протянула мне мама. У меня паранойя, мне кажется, все на нас смотрят. Любой смех — насмешка над нами, тихий разговор — осуждение.
А подняв голову, я обнаружил, что соседи не обращают на нас ни малейшего внимания, им до нас не было никакого дела.
— А что, если мы немного пройдемся? — предложил папа. — Поможем пищеварению?
Мы поднялись, озираясь. Куда отправиться? Войти в лес? Пойти по лугу?
Отцу хотелось в лес. Когда мы отошли подальше от лужайки, он наклонился к маме и сказал:
— Ты видела? Здесь хорошее общество. Люди не бедные. У них красивые машины, костюмы для уик-энда, оборудование для пикников. Надо сюда приезжать почаще.
Через четверть часа мы вернулись к нашему «Пежо 504».
— Домой? — поинтересовался Жюльен.
— Нет, отдохнем еще немножко, — отозвался папа. — Можете поиграть, подышать свежим воздухом и не забудьте набрать листочков.
Он улегся на подстилку и мгновенно уснул, мама сидела и листала журнал, а мы с Жюльеном отправились изучать окрестности и набивать сумку ненужными богатствами. Мы это делали уныло. Какое разочарование! И это загород? Никаких ферм, зверушек, фруктов. Ребята над нами посмеются, и только.
Папа проснулся скоро, и вот уже все семейство уселось в машину, купленную по случаю и успевшую намотать немало километров.
На обратной дороге все старались скрыть свое разочарование. Мы с Жюльеном смотрели в окна, Оливье напевал, мама подпиливала пилочкой ногти.
— Ну, что, ребятки? Понравилось? — нарочито весело осведомился папа. — Если повезет, снова навестим мадам Колгейт.
Он засмеялся, мы тоже, но всем нам было не слишком весело.
Мне даже захотелось извиниться, что из-за меня мы так провели воскресенье.
— Который час? — спросила мама.
— Половина четвертого. Если повезет, еще успеем посмотреть скачки.
— Хотя бы на лошадей посмотрим, — пробормотал Жюльен, не отрывая взгляда от окна.
Мунир
Я любил Рождество и побаивался его.
Музыка, огни, запахи… Ощущение праздника. Радостно видеть иллюминацию на улицах, разукрашенные витрины, улыбающихся прохожих. А если еще и снег выпадал, то привычная будничность вообще исчезала и мы оказывались в волшебной стране мечты. Белые воздушные хлопья обладали таинственной силой, они уничтожали едкие городские запахи, прижимали их к земле, позволяя праздничным ароматам мягко веять в воздухе. И вот в воздухе смолисто пахло хвоей, жареными каштанами, а еще особым запахом дорогих магазинов — тканями и кожей. Всевозможные ароматы щекотали нам ноздри, заполняли легкие, проникали в сердце. Магия Рождества.
Мальчиком я жил с широко открытыми глазами, впитывал все звуки, все запахи. Но где-то глубоко внутри осуждал себя, одергивал. «Закрой рот, осел! Не выставляй себя на посмешище! Это все не для тебя! Тебя не обмануть! Не поддавайся!» Волшебник ворожил для аккуратных, хорошо одетых детей, они сидели в зале и, улыбаясь, участвовали в представлении. А я сидел на мостках за кулисами и понимал, что разыгрывается комедия, всенародный фарс. Все понарошку: Дед Мороз, гигантские елки в магазинах, нежданное добродушие прохожих… Все вместе вселенское надувательство. Но я отдал бы все на свете, лишь бы тоже сидеть в зале, позволять себя дурачить, вешать себе лапшу на уши и чувствовать себя таким счастливым, хлопать в ладоши, смеяться и кричать так же простодушно, как они.
В школе тоже устроили рождественский праздник. Детсадовская малышня, страшно довольная, что ей позволили побывать у «больших», в этой земле обетованной, куда и они, став взрослыми, непременно попадут, украсила наш двор и коридоры.
Перед каникулами нам устроили угощение и игры и, перед тем как распрощаться, пожелали хороших праздников.
— Счастливого Рождества, Мунир!
— Спасибо, мадам. И вам счастливого Рождества!
Она смотрела на меня и улыбалась! Вот дура-то! Идиотка! Или она не хотела заметить, какие мы разные? И как это можно не заметить? Я же не праздную Рождество. У меня не будет счастливых праздников. Если бы вы чуть-чуть поинтересовались мной, прежде чем высказывать свои пожелания и улыбаться, вы бы знали об этом. Арабы не празднуют Рождество. Им нет дела до младенца Иисуса. Да, о нем упоминается в Коране, но дня его рождения они не празднуют. Моя мама готовила когда-нибудь праздничный кускус 24 декабря? Да никогда в жизни. 24 декабря мы едим картошку, рис или еще что-нибудь из самого обыкновенного. Смотрим телик и неловко улыбаемся при каждом упоминании о чудесной Рождественской ночи. А когда начинается праздничная месса, отправляемся спать. И вполне возможно, у меня закапают слезы (от огорчения или от зависти?), когда я представлю себе, как укладываются спать другие дети: у них сейчас полно сладостей, и они мечтают о всевозможных подарках, какие получат на следующий день. Да, мадам, я точно поплачу. Поплачу, потому что я еще маленький, а маленьким всегда хочется праздников и подарков. На следующий день я буду смотреть на счастливых мальчишек, которые высыпали на улицу с новыми кожаными мячами, велосипедами, роликами. У меня нет велосипеда. Я посмотрел, сколько он стоит, и теперь знаю точно, что завтра папа его мне не купит. У меня пластиковый мяч, он улетает при каждом порыве ветра. Попробуйте отправить его в цель. И ролики у меня такие старые, что совсем заржавели. Я истер подошвы, когда пытался на них кататься.
Не надо желать мне счастливого Рождества. Я неплохой актер, мне удается не показывать горя, когда надо мной насмехаются, изображать равнодушие, когда отгоняют взглядом. Но с рождественскими праздниками я не справляюсь. Они даются мне очень тяжело, у меня не получается притворяться. Не получается изображать довольную улыбку маленького француза.
Некоторые мусульманские семьи устраивают праздник на Рождество. Но мы не из их числа. Евреи — те, что не слишком религиозные — тоже празднуют. А еще те, что хотят играть во французов. Рождественское полено, индейка (кошерная?), подарки. Смешные люди! Разве можно забыть, кто ты на самом деле? Но потом я им позавидовал. Почему бы и нам не поступать, как они? На один этот вечер тоже устроить себе праздник. Конечно, без яслей, младенца Иисуса и елки, просто вкусный праздничный стол. И какие-нибудь подарки. И еще картонные трубочки, они называются хлопушки. Разве нельзя? Нет, нельзя, я знаю. За таким столом папа не сможет на нас смотреть. Ему будет стыдно, что мы радуемся. Его желание жить как французы не беспредельно. Когда он приносит рождественские подарки со своего предприятия, то просто ставит их на стол. Мы видим, как гордо вспыхивают его глаза, когда мы бегаем по квартире в масках и с пистолетами, ему приятно, что он работает на серьезном заводе, где человеку умеют оказать внимание. Но корзинку с продуктами папа относил консьержке. Мы пытались объяснить, что в маленькой коробочке гусиный паштет, а не свиной, но папа говорил: «Нет, нет и нет. Это сплошные отбросы!» Хорошо, если бы наша щедрость пробудила к нам симпатию у месье Лепика и его жены, алкоголички-зануды. Но я уверен, что они над нами только посмеялись — над нами и нашей идиотской щедростью.
Рафаэль
Я пришел в столовую, сел за стол «для детей, которые не едят свинины». Рядом со мной одни мусульмане. Мунир мне очень обрадовался. Уверен, обрадовался, потому что мы с ним опять вместе не такие, как остальные, но он свою радость объяснил совсем по-другому.
— Вот увидите, Рафаэль рассказывает такие интересные истории! — объявил он своим приятелям, которые смотрели на меня недоверчиво.
Да, я хорошо рассказываю, у меня талант. Могу говорить о чем угодно: пересказать фильм, который вчера видел, рассказать анекдот или в лицах поведать о том, что со мной случилось на каникулах. Могу, ни слова не привирая, рассказать приятелям о нашем общем приключении так, словно они в нем не участвовали или не поняли, в чем была суть.
В тот день, как раз когда мы ели мясо, я пересказывал самый смешной эпизод из «Жандарма из Сен-Тропеза» с Луи де Фюнесом. Конечно, мы все этот фильм смотрели и рады были снова повеселиться. Смеялись даже громче, чем перед теликом. Очень громко смеялись. И дежурный воспитатель разозлился:
— Эй, вы, касба![10] Замолчите!
Эффект был мгновенным. Все замолчали.
Я терпеть не мог этого воспитателя. Тощий, плюгавый урод в джинсах-клешах, устрашавший малышню походкой вразвалку и ковбойскими сапогами. Он подлым образом отыгрывался на нас за свою уродскую внешность, ухитряясь кого-то пнуть острым носком сапога. Его прозвали Стервятник за жесткий взгляд, острый нос и готовность налететь на слабого, когда никто не видит.
Муниру трудно было сдержаться, он зло посмотрел на Стервятника.
— Что с Мухаммедом? У него проблемы? — задал тот вопрос.
— Меня зовут Мунир, а не Мухаммед.
— Есть разница? — с усмешкой спросил Стервятник и уселся за преподавательский стол.
— Вот урод! — не выдержал я.
Мунир взглянул на меня и пожал плечами.
— Слушайте! А ведь он немного смахивает на Фюнеса!
Мы все рассмеялись.
Я посмотрел на кусок мяса, который мне положили на тарелку.
— Кто хочет мою отбивную?
— Это не свинина, ешь, пожалуйста, — сказал маленький Али, распахнув огромные темные глаза.
— Я знаю, но мне нельзя и такого мяса.
— Что за новости? — удивился Мунир. — Ты же до сих пор ел мясо!
— А теперь больше не ем.
Жюльен застыл с вилкой у рта. Потом, нахмурившись, положил вилку на тарелку.
— Мы теперь больше не едим мяса? — спросил он огорченно.
— Я не ем некошерного, — ответил я. — А ты как хочешь. Кто-то хочет мою отбивную?
Через секунду поднялись две руки. Я пододвинул свою тарелку. Жюльен, поколебавшись, пододвинул с глубоким вздохом свою. Когда Али и Лагдар перекладывали наши отбивные к себе на тарелки, раздался громкий голос, от которого все мы вздрогнули:
— Это что еще за торговля?
Стервятник стоял позади нас, сложив на груди руки, ухмыляясь недоброй усмешкой.
— Я… Мы не едим мяса, — ответил я, стараясь выдержать взгляд этого эсэсовца.
— Насколько я знаю, это не свинина.
Я почувствовал, что сейчас разразится скандал, и внутренне напрягся. Я не собирался сдаваться.
— Да, но это мясо не кошерное, я еврей и…
— Мне плевать, кто ты, араб или жид! У меня нет распоряжения от твоих родителей. И ты доставишь мне удовольствие и немедленно стрескаешь это мясо. А ну перекладывай себе на тарелку! И мелкий сопляк тоже!
Али и Лагдар успели переложить мясо обратно.
— Имейте в виду, я слежу за вами! — объявил Стервятник и вернулся на свое место.
Я уткнулся носом в тарелку, чувствуя, что киплю от гнева.
Мы все словно окаменели. Только Жюльен взялся за нож с вилкой, чтобы отрезать себе кусочек мяса.
— Раз уж велели, — пробормотал он.
В тишине, которая царила за нашим столом, нож Жюльена буквально завизжал, коснувшись тарелки, и мой маленький брат положил его, покорившись неизбежности, которая мешала мясу попасть ему в рот. Он положил и вилку и уставился на меня, ожидая, что я скажу.
— Он назвал нас жидами, — проскрипел я сквозь стиснутые зубы.
Я не знал, обидное ли это слово, но чувствовал: нас оскорбили. Злобный взгляд Стервятника, его ухмылка — все говорило, что он хочет нас унизить. Слезы закипели у меня на глазах, горло перехватило. Но я не хотел разреветься, как девчонка, перед своими товарищами. Я искал другой возможности выплеснуть обиду и гнев.
— Да, он так сказал, — подхватил Али, думая, что я задал вопрос.
— А что такое «жид»? — спросил Жюльен.
— Тоже еврей, но как обидная кличка, — объяснил Мунир.
И тогда, сопровождаемый взглядами своих замеревших на месте товарищей, я встал и направился к столу, за которым обедали два воспитателя и учителя.
Я остановился возле Стервятника, тяжело переводя дыхание от ярости и страха. Стервятник меня заметил не сразу, но мое появление обратило на себя внимание учителей, и они замолчали, вопросительно глядя на меня. Стервятник поднял голову от тарелки и обнаружил, что я стою рядом, мрачно на него глядя и тяжело дыша.
— Чего тебе тут понадобилось? — удивился он.
— Вы не имеете права называть меня жидом!
Губы у меня прыгали, но говорил я твердо.
Стервятник слегка опешил. Две учительницы за столом нахмурились и вопросительно на него посмотрели.
— Не говорил я ничего такого. Сказал, чтобы ел мясо, только и всего! Нечего выдумывать, лишь бы настоять на своем! А ну шагай на место! Быстро!
— Вы сказали «жид». Я слышал. И все остальные тоже слышали.
Воспитатель засопел и прикусил губу. Потом резко поднялся.
— А с каких это пор встают из-за стола без разрешения?
Он взял меня за плечо, подвел обратно к столу, посадил, грубо нажав, и сказал:
— Не думай, что я потерплю твои шуточки! Вернусь через пять минут и советую вам с братом очистить свои тарелки. — И, наклонившись, добавил мне на ухо: — Понял, жиденок?
Безгубая улыбка, показавшая острые неровные зубы, играла на лице садиста.
Я сидел, опустив голову. Внутри у меня все сжалось. Я не знал, чего хочу — заорать, драться или заплакать. Все вместе одновременно.
— Плюнь на него, Раф. Ты же видишь, он ненормальный.
Я поднял голову и взглянул Муниру в глаза. Я видел, он тоже разозлился, но не хочет доводить дело до скандала.
— Он гад, не обращай внимания.
— И что? Ты на моем месте съел бы это мясо?
Голос у меня от напряжения стал тонким.
Мунир передернул плечами. И я не понял: то ли он хотел сказать, что не знает, то ли что мне лучше послушаться…
Я сидел и молчал. Жюльен вертелся на стуле, он тоже пришел в возбуждение и не знал, как себя вести.
— Он гад, гад, гад, — настойчиво повторял братишка.
— Он еще смотрит на меня? — спросил я Мунира.
Приятель взглянул мне через плечо.
— Нет, он снова сел за стол.
— Скажи, когда не будет смотреть.
— Сейчас. Он говорит с другим воспитателем.
Я быстренько вытащил из кармана платок, завернул в него отбивную и спрятал обратно в карман.
Ребята за столом удивленно смотрели на меня. Их восхищало мое мужество, мое упорство. Общее наше возбуждение достигло крайней точки.
— Не теряй времени, делай, как я, — сказал я Жюльену.
Братишка набрал в грудь воздуха и принялся шарить по карманам в поисках платка, всем своим видом показывая, что готов на мужественный подвиг. Но после безуспешных поисков объявил с расстроенным видом:
— Нет у меня платка.
— Возьми мой! — предложил Али и бросил Жюльену смятый комочек.
Жюльен брезгливо взял его двумя пальцами.
— Он же грязный.
— И что? У меня насморк, — объяснил Али. — Ну, ты даешь! Я тебе помочь хочу, а ты недоволен.
Братишка взглянул на меня, ища помощи.
— Шевелись быстрее!
Жюльен развернул платок с присохшей слизью и быстренько завернул в него кусок мяса.
Застыл на секунду, потом спросил с беспокойством:
— А если он догадается и заставит нас есть?
Я представил себе несчастного Жюльена, который разворачивает грязный платок и вынужден положить себе в рот его содержимое. Мне стало дурно.
— Постараемся, чтобы не догадался, — пообещал я.
— Бифштекс с соплями, — засмеялся Али.
Стервятник через несколько минут наклонился над нашими тарелками и довольно улыбнулся.
— Так и надо! Мясцо-то вкусное!
Я молча смотрел на него. Жюльен тоже не струсил.
— Я тебя научу опускать глаза, когда я с тобой разговариваю! И тебя тоже, сопляк! Нет! За кого вы себя принимаете? Подойдете ко мне после обеда. Я с вами разберусь!
Приказ нам не понравился. Мы почувствовали: объявлена война.
— Нужно скорее избавиться от мяса, — сказал Тарик. — А то он заметит.
Жюльен встал, делая вид, что хочет налить себе воды из кувшина.
— Заметно? Очень? — спросил он Мунира.
Мунир посмотрел и увидел на брюках Жюльена большое жирное пятно.
Ну, дела! Только этого не хватало!
— Вот зараза!
Все перевели глаза на меня. У меня тоже наметилось пятно, но поменьше и не такое заметное.
— Бегите в туалет, там все скинете в унитаз, — посоветовал Мунир. — Только сначала попросите разрешения у другого воспитателя.
Воздух наэлектризован. За нашим столом мы стали героями из фильма «Большой побег»[11], все сплотились против врага и боимся, как бы наш подземный ход не был обнаружен.
Я отправляюсь в туалет, делю мясо на кусочки и спускаю.
Теперь очередь Жюльена. Он возвращается, на лице у него беспокойство.
— Я бросил, а оно не проходит.
— Бросил целиком?
— А что?
— Бестолочь! Нужно было разделить на кусочки! Или бросить в мусорную корзину.
— А ты почему мне не сказал?
Мы переглядываемся, соображая, что делать.
— Успокойтесь, — говорит Мунир. — Пока вы будете говорить с воспитателем, мы что-нибудь придумаем.
И мы вправду успокаиваемся.
— А где мой платок? — спрашивает вдруг Али.
— Вот он, — отвечает Жюльен и достает грязный жирный комочек, на который мы все смотрим с отвращением. Али берет его, смотрит, разворачивает, потом аккуратно складывает и прячет в карман.
— Что-то случилось? — спрашивает он, глядя на наши удивленные лица.
После сладкого, когда все направились к двери, Стервятник окликнул нас:
— Вы, двое, задержитесь. Есть разговор.
Толпа ребятишек устремилась во двор. Столовая опустела, и вдруг мы увидели Александра: он вернулся и подбежал к воспитателю, на ходу посмотрев на нас и торжествующе улыбнувшись. Я мгновенно все понял: во время обеда Александр за нами следил. И пока нас чихвостили, он с приятелями был в восторге.
У дверей появился Мунир — стоял, опустив руки, и всем своим видом показывал: ничего не получилось, он опоздал.
Стервятник встал и вышел из столовой. Ясное дело, в туалет.
— Он на нас донес, гадина!
Перепуганный Жюльен принялся тереть рукавом жирное пятно на брюках. Воспитатель вернулся и в ярости набросился на нас.
— Это ты выбросил бифштекс?! — заорал он на брата, продолжавшего тереть рукавом пятно.
— Не я!
Стервятник уставился на пятно на моих брюках. Как он улыбался! Точно садист, и его садизм можно было пощупать. Все преподаватели ушли пить кофе, и теперь он здесь был главным.
Он схватил меня за ухо и притянул к себе.
— А ну пойдем со мной! Сейчас ты все у меня там вычистишь! — И вывел меня за ухо из столовой.
Боль — пустяк по сравнению с обидой и унижением, от которых у меня разрывалось сердце. Я, как мог, старался вырваться из его железных пальцев, неуклюже отбивался. Стервятник, придя в ярость, схватил меня за волосы.
— Ты что, драться со мной будешь? Драться, да? Думаешь, имеешь право хвост поднимать, грязный жиденок?
Он отвесил мне пощечину. И еще одну. Если бы он не держал меня за волосы, я бы свалился на пол.
Невольно я замычал от боли, у меня вырывалось что-то вроде всхлипа. Жюльен бежал за нами, со слезами крича:
— Не троньте моего брата! Не смейте его бить!
Воспитатель его не слышал. Он тряс меня изо всех сил, и я в его руках болтался, как тряпичная кукла.
— Думаешь, можно делать из меня идиота?!
— Отпустите его! Отпустите! — надрывался Жюльен, пытаясь схватить меня и притянуть к себе. Из-за слез, из-за дрожи страха, которая его била, словно в лихорадке, было трудно понять, что он кричит. В отчаянии брат бросился на Стервятника и начал бить его ногами по икрам.
Стервятник отпустил меня, схватил Жюльена и принялся яростно хлестать его по щекам. Голова у меня пошла кругом, я ничего не понимал, мне казалось, я в дурном сне. Воспитатель осатанел от ярости. Он и раньше раздавал оплеухи, мы это видели, но чтобы с таким ожесточением!.. Как мне спасти Жюльена? Драться? Бежать к директору? Наброситься на Стервятника? Нет, драться бесполезно. Я решился: бегом пустился к двери, ведущей на улицу, и открыл ее. Обернувшись на бегу, я заметил, что Стервятник делает движение, собираясь погнаться за мной. Но Жюльена не выпустил.
Направив на эсэсовца палец, я заорал:
— Ты труп! Труп!
Братишка барахтался изо всех сил. Стервятник швырнул его на землю и припустил за мной. Я летел со всех ног, глаза мне застилали слезы, и сердце колотилось где-то в горле.
Папа у нас герой. Дети часто считают отцов героями, приписывая им всемогущество. Им так этого хочется, что любой отцовский поступок они готовы счесть подвигом.
Но мой отец — настоящий герой. Я утверждаю это с полной уверенностью, потому что считаю так не один. Большинство учеников нашей школы тоже так его называют. Так что можно представить себе мою гордость! Герой в глазах всей нашей школы! Как Тарзан или Супермен. Какой мальчик не мечтает быть сыном Тарзана или Супермена? Лучше Супермена, потому что в «нормальном» состоянии папа вроде Кларка Кента[12], он тоже вежливый, сдержанный, даже застенчивый. Но в этот день папа облачился в рыцарские доспехи и полетел на помощь сыновьям. Прочь здравый рассудок, почтение к общественным учреждениям, воспитанность, застенчивость! Супермен не извиняется, когда карает зло!
История выглядела настолько театрально, что легко поверить, будто я ее приукрасил, глядя в прошлое сквозь патину времени. Но клянусь, я передаю ее со всей точностью, с какой только может быть передана семейная легенда.
Я влетел в прачечную, когда на часах была половина второго. Отец, вытирая пот, трудился за гладильным прессом. Запах перхлорэтилена витал в парном воздухе и щекотал горло.
Увидев меня, мама испугалась. Я же должен быть в школе!
— Рафаэль! Что случилось? Почему ты здесь? Почему плачешь?
Маму охватила паника.
— Господи! Жак! С нашими мальчиками что-то случилось!
Отец вышел из-за пресса.
— Что там еще? О чем ты? И почему здесь Рафаэль?
— Там что-то случилось, Жак! Жюльен! С Жюльеном, да?!
Я закатился плачем. Я не мог даже говорить. Я видел несчастного перепуганного Жюльена, его там бьет Стервятник…
— Да что случилось? Говори! Где братишка?
Чем громче они кричали, тем громче я плакал.
Сквозь слезы смотрел на лица папы и мамы и понимал: они вообразили себе худшее. Нельзя, чтобы они мучились ужасными безысходными картинами, я должен им все объяснить, сейчас вдохну побольше воздуха, перестану плакать и…
— Воспитатель… Он нас побил… И Жюльена… Назвал жидами…
Между всхлипами слова пробивались с трудом, понять их было непросто, но мама с папой поняли главное, поняли суть и серьезность случившегося. К тревоге примешались гнев и обида.
— Это что еще за история? — насупился отец. — Элен, дай ему воды, пусть успокоится.
Я попил водички, успокоился и все рассказал.
Ледяная ярость вспыхнула в глазах отца.
— Значит, синяки на лице это он тебе поставил? — уточнил отец.
— Он! И Жюльена он тоже бил! Пойдем быстрей! Он, может, еще бьет его! — Я тянул отца за рукав.
Отец положил мне руку на плечо, и его прикосновение в один миг сняло и боль, и страх.
— Пошли! — сказал он и двинулся к двери.
— Жак! Только успокойся! Не делай глупостей! — кричала нам вслед мама вне себя от беспокойства.
По дороге, нервно всхлипывая, я добавил кое-какие подробности, и они подогрели отцовскую ярость.
— Он бил меня по щекам… Драл за волосы… Называл жиденком… Жульен так кричал… Ему было больно…
Папа шел быстро, широким шагом, я бегом едва поспевал за ним. Когда мы подошли к школе, Стервятник беседовал с другим воспитателем.
— Он? — уточнил отец.
Я кивнул.
Отец распахнул калитку с такой силой, что она шмякнулась о стену. Грохот металла раздался как гром среди привычного ребячьего шума, и все замолкли. Стервятник мгновенно все понял. С беспокойством взглянул на коллегу, понял, что от него помощи ждать нечего, и отступил на два шага назад.
— Убью!
Вот что проревел мой отец. И на всех повеяло ужасом. Он был сама ненависть. Руки, глаза, все тело налилось звериной силой. Он перестал быть человеком разумным, он был способен на убийство.
Широким шагом он подошел к обидчику. Я бежал за ним, ловя на себе восхищенные, удивленные, испуганные взгляды ребят, которые расступались перед нами и потом застывали толпой.
Воспитатель открыл было рот:
— Подождите! Я сейчас объясню…
— Nardine Babek! Ты сейчас свою кровь пить будешь, — ледяным тоном сообщил отец, и от спокойного его тона стало еще страшнее.
— Поговорим разумно, — попытался вмешаться второй воспитатель.
Отец молча отстранил его.
Стервятник допятился уже из-под арки до двора. Еще пять минут назад он был силачом, который оскорблял, унижал, пускал в ход кулаки. Теперь он стал мальчишкой, перепуганным жутким монстром.
Когда папа навис над ним, он только смешно дернулся. Сделал попытку защититься и одновременно сбежать. Защищаться помешала трусость.
— Ты вот так бил моих сыновей? — спросил отец и отвесил обидчику монументальную оплеуху, от которой тот вписался в стену. — Значит, ты бьешь детей? А я с тобой на равных! Давай, защищайся! Бей меня!
Но Стервятник загораживался руками, испуганно глядя на отца.
— Да ты не мужик, а куча дерьма!
Я глазам своим не верил. Все, что происходило сейчас, было выше моего понимания. Папа бил воспитателя. Папа ругался плохими словами. И все остальные ребята были в такой же растерянности.
— Значит, мне ты боишься наподдать, а детишек бил?! Бил моих детей, подлая сволочь!
А Стервятник-то собирался сбежать.
Папа схватил и повернул к себе воспитателя, словно тот был костюмом на вешалке в нашей прачечной.
Стервятник изо всех сил дернулся, вырвался и припустил. Отец ринулся было за ним, но страх бегает быстрее гнева — воспитатель уже выскочил за ворота.
Отец обратился ко второму:
— Где мой сын?
— Он… он… У директора, — ответил тот, отступая.
Отец кивнул мне, и я его повел. Мне казалось, что мы с ним отряд мстителей, призванный наказать злодеев. У меня, конечно, роль была поскромнее, но отряд есть отряд, и дело не в личной доблести. Главное — восстановить справедливость.
Перед дверью кабинета я остановился. Отец шагнул вперед и широко распахнул дверь.
Жюльен стоял к стене носом, и тут же повернул к нам голову. Волосы торчком, весь зареванный, с красными щеками. Увидев папу, он замер от удивления и даже перестал плакать. Мне хотелось броситься к нему, обнять, крикнуть, что мы его освободили, рассказать, что мучитель получил по заслугам.
— Как это понимать? — осведомился месье Лапорт ледяным тоном.
— Что тут делает мой сын? — грозно спросил отец.
— Я не позволю вам, месье…
— Не позволите?! Вы не позволите мне?! — Искреннее изумление отца было продиктовано его гневом. — Вы, который позволяете своим воспитателям бить моих детей?! Называть их жидами?!
— О чем это вы? — повысил голос любитель драть за уши, стараясь остаться на высоте положения. — В любом случае я не потерплю, чтобы в мой кабинет врывались и разговаривали со мной в таком тоне!
— Ах, вы не потерпите? — задохнулся отец.
Он сделал шаг, наклонился, схватил директора за воротник и с удивительной легкостью поставил его на ноги. Потом левой рукой подтолкнул меня и поставил перед директором.
— Полюбуйтесь, что ваш воспитатель сделал с моими мальчиками! Он их бил, называл жидами, а вам хоть бы что! Вы их еще и наказываете!
Отец притянул к себе Лапорта, как только что притянул Стервятника, и сказал четко, твердо, весомо:
— Пальцем не троньте моих сыновей! Никаких грубостей и оскорблений! Вы мне на суде за них ответите! У меня достаточно знакомств, чтобы устроить вам серьезные неприятности. Избиение малолетних, расистские преследования. Вы за них поплатитесь.
Я задумался, какие такие у отца знакомства? Что он имел в виду? Мне трудно было себе представить, что мясник Жерар, владелец кафе Жан или директор букмекерской конторы могут как-то повредить директору школы.
Но как бы там ни было, директор быстренько себе представил неприятности, которые могут возникнуть из-за несдержанности его подчиненного и его собственного попустительства. И сразу стал покладистее.
— Постойте, постойте! Мне ничего об этом не известно. Ко мне привели вашего сына, пожаловались, что он нарочно засорил туалет, спустив туда отбивную. И я его наказал, поставив носом к стенке. Всего-то-навсего.
Папа уставился на директора, стараясь понять, говорит ли он правду.
— Другого от вас не услышишь! Я не знал! Не видел! Это не я!
Он выпустил из рук воротник Лапорта и повернулся к Жюльену:
— Пошли, сынок! Нам пора домой.
— Подождите, месье Леви. Нам надо поговорить. Я приму необходимые меры…
Но мы уже вышли из кабинета. Ребята, не скрывая восхищения, проводили нас до калитки. Школьные занятия на сегодняшний день для нас кончились.
Вот так. У каждой семьи есть свои легенды. События, важные слова, поступки, которые мы храним в памяти и которые помогают нам понять, кто мы такие, чем гордимся, за что держимся. Истории, на которых мы останавливаемся, и эти остановки делаются для нас точками отсчета в беге времени. В архиве нашей семьи не только эта история. Есть и другие. Их много. Кое-что я еще расскажу, но потом. Эта история была первой, самой прекрасной и самой героической в нашем семейном эпосе.
Мунир
Мы с Рафаэлем подружились. Дети понимают дружбу как товарищество. В их словаре нет слов, говорящих о чувствах, о привязанности. Чувствительность считается чем-то постыдным, свидетельством слабости. Так что никаких эмоций, пафоса, все обыкновенно, все буднично. Слова воспринимаются как что-то чужеродное. Слова, они для девчонок. Только девчонки рискуют доверяться им и говорить о чувствах. У нас дома, например, только мама имеет право на ласковые слова любви. Папа никогда не говорит, что любит нас, какие мы у него красивые и хорошие, как он нами гордится. Это мы читаем в его глазах, и нам этого довольно.
С Рафаэлем мы тоже говорили глазами. И после истории с мясом стали держаться вместе. Кто первым приходил в школу, дожидался другого. Но мы не бежали навстречу друг другу. Спасибо друг другу тоже не говорили.
Рафаэль понимал, о чем я думаю, разделял мои вкусы. Нам хватало беглого взгляда, и мы уже передавали друг другу то, что стеснялись сказать на словах.
Не знаю, чем это объяснить. Так сложилось. Мы быстро соображали, но оба были стеснительными. Такие отношения бывают между братьями: они так хорошо друг друга знают, что слова им не нужны. Да мы и чувствовали себя братьями, которые встретились после долгой разлуки и рады узнать, что сродство их гораздо важнее несходства.
С Рафаэлем я становился самим собой. Стеснение не сковывало мне язык, я говорил, не думая об ошибках. Мы встали рядом и с одинаковой жадностью вглядывались в окружающий мир. Зная, что мы рядом, мы чувствовали себя сильнее. Неуверенность не застила нам глаза. Мы мешали арабские слова с французскими, говорили о французах с иронией, о Франции с надеждой, о родителях с затаенной нежностью.
Наши родители не были похожи. Родители Рафаэля умели лучше играть во французов, чем мои. Собственно, они принадлежали к разным поколениям. Возраст у них был один и тот же, но мадам и месье Леви лет на двадцать раньше начали сживаться с французами. Уже в Марокко они стали учиться общаться с ними, перенимать их манеры, культуру, одеваться по их моде. Мои были марокканцами. Их культурой были традиции.
Мать Рафаэля иногда носила костюмы в стиле Шанель, а отец — в стиле Кардена.
Представить мою маму в костюме Шанель! Да она о таком и не подозревала! Материю и одежду она покупала на рынке или на площади Дю Пон. И если бы отец подарил ей вдруг костюм (что очень маловероятно), она бы не решилась его надеть. Всякий раз, когда она получала дорогой подарок или сама покупала что-то очень хорошее (красивое постельное белье, изящный кофейный сервиз), то бережно заворачивала драгоценность в шелковую бумагу и убирала на самую верхнюю полку шкафа. Хорошие вещи не должны быть на виду, а то привлекут внимание, глаз Сатаны. Выставлять себя напоказ — опасно.
Больше всего мои родители были похожи на дедушку и бабушку Рафаэля с отцовской стороны. Его бабушка говорила с таким же акцентом, как и моя мама, делала такие же грубые ошибки.
— Aji lahna nahobes. Ти сходить купить мне литыр молока в Казино. Ти беречь монета и купить «марс» тебе и другу, Mchekpara.
Вот что она сказала Рафаэлю, когда мы недавно встретили ее у подъезда ее дома. И мы с Рафаэлем радостно улыбнулись, чувствуя свое родство.
У евреев есть еще одно преимущество перед нами: внешность. Большинство из них белокожие. Есть, конечно, и смуглые, похожие на арабов, но чаще они похожи на итальянцев, испанцев, а иногда даже точь-в-точь французы.
Рафаэль как раз француз. Волосы у него тонкие, прямые, гладко причесанные, кожа белая, и он похож на француза-южанина. Вот только глаза его выдают. Они с нашей родины. Глаза марокканца, большие, черные, круглые, готовые смотреть на яркое солнце. Мы разговаривали с ним глазами. Мне нравилось, что мы понимаем друг друга с первого взгляда, иногда, переглянувшись, смеемся, нередко над французами — когда они уж слишком французы. Когда слишком важничают, щеголяя особым акцентом, кудахтают над каким-нибудь пустяком. Никто не понимал, что вызвало наш смех, и нам это нравилось.
Да, мы с Рафаэлем крепко подружились.
Рафаэль
Жюльен скорчил гримасу. Он не желал есть и отодвинул антрекот.
— Порадуй папу, съешь, пожалуйста, мясо! Ты знаешь, сколько стоит кошерная говядина? Даже представить себе не можешь, сколько она стоит! Только богачи могут себе позволить быть верующими.
— Оно недожарено, видишь, какое красное, — не соглашался брат.
— Красное? — рассердился папа. — В кошерном мясе нет крови, оно сухое и белое, и стоит дороже золота.
Вот уже месяц, как мы ели кошерную пищу, но папа не уставал жаловаться на ее дороговизну, вкус и свежесть.
Слушая его, я повторял про себя волшебные заклинания, которые должны были мне помочь исчезнуть. Я знал, он винит меня в нашей домашней революции, и все его упреки я немедленно адресовал себе.
— На самом деле папа доволен нашими переменами, — сообщила мне тихонько мама, хотя и была под впечатлением от дороговизны мяса в лавке Мазеля Това. — Скажу тебе больше, папа гордится, что эти перемены внесли его сыновья.
— Да? Но он все время сердится.
— Ты же знаешь, папа любит поворчать. Но я говорю тебе, он очень доволен вашей просьбой, она избавила его от угрызений совести, а то он постоянно упрекал себя за то, что не блюдет запретов.
— А в ресторане он по-прежнему ест некошерное.
— Ну что ж, — засмеялась мама. — Не может же он сразу во всем сдаться. Теперь дело за ним, он сам будет потихоньку двигаться вперед.
Жюльен решился и проглотил кусочек мяса.
— Вот и хорошо. А теперь я скажу, что я решил, — гордо заявил папа. — Я решил, вернее, я принял даже не одно, а два решения.
Не очень-то я люблю папины решения. Похоже, что и у брата недоброе предчувствие, он смотрит на меня, словно бы говоря: «Ну, сейчас мы с тобой получим! Мало не покажется!»
— Значит, вы хотите, чтобы мы жили как настоящие иудеи? — спросил папа.
Мои опасения подтверждались.
Я опустил голову и постарался, чтобы у меня на тарелке не осталось ни крошки мяса.
— Я к тебе обращаюсь, Рафаэль!
— Ну да, конечно.
Я с трудом выдержал папин взгляд.
— Ну так вот, я записал тебя в школу изучения Торы. Будешь изучать историю евреев и читать на иврите. Готовиться к бар-мицве. По воскресеньям станешь ходить в синагогу и учиться. Что скажешь?
Сообщение, что по воскресеньям мне придется вставать с утра пораньше, меня не сильно обрадовало.
— Мне кажется, мне рано еще ходить в эту школу. Бар-мицва ведь в тринадцать лет.
— Да, но чем раньше ты начнешь, тем скорее все выучишь.
— И мне тоже туда ходить? — встревожился Жюльен.
— Нет, не с этого года.
Брат выразил свою радость тем, что яростно вгрызся в антрекот.
— Рафаэль!
Нет, это не повод, чтобы спорить.
— Конечно, буду ходить. Мне нужно все это выучить. Да, конечно, мне интересно.
Папа радостно взмахнул руками, обрадовавшись, что я с ним согласился, и улыбнулся маме.
— А второе… решение? — отважился спросить Жюльен.
— Это насчет Рождества. Мы больше не будем его праздновать. Этот праздник нас в самом деле не касается.
— Больше не будет Рождества? — жалобно воскликнул Жюльен. — Ни подарков? Ни елки?
Папа замолчал, чтобы придать весомости своим словам, потом сказал:
— Да, никакого Рождества. Мы будем праздновать Хануку.
— Хану… что?
— Хануку. Праздник свечей.
— Праздник свечей, — повторил растерянно брат. — А что делают на этот праздник свечей?
Папа лукаво улыбнулся.
— Будем каждый вечер зажигать свечи.
— Вот это классно, — мрачно отозвался Жюльен, уткнувшись носом в тарелку. — Вместо подарков свечи. Гениально.
Папа засмеялся и вышел из кухни.
Мы с братом, подавленные, остались сидеть за столом. Мама наклонилась к нам.
— Мы будем зажигать свечи и дарить детям подарки, — добавила она.
Жюльен расплывается в радостной улыбке.
А мне немного жаль веселого сладкого Рождества. Но, с другой стороны, мне приятно. Я сделал выбор, и меня услышали. Наша жизнь меняется, потому что мы становимся тем, кем хотели бы быть.
Мунир
«Шофер, если ты чемпион!..» В сотый раз ребята в автобусе повторили припев. Я не знал этой песни, и поначалу она мне даже понравилась. Водитель с улыбкой покачивал в такт головой, и мне казалось, что он заодно с хором. Но потом я понял: с его стороны это была вынужденная вежливость. А сейчас лицо у него стало суровым. Он смотрел на дорогу и, наверное, спрашивал себя, был ли и он в наши годы таким же надоедливым идиотом, и ответ его не радовал.
Я впервые отправился в путешествие на автобусе. Впервые ехал в горы. Впервые должен был встать на лыжи. Страх перед лыжами портил мне всю поездку.
Рафаэль сидел рядом и читал «Астерикса»[13]. «Галла Астерикса». Интересно, почему французы отождествили себя с этим усачом, чья единственная доблесть — пить волшебный напиток? Маленькая деревенька сопротивляется куче злодеев. Смешно.
— Ты уже ездил на таком автобусе? — спросил Рафаэль.
— Да. А ты? Нет?
— Ездил, ездил, — поспешно ответил он.
— И что тогда?
— Ничего. Не знаю этой песни.
Интересно, покраснел я или нет? Иногда я краснею и выдаю себя.
— Брось, она дурацкая.
Я согласился, кивнув. Мне очень хотелось задать еще один вопрос, но я пока не решался.
Рафаэль меня от него избавил, сказав:
— А я, представляешь, никогда не катался на лыжах.
Мне показалось, что окна в автобусе распахнулись и на меня повеяло свежим воздухом.
Да вообще-то многие из нас не катались. Новичков можно узнать сразу — джинсы, кроссовки, куртки или лыжные костюмы, но слишком просторные или слишком тесные, явно с чужого плеча. И они так же недоверчиво смотрят на хвастунов в складных костюмчиках, которые показывают свои «звездочки» и «снежинки» и рассказывают, за что их получили. Черт! С ума от них сойдешь!
— В общем, думаю, это нетрудно! Скользишь себе на двух досочках! Но спорт дурацкий, мне кажется!
Спасибо Рафаэлю, он искренне высказал наше отношение к лыжам.
Мы вышли из автобуса, и у меня закружилась голова. Я не ждал увидеть такой белизны и такого простора. Свет слепил глаза. Ледяной воздух обжигал губы и легкие.
— С ума сойти, до чего красиво! — воскликнул Рафаэль, чувствуя то же, что и я.
Минута смятения миновала, и меня охватила эйфория. Я готов был бежать, кинуться на снег, кататься по нему, даже попробовать его на вкус.
Пункт проката. Рафаэль и я обменялись смешливыми взглядами, обозрев свои ботинки. А когда попробовали идти, то в голос расхохотались. И тут же прикрыли рты — не хотели, чтобы приняли за новичков-дурачков.
— Кто умеет кататься, становитесь справа, кто не умеет — слева! — скомандовал тренер.
На короткую секунду новички заколебались. Решали непростое уравнение, где в левой части отвага и вранье, а в правой — риск. Я посмотрел на трассу, на все петли и повороты и вопросительно уставился на Рафаэля. Похоже, и он не знал, на что решиться. Но вот первый новичок встал слева от тренера, и к нему сразу же присоединилось еще несколько ребят. Мы тоже уже было собрались влиться в команду здравого смысла, но тут Александр заорал во все горло:
— Не бойтесь, девчонки! Сейчас получите санки!
И мы с Рафаэлем решительно надели лыжи, а тренер сразу дал нам несколько советов, как держаться на первых порах.
Родители не хотели, чтобы я ехал кататься на лыжах. Во-первых, им было непонятно, с чего вдруг школа озаботилась такой экскурсией. Школа, она для ученья, а не для забав. Во-вторых, они беспокоились, как бы со мной чего не случилось. И в-третьих, хоть плата за поездку была невелика, для них она была лишним расходом.
Но я настаивал: поедет весь класс! Я что, один буду сидеть в школе?
И еще я приврал: мы не будем кататься на лыжах, только на санках, и потом будем изучать растения и снег, такое нам дали задание.
В конце концов родители согласились.
И теперь страстное желание улетучилось, и я боялся оскандалиться.
Зато когда надел лыжи, страх пропал. Мы все выглядели очень смешными! Кто-то сразу не сумел удержать равновесие, заскользил назад, шлепнулся и не мог подняться, все радостно засмеялись.
Мы с Рафаэлем держались рядышком и надрывались от хохота. Смеялись друг над другом, над своими неуклюжими движениями, нерешительностью, падениями.
Становиться французом нелегко, но весело!
Мы едва ковыляли, когда дружок Александра промчался мимо нас, обдав облаком снежной пыли.
— Завязли, вруны?! — крикнул он.
Я мигом слепил снежок и запустил в него. Попал прямо в затылок. Он не ждал такого, поскользнулся и завалился. Мы застыли от неожиданности, следя, как он там барахтается. Потом снова расхохотались. Слезы текли у нас из глаз и застывали на щеках от холода.
Смех, наше общее неумение еще крепче нас подружили.
Рафаэль
— Рафаэль, вставай! Пора!
Чего бы я ни отдал, чтобы понежиться еще в постельке в это темное декабрьское утро!
Но делать нечего! Папа не уйдет из комнаты, пока я не вылезу из-под одеяла.
Я открыл глаза. Жюльен издевательски мне улыбался из своей кровати. Эту улыбочку мы позаимствовали из фильма Джерри Льюиса[14] и достаем ею друг друга за спиной родителей. Она означает объявление войны. Братишка, как видно, проснулся немного раньше и с радостью ждал, когда мы с папой начнем с ним возиться. Но мне неохота сегодня возиться, нет даже сил вылезать из-под одеяла, и я решаюсь на диверсию.
— Пап, у меня живот болит!
— Знаешь что! Пойдешь у тебя на поводу, так ко дню бар-мицвы ты одни рецепты выучишь!
У отца тон, не терпящий пререканий. Он непоколебим.
Братишка улыбается еще ехиднее: что, получил? Шах и мат! И тоже получает. Я швыряю в него тапочку. Он отклоняет голову и мигом зарывается в одеяло.
А я со злобным ворчанием поднимаюсь. Как же мне холодно! Весь дрожу.
Я терпеть не могу Талмуд-Тору, подниматься с утра пораньше в воскресенье, тащиться по пустынным холодным улицам, представляя, как мои приятели сладко спят в тепле…
Но не только усталость, холод, желание спать мешают мне бодро шагать — во мне растет ощущение гнетущей пустоты, и я безнадежно застываю в девять часов утра перед тяжелой деревянной дверью. Стою и не шевелюсь, делая вид, что у меня есть выбор, что я могу уйти. Как бы мне хотелось превратиться в супергероя, взлететь и снова оказаться в теплой постели! Я сосредоточиваюсь, напрягаю все свои силы, набираю в грудь воздуха и… вхожу.
На самом деле я кажусь себе статистом в любительском фильме, сценария которого не понимаю. Между нами говоря, ходить в школу, где изучают Тору, — все равно что участвовать в фильме, изображающем настоящую школьную жизнь. Здесь, как в обычной школе, классы, только поменьше. Учитель? Раввин и его помощники, сын или дочь. Школьное оборудование? Рваные книги, мятые тетради, изгрызенные ручки. За отсутствием педагогической методики псевдоучитель всегда взывает к авторитету, настолько великому, что у нас должна сразу отпасть охота спорить или дремать. Занятия беспорядочные, они меня только расстраивают. И мне кажется, что с их помощью я вряд ли укреплюсь в национальном самосознании. С чтением у меня никак не ладится, путаю буквы, не могу понять, какой каждой из них соответствует звук. И верх нелепости — не понимаю смысла того, что читаю. В общем, учу не язык, а только как что произносится.
Некоторые из учеников стараются все-таки учиться. Кто-то мечтает или рисует. И все ждут перемены.
Тогда все бегут во двор. Начинаются толкотня, крики, драки. Дикарям дается двадцать минут, чтобы сбросить накопившуюся агрессию.
У раввина мне интересны только уроки истории. С первых же слов я чувствую, что очнулся от летаргии, и у меня начинает работать воображение. Оно превращает слова в картины: лица, фигуры, одежды, пейзажи, свет и тени. Я узнаю о предках, которые жили задолго до меня, об удивительных мужчинах и женщинах, полных необыкновенных достоинств и удивительных возможностей. Что за великолепная у нас история! История, которая через века дотянула свою нить до меня и до тех, кто сидит рядом со мной в этой комнате. Моя фамилия говорит мне о прочной связи колен, которые ведут ступень за ступенью к самому великому из героев — Моисею.
Мунир
В школе после обеда у нас остается еще сорок пять минут свободных. Все выбегают во двор, у каждого своя компания, затеваются игры, кто-то гоняет в футбол, над двором стоит веселый, энергичный шум голосов.
Я всегда с Рафаэлем, у нас тоже сложилась своя компания, и мы иногда играем в футбол, а иногда просто болтаем. Исключение — понедельник. В первый день недели мой лучший друг на меня даже не смотрит, он сидит на ступеньках лестницы, ведущей в медпункт, и что-то рассказывает другим ребятам, всегда одним и тем же. Рассказывает, встает, размахивает руками, кого-то изображает. Скромная публика, похоже, в полном восторге от спектакля.
— Он рассказывает нам историю евреев, — сообщил мне Жан-Люк, один из слушателей Рафаэля. — Ты знаешь, например, что Моисей разделил море на две части, чтобы евреи прошли через него посуху, убегая от фараона?
Вот ведь что! Вот, значит, о чем повествует мой дружок по понедельникам! История евреев! Опять евреи! Похоже, теперь для него это самая главная тема.
— Евреи — наши враги, — заявил как-то Момо, паренек из нашего двора возле дома.
Мы с удивлением на него уставились. Наезжать на евреев дело для нас привычное. Наезжать — это просто такая манера разговаривать, давать понять, что ты сам умнее и лучше. И бранное слово вовсе не презрение, оно запятая, точка, ударение, подчеркивающие ритм фразы.
Слова Момо были утверждением.
— Воровской народ. Где ни поселятся, все к рукам приберут. Занимают лучшие места на предприятиях, селятся в лучших домах. Украли целую страну у палестинцев. Считают, что все, что ни есть в мире, ихнее. В общем, в Коране написано, что всех их надо уничтожить.
Ребячьи головы зашевелились, выражая удивление или согласие.
Меня поразили слова о Коране. Может ли такое быть? Чтобы Пророк призывал к убийству?
— Да ты чего? Не веришь? Пойди на площадь Дю Пон, там кому все лавки принадлежат? — засмеялся Хусейн.
Хусейн вечный подголосок. Хитрый, завистливый, ему бы самому хотелось все себе заграбастать.
А про площадь Дю Пон верно: евреи продают, мусульмане покупают. Восточные материи, джинсы, платья, украшения… Они знают, что арабам нравится, вот и торгуют. Там на площади вечная ярмарка.
Площадь находится на пересечении улицы Поль-Берт, проспекта Гамбетта и большой улицы Гийотьер. Все три улицы торговые, одни сплошные магазины, набитые всевозможными товарами. Я бывал там иногда с папой и никогда не замечал ни малейшей вражды, ревности или ненависти между евреями и мусульманами. Наоборот, все болтают, шутят, торгуются. Папа чувствует себя непринужденно на этой ярмарке: сердечность, яркие краски — все напоминает ему родину. Он не опасается здесь косых взглядов, насмешек, недоброжелательности. Хотя иногда я чувствовал за внешним добродушием настороженность. Неужели евреи из выгоды прячут свою враждебность? Неужели за улыбками арабов таится ревность к удаче своих более успешных земляков?
Я немного сбит с толку. Моя искренняя симпатия к евреям время от времени наталкивается на явную, ничем не обоснованную нелюбовь к ним отдельных моих соплеменников. Их немного, но им никто особенно не возражает, так что в воздухе повисает невольное сомнение: а так ли искрення доброжелательность остальных? Конечно, и среди евреев есть злопыхатели, которые не скрывают враждебности к арабам, так что пламя ненависти подпитывается с двух сторон.
Я спросил отца о Коране.
— Какая глупость! — возмутился отец. — Ислам никогда не требовал гибели евреев.
Слова отца меня успокоили. Но до чего же трудно во всем этом разбираться! И ведь правда, были бы евреи в самом деле нашими врагами, разве мы жили бы вместе? Разве покупали бы у них в магазинах еду и одежду? Разговаривали с ними? Общались по-соседски?
Рафаэль — мой лучший друг, единственный не араб, с которым я чувствую себя самим собой, открываясь незнакомому миру. Евреи показывают нам, кем мы могли бы стать, умей мы лучше приспосабливаться к французам.
Возможно, именно поэтому я и не хочу слушать по понедельникам его рассказы из Библии. Чем больше он чувствует себя евреем, тем больше отдаляется от меня, потому что я хочу совсем другого — я хочу быть французом. Как-то раз в очередной понедельник я попытался отвлечь его футболом, придумал сложности, попросил помочь мне, но безуспешно. Рафаэль торжественно направился к месту, где привык разыгрывать свой театр, и с ним вместе пять дурачков, ожидающих волшебных историй.
Вообще-то мне было обидно, что он ни разу не позвал меня послушать свои рассказы. С какой стати он исключил меня? Несправедливо. Мы подружились, потому что оба сильно отличались от французов. А теперь он доверяет больше французам, им рассказывает, чем от них отличается. Я мало что знаю об истории мусульман. Знаю только главные события из жизни нашего пророка Мухаммеда. Но я не мог бы больше пяти минут говорить перед публикой. Это не мое.
Рафаэль открывает для себя иудаизм и отстаивает его. Я не хочу, чтобы меня любили за мусульманство. Я хочу, чтобы арабов не презирали.
Рафаэль
Сентябрь 1972
Постепенно я стал евреем. Рывками. Пинками.
Случай в бассейне, случай с воспитателем-расистом раскрыли мне глаза на то, что я не такой, как другие. До этого я считал, что мы отличаемся коротенькими историями, уходящими корнями у одних в дальние уголки Франции, у других — Испании или Марокко, но школа обязана избавить нас от всего лишнего, отмыть от родимых пятен, превратить в совершенно новеньких детей-французов. Ничего подобного. Я ошибался. Во Франции хотели, чтобы я был евреем, и я им стал. Взгляды, которые на меня бросали, слова, отношение ко мне вынудили меня понять, что я чем-то от всех отличаюсь.
И я сделался сионистом.
Неужели война и ненависть — главная закваска для самоопределения?
Я знаю, какие события, какие факты протянули невидимые нити между мной и Израилем. Нити, которые трудно обозначить, но они ощутимы и действенны. Я имею в виду нити духовной и телесной связи, которую на протяжении всех времен евреи, где бы они ни жили, поддерживали со своей родной землей. Никому другому не понять этой связи. Да и как ее понять, если чувствовать ее дано только нам, евреям?
Назвав себя сионистом, я не имею в виду принадлежность к политическому движению. Слово «сионист» стало ругательством в устах темных людей, извративших его смысл; антисемитов, трусящих признаться в своей враждебности. Я имею в виду совсем другое — теплый ветер, который время от времени перелетает через все границы, проникает сквозь стены и касается нашей кожи, наполняет ноздри сладким ароматом, тревожит душу, пробуждая в ней невероятные воспоминания, открывая суть слова «изгнание». Дуновение это сравнимо с видениями, которые посещают эмигрантов, вспоминающих родину. Израиль — наша родина. Наша история неразрывно связана с ним.
Израиль. Время от времени это слово звучало у нас в доме. Для родителей оно было источником тревог и озабоченности. Для ребенка, каким я был тогда, означало нечто таинственное, связанное с Иерусалимом.
Тель-Авив в новостях на первом канале. Папа с мамой включают громче звук, шикают, требуя тишины, с тревогой качают головами.
Значит, Израиль имеет к нам и нашей семье какое-то отношение?
В школе изучения Торы об Израиле говорили как об определенном месте и определенном периоде истории, когда происходили необыкновенные события. Израиль — это прошлое и одновременно будущее.
А для меня тогда Израиль был частью истории народа, к которому принадлежал и я.
Но тогда я еще не связывал себя с этими исполненными смысла понятиями: «Земля обетованная», «двенадцать колен», «Израиль», «иудаизм»…
Мне хватало других трудностей: я отыскивал свое место в мире, разбираясь с Марокко, Францией и своим еврейством.
Если бы нагрянувшие события не поставили для меня вопрос ребром, я бы, наверное, выбрал в себе все-таки будущего француза. Да, конечно, чтобы преуспеть, мне надо было закрыть глаза и забыть все картинки из книги о холокосте, которые пульсировали в моем мозгу. Но какой ребенок не откажется от кошмаров ради прекрасной мечты?
Но в сентябре 1972 года я стал израилитом, то есть евреем, связанным с землей Израиля.
5 сентября. Зазвонил телефон. Мама взяла трубку. Я увидел, как она внезапно побледнела и тихо с горестным удивлением сказала:
— Господи! Когда это случилось? По радио? Но кто?
Мы перестали играть, ждали, когда она положит трубку, чтобы спросить, что случилось.
Но мама, поговорив по телефону, побежала на кухню, поминая всех святых. Включила радио и села слушать, настороженная и встревоженная.
Нам не пришлось задавать никаких вопросов, радио объяснило причину ее волнения.
«Сегодня утром около пяти часов утра боевик-террорист проник в Олимпийскую деревню на территорию израильской делегации. Он открыл огонь и убил двух израильских спортсменов, девять других взял в заложники. Полиция заблокировала Олимпийскую деревню».
— Господи! Да как посмели! Это же спортсмены! Мальчишки!
Воздух внезапно стал тяжелым, нам пришлось приоткрыть пересохшие рты, чтобы глотнуть хоть каплю кислорода. Мы подошли к маме, нам хотелось понять, почему она так сильно напугана. Она почувствовала, что мы рядом, и крепко-крепко прижала нас к себе.
— Что случилось? — едва слышно спросил Жюльен.
— Ничего, деточки мои, ничего не случилось.
Разве можно успокоиться, получив такой ответ? Но настаивать мы не решились. Мама не отрывала глаз от радио, она продолжала внимательно слушать. Время от времени она восклицала:
— Господи! Рав Хаим Пинто![15] Раби Меир Бааль Анес![16]
Мама призвала Господа и праведников, значит, дело было серьезным. Она поминала их только в очень серьезных случаях. Поначалу, совсем маленьким, я думал, что это имена супергероев. Они мчатся по небу в огненных колесницах, в развевающихся плащах со сжатыми кулаками. Но в один прекрасный день мне попалась на глаза фотография реббе Хаима Пинто, она лежала у бабушки на тумбочке: сухонький старичок, одетый по-восточному, с длинной седой бородой. Сначала я очень огорчился. По моим представлениям, супергерои не старели. Но потом я понял, что его супермогущество в чем-то другом, оно в его глазах, во взгляде, полном мудрости.
— Ты знаешь, кто это? — спросила бабушка.
Я кивнул.
— Рав Хаим Пинто. Внизу написано.
— Святой человек. Он родом из нашего города. Знал бы ты, сколько он совершил чудес.
Я вздрогнул. Чудес? Значит, он все-таки супергерой? И я потребовал, чтобы бабушка мне все о них рассказала. Бабушка Жакот только того и ждала. Я не буду вам пересказывать все, что она мне в тот день поведала. Ваша улыбка причинит мне боль. Нужно родиться в Марокко или верить в Бога, чтобы понять нас с бабушкой.
Утро шло под знаком радионовостей. Услышав музыкальный сигнал, мама бросала все дела, садилась около радио и шептала святые имена. Мы играли молча. Ни смеха, ни криков. Слово за слово, мама потихоньку кое-что нам объяснила. Почему она так испугалась? Потому что пострадали спортсмены или потому что пострадали израильтяне? Они что, наши родственники? А почему тогда нам о них никогда не рассказывали?
Мы задавали вопрос за вопросом.
— Их взяли в заложники, потому что они евреи. Как мы.
Как мы. Значит, и нас могут взять в заложники? Значит, есть люди, которые так ненавидят евреев, что хотят их убить? Но папа же сказал, что ненависти больше нет, что никто на них… на нас больше не нападает, потому что у них… потому что у нас… есть своя страна.
Нежданно-негаданно папа пришел в этот день домой обедать. Он открыл дверь, опечаленно взглянул на маму и сразу подошел к радио. Должны были передавать новости.
Папа обнял нас, прижал к себе. И он тоже. Он обещал защиту своим детям. Возможным жертвам.
Весь этот день до поздней ночи прошел в тревоге. Уже лежа в постели, мы прислушивались к голосам родителей: что они говорят? Как они говорят?
Самую страшную новость они узнают, когда мы уже будем спать.
Покрасневшие глаза мамы, обострившееся лицо отца, их нежность к нам на следующее утро сообщат нам печальную весть раньше, чем мы услышим взволнованный голос журналиста.
Одиннадцать израильских спортсменов были убиты террористами во время попытки немецкой полиции освободить заложников.
Потом в газетах появятся фотографии выживших спортсменов в трауре. И еще фотографии — весь израильский народ оплакивал своих сыновей, матери рыдали у могил своих детей.
Террористы толкнули меня на путь сионизма, тени нацистов заставили почувствовать себя евреем. Никому из них я не благодарен.
Позже, когда Моссад[17] уничтожит этих террористов, я буду хлопать в ладоши.
Мунир
Я попросил папу объяснить мне, почему столько разговоров о черном сентябре и заложниках. Меня встревожили слова Салима, моего приятеля, а он сказал во дворе несколько минут назад:
— Когда убивают евреев, весь мир рыдает. А когда арабов, всем плевать.
Ему возразил Абдель:
— Что ты такое говоришь! Спортсменов убили!
Абдель, он добрый, спокойный. В квартале слывет мудрецом, а Салим — террористом. Они постоянно спорят, и огнем споров закаляется их дружба. Салима восхищает мудрость Абделя, Абделя — сила Салима, благодаря которой он сделался среди ребят вожаком.
— Скажешь тоже, спортсменов! Солдат! В восемнадцать лет они все уходят в армию. Учатся убивать палестинцев, уроды!
Салим строчит грубыми словами, как из пулемета. Абдель степенно ему отвечает. Он говорит так тихо, что мы невольно подходим ближе, чтобы расслышать, что он говорит. Взгляд Салима нас останавливает. Взрослые парни не любят, когда мы болтаемся у них под ногами.
Я тороплюсь домой, чтобы задать папе все волнующие меня вопросы: спортсмены или солдаты? Жертвы или уроды? Все только и говорят об убитых. Радио, телевидение, молодежь, старики, мясник, булочница, соседи. А он что думает? Какое его мнение? Или это его вообще не интересует? А я? Как мне разобраться в своих чувствах, которые раздирают меня на части? Я не могу не испытывать сочувствия и жалости. И стыда тоже, потому что террористы были арабами и все на свете арабов ненавидят. Но мне не безразличен и всплеск их ярости, он так жесток, потому что глубоко внутри в нем таится безнадежность и обреченность… Папа мне поможет. Сейчас вот вернусь домой и все у него выспрошу.
— Они сделали злое дело, сынок. Убили молодых мальчиков.
— Но говорят, что все евреи солдаты и они убивают палестинцев.
— Но не эти, эти были спортсменами. Нельзя убивать молодых.
— Но израильтяне тоже убивают молодых. И всем в мире на это наплевать.
— Это нехорошие мысли, сынок. Не надо допускать до себя войну. Она разделяет евреев и арабов.
Отец махнул рукой — он всегда махал рукой, когда волновался, — и ушел. Нет, отец не успокоил меня, не разрешил моих вопросов. Наоборот, прибавил к ним еще новые.
Почему плохо отделяться от евреев?
Я думаю о Рафаэле. Что он чувствует? Возмущается арабами?
Стоит мне с ним поговорить или нет?
Мы никогда не касаемся проблем, о которых спорят все вокруг. Не чувствуем себя взрослыми, не решаемся говорить о слишком серьезных вещах. Наверное, нам хочется жить в мирке, который нас сближает. Мы не спешим в мир к взрослым, где пылают гнев и ненависть, где все друг друга оскорбляют.
И потом, я-то что могу? Что могу для палестинцев? Для израильтян? Не стоит мне о них думать. У меня своих бед довольно — и сейчас, и в будущем. Зачем мне переживать из-за людей, которые тратят жизнь на то, чтобы убивать друг друга?
Нет, признаюсь честно, ненависть мне совсем не интересна.
Рафаэль
Мы с Муниром понимаем друг друга. Нас одно и то же смешит, одно и то же тревожит, мы одинаково чего-то стесняемся, одинаково чему-то радуемся. Мунир научился лавировать между моими приятелями французами, с которыми я общаюсь, и своими приятелями арабами. Его друзья тоже меня принимают — отчасти из симпатии, отчасти из уважения к Муниру, который пользуется у них авторитетом.
Среди французов мы с Муниром в особицу. Всегда вместе, всегда заодно. Нас приняли, хотя мы другие, не похожи на них. Мунир смуглый, такой же, как Жюльен. Дедушка с бабушкой у него берберы[18]. Его мама родилась в деревне неподалеку от Могадора, точь-в-точь как моя бабушка с маминой стороны. Теперь Могадор называется Эс-Сувейра, но бабушка не хочет так его называть. «А картина как называется, „Люди Могадора“[19] или „Люди Эс-Сувейра“?» — лукаво спрашивает она, имея в виду фильм, который так полюбился зрителям первого канала, и в особенности марокканским евреям.
Этот фильм — бабушкина услада. Благодаря ему французы открыли для себя ее родной город, удивительной красоты пейзажи, уклад жизни марокканцев. А что французы думали? Что мы бескультурная деревенщина? Конечно, кто не заметит, с каким пренебрежением французы относятся ко всему арабскому. Но одно дело арабы, а другое — марокканцы. Или, например, алжирцы. Не надо нас с ними путать. Пье-нуары[20] сбежали во Францию, не прихватив с собой ничего, они потерпели крушение, удрали от тех, кого считали слугами, кем помыкали. А марокканцы уехали добровольно, как достойные люди. Сам король сожалел об отъезде своих евреев. О чем это говорит? О том, что евреи жили в полном согласии с мусульманами.
Конечно, понятное дело, уехали они зря, и теперь они это понимают…
Но и среди марокканских евреев есть разные. Могадор в Марокко занимает особое место, он на первом месте среди городов. В Могадоре знают, как жить правильно. В нем живут культурные люди. Вот бабушка, например, очень много знает полезного. Так откуда же столько презрения, даже тогда, когда она говорит, что родилась в Могадоре?
Бабушка гордится своим родным городом, своим детством, своей страной. Порой мне даже казалось, что бабушкин Могадор — это совсем не тот город, это не Могадор месье и мадам Басри, родителей Мунира. При каждом удобном случае бабушка повторяет: «Мы, могадорцы…», — горестно сожалея о невозвратно ушедшем прошлом времени. Могадор, рай земной, полный красок, движения, жизни, застывший и обратившийся в соляное кладбище, когда она обернулась, чтобы посмотреть на него в последний раз. И вот она опять и опять вспоминает свой город, надеясь, что слова рано или поздно сложатся в заклинание и оно перенесет нас в ее пестрый мирок, полный пряных запахов.
Бабушка жила воспоминаниями. Настоящее для нее не существовало. Каждый день она наслаждалась возможностью вновь отправиться в свой музей с бесчисленными картинами, охотно водя по нему тех, кто соглашался ее терпеливо слушать, прихлебывая мятный чай. Слушателями оказывались чаще всего ее внуки, прибегавшие к ней полакомиться восточными сладостями.
И когда мы приходили в восторг от какой-нибудь ее истории (что случалось все реже и реже, потому что запас их был ограничен), бабушка сияла, повторяя: «Удивила вас? Вот так-то. А в Могадоре все так и было». Она рассказывала, пересказывала, повторяла и повторялась. Словно боялась, что у нее не хватит времени пересказать нам все ее пятьдесят лет жизни, которые предшествовали «ошибке». По ее мнению, уехать из Марокко и найти себе прибежище в Лионе было очень большой ошибкой. Послушать ее, так нам не было никакого смысла уезжать. Там, по ее словам, мы не были «пустым местом».
Бабушкины истории были тем наследством, которое она хотела передать нам в неприкосновенности.
«За твои сто двадцать лет, бабушка!» — пожелали мы ей на ее последнем дне рождения.
«Сто двадцать лет? — переспросила она. — А зачем мне столько?»
«Чтобы быть нашим Моисеем. Жить и передавать нам свое прошлое, свою мудрость».
Дедушка предпочитал молчать. Он сидел в красном плюшевом кресле и рассеянно прислушивался к словам жены. Когда дело доходило до смешной истории, он улыбался или горестно покачивал головой, но продолжал молчать. Так он отстранял от себя шум города, чтобы слышать плеск морской волны о камень набережной.
— Дедушка!
Он не слышит.
— Дедушка!
Возвращается из страны грез ко мне.
— Что, детка?
Смотрит на меня ласково.
— А как вы жили с мусульманами там, в Марокко?
— Хорошо, детка, жили.
— Евреи дружили с мусульманами?
Похоже, мой вопрос его удивил.
— Конечно, мы были как братья.
— А с кем вы больше дружили, с марокканскими французами или с мусульманами?
— Французы не марокканцы. Они приезжали, чтобы заработать денег. А евреи и мусульмане — марокканцы. Мы все там родились.
Последние слова он произнес с улыбкой, так это было ясно и просто.
— И все-таки евреи и мусульмане — враги.
Дедушка ненадолго задумался.
— В Израиле они враги. Но там другие мусульмане. А у нас совсем другая история.
Он ищет убедительный довод, чтобы показать разницу.
— Мы друзья, мы вместе росли.
— Мама говорила, что она училась во французской школе.
Дедушка вздохнул.
— Французы построили школы для своих детей, и евреи захотели учить в них своих, чтобы… Чтобы быть в большом свете, вот зачем! И мы тоже. Как все, так и мы. Но французы нас никогда не любили. Мы им были нужны, чтобы работать с арабами.
— А почему мы тогда уехали?
Вопрос причиняет дедушке боль, я чувствую, что сыплю соль на рану. Он замолкает, думает, потом садится поглубже в кресло и начинает смотреть в окно. Я жду, но я жду напрасно. Он забыл обо мне, забыл о моем вопросе. Нет, вернее, он забыл ответ. Обычно, когда дед уходит в страну грез, мы его не трогаем, встаем и не мешаем ему там странствовать. Но сейчас мне нужен ответ, и я не даю ему возможности уплыть к другим берегам.
— Дедушка!
Он смотрит на меня так, словно только что увидел.
— Что, малыш?
— Ты мне не ответил. Почему мы уехали из Марокко?
Он разводит руками, показывая, что сам в недоумении.
— Не знаю. Думаю, что испугались. Война в Алжире… Там убивали и французов, и евреев. Испугались, что и у нас может случиться то же. Мы уехали. Мы их обидели.
— Обидели?
— Они говорили нам: «Не бойтесь, мы не такие, как алжирцы». И это правда, они не такие. А мы не поверили и испугались. Даже король пытался нас успокоить.
— А короля вы вправду любили?
Дедушка хмурит брови, давая мне понять, как нелеп мой вопрос.
— Что значит — вправду? Это же наш король!
Он погружается в раздумье, потом возвращается и говорит, понизив голос, словно доверяя мне тайну:
— Когда его отец, Мухаммед V, умирал, мир теперь его праху, мы очень, очень боялись. Ходили слухи, что после того, как он уйдет в мир иной, завистники набросятся на евреев, будут их грабить и убивать. Мы тогда заперлись у себя в домах. История нас научила, что новые короли часто поднимаются на трон, попирая головы евреев. Но когда Мухаммед V умер, его сын, Хасан II, объявил в своей речи: «Ничего не бойтесь. Мой отец на смертном одре сказал мне: „Береги евреев нашей страны. Они наши подданные. Они наше богатство“». Мы все тогда плакали, были тронуты, что король так сказал о нас. Его слова нас утешили, нам стало стыдно, что мы усомнились в своих братьях. Но прошло несколько лет, и страх снова к нам вернулся, и мы тогда побежали. История нас ничему не учит. Даже в Торе об этом сказано. Мы народ жестоковыйный.
Я оставил дедушку странствовать в стране грез. Меня ждал Мунир. Мой исторический брат, подданный нашего короля, собрат по бегству.
4. Разлука
Рафаэль
Мы собрались переезжать. Новость обрушилась на нас с Жюльеном неожиданно, и мы расстроились.
Зато мама была очень довольна и без конца смотрела квартиры. Вечером она отчитывалась перед папой. Нас с братом мучили два вопроса: будем ли мы жить в том же квартале? Будем ли ходить в ту же школу?
Почти все еврейские семьи уже успели переехать из этого квартала в центр Виллербана. После большого притока эмигрантов-алжирцев — пье-нуаров, харки[21], евреев из Алжира — количество ссор и стычек в квартале увеличилось. Дома переполнились жильцами, окрестные улицы и дворы почти не убирались, можно было подумать, что ты оказался в стране третьего мира, где никто не заботится о своих обитателях. И тогда все, кто мог, не колеблясь, стали переезжать. Перемещение неизбежное и постоянное. Стадное чувство у нас сильно развито, мы не смогли ему противостоять.
Поначалу евреи с мусульманами продолжали жить вместе, встречались по утрам на улице, ходили друг к другу в гости, дружили, как привыкли на родине, держались вместе, дорожа поддержкой друг друга среди чужаков. Евреи и арабы держались друг за друга, чувствуя свое родство в общем неблагополучии. Ощущение чужеродности, трудности приживания к непривычным условиям сближали их. На поверхностный взгляд, жизнь текла без особых сложностей. В домах привычно пахло пловом с пряностями, слышались смех и гортанная речь. По вечерам в пятницу мужчины собирались у подъездов, желая потолковать, посмеяться, поиграть в карты. Но на деле все было не так-то просто.
Для евреев квартал Оливье-де-Серр был всего-навсего пересадочной станцией. Шлюзом. Перевалочным пунктом. Лагерем, раскинутым перед тем, как идти на приступ Франции. Они задерживались здесь на несколько месяцев, боясь упустить свой шанс встроиться в новую жизнь. Не желая застрять навсегда в гетто, в плену традиций, утратив возможность стать настоящими французами.
Мои родители никак не могли понять, почему их друзья, алжирские евреи, так ядовито говорят об арабах. Но в споры никогда не вступали. «Это их дело. У них все по-своему», — как-то сказал папа. Сами они чувствовали себя марокканцами, у них увлажнялись глаза, когда на экране или в газетах появлялся Хасан II, когда они могли поговорить с земляком, какой бы веры он ни был.
Злоба наших единоверцев алжирцев по отношению к арабам и нелюбовь к ним арабов были едкой кислотой, что подспудно текла и разъедала сердца. Алжирская война не кончилась, она все еще требовала жертв.
— Знаешь, на что это все похоже? — спросил как-то отец у своего приятеля. — На болото. Люди надеются из него выбраться, шагая по головам тех, кого винят в своей беде. Французы, недовольные поражением, топят пье-нуаров, пье-нуары — евреев и арабов. Евреи топчут алжирцев, арабы — харки. Результат? Утонут все.
— А мы тоже топим арабов? — решился я спросить.
Меня так волновала эта тема, что я нарушил непререкаемое правило, установленное отцом: никогда не вмешиваться в разговоры взрослых. Я ждал выговора, но, к моему удивлению, отец посмотрел на меня с любопытством.
— Мы? Мы марокканцы. У нас нет никаких причин злобиться против мусульман нашей страны. А вот здесь нам сложнее.
— Почему сложнее?
— Здесь мы связаны с общиной, а значит, должны быть согласны с другими евреями, хотя у нас могут быть иные взгляды и представления. На протяжении долгих веков мы жили с арабами в дружбе и в конце концов стали на них похожи. По сути, евреи Марокко, Алжира и Туниса отличаются друг от друга так же, как отличаются мусульмане этих стран. Я уверен, что различий между сефардами и ашкеназами[22] гораздо больше, чем между евреями и мусульманами.
Как же сложно быть евреем! Марокканским евреем. Иудеем-французом, родом из Марокко!
С кем я должен дружить? Кого любить? Кого поддерживать? Кто для меня друзья? Кто враги?
Для ребенка очень важно понять, кто он такой, познакомиться с общим для всего его клана прошлым, сжиться с укладом, узнать взгляды друзей и врагов. А что делать мне? Настоящее сближает меня с марокканцами, далекое прошлое — с евреями. А что касается уклада — религия диктует мне одни законы, обычаи — другие.
А будущее сулит еще и не такие разлады.
Мунир
— Мы скоро переезжаем, — сообщил мне Рафаэль, когда мы сидели, пытаясь отдышаться и прийти в себя после футбольного матча.
Такого я не ждал, новость здорово меня поразила, но я постарался не показать виду.
— И вы тоже? — протянул я. — Все евреи снимаются.
— Двинем дальше. Поближе к небоскребам.
— Как все.
Рафаэль уловил в моем голосе нотку раздражения. С отъездом евреев квартал у нас здорово изменился, атмосфера стала совсем другой. Евреи покинули Марокко и увезли с собой частичку истории страны, теперь они снова нас оставляли, Рафаэль увозил от меня частичку настоящего.
— Будешь ходить в другую школу?
— Наверное.
Я покачал головой, как делают взрослые, покоряясь фатальной неизбежности. Мне было тяжело. Я искоса взглянул на своего друга и понял, что и ему тоже не по себе. Мне стало легче и грустнее одновременно.
— Папа сказал, что евреи и арабы не могут больше жить вместе. Алжирцы к нам очень недоброжелательны.
— Но мы же не алжирцы, — отозвался я с излишней, наверное, поспешностью.
— Папа тоже так говорит, но здесь у нас не так много марокканцев.
Мы примолкли, совсем не так, как, когда не нуждаясь в словах, наслаждались наработанным день за днем пониманием и дружеским согласием. Теперешнее молчание угнетало нас, свидетельствуя о скованности, мешавшей обсудить множество мучительных вопросов. До этой минуты мы были одно, а теперь, похоже, обнаружили, что мы разные. И наше молчание подтверждало, что мы отдаляемся друг от друга, жестоко и неотвратимо.
— Я буду приходить к тебе. Будем видеться, — заговорил Рафаэль. — И ты ко мне тоже.
— Ага.
Почему бы нет? Но я знал: этого не будет.
— Когда переезжаете?
— В июле.
Впереди у нас было еще несколько месяцев, и это меня утешило.
— Ну ладно, я пошел, — сказал я.
— Уже?
— Дела, понимаешь?
— Ну да, у меня тоже.
Мы разошлись. Пошли каждый к своему дому.
— Что это с тобой? — спросила мама, глядя, как я яростно намазываю хлеб нутеллой.
— Ничего.
— Сыночек! Я тебя родила, я тебя кормила, я тебя растила. Я знаю, когда тебе хорошо и когда плохо.
Мне не хотелось с ней откровенничать. Жаловаться маме? Все же как-то стыдно. Но на сердце было так тяжело, что я не мог не ответить.
— Семья Рафаэля переезжает.
— Вот оно что. Значит, и они тоже, — вздохнула мама.
— Он сказал, что из-за алжирцев. Евреи с ними не ладят.
Мама снова вздохнула и соединила ладони в знак покорности.
— Не стоит говорить плохое про алжирцев, они такие же мусульмане, как мы, — наконец сказала она. — И большинство из них ни в чем дурном не замечены.
— Они действительно такие же, как мы?
— Мы отличаемся культурой, взглядами, но у нас одна религия.
— Что значит культура, взгляды? Папа тоже говорит, что мы разные.
Мама покачала головой, сомневаясь, имеет ли право вести со мной такие разговоры, но потом все с той же покорностью воздела руки к небу.
— Нас растили по-разному. В Марокко правит король, там есть города, школы, разные учреждения, есть артисты. Это богатая страна. Большинство алжирцев, приехавших во Францию, жили в глухих углах. У них не было короля. Они жили племенами, и у каждого был свой вождь. Они ютились в лачугах, и кое-кто ел прямо с земли, как, бывает, едят и у нас в деревне. И к тому же алжирцы вспыльчивые, задиристые.
— Но они позволили хозяйничать у себя французам. Взбунтовались и выкинули их вон.
— Да. Это так. Они воины.
— А тунисцы?
— Они немного не в себе, всегда смеются, но, в целом, ничего, симпатичные.
— Мусульмане все заодно?
Брови мамы взлетели вверх.
— Да-да, конечно.
Двойное «да» означало «нет» или, скорее, «не совсем». И тон ее говорил о том же.
— И евреи заодно.
Я высказал свое утверждение без большой уверенности, скорее как вопрос.
— Да, это так. Нам бы тоже так надо.
— Мальчишки постоянно смеются друг над другом. Даже алжирцы между собой тоже насмехаются. Из-за того что из разных мест. Кто-то из Алжира, кто-то из Константины, кто-то из деревни.
— Они еще маленькие.
— А их родители не насмехаются?
— Нет. Нет.
Значит, «да».
— Мы арабы или мусульмане?
— Мы мусульмане. Но здесь все называют нас арабами. Так что выходит, что это одно и то же.
— Мне Рафаэль ближе, чем… Чем мусульмане.
— Конечно, он же из Марокко.
— Но он же еврей.
— В Марокко человек прежде всего марокканец, а потом уж кто как захочет.
— А мы тоже переедем?
— Ай-ва, сынок! Вот этого я не знаю, — отозвалась мама и хлопнула себя по бедрам, давая мне понять, что я ей уже поднадоел. — Такие вещи решает отец. Мне нравится наш квартал, но квартира тесновата. Может, и переедем. Там видно будет.
Сколько раз я уже думал, что был бы куда счастливее в Марокко. Там мне не пришлось бы ломать голову, кто я, с кем я. Был бы марокканцем, мусульманином и точка. Мне бы этого хватило.
Жизнь между тем у нас в квартале шла своим чередом. Сулила надежды. Грозила безнадежностью. Мальчишки играли на мостовых и на пустырях в футбол, женщины рассказывали друг другу о том, как жили у себя в деревне, что стряпали, говорили о мужьях и детях, мужчины толковали о работе и скачках, открыв для себя это удовольствие. Одни, желая занять место повыше, рассказывали, как успешны они на работе, какие хорошие у них заработки, какие у семьи связи. Другие искали сердечного тепла среди соплеменников, чтобы хоть ненадолго забыть о своем неуюте, об унижениях и неудобствах жизни в чужой стране. Для отцов семейства счастливое будущее детей служило оправданием их теперешнего невыгодного положения, на которое эти гордые мужчины променяли свое прошлое.
И вот они опускали глаза, сгибали спину, улыбались. Они считали нужным постараться, чтобы была забыта война в Алжире, чтобы привыкли к нашему не всем удобному присутствию, к ошибкам во французском, к акценту.
Чуть подальше в стороне у скамеек собирались будущие мужчины, они гордо поднимали голову, расправляли грудь, напрягали мускулы. Они приехали сюда работать, приехали, потому что их позвали. Они не знали за собой никакой вины. Им не в чем было раскаиваться. Прошлое, изуродовавшее старших, не имело к ним отношения. В них кипела юность. Они выбирали себе будущее, выбирали по своим возможностям. Самые отчаянные сбивались в банды. Время предоставило им такую возможность. Банда представляла собой силу. Дать понять, кто ты есть, взять под свой контроль территорию, установить свои законы и отчаянно защищать их от всех других — так понимали свое назначение эти парни. Банда с улицы Оливье-сюр-Серр сложилась именно так. Быть мужчиной — значит идти прямо, с гордо поднятой головой. Во враждебной вселенной нужно уметь драться.
Рафаэль
Переезд в «город» подразумевал существенные перемены в нашем образе жизни. Три стоящих рядом дома не только внушительно выглядели, но были снабжены всевозможными современными удобствами: ставнями на роликах, широкими коридорами, подстриженной изгородью, удобными автостоянками.
К тому же в каждом подъезде сидел консьерж. А возле домов за оградой зеленела лужайка, стояли трое качелей, горка и песочница.
Одним словом, налицо были признаки благосостояния, которые позволяли моим родителям рассматривать наш переезд как следующий этап внедрения во французское общество. Присутствие в доме французских семей было также источником гордости для моих родителей. Мы попадали в общество «добропорядочных семей»: служащих государственных учреждений, работников магазинов. Словом, нас окружал средний класс, к которому они вскоре надеялись примкнуть. Среди жильцов были даже два полицейских, что служило в глазах папы и мамы залогом особой респектабельности.
На самом деле все было далеко не так лучезарно. Французов там было совсем немного. Остальные — такие же, как мы, иммигранты со всех концов света. И французы здесь поселились не по своей воле, а под давлением обстоятельств. Они вынужденно терпели сложившуюся ситуацию. Для оптимистов эти квартиры были временным пристанищем на пути к другим, более достойным, домам и кварталам. Для пессимистов — зримым доказательством провала. Мы об этом не подозревали.
Для детей подобных проблем не существует. «Площадка», как мы стали называть отведенную для нас территорию, отлично подходила для наших игр, футбольных матчей, встреч и общения. Здесь собиралась ребятня со всех соседних улиц.
Мы никогда не обсуждали своих родителей, не говорили, кто из них где работает. Вопрос был деликатным, на этот счет у нас была повышенная чувствительность. Зато мы говорили о верованиях и о тех странах, откуда приехали. Развеселясь, мы посмеивались над обычаями друг друга, но никогда не смеялись зло. Каждый из нас отстаивал свои обычаи, дорожил своим прошлым, историей, верой, но мы были едины в стремлении завоевать Францию, не обращая внимания на остракизм французов. Наше отношение к ним было — как бы это сказать? — неоднозначным. Если честно, то я думаю, что мы упрекали их в том, что они оказались совсем не такими, какими мы представляли их в своих фантазиях. Родители увлекли нас в поход за французскостью, словно крестоносцев за Граалем, потребовав воли, беззаветности, готовности расстаться с нажитыми привычками. Встреченные нами французы вызвали у нас сомнения: стоит ли тратить столько усилий?
Они были сосредоточены на себе, мы их совершенно не интересовали, они не понимали, что мы чувствуем и переживаем. Их внешнее спокойствие представлялось нам застылостью. Их не тревожило прошлое, не волновало будущее. Ни за прошлое, ни за будущее у них не было нужды бороться. Им не надо было собирать свою волю, утверждать себя, формировать свою судьбу. Они были просто французами у себя во Франции.
А мы испытывали к ним подозрение. Может, они дети или внуки коллаборационистов? В недавней истории французов не было ничего героического, она не казалась нам интересной. Когда мы в школьном дворе смотрели на них, они опускали глаза, затаивались. За редким исключением, они не защищались; криво усмехались, принимая насмешки, но никогда не лезли в драку. Их безропотность действовала угнетающе, а иногда бесила.
Настоящими героями в наших глазах были американцы. Веселые, энергичные, полные жажды завоеваний. Вестерны и приключенческие фильмы с Джоном Уэйном, Робертом Митчем, Чарльзом Бронсоном, Кирком Дугласом нравились нам гораздо больше французских (Годара и Трюффо). «Без конца и начала» — так говорил о них папа.
Думаю, мы посмеивались над французами еще и в пику родителям, стараясь как-то уравновесить их безоглядное стремление во что бы то ни стало ассимилироваться.
Французы были для нас «сырниками», «лягушатниками», «франами», «галлами», «белоручками». А мы были «остальной мир».
В три часа дня солнце светило прямо в окна нашей комнаты. Я прижался лбом к гладкому стеклу.
— Смотри-ка, они сейчас будут играть в воров и полицейских, — говорит Жюльен.
— Надо же! Везет им! — вздыхает наш младший Оливье.
— А мне сдается, делятся на команды, будут играть в футбол.
— Ничего подобного! — возражает Жюльен свойственным ему безапелляционным тоном. — Они только что закончили матч.
— Да, но Жозе оказался среди проигравших. Похоже, они перегруппируются и будут играть снова.
Брат что-то проворчал, но я не разобрал что.
— Везет! — повторил Оливье.
— Везет, их родители не заставляют сидеть дома после обеда.
— У них родители будь здоров, не то что наши, — заявляет Оливье с недовольным видом.
И получает от меня по макушке, а от Жюльена кулаком в бок.
Он кривится, давая понять, что сейчас заревет во весь голос.
— Ори, давай, не стесняйся, а потом объяснишь маме, за что получил.
Оливье замолкает, соображая, стоит реветь или нет, и снова плаксиво кривится.
— Еще раз скажешь такое о папе и маме, вздую, — обещает Жюльен, не глядя на младшего брата.
Оливье обиженно передергивает плечами.
Время каникулярное, вторая половина дня. Нам запрещено выходить во двор раньше пяти часов. Почему? Чтобы не умереть от обезвоживания. Так объяснил папа новое правило, прослушав по радио передачу. Он не сомневается, что журналисты говорят только правду.
Интересно, он что, забыл Марокко? Как бегал с футбольным мячом по площади Верден под палящим солнцем?
Поэтому мы и смотрим с восьмого этажа, как играют наши приятели. Иногда кто-то из нас покидает пост наблюдения и усаживается смотреть комиксы. Но остальные остаются у окна, чтобы не пропустить какого-нибудь важного события. Стычки происходят то и дело, нужно быть в курсе ситуации, чтобы, когда, быстренько поев, выбежим во двор, не терять времени, выясняя, кто с кем, а сразу примкнуть к нужной команде.
Верховодит на нашей площадке Жозе. Он самый сильный, самый голосистый, самый возбудимый. К нему прибилось несколько мальчишек, и он без малейшего стеснения называет их своими рабами. Он отдает им приказания, и они беспрекословно их выполняют. Власть Жозе беспредельна. Марио крепко досталось, когда он вздумал посмеяться над таким послушанием. Жозе на площадке распоряжается всем: решает, в какую игру играть, кто будет в ней участвовать, когда она начнется, когда закончится. Другим позволялось играть во что-то свое при условии, что они устроятся с краю и народу у них будет поменьше.
Жозе, и только Жозе, принадлежала почетная обязанность устраивать футбольный матч, который носил название «Франция против остального мира». Когда он объявлял об этом матче, радостные крики сотрясали окна во всех трех домах. Никто и никогда не осмелился бы устроить этот матч за спиной Жозе. Он его придумал, он его проводил.
Судя по радостным воплям, которые доносились до нас снизу, Жозе объявил, что будет матч. Полак, Габи, Моисей, Жеки, Жюда, Порто, Зорба еще прыгали от радости, когда мы выскочили во двор. Четыре раба Жозе с недовольными минами присоединились к Игнасу, Бертрану, Жан-Пьеру и Эдди, уже стоявшим в сторонке, твердо решив держаться до последнего и сдаться как можно позже.
Услышав радостные крики, со всех сторон примчались еще ребята, просясь принять их в команду. Диктатор Жозе, хитроумный стратег, отстранял наиболее слабых игроков французов: «Ты опоздал! Ты тоже шагай отсюда!» И они, повесив нос, удалялись, не желая прибавить к огорчению неучастия еще и унижение наказания.
Мы с Жюльеном скромненько присоединись к команде «Остальной мир» не потому, что боялись, что Жозе прогонит нас — он относился к нам с уважением и не стал бы злоупотреблять своими правами — просто нам не хотелось бегать шестерками в команде французов. Хотя евреям позволялось играть за французов — таков был вердикт Жозе. «Еврей — это религия, а не страна», — объявил он. А когда мы ему возразили, что у евреев есть страна Израиль, он отрезал: «Это еще неизвестно. В конце концов, они сдадутся, вон сколько вокруг арабов крутится». И поскольку Жозе не слышал ни о войне евреев за независимость, ни о Шестидневной войне, он разрешил нам играть за французскую команду (еще и благодаря хорошей игре Жюльена), но постоянное место отвел в команде «остальной мир».
Сегодня французов хватало, и мы заняли свои места в команде противников.
Началась игра. Жозе вел. Игроком он был замечательным. У него были такие живые, такие эффективные проходы. Но и условия тоже были соответствующие. Все игроки его команды играли на него, а все противники не решались по-настоящему его атаковать. Он добрался до «клетки» — двух скамеек, поставленных по две стороны лужайки.
Эдди защищал ворота сдержанно. Он знал, что не стоит рваться в бой, если хочешь все-таки играть в команде Франции. Жозе забил гол.
Раздался оглушительный восторженный рев. Двенадцать мальчишек ревели во всю силу своих легких, обнимая капитана. Восторг был преувеличенным, как любое проявление чувств в нашем мальчишеском мирке, основой которого была стыдливость. Проявление чувств рассматривалось как слабость, и только оглушительный выплеск считался правомерным. Если тебя кто-то раздражал, ты не должен был показывать виду, иначе тебя сочли бы нюней и слабаком, ты должен был обозвать надоеду погрубее, а еще лучше хорошенько стукнуть. Чувства, они для девчонок, мужское дело — сила.
Мунир
Сестру назвали Джамиля. «Первая француженка в семье», — сообщил папа дяде Али, вернувшись из больницы. Не знаю, что больше обрадовало папу, — что родилась дочь или что она француженка.
— Француженка, — задумчиво повторил Тарик. — Как ты думаешь, у нее светлые волосы? Если да, то и глаза должны быть голубые.
Иногда я думаю: я что, в его возрасте тоже был таким идиотом?
— Дети! Я поведу вас знакомиться с сестрой, — восторженно объявил нам отец. — Идите оденьтесь празднично.
С рождением малышки папа преобразился. Он был счастлив и не скрывал этого. И мы были благодарны незнакомой сестренке за это чудо.
Обстановка в роддоме меня поразила. Мы как будто очутились на другой планете. Все здесь улыбались, говорили ласково, ходили не спеша. Лица лучились счастьем, словно у блаженных или идиотиков. И наш папа не был исключением. Он вел нас к маминой палате и по дороге со всеми здоровался.
Когда мы вошли, мама встретила нас счастливой улыбкой. Она была очень довольна, что мы так хорошо одеты и аккуратно причесаны. И взглянула краем глаза на соседку: видит ли она, какое у нее замечательное семейство. Папа подтолкнул нас, чтобы мы поздоровались с этой соседкой, а потом подошли и поцеловали маму. Так. Мы все поняли: надо разыгрывать маленьких французов. Мы с Тариком поздоровались, поцеловали маму и, пока родители разговаривали, склонились над колыбелькой.
— Ничего она не француженка, — огорченно шепнул мне брат. — Если честно, страшненькая.
У Джамили маленький ротик с нарисованными губками и черные глаза. На голове несколько черных гладких волосиков.
— Не говори глупостей. Она красавица.
Брат с любопытством посмотрел на меня.
— Ты что, серьезно?
— Серьезно. А ты сказал глупость.
— Сказал, что думал, вот и все. Смотри, у нее кожа вся в пятнышках, и нос такой маленький, как будто просто две дырочки сделали. Вон тот куда симпатичнее.
И Тарик показал мне на младенца соседки по палате с круглым личиком и светлой кожей.
— Лучше тебе закрыть рот, чем говорить глупости, — посоветовал я ему.
Он в ответ передернул плечами и продолжал с беспокойством изучать сестру.
— Ты всегда со мной споришь, — проворчал он. — И никакая она не француженка, что нет, то нет.
Вот тут я не мог с ним не согласиться.
— И вообще, мне бы хотелось мальчика, — продолжал Тарик. — Во что, скажи, мне с ней играть?
Как-никак он был на десять лет старше, так что и с новорожденным братом ему играть было не во что.
Мама наклонилась и взяла Джамилю на руки, и было видно, что она счастлива. Она отдала долг мужу и всей своей семье, родив мальчиков, но сама она хотела иметь дочку, возиться с платьями и с куклами.
— А с кем я буду потом разговаривать? С сыновьями? Взрослым сыновьям нечего сказать матери. А кто мне поможет? С двумя сыновьями не так-то легко, все на мне одной, — призналась она соседке. И та сочувственно покивала, у нее были две взрослые дочери и трое сыновей, так что она могла себе позволить сходить к подруге выпить кофе.
Что правда, то правда, у нашей мамы ни минутки свободной. Она стряпает, ходит за покупками, стирает, убирает, чтобы дом блестел и стол был накрыт к ужину. Когда папа приходит после работы, она следит за ним, торопясь предугадать каждое его желание, ловя малейший знак одобрения. Словесные благодарности у нас не приняты, мама ловит их в едва заметных знаках. Папа садится за стол, смотрит на двух своих детей в пижамах, видит стоящие перед ним салаты, вдыхает запах из кастрюли, стоящей на огне, и улыбается.
Лицо у него добреет, и тогда он смотрит на жену. Мгновенный, едва заметный обмен взглядами, в который умещается так много. Мама расправляет плечи, поднимает голову и начинает раскладывать еду.
Я стараюсь вести себя как папа. Когда я прихожу из школы, мама смотрит на меня с такой нежностью. И мне хочется подбежать к ней, броситься ей на шею, поцеловать, сказать, как я ее люблю. Но я не могу. Я ей только улыбаюсь. Изредка целую ее в щеку. Мне кажется, что мужчина только так и может себя вести. Мама на меня не обижается, я уверен. Она меня понимает. И то, как я люблю ее, читает в моих глазах.
Тарик проявляет куда больше чувств. Он кидается маме в объятия, целует ее, смешит. Мама говорит, что он похож на ее брата Хасана. Она часто вспоминает свою семью, оставшуюся в Марокко. Дяди, тети, двоюродные братья и сестры известны нам не только по именам, но и всевозможными историями, которые с ними случались. «Самир, акробат?» «Зора, которая печет блинчики?» «Тот Морад, что рассказывает истории?» Призраки, живущие с нами. Чаще всего они появляются вместе со своей историей среди ароматных запахов кухни в день своего рождения, и глаза мамы увлажняются.
— Я нашел нам другую квартиру, — объявил всем нам папа в больнице.
Мы очень удивились.
— Значит, мы переезжаем? — уточнил Тарик.
— Да. Наша квартира теперь станет тесновата.
Мы об этом как-то не подумали. Мама с папой никогда об этом не говорили. На секунду у меня вспыхнула надежда, что мы будем жить поближе к небоскребам, и я снова окажусь по соседству с Рафаэлем.
— Куда переезжаем?
— В Воз-ан-Велен.
Я расстроился, но не показал виду — у папы было такое счастливое лицо.
— А где это?
— Совсем недалеко. Сразу за Блошиным рынком.
На Блошиный рынок мы с папой ездили не один раз. На автобусе. Далеко. Даже очень. Куда дальше, чем до Небоскреба.
— Все мои коллеги там живут, — прибавляет папа, объясняя свое решение.
Когда он говорит «коллеги», это значит «знакомые», «приятели».
Я осторожно кошусь на Джамилю. Это из-за нее мы уедем из нашего квартала.
Вот уж точно — стоило ей появиться, и вся жизнь у нас пошла по-другому. Но в общем-то новость хорошая.
Каждый год родители обещают, что на каникулы мы поедем в Марокко, но за несколько недель до отъезда папа отменяет поездку. Мама объясняет, что мы хотели бы приехать к родне не с пустыми руками, оделить всех подарками, показать, что наш отъезд не был ошибкой. Но мне-то кажется, папе хочется попрочнее здесь прижиться, почувствовать все вокруг своим, чтобы, оказавшись на родине, среди родни, на земле, на которую капали его детские слезы, он не ощутил ностальгии, куда более острой, чем гордость чувствовать себя французом.
Рафаэль
О настоящей банде в нашем квартале речь, конечно, не шла. Для настоящей банды нужно много народу, железная дисциплина и готовность рисковать. У нас и юнцов-то было всего человек двадцать, а охотников до дисциплины и того меньше, не говоря уж об отваге, необходимой, чтобы создать в городе банду. Несколько наших по-настоящему крутых парней примкнули к банде соседнего квартала Бонтер.
Банда Бонтера! Миф и легенда! Подлинные герои для мальчишек, какими мы тогда были. Мы говорили о них с восхищением и трепетом. Говорили постоянно, но по сути мало что знали. Все, что мы обсуждали, было слухами, часто выдумками, и очень редко фактами.
И откуда нам было что-то знать? Умение держать язык за зубами — первое условие для крутых парней в банде, но для легенды хватало и нескольких откровенных слов, пары-тройки дошедших до нас историй.
Банда — братство отчаянных парней, которым перевалило за двадцать, готовых яростно защищать установленный ими кодекс чести и территорию, которую они объявили своей. У них культ физической силы и дружбы.
Чтобы стать членом их клана, необходимо пройти ритуал посвящения. О банде Бантер рассказывали, что любой новичок, за которого проголосовало большинство, проходит испытания. Двести отжиманий с грузом двадцать килограммов на спине самое легкое из них. А самое тяжелое — выдержать пятьдесят ударов веревкой и не показать, что больно. Это нам рассказал Мигель, младший братишка Мануэля Домингеса. Его старший брат вернулся как-то домой с окровавленной спиной. И хотя про Мигеля было известно, что он трепач, нам хотелось ему верить. Такие рассказы мы горячо обсуждали целыми днями, вырабатывая свое понимание храбрости.
Соперниками Бонтера были банды Виллербана и Бюэ. Враждуя, они мерились силами, надеясь со временем объединиться и взять под контроль весь город.
Но пока ходили слухи об их ожесточенных стычках. Враги договаривались о встрече на пустыре, замирали стенка на стенку в тяжелом угрожающем молчании, а потом по знаку главарей с воплем бросались друг на друга. В ход шли кулаки, цепи, палки. Стороны яростно добивались победы. Но даже самый яростный бой велся по правилам, которые молчаливо признавались всеми. За ними маячил общий идеал: честь. Честь была главным идеалом, и кланы на свой лад уважали друг друга. Уважали потому, что пока еще ни один не взял верх над другими. Они собирались объединиться и напасть на общего врага, лучше которого не придумаешь, — агрессивного, высокомерного, плюющего на все правила, живущего всего через несколько улиц и тем не менее совершенно на них не похожего, — на банду Оливье-де-Серр.
Молва об этой банде быстро распространилась по Виллербану, потом по Лиону, потом по близлежащим городкам. Рассказы о ней были отчасти правдивыми, отчасти выдуманными, но неизменно грешили преувеличениями. Вражда, которую питали к парням из квартала Оливье-де-Серр другие банды, зиждилась на двух обвинениях. Первое: они не соблюдали никаких правил, пользовались ножами, бритвами, не брезговали бить одиночек, нападали из-за угла, обворовывали своих жертв. Второе лежало в области непоправимого, превратившись в неутолимую ненависть: во время драки паренек из Оливье-де-Серр убил главаря Бонтер, всадив ему в спину перо. До этих пор в драках били, но не убивали, кодекс запрещал убийства и использование ножей. Банда Бонтер похоронила главаря, выбрала на его место другого и объявила беспощадную войну Оливье-де-Серр. Войну, которая повела к объединению всех других банд против Оливье.
Мы, местная мелкота от десяти до пятнадцати лет, мигом учуяли, что обстановка переменилась. Возросло напряжение, увеличилась озлобленность. Те, кому довелось жить на знаменитой улице, помалкивали об этом. Я часто вспоминал Мунира, который продолжал там жить. Неужели он знаком с этими монстрами? Неужели эти бандиты — старшие братья пареньков, с которыми мы учились в школе? А сам он как к ним относится? Неужели восхищается?
Я так и не навестил ни разу наш бывший квартал. Но я вспоминал Мунира, вспоминал нашу с ним дружбу. Мне его не хватало, но я не мог собраться и отправиться к нему. А что, если он изменился? Что, если стал драчуном и забиякой? Говорили, что тамошние ребята не пускают на свою территорию чужих, бьют их и обчищают карманы. Но в это я, конечно, не верил. А рассказов ходило много. Говорили даже, что один француз вернулся оттуда раздетым до трусов. Я не боялся идти туда, мне бы ничего не сделали, у меня там было много знакомых, они не дали бы меня в обиду. Но мне казалось, что, отправившись на ту территорию, я совершу предательство по отношению к этой.
Мунир
Меня слегка колотило и подташнивало, тело вышло из-под контроля. Мне даже показалось, что волосы у меня на голове шевелятся и в мозгу пробегают электрические искры. Мне очень хотелось развернуться и убежать.
Но как я мог отпраздновать труса? Опозориться? Такого мне не забудут никогда, и всегда будут надо мной смеяться. Нет. Назад хода нет.
— Говорю же вам, пройти проще некуда. Я сто раз уже так ходил. А как вы думаете, я смотрел все фильмы про кунг-фу? Сегодня же Брюс Ли, парни! — убеждал нас Моктар. — Он же король! Король кунг-фу! Как вы можете упустить такое!
И я повелся. Я не думал, что мне будет так страшно, что у меня поджилки затрясутся. Я думал совсем о другом: что сижу в зале и смотрю фильм, тот самый, о котором Моктар прожужжал нам все уши.
Тарик стоял тут же, рядом со мной. Как я мог потащить с собой брата в эту глупую авантюру?! Я представил себе, что будет, если нас сейчас обнаружат. Подумал о папе и маме. Как им будет стыдно и как они будут меня ругать за Тарика. Я же за него отвечаю. Папа постоянно мне напоминает: «Старший брат — это второй отец!»
Я взглянул на братишку. Тот стоял, прислонившись к стене, и мне захотелось попросить у него прощения. Сказать, чтобы шел домой, пока не поздно. Да, захотелось схватить его за руку и убежать. Какая мне разница, будут они смеяться или не будут! А Тарик? Что он скажет? Я больше не буду для него героем, образцом для подражания. Мы встретились глазами, ему было спокойно. Он доверял мне на все сто. Должно быть, считал, что рядом со мной, старшим братом, разумным и ответственным, совершенно безопасно.
— Внимание! Я слышу, они сейчас начнут выходить. Крим, ты придержишь дверь, когда выйдет последний.
— А почему я? — прошептал Крим, но не получил ответа.
Двери распахнулись, и зрители стали не спеша выходить из зала. Их было совсем немного. Человек двадцать юнцов с дурацкими улыбками. Кое-кто из них пытался подражать приемам кунг-фу, со смехом издавая кошачьи вопли.
— А там зайцы стоят, — сказал один парень приятелям, показав на нас.
Блин! Нас все-таки заметили. Может, к лучшему. Можно спокойно вернуться, не боясь насмешек. Я почувствовал, как мускулы у меня расслабились и по телу прошла теплая волна. Я уже двинулся было к выходу, но Моктар схватил меня за руку.
— Ты куда?
— Ну… Нас же заметили…
— И что? Они тут не хозяева! Они мажоры, которые платят за свои места.
Моктар показал мне рукой: давай вставай обратно.
— Ага, понял. Значит, супер.
И ко мне мгновенно вернулись страх и горечь во рту.
Как только последний человек вышел, Крим придержал дверь, поставив ногу.
— Порядок, — сказал он. — Никого.
Моктар махнул нам, как капитан команде, приказывая идти вперед. Мы проскользнули в темный коридор. Тарик шел за мной. Я хотел взять его за руку, но не нащупал в темноте руки. Коленки у меня подгибались.
Коридор был не длинный, и мы оказались перед другой дверью, с двумя створками.
Моктар прижался лицом к щелке.
— Что это он делает? — спросил шепотом Карим.
— Смотрит, не остался ли кто в зале, — ответил ему Крим.
— Если кто задержался и собирается выйти, Моктар позеленеет от злости, — прошептал Ахмет.
Тарик прыснул, и мне сразу стало легче. Моим натянутым нервам нужна была разрядка. В горле защекотало, и вот мы уже оба трясемся от хохота.
— А ну тихо! — приказал грозным шепотом Крим.
— Можно идти, — сообщил Моктар.
Наш командир достал из-под рубашки металлический штырь, вставил его между створками и, действуя, как рычагом, увеличил щель, так что между ними стало можно просунуть руку. Он открыл нам дверь, и мы пробрались в освещенный зал.
— Все за мной, — снова скомандовал он.
Моктар проскользнул во второй ряд и лег на пол, показав, что мы все тоже должны лечь между рядами.
Мы улеглись на пол.
Крим лежал прямо напротив меня.
— Бывает, что билетер заглядывает в зал для проверки. Как только начнут входить зрители, мы встанем.
Тарик лежал рядом со мной. Мы лежали и смотрели на пыльный ковролин. На фантики, на раздавленный кусок шоколада, на всякий сор, прилипший к ковролину. Брат брезгливо сморщил нос.
Прошло несколько секунд, мы лежали молча.
— Блин! Кругом козюльки, — прошипел Карим.
Тарик залился нервным смехом.
— Заткнись, дурак! Заметят — голову оторву, — пригрозил Моктар.
— Что? Что ты сделаешь? — зашипел я, угрожающе стиснув зубы. — Голову оторвешь? Моему брату?! Ах ты, гад! Еще раз услышу, будешь иметь дело со мной! В один миг начищу морду!
Вообще-то я не дерусь, но слова, мимику, жесты, которые необходимы, чтобы тебя уважали, усвоил хорошо. Изображаю убедительно. Моктар примирительно шепнул:
— Ладно тебе, успокойся. А за братом присматривай, чтобы не засекли.
Мы снова затихли. Вдалеке послышался какой-то шум. От ковролина несло затхлостью, и мне было противно.
Еще я почувствовал, как дурацки выгляжу. Что я, с ума сошел — лежать тут на полу, как собака, молчать, как кошка, и дрожать, как крыса?
Дойти до этого, чтобы посмотреть какой-то фильм?!
Подумал о маленьких блондинчиках, которые стоят в очереди возле красивого кинотеатра, собираясь посмотреть последний фильм Диснея. Они усядутся в мягкое кресло (здесь у нас деревянные, изрезанные перочинными ножами, исписанные ручками), а их родители купят им конфет. Или мороженое.
У меня папа с мамой никогда не бывали в кино. Даже не знаю, приходила ли им такая мысль в голову. Я как-то подумал, не предложить ли мне как-нибудь сходить в кино всем вместе. Поиграть во французов в воскресенье после обеда. Но не решился. Понял, что мысль неудачная. А почему, не могу даже точно сказать. Может, потому что папа с мамой почувствуют себя неловко, не будут знать, куда идти, что спросить, как себя вести. Их жизненное пространство было четко определено: они жили в своем квартале, жили, как привыкли. Работа, дом, двор со скамейками, рынок и раз в месяц большой выход на большой базар. И уж точно, билеты в кино показались бы им слишком дорогими.
— Порядок, парни! Встаем!
Мы уселись, постаравшись быть как можно незаметнее. Кое-кто из зрителей то и дело на нас поглядывал. Они, должно быть, были недовольны нашим присутствием, им не нравилось, что мы бесплатно воспользуемся просмотром.
Страх отпустил меня, когда в зале погас свет. Я обрадовался: сейчас я увижу фильм с королем кунг-фу. С Брюсом Ли… Самым сильным человеком на свете!
Но когда Брюс Ли появился на экране, вид небольшого роста китайца разочаровал меня. Это он-то король кунг-фу — человечек с робким взглядом, кланяющийся каждому американцу, извиняясь за то, что он на него не похож? Этот азиат в балетных тапочках со странной походкой? И вот сцена унижения. Его не любят, потому что он чужак. Над ним смеются, а он молчит, опускает глаза, застенчиво улыбается. Ну же, Брюс! Давай! Не позволяй им смеяться! И он как будто меня услышал. Напряг свои волшебные мускулы, которые были скрыты одеждой, стал воином, вновь обрел гордость и раздавил злодеев одной силой своего искусства. Сцены боев загипнотизировали меня. Тарик, распахнув глаза, всем телом следовал за движениями героя. Он был счастлив, и его счастье делало меня еще счастливее.
На улице ребята перебирали запомнившиеся эпизоды, пытались повторять движения, восхищались. Я старался не показать, до какой степени я под впечатлением, пытался разобраться, почему фильм мне так понравился.
Потом понял: я почувствовал себя этим главным героем, поначалу как будто слабым и униженным, но потом показавшим свою настоящую цену и разметавшим в прах всех обидчиков.
5. Война здесь, война там
Рафаэль
Октябрь 1973
Пощусь первый раз в жизни. Мне еще нет тринадцати, я не прошел бар-мицву, не могу считаться мужчиной, но решил последовать примеру своих друзей — сутки не брать в рот ни крошки. Испытание показалось мне серьезным, даже невыполнимым, но я решился на него вслед за остальными, желая войти в ту общность, к которой, по своему ощущению, принадлежал пока недостаточно. Я пришел в синагогу в одиннадцать часов утра. Самые ревностные встали гораздо раньше и истово молились, опустив головы и ударяя себя в грудь, каясь в грехах. Еще несколько часов — и придут те, кому дорога не столько вера, сколько традиция. Они будут одеты в модные костюмы и останутся стоять и болтать в коридоре. Войдут они только в последний момент, перед тем, как протрубит шофар[23], оповещая о конце поста. Мы зовем их «евреи Йом-Кипура»[24], потому что только этот праздник связывает их с иудаизмом. У них изможденный вид после такого тяжкого испытания, как пост, который они старались облегчить себе, пролежав большую часть дня в постели или перед телевизором. Они прикроют плечи талитом, молитвенным платком, похожим на шарф, которым укутывают детей, и будут ждать рыдающих жалобных звуков шофара, в который протрубит раввин. А потом набросятся на пирожки и печенье, набив ими заранее карманы, как будто боялись умереть голодной смертью.
Я еще не умею хорошо читать на иврите, поэтому слушаю молитвы, сидя между папой и дедушкой. Сначала я думал, что останусь с Жюльеном и приятелями играть во дворе синагоги, но вот сижу здесь, вместе с мужчинами, и это наполняет меня гордостью.
Воздух горячий, тяжелый, я слышу покаянные вздохи в ритме читаемой молитвы. Жду, что буду мучиться голодом, удивляюсь, что не так уж мучаюсь.
— Я горжусь тобой, — говорит мне дедушка, поглаживая по спине.
Его слова меня трогают — ведь он говорит все реже и реже. Или говорит наедине с собой.
Внезапно кто-то с силой толкает дверь, хлопает ею и входит, привлекая взгляды. Не обращая внимания на замечания и просьбы вести себя потише, вошедший направляется прямо к раввину, наклоняется к нему и что-то шепчет на ухо. Раввин поднимает голову и смотрит на вошедшего с удивлением и испугом. Между ними завязывается жаркий разговор шепотом. Среди молящихся поднимается ропот, люди хотят знать причину вторжения и почему такой испуг написан на лице раввина.
Раввин поднимается, подходит к кафедре, лицо у него искажено страданием.
— Дорогие мои друзья, я только что узнал ужасную новость, — говорит он, слегка кивнув в сторону незнакомца.
Тот стоит с ним рядом, он исполнен печальной важности.
— Я узнал… Что Израиль атаковали арабские страны.
Оглушительный шум служит ему ответом. Люди выражают удивление и возмущение криками.
— Они ждали нашего праздника Йом-Кипур, ждали, когда мы ослабеем от поста, когда погрузимся в молитвы, и напали на нас! — восклицает уязвленный до глубины души раввин.
Мужчины кричат: «Подлецы!» «Трусы!», «Чего и ждать от арабов!» и много других слов, какие трудно услышать в синагоге.
— У меня нет больше никаких сведений. И нам остается одно — молиться! Давайте помолимся за солдат! Помолимся за Израиль. Помолимся, чтобы Бог наказал святотатцев и даровал победу нашим братьям! Да живет народ Израилев!
Призыв раввина наэлектризовал верующих.
Все встали и истово запели молитву. Те, что, вроде меня, не знали еще ее наизусть, в конце каждой фразы произносили «аминь». «Аминь», исполненный гнева, силы, убежденности. «Аминь» сродни удару клинка. «Аминь», полный слез. Мы знали, какое множество наших братьев ждет гибель.
Но мы уповали, что они сметут агрессора. У них не было выбора. Потому что сейчас праздник Йом-Кипур и мы вместе с ними. Потому что мы молимся всем сердцем, искренне и яростно.
Небо открывается на Кипур. Бог нас слышит. Бог нас судит. Бог нас прощает. Бог их накажет.
«Израиль будет жить, Израиль победит», — скандировали евреи всего мира. И так оно и случилось. Израильская армия справилась с нападением, она отобрала Синай у Египта и часть Голанских высот у сирийцев. Но погибших было много, и мои родители оставались серьезны и сдержанны, выражая удовлетворение победой.
Мунир
Новость молнией обежала квартал. Арабские страны атаковали Израиль.
— Они его уничтожат! — радовался Момо.
— А тебе-то какая радость? Ты алжирец, не палестинец, — возражал ему Туфик.
— А я с ними заодно! Они тоже мусульмане, как мы!
— А с каких это пор мусульмане заодно?
Я не понимал смысла этой войны, не понял сути и этого разговора, но вопрос Туфика задел и меня. А правда, мы заодно или нет? Похоже, что евреи — да, заодно, они помогают друг другу, поддерживают и просто так, и деньгами. Говорят даже, что среди них, как в кино, действует тайное общество, налаживает связи, каналы, добывает деньги…
— А нас, мусульман, может объединить эта война?
— Может. Это наш долг.
— Слушай, а может, если мы живем так далеко, нам не стоит вмешиваться в это дело?
— И пусть все над нами смеются?
— Если честно, мне параллельно и наши мудрецы, и евреи тоже. Но еще, если честно, у меня полно друзей евреев и я у евреев все покупаю.
— Речь идет о евреях, которые украли землю у мусульман, и ты на стороне этих гадов? — возмутился Момо.
— Я тебе сказал, мне на эту войну наплевать. Она меня не касается. Вернее, касается, но не слишком. Скажем так, мне не нравится, что арабские армии напали на Израиль в Йом-Кипур, теперь по всему миру орут: «Арабы подлецы и предатели!»
— И чего? А ты хотел, чтобы им отправили по почте предупреждение? Это тебе, брат, война, а не игрушки!
— А сирийцы врут, что войну начал Израиль, — вступил в разговор Мурад.
Волны от вспыхнувшей «войны Йом-Кипур», как стали называть ее журналисты, докатились и до нас. Говорили, что арабские войска, воспользовавшись эффектом неожиданности, смяли врага. Что Израиль понес значительные потери.
Значит, Израиль может потерпеть поражение? Евреи будут побеждены? Несмотря на оружие, на деньги? А я-то поверил в их всемогущество, всемогущество яростной, наконец-то взбунтовавшейся жертвы, которая поклялась больше никогда не поддаваться мучителям. Конечно, я тогда не думал такими словами, но евреи казались мне кем-то вроде Брюса Ли: людьми, охваченными жаждой победить или по крайней мере не сдаться.
— Беда в том, что эти гады жутко агрессивные, — продолжал Момо, словно подслушав мои мысли. — Считают себя непобедимыми, непотопляемыми. Евреи, они все такие. Даже кретин Де Голль сказал о них: «Народ самоуверенный и властный». Вроде так.
— Вай! Еще он сказал: «Я вас понял»[25], — засмеялся Туфик.
— Нам, по-моему, пора, — сообщил Мурад, взглянув на часы.
Рамадан[26] был в разгаре, и вот-вот должен был наступить заветный час.
Обитатели квартала по-разному чтили святой месяц. Были верующие, и они постились, были не слишком верующие, и они находили множество оправданий, почему не постятся, и были бунтовщики — молодежь, желавшая пользоваться благами западной цивилизации, — курить, пить вино, общаться с женщинами. У нас дома папа с мамой соблюдали пост, но нас они от поста избавили, говоря: «Не поешь, так и никакая наука в голову не полезет». Я хотел было возразить отцу: а как он? Тяжело работает и при этом не ест, не пьет. Но не возразил. Я вообще-то был рад, что нам можно есть. Так что всю неделю мы ели, а постились только по воскресеньям.
Вечером, садясь за красиво накрытый стол, вдыхая вкусные запахи, дразнящие аппетит, мы чувствовали такую неподдельную радость и такой покой, каких не испытывали ни в какие другие дни года. Мы радовались тому, что сидим все вместе и наслаждаемся королевской едой, позабыв обо всех печалях, отстранив все войны и беды, которые вернутся к нам с завтрашним днем. И в квартирах по соседству люди сидели семьями за столом, чувствуя на душе такой же покой и радость. И по всему миру миллионы мусульман тоже пребывали в радости и покое.
Кто знает, может, это всех нас, мусульман, и объединяло?
Рафаэль
Июнь — июль 1976
Теперь всей семьей, а иногда и вместе с друзьями, мы ездили отдыхать в кемпинг Жасанс, неподалеку от Вильфранша. Мы выбрали это место, потому что горожане могли там поваляться на травке, а потом искупаться в бассейне. Мы, ребятишки, плавали и ныряли, а взрослые нежились в тени деревьев. Им казалось, что они в Марокко. Около часа мы собирались все вместе и обедали, жаря колбаски-мергез и шашлыки.
Мы как раз обедали, слушая музыку и разговоры по радио — папа непременно прихватывал с собой приемник, чтобы быть в курсе новостей и результатов скачек. И вдруг он на нас шикнул:
— А ну тихо! Израиль!
Мы навострили уши. В специальном выпуске новостей диктор сообщил, что самолет, следовавший курсом на Тель-Авив, повернул в неизвестном направлении.
Новости кончились, и нашего прекрасного настроения как не бывало. Лица взрослых напряженно застыли. Младшие приставали к ним, требуя объяснений. Взрослые обменивались между собой отрывистыми фразами.
Им было не до смеха.
Всю неделю мы жили ожиданием телевизионных новостей. Террористы оказались палестинцами, и папа видел все в самых черных красках.
— Они их убьют. Они убили спортсменов, детей в яслях, убьют и пассажиров.
— Нет, Израиль этого не допустит.
— А что тут может поделать армия? Самолет с заложниками в тысячах километрах от Израиля, где-то в Уганде, у чокнутого Иди Амина Дада[27].
— Мне сказали, что среди заложников мадам и месье Хаджаджи из Мейзьё, — сказала мама.
— Родня Моисея?
— Да.
— Я их совсем не знал. И с Моисеем встречался-то всего два или три раза.
Новость ошеломила отца. Заложники обрели имя, стали конкретными людьми, террористы показались еще более бесчеловечными. Папа ощутил, что все мы в один прекрасный день можем оказаться в руках убийц.
Спустя две недели мы снова поехали в Жасанс. Переговоры о заложниках не сдвигались с места. Новости не радовали, но папа, мама, тети и дяди решили не лишать детей хорошего дня.
Мы купались без всякого настроения. Веселилась одна малышня.
Когда мы сели обедать, снова зазвучал сигнал новостей. Мне показалось, что никаких двух недель не проходило.
Мы застыли и стали слушать. Диктор приподнятым тоном сообщил невероятную новость. Израильская армия провела этой ночью чрезвычайную операцию. В результате — заложники освобождены.
Папа и дядя Жо вскрикнули от радости. Мы громко завопили, и все кинулись обнимать друг друга. Взрослые приплясывали со слезами на глазах, к большому удивлению других семей, которые сидели и ели неподалеку.
— Израиль жив! Израиль победит! — оглушительно кричал папа.
Мы никогда еще не видели, чтобы он так откровенно и безудержно радовался. Мы подхватили его слова и, подпрыгивая на месте, скандировали их.
По мере того как новость распространялась, люди стали нас приветствовать, кто-то даже аплодировал нам, словно мы были представителями героической израильской армии.
И в эту минуту мы в самом деле были ими.
Мунир
Фейерверк закончился. Небо потемнело. Площадь Жедо пустела. Толпа растекалась по улицам, словно вода, которую долго сдерживала плотина. В толкотне я потерял своих друзей. Тогда я вернулся к скамейке, возле которой мы только что стояли все вместе. С другой стороны к ней подошел еще какой-то паренек. Свет фонаря упал на него.
Вот это встреча! Кто бы мог подумать! Надо же! Не виделись столько времени, и столкнулись нос к носу! Вырос здорово, а лицо прежнее.
— Вот блин! Рафаэль!
Рафаэль мне улыбнулся. Я заколебался, протянуть ли руку. Он протянул мне руку первым.
— Я тут был с приятелями, — объяснил он, — и потерял их.
— Я тоже.
И что дальше? Мы стесняемся сказать, как рады неожиданной встрече, нам неловко, что не пытались увидеться раньше, удивлены, что встретились.
— Красивый был фейерверк.
Я не нашел ничего, кроме этой банальности, чтобы прервать затянувшееся молчание, и сразу же пожалел об этом.
— Ты гуляешь с ребятами по вечерам? Родители разрешают? — спросил меня Рафаэль.
— Ну да. Они у меня люди спокойные. И потом сегодня четырнадцатое июля[28].
— А я каждый раз выдираюсь с боем. Мои не хотят, чтобы я гулял с приятелями. Я прошел бар-мицву, мне почти четырнадцать, но они говорят, что я еще недостаточно взрослый. Приходится привирать. Сегодня, например, сказал, что пойду на фейерверк со своей двоюродной сестрой.
— Тебе, наверно, пора домой?
— Десять минут роли не играют.
— Это точно.
— Точно, точно.
Из-за наших подростковых комплексов мы не решились сказать главного: до чего мы обрадовались друг другу.
Я поднялся.
— Ну, что, двинули? — предложил я. — Я пойду тебя провожу, по дороге поболтаем.
Я не мог допустить, чтобы мы вот так взяли и разошлись в разные стороны.
Мы пошли, Рафаэль мучительно искал тему для разговора. А я не искал. Положился на него. У него всегда были способности к разговорам. И никуда, я думаю, не делись.
— Ну и как там наш квартал? — наконец спросил он.
— Мы теперь живем в Воз-ан-Велен. Но пару раз я туда ездил. Квартал… Какой был, такой и остался. Почти… А у вас как?
— Да вроде все здорово.
— И у нас.
— Ты банду квартала Оливье-де-Серр знаешь? Они крутые, да?
Я сразу догадался, что Рафаэль уже пожалел о своем вопросе. Тема острая, могла все испортить.
— Никудышники скорее. Болтаются целый день без дела, только о драках и думают.
— Так ты их знаешь?
— Конечно. Не всех, конечно, но многих. А у вас в квартале есть банда?
— Можно сказать, что нет. Самые крутые пошли в Бонтер.
— В Бонтер? К противникам Оливье?
— Да, я знаю.
И снова молчание.
— А правда, что парни из Оливье-де-Серр убили главного из Бонтера?
— Кто это тебе сказал?
— У нас все так говорят.
— Никогда такого не слышал.
— Значит, пустая болтовня.
Улицы совсем опустели. Я чувствовал себя большим. Сильным. Ничего не боялся. Как будто мягкое тепло этой ночи помогло мне повзрослеть. Мы шли не спеша и разговаривали, как взрослые люди, привыкшие в поздний час гулять по городу. И гордились этим.
Ноги нечаянно привели нас на улицу Эмиля Золя.
— Смотри-ка, полиция, — шепнул мне Рафаэль, кивнув на темную машину, стоящую в сторонке.
Пустынная улица, наша неожиданная встреча, опасение, что сейчас нас остановят полицейские, чтобы проверить документы, — от всего этого у меня в крови заиграл адреналин, и я почувствовал себя еще сильнее.
— Черт! А у меня нет с собой удостоверения, — горестно вздохнул Рафаэль. — Если спросят, придется звонить родителям. Убить меня мало!
В голосе у него звучали тревога и покорность, и я в этот миг почувствовал, что сильнее его.
Полицейская машина дала задний ход и с потушенными фарами въехала на прилегающую улицу. Мы шли мимо. Полицейские взглянули на нас с удивлением. Мне даже показалось, что нас хотят остановить, но я смотрел прямо на них и неторопливо продолжал двигаться вперед. Честное слово, в этот вечер я чувствовал, что могу абсолютно все. Рафаэль взял меня за руку. Хотел меня удержать? Чтобы я не нарывался?
— Да ладно тебе! Подумаешь! — бросил я небрежно и высвободил руку.
Он остановился. На лице его я прочитал страх, на мой взгляд, совершенно неоправданный. Но когда я посмотрел вперед, вдоль улицы с редкими фонарями, то все понял. В глубине ее по черному асфальту мягко и ритмично двигались тени. Огромная темная масса. Толпа людей. Их становилось видно, когда они вдруг попадали в свет фонаря. Потом снова двигалась темная масса. Она приближалась и вдруг остановилась, но продолжала покачиваться, словно бы танцуя под неслышную нам музыку. Я резко обернулся. В нескольких десятках метров от нас в другом конце улицы тоже мелькали темные тени. Тоже двигалась темная масса. Когда тени попали в свет фонаря, я узнал их и понял: здесь, сейчас, сию минуту начнется бой между Оливье-де-Серр и Бонтером!
Сходясь стенка на стенку, парни моего бывшего квартала двигались кошачьим шагом, покачивая металлическими прутами и цепями. Потом они тоже остановились и замерли. Было слишком темно, чтобы я мог узнать знакомые лица. Рафаэль окаменел. Он ждал, что я приму решение. Нет, он ничего не ждал, он превратился в сгусток ужаса и старался передать его мне. И тогда, только в эту секунду, до меня дошло: две банды сошлись, собираясь драться, а мы… Мы в центре поля битвы.
Я попытался сообразить, что делать, но выхода не было. И вот уже раздался сигнал. И парни с воинственными воплями с двух сторон ринулись к нам. Все ближе, ближе, уже за спинами, уже перед лицом. Рафаэль открыл рот, но не смог издать ни звука. Я схватил его за руку, собираясь бежать, но тут же понял: бежать поздно. Секунда, и нас сомнет лавина.
Ночь была темной, но я уже видел искаженные ненавистью лица. Видел цепи, которые крутились над головами, видел железные прутья, секущие воздух. Слышал дикие воинственные вопли. Поток мгновенно сменяющихся картин и звуков парализовал мой мозг. Я не знал, что делать. Мое тело перестало мне повиноваться. До нас оставалось не больше десяти метров. Мне казалось, я чувствую их дыхание, чувствую запах пота и агрессии. Мысленно они уже бились, крушили тех, кто был за нами. Они видели только врагов, мы для них не существовали. Еще секунда — и нас затопчут, сметут с лица земли, не заметив.
И тут один из цепных псов со зверской яростью уставился на меня. Он бежал ко мне. Смотрел на меня, держа на плече металлический прут. Я с потрясающей ясностью видел его оружие. Мне показалось, что общее движение замедлилось, чтобы я хорошенько мог рассмотреть этот прут, который через секунду раскроит мне череп. Я вспомнил сестру, брата — они сейчас мирно спят, ни о чем не подозревая. Вспомнил отца, мать — завтра им сообщат ужасную новость. Вопреки ожиданию удар пришелся мне в грудь, а не по голове. Но боли я не почувствовал. Однако взлетел на воздух. И удивился, что смерть так безболезненна. «Мне не больно!» — хотел я закричать, чтобы преодолеть страх и погибнуть героем.
Воинственные вопли стали звучать тише. Я снова почувствовал телом землю. Наверное, упал. Приоткрыл глаза и увидел Рафаэля. Мускулистые руки подтолкнули его ко мне поближе.
Рафаэль
— Черт! Что вам тут понадобилось, кретинам! А ну на месте! Не двигаться!
Я узнал его. Это был Реми. Он поднял нас за шиворот с обидной легкостью и, открыв ногой дверь ближайшего подъезда, швырнул нас туда. А потом с диким воплем ринулся обратно в гущу битвы, которая кипела как раз напротив дома, ставшего нашим спасением.
Поначалу мы с Муниром лежали не шевелясь. Потом поднялись на ватные ноги, как зомби, вернувшиеся к жизни. По другую сторону застекленной двери бушевала схватка. Здоровенные парни кидались друг на друга, цепи и железные прутья со свистом рассекали воздух, обрушиваясь на темную, шевелящуюся массу. Слышались крики ярости и крики боли, одни стремились напугать, другие испуганно визжали. Злоба схватки дохлестывала и до нас, электризуя нервы, безжалостно впечатывая в души реальность. Воображаемую красоту поединков, героический миф о героях, в который хотели попасть и мы, уничтожило что-то жуткое, непредставимое, неприемлемое. Со временем неприкрытая жестокость этой картины смягчится. Став историей, она покажется даже осмысленной. Но только со временем. Не сегодня. И не завтра. Я расскажу брату о случившемся (и то частично) только через несколько дней. Боясь снова погрузиться в кошмар. Рассказать сразу невозможно. Никогда. Не говорят же сразу о первых волосках на теле. О первой ночной эрекции. Не делятся процессом взросления.
Не знаю, сколько времени длилась драка. Мне показалось долго, на самом деле две или три минуты.
Не знаю, отчего она прекратилась. Благодаря вмешательству полицейских? Не думаю. Пришло чувство насыщения? Разум подсказал остановиться, чтобы желание драться не стало жаждой убийства?
Парни расцепились. Стали помогать раненым подняться, уводили их.
— Пора! Уходим! — скомандовал Мунир.
— Думаешь?
— Они сейчас передохнут, и начнется второй раунд, точно.
Мы осторожно вышли из подъезда. В самом деле, парни вернулись на исходные позиции, но расходиться не собирались.
— Бежим! — шепнул Мунир и побежал.
Я за ним следом, и сердце у меня колотилось так, что готово было разорваться. Мы добежали до угла, повернули, пробежали еще немного и остановились, задохнувшись, словно пробежали марафон. Сели на асфальт, пытаясь отдышаться.
— Ну и заваруха, блин!
Я заговорил, чтобы нарушить тишину, опомниться, избыть страх.
— Ты знал, что поединки, они такие? — спросил я.
— Не очень.
— Я тоже. Не думал, что такая злоба.
И мы снова замолчали, стараясь как-то справиться с собой, со своими мыслями, чувствами. Потом решили, что пора по домам, поднялись и молча пошли. На перекрестке, где надо было прощаться, я не знал, что сказать. Откуда взялось внезапное смущение? Почему Мунир стал таким молчаливым?
— Ну, что, скоро увидимся? — спросил я, протягивая ему руку.
— Ага, — ответил он и крепко ее пожал.
Я постарался улыбнуться, но он остался серьезным.
Мы уже пошли каждый в свою сторону, но Мунир меня окликнул:
— Раф!
— Да?
— Я был рад с тобой повидаться, но… Я думаю, мы больше не увидимся.
Я удивился и не сразу задал вопрос, которого он от меня ждал.
— Почему?
— Ты видел, что творилось сегодня вечером?
— И что?
— Это не просто драка. Это война между двумя мирами. Между арабами и остальными. Я араб. Ты нет.
— Чушь какая!
— Может быть. Не знаю. Мне кажется, я живу в гетто. Кажется, буду жить в нем всегда. Всегда останусь иммигрантом. А ты… Ты живешь рядом с небоскребами, ты еврей. Наверняка дружишь с французами.
Я не знал, что ответить. В его словах была такая грусть, такая безнадежность. И он был таким взрослым.
— Шансы у нас с тобой одинаковые.
Я хотел сказать что-то ободряющее. Это было первое, что пришло мне в голову, а значит, в этом была правда. Я секунду подумал и понял, что именно хотел сказать.
— Знаешь, все решают воля и желание. Если мы поставим волю на службу силе, то через год, четырнадцатого июля, встретимся по разные стороны улицы. Если будем стараться добиться успеха, станем двигаться вперед вместе.
Мунир улыбнулся, подошел ко мне, протянул мне руку. Я с размаху хлопнул по ней, как делают взрослые мужчины.
— Моли Бога, чтобы мы с тобой не подрались. Я же всегда был сильнее.
— Ты-то?!
Мы рассмеялись. И когда разошлись, чувствовали, что снова заодно.
Я шел по темным улицам и думал о нашей встрече. Она здорово меня потрясла. Я чувствовал себя повзрослевшим. Мунир подтянул меня к себе. Шум позади меня заставил меня вздрогнуть, я сразу вспомнил дерущихся парней. Оглянулся вокруг, боясь, что увижу хулиганов. Но вокруг никого. И все-таки я побежал, чтобы как можно быстрее оказаться дома.
Я никому не рассказал о нашем разговоре. Потому что никто бы не понял, о чем мы говорили. Потому что никогда не говоришь о том, что помогло тебе повзрослеть.
Часть 2 Отрочество
6. Мы опять вместе
Мунир
После знаменательной встречи четырнадцатого июля мы встречались еще несколько раз. Короткое приветствие, смущенная улыбка, несколько слов на ходу. Каждый со своей компанией. Но я часто думал о Рафаэле. Он стал другим. Другим, но по-прежнему близким другом.
Всякий раз, когда разговор заходил о евреях, я видел перед собой его лицо, он словно бы стал их представителем, их воплощением. Маленькой фотографией для специальной статьи в специальном словаре Мунира. Когда мы говорили о евреях у себя во дворе, то чаще всего враждебно и с завистью. И какими-то еще чувствами, расплывчатыми, неясными.
Мы всегда говорили о них с ядовитой иронией: об их больших машинах, золотых цепочках, толстых кошельках. Например, как мы смеялись над их прическами! Кто не видел причесок конца семидесятых, тот не понимает, какую силу воли надо иметь, чтобы заставить волосы буквально воспарить над головой, вздыбить их и заставить стоять торчком! Джон Траволта справился с задачей, и после «Лихорадки субботнего вечера»[29] на улицах Лиона появилась армия юных евреев со стоящими дыбом волосами. Прическа этих чаще всего невысоких юнцов, казалось, составляла третью часть их роста. В брюках-клешах, в ботинках на каблуках, они скользили, словно русские танцовщицы, и казались уменьшенными копиями танцоров диско. Но разве в наших насмешках не таилась еще и зависть? Разве мы не хотели выглядеть так же? Сколько мальчишек-арабов старались выпрямить крутые завитки непокорных волос, чтобы они такой же пышной волной колебались в воздухе, и отчаивались, не добившись результата. И еще куда более серьезный предмет зависти: арабов не пускали по вечерам в кафе, а там все танцевали…
Да, нам случалось говорить об израильтянах, но редко. Честно говоря, война в Палестине не вызывала у нас особого интереса. Мы в ней мало что понимали. Что это за арабы, которые сначала оставили свои земли, а теперь отвоевывают их обратно, да еще так неумело и бестолково? Почему с такими мощными союзниками у них все равно ничего не получается? Между нами говоря, у некоторых арабов палестинцы вызывали стыд, они считали, что те роняют в глазах Запада репутацию арабов-воинов, не умея договориться со своими братьями, выработать план, организовать наступление, предпочитая военным действиям террористические акты в кибуцах, яслях, в олимпийских деревнях. Если говорить совсем откровенно, их презирали за то, что их побеждают. Даже алжирцы, больше всех не любящие евреев, не спешили высказать солидарность с такими жалкими вояками.
В общем, марокканцы, тунисцы, алжирцы, которые и между собой-то с трудом находили общий язык, не спешили брататься с сомнительными родственниками.
Так что по части нашей сплоченности евреи сильно ошибались.
История евреев была настолько мощной, что стирала разницу, которая могла бы возникнуть из-за того, что их родиной были непохожие страны, а их Земле обетованной грозила такая опасность, что, где бы они ни жили, они были заодно с теми, кто ее защищал. Я думаю, что мы все восхищались их единством и единодушием. Всюду, где находился хоть один еврей, он был со своими. А поскольку евреи были повсюду, то границы им были неведомы.
Вот что, в самых общих чертах, я мог бы сказать о своем отношении к евреям, когда, собираясь учиться дальше, поступил в общеобразовательный лицей[30].
Когда я вошел во двор лицея, то первым увидел Рафаэля, подросшего, окрепшего, он шел мне навстречу, забыв о скованности, которая осталась в детстве. Он открыто улыбался мне, не скрывая радости, что мы увиделись. Я тоже был ему рад, тоже улыбнулся, протянул руку и готов был его обнять.
— Мунир! Ты здесь? Гениально!
— Как видишь. Воз-ан-Велен относится как раз к этому лицею.
— Класс! Я супер как рад тебя видеть! Мы с тобой в одном классе, знаешь об этом?
Он распахнул мою куртку и сказал тоненьким голоском, сделав удивленные глаза:
— Ах, вы в школьном халатике? Я вижу, в Северной Африке правила не изменились!
Мы оба расхохотались.
Рафаэль мне показался совсем взрослым. Но в погрубевшем лице подростка я по-прежнему видел тонкое детское лицо. Думаю, и на меня он смотрел примерно так же. Я тоже вырос, был немного выше его и немного худее.
Он повернулся к моим друзьям и поздоровался с ними. Меня обрадовала его открытость.
Мы уселись на скамейку и заговорили о наших братьях, сестрах, родителях, вспомнили детство, наш квартал. Почувствовали: у нас есть прошлое, и это прошлое может помочь нам в будущем.
Мы с Рафаэлем обрадовались всерьез, что новый неведомый этап жизни будем одолевать вместе.
Рафаэль
Какая радость снова оказаться вместе! Мне показалось, что мне вернули несправедливо отнятую у меня часть жизни.
Сначала, когда я увидел Мунира во дворе лицея, во мне шевельнулось чувство вины. Почему я никогда не пытался с ним увидеться? Конечно, и он не предпринимал таких попыток, но мне почему-то казалось, что инициатива должна была исходить от меня — я помнил, что он мне сказал на прощанье тем вечером 14 июля. И он оказался прав. Я не раз вспоминал о нем, хотел повидаться, но он жил уже в Воз-ан-Велен или в Ма-де-Торо, я не знал его адреса, и где бы стал его там искать? К тому же говорили, что в этих кварталах не терпят чужаков. За арабами закрепилась дурная репутация: агрессивные, драчливые. Достаточно было встретиться с одним из них взглядом, как тут же следовал вопрос: «У тебя проблемы? Чего зыришь?» И вот уже повод для ссоры готов. Говорили еще, что среди хулиганов были и совсем чокнутые: резали лица своей жертвы бритвой. Издевательство называлось «сделать паутинку», на лице несчастного потом оставались на всю жизнь шрамы в виде паутины. Я не слишком верил в подобные россказни. Болтали лишнее, приукрашивали, изображая мусульман бандитами без чести и совести. Кстати сказать, банды мало-помалу стали исчезать, парни становились мужчинами, женились, и одни находили себе работу, другие становились настоящими ворами. Воры уже не были заинтересованы в демонстрации силы, они тырили деньги, где только могли. А молодняк, подрастая, не спешил сбиваться в банды. Большинство учились, надеясь в будущем найти себе место в обществе. А те, что остались за бортом, кооперировались маленькими группками по нескольку человек и специализировались на краже мобильников и прочих мелочей, которые легко было продать.
Мы с Муниром редко говорили об этом. Мы с ним поступили в лицей, чтобы оказаться в будущем подальше от предместий со всеми их прелестями.
Теперь я не слишком любил бывать на «площадке» — предпочитал сидеть дома, учился, а в свободное время читал книги, которые брал в муниципальной библиотеке. Расти — значит отделяться от прошлого и нащупывать пути, которые ведут в прекрасное будущее.
Мы с Муниром в лицее снова сблизились. После занятий частенько заходили с ребятами выпить кофе. В нашей небольшой компании евреи с арабами прекрасно ладили. Подростки живут крайностями, им не интересны нюансы перетекания одного в другое. Юным мятежным умам близка позиция манихеев[31] — мир двоичен: злые и добрые, ученики и преподаватели, левые и фашисты, французы и другие. Мы были другими.
Мы чувствовали себя особым кланом. Кланом чужаков, с другими корнями, с другой историей. Евреи и арабы говорили на одном языке. На французском, пестрящем вкраплениями местных забавных словечек и подначек. Так мы подчеркивали, что друг с другом у нас гораздо больше общего, чем с французами.
К французам мы относились не слишком доброжелательно, с оттенком расизма, но прятали его за шутками и насмешками. Посмеивались над их заурядностью, осторожностью, трусостью и больше всего — над манерой себя вести: сдержанной и даже извиняющейся.
Разумеется, у нас были друзья-французы, и все мы жили общей жизнью лицея. Но мы вели двойную игру. В своем кружке мы подтрунивали над приятелями-французами и вообще чувствовали себя свободнее, оставаясь, так сказать, без «чужих глаз». Оказываясь среди французов, подлаживались под них, иногда кривя душой, а иногда совершенно искренне. Мы говорили с французами на одном языке, а между собой и о них — на другом.
Впоследствии я узнал, что социологи довольно быстро выявили этот симптом социальной шизофрении и назвали его «вербальным дуализмом».
Два мира соседствовали, противостоя друг другу: французы, упорядоченные, вышколенные, стерильные, заранее запрограммированные на определенные роли, и мы, перевозбужденные, фрустрированные, кипящие идеями и желаниями.
Между этими мирами медленно, но верно строился мост, и мы с Муниром пользовались им чаще, чем другие. Мы поняли, хотя никогда не формулировали своего понимания в словах, что подлинная жизнь, обещающая будущее, находится по другую сторону моста. И старались в ней понемногу участвовать, возвращаясь к своим, чтобы подзарядить батареи, благодаря юмору, словечкам, теплу семей и друзей.
Выбирали мы и свою позицию в политике. И это тоже был знак взросления.
С одной стороны, были левые — хиппи, коммунисты, высокие чувства, идеи, любовь, гуманизм, солидарность, равенство. С другой — правые. Правые — буржуа, богачи, имущие, нацисты. Значит, мы были левыми. Hasta la victoria, siempre![32]
Но за что мы боролись на самом деле?
Мунир
Я пришел в лицей, еще не проснувшись. Думал, что сильно опаздываю, но увидел перед дверями толпу учеников и обрадовался, что ошибся. Часы показывали десять минут девятого. Вообще-то я точно опаздывал. Я остановился в сторонке, пытаясь понять, что происходит.
У ограды жестикулировала небольшая стайка ребят. Я разглядел в ней Беатрис, она что-то говорила и пыталась заставить себя слушать. Беа — высокая, худенькая и была бы хорошенькой, если бы не страсть к коммунизму. Она неутомимый борец, одевается кое-как и в конце концов превратилась в бесполую ходячую агитку. Она у нас самая яростная коммунистка во всем лицее. Готова агитировать за своих и днем и ночью.
Теперь я понял: снова забастовка.
Рафаэль появился рядом, насмешливо улыбаясь.
— Не лицей, а сплошная радость! Мы опять устроили забастовку. И тебе никогда не догадаться, из-за чего!
— Нехватка кадров? Закрытие библиотеки?
— Нет, это уже было.
— Тогда не знаю.
— Дирекция отключила в общежитии стерео. Директор сказал, что звук слишком громкий и в соседних с общежитием классах невозможно заниматься.
— И что? Коммуняки устроили бучу?
— Представь себе. Сочли распоряжение директора «посягательством на свободу учащихся». Вон, посмотри, Беатриса опять разошлась. Забастовка до победного конца, пока не включат стерео. И еще несанкционированная демонстрация через час. Пойдем от улицы Анри Барбюса до Эмиля Золя. Говорю тебе, нет на свете лучше лицея.
— Ну и отлично. У нас есть время выпить чашку кофе.
Бар «Ле Пале» у нас как раз напротив лицея. Там уже сидели Ахмед, Лагдар и Фаруз. Ахмед и Лагдар — братья, но могли бы сойти и за близнецов. Среднего роста, плотные, с темными короткими жесткими волосами, правильными чертами и смуглой кожей — выглядят, можно сказать, на одно лицо. И живость характера тоже одинаковая. Из-за избытка энергии Лагдару пришлось остаться на второй год, так что он оказался в одном классе со своим младшим братом. Фаруз маленький, худенький, на вид хрупкий и с очень своеобразным лицом: близко посаженные глаза, плоские надбровные валики, плоские губы, приплюснутый нос. Он похож на боксера сверхлегкого веса в конце карьеры.
Ребята с нами поздоровались и протянули пакет с булочками. Хозяин «Пале», симпатичный мужичок, крепко за сорок лет, по имени Пьер, покосился на наши булочки.
— Не знаю, в курсе вы, ребята, или нет, но у меня сегодня только круассаны.
— И гораздо дороже булочек, — со смехом отозвался Лагдар.
— Может, и так, но когда идешь к девушкам, ты ведь не берешь с собой свою сладкую куколку. Понимаешь, что я хочу сказать?
— Надо же, прямо поэт! — восхитился Фаруз.
— Я не хожу к девушкам, нет необходимости, — возразил Лагдар.
— Можно понять, — насмешливо отозвался Пьер. — С твоей-то внешностью! Чистый плейбой!
— А ты не жалуйся, мы возьмем пять чашек кофе!
— И что? Мне от радости прыгать, что вы ошарашите пять чашек кофе? — проворчал Пьер, не упуская случая показать нам, что и он умеет пользоваться сленгом.
Кофе нам принесла Патрисия, дочка Пьера. Чистая француженка — застенчивая, белокожая, с румяными щеками. Думаю, мы все в нее влюблены. Она тоненькая, с растрепанными высветленными волосами и так улыбается, что сердце просто выскакивает. Чувствуется, что она очень старается выглядеть раскованной и непринужденной. Косит под панков, но у нее не слишком получается.
Мы молча смотрели на нее, пока она расставляла перед нами чашки. Встретившись со мной взглядом, Патрисия улыбнулась, щеки у нее стали еще румянее.
Пьер стоял за стойкой, вытирая стаканы за нами.
Патрисия отошла от столика, мы все посмотрели ей вслед.
— Эй, парни! — окликнул нас ее отец. — Даже не думайте!
Мы в ответ улыбнулись, а Фаруз показал большой палец.
К нам присоединились Давид и Максим. Оба из моего класса. Мы были шапочно знакомы, когда виделись в школе изучения Торы, а здесь быстро стали приятелями. Давид, небольшого роста, стройный, складный, умеет улыбаться обворожительной улыбкой. У него дар — он умеет разговаривать с девушками. Мы дали ему прозвище Тони Монтана. Вообще-то он может поговорить с кем угодно, чувствует тончайшие нюансы слов, меняет интонацию, ласкает собеседника взглядом или пронзает молнией черных глаз. Максим его бледная копия. Он пытается походить на Давида, но выглядит скорее как пародия. Максим далеко не красавец, не умеет быть элегантным и прибавляет к каждой фразе бранное слово. Дает выход внутренней агрессии.
— Привет юдам! — бросает Лагдар.
— Да-а-авид! Бра-а-а-а-ат! — тянет Фаруз, изображая акцент пье-нуаров.
— Оставьте ваши шутки, их груз мне не по силам, — отвечает Давид с утомленным видом. — Шутить будут евреи. И вообще! Вы когда-нибудь слышали об арабском юморе?
— Дааааавид, он чтооооо нервниииииичает? — продолжает тянуть Фаруз и, внезапно сделав заинтересованное лицо, просит: — Объясни мне, Давид, почему всех евреев зовут Давидами?
— Я бы мог ответить вопросом на вопрос: почему всех арабов зовут Мухаммедами? Но я не пошляк. Объясняю: потому что Давид классное имя. Так звали одного еврейского царя и кучу американских актеров. Его обожают девушки, в своих дневничках они вписывают его в сердечки. А вот Мухаммед или Фаруз… Надо хорошенько постараться, дружище, чтобы девушка написала «I love Mohamed» или «Faruz forever».
— Мы люди открытые, обходимся без отмычек, сразу предъявляем товар лицом, — парировал задетый Фаруз.
— И это не плюс, а минус: за лицо вы и получаете. Кстати, ты знаешь, что будет, если разбегутся «Волосы дыбом»?[33]
— Поделись очередной тупой остротой!
— Плешь.
Мы нехотя рассмеялись.
— Тяжело у тебя с шутками, Давид, — вздохнул Лагдар.
— Зато нам теперь понятно, что с евреями не до шуток, — подхватил Фаруз.
Такие словесные перепалки то и дело вспыхивали на протяжении дня. «Мы, евреи…», «Вы, арабы…» «Они, французы…». Беззлобные насмешки, подначки — только ради веселья, без обид и последствий. Мы не враждовали, мы все вместе валяли дурака, состязались в умении трепать языком.
— Как насчет демонстрации? — осведомился Давид.
— Присоединимся, как только двинутся.
— Далось им это стерео! — проворчал Максим. — Лично я обрадовался, когда чуваки его запретили, дурачье такое дерьмо слушали, уши вяли.
— Макс прав, — согласился Фаруз. — Можем остаться здесь, посидеть в тепле. Демонстрация из-за стерео. Чушь какая!
— Я пойду, — объявил Рафаэль. — Во-первых, на демонстрациях всегда весело. Во-вторых, важно не стерео, а превышение власти. В-третьих, детсадовский повод и есть главный цимес. Можно только порадоваться, что живем в стране, где можно устроить бучу из-за такой ерунды.
— Ну, крякнул у них кабель — и что? Тебя-то с какого боку он касается? — насмешливо спросил Лагдар. — И что это у тебя за манера отвечать на раз-два-три?
— Он так все время, — присоединился Ахмед, — во-первых, во-вторых, в-третьих… О чем ни спроси, всегда по пунктам.
— Искусство убеждать, чуваки. Необходимо выставить три довода. Метод продавцов и политиков. Но вы в риторике ни бум-бум? Вы раскрываете рот, как другие расстегивают ширинку. Чтобы получить удовольствие от глупостей, которые распирают вам мозг.
— Рафаэль говорит дело, — кивнул Давид. — Я тоже применяю в спорах тактику трех аргументов, и со мной больше не спорят. Это как в драке: первый удар в печень, чтобы согнулся, второй коленкой в лицо, чтобы выпрямился, третий в нос — и кончено дело. Любой будет с вами согласен, можете не сомневаться.
Хохот, одобрительные восклицания, мы навалились на Давида, стали щипать его за щеки. Такая у нас традиция, так мы, марокканцы, выражаем свое восхищение.
— Салют, сморчки!
В кафе появился Артур. Артур редкий экземпляр, из чистопородных французов, но общается с нами. Он классный, делится хорошей музыкой и хитами. Рост у него под два метра, ходит в узких джинсах и холщовой куртке с изображением альбома «Black» группы Queen. С длинными волосами, с мотоциклом и внешностью рок-звезды, он возглавляет отряд парней-плейбоев нашего лицея.
— Достала меня их демонстрация, — объявляет он с ходу. — Коммуняки используют любой предлог, лишь бы завербовать себе новеньких. Речи нет, чтобы на нее тащиться.
— А мы решили пойти, — говорю я. — И не спрашивай почему, а то наши политиканы ответят тебе аргументами по трем пунктам.
— Эй, молодняк, сыграем?
Предложение последовало от Энзо. Он со своим приятелем Тони сидит по целым дням в кафе, играет на автоматах. Время от времени они отлучаются часа на два, а потом опять возвращаются. Им, должно быть, уже под тридцать, красивые, в общем-то, мужики, лощеные, ухоженные и к нам питают дружеские чувства. Часто платят за нашу воду и кофе и за игры на автоматах тоже, когда мы с ними играем. По их словам, у них бизнес: занимаются перепродажей разных товаров.
— Нет времени, идем на демонстрацию.
— Демонстрацию? — недоверчиво переспрашивает Тони.
— Лучше бы работали, ребятня, — говорит Энзо. — Если, конечно, хотите жить потом, как мы.
— Жить, как вы, кофейными бизнесменами? — усмехается Рафаэль.
Мужички подмигивают друг другу и смеются.
Мы с Рафаэлем увидели в окно, что ребята двинулись, и поднялись.
— Шагайте, я остаюсь, — сказал Фаруз.
— И мы тоже, — подхватили хором Максим, Ахмед и Лагдар.
Артур, постоянно пребывающий в нерешительности, колебался.
— Да ты только посмотри, сколько там девочек! — поддразнил его Рафаэль. — Даже Сесиль пошла с подружками. Говорю вам, парни, демонстрация — идеальный шанс, если хочешь поохотиться. Девчонки с ума сходят, они свободные, независимые… Сами знаете, сколько жаркой любви было в шестьдесят восьмом.
— Рафаэль, убедись, иногда хватает одного довода. — Фаруз поднялся со стула.
Мы присоединились к демонстрации.
«Не превышай власть!
Директор, верни звук!» — скандировали ребята.
— Дурацкие у них слоганы, — заметил Ахмед.
— Достали меня эти хиппи-коммуняки, — злился Максим. — Май шестьдесят восьмого давно кончился. Банда идиотов! И вся эта хрень из-за стерео! Мать моя мамочка! Так бы и дал им по башке!
Но очень скоро все мы наэлектризовались веселым воздухом свободы, который всегда царит на демонстрациях. Орать во все горло на улице. Смотреть на недовольные лица стариков и завистливые — молодых мамочек. Хохотать, толкаться, махать, брататься. В наши пятнадцать и шестнадцать мы изображаем из себя взрослых, но мы еще дети, и поэтому нам так легко почувствовать себя свободными, бегать и кричать. Мы заметили впереди Сесиль и стали к ней пробираться. Она кричала и хохотала во все горло, ее каштановые волосы развевались прямо у меня перед носом, так что я чувствовал запах ее шампуня. Сесиль обернулась, посмотрела прямо на меня своими зелеными глазищами. Я был наэлектризован, не знал, как себя повести. Она улыбнулась, немного смутившись оттого, что ее застигли врасплох, когда она так расковалась. У нее очень ровные зубки и две ямочки в уголках рта. Я не знаю ни одной девчонки у нас в квартале с такой улыбкой. И среди лицеисток Сесиль тоже самая клевая. Рафаэль опомнился первым. Он подхватил слоган и тоже начал его выкрикивать. Я за ним. Сесиль неуверенно сделала шаг в сторону, но Рафаэль схватил ее за руку, поставил между нами, и вот мы уже стали троицей воодушевленных манифестантов. Восторг мятежный и голос нежный. Я не решаюсь оглянуться, опасаясь, что ребята над нами смеются. Но они вмиг поняли, в чем дело, подхватили подружек Сесиль, и теперь мы живая, кричащая, подпрыгивающая цепочка.
Иной раз короткий миг оборачивается целой историей. Вспышками вбирает в себя яркие картинки, твою полноту чувств и становится главным воспоминанием, куда более значимым, чем все другие.
Этот день, этот миг, по существу, еще такой ребяческий, в моей памяти сохранился как прекрасный и возвышенный. Нет сомнения, что в тот день я понял, что такое воодушевление борьбы.
В этот день мы вошли в большую политику через маленькую дверь, которую распахнул жаркий ветер юности. Вошли, требуя вернуть общежитию стереозвук.
Рафаэль
Со временем вокруг нас с Муниром сложилась небольшая компания, крепко спаянная искренними общими интересами. Мы слушали одинаковую музыку, одевались в одном стиле — джинсы, футболки, хлопковые куртки — и примерно одинаково смотрели на мир.
Я реже стал общаться с евреями. Мне стало с ними тесновато. Нелегко находиться среди мальчиков и девочек, которые думают, что можно свести весь мир к одному измерению. Не подходила мне и еврейская молодежная мода — длинные волосы, искусно зачесанные назад брашингом, джинсы «Левайс 501», футболка от «Лакост», куртка в клетку и золотая цепочка, достаточно массивная, чтобы выдержать тяжеленький могендовид. Не нравились мне и их манеры — походка, как у Джона Траволты, и на каждом шагу восклицание «клянусь Торой» или «клянусь жизнью матери». Уверен, видя меня с длинными, растрепанными волосами, одетого с хипповской вольностью, они про себя усмехались, но принимали всегда доброжелательно, как любого соплеменника, каким бы странным и чудаковатым он ни был.
Я иногда присоединялся к этим ребятам — был не прочь посидеть с ними на террасе кафе, вместе расслабиться, порадоваться жизни, пошуметь из-за всяких пустяков, но очень скоро во мне просыпалось желание сбежать: уж слишком мы были похожи, и схожесть вызывала отторжение. Общаясь с ними, я видел себя. А мне хотелось забыть о себе. В каждом их жесте, взгляде, слове я читал свои собственные проблемы и противоречия. Стоило поймать движение, интонацию, и меня вновь одолевали мучительные вопросы. Кто же я такой? Марокканец? Человек Востока? Человек Средиземноморья? Еврей? Сефард? Француз? В каком порядке нужно выстроить все эти определения?
Вот одна из попыток: я француз марокканского происхождения, по типу средиземноморец, по религии иудей, по культуре сефард, любитель восточной кухни. По сути верно, но слишком сложно. Обилие определений отгораживает меня от реальности. Я могу запутаться в них, как в лабиринте, и не выйду на свою дорогу в жизни.
Попробуем что-нибудь попроще.
Следующая попытка: француз иудейского вероисповедания, левый, любитель тяжелого рока. Уже лучше. Но далеко не исчерпывающе. Однако в юности хочется избавиться хотя бы от части тяжелого багажа, чтобы шагать вперед налегке.
Демонстрации, которые устраивали коммунисты нашего лицея и в которых мы стали принимать участие, дали нам возможность почувствовать радость быть заодно — не одни мы были недовольны! Мы стали частичкой разноликой молодежной толпы, вышли за рамки своего ограниченного мирка. Мы ощутили потребность в идеях, которые нуждались в нашей защите. Включившись в борьбу, мы осуществляли свое стремление стать на равных с другими. Общие противники помогали нам чувствовать, что мы связаны друг с другом и у нас общая судьба.
7. Первые сражения
Рафаэль
«Нацики! Скины! Они напали! Целых шестеро!» — Фаруз с трудом выговаривал слова. От бега и волнения ему перехватило горло. Мы еще толком не поняли, что случилось, но уловили: что-то серьезное.
Мы сидели на скамейке в лицейском дворе. Это наш постоянный стратегический пост, с него очень удобно наблюдать, как входят и выходят из лицея девушки. Мы отпускали замечания и делали попытки познакомиться с ними поближе. А Фаруз и Лагдар отправились прогуляться по улице Анри Барбюса. Туда и тащил нас срочно Фаруз, обещая, что все расскажет по дороге.
Фашиствующих много, и они не похожи друг на друга. Есть отцы семейств, загородившиеся заслоном тошнотворных идей ультраправых, есть студенты-юристы, члены GUD[34], есть скинхеды.
Можно, конечно, найти и других, но эти были главными, с которыми мы сталкивались в то время. Они были против арабов, против евреев, и этого было достаточно, чтобы мы чувствовали их своими общими врагами. Но реальную опасность представляли только скины. Их было немного, зато много ходило историй о погромах, которые они устраивали, о разных их агрессивных действиях против евреев. В этих историях они не выглядели героями. По легенде, скинхеды отчаянные и крутые, а по факту — жалкие неудачники, которые сбиваются в кучу, чтобы не трусить, и нападают всегда на самых юных и слабых. Так что пусть сколько угодно рядятся в камуфляжные штаны, рейнджеры и бомберы и бреются наголо, они нам отвратительны вовсе не этим.
Мы оставили рюкзаки на скамейке и помчались за Фарузом.
Сведения поступали короткими очередями.
— Шестеро скинов, бритые, в бомберах… Обозвали нас грязными уродами… Мы ответили… Кинулись на нас с кулаками… Мы побежали… Их же много… Мы бежали за вами… Думаю, его поймали… Я его не видел… Слышал крик… Бежим быстрее!
Каждое его слово было оплеухой, впрыскивало новую дозу адреналина, и мы бежали быстрее. Прохожие шарахались в сторону. Думали, наверное, что банда хулиганья, набедокурив, спасается бегством. На самом деле Мунир, Давид, Артур, Ахмед и Максим были готовы вступить в яростную рукопашную.
Максим сыпал ругательствами:
— Мать их так! Трусы поганые! Шестеро на двоих! Позорники! Грязь!
Посреди улицы Анри Барбюса стояла небольшая толпа. Мы врезались в нее, напугав зевак, и увидели Лагдара, он сидел на асфальте, держась за челюсть, из носа у него текла кровь.
— Поймали меня, гады! — кипел он. — Я им спуску не давал! Но они меня поколотили. А из этих ни один пальцем не шевельнул, — прибавил он, кивнув в сторону зевак.
Кое-кто развел руками, мол, как тут поможешь? Большинство предпочло удалиться.
Лагдар набросился на Фаруза.
— И ты хорош! Я споткнулся, а ты, гад на лапах, смылся!
— Ну ты даешь! Мы же за ребятами побежали, — начал защищаться Фаруз. — Что, я видел, что ли?!
— Они обозвали меня грязным уродом! Дерьмом! Черножопым! Шестеро на одного! Плевали мне в лицо, пидоры!
Обида, унижение, боль. Мы почувствовали их вживую.
Лагдар вытер лицо, и у него на куртке появились темные пятна.
— Так. И куда они побежали? — спокойно спросил Мунир.
— К Эмиля Золя, в сторону перекрестка.
— Двинули! — подал голос Фаруз, торопясь загладить вину, которой не было.
— Погодите, парни, — вмешался Артур. — Не горячитесь. Я думаю, лучше пойти в полицию. Эти скины, они…
Наши красноречивые взгляды удержали его от дальнейшей аргументации.
— Ладно тебе, Артур! Наверняка буржуазная мразь, которая рядится под крутых. Шестеро против одного, а он у нас как огурчик!
— Чего стоим? Пошли! — крикнул Ахмед, кипя желанием отомстить за брата.
Приглашение прозвучало объявлением войны. Мы стали войском, жаждущим мести. В нас горела обида Лагдара. Лагдар тоже пошел с нами. Но он шел медленнее, чем мы, его распухшее со следами засохшей крови лицо пугало встречных прохожих. Артур шел рядом с Лагдаром, поддерживал его, найдя удобный предлог не быть в первых рядах.
Максим, подогревая в себе ярость, продолжал сыпать ругательствами. У перекрестка мы замедлили шаг. Мунир распорядился:
— Вы, трое, идите прямо, а мы свернем. Встретимся у Дворца спорта.
Давид, Ахмед и я пошли прямо. Без ругательств Максима нам стал слышнее наш решительный шаг и тяжелое дыханье.
У самого Дворца мы пошли тише, пытаясь отдышаться и разыскивая глазами наших товарищей. А что, если они их встретили? Что, если дерутся? Трое против шестерых? Мы припустили чуть ли не бегом.
По счастью, ребята нас даже опередили. Они подняли руки, сожалея, что никаких скинов не встретили.
Огорчились мы все и молча уселись на невысокую каменную ограду. Один Максим сыпал и сыпал ругательствами.
— Эх, хотел бы я пустить кровь этим подлюкам, — вздохнул Ахмед.
Мы кивнули, соглашаясь, стараясь отдышаться и привести в порядок мозги.
Подтянулись Лагдар с Артуром.
— Они, видно, пошли другой дорогой, но ты не волнуйся, мы их найдем, — пообещал Лагдару Ахмед.
— Уверен? И каким же образом? Пустишь ищеек?
— Помолчи, Лагдар. Мы все тоже на нервах.
Мунир вмешался, и, почувствовав его серьезную, искреннюю озабоченность, братья сразу расхотели препираться. Мунир присел с нами рядом.
— Вы вправду не хотите обратиться в полицию? — спросил Артур.
Мы так посмотрели на него, что ответа не потребовалось. Он тоже присел с нами рядом.
— Мать их так и разэтак! — Максим произнес очередное ругательство так громко и выразительно, что мы невольно на него взглянули. Он не отрывал глаз от противоположной стороны улицы. Там появились скины. Они хохотали, толкали друг друга, передавали банки с пивом. Праздновали, должно быть, свою победу.
Мы вмиг, как один человек, оказались на ногах. Я почувствовал горячий ток крови по всему телу, мускулы у меня напряглись. Ребята, я думаю, ощущали то же самое. Что это было? Страх? Ненависть? Или радость, что гады наконец перед нами? В общем, чувств было столько, что нужно было сбросить эту нагрузку.
— Аллах акбар! — усмехнулся Ахмед. — Вот они, тут как тут. Вы готовы, парни?
— Сейчас мы их сделаем, — прошипел Максим.
— Они у нас узнают, — пообещал Фаруз.
— Чернявый справа — мой, — просипел Лагдар. — Это он мне в лицо плюнул!
— Стойте, ребята! Не делайте глупостей, — повторил Артур дрогнувшим голосом. — Мы не должны опускаться до их уровня.
Никто его не услышал.
— Не забудьте, что мы черножопые! Полное дерьмо! Уроды! — проговорил Мунир, воодушевляя отряд и себя самого на битву.
Скины уже были напротив нас, но на противоположной стороне улицы.
Фаруз сделал шаг в их сторону.
— Эй вы, пидоры!
Нацики его заметили. Презрительные усмешки искривили их лица. Но когда увидели нас всех, усмехаться перестали.
— Теперь мы на равных, — крикнул Мунир. — Будем драться по справедливости. Хотя вам неизвестно, что такое справедливость!
Лагдар вышел вперед и ткнул рукой в чернявого.
— Эй, ты! Я с тобой посчитаюсь!
На той стороне возникло колебание, скины стали между собой переговариваться. Кроме высокого мускулистого блондина и коренастого шатена, все остальные, похоже, испугались.
— Смотри, ребята, как бы не убежали!
Едва я успел сказать это, как Максим с Ахмедом двинулись к скинам с одной стороны, а Давид с Фарузом с другой. Теперь обидчикам от нас не уйти!
Высокий блондин пристально смотрел на меня.
— Ну что ж, значит, французы всыплют черножопым! — бросил он мне со спокойной презрительной улыбкой.
Я чувствовал, что он только делает вид, будто ни капли не боится. Угрозы и оскорбления неотъемлемая часть любой драки. Сам я в этот момент не чувствовал страха. Только ненависть. Жгучую ненависть.
— Нет, это черножопый разобьет тебе морду в кровь!
Я ринулся через улицу. Машина с визгом затормозила, едва не сбив меня с ног. Остальные ринулись за мной. Скины подались назад. Трое попытались смыться, но Ахмед, Максим и Фаруз преградили им дорогу. Прямо передо мной стоял блондин — высокий, крепкий. Нельзя было допустить, чтобы он стал бить меня первым. И я бил, бил куда попало. Неумело, беспорядочно, но с такой яростью, что он подался назад, а потом свалился. Вокруг крики, драка в разгаре. Кто-то еще свалился. Я успел заметить Мунира, он поддал головой коренастому шатену, и тот издал пронзительный, почти женский, крик. Честно говоря, трудно было что-то разобрать в этой свалке, которая длилась всего несколько минут. Я отступил. Мой противник сидел на асфальте. Мунир тоже одержал победу в поединке, его спарринг-партнер сидел, привалившись к стене. Максим стучал бритой головой по кузову автомобиля, приговаривая при каждом ударе:
— Мразь! Пидор! Гад!
Но на другом конце у Лагдара и Ахмета возникли трудности. Два скина отчаянно дрались. Максим поспешил друзьям на помощь, и через две минуты нацики тоже уселись на асфальт. Мы отступили, чтобы обозреть поле боя. Два скина встали и убежали. Четыре остальных, поскуливая, сидели на тротуаре. Один был вымотан до предела, остальные под впечатлением от драки поглядывали на нас с опаской. Победа была полной. Неоспоримой. Великолепной.
Лагдар подошел к чернявому и плюнул ему в лицо. Подошел Максим и тоже плюнул.
— А ну повтори, что кричал мне только что, — предложил Лагдар.
— Не связывайся с дерьмом. Пошли, — позвал Мунир.
— Не спеши, — вмешался Фаруз. — Мы сделаем им паутинку. Они нас тогда не забудут и ненавидеть будут за дело.
Дрожь пробежала у меня по спине, и я впился глазами в Фаруза, надеясь, что он шутит.
— Ты прав, сделаем паутинку, — согласился Ахмед.
Приятели говорили совершенно серьезно. Ахмед уже вытащил из кармана лезвие и зажал его в руке. И тут мне стало по-настоящему страшно. Жуть взяла от непоправимой жестокости, бесполезной мести, о которой придется жалеть всю жизнь, от безысходности. Сейчас я стану свидетелем настоящей пытки.
— Что такое паутинка, знаете? — задал вопрос Ахмед, сверля парней злобным взглядом.
Один из них врубился и с ужасом взглянул на Ахмеда. Завертел головой по сторонам, надеясь на помощь. Однако редкие прохожие заранее переходили на другую сторону улицы и спешили мимо.
— Это когда берут лезвие бритвы и полосуют поганые рожи, чтобы стали похожими на паучьи сети! Сейчас мы сделаем из вас монстров! Никаких подружек! Кто взглянет — ужаснется!
С этими словами Фаруз покрутил в воздухе кулаком с зажатой бритвой.
— С него начнем? — спросил он Лагдара и ткнул в чернявого. — Давай, держи-ка его!
— Вы что, спятили, ребята?! — возмутился Артур.
Чернявый заплакал в голос.
— Не надо! Не надо! — заголосил он. — Простите! Пожалуйста! Не надо!
Второй окаменел от страха.
— Черт! Останови их, Раф, — умоляюще обратился ко мне Артур.
Да, я чувствовал, надо вмешаться.
— Не будем гадами, парни! Мы же не скины! Никаких паутин, слышите? Я вам не позволю!
Хорошенькое дело! Честное слово, я готов был встать на защиту нациков! Один из них смотрел на меня умоляюще, надеясь, что моя решимость его спасет.
Я взглянул на Мунира, он хранил полное бесстрастие. Но в глазах у него промелькнул огонек, и я понял, что спокойствие его мнимое.
— Оставь, — сказал он. — Пусть расплатятся.
Мне надо было иметь больше силы, больше упорства, чтобы выиграть следующий поединок, но у меня их не было. Я мог только осторожно подмигнуть Артуру, чтобы как-то его успокоить.
Фаруз подошел к чернявому и протянул к нему руку. Тот, рыдая, продолжал его умолять. Фаруз разжал кулак и показал сложенную опасную бритву.
— Уроды вы, нацики! В следующий раз возьму эту бритву и изуродую!
— Пошли, ребята, пора уходить, — вмешался Артур со вздохом облегчения. — Я уверен, кто-то уже позвонил в полицию.
— И что? Ты же сам хотел с ними повидаться.
Мы двинулись молча к лицею. Никому не хотелось говорить. Но про себя мы все улыбались.
— Я вам не позволю!
Ахмед изобразил меня, и мы все расхохотались, я бы сказал, истерически.
— Пусть расплатятся! — продолжил игру Давид.
— Ты сыграл лучше, чем Аль Пачино, Фаруз!
— Ты что, и вправду поверил, что их будут пытать? — спросил меня Мунир.
— Ну… Знаешь, всякое бывает. Кто мог сказать полчаса тому назад, что мы расколошматим в пух и прах скинов?
И тут развернулась пресс-конференция: мы принялись обсуждать драку, делиться впечатлениями, и нам стало дико весело.
Мы не пошли на занятия, забрали рюкзаки и отправились во Дворец спорта, проболтались там до самого вечера, смеялись, играли на автоматах. Мы прошли через серьезное испытание, стали братьями по крови. Крови врага.
Мунир
Время требовало определенности. Политической. Музыкальной. Политика и музыка были тесно связаны между собой. Выбрать музыку значило определиться с внешним видом, образом мыслей, манерой говорить. Музыка вела прямым ходом к политике. Или к аполитичности. В лицее Бросолет были, например, фанаты BCBG, диско, хиппи, панки и так далее. Каждая группа подразделялась на подгруппы в зависимости от личных и клановых пристрастий, подгруппы могли объединяться в новые сообщества или дробиться на еще более мелкие. Например, вы могли быть хиппи, но при этом слушать «Пинк Флойд», «Генезис», «AC/DC» или «Скорпионс». Хиппи и панки заявляли себя левыми: социалистами, коммунистами, анархистами. Диско и BCBG правыми.
К концу семидесятых наш лицей явно тяготел к левым. Во-первых, потому что находился в коммуне, которая исторически сложилась как социалистическая, а во-вторых, потому что в нем учились в основном дети служащих, рабочих и иммигрантов. Правые были малочисленны и вели себя скромно, чего не скажешь о коммунистах. Лицеисты-партийцы вели откровенную пропаганду, не слишком громкую в стенах лицея, и во весь голос за его оградой. Единственным нациком у нас был директор. Вообще-то это мы так решили. Властная манера разговаривать, авторитаризм, готовность нас ограничивать сделали его в наших глазах представителем нациков. Мы в те времена обожали навешивать ярлыки, раскладывать по полочкам, делить и распределять — друзья и враги, хорошие и плохие, крутые и быдляки. И, конечно, частенько ошибались.
Евреи и мусульмане не принадлежали всерьез ни к одной из групп. Большинство из них одевались по моде, слушали самую разную музыку, предпочитая соул и диско, объявляли себя вне политики, но склонялись к левым, потому что они исповедовали толерантность, уважительно относились к национальным различиям, приветствовали интеграцию. У нас были свои группы, свой дресс-код, своя музыка, свои словечки и свой юмор.
Мы с Рафаэлем не слишком уютно чувствовали себя среди этой политической и музыкальной лихорадки. По политическим взглядам мы были умеренно-левыми, а в музыке склонялись к року, но не решались откровенно обнаружить свои пристрастия к «Генезису», «The Who», «Queen», «Supertramp» и «AC/DC», опасаясь быть осмеянными.
Беатрис окликнула нас у дверей лицея.
— Не уделите мне минутку, ребята?
— Ты такая милая, Беатрис, но побеседуй лучше с другими. Мы не собираемся вступать в партию.
Рафаэль тепло улыбнулся, желая смягчить безапелляционность отказа.
— А я и не собираюсь вас агитировать. Просто хотела узнать, что вы хотели бы сделать для построения более справедливого общества. Интересно же поговорить, обменяться мыслями, разве нет?
— Не надо, Беатрис! У вас все строится на политике. Ты хочешь разговорить нас, расшатать наши убеждения, подложить нам в мозги две-три бомбы замедленного действия.
— А ты расскажи, какие у вас убеждения. Вот ты! Во что ты веришь? В человеческую справедливость или в божественную? В профессиональный успех? В деньги? В дружбу? Понимаешь, мне захотелось с вами поговорить, потому что один из вас еврей, а другой мусульманин, и вы дружите. Вы, так сказать, создаете основу для общества, построенного на общечеловеческих ценностях. Мне это интересно.
— Интересно? Ну так и быть. Первое. Не сомневайся, что я искренне убежден, что коммунисты всерьез живут гуманистическими ценностями и они хорошие люди. Второе. Я думаю, что их идеализм приведет их к тесному сотрудничеству с Советским Союзом. Третье. Для меня большевики — это современные диктаторы.
— Большевики покончили с нацизмом, — гордо парировала Беатрис.
— Ничего подобного. Об американцах, англичанах ты забыла? Советские подписали пакт о ненападении с Берлином, бороться с нацизмом их вынудили обстоятельства. И у Сталина на руках крови не меньше, чем у Гитлера.
— Ты стал жертвой капиталистической пропаганды, Рафаэль.
— Согласен. И не мешай мне, пожалуйста, и дальше оставаться этой жертвой.
Тон у Рафаэля был жестким. Беатрис для проформы хотела еще что-то сказать, но отошла в сторону и пропустила нас.
Я еще помолчал немного, а потом задал вопрос, который вертелся у меня на кончике языка:
— Ты уверен в своих словах?
— Если честно, нет.
— А почему говорил с такой уверенностью?
— Политики только так и говорят. Ты заметил, что они всегда в себе уверены? Могут говорить чудовищные глупости, но с такой уверенностью, что все глупости проскакивают с полпинка. Я уверен, что на самом деле они во всем сомневаются, но в политике нет места для сомнений. Ты всегда только утверждаешь.
— А откуда у тебя информация насчет советских?
— Читал Бернара-Анри Леви[35] «Варварство с человеческим лицом» и Андре Глюксмана[36] «Кухарка и людоед».
— Ты читаешь такие книги?!
Если честно, я был в шоке. Я знал, что Рафаэль тащится от доктора Стрэнджа[37], обожает Фредерика Дара[38], но чтобы он сушил мозги, пичкая их новыми философами?
— Читаю.
Он понял, что я в шоке.
— Слушай! Давай всерьез. Я попробовал читать Бернара Махена. Это что-то. Самую простую вещь развозит так, что понять нельзя.
— Ты что, думаешь, я в каждую строчку вникаю?
— Ну, не знаю. Ты же говоришь, что…
— Слушай! Сейчас я скажу тебе важную вещь, и ты избавишься от комплекса иммигранта. — Рафаэль улыбнулся, и улыбка у него была разом дружеская и насмешливая. Он положил мне руку на плечо, подвел к скамейке. Мы уселись на нее, и он продолжил: — Раньше я думал, что читать какого-то там писателя — означает освоить все его творчество. Необъятность культурного наследия действовала на меня угнетающе. Я чувствовал, что просто раздавлен. Понимал, что мне никогда не догнать тех, кому вместо вечерней сказки читали «Мысли» Паскаля. Но на самом деле, за исключением небольшого числа гениев, никто не заморачивается с творчеством всяких там авторов. Обычно берут одну-две книги, которые положено прочитать, и спасибо. Да и эти не то чтобы читают. Откроют, проглядят предисловие, первую главу, заглянут в середину, там кусочек, здесь кусочек и эпилог. Дело сделано. Книги читают точно так же, как «Монд»[39]. Я думал, читать «Монд» — значит читать все статьи от первого до последнего слова и благодаря им становиться очень умным и образованным. Купил газету и стал читать. За час прочитал две страницы. Читать «Монд» целиком невозможно! И не нужно. Мозг не способен переварить столько информации. Значит, проглядываешь передовицу, потом статьи на первых страницах, а потом заголовки и хронику. Получаешь запас кое-каких мыслей и охапку ученых слов. Запоминаешь их — и вот, ты уже готов говорить со всеми на равных.
— Погоди! Ты что, думаешь, все именно так и поступают?
— Большинство. Нисколько не сомневаюсь.
— И скажи на милость, кому нужно такое кино?
— Очень даже нужно. Благодаря такому кино мы с тобой, например, остаемся в стороне.
— Не понял.
Рафаэль снова расцвел благожелательнейшей улыбкой.
— Сейчас поймешь. Слушай внимательно, что я тебе сейчас скажу. Я убежден, это ключ к успеху.
Он был явно взволнован, нервно облизал губы, ища слова, и начал:
— Когда Бернар-Анри Леви, Андре Глюксман или любой другой интеллектуал пишет книгу, он предлагает какую-то идею, новую позицию¸ одну идею и несколько доводов в ее доказательство. Эту идею и эти доводы можно изложить на одной странице. Но они пишут книгу, потому что знают: идея, выраженная одной фразой, становится похожа на слоган. Изложенная на одной странице — газетной статейкой. Обмусоленная на трехстах страницах — превращается в мысль! Книга придает веса автору. И вот он сидит и напрягается: как бы подать эту самую идею, разъяснить, обосновать, а заодно показать, какой он культурный, какой образованный, чтобы его заметили и приглашали обсуждать всякие политические и социальные проблемы. Чтобы его талант заметили и признали уже признанные авторитеты-интеллектуалы. И все они стараются говорить и писать на языке, который только они и понимают.
— Но… зачем?
— А затем, чтобы держать на расстоянии людей вроде тебя и меня. Чтобы культура оставалась в руках элиты.
— Ты что, в коммунисты записался? Или в анархисты?
— Нет. Но я не хочу, чтобы мне морочили голову. Хочу понять здешние порядки и использовать их себе на благо. Путь у меня долгий, вся жизнь впереди, я не хочу, чтобы меня раздавили. Вот так-то.
Рафаэль внезапно посуровел, словно готовился к будущему бою. Или уже вступил в битву, начал борьбу.
— И какой же ты сделал вывод?
— Мы должны действовать, как они. Играть на их территории. Освоить их правила, отстаивать себя и стать заметными людьми.
— А идеалы? Их что, не существует?
— Стать великим человеком — это и есть идеал.
— А мне кажется, это эгоизм.
— Ты не понял. Я думаю не о себе лично. Вернее, не только о себе. Я считаю, что наша задача — помочь таким же, как мы, у кого нет власти, нет денег. А для этого нужно найти проколы в системе, изучить коды, использовать здешние методы и подняться как можно выше, чтобы открыть дорогу всем остальным, кому достаются только крошки от общего пирога.
— Значит, вот каким революционером ты хочешь стать! Ты не собираешься опрокидывать строй, а хочешь освоить его настолько, чтобы к богатствам получила доступ не только элита?
— Формулировка супер. Все правильно.
— Стараюсь не отставать.
— Ну так считай, что мы начали свою революцию. Мы станем заметными людьми, потому что у нас есть общая цель. У еврея и араба.
— У араба и еврея!
Рафаэль меня крепко обнял. Не побоялся выразить чувства жестом, хотя большинство наших сверстников не решились бы, не желая поставить под сомнение свою мужественность.
Я запомнил этот наш разговор чуть ли не слово в слово. Впрочем, нет, конечно, преувеличиваю. Разумеется, я пересказал его иначе, словами взрослого, сохранившего в памяти бурную внутреннюю жизнь подростка. Но в любом случае этот разговор стал ключевым для моей будущей общественной деятельности. С этого дня мы с Рафаэлем решили участвовать во всех мероприятиях, чтобы как можно быстрее освоиться, набраться опыта, стать сильнее. Мы не пропускали ни одного политического собрания, конференции, дискуссии, активно участвовали в спорах. Но руководила нами не убежденность, а желание приобрести навыки. Мы стали воинами на вражеской территории. Мы наблюдали за врагом. Мы его изучали.
Сегодня я могу сказать, что Рафаэль в то время был гораздо взрослее меня. Его мучили противоречия бытия, и он то впадал в безысходную мрачность, страдая от трагической безнадежности жизни, то предавался безудержному веселью, почти что животной радости. Признаю, что своим политическим, социальным, личностным созреванием я был во многом обязан Рафаэлю. Благодаря ему мир предстал передо мной как изменчивая материя, на которую можно наложить свой отпечаток. По его убеждению, достаточно было только захотеть, протянуть руки. Он не сомневался, что успех изготавливается по рецепту коктейля, куда входят знание правил, умение к ним приспосабливаться и умение их использовать. Перекос в любую сторону грозит провалом. Действуя с осторожностью, мы наберемся опыта, опыт даст нам возможность найти правильную дозировку.
Да, мы вступили в борьбу. Да, мы нашли себе врага. Мы были идеалистами, молодыми, обаятельными, изворотливыми, решительными. Враг претендовал на всемогущество, был коварен, дряхл и эгоцентричен. Отважные герои пустились в фантастическую авантюру, которая должна была привести к победе добра над злом.
Рафаэль дал толчок трудному мучительному процессу, который в будущем развел нас, сделав врагами.
Рафаэль
Урок истории. Месье Гутенуар, наш преподаватель, заболел, и заменять его пришла учительница лет сорока, сухая, тощая со странной ныряющей походкой. Гладкие волосы, близко посаженные глаза, длинный, тонкий нос, впалые щеки, острый подбородок — точь-в-точь топорик, который сейчас врежется в стол и разрубит его пополам. Когда она приоткрывала рот, слова не сразу решались проскочить через ее кривые зубы, зато потом, словно набравшись сил, вылетали пулеметной очередью. Учительница, смягчая агрессивность их полета, понижала голос. В общем, прошло пять минут, и все перестали ее слушать.
Я сидел у самого окна. Во дворе выпускной класс занимался физкультурой. Ученики, кое-как выстроившись, уныло дожидались своей очереди протрусить стометровку. А самые хорошенькие девушки в обтягивающих открытых маечках соблазнительными позами выражали свое отвращение к будущим усилиям, которые у них явно были не в чести.
Я на них загляделся, и вдруг меня разбудили слова учительницы. «Третий рейх», «нацисты», «Виши». Я встрепенулся. Она рассказывала, оказывается, про Вторую мировую. Я, конечно, предпочел бы послушать месье Гутенуара, у него удивительный талант оживлять страницы истории, театрализовывать их, извлекать яркие сцены из нашего занудного учебника.
Сесиль встретилась со мной взглядом и улыбнулась.
Я подмигнул, ей скорчив гримасу. Она тихонько засмеялась, отвернув голову.
Я снова стал смотреть в окно, как там во дворе занимаются физкультурой.
«Гитлер… Этот великий человек…»
Я чуть не подпрыгнул. Учительница потихоньку бубнила, класс равнодушно дремал. Должно быть, я чего-то недопонял. Я взглянул на Мунира, он был в неменьшем недоумении. Глядя на меня, коснулся пальцем уха, спрашивая: слышал ли я? Значит, не я один. Лагдар, сидевший сзади, наклонился ко мне и шепнул на ухо:
— Тебе не приснилось, она сказала, что Гитлер великий человек.
Я снова повернулся, чтобы взглянуть на Мунира, надеясь, что ребята меня разыгрывают.
— Клянусь жизнью матери, — прошептал он, нахмурившись, давая мне понять, что не имеет ни малейшего желания шутить.
Я снова оглядел класс. Похоже, откровение мадам никого не шокировало.
Я хлопнул по плечу Лорана Дюга, одного из наших хорошистов. Он записывал все, что говорили учителя. Тот нервно дернулся, давая понять, чтобы я не приставал к нему. Лоран панически боялся замечаний.
Я снова хлопнул его по плечу, но на этот раз посильнее. Он вопросительно полуобернулся.
— Она вправду сказала, что Гитлер — великий человек?
Лоран перечитал последние написанные строчки и утвердительно кивнул.
Я обалдел.
— Можно спросить? — Я поднял руку.
Учительницу, похоже, разозлило мое вмешательство.
— Нет! Все вопросы после объяснения материала.
Мне не понравился ее тон. Она в чистом виде нарывалась. В любом случае, я не собирался ждать конца ее объяснений.
— Не могу после! Хочу знать немедленно, действительно ли вы назвали Гитлера великим человеком!
Она уставилась на меня рыбьими глазами, похоже, на секунду заколебалась, потом улыбнулась бледной улыбкой.
— Нужно слушать меня, а не смотреть в окно. Я не буду вам отвечать, я продолжаю свою лекцию.
И она снова застрочила себе под нос. Но я снова ее прервал:
— Я хочу знать, вы в самом деле сказали, что Гитлер великий человек?
— Советую сидеть молча. Или мне придется попросить вас покинуть класс.
Мои одноклассники очнулись от летаргии и уставились на меня в ожидании — им было интересно, что я буду делать.
— Но я всего лишь хочу узнать, правильно ли я услышал.
Учительница набрала побольше воздуха, чтобы как следует меня отчитать, но тут раздался еще один голос.
— Да, мадам сказала, что Гитлер — великий человек, — заявил Мунир.
Еще несколько человек подтвердили то же самое. В классе поднялся шум.
— Тихо! — прикрикнула учительница. — После лекции я отвечу на ваши вопросы. Я не позволю вам нарушать правила.
Она злилась, но нисколько не нервничала.
— Простите меня, пожалуйста, но если вы действительно назвали Гитлера великим, то это серьезно. Очень серьезно. И вы тогда должны обосновать свое мнение.
— Что значит — должна? Мне не в чем перед вами оправдываться!
— Никто не требует оправданий. Вы учитель, вы дали оценку, мы просим ее объяснить. Что тут такого? Обычное дело.
Она снова впилась в меня ледяным взглядом. Я понял, она довольна тем, что я нервничаю.
— Хорошо. Я сказала, что Гитлер великий человек, потому он занимает важное место в истории.
Я задумался на секунду о правомерности такой точки зрения. Все внутри у меня кипело, но я изо всех сил старался сохранять объективность. Мне показалось, что я вижу на лице учительницы ироническую усмешку, и решился продолжать:
— Понимаю. Но меня поразило, что вы назвали его великим человеком. Я ждал, что он будет оценен именно как исторический деятель.
Я почувствовал в ней тень неуверенности и ринулся в атаку:
— Я считал, что мы все здесь придерживаемся единого мнения насчет Гитлера. Этот человек был психопатом, убийцей и дикарем.
Учительница, не сводя с меня глаз, глубоко вздохнула.
— Историк не судит о деятелях своей науки с точки зрения юриспруденции, психиатрии или психологии. Это ясно?
Кипящая лава во мне заклокотала.
— Нет! Мне ничего не ясно! Я хочу понять, что именно думаете вы! По вашему мнению, Гитлер великий человек или нет? Имейте мужество отвечать за собственные взгляды! — Я уже не владел собой, сорвался чуть ли не на крик. На меня смотрели удивленно, с опаской, со смехом.
Похоже, напряглась и преподша. Она почувствовала, что ситуация уходит у нее из-под контроля, и постаралась меня утихомирить:
— Скажем, что я считаю Гитлера одним из весьма существенных исторических деятелей. В одном ряду с Цезарем, Александром Великим или Наполеоном. Как и они, он обладал индивидуальным видением мира, по-своему понимал величие и свою роль в историческом процессе.
— А я спрашиваю вас о человеке, о главе государства, о военачальнике!
Она помолчала, потом решила продолжать в том же кисло-сладком тоне:
— Военачальник? Один из лучших стратегов в истории. Глава государства? Народ его обожал. Он сумел возродить в немцах национальную гордость, увлечь их за собой. Сумел оживить экономику, сократить безработицу. Человек? Средний немец заурядного происхождения, сумевший стать харизматическим лидером всей нации.
Ее тон, слова… Я едва мог дышать от негодования, меня начала бить дрожь.
— Все, что вы говорите, отвратительно!
Ее губы снова скривила ироническая усмешка.
— Я перечислила факты. И не понимаю, почему они повергают вас в такое волнение.
— А конечный результат? Миллионы погибших? Лагеря смерти?
— Все войны ведут к гибели людей. Кое-кто осуждает и Наполеона из-за его военных подвигов.
— Но речь не о войне! Речь о преступлениях против человечества. Он решил уничтожить и уничтожил миллионы людей из-за того, что они были евреями, цыганами, коммунистами!
Лицо преподавательницы окаменело.
— Для того чтобы событие стало фактом истории, нужно время. Все, о чем вы говорите, еще слишком близко от нас. Однозначного суждения об этих явлениях нет. Историки пока спорят о фактах и цифрах.
Я задохнулся, мне показалось, что гнев сейчас задушит меня, что я кинусь на нее с кулаками. Но внезапно на место ярости пришло ледяное спокойствие, как будто пробка вылетела, ярость и ненависть испарились. Ум и тело обрели равновесие.
— Возмутительное суждение. Я слышал о псевдоисториках, не желающих считаться с очевидностью, но лично встречаюсь первый раз.
Она криво усмехнулась.
— Я запрещаю вам говорить со мной подобным тоном, месье Леви. — Презрение, с каким она произнесла мою фамилию, говорило больше, чем все ее рассуждения. — Напоминаю, что я ваш преподаватель и вы обязаны оказывать мне уважение.
— Я вас не уважаю. Вы не заслуживаете уважения. И не имеете права преподавать. И… Я ухожу!
Куда подевалось ее хладнокровие? Она заморгала, пытаясь найти слова, доводы, обвинения в мой адрес, которые опять сделали бы ее хозяйкой положения.
— Сядьте на место! Немедленно! — повысила она голос.
Я спокойно двинулся к двери. У меня за спиной послышался шум. Мунир тоже собрал свои вещи. За ним Сесиль. Следом Лагдар. Остальные смотрели на нас в нерешительности.
— Это еще что такое?! — прошипела учительница. Она была вне себя. — А ну по местам!
Я уже вышел в коридор. Ребята за мной следом.
Обернувшись на пороге, Мунир обвел глазами класс.
— Четверо из тридцати двух. Во время войны примерно столько же уходили в Сопротивление. Остальных называют теперь коллаборационистами.
Замечание Мунира всколыхнуло сидевших. Большинство ребят поднялись со своих мест.
Преподавательница задергалась, потом сообразила: решила запереть дверь и таким образом остановить поток.
— Вы останетесь в классе! Я запрещаю вам уходить! Вас ждет суровое наказание! — кричала она тем, кто направлялся с нами в коридор.
Но ребята ее не слушали. Не желая оказаться в толпе, она отошла в сторону и сложила на груди руки. В коридоре одноклассники хлопали меня по плечу, выражая свою солидарность, кто-то улыбался и дружески подмигивал.
Мунир оглядел группу мятежников.
— Ну и дела! Сколько, однако, иностранцев! Арабы, испанцы, итальянцы… Ау, французы! Вы-то где?
Артур подал голос:
— Эй, я здесь!
— Повезло тебе, — улыбнулся Лагдар.
Пьер и Жан-Марк помахали рукой.
— Мы тоже тут.
— Нормалек. Вы коммунисты. Останься вы на месте, я бы вас не понял! Но поглядите-ка на остальных. Сидят, повеся головы, опустив глаза. Французы, называется!
Мунир специально повысил голос, чтобы его услышали те, кто остался сидеть — человек двенадцать лучших учеников, и почти все они были французами.
— Оставь, Мунир! — сказал я, желая его успокоить.
— Нет, погоди! Ты посмотри, какая гадость. Вот она — Франция Виши! Вот они французы — коллаборационисты! — И он обвиняющим, презрительным жестом ткнул в сторону сидящих.
— Давайте, митингуйте! Изображайте крутых! Посмотрим, какие у вас будут рожи, когда вас вытурят из лицея! — Это подал голос Серж. Здоровенный парень, гордившийся своими мускулами и физической силой. Я всегда считал его храбрецом. В юности не отличаешь силу от мужества.
— Держись за землю! — крикнул ему Лагдар. — Ты прав, рисковать не стоит. У тебя отличные убеждения.
Сидевшие за партами следили за перепалкой — кто озадаченно, кто сконфуженно. Еще трое поднялись со своих мест. Мы все хлопали их по плечам, когда они выходили к нам.
В классе осталось семь человек, они твердо решили не трогаться с места.
Наконец учительница вышла из ступора.
— Уходите! — обратилась она к сидящим. — Уходите все!
Коллаборационисты в недоумении не сдвинулись с места.
— Выходите! — истерически заорала она. — Мне тут никто не нужен! Урок окончен!
Ребята переглянулись и вышли, а за дверью получили парочку не слишком ласковых слов в свой адрес и несколько тычков.
Теперь мы все толпились в коридоре. Лагдар поднял руку и крикнул:
— El pueblo, unido, jamas sera vencido![40]
И мы расхохотались, особождаясь от стресса и напряжения. Мы прошли испытание. Оно могло нас смять, раздавить. Но мы вышли из него с честью. Повзрослели. Одолели врага. Мы заслуживали праздника. И кроме смеха у нас не было иного хмеля, который кружил бы нам головы.
Мунир
Урок истории. После него я понял, что у меня есть убеждения. Что я способен их защищать. Даже от взрослых. Первая схватка, и мы в ней не безликие анонимы, затерянные в толпе, повторяющие слоганы, потому что они ритмичные, мы — матросы, которые взбунтовались против плохого капитана, за корабль, на котором хотим установить более справедливый и гуманный порядок. Я даже подумал, что мы встали на защиту истории. Тени Освенцима видели, как мы бунтовали, возмутившись злостным бездушием преподши. Безмолвные, изуродованные, они стояли с нами рядом в коридоре. Избыток воображения? Претензии уязвимого подростка? Очень может быть. Но, поднявшись, мы защищали основу основ человеческой справедливости. Мы защищали ее всем своим существом. Мы делали правильно. Мы были на своем месте.
До этого мне казалось, что эта часть истории для меня чужая. Евреи, французы и немцы должны как-то сами разобраться со всеми ужасами Второй мировой. Но слова этой идиотки обожгли меня, как пощечина, они касались и меня тоже. Ее глупость была угрозой для всех. Сначала я почувствовал себя евреем, а потом гражданином мира, где мое слово имело существенное значение. Мира, где я хотел жить и расти. Во мне проснулось человеческое достоинство.
Такие переживания укрепляли нашу дружбу с Рафаэлем. Я словно бы смешал свою кровь с его кровью и с кровью жертв холокоста. Рафаэль дрался со скинами, которые унижали арабов, а я встал рядом с ним, защищая правду от лжи.
Сидя в приемной директора, мы чувствовали себя мужчинами, друзьями, готовыми постоять за свои убеждения. Вызвали к директору только нас двоих. Зачинщиков.
Наши объяснения, поддержка одноклассников, угроза демонстрации, организованной коммунистами, нежелание, чтобы скандал вышел за стены лицея, убедили директора в законности наших действий и в необходимости распрощаться с фашиствующей заместительницей нашего историка. Мы с Рафаэлем одержали еще одну победу.
Рафаэль
Статья появилась в «Лицейском эхе», газетке нашего заведения. Номер с самого утра ходил по рукам евреев и мусульман, и всякий раз после прочтения слышалось: «Мать вашу так!», «Гад на лапах!» и прочие разные ругательства. Вместо подписи стояли две буквы. Автор пугал Францию гибелью от засилья евреев и арабов и призывал к сплочению крайне правых.
— Мы его отыщем, сукиного сына, и начистим табло по первому разряду, — пообещал Максим, прочитав статейку.
— Их, может, много за этой подписью, — предположил Давид.
— А как зовут парня, который рядится под скинов? — спросил Микаэль. — Высокий такой, бритый, учится, кажется, в выпускном «Б»?
— Марк Фремон или Кремон, что-то вроде этого, — ответил Лагдар.
Мы опять сидели на своей скамейке в лицейском дворе. Давид замотал головой.
— Нет, не он.
— А ты что, думаешь, парень поставил свои настоящие инициалы?
Давид взглянул на меня и швырнул газету на скамейку.
— Ты, конечно, прав, но все же пойдем с ним потолкуем. У нас на руках бумага. Наверняка он знает, кто писал это дерьмо.
— Надо еще поговорить с тем типом, кто издает газетку. Ему сдают статьи. Он должен знать автора.
Давид одобрил широкой улыбкой предложение Мунира.
Они внимательно изучили листок в поисках имени главного редактора и нашли.
— Вот он: Марк-Луи Сонан. Выпускной класс.
— Тощий очкарик. Похож на персонажа из мультиков.
— Сонан? — удивился Лагдар. — Я был уверен, что он еврей.
— Нет. Иначе мы были бы знакомы, — отозвался Давид.
Марк-Луи Сонан, выйдя из классной комнаты, увидел нас не сразу, потому что шел, опустив голову, уперев глаза в пол.
Давид тронул его за плечо. Марк-Луи поднял глаза и уставился на нашу компанию с удивлением. Но не забеспокоился.
— Ты за это отвечаешь? — спросил мой друг, держа открытой страницу со статьей.
Сонан понял, в чем дело, захлопал глазками за очками, прикидывая, сколько нас и насколько мы агрессивны. Теперь он встревожился, но тон был по-прежнему спокойным.
— Да. Но я только собираю статьи, формирую номер и распространяю газету.
Давид взял его за плечо и отвел в сторонку, якобы чтобы не мешать тем, кто шел к выходу. Следующим движением он ткнул Сонана в угол. Теперь тот смотрел на нас испуганно. Похоже, его тощие коленки задрожали.
Давид прижал его к стене и занес кулак — стойка хулигана, готового драться.
— Кто написал статью?
— Н-не знаю… Она была в ящике для писем в редакцию. — Голос Сонана звучал неуверенно.
По щеке его легонько хлопнула газета.
— Не валяй дурака. Или ты скажешь, чья статья, или я разобью тебе морду.
Сонан не ожидал такой грубости и попытался защититься.
— Ну ты! Нечего! Не имеешь права распускать руки. Я же сказал, понятия не имею, кто автор.
Давид поднял руку, но Лагдар опередил его и отвесил главному редактору оплеуху.
Сонан поправил очки и приложил руку к щеке.
— А вы хулиганы!
Не слишком надеясь на успех, он опустил голову и попытался двинуться мимо нас. Максим тут же схватил его за плечо и прижал обратно к стенке.
— Слушай внимательно! Или ты скажешь, кто навалил эту кучу дерьма, или я расквашу твою бесстыжую рожу!
— Но я понятия не имею!
Мунир сделал шаг вперед. Он похлопал Давида по плечу, советуя тому успокоиться.
Сонан поднял голову.
— Ты сам читал статью?
Он утвердительно кивнул.
— И решил опубликовать?
— Я не отвечаю за то, что пишут другие. Я же сказал: я собираю статьи и формирую номер.
— Но числишься «главным редактором»! Изображаешь начальство, раздуваешь щеки, а когда надо отвечать за публикацию, сразу в кусты? Прочитал и не почесался?
— Статья мне не понравилась, но я не вправе исполнять обязанности цензора. Газета должна отражать мнения лицеистов. Любые мнения.
— Ясно, ясно, — пробурчал Давид. — Значит, такова, по-твоему, роль… главного редактора.
Мой дружок, похоже, собрался отвесить «редактору» еще одну оплеуху.
— Знаешь, что? Я напишу для следующего номера статью, где расскажу, что мамаша у тебя шлюха. Рассчитываю на тебя. Ты же ее опубликуешь?
Сонан передернул плечами, давая понять, что находит слова Давида глупостью.
— Зря ты так.
Лагдар уже замахнулся, но Мунир его остановил.
— Мне сказали, что ты еврей. Это правда?
Мой вопрос поставил Сонана в тупик, он не мог понять, ловушка это или путь к спасению.
— Да. В общем-то. У меня отец еврей, но мы атеисты.
— И тебя не стошнило от необходимости публиковать такую гадость?
Вопросы предполагали возможность разговора, я словно бы интересовался им, хотел понять. Глаза, увеличенные толстыми стеклами, несколько секунд моргали. В них читался страх. Глупыми они не были.
— Разумеется, я не обрадовался. Но я никуда не лезу со своими личными мнениями. И я не цензор.
— Ты вообще пустое место. Ящик для писем. Деревяшка.
— Уж точно не мужик, — прибавил Максим.
Сонан, похоже, задумался, потом опустил голову.
Признаюсь, в эту минуту меня клинило между двумя мнениями: либо этот парень прожженная сволочь, либо дурак не от мира сего, и ему на наши подростковые проблемы глубоко начхать.
Марк Бремон вышел из класса, обвел глазами коридор и увидел нас. Известие о допросе, учиненном нами Сонану, уже облетело лицей. Марк оглядел нашу небольшую компанию и уверенно направился к нам. С его-то ростом под два метра, широкими плечами, крупным лицом с холодными синими глазами, он не мог не произвести впечатления. На это он и рассчитывал.
— Хотели со мной поговорить?
— Откуда знаешь? — поинтересовался Максим.
— Дошли слухи. В чем дело? У меня мало времени.
Марк уставился на Максима.
— Ну и тон, черт подери, — скрипнул зубами Ахмет. — С нами не шутите!..
Бремон окинул его презрительным взглядом и спросил:
— Чего на меня уставился?
Ахмед шагнул к нему и чуть не уткнулся носом в крест, висевший на груди Марка и красиво выделявшийся на черном свитере.
— К делу! Чего надо?
Вопрос требовал немедленного ответа.
— Ты написал? — спросил Давид, протягивая газету.
Бремон оглядел Давида, лицо, одежду в молодежном стиле и слегка улыбнулся. Меня взбесило его высокомерие.
— Нет, — ответил он, даже не взглянув на газету. — Это все? Я пошел.
Красавец готов был удалиться. Я взял его за плечо и повернул обратно. Он среагировал тотчас же и угрожающе на меня надвинулся. Давид ударил его кулаком в висок, тот отступил и впечатался головой в стену.
Остальные замерли, не ожидая столь внезапного результата.
Когда Бремон поднялся, Ахмед, Лагдар и Давид схватили его и держали за руки. Он особо не сопротивлялся, слегка оглоушенный.
— Отойдем с ним вон туда, — распорядился Мунир.
Группка учеников, задержавшаяся, чтобы посмотреть, чем кончится разговор, направилась к выходу.
— Эй! — окликнул их Лагдар. — Если сейчас появится учитель, я буду знать, что позвали его вы!
Ребята торопливо кивнули и поспешили вниз по лестнице.
Мунир, подумав секунду, предложил:
— Пошли в спортзал.
Я подошел и вопросительно на него посмотрел.
— Устроим фашисту допрос по-гестаповски, так его и разэтак.
Бремон сидел посреди зала на стуле, Максим и Ахмед связали ему руки и ноги.
Он молчал, казалось, витал неизвестно где. Но глаза у него были тоскливые.
Мы совещались в нескольких метрах от него.
— Так, не будем терять времени, — подвел итог Мунир. — Мика встанет на атас, предупредит, если кто-то появится. Сейчас разыграем сцену, как в кино. Давид, ты будешь следователем злодеем, я добрячком, который не дает его бить и старается договориться. Идет?
Договорившись, мы подошли к Бремону. Нельзя сказать, что наш крутой был на сто процентов спокоен.
— Итак! Теперь ты скажешь, кто написал статью?! Тут не получится разыграть героя!
— Не я.
Бремон, похоже, не врал.
— Но ты знаешь кто.
Молчание.
— И ты нам скажешь.
— Знаю. Но не скажу.
— А я говорю, что скажешь, иначе…
Давид угрожающе надвинулся на Марка, но Мунир удержал его за руку.
— Иначе что? Будете меня пытать? Тоже мне театр затеяли! Вам самим не смешно? Нет? Связали и будете бить? Здорово, парни! Это по-мужски! Валяйте!
Бремон еще не договорил, как позади нас раздался голос. Максим не выдержал.
— Развяжите отморозка! Он прав, не годится бить привязанных. Отвяжите его, и я разобью его крысиную рожу.
Мунир двинулся к Максиму, чтобы его утихомирить, но я удержал его.
Максим принялся развязывать Бремона.
Тот смотрел на тощего коротышку, который развязывал на нем веревки и, освободившись, вопросительно взглянул на нас. Я улыбнулся.
— Это худшее, что могло с тобой случиться.
Я знал, что Максим как боец не впечатляет своими физическими данными, зато его одержимость и нервозность просто шокируют и вгоняют в ступор. Бремон поднялся со стула и встал в боевую позу, но не успел он поднять руки, как пощечина обожгла ему щеку. Такой силы пощечина, что на секунду показалось, что у него оторвалась голова.
— Видишь, дерьмо дерьмищенское, с тобой даже драться не надо! Я дерусь с настоящими мужиками, а тебе надаю по щекам, как шлюхе, пока нос не записает кровью! Поганая твоя фашистская рожа!
Максим сделал шаг влево и отвесил вторую пощечину, потом третью. Колосс покачнулся.
Из носа у него потекла кровь. Он по-прежнему стоял в боевой стойке, но не защищался.
— Хватит, Максим, остановись! — Мунир схватил его за плечи.
Нацик рухнул снова на стул. Он колебался.
— Слушай, ты же нормальный парень, — по-дружески заговорил Мунир. — Не сдрейфил, ведешь себя по-мужски. Так какого черта покрываешь труса, который исподтишка поливает всех дерьмом?
Довод подействовал. Марк больше не отпирался.
По его словам, статью написал ученик выпускного класса Франк Спинетти. Закомплексованный паренек, который всеми силами старается забыть свои итальянские корни и носит на отвороте куртки значок «100 % чистая раса». Их распространяют ультраправые.
Писаку-анонима мы прихватили, когда он вышел из лицея. На вид сама заурядность, ни кожи, ни рожи, пустое место. Из тех, кого в толпе не запомнишь, кто предпочитает отравлять ядом незаметно. Но глаза умные, и я понял, что он, так сказать, бросил пробный камень, что боится, но наши карательные меры для него неизбежное зло на пути той борьбы, в которую он решительно вступил.
Он заревел после первого тычка и сразу же попросил прощения. Без малейшей заминки. Он настолько нас презирал, что бесстыдно изображал унижение, чтобы обмануть нас и от нас избавиться.
Мы его отпустили. Ни удовлетворения, ни гордости. Тошнота.
Что сталось с Бремоном и Спинетти? Не сомневаюсь, что случившееся только подогрело их ненависть к евреям и мусульманам. Хотя, кто знает, может, они изменились и вспоминают давний период своей молодости с отвращением? Но что-то не верится…
А вот Сонан был какое-то время довольно значительной фигурой в прессе и издательском деле. Вот так-то…
Мунир
Евреи и мусульмане после этих событий сплотились окончательно. Расистские и антисемитские настроения стали проявляться все чаще, и в нас мало-помалу крепло убеждение в своей правоте. Против нас была Франция, она нас не принимала, отбрасывала, а точнее, не обращала никакого внимания на проявления ненависти, которой нас обливали. Неужели все французы? Конечно, нет. Но в юном возрасте ты уязвим и подозрителен. Мы сосредоточились на вспышках ненависти и закрыли глаза на все остальное. Безразличие было в наших глазах уже виной. Максимализм — удел юности, жадно ищущей своего места.
Французы по-прежнему оставались главной темой наших разговоров. Что они собой представляют? Каковы они на самом деле? Что думают? Что в себе ценят? Почему мы так стремимся стать французами, хотя настоящие французы не желают нас знать?
Мы старались представить себе этих людей, рисовали критические портреты при помощи юмора и насмешки, огрубляли собственные наблюдения, выпячивали отдельные черты, создавали стереотипы.
Из-за чувства неполноценности мы находили во французах все мыслимые и немыслимые недостатки: у них нет мужества, они безликие, безразличные, безвольные. Достаточно посмотреть на них во время спортивных соревнований! Они же никогда не выигрывают! Хуже этого, не хотят! Они довольны своим поражением. «Главное — не победить, а участвовать», — повторяют наперегонки спортсмены журналистам, оправдывая свое слабачество формулой Пьера де Кубертена[41]. Нас, молодых, страстно вцепившихся в национальную гордость, которая представлялась нам главной опорой, подобная позиция удручала, казалась заблуждением. Как можно участвовать в спортивных соревнованиях, не желая победить? Смертельно не огорчиться неудаче? Нет! Главное — побеждать! Видеть, как развевается флаг Франции на всех стадионах мира!
По нашему мнению, французы предпочитали нырнуть в кусты, а не вступить в бой, уклониться, а не поднять забрало, использовать эвфемизм вместо прямого слова. Потому и называют евреев израилитами, мусульман магрибцами. А почему? Хотят весомые понятия заменить ничего не значащими? Или отправить куда подальше нежелательных соседей?
Мы яростно критиковали французов, безудержно смеялись над ними… Рискуя сами оказаться в лагере расистов. Мы вели себя глупо, но нам было так важно развенчать священных идолов. Потому что стать французом совсем нелегко…
Лицейский двор. Мы в который раз обсуждаем фашизм, расизм, антисемитизм.
— Да они никогда не напрягались, эти французы! — горячится Фаруз. — Им плевать, что снова появились нацики, что снова достают евреев и арабов! Я тебе больше скажу: они их устраивают.
— И я так думаю, — подхватил Давид. — Они не сильно переживали, когда евреев депортировали и отправляли в газовые камеры. Они приняли Гитлера, отдали ему ключи от страны, пресмыкались. А евреев уничтожали, устраивали погромы. Им на них было наплевать!
Лагдар повел глазами, дав нам понять, что подходит Артур. Мы встретили его стесненным молчанием.
— Привет, отморозки!
Мы вяло его поприветствовали.
— Что случилось? Помешал? Черт! Всерьез испугал? У вас всегда такой вид, словно вы заговорщики.
— Французов ругали, — усмехнулся Мишель.
— У вас паранойя, парни. Пора с ней кончать.
— У нас не паранойя, а факты, — заявил Лагдар.
— Какие факты? Ну-ка изложи!
— Как будто сам не в курсе! Расистские выступления. Погромы. В результате с начала семидесятых больше ста погибших, несколько сотен раненых. Расисты, тоскующие о французском Алжире, продолжают убивать, пытать, громить арабов. Кое-кто из них устроился на службу в полицию. В Женевилье у Али Туами вытек глаз, так его ударил полицейский. Здесь, в Лионе, полицейские измордовали Нуредина, в Сен-Квентине замучили черного. Мне продолжать?
— А ты слышал, что сказал этот фашист Даркье де Пелепуа? — подал голос Мишель. — Этот гад заявил в «Экспресс», что в Освенциме в газовых камерах уничтожали блох, и ничего больше. А профессор Лионского университета, который утверждает, что газовых камер не было вообще?!
— Профессор Форисон, — уточнил Рафаэль.
— Вот-вот! А кривой со своей ультраправой партией, который открыто стоит за расизм и антисемитизм? А молодые нацики, которые только и знают, что обливают дерьмом евреев и мусульман?
— Похоже, у тебя, друг, маловато информации, — подал голос Лагдар. — Ты знаешь, например, что арабам запрещено вечером появляться в кафе? Их не пускают на дискотеки. Ты считаешь это нормальным?
— Да, знаю. Нет, не считаю нормальным. О чем это говорит? О том, что есть французы со сдвигом? Тоже согласен. Есть. Но из-за них чернить всю Францию? Вы понимаете, что льете воду на мельницу правых? Это они хотят натравить французов всех мастей друг на друга и устроить у нас черт знает что! Это вы понимаете?
— Все не так просто, Артур, — ответил Давид. — Нам кажется, что французам до всего этого нет никакого дела. Им на это наплевать.
— Но какого черта вы-то всех делите: вот французы, вот евреи, вот арабы, вот чернокожие, вот мусульмане… Делите по любым признакам — национальным, этническим, религиозным, смотрите, кто из какой страны…
— Это не мы делим, расисты делят, — воскликнул Фаруз. — А французы равнодушно смотрят, как нацики развлекаются.
— Откуда вы взяли, что равнодушно? И «Либе», и «Юма»[42] постоянно об этом пишут. Вы придаете слишком большое значение сегодняшней суете. Средний француз считает это тихим кряхтеньем истории.
— А нас как раз это и смущает в средних французах. Им всего дороже комфорт, и они тихо кряхтят в своих креслах. Как во время войны. Они тоже тихонько кряхтели, пассивно сотрудничая с немцами.
— Во время войны? Ну, знаешь! Ты забыл, что Франция сопротивлялась?
— Вот-вот! Сопротивление! А сколько их было в Сопротивлении? Горстка героев. Большинство пряталось за спиной Петена и Лаваля и сидело тихо. А теперь, стоит заговорить с любым французом о войне, как он тут же заявляет: Сопротивление! И в учебниках тоже так написано, но на самом деле все было иначе. Так-то, друг!
Голоса зазвучали возбужденно, Артур вспыхнул. Я решил вмешаться:
— Бросьте, ребята! Хватит вам!
Но Давид не собирался прекращать спор.
— Нет, не хватит! Менталитет пассивных коллаборационистов позволяет и сегодня нападать на евреев и арабов пособникам нацистов. У этого зла глубокие корни.
— Вот, значит, как? И почему же, интересно, французы так ведут себя?
— Да потому что они боятся! — убежденно заявил Фаруз. — Они трусливые люди, боятся всего, чего не знают. Боятся арабов, злобных дикарей, готовых на всех нападать. Боятся евреев, потому что верят в их силу. Боялись немцев, боятся гомиков, боятся женщин, войны, соревнований. Живут по готовым лекалам.
Ошеломленный Артур слушал с пылающими щеками.
— Да ничего подобного! — возразил он.
Фаруз встал.
— Хочешь, докажу?
Мы все удивленно на него посмотрели. Каким это образом?
Фаруз посмотрел на Мишеля и сказал одно слово:
— Булочная.
Мишель улыбнулся.
— Пошли с нами, Артур!
И вся компания отправилась к небоскребу буквально в двух шагах от лицея.
Мы подошли к булочной, и Фаруз попросил подождать его на улице.
— Я войду с Лагдаром и Мишелем. Смотри внимательно, что будет, Артур. Главное, наблюдай за булочником.
В магазинчике хозяин укладывал в корзины последнюю выпечку, а хозяйка протирала витрину. Как только она заметила, что в ее стеклянную дверь входят Фаруз, Мишель и Лагдар, она напряглась. Лицо ее выразило смятение.
Ребята уставились в витрину, выбирая, что бы купить, как делают все покупатели. Потом Фаруз взял пирожное с кремом, показал его нам через стекло и подмигнул. Откусил кусочек, сморщился, как будто оно ему не понравилось, и положил обратно. Потом взял второе, откусил и положил обратно. Булочница повернулась к мужу, но тот и с места не сдвинулся. На их глазах Мишель поднял руку к полке, взял горсть шоколадных батончиков и положил себе в карман.
— Да что это с ними? Спятили, что ли? — воскликнул Артур.
— Полностью парализованы, — кивнул Давид.
Я встретил взгляд булочницы. Глаза у нее были полны слез. Мне показалось, что она хочет мне что-то сказать, обругать, попросить. Мне стало стыдно, я опустил голову.
Наши приятели вышли из булочной.
— Ты видел, Артур? — спросил Фаруз. — Они с места не сдвинулись.
— Но почему? Я не понимаю… — пробормотал Артур. — Это же воровство! А откуда вы узнали, что они не шелохнутся?
— На прошлой неделе я взял и пошутил. Мне не нравилось, что они всегда на нас косо смотрели, когда мы у них покупали сдобу. С какой, спрашивается, стати? Мы покупатели, платим деньги. Но для них мы чужаки, а значит, подозрительные и опасные типы. И вот я сыграл роль араба, которого они себе представляли. Мне было просто интересно. Взял пирожное, надкусил и положил обратно. Клянусь, из чистого эксперимента. Скажи они мне хоть слово, я сразу же заплатил бы. Но они промолчали. Тогда я пришел с Лагдаром и Микой, и мы продолжили эксперимент — взяли булки и пошли себе. Они опять нам ничего не сказали. Даже не шевельнулись.
Артур изумленно смотрел на нас.
— Но… почему?!
— Потому что боятся.
— Да, я видел, что боятся. И ненавидят тоже, потому что вы у них воруете.
— Но страха у них больше, чем ненависти, и они позволяют себя обкрадывать.
— Чего же они боятся? Вы им угрожали?
— Нет. Они боятся арабов. И как только видят кого-то из нас, сразу представляют вора, насильника, убийцу с бритвой в руках и, почем я знаю, кого еще. Они трусы, и поэтому стали расистами.
Мы все были в шоке.
И тут я вмешался.
— А ты соображаешь, что своими экспериментами разжигаешь в них страх и злобу, укрепляешь стереотипы, из-за которых мы все страдаем?
— Не волнуйся, я все понимаю. Мы не собираемся и дальше играть в эту игру. Просто проверили, убедились. Ладно! Пошли на площадь мэрии, угостимся добычей.
— Без меня, — возразил Артур. — Я с вами не играю. И вы меня ни в чем не убедили. Вы просто попали на психически травмированных людей и обокрали их. Вот все, что я видел. И нахожу ваш поступок… бессмысленным, опасным и отвратительным. Словом, я пошел.
— Как хочешь, — насмешливо отозвался Лагдар и развернул «баунти».
Мы с Рафаэлем переглянулись.
— Я тоже спешу. Нам с Рафаэлем в библиотеку.
Рафаэль кивком подтвердил мою ложь. Четверо наших приятелей помахали нам и направились к мэрии.
Мы с Рафаэлем медленно пошли в сторону лицея.
— Артур прав, в их глазах светилась ненависть.
Рафаэль, погрузившись в задумчивость, ничего не ответил.
— Не знаю, кто тут больше виноват, — наконец сказал он.
8. Ради любимой девушки
Рафаэль
Сесиль шла по двору, шла по нашим сердцам, так беззаботно, так беспечно, словно и не подозревала, как волнует ее стройная фигурка возбужденных, озабоченных юнцов. Или притворялась, что не видит, какое восхищение вызывает?
Сесиль шла по двору ко мне. Я поднял голову и постарался спрятать за дежурной улыбкой волнение.
— Сегодня вечером в мэрии Виллербана собрание партии социалистов, — сказала она. — Ты пойдешь?
Я не решился подумать, что Сесиль собирается на это собрание не только из-за социалистов.
— Да, мы идем с Муниром. Начало в шесть, да?
— Да. Может, встретимся во Дворце спорта в пять?
Она ждет, что я ей что-то скажу?
— М-м-м. Конечно! В пять.
Сесиль смотрела мне в глаза, улыбалась и молчала.
— Ладно. Тогда до встречи. До скорого.
Уходя, она обернулась и махнула мне рукой.
Черт возьми, почему у меня не хватает смелости догнать ее и заговорить? Почему мне легко говорить с девчонками, только когда мы стоим всей компанией? Тогда откуда что берется! И остроумие, и находчивость. А если вдруг один на один, тем более с Сесиль, то полный паралич мозга. Если бы я…
— Взгляд что надо! — Мунир подошел ко мне только что, но ничего не упустил из нашего разговора с Сесиль. Его слова должны были прозвучать шутливо или дружески, но тон говорил другое.
— Скажешь тоже! Сесиль подходила узнать, идем ли мы сегодня на собрание социалистов.
— Мы или ты? — Мунир улыбался, но улыбка вышла невеселой. У нас появилась серьезная проблема — Сесиль. Я заметил и у Мунира тот же паралич, стоило ей появиться. Я хотел бы обсудить это с ним, но опасался взаимной неловкости и пока обходил тему стороной, хотя и повторял себе, стараясь, чтобы эта истина вошла мне в плоть и в кровь: «Сказать можно все, если слова продиктованы добрым чувством!» И тут я решился. Заговорил, надеясь, что потом слова придут сами.
— Слушай… Насчет Сесиль…
Мунир покраснел, растерялся.
— Она классная. И, похоже, мы оба так чувствуем. Не знаю, кто из нас двоих ей больше нравится. И вообще, нравится кто-то из нас или она к нам расположена по-товарищески. В общем, посмотрим. Может, кому-то и повезет. Но что бы ни произошло, хочется, чтобы мы остались друзьями.
Мунир кивнул.
— Да, согласен, классная, — ответил он. — Мне кажется, что ей нравишься ты. Но не думай, между нами в любом случае без проблем.
— Дружба прежде всего!
Я протянул руку. Мунир хлопнул по ней, и мы рассмеялись.
Мунир
Я лежал в темноте, и у меня текли слезы. Уверен, что брат спал и ничего не слышал. Реветь в восемнадцать лет — все равно что писаться в постель в десять. Стыдоба.
Как определить чувство, которое разрывало мне сердце? Гнев? Ревность? Безнадежность? Отчаяние? Не знаю. Конечно, если бы я понял, мне стало бы легче, но любое мое усилие вызывало поток слов и картинок, от которых мне становилось еще хуже. Я снова видел, как они смеялись, взялись за руки, поцеловались. Видел их смущенные улыбки, они улыбались мне, стараясь делать вид, что ничего особенного не происходит, догадываясь, как мне больно. А я изо всех сил боролся со своей болью и гневом, стараясь не показать, что мучаюсь. Они были так теплы, так внимательны, стараясь меня утешить. А я чувствовал себя таким смешным, нелепым, маленьким. Таким арабом…
Хоть я и старался его не слышать, но гаденький голосок внутри меня нашептывал потихоньку: «Ты никогда с ней не будешь, потому что ты араб». Но имею ли я право прятаться за такое объяснение? А с другой стороны, часто ли у арабов бывают девушки-француженки? А у евреев? Арабы, французы, евреи, я точно упрощаю свою проблему. Но есть тут и доля правды, как ни крути.
До сих пор француженке стыдно иметь своим парнем араба. Арабы неприкасаемые. Нет, конечно, бывают девушки, которые решаются нарушить правила и встречаются с кем-то из мусульман своего лицея, но таких мало. И их обычно не знакомят с семьей.
Но мне причиняет боль совсем другое. Взгляды Сесиль, ее улыбки я считал проявлением внимания к себе. И только теперь понял: они достались мне, так сказать, «по знакомству». Как лучшему другу Рафаэля. А если бы я не был мусульманином, мы могли бы быть с Рафаэлем на равных? Если бы волосы у меня были не такие курчавые?
Что за чушь ты несешь, Мунир? Зачем задаешь дурацкие вопросы, о которых даже думать не стоит! Смирись с тем, что есть. Все дело в симпатии, в притяжении. Он ей нравится — и точка.
Так. Хорошо. Но меня накрывают волны гнева. Или ненависти? Адреналин будоражит нейроны. Так бывает перед дракой. И с кем же мне драться? Потом волна отступает, и вместе с ней — желание воевать.
Начались каникулы. Рафаэль то и дело зовет меня куда-то, но я отговариваюсь домашними делами, мне поручили то, мне поручили это. Он все понимает, он не дурак.
Рафаэль
Сентябрь 1978
С начала учебного года Мунир держится своей небольшой компании, здоровается со мной издалека и, когда видит вместе с Сесиль, отворачивается. Мунир меня избегает. Всякий раз, когда я подхожу к нему, делает вид, что мы обычные школьные приятели. Отношения, конечно, не враждебные, но по существу никакие, и уж точно, ничего не имеющие общего с той дружбой, какая нас связывала до сих пор. Несмотря на мои настойчивые приглашения, Мунир ни разу не согласился пойти со мной в кафе. Говорит, что ему нужно заниматься.
В конце концов я смирился, положившись на ход событий. Разве не должна вернуться со временем наша дружба? Я перестал обращать внимание на холодность друга. Но сегодня у меня была причина заговорить с ним. Важная причина. Свой замечательный день я хотел провести с ним вместе.
Увидев, что я подхожу, Мунир упрямо повернулся к Фарузу и стал слушать его с подчеркнутым вниманием. Фаруз заметил меня, поздоровался. Я почувствовал: вся их компания напряглась. Все смотрели на Мунира. Они знали, что мы раздружились.
Я быстренько пожал ребятам руки.
— Как дела, парни?
Закивали, закачали головами.
— И что? Что у тебя?
По их лицам было видно, что они не понимают, с чего это я так сияю. Не видели никаких особых причин.
— Великий день, братцы! Исторический день!
Ахмед нахмурился, он не одобрил моих «братцев». Фаруз ограничился смущенной улыбкой. Мунир впился глазами, словно хотел прочитать мои мысли.
— Тебя выгнали из лицея, ты это имеешь в виду? — засмеялся Лагдар.
— Не говори, что ты не в курсе! Это событие года, я бы даже сказал, десятилетия!
Повышенный энтузиазм — синоним лихорадки.
— Кэмп-Дэвидские соглашения[43]. Мир между Египтом и Израилем, — выговорил Мунир, пристально глядя мне в глаза.
— Да, я что-то слышал, — подхватил Лагдар. — Но я никогда не понимал, что там на самом деле происходит. Кому эти Кэмп-Дэвидские соглашения на пользу?
— Египтянам — они получат обратно свои территории. Израильтянам — у них не будет врагов по эту сторону их границы, Картеру[44] — он останется президентом Америки, уладив конфликт на Ближнем Востоке.
— А как насчет палестинцев? — задал провокационный вопрос Фаруз. — Ведь в первую очередь речь должна идти о них.
— Соглашение готовит будущие переговоры между Израилем, Иорданией и Палестиной.
— Понятно. Арабские страны иначе думают об этом договоре, — заявил Мунир. — И палестинцы тоже. Они называют Садата[45] иудой, считают, что он заключил мир за спиной Палестины.
— Не ищи плохого! Это на самом деле хорошая новость. Два человека, две страны, которые не скрывали ненависти друг к другу, два врага решили покончить с враждой и распахнули дверь в совершенно иное будущее. Это начало. Первые шаги к общему миру. Вот как нужно смотреть на этот договор.
Говоря о мире, о прекращении вражды, я смотрел Муниру в глаза.
— И ты думаешь, израильтяне в самом деле отдадут палестинцам землю, которую у них украли? — спросил Фаруз.
Меня задел не сам вопрос, а тон, каким он был задан. Явно недобрый. А еще недавно мы все так здорово ладили!
— Они ничего не крали! — Я сам удивился, как жестко прозвучал мой ответ.
— Вот как? А как это называешь ты? Меня, например, если беру чужое, называют вором. Но, возможно, потому что я араб. Если тебе известно другое определение, скажи, мне интересно. Я поделюсь им с воришками в квартале, которые крадут мобильники.
Почему события, которые происходят за тысячи километров от нас, рождают между нами такое напряжение? Наезды Фаруза в один миг меня разозлили. У меня перехватило горло. Мунир уперся глазами в землю. Остальные, казалось, удивились выходке Фаруза и ждали, что я отвечу.
— Чего ты хочешь, Фаруз? Правды или вагона дерьма? Правда состоит в том, что эта земля принадлежала евреям две тысячи лет назад. Что на этой земле никогда не было никакого палестинского государства, на ней жили несколько палестинских семей и считали себя гражданами Иордании. Что в тысяча девятьсот тридцать девятом году тридцать процентов жителей Палестины были евреями, и в ООН проголосовали за раздел земли между палестинцами и евреями. Арабская лига не признала этот раздел и объявила войну Израилю. Но большинство арабских стран отказались помогать палестинцам, которые не хотели ничего другого, как только убивать евреев. Не видя пользы в экстремизме, египтяне вернулись к дипломатическим переговорам!
Я не мог подавить свое возмущение, оно возрастало с каждой фразой. Я ненавидел себя за то, что невольно говорю с таким пылом.
Фаруз холодно взглянул на меня.
— Это твоя версия, приятель. Земля принадлежит тому, кто на ней живет. Таково главное правило истории.
— Ты сказал — истории? Ну так покопайся в земле Израиля и скажи, следы какой культуры ты там найдешь: иудейской или палестинской. Главное правило истории другое: земля принадлежит тем, кто ее взял. У нас в учебниках так написано.
— Одобряю твой образ мыслей. Захотелось — и присвоил. Евреи всегда так поступают, не так ли?
Мунир стиснул зубы, под тонкой кожей обозначились желваки. Ему не понравилось, что Фаруз ввернул расхожее мнение о евреях.
— Не я брал хлеб в булочной, Фаруз!
Я ответил автоматически. Наездом на наезд. По привычке, нажитой еще в квартале. Сердце у меня уже колотилось. Адреналин горячил кровь, туманил мозги, наливал мускулы. У меня возникло ощущение, что сейчас между нами закипит драка. Вот-вот. Еще секунда — и удар. А я на него отвечу. Нехорошо получилось. В голове промелькнуло множество возможных вариантов, но я чувствовал: не отступлю.
Вмешался Мунир:
— Эй, вы! Обалдели, что ли? Когда это мы так между собой разговаривали? Они там мирятся, а вы здесь дерьмом кипите? Не смешите народ! Рафаэль, успокойся. Время есть, еще поговорим.
Фаруз скрестил на груди руки и повернул голову в сторону стайки хохочущих девчонок. Жест означал: так и быть, прекратим. Остальные, пожимая плечами, улыбались, предлагая забыть ссору. Мунир положил мне на плечо руку. Старался, чтобы я почувствовал: мы тут друзья.
И я тоже отступил, с горечью во рту, с комом в горле.
Понесло приятеля, понесло меня тоже. А мне-то казалось, что тут между нами полное единодушие. И я был так счастлив этим утром, меня распирали надежды — как оказалось, глупые, идеи — как выяснилось, наивные. Все разлетелось в один миг. И до чего же мне теперь хреново. Я потерял нечто очень важное — ребяческое прекраснодушие.
Мунир
На фотографии удовлетворенно улыбался Джимми Картер. Стоящие с ним рядом два недавних врага еще не знали, как себя держать. Тень их разногласий витала в воздухе, и вместо предполагаемой радости на их лицах застыла настороженность. Журналист запечатлел этот миг, считая его историческим. Так оно и было. Все газеты и журналы опубликовали этот снимок, это рукопожатие.
А я? Что должен чувствовать я? Удовлетворение? Почему? Кем? Хотел бы я знать, с какой стати весь мир так обрадовался? Кто этот чопорный маленький человечек в больших очках, которому дано было стать во главе такого значительного события? Это Менахем Бегин[46]. Он бывший террорист. Организатор антибританских покушений. В свое время за голову террориста Менахема Бегина англичане назначили премию. И вот теперь он стоит на трибуне, он в Кэмп-Дэвиде, он в Мэриленде, он в США. Сегодня он называет террористами тех, кто, как он сам еще совсем недавно, пытается отвоевать свои земли, захваченные евреями.
Я ничего не понимаю в этом конфликте. Я искал Израиль на карте мира. И сначала подумал, что карта у меня устарела, и поэтому я не могу его найти. Но когда искал Синай, спорную территорию возле Египта, то наткнулся на Израиль. Три буквы «Изр.» обозначали его территорию. Настолько крошечная страна, что не умещается даже название. Каким же образом эта страна удерживает внимание к себе всего мира? Каким образом этому маленькому человечку из такой маленькой страны удается справляться с миллионами арабов, которые его окружают? Нет, скажу прямо, я в этом ничего не понимаю.
Когда услышал, сразу подумал о Рафаэле, наверняка сидит сейчас у телевизора и радуется. Он что, и вправду лучше меня понимает смысл происходящего? Или, как большинство французов, довольствуется парой газетных строк? Но почему он радуется всему этому гораздо больше меня, больше любого француза? Ведь он не израильтянин. Ему что, всерьез нравится террорист Бегин, ставший премьер-министром? А я должен любить Арафата? Должен, потому что он палестинец?
Хлопнула дверь, пришел отец. Не снимая даже пальто, он поспешил в столовую и уселся рядом со мной у телевизора. Меня удивила его поспешность, и я взглянул на него. Отец счастливо улыбался, глядя на стоящих рядом троих мужчин. Выяснилось, что Кэмп-Дэвид много значит и для него.
— Хорошее дело, очень хорошее, — повторял отец, покачивая головой.
Похоже, я в самом деле не улавливаю смысла происходящего.
Рафаэль
Все в доме только и думали что о бар-мицве Оливье. Мама со своими хлопотами и волнениями дошла до ручки, у нее началась паранойя. Ей казалось, что весь мир ополчился против нас, желая испортить нам праздник. В каждом опоздании, в любой мелкой неурядице ей чудился заговор злых сил. Папа сохранял спокойствие, приготовившись пережить неизбежность. Оливье сидел у себя в комнате и зубрил священный текст, который завтра должен будет произнести в синагоге.
Мама расхаживала по комнате и перечисляла вслух все подводные рифы, которые того и гляди испортят нам торжество.
— Ответ они не пришлют, а придут впятером или вшестером, как обычно. И подарки принесут самые жалкие. Только среди твоей родни есть такие невоспитанные люди.
Папа глубоко вздохнул, постаравшись не вспоминать о своих родственниках, и промолчал в ответ на мамину провокацию.
— Портниха сказала, что она запаздывает. Нет, ты можешь себе представить? Я померяю платье всего за несколько часов до вечера. А если там непорядок? Придется надевать то же, что и на бар-мицву Жюльена? Стыд-то какой! А знаешь, почему так получилось? Потому что она шьет еще и на Коэнов. У них больше денег, они лучше платят, значит, и право имеют на сто примерок.
— Во сколько завтра мы должны вставать?
Я задал вопрос отцу. Он поднял на меня глаза, и мне показалось, что только сейчас он вспомнил, что я существую. Да, ничего не поделаешь, мы с Жюльеном в этой пьесе жалкие фигуранты.
— В шесть. В семь мы должны быть в синагоге.
— Можно мне пригласить друзей на праздник?
— Кого? — спросил отец.
— Из лицея, двух-трех человек.
— Спроси у мамы, она занимается организационными вопросами. Но мне почему-то кажется, что момент ты выбрал неудачный.
Мне хотелось ответить, что у нас не бывает удачных моментов, но я сдержался.
— Меня вызвал владелец домовой кухни и сказал, что мы должны входить через другую дверь, — продолжала жаловаться мама. — У него, видите ли, товар! И где нам, спрашивается, ходить? И что, мы набросимся на его салат?
Я решил, что спрошу разрешения у мамы попозже. В синагоге, когда она будет улыбаться гостям, у нее не получится мне отказать. Хитрость, может, и постыдная, зато действенная.
Я ненавидел праздники. Наши праздники обнаруживали, до чего мы закомплексованы. Заключение брака, бар-мицва давно утратили свой сакральный смысл, превратившись в демонстрацию семейного преуспеяния. Действо в несколько часов, чтобы убедить самих себя, какие мы замечательные. Люди входили в долги, лишь бы устроить праздник побогаче. Семьи соревновались, стараясь перещеголять одна другую. Наряды, прически, украшения… Ключевой момент — появление в зале новобрачных или мальчика-подростка. Момент, который задает тон всему празднику. И тут каких только глупостей не выдумывали! Кто-то нанимал «Феррари», кто-то паланкин, кто-то лошадь… Меня, слава богу, избавили от глупого маскарада на бар-мицву, но я чувствовал себя чужим на празднике в честь превращения из мальчика в мужчину.
Оливье тоже избавят от пышного появления. Папа с мамой, по счастью, понимают, что смешно, а что не очень.
Мунир
Как только я улегся в постель, все снова вихрем завертелось у меня в голове. Этот вечер останется самым удивительным воспоминанием в моей жизни.
Когда Рафаэль подошел ко мне утром в четверг и протянул пригласительную карточку, я невольно растрогался. Приглашая меня на бар-мицву своего брата, он подтверждал свою дружбу, несмотря на охлаждение, появившееся между нами в последнее время. Мне стало стыдно, и я даже покраснел. Действительно, какого черта я из-за Сесиль веду себя по-уродски? Рафаэль-то чем виноват, что она его выбрала? Выбери она меня, я что, отказался бы?
— Я пригласил только Сесиль и тебя, — сказал Рафаэль.
А мы ведь снова можем быть друзьями… Начать все заново… Меня, конечно, смутила мысль, что я окажусь лицом к лицу с «парой», но я тут же подумал, что среди других гостей в атмосфере праздника все будет не так страшно. Да и раны мои, надо признаться, подзатянулись.
— Будет еще Давид, наши матери дружат.
Бар-мицва. Я слышал об этих необыкновенных празднествах, которые устраивают евреи. Как говорили у нас в квартале, они такие же сердечные, как наши, но богаче, потому что в них вкладывается больше денег.
Папа с мамой были очень довольны, что меня пригласили на еврейский праздник. В их глазах я словно бы продвинулся по социальной лестнице. Мне даже купили отличный черный костюм, белую рубашку и галстук.
— На свадьбу двоюродной сестры тоже в нем пойдешь, — сказала мама, оправдывая трату.
Мое появление в банкетном зале было не из приятных. Все взгляды обратились на меня, у большинства с вопросом, кое у кого с неодобрением. Все словно бы недоумевали, кто я такой и что тут делаю? Во всяком случае, мне так показалось. Среди незнакомых людей мгновенно становишься параноиком и любая соринка видится дубиной. Соринка подкатилась ко мне в виде пухлого коротышки немного старше меня. Я видел: он показывал на меня и что-то говорил своим друзьям. Я вертел головой, пытаясь в шумной толпе гостей отыскать Рафаэля, и тут коротышка подошел ко мне.
— Ты что ищешь?
Тыканье не походило на дружеское расположение. Мне сразу вспомнился носильщик в Марселе, начальник моего отца и кое-кто из торговцев на площади Дю Пон.
Я не стал ему отвечать, только холодно на него взглянул, и он забеспокоился еще больше:
— Эй, я с тобой разговариваю! Тебя пригласили?
Мне показалось, что все вокруг сразу же уставились на меня, задавая тот же вопрос. Противно до ужаса, взял бы и ушел. И ушел бы, если бы в эту минуту меня не взяли под руку.
— Привет, — поздоровалась Сесиль, обращаясь разом ко мне и к коротышке, приняв его за приятеля, с которым я беседую.
Коротышка, обомлев от прекрасного видения, а еще больше оттого, что мы так близко знакомы, поздоровался в ответ и отправился к своим друзьям.
Я еще больше растерялся, чувствуя, как колотится у меня сердце и разбегаются мысли. Но постарался взять себя в руки. Какое чудесное у нее лицо, какая знакомая милая улыбка! Ах, Сесиль, какая же ты красавица! Я представить себе не мог, что простое черное платье, скромный макияж и искусная прическа могут превратить девчонку в женщину. Мое сердце вновь кровоточило.
— Как дела у моего любимого араба? Черт возьми, да ты настоящий денди!
— А ты красавица, — ответил я.
Я хотел бы солгать, сыграть в безразличие, но правда есть правда, от нее не уйдешь.
— Спасибо. А теперь помолчи, — засмеялась Сесиль. — Сейчас я тебя познакомлю с Софи, моей кузиной.
К нам подошла красивая блондинка, и мы, как принято, поцеловались в щечку.
— Ты видела Рафаэля? — спросила Сесиль.
— Нет, я только пришла.
И мы отправились разыскивать в толпе гостей Рафаэля. Ну и народу же тут собралось!
Мы прошли через весь зал и увидели его в другом конце, он стоял и оживленно разговаривал с какой-то немолодой женщиной. Потом женщина схватила Рафаэля за щеки и стала громко его расцеловывать. Заметив нас, Рафаэль изобразил страшное смущение. Сесиль в ответ грозно нахмурила брови, сделав вид, что страшно ревнует. Рафаэль подошел к нам, и глаза Сесиль засияли. Еще бы! Такой красавец в темно-синем костюме. Софи встретилась со мной глазами и улыбнулась.
— Ты успел найти мне замену? — спросила Сесиль.
— Да, мою тетушку, с которой не виделся несколько лет.
— А-а-а, — протянула Сесиль и потянулась к нему, чтобы поцеловаться.
Но Рафаэль только коснулся щекой ее щеки. Сесиль сделала удивленные глаза.
— Не сейчас, — засмеялся Рафаэль. — Не стоит шокировать родню.
— Стоит шокировать! — поддразнила Сесиль. — Мы против мещанства! А еще говорит, что слушает тяжелый рок!
Рафаэль взглянул на меня, и я ответил ему понимающим взглядом.
— Пойдемте сядем. Я попросил Жюльена занять нам столик.
Воспользовавшись толкотней, Рафаэль подошел ко мне совсем близко и тихонько спросил:
— Как тебе Софи?
— Классная девушка. Откуда она?
— Кузина Сесиль. Сесиль спросила, нельзя ли пригласить и ее тоже. Я согласился. Она славная. Я продал тебя на корню.
Я улыбнулся. Значит, Софи — мой утешительный бонус.
— И мне сплошная польза, надо же маму сбить со следа. Если девушка одна, то ей сразу все будет ясно. И какая будет драма — у сына девушка гойка!
— Наконец-то я понял, зачем ты меня пригласил. Чтобы твоя мама подумала, что Сесиль дружит со мной.
— Ты неправильно понял. Мама такого подумать не может: француженки не дружат с арабами!
Мы оба рассмеялись. В словах Рафаэля не было ни капли яда, он шутил. Но в каждой шутке есть доля шутки.
— Я тебя пригласил, потому что ты мой друг.
Рафаэль взял мое лицо ладонями и ущипнул меня за щеки, как делают экспансивные пье-нуары, и крепко поцеловал в лоб.
До нас добрались наконец Сесиль и Софи.
Рафаэль извинился и отправился здороваться со своими родственниками.
Софи лукаво мне улыбнулась. По спине у меня пробежал холодок. Софи была тоже красавицей. И, может быть, даже красивее Сесиль.
Неожиданно я почувствовал себя в этой веселой, возбужденной толпе свободно и вольготно. Никто и не думал на меня косо смотреть. И раньше никому до меня не было дела. Одно мое воображение. А коротышка? Наверное, заметил, что я не в своей тарелке. И вообще, евреи часто очень похожи на арабов. С чего вдруг им смотреть на меня косо? Напряжение меня отпустило. Мне стало хорошо. Показалось, что я среди своих. Та же сердечность, та же готовность порадоваться вместе, такие же причудливые наряды, слишком яркий макияж, вычурные, иной раз забавные, прически.
И вот мы встречаем Оливье, звучит еврейская музыка. Все гости становятся в круг, собираясь танцевать. Рафаэль зовет и нас, и мы тоже становимся в круг, я между Софи и Сесиль, я держу их за руки, и мы все танцуем вокруг Оливье. Да, да, я танцую под еврейскую музыку, а недавно, всего несколько дней назад, спрашивал себя, имеет ли право на существование страна евреев Израиль. А сейчас я смотрю на плывущие передо мной лица, веселые, счастливые или изображающие счастье, и тоже охвачен эйфорией.
Все танцуют под восточные мелодии, стоит им зазвучать, и все бегут на площадку танцевать. Лихорадка веселья завладела всеми, все трясутся под арабскую музыку. Кое-кто даже выкрикивает «у-ю-ю».
Рафаэль улыбается моему радостному удивлению. А чему, собственно, удивляться? Нас объединяет очень важная вещь — частичка общей культуры. Да, это музыка наших родителей, под нее прошла их молодость. Их отцы, их деды напевали эти мелодии в Марокко. В этой музыке есть что-то щемящее и патетическое, и танцующие, сливаясь с ней, сливаются на миг со своим прошлым.
И мне хорошо, я чувствую себя среди своих. А Софи, танцуя рядом со мной с неловкостью всех европейцев, не умеющих танцевать восточные танцы, так многообещающе на меня смотрит…
И мне хочется любить, и я люблю всех — Рафаэля, его семью, его гостей, Софи.
Да, мир между евреями и арабами возможен, хотелось мне закричать. Да, мы похожи! Да, мы созданы, чтобы петь и танцевать все вместе!
А теперь, когда я лежу в своей кровати, мне хочется понять, что же объединяло меня с совершенно чужими людьми на протяжении целого вечера? Меня уже томит смущение, одолевают вопросы. И уверен я только в одном: я понял, что сдружило нас с Рафаэлем с нашей первой встречи, что заставляет нас стремиться друг к другу, быть вместе и вместе складывать нашу историю.
Рафаэль
Я погрузился в оцепенение долгого скучного утра. Голос учителя математики доносился до меня отдаленным эхом, глаза мало что различали в матовой тьме доски, мысли витали далеко-далеко. Я думал о Сесиль. Видел, как она шла по лицейскому двору мне навстречу. Как откинула назад пушистые волосы. Снова почувствовал нежность ее губ на своих губах, когда она меня поцеловала, услышал нежный шепот, увидел ясный взгляд. Через секунду я уже видел ее в своих мечтах в белом платье невесты, и глуповатая счастливая улыбка тронула мои губы. И тут же помехи, треск, изображение пропало. Появилось мрачное мамино лицо. «Она не еврейка, Рафаэль. Она гойка!»
Да, она не еврейка, Рафаэль. А ты влюблен в нее. И как совместить любовь с иудаизмом, который ты исповедуешь? С религией, которой ты сам постарался подчинить свой дом?
Несовместимости заводят меня в лабиринт, и я в нем теряюсь. Неужели мой мир расколот на островки? Неужели пропасти между ними непроходимы?
О чем говорят непроходимые пропасти? Говорят, что я не совсем в ладу со своей любовью.
Быть с Сесиль означает связать свою жизнь с француженкой, вжиться во Францию, приникнуть к ней, обнять, поверить, что она принадлежит мне навсегда. И когда я вижу за нашей любовью Францию, во мне начинает шевелиться еще один, очень важный для меня вопрос: мне дорога сама Сесиль — ее личность, характер, красота или меня манит Франция, которую сулит мне привязанность к Сесиль?
А Сесиль? Она любит меня или то, что стоит за мной, то, с чем я связан? Она часто спрашивает меня: «Вот вы, евреи… Как вы живете? И что такое ваша община? Кошерная еда? Обрезание? Расскажи мне, объясни! Мне так интересно все, что тебя касается!»
Все, что меня касается? Мое прошлое. Марокко, Израиль, Франция, бабушка, дедушка, арабский, иврит, Талмуд, Тора, религиозные праздники? Интересует все? В самом деле? Невозможно собрать все. Мне самому никогда не удавалось собрать воедино все частички, составляющие для меня меня самого, найти логику, которая придала бы им смысл.
«Я люблю тебя, какой ты есть», — шепнула мне однажды Сесиль. Так, может быть, она любит меня за «экзотику»? Может, ее привлек ко мне дух исследований или восторг туристки? Что, если я каникулярная любовь, только без открыточных видов и точно обозначенного срока?
Но, может быть, и моя любовь тоже каникулярная, туристическая? Я хотел завоевать Сесиль, чтобы начать свою жизнь во Франции. Но может ли стать моим будущим та, с которой у меня нет общего прошлого? Как же мне разобраться в моем отношении к Сесиль? Не знаю. Противоречивость обнаруживается порой так явственно, что мне кажется, достаточно одного движения — и разверзнется пропасть. И я в эту пропасть ухну.
Чего же я хочу для себя? Раствориться в потоке и существовать исключительно в настоящем? Стать по мере сил французом и забыть все остальное? Или прилепиться к истории моих предков, выковать свое отличие и постараться, чтобы его полюбили? Думать в первую очередь о собственной индивидуальности — но где она начинается, где заканчивается? Или дать себя поглотить прошлому?
Я колебался, тонул в вопросах, плутал среди них. В минуты подавленности и мучительной депрессии так же, как в минуты внезапных озарений, я чувствовал себя евреем среди французов и французом среди евреев. Арабом среди расистов и расистом среди своих. Еврей, араб, мусульманин, иудей, католик, француз… Мне необходимо было определиться, разложить все по полочкам и очистить ум от избытка идей, слов и образов, которые его переполняли.
Мунир
Свидание с Софи. Я принял душ и переменил три рубашки, прежде чем занялся непокорной шевелюрой. Я злился, что так волнуюсь и что так глупо… влюблен!
После нашей первой встречи на празднике Оливье Леви я часто видел ее во Дворце спорта. Она приходила повидаться с Сесиль. Но я очень скоро понял, что и ради того, чтобы увидеть меня тоже. Понимающие взгляды, которыми обменивались кузины, их смех и то, как они на меня поглядывали, — все на что-то намекало. А я? У меня начинало бешено колотиться сердце, как только я ловил ее заинтересованный взгляд. И при этом так смущался, что разыгрывал полное равнодушие. И вот как-то, сидя дома, я изругал себя последними словами за свою глупость. Я попробовал себе представить, как подхожу к Софи, заговариваю с ней, сообразил, что мог бы ей сказать, и пообещал себе быть более предприимчивым в следующий раз.
Рафаэль подтолкнул меня.
— Чего ворон ловишь, чудак? Ты же видишь, как она от тебя млеет! Легкая добыча!
Мне не понравилась последняя фраза — она отнимала у меня все заслуги.
— Ты хочешь сказать, она шлюха?
Рафаэль расхохотался.
— С ума сошел! Я хочу сказать, что ты закадришь ее в одну минуту. Она от тебя без ума, только о тебе с Сесиль и говорит. А что ты имел в виду, сказав «шлюха»? Француженки легче ложатся в постель, чем еврейки или арабки. И я их не сужу. Знаешь, Сесиль среди наших считалась бы шлюхой, но для меня она добропорядочная девушка. И Софи тоже.
При одной только мысли, что мы можем с Софи лечь в постель, со мной начинало твориться такое, что лучше бы мне об этом не думать. Возбуждение, страх и еще тысяча разных чувств, которым я даже не мог дать названия. Я еще ни разу не занимался любовью. Ну, вообще-то, не то чтобы… Но, если честно, не занимался.
Думаю, что ни один из моих дворовых приятелей тоже еще не спал с девушкой. Мы об этом не говорили. Молчание давало возможность предполагать разное. Может, выход не из лучших. Но по крайней мере не выставляешь себя на смех, признаваясь, что девственник. Во дворе было принято считать, что у каждого из наших парней за плечами богатый любовный опыт и еще больше побед в драках. Блеф, конечно.
Окажусь я на высоте? Она поймет, что у меня никакого опыта? А почему я должен думать, что у нее больше? И вообще, что об этом думать, если пока я не решаюсь даже ее поцеловать?
Но мне все же удалось позвонить Софи и предложить ей встретиться. Голос у меня прерывался, а горло пересыхало. Я ее насмешил своим заиканием, но она с радостью согласилась.
Наконец я выбрал одежду и посмотрел на себя в зеркало. Волосы слишком длинные и все такие же непокорные, джинсы слишком широкие, рубашка слишком просторная. А лицо слишком арабское. Что может во мне понравиться? Редко бывает, когда француженка выбирает себе в дружки араба. А араб из арабского квартала и вовсе никуда не годится. Если бы мы с ней прошлись по нашему кварталу, только немой промолчал бы. Блондинка. Улет полный. Знак небывалого успеха. Или умения приспособиться. Да еще какая блондинка! Нет, что тут говорить, француженки не смотрят на арабов. Если спросишь француза, какие ассоциации вызывает у него слово «араб», он скажет: «воровство» и «арест». И уж никак не «обаяние», «элегантность», «честность». Клише по глупости ниже плинтуса, но… Арабы не в моде. И если вдруг один из нас появляется с француженкой, то весь квартал начинает надеяться на лучшее.
Я уже представлял себе, как иду с Софи по улицам нашего квартала и стараюсь не замечать завистливых взглядов. А потом все называют меня сердцеедом. Здесь, у нас, по-другому не бывает. Как поведешь себя, то и получишь. В недобрую минуту глянешь испуганно — прослывешь трусом. Забьют с твоей подачи гол — будешь будущей звездой футбола. Пройдешься с шикарной девушкой — станут считать плейбоем.
Мне было немного стыдно за такие мысли. Они унижали меня и всех моих соплеменников тоже. Почему не считать любовь с француженкой просто-напросто историей любви? Я бы так и хотел, но наша жизнь, полная унижений, невольно накладывала отпечаток. На первом месте всегда араб, и только потом мужчина. Араб заслоняет мужчину, вытесняет его. В глазах большинства я вовсе не парень, который идет на встречу с девушкой. Я араб, который встречается с француженкой. Как бы мне хотелось иметь только те проблемы, которые мучают всех моих сверстников: когда пройдут прыщи? В каких джинсах я буду клево выглядеть? Как зачесать прядь, чтобы стояла торчком? Но мне некогда думать, как я выгляжу, меня мучает совсем другое. Я не думаю, какая мне идет стрижка, я ломаю себе голову, почему нас так ненавидят французы, если даже любовь для меня отравлена. И еще, что сказали бы мои родители, узнай они, о чем я думаю.
Тарик заглянул ко мне в комнату и покачал головой, выражая высшую степень восхищения:
— Ничего не скажешь! Иисусик!
Иисусиками мы называем между собой лощеных буржуйчиков.
— Волосы только подкачали, сразу тебя выдадут, — вынужден был признать Тарик. — Но ты надень бейсболку, сойдет за американский стиль. А девушка кто?
Я предпочел промолчать, зная, что у брата язык без костей.
— Монеты есть? — осведомился он. — А то помогу.
Я удивился и посмотрел на Тарика, ожидая увидеть насмешливую улыбочку. Но он улыбался по-хорошему, и я понял, что он хочет по-братски поучаствовать в моей личной жизни.
— Спасибо, все окей.
— Будешь кувыркаться?
Рожица была нахальная, когда он спрашивал, но я чувствовал: ему это всерьез важно.
— Не лезь не в свое дело!
Я отшил братца. Он передернул плечами и вышел.
А мне стало жарко. А что, если правда? Если мы займемся любовью? Как мне ее поцеловать? Как узнать, что можно? А если я ошибаюсь? Если она хочет только дружить? Если меня оттолкнет?
9. Другая страна
Мунир
Я не хотел ехать в этом году с родителями в Марокко, но у меня не было выбора. Мы с Рафаэлем мечтали поехать на каникулы в Испанию — с нашими девочками и еще парой друзей. Вот уже два месяца мы горячо обсуждали эти планы. Нам нравилось представлять, как мы будем проводить время с друзьями и жить… парами. Решили, что в июле найдем себе работу, а в начале августа позволим себе провести десять дней в Коста-Брава. Но не сложилось. Во-первых, я не мог с уверенностью рассчитывать на работу. Перспективы сводились к обещаниям друзей: есть, мол, один знакомый, который мог бы поговорить с другим знакомым. Конечно, это несерьезно и уж никак не дает возможности с энтузиазмом смотреть в будущее. Без большой надежды я отправил несколько резюме и не ошибся: мне ничего не светило. В конце концов решил поработать грузчиком на рынке, но и тут опоздал, приличные места уже разобрали. Мне предложили что-то уж совсем никудышное. И когда мне обрыдло донельзя мотаться в поисках самой дешевой и негодящей работы, получать отказы и возвращаться домой к своим мечтам, я прекратил поиски.
Но дело было не только в работе. За несколько недель до предполагаемого отъезда я заметил большие колебания у всех остальных в нашей компании. У каждого возникли свои причины: отсутствие денег, более соблазнительная поездка, несогласие родителей. Но в основном, конечно, отсутствие денег. Более соблазнительная поездка возникла у Рафаэля: он задумал вместе с Сесиль открыть для себя Израиль. А категорически против были родители Софи, они не хотели, чтобы их дочь делила крышу с компанией несовершеннолетних, а значит, совершенно безответственных юнцов.
Так что пришлось собираться и ехать с родителями. Остаться на все лето в Лионе я тоже не мог: мама бы из-за меня с ума сходила, да и дорогу на всех нас папа успел оплатить. Мы с Тариком решили, что в Марокко непременно съездим на несколько дней в Танжер и повидаемся с друзьями. Погостим, насколько хватит наших скудных сбережений.
С Софи я расставался с тяжелым сердцем. Тревожился ужасно. Она уезжала к родственникам в Канн. А Канн — это же роскошь, звезды кино, красивые парни в модных костюмах. Они, конечно, будут кадрить мою красавицу и уж точно пялиться на нее в купальнике. Было от чего сходить с ума, хоть она и пообещала хранить мне верность.
Рафаэль пристроился работать в магазине одежды у друга своего отца. Когда наши планы рассыпались, он не слишком огорчился. Его приводила в восторг идея отправиться вместе с Сесиль в Израиль. Израиль. Тоже мне счастье! Если честно, я точно не мог сказать, чем меня так задевает это его путешествие. Тем, что ему повезло с работой и он смог раздобыть себе денег? Тем, что откроет для себя удовольствие путешествовать парой? Или тем, что он отправится в Израиль?
Мы добрались до Альхесираса, откуда предстояло плыть в Марокко. Взглянув на нескончаемую череду машин, мы тяжело вздохнули: ждать нам придется долго. Машины все навьюченные. Нас с Тариком насмешили фантастические ухищрения, с помощью которых люди увязывали свою кладь, чтобы она держалась на крышах машин. Сетки, веревки, брезент, простыни удерживали чемоданы, разноцветные сумки и коробки с домашней техникой.
Папа затормозил нашу лошадку, и мы вышли размять ноги. На каждом клочке лужайки или тротуара сидело по семейству. Люди достали из сумок припасы, ели и громко разговаривали. Кое-кто уже спал, раскинувшись без особого стеснения, открыв рот и выводя рулады. Вспыхивали перебранки между теми, кто надеялся раздобыть себе место на пароме, подкупив служащего пароходной компании, и теми, кто не решался или не сумел дать взятку. Большинство будущих пассажиров, похоже, оставили свои хорошие манеры во Франции или убрали их в чемодан, чтобы достать по приезде на родину. Сейчас их поглощала одна забота: целыми и невредимыми добраться до пункта назначения, сохранив весь багаж.
Перебравшись на паром, люди мгновенно расслаблялись. Даже, пожалуй, чересчур. На пароме мгновенно воцарился хаос, каждый торопился занять побольше места, не обращая внимания на соседей, слышались крики, громкие разговоры, смех. Через пять минут в туалеты уже не войти: на полу вода, грязь от множества ног. Бумаги нет. Все жалуются, как будто не сами виноваты, а кто-то подстроил нарочно. Но вот обустроились и притихли. Успокоились. Утомленные долгой дорогой, мужчины уснули первыми. После прибытия в Танжер всем им придется еще проехать множество километров по кривым опасным дорогам, то и дело вступая в переговоры с жадными полицейскими, готовыми придраться к любой мелочи, лишь бы получить хоть немного денег («Ahtene l’kawa»[47]). Зато дети радостно бегали по палубе, счастливые, что наконец-то после стольких часов сидения нашлось место, где можно порезвиться. Женщины болтали, довольные, что могут немного передохнуть.
Перед прибытием в порт все ожило. Сначала все двигались не спеша, потом быстрее, потом лихорадочно. Мужчины снова занялись багажом, женщины детьми, а девушки побежали в промокшие туалеты переодеваться, чтобы появиться перед деревенской родней умопомрачительно модными горожанками и свести с ума всех парней.
Вся эта развеселая ярмарка смешила меня и огорчала. Мне не хотелось походить на невоспитанных марокканцев, я старался держаться от них подальше. Но не мог не улыбаться им. И не любить их.
Первые дни мы жили в деревне неподалеку от Касабланки и принимали приезжавших к нам со всех концов друзей и родственников. Нас сотни раз перецеловали и обняли дяди, тети, сестры, братья, которых мы едва знали. Они нам так радовались, словно мы счастливо избежали смерти в стране, где идет война. Папа с мамой восседали во главе стола и рассказывали о Франции, о нашей прекрасной квартире, о нашем лицее, о том, где работают родители наших товарищей, об удобствах жизни на Западе. Они много чего прибавляли, с гордостью повествуя об успехах своих отпрысков, а родня с изумлением и завистью смотрела им в рот и требовала подробностей. Послушать моих родителей, так папа у нас миллиардер Джей Ар Юинг[48] и живем мы в Далласе, а Тарик и я супервундеркинды, и деньги мы гребем лопатой. Иногда на лице мамы Сью-Эллен[49] я замечал некоторое смущение, когда ее муж залетал уж слишком высоко. Меня тоже смущали эти россказни и преувеличения, но я понимал, что папе нужно все приукрасить, чтобы оправдать свой отъезд, убедить всех, кто остался жить в любимой им стране, что он ни о чем не жалеет. Мама доставала подарки: вещи, безделушки, говорящие что-то о Франции, и раздавала их родне. Все приходили в восторг, получив сокровище, благодарили, целовали и косились на соседа, чтобы увидеть, что тот получил. Любовь, вежливость, зависть… Чего только не перемешалось в этих беседах.
В глазах марокканцев мы уже французы, и, несмотря на поцелуи и ласковые слова, чувствуется, что марокканцы нас не слишком одобряют. Мы ради материальных благ оставили родную страну, предпочли личные удобства семье и родственникам. Разумеется, никто такого не скажет, у нас такое не положено, но что есть, то есть, и это тоже не скроешь.
Женщины с интересом смотрели на Тарика, на меня, на Джамилю. Они видели в нас хорошие партии для своих детей или детей братьев и сестер. Иногда речь об этом заходила прямо при дочках и сыновьях. Иногда шутливо, а иногда всерьез.
— Всемогущий Аллах! Мунир как вырос! Настоящий мужчина. Он ведь ровесник моей дочке, правда?
И я вижу эту дочку, ростом метр пятьдесят, весом восемьдесят килограммов. Вспыхнув до корней волос, она застенчиво смотрит на меня.
— Дорогая, — обращается к маме женщина попроще, — до чего красивая у меня дочка. Она работает в школе, и все молодые люди вокруг хотят взять ее себе в жены. В своей Франции вы не найдете такой красивой, умной и серьезной девушки.
В Марокко красивая — значит толстая, умная — значит, умеет читать и писать, а серьезная — означает, что она девственница.
И, обращаясь к дочке, мамаша просит:
— Уарда, доченька, сядь рядом с Тариком, пусть все видят, как вы красиво смотритесь.
Мы с Тариком прячем друг от друга глаза, чтобы не расхохотаться. Мы не хотим еще больше смущать бедняжку Уарду, которая, пугаясь и надеясь, садится к нам поближе, но все же на весьма почтительном расстоянии.
— Айва, ты же знаешь теперешние порядки, — дипломатично отвечает мама. — Теперь молодые все сами решают. Прошло время, когда жену и мужа детям выбирали родители.
На самом деле это не совсем правда. Но, заявляя о том, как переменились порядки, родители выражают свое сожаление о прошлых временах, когда они целиком и полностью распоряжались своим потомством.
После недели такой жизни я начинаю задыхаться. Мы с Тариком, как только предоставляется возможность, отправляемся в Касабланку бродить по центру. Там мы оживаем. Город очень красивый с широкими улицами, пальмами, архитектурой от неоклассики до ар-деко, со множеством бойких магазинчиков и кафе с террасами. Искусный компромисс между исконной марокканской культурой и культурой близкой Европы. И до чего же красивы марокканки! Они прогуливаются стайками и бросают лукавые и гордые взгляды на встречных мужчин, давая понять, что им должно оказывать уважение. Кровь во мне вспыхивает мгновенно, но мысль о Софи ее тут же утихомиривает. Хорошо, что мне есть чем гордиться: меня любит красивая белокожая девушка, не чета зажигательным брюнеткам.
Проходит еще неделя, и мы с Тариком готовим рюкзаки, чтобы отправиться в Танжер повидаться с друзьями. Мы решили, что, героически вытерпев все встречи с родственниками, мы заслужили праздник, который устроим себе с ровесниками.
Рафаэль
Самолет мягко приземлился. Пассажиры радостно зааплодировали. Еще несколько секунду — и я ступлю на землю предков. Неудивительно, что по спине пробежал холодок. Сесиль сжала мне руку. Мечта и заранее намеченный план близки к осуществлению. План: провести каникулы в стране, история которой мне известна, но которую я хочу открыть как счастливое переживание, увлекательное приключение, чтобы укрепить свои сионистские убеждения. Мечта: солнце, море, разнообразие природы, экскурсии, кошерные рестораны, знакомые обычаи, музыка, запахи. И рядом со мной Сесиль.
Да, именно так — мечта и план. Как у миллионов евреев на протяжении веков. Ba Chana Aba Be’Yerouchalaim — на будущий год в Иерусалиме. Пожелание, передающееся из поколения в поколение, с годами обрело силу магического заклинания, оно превращает желаемое в действительное. Мне повезло. Израиль открыт для меня. Мне не пришлось за него бороться.
Дверь открылась, и на меня дохнуло жарой. Мы спустились по ступенькам. Солнце Израиля. Свет Израиля. Земля Израиля. И я, осуществляя давно задуманное, опустился на колени и поцеловал горячий асфальт взлетной полосы. В этот миг я был один, но нес в себе груз надежд и печалей моих предков. Рядом со мной встал на колени старик и тоже коснулся губами Земли обетованной. Несколько минут он молился, потом встал на ноги. Эта минута не принадлежала сегодняшнему дню. Я встал и увидел устремленный на меня взгляд Сесиль. Она с нежностью мне улыбалась, а я вдруг невольно вздрогнул. Зачем она здесь, рядом? Почему я не поехал сюда один? Ведь я нарушаю традиции, которые позволили нам достичь Земли обетованной.
— Такого быть не может, Рафаэль! — объявила мама, нервно расхаживая вокруг стола и делая вид, что занята уборкой посуды.
Разногласия в доме всегда решались, так сказать, на ходу. Противостояние лицом к лицу, глаза в глаза ощущалось как излишне агрессивное. Я в ответ промолчал. Мама не собиралась со мной спорить, ей нужно было излить свои чувства.
— Да, не может быть! Я и так считала, что история слишком затянулась, а ты вдруг мне заявляешь, что едешь с ней в Израиль! Смешно! Смешно, понимаешь? Надеюсь, ты не собираешься навещать моих родственников вместе с ней? Все они исполняют обряды, и среди них есть люди глубоко верующие. Они тебя не поймут!
— А что они должны понимать? Я же не говорю, что собираюсь жениться.
Мама замерла на месте.
— Боже сохрани! Только этого не хватало!
Мамин возглас говорил сам за себя. Говорил, как много с течением времени произошло в нашей семье изменений. Папу с мамой, когда они переехали во Францию, мало занимали вопросы религии, им куда больше хотелось стать французами, но под влиянием своих детей и развеявшихся иллюзий они мало-помалу превратились в хранителей веры отцов, противостоя сыновьям, у которых возникла склонность к примиренческому иудаизму.
— Каникулы вместе с Сесиль вовсе не означают, что наши отношения стали более серьезными.
— Вот уже полгода назад, как ты сказал мне, что собираешься покончить с вашими отношениями. И когда собрался в Израиль на каникулы, я подумала: очень хорошо! Там он о ней забудет, познакомится с красивыми еврейками — а только один бог знает, до чего они красивы! — и эта Сесиль станет прошлым. Так нет! Ты едешь с ней вместе! И люди мне скажут много нехорошего. Ты же знаешь, какие это люди! «Мадам Леви, значит, ваш сын с гойкой? Да такие вот нынче настали времена!» И еще много чего скажут.
Я выразил сочувствие маме вздохом, а потом, слегка улыбнувшись, сказал:
— А ты знаешь, мне ведь совершенно безразлично, что они скажут.
Мама иронически усмехнулась.
— Еще бы! Они же будут говорить мне, а не тебе. А тебе и дела нет до других, ты теперь взрослый, сам себе голова. А вот мне, представь себе, не по душе твой выбор! Ты думаешь, что можно жениться на гойке и остаться верным нашей религии? Ты сам настоял, чтобы мы жили согласно правилам наших предков, а теперь влюбился в первую подвернувшуюся гойку!
— Ну-у… Во-первых, не в первую попавшуюся. Во-вторых, я никогда тебе не говорил, что влюбился. И в-третьих, с чего ты заговорила о женитьбе?
Возражая, я невольно повысил голос. Мама опустила голову, стараясь не показать, до чего ей стало горько. Раздражение против нее вмиг сменилось у меня глубокой нежностью. Я совсем не хотел ее огорчать и, обняв, поцеловал в лоб.
— Не волнуйся, мама. Нам просто хорошо вместе. Я не собираюсь на ней жениться.
И вот здесь, на земле Израиля, несовпадение между моими чувствами и чувствами Сесиль создает мне душевный дискомфорт. Как это неприятно.
Загорелый мужчина протягивал столпившимся вокруг зевакам молоток и предлагал за несколько шекелей измерить силу, ударив им по колокольчику. Забавный аттракцион. Народ смотрел, поджидая охотников. Стоило появиться желающему, и мужчина просил окружающих поддержать силача, а сам отпускал потешные замечания. Мы с Сесиль сидели на пляже, но тоже подошли, держась за руки, стояли и смотрели.
— Забавный дяденька, — улыбнулся Иони.
Иони вырос во Франции, но вот уже пять лет, как его семья обосновалась в Нагарии. Через несколько недель он пойдет на три года в армию. А пока наслаждается жизнью. Мы познакомились с ним на железнодорожной станции, где пытались разобраться с пересадкой. Он предложил нам помочь, потом мы выпили по стаканчику и решили вместе проехаться в северную часть Израиля. Иони стал нашим гидом, а мы дали ему возможность попрактиковаться во французском.
— Что он говорит?
— Трудно перевести. Чисто еврейский юмор, посмеивается над участниками.
Один за другим попробовали силу два парня, результат вызвал шуточки и детский смех у окружающих.
Мужчина с колотушкой пригласил меня. Я жестом отклонил его предложение. Он настаивал.
— Спасибо, я не хочу, — сказал я по-французски и улыбнулся. Я не хотел становиться участником его спектакля.
— Tsarfate? — спросил он.
Я уже знал это слово, меня не раз уже спрашивали.
— Да, француз, — ответил я.
— Подарок! — сказал он и протянул колотушку.
Его настойчивость могла бы меня уговорить, но выходило, что до этого я отказывался, скупясь на деньги? И я повторил:
— Большое спасибо, мне не хочется.
Взгляд мужчины изменился. Он обратился к толпе, показывая на меня и качая головой. Тон у него стал насмешливый и недобрый. Люди в толпе сразу напряглись. Кое-кто опустил голову, кое-кто отошел, явно смущенный словами шутника, зато остальные захохотали еще громче, только смех у них был уже глумливый, а не веселый. Я не понимал, в чем дело. Стоял и улыбался, как идиот.
Иони кивнул мне, давая понять, чтобы я не заморачивался. А что я мог сделать или сказать? Я сделался посмешищем, а по какой причине, понятия не имел.
Иони обратился к шутнику. Его сухой резкий тон мгновенно оборвал смех. Мужчина стал громко ему отвечать. Большинство оказалось на его стороне, кое-кто старался всех успокоить. Почти в каждой фразе звучало слово «тsarfate». Ко мне подошел пожилой человек.
— Уходите, так будет лучше. Не обращайте внимания. В Израиле есть свои сумасшедшие.
Пожилой человек советовал Иони увести нас.
Сесиль прижалась ко мне.
— Пошли, — скомандовал наш друг.
— А этот человек, что он сказал?
— Не важно! Пошли!
Когда мы остались одни, Иони все-таки объяснил нам кое-что.
— Он издевался над французами. Идиот, другого не скажешь.
— Над французами? И что же он говорил?
— Говорил, что французы… трусы. Ну и все в том же духе. Забудь. Глупость все это.
— Только потому, что я не захотел играть?
— Ну да, он сказал, что ты трус, как все французы.
Трус. Такое серьезное обвинение из-за отказа играть в дурацкую игру?
— Ты сказал, «как все французы». Он имел в виду французов или французских евреев?
Иони на секунду задумался.
— Ты же знаешь, что думают израильтяне о французах?
— Нет… Понятия не имею.
Иони, похоже, удивился.
— Для большинства израильтян Франция олицетворение покорности, — объяснил он. — Французы сразу сдались Гитлеру, отдали ему свою страну, продали своих евреев. Они прогнулись и перед арабским миром тоже. Предпочли нефть справедливости. В шестьдесят седьмом они наложили эмбарго на оружие, направлявшееся в Израиль в то самое время, когда Израиль в нем нуждался. Они снабжали амуницией и танками наших врагов, продали атомную станцию Саддаму Хусейну, освободили террористов, которые убили наших тяжелоатлетов в Мюнхене. В общем, список неблаговидных поступков у них длинный. И если французы начинают список президентов с генерала Де Голля, то большинство израильтян с Петена[50] и ведут к Жискару[51].
— Но… Я бы сказала, что это слишком пристрастный и выборочный список, — заметила Сесиль.
Я страшно расстроился, оказавшись причастным ко всему тому, о чем говорил Иони, вспомнив, что в Лионе, в общине, тоже подчас велись подобные разговоры, но мне было точно так же неприятно, что Сесиль увидела свою страну в таком непрезентабельном виде.
— Он основан на фактах, — заключил Иони.
Я понял, что общее мнение мало отличается от его собственного, и вмешался:
— Мне кажется, не стоит смешивать французов и французских евреев. А если речь о французах, то не стоит винить всех французов подряд.
Иони, с одной стороны, стоял за справедливость, а с другой, не хотел нас обижать, поэтому он старался отвечать как можно более осторожно.
— Так-то оно так, но… Некоторые израильтяне считают, что евреи не должны жить во враждебной Израилю стране. Иначе они становятся… Как бы это сказать… Становятся пособниками коллаборационистов. — Понимая жесткость своего замечания, он постарался как-то его смягчить: — Я постараюсь в самых общих чертах обрисовать проблему. Иначе вам не понять недовольства израильской толпы. Израильтяне упрекают французских евреев в том, что те не участвовали в войнах, не теряли близких, следили за событиями, сидя на диване, держались за свой европейский комфорт, тогда как они ели песок и проливали кровь.
— Но я слышал от израильтян совершенно противоположное. Слышал, что расселение евреев по всему миру — большая поддержка Израилю. Диаспора оказывает финансовую помощь стране, когда страна находится в трудном положении. Разве евреи за границей не собирали значительные суммы, когда Израиль нуждался в деньгах? И еще. Благодаря рассеянию становится иллюзорной возможность уничтожить навсегда всех евреев, покончить с ними одним ударом.
— Может, и так, но… Это мнение евреев диаспоры. Израильтяне по сути своей сионисты. А сионист всегда за то, чтобы все евреи собрались на своей обетованной земле. Сила, о которой ты говоришь, будет гораздо эффективнее, если сконцентрируется здесь. А что касается искоренения евреев, то это бред отдельных сумасшедших. Израиль мощная страна, владеющая ядерным оружием. Никто не посмеет стереть нас с лица земли.
Уверенность Иони ничуть меня не утешила. Я чувствовал себя раздавленным. Меня одним махом выкинули из истории, которая шла вдалеке от меня. Я оказался чужим в стране, которую считал хоть чуть-чуть, но своей родиной.
10. Между двух миров
Мунир
Февраль 1979
Арабский мир оказался гораздо более сложным, чем мне представлялось. Трудно определить его формы, уловить очертания. Невозможно расслышать свое имя, различить свою тень в этой кипящей лаве, о которой нельзя сказать, то ли она сейчас готовится поглотить мир, то ли создать новый. Все в движении, все нестабильно, все уязвимо. Родство культур, одинаковая ностальгия по другой стране, одинаковый опыт араба, живущего во Франции, сблизили меня с алжирцами и тунисцами квартала. Но я не могу определить арабский народ как таковой. Да и существует ли он? Палестинцы, иорданцы, иракцы, жители Саудовской Аравии… Я не знаю, какие они, не знаю, какой исповедуют ислам. Как понять, что движет ими, сотрясая всю планету? Как увидеть единство в этом разнообразии, скрепленном одной только религией, озвученной на разных языках?
Иранцы бросили мне в лицо ислам, о котором я понятия не имел. Шах Ирана оказался диктатором? С ним необходимо расправиться. И вот полыхает революция. Во имя Аллаха гибнут тысячи людей. Во имя Аллаха женщин сажают в тюрьму и забрасывают камнями, если они отказываются носить хиджаб.
Толпы народа, воодушевленные «духовным вождем», впечатлили меня, напугали и зачаровали.
Иранская революция стала главной темой всех медиа. Папа в своем кресле откладывал газету. Мама ставила последнюю тарелку на стол и садилась чуть-чуть передохнуть, слушая репортаж об иранцах. Я смотрел на лица, заполонившие экран телевизора. Я узнавал эти черные глаза, смуглые лица, выражение экстаза. Я даже понимал отдельные слова. Да, эти иранцы были похожи на меня. Да, они были мусульманами, эти иранцы, они ходили в мечеть и клали в еду много пряностей. Да, наверняка у нас множество точек соприкосновения. Но их революция была мне не по нутру.
— Именно так французы представляют себе арабов. Кровожадными фанатиками. — Папа показал на экран, обращаясь к отсутствующей публике.
К бушующей революции я относился непросто. Мне было стыдно, и вместе с тем я подспудно ощущал, что все это не на пустом месте. И еще отец высказал словами то, что я чувствовал всякий раз, когда мусульмане совершали что-то предосудительное. И этого в себе я тоже стыдился. Не мог объяснить, откуда взялось во мне это чувство. С какой стати каждый мусульманин должен нести на себе груз ответственности за кучу клише, сложившихся в разных местах многообразного арабского мира? Почему каждый из нас отвечает за поступки людей, с которыми его ничего не связывает? Разве требуют от христиан, чтобы они отвечали друг за друга? Если вор, убийца, сумасшедший не араб, то он именно вор, убийца или сумасшедший.
Мне достаточно собственных проблем, к чему мне чужие, о которых я понятия не имел и узнал только пять минут назад из телевизора? Я не в Иране шагаю с плакатами, я шагаю с плакатами во Франции, защищаю своих — тех, с кем живу каждый день. Защищаю себя.
На экране появилось лицо аятоллы Хомейни[52]. Отец тут же прекратил свои критические замечания. Я знаю, он под впечатлением от этого человека, испытывает к нему что-то вроде осторожного почтения. Папа может сетовать на человеческую глупость, но никогда не посмеет осуждать религиозного учителя. Это не наш ислам? Да, не наш, но это все же ислам. И я тоже невольно восхищаюсь значительностью этого человека. Он уверен в себе, он обличает Америку, пособницу Сатаны, он ее презирает. Меня обуревают противоречивые чувства…
И в конце концов, я понимаю, что мне нравится: этот человек не опускает глаз.
Рафаэль
Дедушка расстался с портом Касы. Пароходы растворились в дымке, море отступило, солнце закатилось. Осталось только красное бархатное кресло посреди холодной гостиной и темные шторы, которые шевелит с тихой жалобой ветер.
Он умер в Марокко. Бабушка с дедом поехали туда впервые после нашего Великого исхода. Предлогом для их долгожданного путешествия стала свадьба нашего дальнего родственника.
Сердце дедушки мучительно сжалось посреди ночи. У него еще хватило сил привстать и разбудить жену.
— Жакот, вот и конец, — сказал он ей, прижимая руку к груди.
Она не сразу поняла, в чем дело. Говорил он очень спокойно, а в глазах затаился страх, и она тоже встревожилась.
— Ты о чем? Что случилось? Сердце?
Дедушка не ответил.
Он тихо произнес несколько слов:
— Shema Israel…[53]
Эти слова должен произнести или услышать каждый еврей, прежде чем отлетит его душа. Бабушка испугалась:
— Почему ты читаешь Shema? Не надо! Не читай!
Дедушка улыбнулся, сжал ей руку и откинулся на подушку.
В столовой плач и чтение молитв.
Вся большая семья собралась у нас в столовой.
— Завтра его привезут, и он ляжет в родную землю, — говорит дядя Жерар.
— Родную? — иронически переспрашивает дядя Марсель.
— А что, по-твоему, надо было делать? Хоронить его в Марокко? — спросил Жерар.
Никто ему не ответил, все погрузились в размышления.
— Он хотел умереть там, — всхлипнула мама. — Ничего не могу с собой поделать, чувствую: он умер, потому что хотел умереть там!
— Не говори так, — возражает Жеральдина, младшая мамина сестра. — Не оскорбляй его память! Еврей не может хотеть смерти!
— Но он уже умер, — ответила ей мама. — Умер в тот день, когда мы уехали из Марокко.
Бабушка Жакот поднимает руку, прося своих детей успокоиться.
— Неужели вы будете спорить в такой час?
Замечание мгновенно гасит искру, из которой мог вспыхнуть пожар.
Я побаиваюсь этих огненных вспышек, после которых наступает безмятежный покой. Покою предшествует коллективная истерия, когда каждый разворачивает свою психодраму. Выплескивает глубинные обиды, сводит счеты. Но сейчас не до психодрам. Никто не отважится. Еще не время. Тело дедушки пока еще не в земле. Все знают, что его душа витает рядом с нами, испуганная своим новым состоянием, и каждое неуместное слово может ее ранить. А успокоить может только чтение псалмов.
— Я думаю, настало время сказать вам одну очень важную вещь. — Бабушка заговорила торжественным тоном.
Важную? Семейную тайну? Что же нам откроется?
— Вашего отца похоронят во Франции временно. Как только бумаги будут готовы, его тело будет отправлено в Израиль, в Иерусалим.
Известие встречено хором восклицаний. Все потрясены.
— Как в Израиль? Почему?
— Не может быть! Кто будет молиться у него на могиле? Все его дети живут здесь!
— Кто это решил? Папа никогда не говорил, что хочет, чтобы его там похоронили!
— В Марокко я бы еще понял! Но в Израиле? Он и ездил туда всего два раза.
Бабушка терпеливо ждала, не мешая каждому выплеснуть свои чувства, кивала, давая понять, что всех понимает.
— Я все это знаю. Но такова была воля вашего отца. Пять лет назад, когда у него был тяжелый грипп, он заставил меня дать обещание: если он умрет, то будет похоронен в Израиле. Он выздоровел и купил себе место на кладбище в Иерусалиме, но попросил никому об этом не говорить. Он не любил говорить о болезнях и смерти.
Каждый по-своему отнесся к бабушкиным словам.
— Это было пять лет назад. Может быть, с тех пор он переменил решение?
— Нет, он повторил мне это перед смертью.
Бабушка расплакалась: так это было близко, так больно.
Она собиралась еще что-то сказать, но слезы текли и мешали словам.
Мы смотрели на бабушку, не сводя глаз. Последние минуты дедушки вспыхнули вдруг светом в потемках.
— Он дочитал Shema и посмотрел на меня. Он старался что-то выговорить. Я не понимала, чего он хочет, а потом наклонилась низко-низко и разобрала. Он говорил: «Ершалаим, Ершалаим».
Женщины заплакали. Мужчины опустили головы.
— Почему Иерусалим?
А я понял.
Тело жило за пределами родины. Душа с ней.
Мунир
Торговый центр Пар-Дьё. Здесь тусуется молодежь, когда дурная погода не дает возможности гулять по центру города. Магазинчики со шмотками, симпатичные девчонки, возможность случайно повстречать друзей — в общем, недурное местечко, где можно проторчать длинный каникулярный день. Мы договорились с Софи, что встретимся там.
— Думаешь, она придет с подругами? — поинтересовался Фаруз.
— Откуда я знаю!
— А ты ее не спросил?
— А об этом спрашивают? Как ты себе это представляешь? «Послушай, милая, нет ли у тебя таких же хорошеньких подружек, а то у моих приятелей закипело?»
— Хорошеньких не обязательно, — проговорил Лагдар.
Мы все рассмеялись.
И тут вдруг перед нами появился полицейский патруль.
Троица полицейских шла не спеша, поглядывая на народ с непередаваемым чувством превосходства, свойственным только стражам порядка.
— Вот зараза! Фараоны! — шепнул Фаруз.
— И что? Мы же ничего не делаем, — ответил ему Лагдар.
Глуповато ответил, и сам это понял. Не надо совершать преступлений, чтобы тебя стали проверять. Достаточно быть арабом. Мы к этому привыкли, но сейчас в Пар-Дьё при всем честном народе, когда день обещал быть таким хорошим, хотелось избежать унизительной процедуры. Лично мне. Жуть до чего не хотелось, чтобы Софи увидела меня в ситуации, так сказать, «цветущего арабизма».
Мускулистый коротышка в форме шагал первым, за ним брюнет, тощая каланча, и блондин с такой короткой стрижкой, что казался лысым.
Мы невольно напряглись, постарались сделать безразличные лица, смешаться с толпой. Но у этих парней, видно, был включен антиарабский радар, они сразу нас заметили и двинулись так, чтобы преградить нам путь.
— Так и чешут, суки, — обиженно заметил Фаруз. — Достали!
— Вот где у меня эти уроды!
— Да успокойся ты, все путем!
— Ваши документы!
Я сунул руку в карман и вытащил свой «сезам откройся». Фаруз подал бумажку за мной следом — мы привыкли мгновенно отвечать на такую просьбу. А Лагдар продолжал шарить по карманам.
— Ну и где? — рявкнул блондин.
— Не пойму, куда задевал. Но я его взял с собой, это точно!
Я не сомневался, что так оно и было. Араб не ходит без удостоверения личности. Никто из моих друзей-немусульман не носит с собой удостоверений, а мы автоматически кладем их в карман.
Брюнет презрительно смотрел на нас.
— Шевелись живей, черножопик! Кроме вас есть чем заняться.
По его брезгливой мине было ясно, что он приготовил что-то обидное, но я надеялся, что обилие народа вокруг его удержит. Ничего подобного. Однако, заботясь о своем достоинстве, он говорил тихо, прошипел все сквозь зубы, не шевеля губами. Как чревовещатель. Гнев во мне вспыхнул мгновенно. Я стиснул зубы. И как всегда сдержался. Не хотел затевать скандал. Полицейские, они всегда правы. А у меня встреча с Софи.
— А ты чего это, а? — уже мне бросил этот гад, страшно довольный, что задел меня, а еще больше, что я спокойненько все проглотил.
Я промолчал, но уставился ему в глаза, не отрываясь. Он сделал шаг и наклонился мне к уху.
— Не понравился «черножопик»? А чем плохое слово? Можно сказать, ласкательное, — прошипел он.
И все трое стали лыбиться.
Редко, когда среди городских «ковбоев» не попадается расист-провокатор. Но бывает, что в команде работает и доброжелательный парень — такие обычно гасят конфликты. Мы сейчас столкнулись с тремя подонками, которые были в восторге от своей безнаказанности. Я постарался себя утешить, представив себе ту поганую жизнь, которая сделала их тупыми животными.
— Что вы тут делаете?
— Пришли в футбол поиграть, — с вызывающим видом бросил Фаруз.
— Просто гуляем, — поспешил сказать Лагдар, наконец отыскавший удостоверение. Ему хотелось как можно скорее покончить с неприятной процедурой.
— А может, собрались в магазинах похулиганить?
— И в мыслях не имели. Но раз вы говорите, — снова заершился Фаруз.
Блондин угрожающе к нему наклонился.
— Хочешь в клоуна со мной поиграть?
— Нет. Вы все равно выиграете!
Я почувствовал: дело добром не кончится. И какая муха, черт побери, укусила Фаруза? Он что, в первый раз встречается с такими гадами? Сейчас он нас всех утопит в дерьме. А Софи должна вот-вот подойти!..
— А почему вы нас проверяете? — задал вопрос Лагдар. Его терпению тоже пришел конец.
— Делаем свое дело. Следим за безопасностью добропорядочных граждан, — насмешливо заявил коротышка, напирая на последние слова.
— А почему вон ту молодежь не проверили? — спросил Лагдар, показывая на кружок французов.
Каланча наклонился к нему.
— Проверяем только подозрительных. Кто рожей не вышел. Арабов то есть. — Он понял, что Фаруз на грани, и решил его достать.
— Не отвечай. Он тебя провоцирует. — Я говорил очень тихо и по-арабски.
— Чего это ты бормочешь? Оскорбляешь власть по-чучмекски?
— Нет, прошу его успокоиться.
Полицейский посмотрел на меня.
— Ну, будет, поиграли. А теперь пошли! — скомандовал коротышка и показал на коридор, который вел к служебным помещениям.
Так, сейчас все пойдет по нарастающей. Я наслушался историй о полицейских, которые срывались с катушек, отделывали ни за что ни про что молодых ребят, и им ничего за это не было.
Вокруг нас уже появился народ. Проверка затянулась, прохожие почувствовали, что страсти накаляются. Полицейские тоже это заметили и решили издеваться не на глазах у людей.
— Зачем?
— Затем что я говорю! Посмотрим, нет ли у вас наркотиков. А может, чего своровали.
— Нет у нас ничего!
Блондин обратился к зевакам:
— Проходите, граждане, проходите.
Внезапно пожилой господин сделал несколько шагов вперед и встал перед полицейскими — держался он очень прямо, стоял, высоко закинув голову. Безупречного покроя плащ и шляпа придавали ему внушительный вид.
— Чем провинились молодые люди, господа полицейские? — осведомился он.
Возраст, манера держаться, прямой тяжелый взгляд вызвали невольное почтение у полицейских.
— Дежурная проверка, — ответил один из них.
— И что? Вы же проверили их удостоверения! Почему не отпускаете? Думаете, приятно, когда тебя прилюдно проверяют?
— Месье! Не вмешивайтесь не в свое дело, — резко ответил ему блондин.
— Война приучила меня, молодой человек, вмешиваться, когда я вижу несправедливость. Я не из тех, кто отворачивался, когда нацисты требовали удостоверения у евреев.
— Но… Вообще… я… мы… — Коротышка не знал, как ему реагировать на сравнение.
— У меня есть связи, господа полицейские! Я лично знаком с префектом, — объявил пожилой человек. — И я хочу знать, что вы вменяете в вину этим молодым людям.
Полицейские переглянулись. Толпа вокруг нас стала теснее. Прохожие останавливались, интересуясь, чем кончится поединок. Полицейские постояли в нерешительности, еще раз посоветовались друг с другом взглядами и предпочли отступить. Игра не стоила свеч. Им не захотелось наезжать на участника Сопротивления. И еще меньше на человека, чьи дружеские связи могли причинить им немало неприятностей.
Мне хотелось расцеловать старичка, и я боялся, что Софи тоже стоит в толпе, сгрудившейся вокруг нас.
— Так и быть, держите, — проскрипел коротышка и протянул нам удостоверения.
— Топайте давайте, — присоединился к нему чернявый.
— Я с вас глаз не спущу, — прошипел мне в ухо блондин.
Все вернулись к своим делам. Один из зевак подмигнул мне, выражая сочувствие. Нетрудное дело, когда неприятность позади.
Я искал глазами пожилого человека, хотел его поблагодарить, но он как сквозь землю провалился.
— Мать их так! Полицаи долбаные! — разорялся Фаруз.
— Лучше скажи, куда подевался наш старик? — спросил я, продолжая искать его глазами.
— Хотели навесить на нас гашиш, — подхватил Лагдар.
— А дед-то какой классный! Как он им глотки заткнул!
— Мунир прав, — поддержал меня Лагдар. — Классно он с ними разговаривал. Впечатляюще!
— И чего? — продолжал кипятиться Фаруз. — Он сделал то, что должен был сделать каждый.
Может, Фаруз и прав. Но люди редко делают то, что требует от них честь, то, что поддерживает их достоинство. Мне хотелось запомнить именно этого человека, тон, каким он обратился к полицейским. Без ненависти, гнева, совершенно спокойно, но с такой убежденностью, что они отступили. А после этого он исчез, не дожидаясь нашей благодарности. Он вступился за нас не потому, что хотел казаться достойным человеком, он им был, и был всегда. Может, через секунду меня снова оскорбят и обидят, но его вмешательство подарило мне надежду. Я знаю, что у меня опять и опять будут проверять документы, меня снова и снова будут унижать, выливая ненависть и предрассудки мне на голову. Но помнить только об этом — значит отказаться от надежды, что для меня есть место в этом обществе. А я хочу расти, двигаться вперед и стать человеком. Стать таким, как этот человек.
— Мунир!
Это Софи, вот она идет к нам. Красивая, улыбающаяся. Глаза у нее сияют. И парень, которого я вижу в этом сиянии, — это я. И я в этот миг красавец с завидным будущим.
Я взял Софи за руку, притянул к себе и впервые в жизни поцеловал на глазах у своих друзей.
Рафаэль
На наших скамейках во дворе лицея никогошеньки. А ведь обычно утром здесь все мои друзья, мы тут встречаемся. Им что, уже сказали, что кто-то из преподавателей заболел? И они отправились прошвырнуться? Выпить чашечку кофе? Непохоже. Они бы посидели, подождали, чтобы тронуться с места всем вместе.
Я заметил нашу главную революционерку, она, как всегда, проводила неподалеку очередную беседу.
— Беа! Ты в курсе, что тут у нас? — спросил я, ткнув пальцем в пустые скамейки.
— Они в «Пале». Я их встретила по дороге.
Я удивился. Перешел через улицу и в самом деле увидел ребят за столиком.
— Бастуем?
Они как-то очень тоскливо посмотрели на меня, и я сразу заволновался.
— Проблемы?
Мунир показал мне на утреннюю газету. Схватив ее, я пробежал глазами статейки, стараясь понять, что так взволновало моих приятелей, но ничего особенного не нашел.
— В чем дело?
Лагдар ткнул пальцем в страницу.
Два сутенера найдены мертвыми в парке Мирибель
На пустыре в парке Мирибель найдены мертвыми двое мужчин. Они были убиты выстрелом в голову, лица и руки у них сожжены, что дает основание думать, что речь идет о сведении счетов лионской мафии.
Я быстренько пробежал глазами заметку, узнав из нее, что обе жертвы были сутенерами на территории, контролируемой местной мафией.
— Что дальше? Вы их знали?
— Да. И ты тоже, — буркнул Мунир.
— Посмотри, там дальше есть фотки, — прибавил Лагдар.
Я перевернул несколько страниц и увидел два портрета. Мне хватило одного взгляда, чтобы их узнать. Я плюхнулся на стул.
— Черт! Энзо и Тони? Те, с которыми…
Энзо, плейбой, одетый всегда с иголочки — глаза зеленые, ласковая улыбка. И Тони, парень сплошные мускулы, молчаливый, вежливый, но с первого взгляда ясно: в один миг может превратиться в тигра.
Большую часть времени они проводили в этом кафе, выпивали, играли на автоматах, с нами обменивались шутками.
— А вы знали, что они коты?
— Откуда? — удивился Мунир.
— А я никогда не верил, — воскликнул Лагдар. — Разговоры ходили, но я не брал в голову. Такие были клевые парни.
— А с другой стороны, какой еще может быть бизнес, когда безвылазно сидишь в кафе…
Я перечитал заметку более сосредоточенно и содрогнулся: сначала пулями разнесли им головы, потом сунули в огонь… А еще несколько дней тому назад эти парни нам здесь улыбались. Мне трудно было поверить, что это правда. Скорее мрачный гангстерский фильм. Но нет. Реальность.
— Они их сначала убили, а потом сожгли? Или… Наоборот?
Мне необходимо было это узнать. Я не хотел воображать себе худшее. Похоже, всех ребят мучил тот же самый вопрос, и второй сценарий пугал их до жути.
Потом до меня дошло, что парни работали сутенерами. Черт! Ну и работа! Заставлять женщин торговать собой. Это вообще как? Они что, всерьез их заставляли? А если те не хотели, били? Мне трудно было себе представить этих славных, вежливых ребят в роли грязных насильников.
Я смотрел и не мог оторваться от фотографий. Надо же! Я общался с сутенерами. Их убили.
Я знал, что стена, которая отделяет нормальную жизнь, где живут семьями и общаются с друзьями, от другой, где убивают и жгут, очень тонкая. Но в эту минуту я понял, что стена проницаема. Смерть бродит с нами рука об руку, за углом таятся опасности, упорядоченность моей собственной жизни иллюзорна.
Пьер поставил перед нами чашки с кофе. Глаза у него были на мокром месте.
— За счет заведения, — сказал он и тоже сел за столик.
Мы поблагодарили его кивками.
— А ты знал, что они коты?
— Как сказать… По обрывкам их разговоров можно было догадаться, что они не поют в церковном хоре, но я никогда не стараюсь узнать больше, чем меня касается. А в последнее время с ними точно творилось что-то странное.
— Что именно?
— Понимаешь, у нас тут перед окнами стали ходить какие-то парни и все поглядывали на Тони и Энзо. Я им об этом говорил. Потом они вдруг перестали сюда приходить. А потом — нате вам!
Пьер поднял свою чашку, собираясь сказать тост.
— Коты, не коты, они были моими друзьями. Пусть души их покоятся в мире.
Мы все выпили по глотку кофе. Обретут ли покой такие души? Если честно, я сомневался.
Мунир
— А ты вали отсюда!
Приказ обжалованию не подлежал. Вышибала уже положил мне руку на грудь, выпихивая из очереди, а сам смотрел мимо. Две девушки, что стояли позади меня, улыбались. Я не знал, сочувственно или насмешливо.
— Почему?
Вопрос глупее глупого.
— Частный праздник.
Он ответил, глядя мимо меня, показывая, что я уже забыт. А рука все нажимала, выдавливая, отстраняя. Девчонка прыснула. Насмехались.
В горле у меня пересохло, щеки вспыхнули.
— У меня там друзья. Меня там ждут.
Вышибала уставился на меня. Я хорошо знал, когда так смотрят.
— Проваливай, я тебе сказал. — И он буквально вымел меня на тротуар.
Я в последний момент едва удержался на ногах. Поднял голову — человек двадцать смотрели на меня. Кое-кто посмеивался, другие изображали безразличие. Две девчонки теперь откровенно хихикали, прикрывая рты руками. Я чувствовал себя опозоренным, мне было до жути хреново. Хотелось хоть как-то за себя постоять.
— Вы не имеете права так со мной обращаться!
И тут же пожалел о своих словах. Что они изменят? Зачем я это сказал? Чтобы доказать самому себе, какой я крутой?
— Ты в своем уме, черножопый? Я тебя вежливо попросил свалить отсюда. Если не понял, скажу по-другому.
Я увидел происходящее словно со стороны. Стою я, тощий паренек, в модных черных брюках, сером свитере, классной курточке, с красиво зачесанными назад волосами, красный от стыда и гнева, и смотрю на здоровенного, уверенного в себе детину, готового засучить рукава. А вокруг сгрудилась молодежь, готовая поглазеть в первой половине вечера на узаконенный мордобой. И что? Кому-то видно, что у меня поджилки трясутся? Не думаю. Я уже научился вводить в обман. Со стороны я всегда выгляжу злобным чудовищем, в соответствии с общим представлением об арабах. Один вышибала понял, что в драку я не полезу, и воспользовался этим.
— Давай, давай, не играй в злого. Глаза в землю, и пошел!
И все же я хотел броситься на него, хотел смыть позор своей кровью. Пусть будет болеть разбитое лицо, а не душа, которая будет ныть днем и ночью, если я сейчас уйду. Но мне пришла в голову еще одна мысль, и она меня заморозила. Если я сейчас затею драку, на шум сбегутся все — Софи, Рафаэль, Сесиль и все остальные. Они все станут свидетелями моего унижения. И кто мне поручится, что в очереди нет знакомых ребят, и они, войдя в кафе, не расскажут, как меня избили. И я отступил, но посмотрел вышибале прямо в глаза, постаравшись вложить в свой взгляд всю ненависть, которая кипела во мне, все молчаливые проклятья, которые посылал. Посмотрел я и на двух хохотушек — они перестали смеяться. Оглядел лица стоявших в очереди и смотревших на меня. Они тоже увяли. Трусы. Жалкий реванш.
Я отошел уже далеко от кафе, а мыслями был все еще там. Какая глупость! Как я мог подумать, что новых брюк, модного свитера и модной прически достаточно, чтобы скрыть мою национальность? Арабов не пускают вечером на дискотеки, это я знал твердо. Я даже решил, что терпеть не могу шляться вечером по кафе. Но Софи объявила, что будет праздновать в кафе свой день рождения. Что я мог ей сказать? Дать понять, что не стоит этого делать?
Если моя подружка празднует день рождения, то и меня должны пустить вместе с моими друзьями. Мне надо было прийти со всеми вместе, а я взял и опоздал. И теперь спрашивал себя, не сделал ли я это нарочно? Может, я чувствовал, что меня все равно не пустят и мне будет тяжело пережить это унижение у них на глазах…
Они теперь веселятся, хохочут без забот и хлопот. «Проходите, приятного вечера», — говорил им вышибала. Рафаэль с ним поздоровался. Евреев пускают вечером в кафе. У них не такая характерная внешность. А главное, у них есть деньги. Нас вышвыривают из-за расизма, наше преступление — наши грязные рожи.
Что я скажу завтра? Что не смог прийти? Семейные проблемы? Дурацкое оправдание. Что подумает Софи — почему я вдруг не пришел? Что она мне скажет? Ее дружок не пришел к ней на день рождения… Ее дружок. Я невольно улыбнулся, и мне в рот попала соленая вода. Оказалось, что и щеки у меня мокрые. А я и не почувствовал, что реву. Я же не всхлипывал, не рыдал — наоборот, мне хотелось орать, разбить стекло, проломить стену. Ты грязное дерьмо, вышибала! И ты, Франция, тоже грязное дерьмо! И ты, Софи, дура и ничего больше! Тебе дела нет до меня, иначе ты была бы в курсе, что есть проблемы! А Рафаэль? Он что, не мог подождать меня у входа? Тоже называется друг!
Я шел и шел, хотел немного успокоиться. Слова, картинки, мысли выносили мозг. Каким же ты был дураком, Мунир! Ты был и всегда останешься арабом. Порвать с Софи — вот самое разумное решение. Забыть и думать, что я могу жить, как живут французы. Прояснить ситуацию. Отправить к чертям идиотку, которая празднует свой день рождения в кафе, когда у нее парень араб!
Я хотел только одного: оказаться среди своих, похожих на меня, живущих с теми же сомнениями, страхами, разочарованиями, знающими на своей шкуре, что такое расизм. Мы понимаем друг друга, мы вместе мучаемся, среди своих я не пустое место. Никаких масок, никаких двойных стандартов. Просто Мунир Басри.
Во дворе я не встретил своих приятелей, у подъезда, переминаясь с ноги на ногу, втянув головы в воротники, топтались другие парни. Мне не хотелось идти домой. Сразу уж точно не хотелось. И жаловаться мне тоже не хотелось. Просто немного постоять с этими вот ребятами. Волна тепла поднялась во мне. Я был им благодарен, что они, как всегда, на посту, что верны самим себе. С ними никаких подвохов. Роли распределены, и мне досталась роль свободного электрона: у меня есть друзья за пределами двора — Лагдар, Фаруз, и по временам я дружески общаюсь с закоренелыми дворовыми.
Сейчас у подъезда стоял Зубир, один из упертых. Он и еще несколько ребят решили сделать из квартала свое владение и покидать его пределы как можно реже. Здесь он распоряжается по-хозяйски, и никто не вправе оспорить его власть. О нем ходят мифы и легенды. В основном они связаны с дворовыми драками. Он умеет поставить на место любого, кого заподозрил в недостатке почтения. Зубир молчун, по-настоящему крутые парни редко бывают болтунами. Надир куда более словоохотлив. Паузы он воспринимает как оскорбление и во что бы то ни стало стремится их заполнить, поддерживая разговор фразочками типа «А ты знал, что…». Сулейман человек застенчивый. Втайне он благоговеет перед Забиром, но высказывается вслух крайне редко. Он одобряет то или иное мнение плевком сквозь зубы. Все трое бросили школу и обосновались на улице. Время от времени воруют по мелочи, в основном мобильники. На карманные расходы.
Возле них стоят еще школьники, и я тоже к ним присоединился. Ближе всех ко мне стоял паренек по имени Туфик. Он тоже попробовал бросить школу, потом попотел на всяческих побегушках и возобновил учебу. Думает заняться правом. Шутит, что станет адвокатом и будет защищать наших, которые пойдут по кривой дорожке. К нам, учащимся, крутые относятся неплохо. Они обращаются к нам, когда хотят получить какие-то сведения о жизни за пределами квартала или узнать о политических событиях, которые их заинтересовали. Отвечая, мы, конечно, придерживаемся уважительного тона, чтобы не задеть их гордость и не показаться слишком учеными. Между нами как бы существует молчаливый договор: меняем силу на знания. Они готовы защитить нас от возможной агрессии, а мы помогаем им ориентироваться в сложном внешнем мире.
Когда я подошел, ребята толковали о драке с ночными сторожами из соседнего супермаркета. Они в ней не участвовали и теперь собирали информацию, желая знать, что там произошло. Мы пожали друг другу руки. Я пристроился сбоку — роль вольнослушателя имеет свои преимущества. Я боялся в первую минуту, что начнут обсуждать мой прикид, но они были так увлечены разговором, что не обратили на меня никакого внимания. Один Туфик взглянул на меня с любопытством. Он знал, что я собирался пойти на день рождения Софи. Через несколько минут он легонько потянул меня за рукав, предлагая пройтись вместе с ним. Мы отошли в сторонку.
— Похоже, не заладилось что-то, — протянул он, глядя куда-то вдаль.
Мы очень редко касались своих душевных переживаний. Стыдливость и гордость мешали нам делиться ими.
— Дискотека?
Я пожал плечами.
— Не бери в голову. Тоже мне новость! Не ходим мы по кафе. Особенно по таким.
Как он догадался? Не иначе, собственный опыт подсказал. Я кивнул.
— Когда я узнал, что ты туда собрался, я думал, ты в курсе. Думал, что с Софи под руку, с друзьями вокруг ты проскочишь.
— Они прошли до меня.
— Заразы! Они же тоже должны были знать! И ты все-таки отправился?
— Да.
— Надеялся, что пропустят?
— Не знаю даже.
— И кого теперь ненавидишь?
— Я не ненавижу.
— Брось! Конечно, пускаешь пузыри, это нормально. Вот только против кого настроился? Против вышибал? Против Софи? Против друзей?
— Не знаю.
— Зато я знаю. Друзья ни при чем. Ты ненавидишь сам себя. Чувствуешь себя дерьмом, потому что поверил, будто можешь быть паинькой-французом, таким, как другие!
В ответ в ту же секунду во мне вспыхнула ярость. Да как он смеет так со мной разговаривать?! Но добродушная улыбка Туфика остановила меня. У меня сегодня достаточно всякого гадства, не хватало еще и с ним поссориться.
Туфик уселся на скамейку. Мы подняли воротники курток и стали дышать на руки, пытаясь немного согреться.
— Мы все, так или иначе, пытались стать другими, не теми, кто мы есть, «нормальными», — заговорил Туфик снова. — «Нормальность», она шлюшка, умеет потрафить гордости. И кто же устоит перед ее крутыми бедрами и призывным подмигиванием? А когда поддашься соблазну, заплатишь дань своей глупости, наступает расплата: тебе стыдно, и от позора ты лечишься ненавистью. Легче же орать, молотить кулаками, наказывать других. Но полезнее понять, что главная беда в тебе.
Меня удивили рассуждения уличного философа. И как ни странно, они меня успокоили. Он был прав: мне было стыдно за самого себя. И Софи тут совершенно ни при чем. Откуда она могла знать? И она не отвечает за расизм, которым страдают ее соотечественники. За что наказывать девушку, которая любит меня, араба?
Рафаэль
Я что, сделался параноиком? Моей навязчивой идеей стал расизм? Я отслеживаю его в словах и жестах одноклассников, в объяснениях преподавателей, в замечаниях и отношении прохожих. Стоит мне услышать скрежещущий слог, и я уже уверен, что речь идет о «жидах» и лексика самая непотребная. Стоит кому-то остановить взгляд на арабе, и я уже готов обвинить человека в расизме. Что произошло? Может быть, недавние события обострили во мне чуткость? Или я сегодня почувствовал то, чего не чувствовал вчера? Так бывает с новыми словами, когда поймешь их смысл, они начинают попадаться тебе на каждом шагу, в каждом разговоре.
Но с фактами не поспоришь. От бытового расизма — я ненавижу это выражение! — никуда не денешься. Агрессия против арабов и евреев возрастает. Фашиствующая мелюзга сбивается в банды, тусуется возле лицеев, торчит на углах улиц, бродит по кварталам, желая «наказать чужаков». Представления о том, что хорошо и что плохо, поплыли. Появился некий профессор Фориссон, который решил пересмотреть историю и отрицает существование газовых камер. Только что умер в Испании зловещий Даркье де Пеллепуа[54], которого там ни разу не потревожили. Ультраправые поднимают голову, нападают на иммигрантов, а полиция их покрывает. Табу исчезают, и вопросы, которые раньше никто бы не решился задать, звучат в полный голос.
Мне стало неспокойно, я ощущаю, что и до меня добираются волны ненависти, что еще немного — и они меня утопят. Меня. Нас. Речь идет о Мунире, обо мне. Нас унижают, а мы бессильны ответить. Мы бунтуем против теней, нас мучает собственное бессилие. И что нам делать? Куда податься? Примкнуть к одной из политических партий и вступить в борьбу? Нет, этим делу не поможешь. Беда в том, что ни правые, ни левые, ни все народонаселение в целом не ощущают, что есть такая проблема, как расизм. Я думаю о Примо Леви[55], тщедушном итальянском еврее, который трагически разочаровался в успехе дела своей жизни. Что он думал об этих псевдоинтеллектуалах? Что делал? Плакал кровавыми слезами? Принял решение и привел в исполнение угрозу покончить жизнь самоубийством? А Эли Визель?[56] А все безымянные старики с синими номерами на руках? Все, кто не сумел забыть, но не смог описать неописуемое, что они думают? Они видят, что расизм и расисты снова в моде? Что опять возродился антисемитизм? Что арабы стали жертвой той же ненависти? Что мы все опять превратились в мишень?
Мунир
Мы расстались с Софи. После дня рождения отношения у нас разладились. В этот вечер я понял, как трудно нам будет продолжать быть вместе. А она обиделась на меня, что я не пришел. Я сказал ей, что у меня начались страшные рези, что не мог встать с постели, но я не умею врать, и она мне закатила дурацкую сцену. А мне показалось диким, что она всерьез обижается из-за таких пустяков. Наши чувства потускнели. Честно говоря, наверное, они потускнели раньше, иначе мы бы не устроили драмы из такой ерунды. Подготовка к экзаменам на бакалавриат довершила остальное. Некогда стало видеться. Меня это огорчило, но меньше, чем я думал. Я понял, что для меня самое главное — получить диплом. Вот я и сосредоточился. Результаты должны были объявить позже, и Софи уехала с друзьями на юг. Мне не хотелось думать о парнях, которые будут за ней бегать. Не хотелось думать, как она будет их очаровывать. Меня это больше не касалось.
Я ждал результатов с нетерпением, задыхаясь от летней жары.
Жуть, какая стояла жара. Стены квартала словно бы сомкнулись вокруг меня. Улицы стали улицами гетто.
После волнений в Грапиньер, соседнем квартале, напряжение в нашем стало до того ощутимым, что хоть трогай руками. Мусульмане сделались доступной мишенью для расистов. И для полицейских тоже — парней мог зацепить кто угодно. Свобода, равенство и братство! Ерунда! Мы не равные, мы виноватые. Виноватые в том, что мы арабы. Мы виноваты перед вышибалой у дверей дискотеки, виноваты перед полицейскими, виноваты на скамье подсудимых во дворцах правосудия. К кому нам обращаться за защитой? Многие из нас уже ничего не ждут от здешних государственных учреждений. Выживая, они сбиваются в кучу, остаются за пределами общества, учатся защищаться и нападать.
Для Франции иммигранты стали головной болью. Нас позвали сюда для работы, но теперь, в разгар кризиса, очень бы хотели, чтобы мы исчезли.
Даже папа в последнее время стал подумывать, не уехать ли нам обратно. Его предприятие готовило очередную волну увольнений.
— Если не будет работы во Франции, — мрачно говорил он, — вернемся в Марокко.
Мама покорно опускала голову и вздыхала. Потом начинала молиться про себя, чтобы судьба оказалась к нам милостивой.
— Но есть ведь и другие работы, — осторожно говорила она.
— Говорят, что сокращения идут во всех сферах.
— А пособие по безработице? Они выплачивают хорошие деньги, когда не дают работы, — подал голос Тарик. — Так мне сказали друзья.
— Они не могут платить всем подряд. И потом, я не хочу сидеть, как женщина, и ждать, когда мне подадут милостыню, — вскипел папа.
В квартале пособие не вызывало такого возмущения. Франция считалась богатой, щедрой, профсоюзы защищали работников, а сами приезжие трудились до седьмого пота на самых неблагодарных работах. Так что они не видели ничего дурного в том, чтобы немного попользоваться от щедрот французов.
— Знаешь что? Они богатели за наш счет в Алжире. Они использовали наши богатства, не спросив, хотим мы этого или нет! Они позвали нас и сбагрили нам самую грязную работу. Отчего же теперь и нам чем-то не попользоваться? — рассуждал Зубир.
И что? Разве он был неправ?
Многих семей коснулась безработица, горечь и недовольство возрастали.
— Эти уроды выставляют арабов на улицу. Они предпочитают нанимать французов, итальянцев, португальцев. Говорят, мы приехали есть их хлеб. Но они же сами нас к себе позвали! А теперь хотят, чтобы мы вернулись обратно. По их мнению, в кризисе виноваты арабские страны, несправедливо наложившие эмбарго на нефть. А мы-то какое имеем к этим странам отношение? И с чего вообще винить эти страны в кризисе? Скорее в нем виноваты евреи, которые украли землю у палестинцев с благословения Запада!
Все перемешалось. Все заговорили гораздо откровеннее. Напряжение росло. Как разобраться, кто прав, кто неправ, высказывая хлесткие, острые мнения?
Папа теперь редко когда останавливался потолковать со своими приятелями. В большинстве своем те остались без работы, и ему было с ними неловко. Ему казалось, что он находится в привилегированном положении, что отсутствие работы для них оскорбительно. Всякий раз, когда он узнавал, что очередной сосед получил пособие, он вздыхал, пожимал плечами и погружался в невеселые мысли.
О возвращении на родину говорили все. Говорить говорили, но уезжать не уезжали. Ждали. Кризис долго не продлится. Франция богатая страна. Она оправится, и все снова получат работу.
А пока мы сидим и ждем, как нам быть с обидчиками? Теми, кто видит в нас похитителей рабочих мест, воров и преступников? Для кого мы мишень, чтобы разрядиться.
11. Став бакалавром
Мунир
Я получил бакалавра! Я бакалавр! Как же мне нравится произносить эти слова: я бакалавр! Меня так и распирает от счастья. Честное слово! Распирает грудь, сердце, легкие. Я бы заорал от радости во все горло! Но рядом со мной ревет девчонка. И еще немало огорченных грустных лиц. Тут мое счастье не порадует.
Вообще-то я надеялся, что так и будет. Весь год работал как каторжный. Готовился, как ненормальный. Но в получении «бака» есть что-то мистическое, есть еще какая-то таинственная составляющая, тут не все от тебя зависит. О «баке» ходят легенды, существуют герои и мученики. «Я знал одного парня, так вот он…» В общем, рассказывается множество историй, благодаря которым тебя убеждают, что успех вовсе не результат твоих усилий, а особое везение, тогда как неудача — заговор темных сил. Даже у нас дома перед защитой «бака» появились суеверия, амулеты и особые словесные формулы, якобы обладающие сверхъестественной силой, которые должны были мне непременно помочь. Получение бакалавра заслуживало поддержки, в ход шла любая детская абракадабра.
В день моего экзамена, когда я уже собрался уходить, мама протянула мне цепочку, на которой висела хамса[57]. В другое время я бы, конечно, отказался, даже возмутился. Но в этот миг я согласился на помощь амулета, я бы сказал, с «мистическим» спокойствием. Начало испытаний повергло меня в особое экстатическое состояние, и амулет был как бы первой медалью, повешенной на грудь бегуна. Затем мама достала солонку. Она посолила мне плечи, произнося какие-то непонятные слова, а уж потом молитву.
— Сдашь успешно, сынок.
Только в эту минуту я заметил в углу комнаты папу. И понял, что он наблюдал за правильным соблюдением операции. Он улыбнулся мне и покачал головой. Я увидел, что отец гордится мной, и почувствовал, как запульсировал в моих жилах адреналин, как на него откликнулся мой мозг. Да, я был готов. Да, я не боялся. Меня окружало облако любви родителей, защищала аура святых, и все демоны были отринуты. Я всем покажу! Я получу бакалавра! Уверен!
На лестничной клетке меня догнал Тарик.
— Мунир!
Тарик так тяжело дышал, будто обессилел, одолев два пролета лестницы, но на самом деле он пытался скрыть свое смущение и делал вид, словно задохнулся.
— Я хотел… пожелать тебе удачи! Не волнуйся, все будет хорошо.
Я протянул брату руку.
— Хлопни! Вот увидишь, я их сделаю!
Брат хлопнул изо всех сил.
Не забыла меня и Джамиля. Перед тем как уйти в школу, она приготовила мне классный завтрак и под чашку положила записочку с добрым пожеланием.
Да, я шел на завоевание будущего вместе с ними. Ради них.
А теперь возвращался домой с прекрасной новостью. Я знал, как мои домашние волнуются, как ждут меня. Все наверняка собрались в столовой. И я уже видел перед собой их счастливые лица. Сегодня я принесу им особое счастье. Такого у нас еще не было. Они его заслужили.
А Рафаэль? Почему я только сейчас о нем вспомнил? Он сдавал экзамен в том же лицее, что и я, но я не видел его возле вывешенных списков. А потом так обрадовался, что и не подумал его подождать. Надо бы вернуться, встретиться, узнать, как и что… Но мне так хотелось радоваться вместе со своими! Однако, если Рафаэлю не повезло, мне лучше быть рядом. Сумею ли я его утешить? Поддержать? А с чего вдруг я подумал о неудаче? Конечно, и у него тоже все в порядке.
Может, он и ленился на протяжении года, зато в последнее время потел с утра до ночи, наверстывая упущенное. Да и нужно ли ему вообще потеть? Ученье ему всегда легко давалось. И все же надо пойти его встретить. Вот черт! И почему я не подумал сразу?
Рафаэль
— Алло! Папа? Я получил!
— Получил?
— Да, папа. Я бакалавр!
Последовала пауза, и после паузы:
— Я горжусь тобой, Рафаэль. Я так тобой горжусь!
Я не ожидал таких слов от папы, они меня удивили. Не в обычае моего отца выражать свои чувства. Наша внутренняя связь, наша любовь не нуждалась в словах.
— Я говорю с сыном, он получил бакалавра.
Я услышал голоса, смех, даже, кажется, аплодисменты. И тогда я понял, почему папа так со мной разговаривает.
— Весь персонал магазина около меня. Я им сказал. Они меня поздравляют. Представляешь, они еще с утра открыли бутылку шампанского. Дурачье! Я ужасно злился, боялся, что тебе это ненароком повредит. Ох уж эти французы! Ты сам знаешь, не могут пройти спокойно мимо бутылки с алкоголем…
Я засмеялся, но скорее справляясь с неловкостью, чем из чувства солидарности.
— Я и в самом деле горжусь тобой, сын! Для меня это важно. Ты у меня старший. Прошел первое испытание. Очень серьезное. — Теперь я слышал, что папа говорит со мной. Его больше никто не слушает. Он понизил голос, чтобы не привлекать внимания. И в груди у меня стало горячо. Папа никогда еще со мной так не говорил. Он редко называл меня «сын». И хвалил меня тоже редко. В наших отношениях засияла звездная минута. Мы спешили навстречу друг другу.
Эта минута останется важной вехой в моей жизни. Отправной точкой. Мне захочется и дальше добиваться успеха. Чтобы потом пережить счастье таких минут.
— Спасибо, папа. Я тоже очень рад. Вот увидишь, мой диплом станет новой ступенькой для всей нашей семьи.
Я знал, что отец любит отмечать «ступеньки», особенно те, которые свидетельствуют, что время наших неудач во Франции окончилось. После того, как закрылась наша прачечная, отец стал безработным и в ожидании лучшего перебивался мелкой торговлей. Надеясь, что «колесо повернется».
— Как Бог даст, сынок. Ты звонил маме?
— Нет еще. Хочешь, ты сам ей скажешь?
Отец задумался, немного поколебался, но мое предложение пришлось ему по душе, и он весело предложил:
— Слушай! Приходи ко мне на работу! Мы выпьем по бокалу шампанского с коллегами, а потом вместе вернемся домой и сообщим новость маме и братьям.
Предложение показалось мне не слишком справедливым. Получалось, что маме предстояло мучиться еще добрый час. Но папе хотелось насладиться счастливой минутой во всей ее полноте. Хотелось, чтобы я пришел триумфатором к нему в магазин, хотелось послушать, как коллеги будут поздравлять меня и хвалить, а потом пойти домой и насладиться маминой радостью. Я чувствовал себя немного виноватым перед мамой и братьями, но в то же время был таким счастливым, что могу подарить столько радости отцу. Нечасто ему приходилось так радоваться.
И тут я увидел Мунира. Он смотрел на меня с улыбкой.
— Пока, папа. Сейчас буду.
Я повесил трубку, вылетел из кабины и вопросительно взглянул на друга. Он ответил мне улыбкой, позаимствованной из «Сияния» с Джеком Николсоном[58].
— Получил.
— Да, а ты?
— И я.
— Черт! Мы с тобой бакалавры.
И мы обнялись, расхохотавшись, не сомневаясь: вот сейчас, на заре нашего нового десятилетия, начинается новая настоящая жизнь.
12. Универ
Рафаэль
Я стал студентом психологического факультета университета Лион-2, расположенного в Брон-Парийи. Почему я выбрал психологию? Потому что я всегда видел себя сидящим в кабинете и помогающим несчастным людям? Потому что психология — классная наука и дает глубокие знания?
Если быть честным до конца, то мои результаты не позволяли мне претендовать на что-то более престижное. Психология была выбором по необходимости. Но, по счастью, этот выбор оказался мне по душе. Мне понравились лекции. И студенты тоже. Хотя среди студентов были явно такие, кто надеялся разрешить здесь свои личные проблемы. Но больше всего мне нравилась атмосфера студенческого городка. Во-первых, полная свобода: хочешь, ходи на лекции, хочешь, не ходи; во-вторых, возможность взять слово и высказать свое мнение; в-третьих, отношение к студенту как к взрослому, то есть мыслящему, человеку. Нравились наши надежды: каждый из нас надеялся, что он сам и его жизнь изменится благодаря учебе, новым книгам, новым знаниям. Мы готовили себя к испытаниям, чувствовали ответственность, верили, что сможем изменить мир или, по крайней мере, прожить свою жизнь осмысленно.
Мунир выбрал сразу два факультета — экономический и социологический. Он видел себя исследователем, пишущим научные работы. Или преподавателем. Хотел разрабатывать более продуктивные, более практичные модели общества. И у него для этого были все возможности, он способный, у него результаты «бака» лучше моих. Он мог бы даже поступить на подготовительные в Высшую коммерческую школу. Но не захотел. «Ты что, всерьез думаешь, что я могу стать одной из тех акул, что превращают людей в потребителей?» — со смехом ответил он, когда я убеждал его все-таки отнести документы на эту фабрику больших успехов.
Теперь мы встречались обычно в кафе — в свободное время или в обеденный перерыв. Он познакомил меня со своими новыми друзьями, а я его со своими. Живая, думающая молодежь, брызжущая идеями об устройстве общества, экономики, политики. Мы часами сидели в ближайшем кафе или в общежитии, перекраивали мир, обменивались мнениями и воодушевлялись надеждами. И в праздниках мы тоже себе не отказывали.
Университет Лион-2 известен как левый. О чем это говорит? О наших политических симпатиях, о том, что мы гуманисты и с детским простодушием не желаем знать ни о какой розни — ни национальной, ни религиозной. Мы носим с собой «Либерасьон», одеваемся, как хиппи, говорим друг другу «ты», внимательно выслушиваем собеседника и не вынимаем изо рта сигареты.
Да, в эти годы закатывающегося жискаризма[59] студенты с левыми взглядами, ожидая «последнего и решительного», накопили немало стереотипов. Я соблюдал все, роль мне нравилась.
Я больше не был евреем, не был марокканцем, я был французским студентом-социалистом, участником мощного движения, ратующего за большее равноправие в обществе.
Трудное положение моей семьи помогало мне сжиться с этой ролью.
Дома у нас не становилось легче. Папа по-прежнему перебивался мелкими заработками. Мама не могла примириться с нашей бедностью и впала в депрессию. Мне трудно было сидеть и спокойно заниматься в такой обстановке. Большую часть свободного времени я проводил в университетской библиотеке или еще где-нибудь и возвращался домой поздно вечером, когда все уже спали.
Больше всего мне хотелось снять квартиру, где я мог бы спокойно заниматься, устраивать для друзей вечеринки, принимать подружек. Но откуда взять деньги? Я обсудил проблему с Муниром, и мы пришли к выводу, что нам нужно поселиться вместе. Мы всегда любили с ним помечтать, и наши мечты обычно заканчивались взрывами смеха и похлопываниями по плечу. До дела не доходило. Мечты не становились явью. Да и могло ли быть иначе? Родители Мунира никогда бы не согласились предоставить ему такую самостоятельность. Больше того, они почувствовали бы себя глубоко обиженными. По восточной традиции, сын уходит из дома только после женитьбы. Да и мои родители отнеслись бы к моему решению примерно так же. Но, возможно, смягчились бы, знай они точно, что квартира мне нужна, чтобы лучше заниматься.
Мунир
Учиться сразу на двух факультетах означает, что у тебя очень много работы и очень мало свободного времени. Может быть, я переоценил свои силы? Надо было бы выбрать какой-нибудь один? Экономику я выбрал из практических соображений — больше возможностей найти работу. Социология меня интересовала всерьез. Возможность анализировать изменения общества несла в себе что-то успокоительное. Проблема иммиграции не сводилась больше к копилке личных историй, бед, надежд, конфликтов и неудач, она была темой исследования ученых, желавших вникнуть в ее смысл, узнать динамику, чтобы написать о ней правду, обозначить границы, логику развития, будущие горизонты.
И еще я выбрал два факультета из-за своих комплексов, я иммигрант, мне нужно работать в два раза больше, чтобы иметь шанс на успех. Успех? А на какой успех я мог рассчитывать? В своих самых-самых сокровенных мечтах я видел себя преподавателем лицея, меня уважают ученики, у меня обеспеченная, налаженная жизнь — жена, двое детей. И я могу помочь своим детям подняться еще на несколько ступенек по социальной лестнице, у подножия которой мы все толпимся. В совсем уж безумных снах я видел себя преподавателем университета, уважаемым профессором, известным ученым. Все может быть. Все? Мне бы хотелось так думать, даже если жизнь постоянно возвращает меня к невеселой реальности: положению сына иммигранта.
Мне дали степендию. Деньги небольшие, но они много для меня значат. Франция словно бы признала меня, ободрила: давай, мол, продолжай. Дала понять, что верит в мой успех. И я почувствовал за себя гордость. Детство, да? Очень может быть, но мне-то какая разница? Я испытываю благодарность. И мои родители тоже.
Они не очень понимают, чем я занимаюсь, и питают ко мне уважение куда большее, чем я заслуживаю. Когда я сажусь заниматься, стараются не шуметь, свято веря, что малейший шум может помешать мне сосредоточиться. Сколько я ни твержу, что давно научился работать при любом шуме, дома меня окружает благоговейная тишина. Чтобы не слишком досаждать своим домашним, я ухожу работать в университетскую библиотеку. И там мы встречаемся с Рафаэлем. Если встречаемся. Он не такой усидчивый, как я. Мне кажется, он поддался соблазну веселой студенческой жизни и не слишком заботится о будущем. А может, пытается убежать от не слишком веселого настоящего, в котором оказался вместе с родителями. Несколько месяцев тому назад он рассказал мне о том, как они живут, и я, признаюсь, огорчился и… удивился. Несмотря на то что я учусь научному подходу, пытаюсь исследовать общество с помощью цифр и фактов, которые должны дать правдивую картину, сам я оказался в плену дурацких клише. Удивился, что совсем не все евреи богаты. А мне-то казалось, что пусть даже не богатые, но никто из них понятия не имеет, что такое кризис.
В общем, мне еще учиться и учиться.
13. Взрыв
Рафаэль
Октябрь 1980
Помрачение, тошнота. Эмоциональный передоз. Слишком быстрый переход от радости к боли, от беззаботного веселья к грызущей тревоге. Мне хочется заорать, зарыдать, выскочить на улицу и драться. С кем?
Сегодня Симхат-Тора, праздник Торы, праздник радости. В синагогах не протолкнуться. Евреи приходят всей семьей со свитками Торы в руках, чтобы в кругу танцевать с ними. Мужчины, женщины, дети — все поют, танцуют, хлопают в ладоши. Свитки переходят из рук в руки, их целуют, поднимают, показывают друг другу в память о Моисее, который спустился с горы Синай три тысячи пятьсот лет назад. Мы празднуем великое событие в истории нашего народа: нам была дарована Тора. Ребятишки порой не хотят идти в синагогу, им скучно слушать нескончаемые непонятные молитвы, странное пение, которое ничего им не говорит, но в этот день они бегают по синагоге в полном восторге и ловят конфеты, которые бросают им матери с балкона, отведенного для женщин.
Я поднял голову и нашел глазами Сесиль. Да, Сесиль, моя гойка, тоже сидела на балконе в толпе евреек, она была немного растеряна и отвечала улыбками на любопытные или подозрительные взгляды соседок. «Слишком светловолосая, слишком белокожая, слишком растерянная, вряд ли она из нашей общины, — наверное, думали они. — Может, познакомить ее с моим сыном…»
Я предложил Сесиль пойти со мной на праздник просто так, ни о чем особенно не думая. Она согласилась с радостью, поняв, что я приоткрываю перед ней завесу, прячущую нечто, очень для меня существенное, к чему до сих пор она имела только косвенное отношение. И теперь я, стоя внизу и хлопая в такт пению в ладоши, раздумывал, какой же все-таки тайный смысл был в моем приглашении? Чего я ждал от присутствия Сесиль на празднике. Выбор праздника вряд ли был случайным. Танцы, радостные напевы, мистический экстаз — наверное, я хотел, чтобы она увидела праздничный облик тех, с кем я чувствовал себя связанным, не считая при этом, что нахожусь в подчинении.
Я смотрел на Сесиль, на ее застенчивую улыбку, на большие удивленные глаза, и она казалась мне такой красавицей, таким чудом среди чернявых смуглянок. Ее очевидная на всех непохожесть светилась, как ореол, и у меня невольно сжималось сердце. От любви или от сострадания? Меня привлекло ее сияние? Или мне не по душе мои смуглые землячки? Нет, нет, своих земляков, единоверцев, я очень люблю вопреки всем их недостаткам. Недостатки недостатками, но я знаю, сколько в них сердечности и щедрости, сколько незаживающих ран, сколько боли. И мне хочется, чтобы Сесиль их тоже полюбила. Почему? Наверное, потому что они часть меня, та часть, за которую я не хочу краснеть.
Внезапно в синагогу вбежал мужчина. Он высоко поднял руки и казался в куда большем возбуждении, чем те, кто плясал вокруг. Он закричал, и все повернулись к нему. Нам на секунду показалось, что он в экстазе радости. Но стоявшие к нему ближе, слышавшие его слова, застыли в ужасе. Испуганные голоса зазвучали громче, громче, перекрывая все еще звучавшее пение, и наконец совсем его заглушили. Теперь стали слышаться только крики. Мужчины обняли головы руками. Те, кто вроде меня так ничего и не расслышал, задавали вопросы. Новость, обегая собравшихся, дошла и до нас. Настала и моя очередь передавать ее дальше. «Покушение… в синагоге… в Париже… убитые… бомбой… Кто?.. Когда?.. За что?..»
Крики. Восклицания. Слезы.
«Не может быть!» «Господи! Господи!» «Только не здесь!» «Выходите!» «Спасайтесь!» «Это крайне правые!» «Нет, это палестинцы!»
Никто не трогается с места. Свитки Торы тоже замерли, они больше не танцуют. Кто-то предложил положить их снова в ларец. Кто-то не согласен.
Синагогальный староста взял слово:
— Мы только что узнали, что в Париже, на улице Коперника, был совершен терракт. Бомба разорвалась в синагоге. Очевидно, есть убитые и раненые. Больше пока мы ничего не знаем. Мы просим вас не выходить за пределы синагоги, пока ответственными лицами не будут осмотрены прилегающие кварталы. Затем мы все спокойно, без паники выйдем.
В ответ люди снова зашумели. Они пытались понять, насколько рискованно оставаться здесь, в священном для нас доме. Раввин мгновенно покончил с дискуссиями.
— Сейчас мы помолимся за наших братьев и сестер, ставших жертвами совершенного варварства, — объявил он громко и властно. — Совершившие это преступление метили нам в сердце, в сердце нашей веры. Покажем им, что мы не опустим головы. Ответим им нашей молитвой.
Голос раввина, его речь разрядили гнетущую атмосферу. Он начал молиться, молился истово, и верующие отвечали ему с такой же истовостью. Каждый «аминь» звучал как требование, вопль возмущения, удар кулаком в лицо агрессора. Толпа молящихся была охвачена смятением. Упование, ненависть и страх сливались воедино. Точно так же было в праздник Йом-Кипур, когда началась война.
Я поднял глаза и посмотрел на балкон, где сидели женщины. Многие из них плакали. Многие молились. Многие молились и плакали. Я смотрел на Сесиль, она оказалась в сердцевине чужого горя, но понимала его глубину, его причины. Трагическую суть нашей истории бросили ей прямо в лицо. Она оказалась среди нас, с нами, в горе и плаче. Ее прекрасные глаза смотрели на меня, ища ответа, подсказки. Я мог ответить только печальной улыбкой. Может быть, и она стоит у подножия горы Синай. Все евреи стоят у ее подножия. Те, кто уже родился, и те, кто еще родятся. Миллионы и миллионы. Но живут на земле всего шестьсот тысяч. И если кто-то из них страдает, другие плачут и молятся.
Мунир
Мир сошел с ума. Бросить бомбу перед синагогой. Дети, женщины, мужчины пришли туда молиться. Какое чудовище могло задумать такое зверство, готовить его, представляя последствия?.. Воюют с солдатами, нельзя убивать беззащитных.
Все только и говорили что о взрыве. Не сомневались, что виноваты террористы. Но почему они молчат? Не заявляют о себе?
Имам наметил позицию.
«Он сказал, что это постыдное преступление. И если его совершили в самом деле мусульмане, то это плохие мусульмане. И мы должны молиться за погибших», — так сказал папа, вернувшись из мечети.
Конечно, проповедь имама была глубже, сложнее, но папа остановился на главном, что успокаивало его совесть и не затрагивало веру.
Под влиянием друзей отец вот уже несколько месяцев каждую пятницу ходил молиться в мечеть.
В квартале все были потрясены и полны сочувствия, хотя порой и раздавались другие мнения, от тех, кто считал всех евреев своими врагами. Но такие мгновенно затыкались, встречая красноречивые взгляды и повисавшее в воздухе молчание. Все были убеждены, что взрыв — дело рук ультраправых. Мусульмане не могли бы осквернить места культа. Конечно, хорошо бы так и было, — чтобы преступление совершили фашисты, общие для всех нас враги. Но, по моему мнению, никакая борьба, никакое противостояние не оправдывает посягательства на жизнь ни в чем не повинных. Да, так я считаю. И буду считать всегда.
Я позвонил Рафаэлю. Он был страшно подавлен. Что за нити связывают между собой евреев, если они так переживают даже за далеких, совершенно незнакомых? Может быть, потому что чувствуют себя следующей возможной жертвой? Не только. Они действительно болеют за своих.
Рафаэль заговорил о Сесиль, сказал, что она в шоке.
Я позвонил Сесиль.
— Знаешь, это все было ужасно. Люди танцевали, пели, смеялись. И потом сразу слезы и молитвы…
— Да, могу себе представить.
— Поверишь? На несколько минут я почувствовала себя еврейкой.
Я растерялся и не знал даже, что сказать.
— На демонстрацию пойдешь? — не дав мне опомниться, спросила Сесиль.
Рафаэль
Вот уже полчаса толпа стояла, ждала, тая в себе пламя гнева. Гнев тлел в каждом из нас, мы были единым целым, мы не желали, чтобы подобные преступления повторялись. Никогда. Нигде. Ни в Париже на улице Коперника, ни в каком другом месте.
Крик рвался у меня из груди, но я чувствовал: крик — нарушение тайны исповеди, закричать — значит вывернуть себя наизнанку. Он расскажет не только о моем возмущении. Он откроет мои детские ночные кошмары, мои слезы о судьбе единоверцев, мое непонимание, как возникла, как угнездилась в душах такая ненависть, неколебимая на протяжении веков.
Мы должны были выйти все на улицу давным-давно. Как только произошло первое убийство, появился первый раб, первый диктатор, первый геноцид, первый террорист. Мы должны были протестовать, осуждать, негодовать. Мы не должны были молчать. Мы должны были быть против.
А теперь? Не демонстрации меняют лицо мира. В мае 68-го казалось, что люди, собравшись вместе, способны изменить установившийся порядок, предложить иное устройство общества, но весеннее буйство кончилось, и все разошлись по домам, взялись за привычную работу, смирились, согласившись и дальше жить со своими фрустрациями. Революционеры оказались компанией художников, расписавших стены незабываемыми словами.
В колонне, что двигалась по улицам Лиона, у меня оказалось немало знакомых. Одних я встречал по воскресеньям в синагоге, с другими учился в лицее, третьи были детьми папиных и маминых друзей. Мунир шел рядом со мной. На него поглядывали. Смотрели и тепло тоже, улыбались, словно бы говоря «спасибо», «спасибо, что ты здесь». Я чувствовал, как он взволнован. Сесиль взяла меня за руку. Ей хотелось, чтобы все видели ее сочувствие. Трое детей впервые вышли на подмостки в драме.
Я-то ведь на самом деле не пострадал. Не я же был на улице Коперника. Принимая слова сочувствия, я в некотором смысле становлюсь как бы самозванцем. Но почему мне все-таки впору костюм, который скроила для нас история? Хотя мои бабушка с дедушкой даже не подозревали о лагерях, а прадеды не слышали о погромах, тем не менее неизбежность мук и страданий у меня в крови. Время стерло зловещую фигуру Изабеллы Католички[60], ее сестер и собратьев по ненависти, но я принял наследство родовых страданий.
Манифестанты зашагали вперед.
А мне захотелось вернуться домой.
Мунир
Беспорядки впервые возникли в нашем бывшем квартале. В 1976 году они стали вспыхивать и в других местах, взбудоражив СМИ и все население Франции. Франция открыла для себя правду, о которой подозревала, но которой не хотела смотреть в глаза.
С моей точки зрения, эти столкновения были судорогами общества, находящегося в агонии.
— Слышали?! — торопливо спросил Лагдар, усаживаясь на одну из скамеек, окружавших пожухший газон. — Полыхает в Оливье-де-Серр.
— Да, мы в курсе, — отозвался я. — Об этом статья в «Прогресс».
— Покажи-ка, — попросил он, выхватил у меня газету и радостно воскликнул: — Черт! Они сожгли машины, дрались с полицией!
Молодежь предместий считала эти стычки проявлением отваги. Возмущением против несправедливости.
А у меня, если говорить откровенно, сжималось сердце. Речь шла о квартале, где я когда-то жил, о наверняка знакомых мне парнях, которых сейчас называли хулиганьем, шпаной, преступным элементом. Когда мы оттуда уехали, квартал уже не пользовался доброй славой. Потом его репутация только ухудшилась. Как, собственно, и условия жизни — они тоже стали намного хуже. Кроме столкновений между алжирцами — пье-нуары продолжали воевать с харки, — стычки возникали из-за территорий, сфер влияния. Их оберегали от любых посягательств — соседних банд, полицейских, чиновников и просто прохожих.
— Сейчас беспорядки в Симионе? — сказал Фаруз. — Ты, кажется, оттуда переехал, Мунир? Или я ошибаюсь?
— Ошибаешься, я из Касабланки, — отозвался я, не желая продолжать разговор, который неизбежно погрузит меня в тоску.
— Черт побери! Это у вас, марокканцев, такой юмор? — усмехнулся Фаруз.
— А несколько лет тому назад полыхало в Грапиньер, — вспомнил Лагдар.
— Однажды полыхнет повсюду, — предрек Фаруз. — Все, кому надоели унижения, возьмутся за ножи.
— Мы попали в привилегированные. Сумели окончить лицей, а остальные прозябают в техучилищах, осваивают самые невыгодные профессии. Ты араб? Твои родители приехали сюда на готовенькое? Ну так отправляйся в котельную, к станку, или бери метлу, мети улицы.
— Потому-то нам и нужно попотеть, парни! Попотеть и получить диплом. Показать, что мы здесь не затем, чтобы делать за них грязную работу!
Любой молодежи — из предместья, не из предместья — хочется показать себя. Кое у кого нет другой возможности, кроме как задираться и устраивать стычки. Другие вкладываются в учебу. Мы оказались из этого меньшинства и гордились этим.
Но я не обольщаюсь, потому что прекрасно знаю, что все трудности еще впереди. Дипломы не изменят наших лиц, нашего происхождения. Квартал, предместье, станут и для нас, как для наших товарищей, ловушкой. Мы будем сидеть там, словно пленники, обреченные на бесконечное ожидание, и, только покалечив себя, сможем оттуда выбраться. Фаруз не ошибается: все, что происходит там, покатится дальше, разойдется повсюду. Ученье не выход. То, что можно избавиться от проблем, переведя «опасные элементы» на запасной путь, — иллюзия. После того как французы уехали из предместий, те стали своего рода гетто, где арабская молодежь гноит свои надежды и мечты.
Причины всего этого? Экономический кризис, который обрек кормильцев на безработицу; родители, которые позволяют улице воспитывать своих детей; нетерпимость французов ко всему, что напоминает им о поражении в Алжире; грубые полицейские, которые любят унижать; отсутствие развлечений в кварталах; школа, которая пытается причесать всех под одну гребенку; иные культурные ценности, органично присущие иммигрантам…
Да этих причин столько — начни их перечислять, и сразу станет ясно, что решения не найти…
Рафаэль
Игра называлась «Любовь властелина». Ее основное правило: верить как можно дольше, что любовь способна преодолеть все препятствия. А потом увидеть только препятствия, и избавиться от любви.
Роман Альбера Коэна[61] стал культовым среди еврейской молодежи, жаждавшей абсолютной любви. Во всяком случае, среди тех, кто любил читать. Каждый казался себе Солалем и видел в возлюбленной Ариану. Разумеется, мы не понимали всей значимости этой книги, сведя ее всего лишь к романтической истории. Но как бы там ни было, мы проживали описанные в ней стадии, подверстывали под книгу свою жизнь.
Мы с Сесиль тоже играли в эту игру. Но сегодня вечером игра закончится.
Не лучший конец для романа, полного чувств.
Я уже не первый месяц искал верные слова, чтобы написать в нем последние строчки. И вынужден был смириться: хеппи-энда не получалось.
Какое-то время я любил Сесиль. Потом я стал любить нашу с ней историю любви. Мне нравилось играть в Солаля, который нарушает закон, испытывая чувство вины. Но исчерпались и эти чувства, и мне стало невыносимо видеть, как страдает Сесиль. Ведь на самом деле я не был Солалем, у меня не было ни его отваги, ни его жестокости.
Сегодня вечером я поговорю с Сесиль. Скажу ей: «Давай все изменим. Порыв, который нес нас в будущее, исчез. Остались нежность, милые сердцу воспоминания о трудных или радостных минутах. Мы давно с тобой стали друзьями, но не хотим этого признать. И если честно, меня держит совсем не благородное чувство: я боюсь увидеть тебя счастливой с другим. Согласись, это очень эгоистично и глупо…»
Так я начну. А потом, как у меня всегда бывает, слова польются сами.
Мучительнее всего для меня в моем решении то, что я не знаю: какая из причин для разрыва для меня главная. Религиозная? То, что Сесиль не еврейка? Поначалу для меня это было серьезным стимулом, я ринулся на завоевание. А теперь? Неужели главная причина для разрыва?
Нет. У меня прошла влюбленность, в этом все дело. Я люблю быть с Сесиль, мне нравится, как она на меня смотрит, я люблю ее белоснежную кожу, нежные губы. Она такая ласковая и так уверенно смотрит в будущее. Мне нравится идти с ней рядом, я горжусь ее такой французской красотой, которая избавила бы меня от трудных потуг прижиться в чужеродном обществе.
Я мог бы вплыть в это облако и расположиться, как на пуховой перине, на всю жизнь.
Но я не хочу удобства! Не хочу слиться с окружающим, истаяв в любовной нежности… Без веры, без религии. Напротив, я хочу почувствовать составляющие моего естества, понять, что связывает меня с прошлым, найти нити, которые потянутся в будущее. Хочу чувствовать постоянное напряжение социума, чтобы неустанно работал мозг. Уверен ли я, что непременно добьюсь успеха? Нет, не уверен. Пока я только нащупываю слова, стараясь выразить свои мысли, ищу себе оправданий, корю себя, обвиняю, защищаюсь… Но я точно знаю, что мне необходимо оборвать то, что стало прошлым, и трудиться над возможностями для совершенно иного будущего.
14. Надежда на перемены
Рафаэль
Май 1981
«5, 4, 3…»
Внизу экрана появляется лысая макушка.
— Черт! Это Жискар!
«2, 1»
— Да нет! Погоди! Это… Это…
Наконец вырастает целиком лицо. Жан-Пьер Элькабах и Этьен Мужот освобождают нас от сомнений.
— Франсуа Миттеран избран президентом Республики.
Радостные вопли. Хором. Взрывом. На стене закачались тени, мы все вскочили в едином порыве. Мощная волна, взметнувшаяся вверх. Бар, в котором мы дожидались результатов президентских выборов, полон восторженного кипения, готового выйти из берегов. Какой-то незнакомец обнимает меня, и я обнимаю кого-то незнакомого. Женщина берет меня за руку, тащит в беспорядочный хоровод, и вот мы все — женщины, мужчины — уже пляшем, что-то выкрикиваем, целуемся, у кого-то на глазах слезы. Никогда не думал, что возможно всем вместе испытать такое счастье!
«Победили! Победили!»
Мунир целует меня в щеки. Я хватаю его за плечи, и мы прыгаем вместе, как фанаты победившей футбольной команды.
— Победили! Победили!
Мы кричим, хохочем, мы в эйфории.
Мунир наклоняется ко мне и шепчет на ухо, словно доверяя секрет. На лбу у него блестят капельки пота.
— Все изменится, друг. Вот увидишь, все изменится!
Каким взглядом он на меня смотрит! С надеждой и со слезами.
Он обнимает меня. Прижимает к себе. Крепко-крепко.
Мы переживаем исторический момент. Мы в сердцевине истории.
Мы сами история.
Мунир
Теперь мы все пляшем уже на улице. Классный день десятое мая! Мы все граждане, и мы все счастливы. Мы одно, мы забыли о беззакониях и обманутых надеждах, мы по-детски поверили в новый счастливый мир. Наша безудержная радость — свидетельство желания жить именно здесь. Жить именно теперь. Жить совсем по-другому.
Я танцую вместе с женщинами — белыми, черными, смуглыми, блондинками, брюнетками, вместе с мужчинами, с молодежью, со стариками. Нет евреев, нет арабов, нет черных. Есть люди, снова достойные уважения. Какое счастье! Какое удивительное чувство свободы! Улица наша. Город наш. И скоро нашим будет весь мир.
Мы уселись на тротуар, держа в руках бутылку шипучего. Кстати, кто нам дал эту бутылку?
С блаженной улыбкой мы следим глазами за толпой, летящей куда-то в экстатическом трансе.
Мы любим всех, искренне, от души любим каждого. Любим мир, который раскрыл нам свои объятия. Нам еще нет и двадцати, и впереди у нас столько дел!
Мы с Рафаэлем сидим, обнявшись, как дети малые. Мы с ним друзья, теперь и навсегда. Мы с ним одно, нас объединила надежда.
— Все изменится, друг. Вот увидишь, все изменится.
Часть 3 Истоки ненависти Год 1980
Рафаэль
Истоки ненависти…
Ненависть между евреями и мусульманами черпает недобрую силу в сложном переплетении библейской истории, исторических фактов, борьбы за власть, предрассудков.
Кто-то, возможно, объясняя единодушие в отторжении друг друга, назовет как главную причину религию и напомнит о борьбе двух братьев, Израиля и Исмаила.
Другие вспомнят перипетии политической истории своих родных стран, вынужденный или добровольный отъезд, наследственные обиды.
Третьим вообще не нужно будет обоснование, четвертые станут опровергать любые.
Лично я предпочитаю опираться на близлежащие события, которым был свидетелем я сам. На основании этих событий я хочу понять, как случилось, что арабы и евреи оказались во враждебных лагерях.
И если говорить о начале этого расхождения во Франции, то я бы начал с лета 1982 года.
15. Сторонник или наблюдатель со стороны
Рафаэль
Июнь 1982
Первые сообщения о вторжении Израиля в Ливан повергли нас в недоумение и смятение. Сердце и разум вступили в борьбу. Доводы против чувств. Все смешалось: страх, непонимание, недоверие к СМИ, желание найти опору.
— Израильтяне правы, — заявил Давид. — Юг Ливана нужно освободить от террористов.
— Точно, — поддержал его Мишель, — очистить Ливан и покончить с Арафатом.
— Вы ошибаетесь, друзья, — возразил им Марк. — В тех же целях можно было действовать совсем по-другому. Мне очень не нравится, что военные действия развернул Израиль. Вот увидите, все вокруг ополчатся на нас.
Марк в нашей маленькой компании считался главным мудрецом. Он старше нас года на два, кончал юрфак, интересовался всем без исключения. Мы с ним познакомились на одной вечеринке и сразу подпали под его обаяние.
— Мнение мировой общественности? — сразу воспламенился Давид. — Да плевать на эту мировую общественность! Дурацкое словосочетание, и ничего больше! Кто ее представляет, эту мировую общественность?
Агрессивность Давида удивила Марка. Он не любил словесных поединков на повышенных тонах. По его мнению, запал — плохой советчик. Он предпочел оставить выпад без ответа. Ободренный его молчанием, Давид продолжал:
— Да, я спрашиваю, кто? Народы? Государства? Журналисты? Или, может быть, высшие силы, способные отличить добро от зла? Или администрация западных компаний? Тех, которые во время войны обеспечивали порядок на железной дороге, ведущей в Освенцим? Они не взрывали мосты и рельсы, хотя могли бы спасти десятки тысяч евреев!
— Ты валишь все в одну кучу, — остановил его Марк.
— Ничего подобного! Мы не можем доверять, а тем более уважать те страны, которые позволили убивать нас тысячами. И это главный принцип, на котором базируется израильская дипломатия. Если ты этого не понял, ты не понял ничего! Все решения диктуются только одним: безопасностью страны.
— Давид прав, — поддержал его Мишель.
— Нашей общей заботой должна стать безопасность Израиля.
— Его безопасность — это и наша безопасность, — прибавил Давид. — Чем мы станем, если не будет Израиля?
— Тем, чем стали: французами. — Мое замечание прозвучало провокационно, но я сказал то, что думал. Израиль был моей любовью, но чувствовал я себя французом. И хотел, чтобы мои друзья заметили специфику своих национальных чувств: они провозглашали себя израильтянами, но спокойно жили во Франции.
Давид разразился саркастическим хохотом.
— Французами? Такими же, каких власти передавали в руки немцев? Они тоже были французами. И верили, что это их страна и она их защищает! Защищает полиция, армия, сограждане.
Давид прекрасно знал, что любое упоминание об этом темном периоде истории сразу вносит в разговор осложнения, напрягает его, утяжеляет. Холокост, сионизм, антисемитизм, израильтяне, евреи, французы… Мы еще не умели ловко жонглировать этими понятиями, но в наших смятенных душах все они находили отклик.
— Не знаю, как вы можете быть столь категоричными в таком сложном вопросе, — продолжал я. — Признаюсь честно: лично я ничего не знаю. Не знаю, что думать об этой войне. Не знаю, имею ли я право вообще о ней думать. Какие у меня есть факты, какая информация, чтобы судить о том, что там происходит? Ты, Давид, обращаешься к истории, чтобы все объяснить и все оправдать. Я могу тебя отчасти понять, но большого толка в этом не вижу. Лично я в первую очередь размышляю. И не приписываю Израилю безоглядную правоту. Я говорю себе: если Бегин принял такое решение, значит, у него есть на это серьезные основания. Я осмеливаюсь верить, что он не рискует молодыми жизнями ради собственных амбиций или ради того, чтобы израильтянам севера жилось спокойнее. И размышляя о том, что сейчас происходит в Израиле, я должен сказать: я чувствую себя французом. И не понимаю, как можно говорить «мы», отождествляя себя с израильтянами. «Вы» не воюете. «Они» воюют. «Вы» не рискуете быть разорванными бомбой. «Они» рискуют. И если «мы» израильтяне, то пакуйте чемодан и отправляйтесь служить три года в израильской армии. Израильтянами становятся не летом в Тель-Авиве, сидя на террасе кафе за фалафелем и хумусом!
Я говорил напористо, маскируя убежденностью свою неуверенность и сомнения. Задетые за живое, Давид и Мишель тут же вскинулись.
— Я согласен с Рафаэлем, — сказал Марк.
— Меня это не удивляет, — буркнул Давид. — Но жить за пределами Израиля не означает, что нельзя иметь своего мнения.
— Мнение должно опираться на факты, на точную информацию. У меня явно не хватает ни того, ни другого, чтобы составить мнение. Не собираюсь слепо поддерживать израильское правительство только потому, что оно израильское. Я предпочитаю сохранять здравомыслие.
Я смотрел по телевизору новости, и недоумение сменялось недоверием, исчезала растерянность, вспыхивал гнев.
Поначалу картинки и комментарии меня подавляли. Я верил журналистам, потому что они были журналистами. Действия израильской армии меня огорчали, а иногда повергали в отчаяние.
Но потом озлобление СМИ стало настораживать. Израиль повсюду, Израиль постоянно, по всем каналам, во всех газетах. Можно было подумать, что крошечная страна — эпицентр землетрясения, и толчки негодования, вызываемого ею, вот-вот погубят весь мир. Как? Израиль? Крошечная точка на земном шаре? Нет. Клякса на карте.
Во мне снова заработал критик.
Журналисты зашли слишком далеко: они выдают за истину непроверенные подковерные мотивы. В результате мы из инстинкта самосохранения встали на сторону Израиля.
Обличения и уличения Израиля в неправоте не убедили меня в правоте палестинцев. Напротив, принятый журналистами тон сначала угнетал меня, а потом стал возмущать. Все обличения касались меня, целили в меня. Почему, каким образом, я не мог сказать, я так чувствовал.
А потом резня в Сабре и Шатиле[62]. На экране трупы женщин и детей на улицах. Единодушное осуждение Израиля и Ариэля Шарона. Суровые приговоры, душераздирающие фотографии. Но я не верил в виновность еврейского государства. И когда виновными были признаны ливанские фалангисты, я испытал чувство глубокого удовлетворения.
— И все же я не понимаю, — тихо проговорил Марк, мешая ложечкой кофе. — Все это… выводит из равновесия.
— Не смешите меня! Для вас что, антисемитизм французов — открытие? — возмутился Давид. — Они презирают Израиль, презирают евреев. До поры до времени они сидели и помалкивали, а как только представилась возможность, дали себе волю!
— Ты всерьез думаешь, что статьи пишут журналисты-антисемиты?
Мне не нравилось, когда Давида заносило. Но в этот миг я нуждался в определенности. Мне хотелось избавиться от разъедавших меня сомнений.
— Скажи, они говорили таким ядовитым тоном, когда речь шла о войне в Камбодже? Или когда ливанцы дрались между собой? Кто-то назвал варварством действия французской армии в Алжире? Так что? Ты не понимаешь, откуда их теперешняя агрессия?
— Один парень, я имею в виду, философ, сказал: «Если жертвы — дикари, их убийцы невиновны». — Марк, сосредоточившись, выдал очередной афоризм.
Мы замолчали, задумавшись.
— Я не понял, — наконец признался Давид. — Философы, они и есть философы. Выдадут убойную сентенцию, а ты бери бумагу, ручку и принимайся за диссертацию.
Марк улыбнулся, передернув плечами.
— Суть в том, что, называя евреев варварами, французы снимают с себя вину за то, что не помогали им во время Второй мировой. Усек? В общем, если потенциальные дикари погибли в газовых камерах…
Давид мгновенно включился:
— Да, понял. Но я тебя поправлю. Речь не о том, что не помогали, а о том, что на евреев доносили, отдавали их в руки нацистов.
— Мысль мне кажется здравой, — продолжил Марк, — но она внушает беспокойство. Здравой, потому что объясняет происходящее. А внушает беспокойство, потому что мы живем во Франции.
Разговор причинял мне боль, хоть я и не понимал, по какой причине. Я попытался возразить:
— Мне кажется, вы преувеличиваете. Наша привязанность к Израилю, привычка считать ЦАХАЛ[63] армией героев обостряет восприятие…
— То есть?
— Мы становимся обостренно чувствительными. На самом деле люди имеют право критиковать Израиль, считать его неправым. Но для нас это неприемлемо. Мы хотели бы, чтобы Израиль всегда был образцом демократии, оставался нашей гордостью, был образцом для всего мира.
— Ты хочешь сказать, что мы необъективны? — осведомился сердито Давид.
— Разумеется, необъективны, — тут же признал Марк. — Мы на стороне Израиля.
— Ты считаешь, что замечать ненависть французов к евреям — значит быть сторонником Израиля? Замечать, как набирают силу нацики, увеличивается число антисемитских акций и как теперь разнуздалось общественное мнение…
— Ты всегда все валишь в одну кучу. Общественное мнение? Но журналюги еще не все общество. Да, антисемитские выходки случаются, но совершают их иностранцы, и общественное мнение их не одобряет. Ты путаешь внутренние проблемы Франции и проблемы, связанные с политикой Израиля. И сама эта путаница говорит, что ты лицо заинтересованное.
— Мне жаль, но я еврей и француз одновременно, — кивнул Давид. — Для меня все взаимосвязано. Ненависть к евреям принимает самые разные формы — вот и все. И я знаю одно: в такие минуты я себя не чувствую французом. Евреем, ибо ему угрожают. Сионистом, ибо он под угрозой.
— Ну так собирай чемодан и покупай билет в Израиль.
— Я совершенно серьезно об этом думаю. Если Франции нельзя больше доверять, то единственный выход — ехать в Израиль.
Убежденность, с какой мы вели наши разговоры, была мнимой. В том-то и дело, что мы ни в чем не были уверены. Нас одолевали сомнения. Неуверенность заставляла моих друзей, а порой и меня, занимать крайние позиции.
Возвращаясь в аудитории факультета, которые я теперь посещал все реже, я видел на стенах плакаты, обличающие Израиль. ЦАХАЛ называли виновником всех ужасов этой войны. Среди обвинителей было немало студентов мусульман. Их заинтересованность в этом конфликте, который не имел к ним никакого отношения, удивила меня. Мне захотелось обсудить все это с Муниром, узнать, что он думает.
Мы увиделись с искренней радостью, но я чувствовал: очень скоро она будет отравлена. Мы быстренько пересказали друг другу, как провели каникулы, перемежая рассказы шутками, стараясь вернуть то чувство близости, которым так гордились.
Мы до того обрадовались друг другу, что мне не очень-то захотелось касаться опасной темы. Но я все же решил поговорить с другом напрямую и наедине, мне не хотелось, чтобы эта тема всплыла, когда мы будем сидеть всей компанией.
— Ты в курсе войны в Ливане?
— Само собой.
— Тяжелое дело, согласен?
Мунир кивнул и уставился на стойку кафетерия.
— Все, что там происходит, недостойно еврейского народа, — наконец произнес он.
Меня его мнение задело. Я мгновенно вспыхнул, разозлился. Но сдержался. Как-никак я говорил с другом.
— Что значит «еврейского народа»?
— Разве израильтяне не часть еврейского народа?
— Да, но в данном случае, мне кажется, не стоит так говорить.
— А что, для тебя израильтяне по одну сторону, а евреи по другую? Если так, тем лучше, значит, евреи диаспоры не поддерживают действий израильских солдат. Значит, израильские солдаты неправы. Что и требовалось доказать.
Я понял, что он хочет поссориться, и меня это ранило.
— Как ты думаешь, Мунир, мы можем поговорить, не ссорясь?
Он сразу спохватился.
— Да, конечно. Лучше бы так.
— Объясни, что хотел сказать.
— Я хотел сказать, что все, что творится в Ливане, недостойно народа, пережившего холокост.
— Что ты конкретно имеешь в виду?
— Войну. Сабру и Шатилу.
— Это две совершенно разные вещи. Начнем с войны. Нет человечных войн. Все они грязные и ужасные. Но ты знаешь причины, из-за которых израильская армия вошла в Ливан. Кончилось терпение. Надо было покончить с ливанскими террористами, которые разбойничали на севере Израиля, убивали мирное население.
— Да, таким был благовидный предлог.
— Не надо так говорить. Оправдать террористические акты против мирного населения невозможно.
— Неужели? А Менахем Бегин, премьер-министр Израиля, будучи членом организации Иргун, не занимался терроризмом?
Я тяжело вздохнул, давая понять, что этот довод мне известен.
— Давай дальше, это я знаю.
Мунир, глядя мне в глаза, спросил:
— Ты видел фото Сабры и Шатилы? Что ты об этом думаешь? Только честно.
— Считаешь, мне это все равно? Да, я был в ужасе. Но ты знаешь так же хорошо, как я, что не израильские военные учинили эту резню.
— Они ей способствовали.
— Началось расследование, и скоро мы узнаем, что произошло на самом деле.
— Расследование ведет еврейское государство?
Губы Мунира кривила недобрая усмешка, когда он задавал свой вопрос.
— Израиль — демократическая страна, Мунир. Я доверяю органам правосудия Израиля, они выполнят свой долг. Ты видел, какая там была мощная демонстрация после этих событий? Четыреста тысяч человек вышли на улицу, чтобы выразить негодование. Нельзя топить в грязи страну и весь народ за дела нескольких вояк! А мне кажется, что сейчас именно так и обстоит дело.
Он меня услышал, опустил голову и задумался.
— Знаешь, что мне кажется неправильным в нашем разговоре?
Я смотрел на приятеля, ожидая продолжения.
— Неправильно, что я взял на себя защиту палестинцев, а ты выступаешь адвокатом другой, очень далекой страны. Если это потому, что я мусульманин, а ты иудей, то это неправильно. Не религия должна определять наши позиции.
— Но религия все-таки влияет на наши предпочтения.
— Тогда в один прекрасный день мы станем врагами. Мы должны смотреть на этот конфликт как французы, через общие ценности, и оставаться друзьями.
Мунир говорил разумно. Но возможно ли это для нас?
— Мы с тобой подружились, потому что ты был араб, а я еврей. Значит, мы приняли на себя риск разойтись в один прекрасный день по той же причине.
Он поднял голову и удивленно посмотрел на меня.
— Ты ошибаешься, Рафаэль. Мы подружились, потому что оба были из Марокко. Два оробевших марокканца в школьных халатиках среди целого класса французов.
Я невольно улыбнулся, припомнив первые школьные дни.
— Но мы вместе выстаивали против тех, кто ненавидел евреев и арабов. И эта борьба укрепила нашу дружбу.
— Мы хотели стать французами, какими были все остальные.
— И мы дорожили своей принадлежностью к своему народу. Когда я читаю статьи об израильской войне, я чувствую угрозу себе как еврею. Французскому еврею.
— Прости, я чего-то не понял.
— Так ты считаешь, что причина негодования журналистов и обычных людей — нарушение справедливости и неуважение гуманистических ценностей?
— Да, я так считаю.
— А вот я в этом сомневаюсь. Так ли они все негодовали по поводу других военных конфликтов? Нет, совсем не так. Но вот речь пошла об Израиле и евреях, к которым французы всегда испытывали неприязнь, не осмеливаясь ее показывать. Появился повод, и они с радостью им воспользовались.
— Не становись параноиком, Рафаэль!
— Расизм приводит к паранойе, это точно. Но в данном случае все очевидно!
— Не знаю… Сесиль говорит, что защищать любые действия израильского правительства значит только вредить себе. Французы начинают смотреть на вас как на израильтян, живущих во Франции.
— Я никогда не называл себя израильтянином. Но я связан с Израилем особой связью, нееврею ее не понять. Большинство из них не видят разницы между евреем и израильтянином. Точно так же, как они не видят разницы между алжирцами, марокканцами, иранцами и другими мусульманами. Ты же помнишь, что в детстве нам попадались люди, которые говорили, что для них евреи и арабы одно и то же.
— Мы с тобой тоже иногда так думали.
Мы переглянулись, снова почувствовав себя союзниками, за спиной у которых живое, общее для нас прошлое.
— И теперь, как видишь, нам удалось поговорить о событиях в Ливане, не поссорившись.
— Постараемся, чтобы так было всегда.
— Да поможет нам Аллах!
— Нет, оставь Аллаха в покое. Все дело в нашей воле и желании.
16. Оставаться самим собой среди своих
Рафаэль
Времена настали тяжелые. Разгул ультраправых во Франции меня удручал. Средства массовой информации были настолько необъективны, что приходилось невольно задумываться, не подспудный ли это антисемитизм, пропитавший своими ядовитыми испарениями все вокруг. Я боролся со своей подозрительностью, убеждал себя, что ничего подобного нет, и все-таки продолжал задаваться вопросом: а что, если отношение большинства израильтян к французам справедливо? Мне хотелось понять: для такого отношения есть реальные основания, или оно плод болезненной фантазии? С основанием или без оснований, но в моем окружении многие замечали, что враждебность к евреям растет. А по телевизору мне показывали, как мои сверстники, на вид немногим взрослее меня, надев форму, отправлялись рисковать жизнью во имя своих идеалов. Я внезапно почувствовал себя смешным и бесполезным. Привычный комфорт, попытки встать на сторону Франции, отвлечь себя высосанными из пальца проблемами — все показалось вдруг противным. Мне захотелось потеснее сблизиться со своими, разобраться в корнях враждебности, обрести уверенность, покой. Хотелось действовать, бороться, сражаться, отстаивать свою национальную принадлежность, чувствовать себя евреем, иудеем. Каким образом? Создать кружок? Молодежную группу? Дискуссионный клуб? Я прислушивался, собирал информацию, искал.
Когда представитель Движения заговорил со мной, я был готов к сотрудничеству.
Мне назначили встречу в кафе, возле Небоскреба, в квартале Виллербан. Точь-в-точь, как в шпионском фильме.
«Приглашаю тебя от имени общего друга. Ищу молодежь, готовую действовать ради общего дела».
Я ответил не сразу. Откуда возник этот тип, не пожелавший назвать свое имя по телефону? Какой такой общий друг? С кем общее дело?
Последний вопрос я и задал.
— Общее для нас всех. Нужно защищать общину от агрессии.
— Каким образом?
— О таких вещах лучше говорить при встрече. Я хотел бы убедиться, что мнение о тебе нашего друга справедливо.
— И что же он сказал?
— Сказал, что тебя заботит сложившаяся ситуация. Что у тебя все в порядке с мозгами, что ты мужественный и серьезный. А ты что на это скажешь?
— Скажу, что говорил мой друг.
Шутка собеседника не развеселила. Судя по всему, он хотел сохранить пафосный тон вкупе с таинственностью. Все вместе мне показалось абсурдом, и я готов был повесить трубку. Но тут он предложил мне встретиться, и я согласился. Почему? У него проскользнуло несколько важных для меня слов, он польстил, говоря о моем недюжинном уме, и мне стало любопытно. И потом мне так хотелось «действовать ради общего дела»!
— У меня в руках будет «Монд», — сказал он. И на этот раз я обошелся без шуток, просто записал время и место встречи. Мы, конечно, узнаем друг друга: в кафе «Де ля Пост» читают «Прогресс» и «Экип».
Так оно и было, я сразу узнал его и подошел. Он, улыбаясь, встал мне навстречу.
— Рафаэль? А я Патрик.
Крепкое рукопожатие. Мы с ним примерно одного роста, у него длинные волосы, квадратный подбородок и широкие плечи. Взгляд острый. При этом он немного рисуется, принимает позы, хочет произвести на меня впечатление.
После неизбежных вежливых фраз, туманного обсуждения перспектив моей учебы, он перешел к разговору по существу:
— Ты знаешь, что наша община стала сейчас жертвой всевозможных наездов.
— Да, знаю.
— И что ты об этом думаешь?
Вопрос показался мне глупым.
— А какого ответа ты ждешь? Мне надо сказать: ах, это очень плохо?
Он удивленно взглянул на меня и продолжил:
— Ладно. Ты прекрасно понимаешь, что на поверхность вылезла верхушка айсберга. Каждый день новый антисемитский выпад. Обижают детей, нападают на синагоги и даже… — Тут он наклонился и прошептал мне на ухо: — … готовилось несколько покушений…
Театр одного актера на меня не действовал. Я не мог понять, то ли он так сжился с любимой ролью спецагента, то ли держит меня за дурака. Но суть нашего разговора имела для меня значение, и я хотел услышать, что он мне предложит.
— А от меня что надо?
Я задал вопрос нарочито грубо. Мне хотелось, чтобы он пропустил страниц двадцать из своего сценария. Он холодно на меня посмотрел.
— Ты согласился бы уделить несколько часов в неделю, чтобы участвовать в охране нашей общины?
— И как ее надо охранять?
— Слушай, не разыгрывай местечкового еврея, который отвечает вопросом на вопрос!
Он явно старался вернуть себе утраченную ключевую позицию.
— Да, я готов потратить несколько часов в неделю на охрану нашей общины. Я ответил на твой вопрос и теперь хочу знать, каким образом нужно будет ее охранять. Имею право? Нет?
Он улыбнулся.
— Мне нравится, что ты такой горячий.
Совсем не нравится. Ему очень трудно было улыбнуться.
— Вообще-то не принято говорить об этом при первой встрече, но я чувствую, тебе можно доверять. И ты понимаешь — никому ни слова.
Игра в секретного агента начала меня раздражать.
А он для вящей внушительности помолчал, хотел, видно, подчеркнуть важность информации, потом сообщил:
— Мы создали группу, взявшую на себя обязательства защищать нашу общину от врагов. Мы тренируемся два раза в неделю, учимся оборонять людей и территорию. Занятия бывают теоретические и практические. Мне сказали, что ты занимался боевыми искусствами.
— Я занимался карате и французским боксом.
Патрик насмешливо улыбнулся.
— Знаешь, что такое крав мага?
— Понятия не имею.
— Искусство самообороны, которое практикуют в израильской армии, — гордо объявил он мне, словно сам был членом действующего отряда. — Состоит из самых эффективных приемов различных боевых школ.
— О какой охране идет речь? Зачем понадобился этот крав… чего-то?
— Мы охраняем синагоги, общественные места, праздники, банкеты, следим за порядком, при необходимости предоставляем сопровождение. Цели у нас самые мирные, но мы должны быть готовы к любой агрессии.
— Ваша группа — это… Бетар?
Патрик снисходительно усмехнулся.
— Бетар, таинственныый и грозный! Можно подумать, что во Франции есть только одна-единственная организация! Бетар — это ответвление крайне правой организации израильтян. Мы вне политики. Но нас устраивает, когда нас принимают за Бетар, нацики его боятся. Нам это позволяет действовать более активно.
— И как же называется ваша организация?
— Мы зовем ее просто «Движение». У нас нет официального статуса, но вся верхушка общины нас знает и обращается к нам за помощью. В полиции тоже известно о нашем существовании. На особо крупных мероприятиях мы даже сотрудничаем.
— Ты говоришь о защите общины? Или о борьбе протии антисемитизма?
Вопрос, похоже, поставил Патрика в тупик.
— Видишь ли, мы группа обороны, мы не борцы. Наша задача — охранять общину, а не искать стычек с нациками. Борется Бетар.
Ответ меня разочаровал. Патрик это мгновенно почувствовал и тут же дал задний ход.
— Но в случае атаки мы всегда готовы ответить!
Он огляделся, проверяя, не услышал ли нас кто-нибудь.
— Я много чего тебе сказал. Что скажешь ты?
— Любопытно.
— Я не спрашиваю твоего мнения. Я спрашиваю, готов ли ты к нам присоединиться? Нас стало слишком мало, чтобы обороняться от нарастающей агрессии, Угроз становится все больше, они все более целенаправленны. Нам нужен такой парень, как ты.
Джеймс Бонд не вызывал у меня большой симпатии. Однако его предложение посветило мне возможностью действовать. И когда я, поколебавшись, все же ответил ему согласием, Патрик просиял. Он пожал мне руку и сказал:
— Освободи вечер вторника. Я приду сюда за тобой в восемь часов. Возьми спортивный костюм. Увидишь, у нас славные ребята и дело стоящее. — Он встал и направился к выходу. Я еще посидел немного, взволнованный и немного растерянный.
Для всех моих приятелей я теперь каждый вторник занимался спортом. И по существу не врал. Два часа крав маги — это круто. Отрабатывали удары, позиции, свирепо боролись друг с другом. Затем лекции по оказанию первой помощи, наведению порядка в толпе, работе на местности. Мы сидели в закрытом помещении с задраенными окнами, задыхаясь от духоты. Никто не должен был нас видеть, знать, что мы тренируемся и существуем. Паранойя? Разумные меры предострожности? Стратегия выживания? Думаю, все три составляющих вместе.
Но вот тренировки закончились, и мы собрались, чтобы выслушать Аллена и Франсуа, наших руководителей. Они были старше нас, очень уверены в себе и говорили с большой убежденностью. Выступление их было пафосным, они напирали на необходимость секретности, твердили о неизбежном риске и опасностях, которые ведомы только им. О самих Аллене и Франсуа говорили, что у них есть информаторы повсюду — в полиции, в самых разных сферах, даже в Израиле. От нас они ждали постоянной боевой готовности и хорошей спортивной формы. Мы должны были усвоить их взгляды, манеру вести себя и говорить, подразумевая тем самым, что мы члены благородного тайного союза. Их театральщина возымела действие, большинству ребят от восемнадцати до двадцати пяти лет — студентам, служащим, продавцам, официантам — она оказалась по душе.
Во время уик-эндов мы охраняли синагоги и всевозможные мероприятия — спортивные, культурные, религиозные, — которые устраивала еврейская община в Лионе. У нас было двое ответственных. Один отвечал за спортивный сектор, второй за организационные вопросы. Наверняка между собой они были знакомы и общались, но мы их знали только по работе и никогда не задавали лишних вопросов. Молчаливая сдержанность была в цене среди членов Движения. Мы льстили себя надеждой, что мы французская секция легендарного Моссада.
Я, конечно, понимал, какими методами нас обрабатывают. Манипуляция была груба до смешного, но мы были убеждены в собственной необходимости. Кое-кто из ребят выслушивал призывы наших руководителей чуть ли не с религиозным благоговением, словно они открывали нам тайны спасения лионских евреев. Простодушие этих ребят меня трогало. Я видел, как они впитывают в себя каждое слово, как расправляют плечи, выпячивают грудь, сжимают кулаки. Опасность приближается? Они на посту, могучие воины, готовые защищать неповинных от свирепых варваров. Мне порой становилось стыдно за ту снисходительность, с какой я смотрел на них. Но кое-что было у нас общим: большинству из нас не хватало понимания, кто же мы такие. Мы искали себя, доходя до невроза. Для нас это была серьезная проблема, и нам необходимо было ее решить. Решить проблему самоутверждения, проблему изоляции, проблему плохо переваренного иудаизма и подавляемого сионизма. Среди нас были, например, ребята, которых община не признавала евреями, так как они родились от смешанных браков. Помогая общине, они как бы завоевывали себе право быть евреями, у них появлялись друзья, которые не задавали им вопросов, принимали их такими, какие они есть, не искали в них того, чего нет.
Движение помогало нам ощутить себя личностями — умелыми и сильными; сближало с религией в ее умеренной и толерантной форме; снабжало политической позицией в виде умеренного сионизма, наделяло верными друзьями-единомышленниками. Движение служило еще и центром социальной адаптации для молодых евреев в период их становления. Я понимал это и не сопротивлялся. Принимал я и стадное послушание моих товарищей, и противоречия «сионизма на французский лад», который ограничивался выражением солидарности с Израилем, но на деле не становился реальной ему поддержкой. Моя собственная противоречивость стала для меня менее болезненной. Я испытывал глубочайшую привязанность к тем, кого стал считать частью своей семьи. Семьи, с которой до сих пор только соприкасался, от которой пытался отдалиться и которую с недавних пор идеализировал. Мне было хорошо в этой семье, мне нравилась ее жертвенность, стремление делать свою работу как можно лучше, ее любовь ко всем остальным.
Движение подарило мне новых, самых близких, друзей — Мишеля, Натана и Дана.
Я был евреем, дружил с евреями, проводил свободное время с евреями. Но по отношению к общине всегда испытывал противоречивые чувства. Поставив себя ей на службу, из вечера в вечер обеспечивая безопасность какого-нибудь праздника или религиозного собрания, я невольно сделался наблюдателем — смотрел, слушал, анализировал. Я видел, как живут мои соплеменники, слышал, что они говорят, становился свидетелем разных поучительных ситуаций.
Наблюдая, я переходил от восхищения к раздражению, от приятия к презрению с той же быстротой, с какой Ле Пен выстреливал своими ксенофобскими заявлениями. Мир евреев — прихотливая галактика, в которой соседствуют такие несовместимые друг с другом идеи и представления об обществе, мире, религии, такие разные лица и такие разные отношения, что невозможно себе представить, будто эти люди могут прийти к согласию, эти крайности могут сгладиться, эти люди стать единым народом. Любой человек, не имеющий отношения к истории евреев, решил бы, что люди, одержимые такими противоречиями, неминуемо должны враждовать. И был бы крайне изумлен, увидев, что эти люди несовместимых взглядов, характеров, устремлений находят общий язык и ухитряются любить друг друга.
Между нами существует особая связь, не поддающаяся рациональному объяснению.
Наблюдая, анализируя, я понял кое-какие важные вещи. И мне кажется, кое-что понял и в моих соплеменниках.
Мне были по душе их сердечность, умение радоваться жизни, любовь к праздникам, чувствительность, готовность поступиться собственными интересами и помочь ближнему, творческая фантазия, безоглядность, предприимчивость, любовь к риску, солидарность, мудрое знание о печалях бытия…
Разумеется, мало кто проявлял всю палитру этих качеств — обычно на поверхности заметно было какое-то одно, а другие таились глубоко внутри, подавленные, невостребованные, ссохшиеся. Или наоборот, они вдруг фонтаном выбивались наружу, потому что под спудом гипертрофированно разрослись.
В таких случаях достоинства из-за отсутствия разумной возможности применения становились недостатками. Раздражающими, трудно переносимыми качествами.
Сердечное участие превращалось в назойливость, жизнерадостность в настырность, любовь к праздникам в хвастливую нескромность, чувствительность в слезливость. Безоглядность оборачивалась безумием, мудрая печаль эгоцентризмом, любовь к риску бесшабашностью, солидарность становилась требованием рабского подчинения.
И я снова начал возмущаться своими соплеменниками. Я упрекал их в том, что они не желают усвоить правила французов, слиться с окружающей средой, в том, что они так неразумны и нерасчетливы, что ведут себя так неосмотрительно.
Почему они так кричат? Какая у них необходимость привлекать к себе внимание, выставлять себя напоказ, вступать в пререкания, требуя себе большего и лучшего? А если так себя ведешь, разве можно ждать от всех любви, уважения и подарков? И разве не глупость гордиться теми, кто открывает дело, ни черта в нем не смысля? Я прекрасно помню, как нас водили в рестораны, открытые слесарем или торговцем, где нас кормили страшной гадостью, самонадеянно полагая, что кормят ничуть не хуже Бокюза?[64]
Зачем, спрашивается, устраивать грандиозные празднества, зачастую в кредит, выставляя себя напоказ перед теми, кто прекрасно знает о состоянии твоего кошелька и непременно найдет, за что тебя покритиковать?
Но… Несмотря на все свои претензии, я испытывал к своим соплеменникам глубочайшую нежность. И считал, что мои противоречивые чувства — тоже характерная особенность еврейской души.
Я надеялся, что в один прекрасный день пойму, что же связывает нас друг с другом, и воспользовался случаем спросить об этом у мудрого учителя из Талмуд-Торы, когда меня туда направили дежурить.
— Ребе, что общего у таких непохожих друг на друга евреев?
Тот погладил бороду, покачал головой, словно бы желая не упустить ни крупицы смысла моего вопроса, потом улыбнулся.
— Мы один народ, — сказал он.
Мне показалось, что учитель этим и ограничится и мне придется снова ломать голову, но, помолчав, он продолжил:
— Ты знаешь, как называется народ на иврите?
Я отрицательно покачал головой.
— На иврите народ обозначается словом «ам». Это означает «с», «вместе», то есть каждый существует благодаря другому. Народ существует как сообщество. — Он опять замолчал, давая мне время освоиться с ответом. — И в этом главная причина антисемитизма.
— Не вижу связи.
— Во все времена эта связь тревожила диктаторов, как политических, так и религиозных. Ибо как можно подчинить народ, который существует вне каких-либо материальных признаков? Который строит будущее, опираясь на прошлое, чуждое логике настоящего? Наши враги пытались уничтожить нашу непонятную им связь, запретили изучать Тору, мучили, вырезали, изгоняли. Но, даже рассеявшись по всему миру, евреи продолжали верить в своего Бога и поддерживать связь друг с другом благодаря Торе и своей любви к земле Израиля. Все древние народы подчинились силе и власти, они растворились в тех народах, которые их себе подчинили, еврейский народ сохранился, несмотря ни на что. Гитлер понял, что ему не удастся навязать нам свои представления о мире, что мы не откажемся от своих ценностей, что он тоже потерпит поражение, как потерпели его другие деспоты. И тогда он принял крайнее решение.
Я слушал учителя с волнением и замиранием сердца. Сердце у меня замирало потому, что моя жизнь была частичкой истории, исполненной глубокого смысла. А волнение? Я понял, что антисемитизм не умрет никогда.
Или умрет вместе с нами.
Июнь 1984
Ребенком я шел, утирая слезы, и пересчитывал прохожих на улице, пытаясь представить себе, сколько людей было уничтожено. На следующий день после европейских выборов 17 июня, когда одиннадцать процентов избирателей проголосовало за Национальный фронт[65], я снова пересчитывал прохожих, ощущая яростный гнев.
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять… Это они? Где эти подлецы, которые под маской мирных граждан прячут постыдные идеи? Им стыдно за них? Они себя стыдятся?
Я давно уже спрашивал себя, как выглядят люди, которые во время оккупации доносили на соседей? У них действительно, как показывают в кинофильмах, бегающий взгляд и губы в ниточку? Они втягивали голову в плечи, когда полиция уводила их соседей? Или они радостно потирали руки, удовлетворив свое подлое нутро? Сегодня я это узнаю. Они вернулись, они снова среди нас. Один француз из десяти. Бесчестная Франция жива. Она голосовала против арабов, против евреев за Ле Пена.
Прежде чем называть себя французом, мне следовало спросить себя, что меня связывает со страной, где совсем недавно творилось столько постыдного? Когда израильтяне выражали недоумение, как мы можем жить в стране, которая выдавала своих евреев нацистам, и называли нас безумцами, мы защищались. Мы говорили, что Франция перевернула постыдную страницу, что последние коллаборационисты скоро исчезнут с лица земли и унесут с собой в могилу проклятие, запятнавшее страну, где царят права человека. Что новые поколения искупили нечистую кровь отцов и живут по законам свободы, братства и справедливости. Что не постыдно жить вместе с этими людьми. А что теперь отвечать моим братьям израильтянам?
Что Симона Вейль, главный кандидат СФД[66], получила у европейцев сорок три процента голосов и она еврейка? Да, это так. Но за Ле Пена одиннадцать процентов!
Мы сидели в кафе, настроение не радовало. Обсудили результаты голосования, и нависшее над столом молчание могло бы длиться вечно, если бы Дан не свернул на любимую тему.
— Жереми Земур уезжает на родину, — сообщил он.
Я знал слово в слово реплику, которая последует за его новостью.
— Не он один, сейчас многие уезжают.
Лично я не мог этого больше слушать.
— Черт! Можно подумать, вам доставляет удовольствие постоянно ходить по кругу! Вы просто валяете дурака, парни! Смотрите: кто-то собрался уезжать. Дан сейчас скажет: «Они правы, наше место в Израиле. Во Франции поднимает голову фашизм, значит, пора ехать на родину». Давид и Мишель поддержат его. Марк с огорченным видом посоветует не спешить. Натан будет сидеть как каменный, а я… Я и сам уже не знаю, что делать и на каком я свете!..
Я окатил их холодной водой. Думаю, даже обидел. Дан отвернулся и наблюдал за машинами, что катили по улице за окном. Давид мешал ложечкой пустоту в чашке. Натан мне улыбнулся. Марк выглядел смущенным. А я? Я уже сожалел, что сорвался.
— Нет, ну честное слово, сколько можно… Может, хоть единственный раз обойдемся без этих разговоров? Может, поговорим о том, что творится здесь, и не будем говорить об отъезде в Израиль?
Ребята в ответ промолчали. Только Марк кивнул, давая понять, что он согласен.
— Ты же не будешь отрицать, что существует именно французский антисемитизм?
— И чем ты его объясняешь?
— Церковь постоянно напоминала, что евреи распяли Христа. Это не могло не повлиять на менталитет.
— Нас всегда будут считать виновниками всех бед, — подхватил Марк. — Коммунисты обвиняют нас в том, что мы породили капитализм. А капиталисты винят за изобретение коммунизма. Маркс же тоже был евреем.
— Евреи, они все на свете и выдумали, — иронически усмехнулся Давид.
— Шутки шутками, а сейчас мы подошли к основе антисемитизма. Евреи по самой своей сути революционеры. Они сомневаются, ищут, создают новые теории, рождают новые идеи. И соответственно вызывают зависть и недовольство. Революционеры всегда опасны.
— Антисемиты путают причину и следствие, — резко заявил Мишель.
— Объяснись.
— Новаторство евреев, их предприимчивость, безусловно, связаны с религиозной культурой, но вместе с тем это следствие антисемитизма. Я приведу в пример не философа, а певца. Герберт Пагани в «Ратую за свою страну» говорит, что евреи всегда «подвергали все сомнению, смотрели вперед, стремились изменить мир, чтобы изменить судьбу». Диалектика, которой наделяет изучение Торы, помогает подвергать сомнению установившиеся точки зрения и предлагать новое видение мира. Авраам, Фрейд, Маркс, Эйнштейн… Все они не боялись смотреть вдаль, мыслить по-иному. Такие люди опасны для власть имущих в любую эпоху, поэтому их всегда подавляли и преследовали. А когда ты знаешь, что тебя в любой миг могут выгнать из твоего дома, то дорожишь только двумя вещами, которые можешь унести с собой.
— Умной головой и деньгами, — подсказал Марк.
— Именно.
— Значит, евреи, будь они революционеры или капиталисты, всегда вызывают страх и зависть.
— И если я правильно тебя понял, совершенно не важно, кем быть — умницей с новыми идеями, или торгашом с товаром, который сделали другие, — весело заключил Дан.
Мы все расхохотались, и нам стало немного легче.
— Если говорить, серьезно, — вновь заговорил Марк, — то евреи в определенном смысле были обречены на успех. Они знали: стоит прийти другому королю, другому правителю, и их могут изгнать, могут начать притеснять. И они не пускали корни, не сживались с окружающими людьми. Они затевали новое дело и наживали деньги, чтобы иметь возможность спастись. Их успешность всегда вызывала — и вызывает до сих пор — зависть и недоверие. Антисемиты считают, что главное для евреев нажива, и они, помогая друг другу, только и делают, что ловчат.
— А на самом деле мы совсем по-другому, чем европейцы, понимаем неудачу, — уточнил Мишель. — Европеец, открывая дело, боится провала. Возможность провала его угнетает. Для нас хуже всего не провал, а отказ от попытки открыть дело. Мы боимся остаться беззащитными перед теми, кто в один прекрасный день может оказаться нашим врагом. Провал для нас один из этапов на пути к главному выигрышу.
— Так что у антисемитов впереди немало счастливых дней, — подвел итог Давид.
— Да. И нам нужно научиться жить с ними вместе.
— Или уехать в Израиль, — добавил Дан вызывающе.
— Ты с ума сошел? Разве можно делать деньги в стране, где живет столько евреев? — воскликнул Марк.
— Почему же? Говорят, есть стопроцентный способ стать миллионером в Израиле.
— Какой же? — поинтересовался Мишель, чувствуя подвох.
— Приехать туда миллиардером.
Все расхохотались и, весело подшучивая надо мной в ответ, принялись трясти за плечи и щипать щеки.
Я думаю, что юмор — еще одно спасение для евреев. Посмеются над глупостью, над подлостью — и успокоятся.
17. Родная душа
Рафаэль
Март 1986
Я познакомился с Гислен на ужине, организованном организацией, предоставляющей евреям информацию о возможности эмигрировать в Израиль. Нас пригласили на вечер фалафелей, устроенный для молодежи еврейской общины с целью привлечь ее симпатии к сионизму.
Я увидел Гислен, как только она вошла в зал, и не мог оторвать глаз от чудесного видения. Мишель заметил, что я перестал его слушать, и посмотрел туда, куда смотрел я.
— Перестань на нее пялиться, она примет тебя за психопата.
— Ты ее знаешь?
— Нет. Но, по-моему, она не еврейка.
— Почему?
— Если тебе удастся отвести от нее глаза и посмотреть вокруг, ты поймешь, что еврейки в основном брюнетки и глаза у них черные.
— А ты, Мишель? Ты шатен с голубыми глазами.
— Да, и меня принимают за ашкеназа.
— Ты хочешь сказать, что так тебе вежливо намекают, что ты гой?
— Она еврейка, — отрезал Натан.
Мы удивленно повернулись к нему.
— Откуда ты знаешь?
— Она сестра одной моей хорошей знакомой.
— Ну и дела! Ты знаком с ней и молчишь!
— Ты спросил Мишеля, а не меня.
— Ну так познакомь нас.
Натан помахал, приветствуя девушку, она заметила его и улыбнулась. Что за улыбка! Незнакомка была похожа на Джейн Фонду, культовую актрису, которую я обожал. Я подошел, Натан меня познакомил, они принялись болтать, а я не мог отвести от нее глаз. Думаю, она привыкла к восхищенным взглядам, но сумела прочитать в моем нечто иное, не только гимн своей красоте. Уверен, она все поняла. Во всяком случае для меня не было сомнений: я полюбил ее и буду любить до конца своих дней. Да, я точно знал, что у нас будет долгая и прекрасная история любви. Речь шла не о мгновенной влюбленности, не о нелепых фантазиях голодающего мозга.
Еврейские мистики учат, что души любящих родились из одной божественной искры. Разлучившись, они помнят друг о друге и не перестают друг друга искать. И вот я встретил родную душу. И был потрясен.
У меня никогда еще не было девушки еврейки. «За первой, которую увижу, буду ухаживать», — сказал я себе сегодня, бросив судьбе вызов. И вот она стоит передо мной, и она растрогана, читая в моем взгляде старинную историю — историю о том, как мы уже встречались у подножия горы Синай. Все души еврейского народа стеклись туда, чтобы услышать слово Божие. Мы войдем вместе в книгу нашего народа. Как это прекрасно! Но мы робеем перед великой ответственностью быть наследниками наших предков, их мыслей, законов, страхов и надежд. Перед ответственностью смиренно вписать в эту книгу свою главу.
Мы понимали друг друга с полуслова. Мы знали, какую хотим прожить жизнь, и эта жизнь не казалась нам невозможной. У нас будут дети, трое или четверо, дом, сад, любимая работа. Классическая и такая пленительная мечта. Гислен первой я признался, что хотел бы стать писателем, но пока не чувствую себя готовым. Она тепло откликнулась на мое доверие и нашла место моему пожеланию в нашем будущем. Ее мягкость, предусмотрительность, готовность идти по жизни со мной рядом завораживали меня. Каждый из нас хотел отдать все, чтобы воплотились мечты другого. Мы были парой.
Я всегда посмеивался над еврейскими свадьбами, невероятными празднествами с невероятными нарядами, смешными шляпами и двумя или тремя сотнями гостей. Не говорю уж о «ритуале хны»[67], причудливом наследии родного Марокко. Этот ритуал совершали под восточную музыку за несколько дней до свадьбы. Свою свадьбу я решил праздновать скромно, только в кругу близких. Но родители воспротивились, они упрекали меня в эгоизме. Они ждали этого дня, чтобы ответить любезностью на любезность многочисленным друзьям, которые всегда звали их на свадьбы.
Так что в день собственной свадьбы я перецеловал три сотни знакомых, мало знакомых и совершенно незнакомых мне людей. А за несколько дней до того я был вымазан хной под арабскую музыку и потом облачен в гандуру и тарбуш[68]. Традиции оказались прочнее всего. Моя невеста отнеслась ко всему очень кротко, сказав, что почтение к родителям — главное, чему учит нас Тора, и я не должен обижать папу и маму, а все остальное не имеет никакого значения.
Я не пригласил на свадьбу Мунира. Почему? Сам не знаю. Может быть, потому что он уже не принадлежал нашему миру. После разговора в кафе «Де ля Пост» мы не виделись и ничего друг о друге не знали.
Конечно, порой мне его не хватало, но я хотел двигаться вперед, строить свою жизнь и доверял только тем ветрам, которые несли бы меня в сторону моей мечты. Ностальгия казалась мне лишним грузом, и мне не хотелось тащить с собой громоздкие, тяжелые воспоминания, я хотел их облегчить, оставить зарисовки. Мунир был частью моего прошлого.
В юности нам кажется, что счастье затаилось в череде грядущих лет. Ближе к старости грядущие годы сулят нам только неосуществимость замыслов и иллюзорность мечтаний, и вот тогда мы понимаем, что смысл нашей жизни угнездился в прошлом, что искать его надо, погружаясь в воспоминания, что в них наше счастье.
Но тогда я тянулся к горизонту, доверившись манку времени.
Гислен, гораздо строже, чем я, соблюдала все обряды — праздничные дни, субботу и ела только кошерное. Она ничего мне не навязывала, но с течением времени я стал жить в умиротворяющем покое вселенной, наполненной верой в Бога и доверием к будущему.
По мере сил я не нарушал этого покоя, хотя мне часто приходилось работать по субботам. Я устроился в рекламное агентство и подчинялся неписаному закону — гореть на службе. Тебя ценили, если ты задерживался допоздна в будние дни и потел в уик-энды, хотя энергичной работы в положенные часы вполне хватало, чтобы выполнять обязанности. И все-таки мне довольно часто приходилось оставлять Гислен в субботу одну и отправляться в агентство. Но когда у меня появлялась возможность — во время отпуска, например, — я свято соблюдал заповедь седьмого дня. Тора предлагает два пути: «делай, и ты поймешь» и «пойми, и ты будешь делать». Я следовал первому. И в конце концов мне открылся истинный смысл данного нам дня отдыха. Принуждения (не пользоваться никакими электроприборами, телефоном, машиной, не прикасаться к огню и так далее) имели одну-единственную цель — освободить себя от подчинения обществу и дать понять самому себе, что такое быть свободным. Пообщаться с самим собой, вникнуть в себя, в свои связи с миром, подумать, кто ты есть и каким хочешь себя видеть.
Поэтому, переходя работать в другую фирму на должность ответственного по связям, я попросил дать мне возможность не работать по субботам и в дни иудейских праздников. Начальник, молодой еще человек, согласился с энтузиазмом:
— Никаких проблем. Ваша просьба свидетельствует, что вы человек твердых убеждений. Я сам воцерковленный католик и могу только приветствовать ваш религиозный выбор.
А вот можно ли быть французом и верующим иудеем?
Мунир
Всплеск ужаса и радость, отвращение и восторг, депрессия и надежда — взрыв в синаноге на улице Коперника и победа на выборах Франсуа Миттерана — вот крайние точки, вот наша гамма чувств, которыми мы жили в восьмидесятые.
Французы магрибского происхождения, мы старались продвигаться вперед, не поддаваясь воздействующим на нас разнонаправленным силам. Одна из сил толкала нас к опасным рифам французского берега, вторая, словно отлив, тянула обратно к стране, где мы родились. Эти разнонаправленные течения могли бы в конце концов уравновеситься, но Франция отторгала нас, и мы вынужденно сгрудились вокруг собственного очага, где догорали наши иллюзии.
Израиль, Ливан, палестинцы… Политические цели войн в этой части мира поначалу казались нам весьма далекими от наших забот. Но несправедливость, невольными свидетелями которой мы становились благодаря СМИ, не оставляла нас равнодушными. Угнетение, которое испытывали на себе палестинцы, было сродни нашему. История о них звучала для нас символически. С одной стороны была мощная армия, которую поддерживала главная сила мира, с другой — разрозненные бойцы, жалкие горстки униженных людей. Сабра и Шатила стали поворотным пунктом: немалая часть французских мусульман встали на сторону палестинцев.
Я не спешил пополнить ряды защитников палестинцев, мне очень хотелось числить себя среди французов, избавиться от взглядов и предрассудков нашего предместья.
Я не мог не понимать, что кроме всего прочего у меня есть преимущества. Благодаря образованию, будущее рисовалось мне более радужно, чем тем, кто не окончил даже школы. Я стремился вырваться за пределы нашего тесного мирка и повести за собой всех, кто стал жертвой отсева, запирающего нас в кварталах-гетто. Я прекрасно понимал, как тесно моя судьба связана с судьбой всех, кто терпит такие же беды.
Я хотел бороться, добиваться социальной справедливости, воплотить в жизнь те принципы, за которые выступал и на которые возлагал столько надежд в мае 81-го.
18. Сражения
Мунир
— Сражение начинается здесь, — объявил Мурад, обведя широким жестом не слишком просторное помещение.
Холодное, душное, с решетками на окнах. Стол, стулья и черная доска, на которой написано несколько слов по-арабски. Вот и вся обстановка. Ничего лишнего. Просто и по делу.
— Вау! Бои предстоят суровые, — пошутил я.
— А ты не поддавайся пораженчеству! Малыми средствами будем творить великое, нужна только воля!
Мурад главный в новой организации, возникшей у нас в квартале. Мы с Талебом пришли предложить ему нашу помощь. Хотим работать.
Талеб тунисец с суровым характером, и мне по душе его неравнодушие, его страстное желание перемен. Он живет в предместье Грапиньер и учится на том же факультете, что и я.
— Перемены неизбежны, — говорил он, когда мы сидели в кругу друзей несколько дней тому назад. — Но нельзя ограничиваться ожиданием. Заждавшихся ждет отчаяние. Мы должны стать двигателями, обнаружить свою решимость.
— «Заждавшиеся», «двигатели», «ограничиваться»! Ты что, словарь проглотил?
Мы с Талебом сердито взглянули на Джелула, но наша небольшая компания охотно рассмеялась.
— А серьезно поговорить можно? Или только хаханьки? — возмутился Талеб.
— Да ладно тебе! Что? Пошутить нельзя?
— Есть время для шуток, а есть для серьезного разговора.
— Ай-я-яй! Нашего Талеба подменили в универе! Вы заметили, парни? Никаких тебе «задниц, пошел ты» и всего остального. Он говорит теперь без акцента. Видали, как губы вытягивает, чтобы правильно выговаривать?!
— Заткнись, Джелул! Надоел!
— Ты? Ты сказал заткнись? Аллах акбар! Лоботомия не подействовала, — завопил наш шутник, воздевая руки к небу.
И, мгновенно повернувшись к Талебу, подняв, как Граучо Маркс, густые черные брови, Джелул проговорил заговорщицким тоном:
— Лоботомия! Усек? Мне не надо учиться в универе, я и так знаю ученые слова!
— Тебе вообще ничего не надо, — огрызнулся Талеб.
Джелул, довольный всеобщим вниманием, наконец согласился оставить нас в покое.
— Я с тобой согласен, — ответил я Талебу. — Но что мы можем делать?
— Заниматься текущими проблемами. А их столько!
— Ты имеешь в виду политические выступления?
— Их тоже, но не только. У нас в квартале есть активисты. Есть парни, которые не первый год думают о переменах. Новое правительство — это шанс для них. И для нас тоже.
— Скажешь тоже! Организация в квартале. Лично я предпочел бы борьбу с расизмом.
Талеб улыбнулся.
— Почему не за мир во всем мире? У нас впереди не вечность, а всего каких-то несколько десятилетий. Нужно работать в тех структурах, которые уже задействованы, помогать в первую очередь тем, кто нуждается в помощи.
Джелул тут же подхватил с насмешливой улыбкой:
— Нада зуциалогия, нада икономия. — Он тянул, коверкая слова с арабским акцентом. — Слышали, парни? И они вдвоем изменят всю Францию. Лучше пошли отсюда!
— Думаю, стоит поговорить с ребятами из организации, сказать, что мы тоже за перемены.
— Наша главная задача обучить жителей квартала грамоте, — продолжал Мурад. — В первую очередь, родителей и старших братьев. Но заставить, приучить безработных и рабочих регулярно посещать занятия.
Это непросто, и мы начали с конкретной помощи: ходили вместе по различным учреждениям, помогали заполнять налоговые декларации, малышам помогали делать домашние задания. И дело понемногу пошло. Но не стоит обольщаться. Мы в жизни квартала занимаем очень скромное место. — Мурад подвел итог. А мы, слушая его, смотрели на тетради на столе и на доску. Парень вызвал у меня огромное уважение, рядом с ним я почувствовал себя легкомысленным подростком. Он часами сидел в душной, мрачной комнате, занимаясь ради великой цели мелкими обыденными делами.
— Ты работаешь один?
Он угадал мои мысли, улыбнулся, положил мне руку на плечо.
— Нет, есть добровольцы, они приходят мне помогать. Помогают, кто чем может, жертвуют своим временем.
— Я, честно говоря, не знаю, что умею, и времени у меня маловато, но я хотел бы тебе помочь. Мы оба хотим, так ведь, Талеб?
— Очень!
Мурад протянул нам руку, и мы по ней хлопнули.
* * *
Папа сидел на диване, погрузившись в завораживающую истому песен Умм Кальсум[69], слегка покачивал головой и следуя волнам их ритма. Потеряв работу, он целыми днями сидел и слушал восточную музыку. Никто из нас не решался попросить его уменьшить звук. Сам я не большой любитель такой музыки, она похожа на жалобу, на плач. Пронзительные жалобы рвутся из израненной души, они похожи на причитания женщин, которые рыдают у открытой могилы и царапают себе лицо. Откровенность плача, танца, песни восточных людей производит впечатление бесстыдства.
Сердце мое, не спрашивай, куда ушла наша любовь, Она была замком моей мечты, моей фантазией, Замок обвалился. Утоли мою жажду, не мешай жить в его руинах Так долго, как будут течь мои слезы, Расскажи вместо меня нашу историю, Расскажи, как наша любовь стала прошлым.Вот уже несколько дней папа носит дома джеллабу. Говорит, что в ней чувствует себя гораздо удобнее, но выйти в ней на улицу, как некоторые его безработные приятели, пока не решается. Когда он собирается повидаться с ними внизу, у нашего подъезда, то одевается «по-городскому». И отмечаться на биржу труда тоже ходит в костюме. Я чувствую, до чего он потерян — слоняется из кухни в столовую и придирается к маме и Джамиле.
Мы с отцом редко разговариваем. Он обращается ко мне, прося передать соль, спрашивает, сколько времени, просит что-то сделать. Чтобы узнать, как у меня обстоят дела со здоровьем, идут занятия, с кем я дружу, он обращается к своему представителю на земле — маме. «Папа считает, что у тебя усталый вид», «Папа спросил, когда ты сдаешь экзамены», «Папе не нравится, что ты так часто уходишь из дома по вечерам». Мама без комментариев выслушивает мои ответы и передает их папе в мое отсутствие.
И теперь, чаще видя отца сидящим в кресле, я думаю, что совсем его не знаю. Думаю, что жил рядом с ним, но не вместе с ним. Какой же он? Что он прожил? Что думает обо мне? О брате? Сестре? Бывает ли иногда счастлив?
Я подошел и сел напротив него. Он открыл глаза и улыбнулся мне. Было видно, что он удивился, потому что не привык видеть меня рядом.
— Идет дело, сын?
— Да. Неплохо.
— А в школе?
Подготовительные курсы, коллеж, лицей, университет… Для папы слово «школа» охватывает всю область образования, противоположность «школе» — «работа».
— Тоже все в порядке.
— Какие отметки?
— Хорошие. Я неплохо справляюсь.
— Так и надо. С дипломом ты, может быть, и выбьешься.
Уверен, отец считает, что ободрил меня. Но от его «может быть» я вздрогнул, как от электрического тока. «Может быть» — это суть жизни моих родителей, эти слова управляли ими много-много лет. «Может быть, во Франции…», «Может быть, эта работа…», «Может быть, завтра…», «Может быть, наши дети…».
Я хотел уже было встать, но внезапно спросил:
— Умм Кальсум алжирка?
— Нет, она египтянка. И ее песни говорят с сердцем каждого араба.
— А… Тебе не кажется, что музыка слишком грустная?
Отец посмотрел на меня и очень серьезно сказал:
— Жизнь, она грустная, сын. Покидаешь родину, хоронишь родителей, болеешь, стареешь, умираешь…
— Но и счастье тоже есть.
Отец кивнул и опять посмотрел на меня, в его взгляде светилось снисхождение.
— Да, есть и счастье.
Мы замолчали. Я не знал, что таится за молчанием отца, и пытался это понять.
— Почему ты не вернулся в Марокко?
Мне часто хотелось спросить его об этом. И наконец я решился.
Отец насупил брови — он как будто всеми клетками искал ответ.
— Мы приехали, потому что ты хотел заработать, так? — продолжил я. — Ты собирался накопить денег на дом, пробыть здесь несколько лет, а потом вернуться. Зачем оставаться здесь, когда работы больше нет?
Папа махнул рукой, он всегда так делал, когда не хотел говорить. Но понял, что я не отступлюсь, и все-таки заговорил.
— А ты с Марокко знаком?
Я удивился вопросу. Может, с папой уже что-то не то?
— Ну-у… Мы ездили туда на каникулы.
Пестрые картинки побежали перед моим мысленным взглядом, готовые клише, мультипликация, цвета, запахи. Деревня, пышная растительность, наш красивый дом, завистливые, недобрые взгляды кое-кого из соседей, улыбающиеся лица родственников, ослепительное солнце, долгие празднества, порой скука.
— Ездить на каникулы не значит знать Марокко. Вернуться? И что там делать? Там тоже нет работы… И знаешь, там нас будут любить не больше, чем здесь. Для них мы теперь будем французами.
— Французы нас любят гораздо меньше. Для них мы арабы.
— Но не тебя, сын. Не моих детей. Мои дети французы. У вас есть шанс добиться здесь успеха.
— Нет, здесь я для всех араб. Они меня не любят. Ты слышал о конфликтах с полицией? Арабов бьют, их унижают, но никого это не волнует.
Папа грустно покачал головой, и я пожалел о своих словах. Зачем осложнять ему жизнь? Зачем заставлять еще сильнее сомневаться, правильный ли он сделал выбор? Он пожертвовал собственным достоинством, чтобы обеспечить детям лучшую жизнь, а я говорю ему, что он ошибся.
— Между болью и болью выбирай ту, от которой кричать будешь меньше, говорила моя мама.
Я взял отца за руку. Первое прикосновение. Свидетельство моей близости с ним. Первое и последнее. Внезапный порыв нежности смутил нас обоих. И… Я банально пожал ему руку.
19. Обыкновенный расизм
Мунир
Усталость сродни холоду — она сжимает грудь, замедляет дыхание, мешает двигаться, сковывает мысли. Здесь, в этой маленькой комнатке, я чувствую себя бесполезным, и мне хочется все бросить. И тогда я поднимаю глаза и смотрю на кого-то из детей, или на подростка, или на женщину, или мужчину, потерявшихся в этом городе, пришедших за помощью или просто за теплом и добрым словом, чтобы немного передохнуть. Я представляю себе, как они живут, как им трудно, сколько они переносят унижений, как мало ждут от будущего. И мной овладевает странное чувство, что все они стали частью меня. Что мое будущее неотделимо от их будущего. Я думаю о своих великих проектах: выдержат ли мои благородные намерения встречу с жизнью? Я в начале пути, работа в нашей организации — только первый этап, у меня будет другая работа, другие цели. И тут меня охватывают сомнения и чувство безнадежности. Столько предстоит работы! Не завтра, не послезавтра, а сегодня. Через час. Немедленно.
Дополнительные занятия, музыка, рисование превратились в обычный детский сад. Ребятишки приходят, рассаживаются, болтают, едят, смеются, засыпают. Мы все же пытаемся что-то им втолковать, но они нас не слушают, они устали от школьных начальников. И потом, как рассуждать о музыке с мальчишкой, если ему хочется есть, если в его жизни нет ничего, кроме обид и угроз от окружающих и родителей? И мало-помалу мы отказываемся от своих проектов и делаем то, что от нас хотят. Я люблю каждого из этих ребятишек. Самых неудобных, тех, кого отбраковывает школа, потому что там не до частных случаев, потому что там готовят будущих граждан по определенным, выверенным лекалам. А мне они дороже всех. За замашками маленьких бунтарей я вижу страх и растерянность. И еще любовь. Иногда мне так хочется прижать их к себе, утешить, но я знаю, что они оттолкнут меня. Любое проявление чувств — свидетельство слабости. Случалось, что кто-то из них позволял себе улыбнуться или сказать что-то доброе, но только если был уверен, что его никто не видит и не слышит. Вот такие моменты и давали мне надежду и силы.
Иногда к нам заглядывали подростки — выпить кофе, поговорить. Мы играли роль старших братьев, они нас уважали. Но бывало и по-другому, ребята вели себя грубо, бросали нам вызов. Вместо своего парня из квартала они видели перед собой начальника, стража порядка, представителя власти. И нам приходилось говорить с ними без околичностей, по-уличному, чтобы вернуть уважение к общему делу.
Кроме парней приходили еще и девушки. Они бежали от дома, от хозяйства, от ругани, им хотелось кому-то довериться, поделиться. Настоящее их держало взаперти, будущее не принимало. Они говорили о своих отцах, высосанных работой, братьях-тиранах, женихах, которые были им предназначены, которых они в глаза не видели и, возможно, не полюбят никогда.
И родители тоже приходили, приходили за газетами, за советом. Мамы, увядшие от нелегких забот, отцы, угнетенные безработицей, с потухшим взглядом.
Народ, который трясли неподвластные ему силы. Мой народ.
— Что за интерес работать перевалочной станцией, залом ожидания?! Еще немного, и мы будем то ли школой, то ли садиком, то ли вообще непонятно чем!
Талеб сердился. И, как всегда, выражал свое недовольство вслух. В этом и была разница между им и мною.
Мурад покачал головой.
— Я полностью с тобой согласен. Но что, по-твоему, мы должны делать? Отправлять людей домой, говоря им: «Извините, у нас тут только слушают Баха и Моцарта и еще занимаются грамматикой!»?
— Так! Значит, ты признаешь свое поражение? Они фаталисты, и ты, Мурад, тоже. «Как есть, так и есть! Мектуб![70]» Ты забыл, что мы хотим готовить перемены, а вовсе не плыть по течению. Мы должны стараться объединить их энергию и направить ее в плодотворное, разумное русло. А мы что? Ты видишь, что сейчас творится во Франции? Нацики и полицейские издеваются над арабами, их бьют, их унижают. В Марселе скин выстрелил в парня восемнадцати лет Лауари Бен Мохаммеда, и получил три месяца условно! А Абделькадер Ларейш, подросток пятнадцати лет, убитый охранником в Витри-сюр-Сен! А Камел Бен Али из Женевилье, тоже убитый членом Национального фронта? Этого нацика отпустили на свободу даже без залога. Жизнь араба ничего не стоит. Нас стреляют, как дичь. Кое-кто так просто развлекается. А мы приобщаем наших к тонкостям языка страны, которая нас отторгает! Вы понимаете, что надо что-то менять?
Я знал, что Мурад не скажет ничего нового, он уже сто раз повторял все, что мог, поэтому заговорил сам:
— Мы согласны с тобой, Талеб. Но за один день ничего не изменишь. Мы должны набраться терпения. Мы приносим пользу, и это уже кое-что.
— Пользу? Кому? Чему? Мы же хотим, чтобы люди поняли, кто они есть, поняли свои возможности, пользовались ими. Внедрялись в общество или боролись за то, на что имеют право. Они имеют право на самоуважение. А мы здесь в лучшем случае на ролях нянек.
— Но мы же не политическая организация.
— Нас поддерживают городские власти, даже деньгами, — прибавила Варда, новая девушка-руководительница. — Значит, мы делаем полезное дело, и город одобряет нашу работу в качестве социальной службы.
— Покупает спокойствие, переводя нам ничтожные суммы, чтобы успокоить дикарей — вот и все, что они делают! — с насмешкой произнес Талеб.
— Ты хватил, парень, — окоротил его Мурад.
— Чтобы понять и справиться, нужно называть вещи своими именами. Посмотри на молодежь в квартале! Ребят не пускают вечером на дискотеки, обзывают ублюдками, отбросами, черножопыми, они не могут найти себе работу, не могут найти комнаты. Здесь тоже когда-нибудь все взорвется. Да и повсюду тоже. И вы прекрасно знаете, что так будет. И при этом мы делаем вид, что мы очень полезны!
— Что ты предлагаешь? — спросил Камель, ответственный за музыку. — Мы все это прекрасно знаем. Знаем, что вход на дискотеки нам запрещен. Есть среди нас кто-то, кто побывал в «Палладиуме», «Акварисе» или «Дранли»? Никто. Кто ни разу не получил в лицо оскорбления от прохожего или полицейского? Тоже никто. И что теперь делать? У тебя есть предложение?
Все сидящие в комнате притихли.
— Наши родители всю жизнь ощущали себя алжирцами, марокканцами, тунисцами, которые поселились во Франции, — заговорил Талеб, и в голосе его звучало смирение. — Они ходили, опустив голову, старались не привлекать к себе внимания, боялись обеспокоить окружающих, хотели, чтобы о них забыли. Свои комплексы они передали нам, и мы согласны на унижения, потому что они вошли в нашу плоть и кровь. Но в отличие от наших родителей, мы французы. И мы должны это втемяшить себе в головы. Должны отстаивать свое гражданство, свое равенство, не стыдиться самих себя. Как можно принудить других людей принимать тебя, если ты сам себя не принимаешь? Как только у нас появится чувство собственного достоинства, к нам и другие начнут относиться иначе.
Слова Талеба прозвучали с неожиданной силой, стены нашей маленькой комнаты откликнулись эхом, а мы услышали их сердцем.
Но что из этого следовало? Мы должны перестать работать у нас в центре? Заниматься политикой? Создать организацию по борьбе за наши права? А кто будет помогать тем людям, которые к нам каждый день приходят?
Талеб был прав: мы все чувствовали неизбежность взрыва. Близость его читалась в глазах молодых ребят, мы видели, как они стискивают зубы, сдерживая гнев, как дерзят, как вызывающе себя ведут. Слишком много у них накопилось обид. Сколько пережито вымогательств и оскорблений со стороны полиции, сколько было проглочено проявлений агрессии. И никому дела нет. Как будто так и надо. В СМИ редко-редко промелькнет что-нибудь подобное. Обидчиков никто не трогает, и они не волнуются. Суды их оправдывают и отпускают.
Если бы мы хотя бы слышали осуждение подобных постыдных поступков. Если бы их считали позорными, недостойными. Если бы не только СМИ, но и население, представители политических партий поняли, что неправильно преследовать арабов за то, что они арабы. Ненормально не пускать арабов на дискотеки, потому что они арабы. Ненормально постоянно проверять арабов, потому что они арабы. Мы бы перестали чувствовать себя изгоями. Мы бы видели, что между добром и злом есть граница. Но нет. Блэкаут[71]. Лучше обойти все молчанием, чтобы не раздувать пожара. Ничего не сообщать, чтобы избежать конфронтации. Пусть раны залечивает время. Все сложности лучше держать под спудом, надеясь, что молодежь точно так же, как их родители, смирится и будет гнуть спину, унижаться и молчать. Но эта страусиная политика обречена на провал. Они ничего хорошего не добьются. Обида растет, она превращается в ненависть, и когда вспыхнет ненависть, ее не удержишь. А она вспыхнет. Вопреки нашим наивным усилиям.
Сигаретный дым поднимался кольцами к потолку, уплотняя и туманя воздух. Магнитофон с трудом выдавливал роковую мелодию. Наш праздник походил на школьную вечеринку: скудное оформление, безалкогольные напитки, сигареты, адский шум, скованность и застенчивость под маской оживления и смеха. И поведение тоже детское — улыбки и деланое безразличие, радостный смех и притворное равнодушие. Кое-кто в уголке уже танцует. Были и другие. Я обратил внимание на нескольких презрительно смотрящих парней.
— Ну что скажешь?
Я протянул Рафаэлю пластиковый стаканчик с кокой.
— Что? Скажу, что очень… по-арабски, — ответил он.
— Заткнись, или я возьму микрофон и крикну: «Братья! К нам просочились евреи!»
Давид изобразил на лице ужас, и мы все рассмеялись. Но я чувствовал: ребятам не по себе у нас на вечеринке.
Рафаэль позвонил как раз тогда, когда я готовил наш скромный праздник. И я пригласил его, но скорее в шутку, чтобы поддеть, хотя еще и потому, что удивился и обрадовался. Мне было приятно, что он хочет узнать мои новости после стольких месяцев молчания. И еще потому, что хотел с ним увидеться. И он пришел с Давидом и Мишелем, своими новыми друзьями.
— Да нет, все славно… И, похоже, они тоже довольны, что веселятся, — не без насмешки сказал Мишель.
— Начинание новое, — объяснил я. — Все ведут себя осторожно.
— Но обстановка, кажется, мирная, все спокойно, — заметил Давид.
— Не доверяй тому, что кажется. Драка может вспыхнуть в один миг. Тут есть, знаешь ли, каиды, и они готовы на все, если посмотришь на них чуть пристальнее.
— Опасаешься?
— Да нет, доверяю. Они знают, что если вечер пройдет нормально, можно будет устраивать их почаще. Им тоже хочется повеселиться. Они относятся к нам с уважением. Мы помогаем их сестренкам, братишкам. И родителям тоже.
К нам подошел небрежной походкой здоровенный парень — рубашка расстегнута, видна гладкая смуглая грудь.
— Неплохая дискотека, Мунир! Но где девчонки? Ты видел дискотеки без девчонок, а?
— Честно говоря, я не видел настоящих дискотек, и думаю, что ты тоже.
Парень осклабился, хлопнул меня по плечу и отошел.
У нас и в самом деле девушек было мало. Семь или восемь, не больше. Они все вместе сидели за столиком и потихоньку пересмеивались. Не арабки. «Мужчины» скользили по ним высокомерными, чуть ли не презрительными взглядами или вообще их не замечали.
— Они запретили приходить сюда своим сестрам. Ничего. Для начала они, наверное, хотят посмотреть, как все пройдет. Надеюсь, что потом и девушки тоже будут приходить к нам.
Мы следили за ребятами, и нам было забавно, как они себя ведут.
— Эти парнишки и есть гроза Воз-ан-Велен? — шутливо спросил Рафаэль. — От их появления дрожат французы в центре города? Я пока вижу молодняк, который играет в Аль Пачино из «Лица со шрамом». Fuck You, son of a bitch!
Я положил ему руку на плечо.
— Спасибо, что пригласил меня, — сказал он.
— Шутишь? Да это специально организованная западня для евреев!
Я легонько шлепнул его по затылку, а он сделал страшные глаза и притворился, что готов убежать.
— Ты в своем центре как рыба в воде.
— Да, я чувствую, что приношу пользу.
— А политика?
— Политика? Это и есть политика, брат! Я каждый день занимаюсь политикой. И дипломатией тоже. Кое-кто у нас в квартале хотел бы, чтобы мы организовали центр по защите прав обитателей квартала или центр по борьбе с расизмом, но я колеблюсь. Как-то не уверен. А ты как считаешь? Я слышал, что ты тоже член какой-то организации. Пригласи как-нибудь меня.
Давид и Мишель, похоже, смутились.
— Да нет, я в партии социалистов. Делаю, что могу. Хожу на собрания. Но без членского билета.
— Я не про это. Я слышал, что ты тоже организуешь вечера, но для евреев.
— Ах, это! Да, немного помогаю и немного этим зарабатываю.
Мишель и Давид обменялись взглядами и улыбнулись. Меня задело, что меня исключили из их тесной компании. Я собирался и еще кое о чем расспросить Рафаэля, но тут с улицы раздался шум. Народ столпился у дверей.
— Черт, похоже, запахло жареным!
Я тоже поспешил к двери, Рафаэль с приятелями за мной. Мы быстренько пробились через толпу.
Синий луч шарил по стенам нашего дома.
— Полиция! — объявил Мурад.
— Им-то что понадобилось?
В нескольких метрах от дома стояли три полицейские машины. Из них вышли человек двенадцать полицейских. В толпе молодежи мгновенно послышались ругательства.
Мурад старался утихомирить самых дерзких, не давал им подойти к непрошеным гостям.
— Успокойтесь. Ничего не происходит. Мы сейчас поговорим и вернемся. Возвращайтесь в зал.
Но никто не двинулся с места.
Мы с Мурадом пошли навстречу полицейским.
— Катитесь отсюда! — крикнул паренек. — Нам что, и повеселиться нельзя?!
— Мы что, не можем праздник устроить?! — Ругательства так и сыпались.
Я обернулся и махнул рукой, прося ребят замолчать.
Поговорил с полицейскими и направился к самым горячим. Рафаэль окликнул меня:
— И чего они хотели?
— Сказали, что поступила жалоба, уже поздно, беспокоит шум. Глупости! Наше помещение стоит на отшибе. Очередная провокация. Они знают, что если нас заведут, то все ребята поднимут страшный шум. И тогда они смогут похватать кого ни попадя!
Я закричал ребятам:
— Не поддавайтесь на провокацию! Возвращайтесь в зал! У нас есть разрешение на проведение вечера. Никаких проблем!
Все притихли. Мне показалось, что меня услышали.
Но тут раздался голос:
— Разрешение есть? Так какого черта нас достают? Сейчас они у меня получат! Я их не боюсь!
И снова понеслись брань и ругательства.
— Убирайтесь! Мы здесь у себя!
Полицейские сбились в кучу, принялись советоваться.
Брань усилилась. Я пытался утихомирить ребят, но самые распалившиеся ринулись вперед.
И вот уже полетел камень, потом другой.
Руководители и более спокойные ребята попытались вмешаться, но было уже поздно.
Мурад подтолкнул нас, приглашая вернуться.
— Конечно, они правы — уроды есть уроды! Но они попались в собственную ловушку.
С улицы по-прежнему доносились крики и шум.
Я было кинулся к двери, мне хотелось к ребятам, драться вместе с ними.
Прошло несколько минут, и зал совсем опустел. Полицейские уехали, ребята разошлись по домам.
— Отвратительно. Вся наша работа псу под хвост.
У меня навернулись слезы на глаза. Я ненавидел полицейских, они специально испортили нам праздник. И ребята тоже хороши! Не могли взять себя в руки!
— Видишь разницу между марокканцами и алжирцами? Алжирцы не умеют разговаривать, обсуждать, договариваться, — тихо заговорил Давид. — Они сразу рвутся в бой.
— Не надо так говорить, — отозвался я. — Готовые клише всегда опасны.
— Брось изображать социолога, озабоченного общественным равновесием. Ты прекрасно знаешь, что люди из этих двух стран не похожи друг на друга. Впрочем, как и из других стран тоже. Для статистики мы одно, мы иммигранты, но на деле мы совершенно разные. Марокканцам присущи представления развитой страны, в которой поощрялись культура и образование. Они более цивилизованны, воспитанны, более… европеизированны.
— Ты говоришь сейчас как расист. Ты не знаешь, как этим парням достается! Поверь, им есть от чего кипеть злобой.
— Я не сомневаюсь. Но я хочу сказать другое: у тебя в квартале много алжирцев, и они не умеют держать себя в руках. Черт побери, я уверен, помолчи они пять минут, дай тебе возможность спокойно поговорить, и полицейские бы утерлись, и праздник бы продолжился. Но нет! Они вспыхнули, как порох.
— Ты не понимаешь! Они вспыхнули вовсе не потому, что их вдруг взяли и спровоцировали! У них накопились обиды, комплексы, страх. Ты можешь не знать, но большинство из них не выходят гулять по центру, не желая нескончаемых проверок, боясь наткнуться на опасливые и ненавидящие взгляды прохожих и продавцов. Ты, наверное, не слышал о полицейских, которым подстрелить араба — все равно что раздавить паука? Ты всерьез думаешь, что беспорядки восемьдесят первого года были проявлением врожденной дикости? Бескультурья? Если ты так думаешь, значит, стал таким же, как негодяи расисты, которые отравляют нам жизнь.
Я говорил без возмущения, спокойно, по-дружески, но Давид почувствовал себя задетым.
А я продолжал:
— Алжирцы не хотят быть гражданами второго сорта во Франции под предлогом того, что у них по сравнению с некоторыми продвинутыми не такой европеизированный менталитет.
— Но они не могут требовать от французов, чтобы французы применялись к их образу жизни, — возразил Давид. — Заметь, в Израиле марокканцы стараются приспособиться, и их все принимают.
— Знаешь, хватит мне тыкать Израилем как образцом толерантности и социальных добродетелей! Надоело!
— Почему? Что ты имеешь против Израиля? — Давид мгновенно напрягся, голос зазвучал холодно. — Ну-ка объясни!
— А ну стоп, парни, затормозили! — вмешался Рафаэль. — Прикиньте: от неприятностей сегодняшнего вечера укатили в Израиль!
— Нет уж, пускай он выскажется! — настаивал Давид.
— Раф прав, — признал я. — Мы слишком далеко зашли. К тому же перенервничали и устали.
— Вот видишь! Реакция настоящего марокканца, — воскликнул Рафаэль, рассмеявшись, пожалуй, слишком громко. — Мудрая и дипломатичная.
Мы все улыбнулись, но дружеского тепла не было. Мишель вообще только присутствовал при разговоре, словно считал бессмысленным говорить здесь на серьезные темы.
Я думал, что этот вечер снова сблизит нас с Рафаэлем, но почувствовал: мы, наоборот, еще больше отдалились.
Мустафа сидел, вытянув ноги, сложив руки на груди, словно подчеркивая, какая она широкая и мощная, и молчал. Талеб поставил перед ним кофе в пластиковом стаканчике и попросил:
— Расскажи, что произошло.
Мустафа продолжал молчать.
— Послушай, брат, мы тебе не навязываемся и не достаем. Мы хотим узнать, сможем ли помочь.
Мустафа поднял на Талеба большие черные глаза и посмотрел на него. Лицо у него было разбито, нижняя губа рассечена, правая скула распухла.
Мустафа слыл парнем спокойным, разумным, уравновешенным, хотя и мог постоять за себя. Новость, которую мы услышали, нас удивила и потрясла.
— Ты же знаешь, что со мной случилось. Так зачем спрашиваешь?
Талеб покачал головой.
— А ты знаешь наш квартал. Правда, которая прошла через пять человек, изменилась в десять раз.
Мустафа снова посмотрел на Талеба и снова понурился. Потом помолчал, задумавшись, и добавил:
— Меня отдубасили пять парней. — И снова замолчал.
— Ну, вот видишь, а нам сказали, что семь, потом десять, а потом двадцать.
Я оценил деликатность Талеба, он привел Мустафу сюда и здесь стал его расспрашивать. Мустафа снова взглянул на него и слегка улыбнулся.
— Нет, их было всего пятеро.
— И как же это произошло?
Мустафа глубоко вздохнул.
— Я шел по улочке Сен-Жан, вокруг никого. Был в гостях у друзей и спешил на последний автобус. Передо мной остановилась машина, открылись дверцы, вышли пятеро парней. В руках пруты. Я сразу понял, чем дело пахнет. Начали с оскорблений: «Черножопый! Ублюдок! Катись, откуда пришел!» Я в ответ ни слова. Пытался сообразить, как мне выбраться из подлой западни. Один из них вышел вперед, встал передо мной и сказал: «Молчишь, гад?» Он был небольшого роста, пухлый, лицо красное, взгляд трусоватый. Мне не понравилось его лицо. Я посоветовал ему пойти прогуляться. Он на меня замахнулся своим прутом, потом опустил его, но шевелился медленно, и я вырвал у него прут и занял оборонительную позицию. Вот тогда-то они меня окружили. Первый нанес удар, я мог бы уклониться, но они били вместе с разных сторон. Я пытался обороняться, защищаться. Потом упал. Они продолжали молотить, шипя ругательства. Наконец прекратили. Каждый подошел и плюнул на меня. Потом сели в машину и уехали.
— Ты не запомнил номер? — спросил Талеб.
Мустафа пожал плечами.
— Нет. Полицейские запоминают. Мне и в голову не пришло.
— А в участок подал жалобу?
Мустафа нахмурился.
— Ты что, серьезно?
— Абсолютно. Когда на тебя нападают, надо идти в полицейский участок и подавать жалобу.
Мустафа, улыбаясь, с трудом раздвинул губы пошире, и я увидел сгусток запекшейся крови у него на губе.
— Конечно, ты прав. Они будут искать этих парней. Если повезет, они их найдут и от души поздравят.
— Ты неправ. Мы живем в стране, где есть законы.
Мустафа больше не улыбался. Он встал и заходил по комнате.
— Послушайте, парни, если вы меня сюда зазвали, чтобы втюхивать такую хрень, то пошли вы куда подальше! О каких законах ты говоришь? Где ты видел в этой стране законы? Какие у нас права? Пулю получить? Полицейские отстреливают нас, как зайцев! Сколько наших погибло за последние года два? И убийцы разгуливают на свободе! Французы могут в нас палить сколько угодно, они уверены в своей безнаказанности. Слышали об Абденби из Нантера? Спокойный парень, студентом был, кажется. Какой-то псих застрелил его, как собаку. А Вахид Хашиши? Знали его? Он был из нашего квартала. Тоже спокойный, мирный парень. Его пристрелил какой-то тип, потому что он, видите ли, крутился возле его машины. А Махмуд Шаруф? Умер в больнице, его отколотили скины, он показался им подозрительным. Теперь месяца не проходит без убийства! Политикам на это наплевать. Здесь кошки и собаки дороже араба!
Талеб вопросительно взглянул на меня. Что тут ответишь? Перечисленные имена разбередили и у нас свежие раны.
— Нет, я знаю, что делать, и другого решения нет. Соберем компанию и будем караулить, сколько понадобится. Если повезет, я их поймаю.
— Думаешь, они постоянно ездят по этой улице и избивают арабов? Если они были вооружены прутами, значит, это занятие у них постоянное, ты прав. И они будут заниматься этим и дальше. Единственный способ их остановить — арестовать, а значит, нужно дать их описание в полиции.
Мустафа снова возмутился:
— Ладно, ребята, вашей простоте можно только позавидовать. Я по горло сыт вашими дурацкими идеями. В жизни все по-другому. В жизни полиция не думает защищать арабов, и французы пишут жалобы на арабов, а не наоборот. Вы видели полицейских на нашем празднике? Вам этого мало?
Он остановился и посмотрел на нас.
— Ладно, я пошел. Спасибо за кофе.
Нам нечего было сказать, чтобы его удержать. Мы остались сидеть и сидели молча. Молчание становилось гнетущим. Замораживающим. Оно лишний раз подтверждало, что мы ничего не знаем и ничего не можем. Я чувствовал себя бессильным и бесполезным.
Они на него плевали. Каждый. По очереди.
— Мунир! Agi lahna yawouldi. Подойди ко мне, сын.
Папа всегда меня подзывал дважды — по-арабски, потом по-французски.
Арабский и французский прервали мой путь к холодильнику. Если папа выключает музыку, значит, дело серьезное. Я остановился, потом подошел к нему. Он показал мне на кресло. Я сел.
Отец склонил голову набок и посмотрел на меня, словно видел в первый раз.
— Ты вырос, сын. Ты стал мужчиной.
Я не знал, что за этим последует, не знал, как себя вести. Мы сидели и молчали. Отец опустил глаза и, казалось, забыл обо мне. Мне хотелось встать и уйти, но я знал, что он хочет мне что-то сказать.
— Как твой… Центр?
Маленькая пауза дала мне понять, что он всерьез озабочен.
— Все в порядке.
Отец ни разу не зашел к нам в Центр. Поначалу я надеялся его там увидеть. Думал, он будет гордиться, что я занимаюсь таким нужным делом. Я даже представлял себе, как он к нам присоединится, захочет участвовать, почувствует вкус к общению, заведет друзей. Чистой воды иллюзия.
— Ты учишь людей читать, так?
— Да, кое-кто из взрослых хочет научиться. И еще мы занимаемся с детьми.
— И это все?
Я не понимал, куда отец клонит.
— Нет. Еще мы помогаем людям заполнять бумаги для разных учреждений, писать заявления, выслушиваем, какие у них проблемы, даем советы.
— Ты даешь советы?
Отец нисколько не иронизировал. Но вопрос все же задел мою гордость.
— Да, и я иногда даю советы.
Я вглядывался в отцовское лицо, пытаясь разгадать его намерения, но он просто задумчиво качал головой, потом наконец заговорил:
— У нас в Марокко советы давали старики. Мудрость приходит с годами. В каждой деревне, в каждой семье был свой мудрец, и к нему приходили со всеми проблемами. Молодые никогда не позволяли себе рискнуть и высказать свое мнение. А здесь, во Франции, здесь все наоборот. Женщины работают, дети решают, советуют, мужчины пьют… Koulchi m’gloub.
— Мы даем советы по конкретным вопросам, куда обратиться, что написать. Старики этого не знают.
Ответ прозвучал громче, чем я хотел. Меня задело рассуждение отца, хотя он не вкладывал в него никакого отрицательного смысла.
Он снова покачал головой.
— Я понимаю, — тихо сказал он, еще немного помолчал и добавил: — Я слышал, что несколько недель тому назад у вас были проблемы с полицией.
— Ничего серьезного. Мы устроили праздник, приехал патруль и попросил нас закруглиться. Мы немного повздорили.
Отец прервал меня:
— Мне еще сказали, что вы берете на себя защиту тех, кто пострадал от расизма.
— Да, но мы направляем их в специализированные организации.
— В общем, у вас небольшая бакалейная лавка. Всего понемногу. Советы на все случаи жизни.
Замечание опять могло показаться иронией, но на самом деле ее не было даже близко.
— Мы стараемся быть полезными. Вокруг столько всяких проблем…
— Когда делаешь все, все делаешь плохо.
— Может, ты и прав. Но лучший способ не делать плохо — это вообще ничего не делать.
И сразу пожалел о своих словах. Я совсем не хотел обижать отца. Ответил машинально, не подумав о последствиях. Но отец, похоже, не обратил на них особого внимания.
— Знаешь, сын, я хочу, чтобы у тебя было поменьше проблем. Борьба с расизмом, по-моему, не слишком толковая вещь. Ты же ничего не можешь сделать. Зато в один прекрасный день придется иметь дело с полицейскими и судьями, которым ты совсем не понравишься.
— Папа, вполне возможно, мы не сможем изменить это общество, но мы хотя бы заставим его задуматься! Задуматься о том, что оно собой представляет, что порождает, куда двигается.
И тут же покраснел за свою самонадеянную речь. Тоже мне, социолог нашелся!
— Знаешь, я хочу сказать тебе одну вещь… Франция, она похожа на подростка. Над ней снасильничали в детстве, но она не желает в этом признаваться. Идет, высоко подняв голову, смотрит прямо перед собой, и нам кажется, она требовательная. У нее тяжелый взгляд, и нам кажется она недобрая. Она отвечает «нет» на все предложения, и нам кажется, она суровая. Но она ребенок, изуродованный насилием, который разыгрывает взрослого. Человек, который себя не любит, не умеет любить других. Французы себя не любят. Чем они могут гордиться? Своей историей? Когда они смотрят назад, то видят тени убитых мусульман, а еще поглубже — замученных пытками евреев. Конечно, у них были принцы, короли… Но они отрубили им головы. Вот они и не оборачиваются. Им не хочется иметь дело со своим прошлым. Но у тех, кто остался без прошлого, нет и будущего. Черные напоминают им, что они были рабовладельцами. Арабы — о том, что они были мучителями. Евреи — о том, что они были малодушными. Мы тени из их прошлого. Они не понимают, что мы для них возможность подружиться с их собственной историей.
Молчаливый немногословный отец заговорил вдруг как мудрец, и в его словах звучала спокойная уверенность. Я задумался: справедлива ли его жестокая логика? Прав ли он? И что будет, если каждый поймет и примет его логику? Сможем ли мы тогда все вместе написать следующую страницу в Книге истории?
И, словно догадавшись о моих мыслях, он продолжил:
— Но понимаешь, одно дело — слова. А реальность, жизнь куда сложнее. Нельзя принуждать людей говорить о своих ошибках, своей боли, заставлять их каяться в их грехах. Французы могут и разозлиться. Будь настороже, сынок. Если стоишь за правое дело, то служи ему. Мне не нравится мысль, что ты будешь с ними бороться. Иной раз гораздо лучше не вмешиваться, предоставить перемены течению времени.
— Но у нас нет времени, папа! Каждый день арабов бьют, каждый день их оскорбляют. Мы не можем пережидать, опустив голову. Ваше поколение согласилось с такой участью, потому что вы знали: вам здесь не так уж и долго жить. А мы знаем, что нам здесь жить долго. Мы французы, и мы хотим полноправно и спокойно набираться во Франции сил.
Отец снова кивнул головой:
— Wakha akhouya. Я согласен, сын. Я выполнил долг отца, я поговорил с тобой. Ты выполнил долг сына, ты мне ответил. Если будущее нуждается в тебе, иди ему навстречу. У тебя есть преимущество перед французами: ты в ладу со своим прошлым, ты им можешь гордиться. — Он мягко откинулся на спинку дивана и улыбнулся мне.
Почему я не могу обнять его крепко-крепко? Тесно прижаться к нему?
Наверное, потому что я тороплюсь жить.
И еще потому, что я не знаю, как это делается.
Я полезен будущему? Тогда я в этом не сомневался. Мне нужна была вера, она давала мне силы двигаться вперед. Мы жаждали перемен. Наше положение было невыносимым, его нельзя было просто терпеть. День за днем я надрывался, сидя на полу в трюме, латая щели на корабле. Но это было безумием и самомнением, потому что надо быть безумцем и самонадеянным слепцом, чтобы верить, что ты нужен в эпоху кризисов и терроризма. И снова были убитые, и убийц снова отпускали на свободу, и снова вспыхивало возмущение. Я изнемогал, сатанел от бездействия. Я зарывался в книги. Я должен был добиться успеха, хотя бы в учебе, должен был с ней справиться, чтобы потом помогать другим.
Я изнемогал от отчаяния, и вот тогда-то возникло Движение, а вместе с ним воскресла надежда.
20. Вместе, чтобы жить
Мунир
Декабрь 1983
Я ликовал! Их были сотни, они шли под крики «ура!» и аплодисменты. Я орал и хлопал в ладоши со всеми. Кое-кто из них смущенно улыбался, другие не стеснялись веселиться, чувствуя себя победителями. Я почувствовал свежий ветер в парусах. Мне хотелось кричать и прыгать от радости. Но чувство приличия призывало к сдержанности. Но я понял уже: я с ними! Я пойду вместе с ними в Париж!
Даже журналисты появились! Наконец-то! Наконец-то нас услышали. Их пришло много, с техникой. Они совсем иначе, с интересом, отнеслись к происходящему. Это не был испуг, который до сих пор вынуждал представителей СМИ заглядывать к нам в квартал, а потом клишированными фразами подтверждать, что испуг был оправдан. Мы перестали быть вредным меньшинством, сотрясающим общество беспорядками, агрессивностью и преступлениями, мы перекочевали из рубрик «Разное» и «Из зала суда» в рубрики «Текущие события» и «Новости общества».
Лидеры движения отвечали на вопросы. Остальные разошлись в разные стороны. Мы поспешили им навстречу. Хлопали ребят по плечу, пожимали руки, угощали водой, бутербродами. Образовывались кружки, затевались беседы, рассказывались смешные случаи. Словоохотливые говорили, остальные, улыбаясь, помалкивали. Их было тридцать два человека, когда они вышли из Марселя. Никому до них дела не было. Ни одна душа не ждала их и в Салон-де-Провансе. Вопреки легендам арабское радио не работало.
Потом появилась статья, потом еще одна, передача по радио, и еще, и еще И вот уже в Лион пришла целая колонна. Радостная, возбужденная. Почти тысяча человек.
Они шли во имя нас всех, выражая наше отчаяние из-за несправедливости правосудия, насилия полицейских, равнодушия политиков, расистских притеснений, каждодневного унижения… Как только им протянули микрофон, они стали объяснять, свидетельствовать, будить сознание думающих французов, порой дремлющее, порой недоброжелательное. Изгнать ксенофобию. Мы вовсе не жулики и проходимцы, полные ненависти и злобы, сбивающиеся в банды, чтобы творить бесчинства, какими зачастую представляют нас теленовости. Мы французская молодежь, которая хочет мирной благополучной жизни.
Как трудно объяснить самое простое, самое очевидное. И когда над правдой глумятся, бесхитростное отстаивание ее производит впечатление агрессии. Но на этот раз инициаторы Марша хорошо все продумали, они пошли по пути, указанному Ганди. Действовать мирным путем, действовать непривычно было единственной возможностью, чтобы нас увидели и услышали. Поход дает время для размышлений, усмиряет эмоции. Мы шли все вместе в Париж. У меня наконец появилось время хорошенько подумать.
Сто тысяч участников Марша на площади Бастилии[72]. Париж нас встречал как героев — криками радости. Талеб — мы вместе присоединились к Маршу — положил мне руку на плечо. «Терпите! Мы идем!» — гласил один из плакатов, который мы несли. Полицейские сейчас сопровождали нашу демонстрацию. Проходя мимо одного из них, я пристально на него посмотрел. Взгляд у него был недобрый. Я ему не нравился. Он мне тоже. И все же сегодня недоставало всего-то малой капли, чтобы мы с ним заговорили, вступили в диалог… Во мне трепетала радость. Такая же, как в мае 81-го.
Маршем шли не только арабы. К нам присоединились разные ассоциации и политические партии тоже. Мы хотели высказаться. Нам столько всего надо было сказать.
Группа «Карт де Сежур»[73] должна была дать концерт, завершающий вечер. Ее главного музыканта, Рашида Таха, я видел несколько раз в лицее, когда он приходил к своим друзьям. У него были веселые глаза, он одевался как рокер, носил длинные волосы и очень нравился девушкам. Мы гордились его успехом. Я был знаком и с Джамелем Дифом, ударником, который приходил с небольшой группой музыкантов играть на наших семейных праздниках. Отдавая должное их таланту, левые постарались сделать их знаковыми фигурами, символами иммиграции, которая выражает свои пожелания и несогласие без драк и насилия. Примерно в том же ключе мыслили и обозреватели, следящие за Маршем. Они говорили прмерно так: собравшаяся здесь арабская молодежь — мирная, она заявляет о своих требованиях вежливыми слоганами. Пришли не разбойники, не банды из предместий, они не собираются громить столицу страны, которая их отторгает и мечтает подавить силой.
Но должен признаться честно, я не верил, что работа Туми Джаиджа и его друзей увенчается успехом. Объединить арабов какой-нибудь идеей? Мне казалось, что это невозможно. Отсутствие дисциплины, споры и раздоры, неумение сформулировать общие для всех требования сводили на нет все попытки объединиться, а значит, вынуждали опять быть покорными. Да что далеко ходить? Я и сам был жертвой тех же привычек и предрассудков, какие осуждал в других.
Делегацию от Марша примет президент в Елисейском дворце. Новость принесла нам Фадила, девушка из Дижона, присоединившаяся к Маршу со своими друзьями.
— В Елисейском дворце, ты подумай! — хмыкнул Талеб. — Нас в «Палладиум» не пускают, а тут на тебе, Елисейский дворец!
— А что такое «Палладиум»? — поинтересовалась Фадила.
— Модная дискотека в Лионе. Арабов туда не пускают.
— А ты разве араб? — спросила она, и в глазах ее засветились лукавые огоньки.
Темные вьющиеся волосы лежали по плечам Фадилы, пухлые губы улыбались, показывая красивые белые зубки. Мне кажется, я в нее влюбился. Впрочем, не знаю… Какие только чувства нас тут не захлестывают.
— Нет, я датчанин, а с арабами из солидарности.
Тут уже мы все рассмеялись. Не такая смешная шутка, но мы готовы были хохотать по любому пустяку, так переполняла нас радость.
— Но я серьезно спрашиваю! Слово «араб» означает жителя Аравийского полуострова. Алжирцы, тунисцы и марокканцы не арабы.
— Фадила, не занудствуй! Ты что, собралась читать нам курс географии?
— Но это же важно. Важен смысл каждого слова.
— И что же? Значит, мы не бёры?[74] — осведомился Талиб.
— Бёры… Марш бёров. Безобразие! Бёр — это вообще сленг, и к нам не имеет ни малейшего отношения. А вы видели, с каким удовольствием употребляют его журналюги и политики? Они уверены, что этим словом охватили всех, нашли волшебное словечко, которое поможет им нагнать общество, которое меняется так быстро, как им даже не снилось. К тому же от «бёр» во рту масляно[75], не то что от «араба».
— Да плевать, как называют, лишь бы заговорили о наших проблемах. Нас примут в Елисейском дворце, Фадила! Это же круто!
— А дальше что? Вы всерьез думаете, что наши проблемы очень озаботят президента? Это все журналистика. Нас примут, снимут на камеру. Бёры в Елисейском дворце! А знаете, что я подумала? Не стало бы это маслицем, какое помогло Брандо трахнуть Марию Шнайдер в «Последнем танго в Париже»!
Мне совсем не понравилась ассоциация, а уж тем более из уст Фадилы… Повисло смущенное молчание, которое прервал Талеб:
— Тебе очень надо испортить минуту радости? Лично я верю в перемены. Я голосовал за них. Ради них присоединился к Маршу. И для меня теперь настала счастливая минута. А если для тебя все на свете обман, то зачем ты вообще участвовала в этом Марше?
— Да ты что, дурачок! Ты не понял! Я тоже счастлива! Но главное не то, что открылись двери Елисейского дворца, как проход через море перед Моисеем, не то, что будут счастливы журналисты, оказавшись среди магрибцев, не боясь, что их камеры разгрохают… Для меня самое главное, что ты, я, он — мы собрались вместе! Вот что самое ценное! Мы познакомились, поняли, что мы в одной связке. Наша слабость — это разобщенность. Мы чувствуем себя алжирцами, тунисцами, марокканцами. Более того — жители одного города отличают себя от жителей другого, городские от деревенских, горцы от жителей равнины. Различия на глаз незаметны, но ведут к отдалению, взаимному безразличию. Я уж не говорю, до чего далеки от нас палестинцы, ливанцы, иранцы… Благодаря Маршу мы сблизились, ощутили свою солидарность…
Мысли не сложные, но убедительные. Фадила не углублялась в нюансы, ей хотелось, чтобы мы откликнулись. Но я чувствовал, она богаче, сложнее…
Талеб тут же вступил в спор:
— О чем ты говоришь? О великой арабской нации? Но меня и вправду не слишком заботят палестинцы. И ливанцы тоже. А еще меньше иранцы. Ничуть не больше, чем румыны, камбоджийцы и еще множество разных других народов. Да и с чего бы я стал уж так заботиться об их судьбе? Потому что они мусульмане? Но я не хожу в мечеть. Да если бы и ходил! Француз что, чувствует себя ближе к чилийцу или аргентинцу, потому что они тоже католики?
Фадила устало покачала головой, пожала плечами и оглядела волнующуюся на площади толпу.
— Ладно, ребята, оставим это. Вы еще зеленые и глупые. Со временем все поймете. Не головой, я имею в виду. Неудачи и унижения станут путеводной звездой, которая поведет вас во тьме.
Она больше на нас не смотрела, помахала рукой кому-то невидимому и ушла. Мне хотелось догнать ее, договорить, разобраться.
Или поцеловать.
Мы договорились встретиться с Рафаэлем в кафе «Де ля Пост». Не виделись несколько месяцев. Он позвонил мне вскоре после Марша.
— Я считаю, что это здорово, Мунир!
— Я тоже, приятель.
— Внушает надежду.
— Я никогда ее не терял. Знаешь, когда участвуешь в подобных акциях, в какую-то минуту веришь, что тебе все подвластно. Но я уверен — как только возбуждение спадет, останется всего несколько человек, которые, засучив рукава, ринутся работать.
— Мне кажется, ты стал спокойнее.
— Наверное. Я выплеснул свои чувства. Как говорит твой старый дядюшка ашкеназ, они слишком долго лежали под спудом. На Марше была возможность. Плакаты, камеры, микрофоны. И поверь, все по делу.
— Hasta победа siempre![76]
— Иншаллах!
Я рассказал Рафаэлю про Фадилу.
— Ты хочешь сказать, что влюбился?
— Может быть. Я тебя познакомлю. Она супер.
— Смотри, не просчитайся! Ты же знаешь, что я неотразим.
— На этот раз у тебя никакого шанса.
— Она не любит красивых молодых людей?
— Она любит только арабов.
— Ты влюбился в расистку?
Мы посмеялись и договорились о встрече.
Я сидел за столиком уже минут десять, когда наконец появился Рафаэль. Я очень ему обрадовался, но поздоровался он со мной холодновато. Так, во всяком случае, мне показалось.
— Привет, старик!
Мы обменялись рукопожатием.
— Что с тобой? Почему такое выражение лица? Ты что, не рад меня видеть?
— Реакция на твою арафатку.
— Подарок Фадилы. Я приглашал ее пойти со мной, но она сегодня занята.
Я стал носить арафатку, потому что это был первый подарок от девушки, которую я завоевал, и потом в квартале это стало модно. Я объяснил это Рафаэлю, и тот принял мое объяснение. Но мне почему-то стало неприятно, что я должен перед ним оправдываться. Пусть я не такой убежденный борец, как Фадила, но судьба палестинцев мне небезразлична.
— Ну так что? Мы беседуем или спорим? — спросил я.
Рафаэль пожал плечами.
— Так ты всерьез влюбился? — Он явно хотел сменить тему.
— Да, я так думаю. Она девушка необычная. А ты? Ты уже нашел себе хорошенькую евреечку?
— Нет еще. У меня пока только приключения.
— С еврейками или гойками?
— С гойками.
— Ты что, в любви антисемит?
Рафаэль расхохотался.
— Понимаешь, еврейки ищут себе мужа. У них у всех одно на уме: найти симпатичного парня, познакомить с родителями и сыграть попышнее свадьбу с обрядом хны на восточный лад, с подвенечным платьем и гостями на западный, а потом рожать детей и ездить в отпуск в Израиль. Но сначала жених должен пройти тест.
— Какой же?
— Протанцевать романтическое слоу под песню Даяны Телл «Будь я мужчиной…», преданно глядя в глаза избранницы.
Мне стало смешно.
— Ты серьезно? Даяны Телл?
— Вау! В музыкальном мире евреев тоже есть идолы — Джордж Бенсон, Жильбер Монтанье, Стиви Уандер… Свой стиль, понимаешь? Ну так представь себе, что творится, когда я заговариваю о «Led Zeppelin», «Queen», «AC/DC»?[77]
— Хорошо, согласен, но, кроме разницы в музыкальных вкусах, что тебя держит на расстоянии?
Рафаэль задумался.
— Уважение. Мне не хочется обмануть еврейскую девушку, встречаться с ней, может быть, переспать, а потом бросить.
— А по отношению к гойкам тебя это не смущает?
— Если честно… нет.
— Но это же расизм!
— Француженки — девушки эмансипированные. Они легко ложатся в постель, из удовольствия. И не требуют женитьбы с первого же вечера.
— Еврейки не любят трахаться, так?
— Хватит меня доставать. Ты прекрасно знаешь, о чем я. У вас девушки точно такие же!
— Да, восточная культура… У нас так много общего.
— Не теперь… Все пошло по-другому между евреями и арабами.
Рафаэль помрачнел, подобрался. Он явно опасался скользкой темы, которая может нам все испортить.
— Знаешь, мне кажется, мы с тобой ошиблись, — сказал я. — Малышами, потом в лицее мы придумали историю об особых связях между евреями и арабами. Но это была наша собственная история, и она нам показалась общей.
— Но дружили не только мы с тобой. В лицее арабы и евреи прекрасно ладили.
— Вау! Лицей — одно, жизнь — другое. На одного араба, поступившего в лицей, сколько приходится поступивших в ремесленное? А сколько их вообще без образования? Всем, кому повезло, как мне, легче было сблизиться и с евреями, и с другими тоже. Нас связывала общая культура, мы все хотели преуспеть, все были чужаками.
— И ты думаешь, что и в арабах, и в евреях все-таки жила ненависть?
— Ненависть? Нет, это слишком сильно сказано. Но я встречал в квартале ребят, которые не любили евреев. И не говори, что от евреев ты ни разу не слышал ругани в адрес арабов. Но у нас был общий враг — нацики, и наши разногласия не имели значения. А потом события в Израиле вытащили на поверхность ненависть и возможность ее выражать.
— Знаешь, чего я не могу понять? Почему мусульмане во Франции принимают близко к сердцу происходящее за тысячи километров от них, а соседним с Израилем мусульманским странам до палестнцев и дела нет?
— Задам встречный вопрос: почему французские евреи солидаризируются с израильскими?
— Потому что Израиль — наша страна. Наша родина. У нас у всех есть там друзья и родственники. Потому что если в один непрекрасный день вновь возникнут гонения на евреев, Израиль примет нас под свою защиту. О палестинцах вы такого сказать не можете.
— Не можем. Но положение палестинцев в Израиле очень похоже на наше во Франции.
— Хорошо. Я знаю, что сострадание — главная добродетель мусульман. Но в мире тысячи страдающих народов. И ни один из них не привлекает вашего сострадательного внимания.
Я промолчал. Не хотел вступать на минное поле.
— В общем, все очень сложно, — подытожил Рафаэль. — И главная опасность для нас сегодня — Ле Пен.
Он искусно повернул разговор в другое русло. Нашел тему, где мы были полностью согласны друг с другом. И все же взаимная неловкость не исчезла. Больше того, я понял, что он очень изменился, и перемена отдалила нас друг от друга. Навсегда? Этого я пока не мог сказать.
Октябрь 1984
Марш не мог обойтись без каких-то значимых ощутимых последствий. Мы должны были показать и дать понять расистам и Национальному фронту, что готовы противостоять той ненависти, которой они кипят. Популярным и модным стало слово «бёр». Власти и СМИ упивались им, они были счастливы, что нашли более мягкое и менее двусмысленное слово, каким можно было называть всех нас, французских арабов. Похоже было, что люди взяли в руки носовой платок и смогли наконец притронуться к подозрительному и опасному объекту. И это было правильно. Но что еще происходило кроме этого? Хотелось двигаться по этому пути дальше.
И вот возникла организация, гордая, требовательная, наступательная — «SOS расизм». В ней бёры, евреи, черные объединились против общего врага, забыв о том, что еще вчера их разъединяло.
Мы собирались жить по-новому в наших предместьях, создать новое общество, не знающее дискриминации, сильное нашей непохожестью. Очень скоро мне предстояло закончить учебу, и работа этого общества позволяла мне надеяться, что я найду себе где-нибудь место.
— «Не трогай друга!» Всего три слова, а ты уже высказался против расизма, сказал о готовности встать на защиту друга, кем бы он ни был, протянул ему руку помощи. Отличный, черт побери, слоган!
— Мунир!
Мама всегда одергивала меня, она не терпела от меня грубых слов.
— Прости, я нечаянно.
— Положи ему хариссы[78] на язык, — пошутила Джамиля.
Папа не вступал в наши разговоры. Происходящее словно бы проплывало мимо него, он ни во что не вмешивался. Непрекращающиеся экономические неурядицы подействовали на него угнетающе, он замкнулся.
Мы обедали в семейном кругу, и Фадила была у нас гостьей. Она быстро поладила с моими домашними, и только папе, похоже, был не по нутру ее бурный темперамент, ее участие в мужских разговорах, ее увлечение политикой. Он считал, что женщина должна вести себя скромно и не вмешиваться ни в политику, ни в экономику. Поэтому, когда Фадила приходила к нам, он становился еще молчаливее, только наблюдал и прислушивался.
— Этот слоган ничего не изменит, — заявил Тарик.
— Послушаем дежурного пессимиста!
Брат у меня не был пессимистом, он был прагматиком. Он записался на юридический и теперь работал до седьмого пота, собираясь стать адвокатом. По его понятиям, о победе свидетельствовал принятый закон. Объявление о намерениях, символы и слоганы в его глазах были пустым звуком.
— Многие французы расисты, — продолжал он. — И, прицепив желтую руку на куртку, нутро не изменишь.
— Совершенно согласна с малышом, — объявила Фадила.
Между моим младшим братом и Фадилой, которую все уже считали моей невестой, возникла особая приязнь. Она называла Тарика «малышом», потому что он был на голову выше всех нас, и очень ценила в нем такой же, как у нее, бойцовский характер.
— Создание этой организации свидетельствует, что в этой стране существует проблема расизма, — настаивал я.
— Наивное прекраснодушие!
— Ничего подобного! Эти люди поняли действенность информации. Слоган, желтая рука на одежде привлекают внимание, останавливают на себе. Организация ставит своей целью защищать пострадавших, бороться с несправедливостями. Для полицейских, для судов будет сложнее находить возможности оставлять на свободе убийц арабов.
— Возможно, — согласился Тарик, признав справедливость моих аргументов. — Но расизм это не искоренит.
— Разумеется. Но если суды станут более справедливыми, будет осуществлен огромный шаг вперед. Возможно, это образумит ненормальных, которые считают арабов движущейся мишенью. Менталитет изменится со временем. Может быть, в следующем поколении.
Тарик ласково взглянул на меня.
— Ах ты, мой дорогой идеалист! — сказал он и похлопал меня по плечу.
Тарик любил меняться со мной ролями, разыгрывать из себя старшего брата, пользуясь тем, что был выше и плотнее меня. У него был волевой характер, и он двигался по жизни, не обольщаясь иллюзиями, опираясь на твердые убеждения. Младший брат посмеивался над моим «утопизмом», и его снисходительность не всегда бывала мне приятна.
Почему, спрашивается, вера, что укоренение в обществе гуманистических ценностей поведет к справедливости, — это «утопизм»? Потому что пока надежда на эти ценности не принесла зримых результатов? Но надо видеть историческую перспективу, любые перемены совершаются со временем.
— Мне это не нравится, — тихо сказал отец.
Он так редко принимал участие в наших спорах, что мы все замерли, ожидая, что он скажет дальше.
— Что вам не нравится, месье Басри? — спросила Фадила. — Создание новой организации?
— Нет. Мне не нравится ваша уверенность.
— Ну-у почему же? У нас есть убеждения, мы люди идейные, — продолжала моя красавица невеста.
— У мудрого есть только два убеждения: он умрет в день, о котором знает один только Бог, а до этого будет жить. Эти убеждения порождают смирение.
Фадила приготовилась возражать, но я моргнул ей, призывая к молчанию. Тарик улыбнулся. Отец обычно вмешивался в наши споры, упоминая какую-нибудь поговорку или рассуждение, которое заставляло задуматься.
Джамиля встала со своего места, подошла к отцу сзади и положила голову ему на плечо. Она не хотела, чтобы он грустил, отчаивался, говорил о смерти. Своим взглядом она запрещала нам малейшее неуважение к нему.
«Не трогай папу!»
21. Врастание и распыление
Мунир
Мама плакала. Из-за долгой разлуки? Или ей казалось, что меня ждут большие опасности?
Папа выглядел растерянным. Мне думается, он гордился тем, что я, как «все французы», отправлялся на военную службу, но в то же время он был удивлен: вот, оказывается, к чему привело его желание двадцать лет тому назад найти работу во Франции.
А я сам? Я нервничал, сомневался и беспокоился.
— Ты что, всерьез? Пойдешь в армию? — Лагдар не поверил своим глазам, когда я показал ему маленькую бумажку с красной печатью «годен» после того, как два дня провел в Женераль-Фрер, проходя медкомиссию.
— Да. А почему нет?
Удивленные взгляды ребят из нашей компании меня не удивляли.
— Но ты с ума сошел! Это же французская армия! А ты не француз, ты араб. Марокканец, в конце концов!
— В паспорте написано — француз.
— И что? Наденешь их мундир?
— Почему нет?
Я старался показать, что на все сто уверен в себе, но вопросы невольно расшевеливали чувство вины, которое и без того меня мучило. Я же всегда был пацифистом. Тем более что французская армия, учитывая ее прошлое, не вызывала у меня особо добрых чувств.
Но как я мог избежать военной службы?
К тому же армия могла мне помочь сжиться с французами. Да и возможность получить новый жизненный опыт тоже была мне по душе. Уехать далеко от дома, пожить совсем другой жизнью, познакомиться с ребятами, приехавшими со всех концов страны… Почему бы нет?
— А если Франция завтра объявит войну Марокко? Пойдешь на своих? Будешь, как харки?
Вопрос меня оглушил.
— Да нет, конечно! Ясно. Что нет.
— А почему не попробовал откосить? — спросил Фаруз. — Многим удается. Изобразил бы психа, дали бы тебе категорию, и жил бы себе спокойно.
— Очень спокойно! С такой бумажкой мне бы никакая работа не светила, — возмутился я.
— Она тебе и так не светит, — насмешливо отозвался Лагдар.
Я мог бы ответить, что рассчитываю стать учителем, а для этого лучше отслужить в армии, таких охотнее берут на работу, но мне не хотелось делиться своими планами.
У нас в квартале многие пускались во все тяжкие, чтобы обойти «потерянный даром год». И зачастую с успехом. Рафаэлю удалось избежать армии благодаря поддельной медицинской справке о том, что у него семейная тропическая лихорадка, болезнь, распространенная среди средиземноморских народов. Рафаэлю и впрямь нечего было терять год, играя в солдатики.
— Они же в армии все расисты, — подлил масла в огонь Фаруз. — Ты окажешься в компании парней из деревни, они в глаза не видели арабов, но это не помешает им тебя презирать.
— А я одобряю решение Мунира, — заявил Туфик.
— Ты меня не удивил, — ядовито отозвался Фаруз. — Вы у нас оба образованные и лучше всех все понимаете.
— Просто нужно знать, чего хочешь! — не сдавался Туфик. — Или ты марокканец, алжирец и живешь во Франции временно, тогда разумно не идти в армию. Но если собираешься прожить жизнь здесь, то, значит, подчиняйся правилам.
Лица ребят ясно выразили несогласие с такой житейской позицией. «Подчиняйся правилам…» Даже те, кто надеялся стать французом, не хотели подчиняться правилам. Они скорее были готовы остаться в лагере несогласных, не принимать правила.
— Туфик прав, — поддержал я приятеля, собираясь положить конец советам и насмешкам. — Отец у меня безработный и получает пособие. Мне дали возможность бесплатно учиться, и я даже получал стипендию. И значит, если меня устраивали правила, когда я ими пользовался, то я должен и отслужить в армии. Хотя, возможно, я совсем не рад этому… Как любой из нас.
— Ну и дураки, — крикнул Фаруз и захлопал в ладоши.
Мы с Туфиком пожали плечами и ушли.
Фадила тоже посмеялась над моим желанием во что бы то ни стало стать французом. Но в конце концов поняла меня или сделала вид, что поняла. Конечно, наша разлука меня беспокоила. Фадиле могло надоесть ждать меня, она могла встретить кого-то другого, забыть меня. Но, с другой стороны, я считал это выпавшим нам испытанием. И если спустя год мы сохраним нашу любовь, то, значит, мы созданы друг для друга.
— Ну что, пошли? — позвал Тарик. — А то на поезд опоздаешь.
Я поцеловал родителей, крепко обнял сестру. Джамиля всхлипнула, сказала, что будет писать и она меня любит. У меня невольно подкатил комок к горлу.
Вошли в лифт, и воцарилось гнетущее молчание, мама, сестра чуть не плакали. Брат не знал, как мне выразить свою любовь и огорчение, что я уезжаю.
— Ты к какому полку приписан? — спросил он, чтобы нарушить нависшее молчание.
— К сто десятому пехотному.
— И место известно, где расквартирован?
— Донауэшинген, округ Фрайбург.
— Название фильма ужасов.
Мы улыбнулись.
— Фадила тебя ждет на вокзале, чтобы попрощаться?
— Нет, она сказала, что не любит вокзальных прощаний.
— Я тоже. Но я тебя одного не оставлю.
Декабрь 1986
Еще одна жертва. Опять нож нам в сердце. Глубокая кровоточащая рана. Малик Уссекин не участвовал в студенческих протестах против закона Деваке[79]. Он вышел из джаз-клуба и спокойно отправился домой. Это был серьезный мальчик, полностью погруженный в учебу в универе. И стал жертвой только из-за внешности. Только потому, что он араб. Случилось это ночью неподалеку от мест, где студенты митингуют против закона Деваке. И кем он мог быть? Только бунтовщиком и нарушителем. Полицейские шли за ним до подъезда, куда он вошел, пытаясь от них отделаться, не понимая, почему его преследуют. В подъезде его повалили на пол, били кулаками, ногами, дубинками. Что думал, что чувствовал Малик? Дикую боль, страх, непонимание… За что?! Я пытаюсь себе представить эти минуты, и к глазам подступают слезы.
Малик скончался в больнице. И… полное молчание. Ни сожалений, ни наказания. Если что-то и было, то прошло незамеченным. Зато министерство внутренних дел и министерство безопасности встали на защиту полицейских. Они обвинили родителей Малика — почему, дескать, те позволили сыну выйти из дома, хотя он страдал почечной недостаточностью. Можно подумать, что люди с такой болезнью обречены на затворничество. Той же ночью в баре был убит полицейским Абдель Бенайя. Полицейский был пьян, и Абдель пытался погасить ссору. Я места себе не находил, был вне себя. Что же это такое? Так и будет продолжаться? Неужели мы напрасно надеялись на Миттерана, на Марш, на создание «SOS расизм»? Неужели все впустую?
Квартал кипел — люди бранились, клялись отомстить. Их переполняли ярость, ненависть, гнев, за которыми таился страх оказаться в любую минуту такой же жертвой. Жертвой, о которой никто не вспомнит, из-за которой никто не понесет наказания. Никто из нас не сомневался, что правосудие и на этот раз встанет на сторону палачей.
Стражи порядка убивают, правосудие продается и покупается… Какую информацию получили бесправные от власть имущих? Какое представление о добре и зле? Чего можно ждать от этих бесправных и обездоленных в будущем? Они будут попирать законы.
— Ты видишь, что ничего не изменилось? И не изменится! — сказал мне Тарик, положив передо мной «Либерасьон» и открыв на странице, где сообщались эти факты.
Он был прав. Столько надежд, и никаких перемен.
Но, наверное, требуется гораздо больше времени, чтобы произошел сдвиг в общественном сознании, которого все мы так ждем? Так я, по крайней мере, думал, на это надеялся, но мой запас оптимизма иссяк. Мне нужна была хоть одна, хоть самая маленькая победа, чтобы надежда воскресла…
— Гады! Они гады! — бушевал Лагдар. — Арабы для них мишени! Создавай хоть тысячи «SOS расизмов», их не изменишь!
— Когда-нибудь в полиции будут работать и арабы тоже, — вмешался Тарик. — Возможно, тогда что-то изменится.
— Мой брат становится утопистом, — не мог не съехидничать я.
— Это не утопия, а естественный ход вещей. Когда мы будем работать во всех общественных структурах, то сможем пользоваться данными нам правами.
— Вау! Не так-то это просто! — возразил Лагдар. — Много мы видели арабов, которые хотят учиться, чтобы участвовать в конкурсах на административные должности? Большинство нищие, им нужен заработок, они идут в ремесленные. А многие вообще не учатся.
— Так оно и есть, — согласился я. — Нам повезло с родителями, спасибо им, они заботились о нашем будущем. Отдали в школу, следили, чтобы мы учились. Большинство из наших друзей были предоставлены сами себе, их родители не стремились понять Францию, не искали к ней ключа. Они были заняты работой, главным для них было накормить детей.
— Целое поколение было принесено в жертву, — подтвердил Тарик, — но нельзя винить за это только родителей. Франция упорно давала нам понять, что она не хочет нас принимать. Когда тебя изгоняют и унижают, ты неизбежно будешь жить на обочине. Но я уверен, что следующее поколение не упустит своего шанса и у нас появятся адвокаты, судьи, врачи, учителя, полицейские мусульмане.
— Иншаллах!
Ноябрь 1989
Из-за хиджаба запылали общественные страсти, наши отношения с Фадилой тоже накалились. На этот счет у нас были противоположные мнения. Она защищала право девочек ходить в школу с покрытой головой. Возмущалась исключением, негодовала, что маленькие мусульманки стали новой мишенью для тех, кто воспринимает ислам как опасность.
— Я считаю правильным требование снять платок в общеобразовательной школе, — заявил я в одной из наших схваток.
— Так! Значит, из защитника свободы самовыражения ты стал теперь надзирателем? — сердито спросила она.
— При чем тут свобода самовыражения? Они ничего не выражают.
— Выражают свою веру!
— Именно! Мы с тобой тоже мусульмане, уважаем традицию, исполняем главные обряды, например, постимся на Рамадан. Но мы это делаем дома, потому что живем в светском обществе. Стало быть, девочкам не стоит выставлять свою веру напоказ в общественном месте.
— Светское общество не запрещает религий, но не поощряет их пропаганды в общественных местах.
— Ношение хиджаба тоже своего рода пропаганда!
— Не больше, чем мини-юбка или кипа. Скажи мне, пожалуйста, кто запрещает подросткам одеваться нарочито вызывающе?
— Не сваливай все в одну кучу! Это совершенно разные вещи.
— Все в кучу сваливаешь ты! Ты боролся против расизма, против изоляции, а теперь выступаешь на стороне своих вчерашних врагов!
— Я выступаю на стороне логики, Фадила. Нельзя требовать, чтобы французы способствовали адаптации чужеродных для них народов и одновременно поощряли их религиозные особенности. Ношение хиджаба и есть стремление к изоляции. Ты прекрасно знаешь, что это не просто признак религиозности, это еще и заявление, что ты другой.
— Что исповедуешь иную религию, ничего больше. И о каком светском обществе ты говоришь? Обществе, которое принуждает нас праздновать Рождество? Принуждает в детстве рисовать бородатых стариков на санях и украшать елки?
— Дед Мороз не имеет никакого отношения к религии. И рождественские праздники в школе были всегда просто развлечением, весельем. От нас не требовали ни обрядов, ни молитв.
— Лично я терпеть не могла Рождество!
— Я тоже. Во всяком случае, поначалу. Потому что чувствовал особенно остро, что мы не отсюда.
— Вот видишь!
— Потом я понял, что благодаря Рождеству можно лучше понять Францию. И потом ты сама знаешь: немало мусульман не отказывают себе двадцать пятого декабря во вкусной еде и даже, если повезет, в подарках.
— Вау! А ты заметил, что сейчас все больше мусульман-французов идут по пути веры?
— Да, и это меня тревожит. Имамы вколачивают им в мозги идеи, которые ни к чему хорошему не приведут.
— Молодежь стремится к самоопределению, Мунир. Ислам предлагает это самоопределение. И поверь, не все имамы чокнутые.
— Но есть и чокнутые.
— Конечно! Но девочки, которые хотят носить хиджаб, убеждаются, что, как только они заявляют о своем самоопределении, их отвергают. Вообрази себе травму, когда в таком возрасте тебя объявляют врагом Республики!
— А кто виноват? Франция или имамы, которые заставляют их выставлять свою веру напоказ? Они клишированы, ты это понимаешь?
Фадила посмотрела на меня взглядом, который я ненавидел: в своем женихе она неожиданно открыла чужого, неприятного ей человека.
Но не одна она совершала неприятные открытия. Меня удивляло и огорчало, что моя невеста все больше и больше вовлекалась в религию. Я боялся, что в один прекрасный день мы окажемся не близко, а очень далеко друг от друга.
22. Строить жизнь
Мунир
Завтра у меня свадьба. На свадьбу приехало множество родни — они остановились у нас, тетушек, дядюшек, друзей. В кухне женщины пекут сладости, поют, смеются, болтают. Мужчины отправились на прогулку, им нет места среди лихорадки праздничной суеты. Ко мне заглянул Тарик — несмотря на улыбку во весь рот, чувствовалось, что он очень взволнован.
— Ну и как ты? — спросил он меня, похлопав по плечу. — Какие ощущения?
— Даже не знаю… Волнуюсь, теряюсь и счастлив.
Брат рассмеялся и подтолкнул меня к кухне. Как только меня заметила мама, тетушки, кузины, соседки, они захлопали в ладоши и не в лад, но очень радостно затянули песню.
Мама с гордостью меня оглядела.
— Ну и как ты? — спросила меня Джамиля, словно на свете был один-единственный вопрос, который можно задавать жениху.
— Волнуется, растерян и счастлив, — тут же ответил вместо меня Тарик.
Одна из тетушек подошла ко мне, крепко обняла и громко чмокнула в обе щеки.
— Zine tahe! Каким ты будешь красавцем мужем! — воскликнула она, обмахиваясь растопыренными пальцами, как веером.
— Эгей! Господин профессор женится, — пошутила другая, сделав значительное лицо.
Я действительно стал учителем, и все стали звать меня «господином профессором». Для всех моих родственников преподавать в государственной школе — все равно что получить дворянство и герб, обеспечить себя на всю жизнь работой, получить доступ к общению с любыми французами, стать ответственным лицом, потому что будущее моих учеников в какой-то степени зависит от меня. Они не знают, что у меня не было другого выбора. Что мне не хватило воли, да и надежды тоже, чтобы попробовать защититься, стать доктором или агреже[80]. Мне не хотелось еще долгие годы сидеть на шее у родителей. И хотя они никогда не жаловались, я прекрасно знал, как трудно мы живем. Значит, мне надо было отрабатывать учебу на экономическом и диплом социолога, поэтому я устроился преподавать основы коммерции в профтехучилище. Поначалу мне там очень не понравилось. Не хотелось снова жить проблемами предместий, проблемами молодежи, я отдал им немало сил, развеял немало иллюзий. Мне казалось, у меня недостанет энергии вновь справляться с трудностями подростков в училище, куда попали ребята, в основном не справившиеся с обычным школьным образованием. Фадила, напротив, твердила мне, что в училище я буду на месте, что я получил шанс помочь подросткам, чьи беды, трудности и страхи знаю на собственной шкуре. И она оказалась права. Очень скоро я почувствовал себя на месте.
— Хочешь, я скажу тебе одну вещь? — осведомилась другая моя тетя, подняв руки в сладком тесте.
И не ожидая моего ответа, сообщила:
— У тебя красивая невеста, очень умная девушка, но у нее большой недостаток.
Мама сдвинула брови.
— Какой же?
— Она алжирка.
Кто-то рассмеялся, услышав ее слова, кто-то принялся одергивать.
— Да что ты такое говоришь? Да еще накануне свадьбы? Перестань! Оставь его в покое!
Но тетушка, смеясь, выставила грудь вперед.
— И что же? Я не имею права высказать свое мнение? Вы мне голову не отрубите, если я скажу, что куда лучше было бы нашему Муниру выбрать красоточку марокканочку!
В первый раз с такой непосредственностью была затронута спрятанная под спуд проблема. Большинству моих родственников хотелось, чтобы я выбрал себе жену среди «своих».
— Тут все по-другому, — вставила свое слова мама, задетая словами сестры. — Никто не обращает внимания, тунисец ты, марокканец, алжирец. Все одинаковы.
— Погоди! Тунисцы все-таки неодинаковы, — пошутила одна из подруг.
И все снова рассмеялись.
Джамиля подошла ко мне и увела из кухни.
— Не слушай глупую болтовню. Одно и то же, как только приехали. И если бы ты знал, что они говорят, когда рядом нет мужчин!
Сестренка не могла не рассмеяться.
— У тебя все готово? Костюм? Ботинки?
— Все готово, сестренка. А папа где?
— На огороде. Повел мужчин показать, решил похвастаться талантами огородника.
С тех пор, как мэрия выделила нам небольшой клочок земли неподалеку, папа проводил на нем все свое время. Никто в семье не возражал — так целительно подействовала на него работа на земле. У него появились друзья-соседи, он зачастую и обедал там, возвращаясь только к вечеру и гордо выкладывая на стол овощи.
— Как ты думаешь, он рад тому, что я женюсь?
— Еще как рад! Он тобой гордится. Твоей работой, умом, умением держаться. Он молчит, не показывает своих чувств, но я слышала их разговор с мамой.
— Ты подслушиваешь у дверей?
— Поневоле. Чтобы не оказаться в один прекрасный день в самолете, летящем в Касабланку, с мужем лет под пятьдесят, — улыбнулась она.
Я крепко обнял сестренку, а она добавила:
— Знаешь… Я люблю Фадилу. — Тут Джамиля доверчиво подняла на меня глаза. — Я хотела бы быть на нее похожей.
— Она тоже тебя любит.
Фадила словно заворожила мою сестру, да и других домашних тоже. У Фадилы активная позиция, она работает в разных организациях, диплом юрфака позволяет ей говорить свободно и не стесняясь, и эта ее свобода производит ошеломляющее впечатление в обществе, где женщины чаще всего опускают глаза долу и прячутся в тени мужей. Кое-кто из родни считал, что она мне не подходит, что не будет хорошей женой, устроит мне трудную жизнь. Джамиля так не считала. Сестра нашла в моей будущей жене человека, которому могла довериться. Надеялась, что она поможет ей избежать принуждений традиционного уклада. Среди знакомых девушек Джамили несколько уже уехали в Марокко, чтобы выйти замуж за выбранных родителями женихов. Выбирали их совсем не по симпатии и не по характеру. Джамиле такое не грозило, наши родители не придерживались старинных правил, они приняли западный образ жизни. Но в последнее время отец становился все более религиозным, и Джамиля побаивалась, как бы он не поддался влиянию родни. Как только из девчонки она стала девушкой, все дальние родственники — кузены и племянники — сделались ее возможными женихами. Конечно, папа не станет принуждать дочь выходить замуж против ее воли, но знакомить с ними, безусловно, считает своей обязанностью.
— Фадила мне сказала, что завтра у нас в гостях будет много симпатичных молодых людей, — сообщила мне Джамиля со смехом.
— И что? Мне придется побыть для тебя старшим братом? — спросил я, грозя ей пальцем.
Она схватила мою руку и поцеловала.
— Я так счастлива за тебя!
Мне хотелось бы, чтобы Рафаэль был рядом в день моей свадьбы. Мы с ним не виделись после нашей встречи в кафе «Де ля Пост». Он женился в прошлом году и на свадьбу меня не пригласил. Мне почему-то это было горько. Я считал, что дружба, которая началась в детстве и прошла через юность, настоящая. Что она продлится до конца жизни, питаясь воспоминаниями, воскресая при каждом важном жизненном событии.
А на деле Рафаэль нашел себе новых друзей и позабыл обо мне.
Я мог бы пренебречь горьким осадком, воспользоваться случаем и попробовать вернуть нашу дружбу, но от общих друзей знал, что он стал членом сионистской организации, всерьез ударился в иудаизм. Он изменился, и я не был уверен, что мне понравится новый Рафаэль. Еще в лицее мы как-то заговорили о своих будущих свадьбах, и Рафаэль посмеялся: «Представляешь, еврей свидетель у своего друга мусульманина?»
Это было давно. Мы тогда были другими.
Часть 4 Сомнения 90-е годы
Рафаэль
Девяностые годы можно было бы назвать годами стабильности. Я утвердился в жизни, всерьез почувствовал себя взрослым, не чурался обязанностей, брал на себя ответственность, жил счастливой семейной жизнью, которая стала еще полнее с рождением трех моих детей.
Я ощущал себя сильным: у меня были семья, работа, будущее. Однако новая вспышка антисемитизма поколебала мою не слишком прочную безмятежность. Антисемитизм многолик, он наращивает возможности проникать и вредить повсюду, отравляет своим ядом умы и помыслы.
Происходящие события вновь пробудили во мне сомнения и опасения, вновь подрезали крылья моей мечте о мирном будущем.
На протяжении этих лет мне с немалым трудом пришлось смириться с истиной: иудаизм несовместим с беззаботностью.
23. Ненависть проявляется по-новому
Рафаэль
Май 1990
До каких низостей способен дойти антисемитизм?
Вопрос праздный: история уже на него ответила.
После ужасов, совершенных нацистами, антисемитизм на некоторое время стушевался, заявлял о себе косвенно, а затем снова приободрился, забурлил в головах, перестал стесняться бранных слов, физических действий, призывов к уничтожению… После розовой зари надежд 1981 года Францию накрыл коричневый туман, и отдельные граждане стали громко говорить то, о чем тихо думали, называя газовые камеры исторической частностью, упрекая СМИ за большое количество в них евреев, позволяя себе некрасиво играть словами, давать волю недостойным речам. Разумеется, благодаря этим ненавистникам мы получили возможность познакомиться со своими врагами, понять, на что они способны, научиться держать оборону. Но никто и представить себе не мог, что ненависть в один прекрасный день подаст руку низости, и еврейское кладбище будет осквернено, что будет совершено надругательство над могилами, выкопаны усопшие и одного из них проткнут колом! Нам показали, что гнусное чудовище, как говорили когда-то, проснулось.
— Это не арабы, — твердо заявил Марк. — У арабов есть совесть, они уважают мертвых.
Дан открыл было рот, чтобы ему возразить, но спохватился.
— Скорее всего, ты прав. Это нацики. Только они способны на такую трусость и подлость. Поднять руку на мертвых!
Что можно было сказать о таком ужасе? Никакими словами не описать то, что мы переживали.
И на этот раз общественное мнение было с нами заодно. Похоже, искренне.
Мы встретились с французами на манифестации и молча шли рядом, слушая эхо шагов и пытаясь понять, принимает или отвергает нас, живых и мертвых, земля Франции.
Январь 1991
Снаряды сыплются на Израиль. Саддам Хусейн выполнил свою угрозу.
Наши израильские друзья делятся с нами своими страхами и надеждами. Одни боятся СКАДов и причиненных ими разрушений, другие уповают на ЦАХАЛ и ее командующих, которые непременно должны образумить безумного иракского диктатора. Мы во Франции со стесненным сердцем ловим новости и молимся за жизнь израильтян.
Иерусалим, Тель-Авив ни при чем в этой войне. Саддам Хусейн, только что взявший Кувейт, надеется нанести ущерб Соединенным Штатам, бомбя его союзника. Еще он надеется, что, победив, все враги еврейского государства станут его союзниками. Ненависть к Израилю будет наименьшим общим знаменателем мусульман, и он намерен обратить эту ненависть в свою пользу.
Израильтяне пообещали Вашингтону не отвечать безумцу. Они не хотят дать вовлечь себя в эту ловушку и теперь выжидают.
Мы ждем вместе с ними. Молимся и надеемся, что система «Патриот» окажется достаточно эффективной и защитит Израиль от иракских ракет. И я снова в который раз ощущаю, какую большую роль играет Израиль в моих надеждах и страхах. Понимаю, что не могу не думать о судьбе своих далеких соплеменников. Меня мучает противоречие: религия, история связывают меня с этой страной, где жители чувствуют себя не столько иудеями, сколько израильтянами. Но они, рискуя жизнями, продолжают писать историю иудеев, а я спокойно сижу у себя в столовой.
Сентябрь 1995
Покушение на еврейскую школу в Виллербане. Мы снова все в шоке. Бомбу нашли в машине, стоящей у самого входа. Еще несколько минут — и десятки детей, выбегающих из школы, лежали бы убитыми и покалеченными…
Мы все чувствовали, что со дня на день такое покушение произойдет. После взрыва в метро Сен-Мишель и других, что за ним последовали в этом сентябре, мы не сомневались: дикари возьмутся и за нас. Но быть наготове все равно не сумели. Да и как это возможно? Террористы могут оставить в любом месте машину, начиненную взрывчаткой, и последует… взрыв! И конечно, мы не могли вообразить, что они посягнут на детей. А почему, собственно? Что, у этих свихнувшихся больше совести, чем у таких же в Израиле? Или в любом другом месте?
До сих пор угроза была темой СМИ, висела в воздухе, пугая нас издалека. Отныне она стала реальностью — жестокой, ужасающей, неотвратимой.
Я сидел перед телевизором, крепко прижав к себе Орена. Он высвободился из моих объятий, хотел строить башню из кубиков. Аарон, второй мой сын, хрустел чипсами, твердо решив расправиться с ними, не оставив ни крошки. Мои дети не ходили в эту школу. В эту школу ходили дети моей родни, моих друзей. Я настоял, чтобы наши учились в муниципальной, узнали, что такое республика, познакомились с особенностями общества, в котором мы живем. Религия, традиции — это дело семьи. Я так считаю.
Жена звонила по телефону друзьям и близким. Она хотела убедиться, что журналисты не соврали, что от взрыва никто не пострадал, что дети благополучно вернулись из школы и не получили психологической травмы.
Давид, Мишель и Дан — сегодня они вместе с женами ужинали у нас — перевели дыхание, когда мы досмотрели новости.
— Отстой! — процедил Давид. — Ни стыда, ни совести! Как только рука поднялась?!
— ВИГ[81] в Алжире убивала женщин, стариков и детей. Они вспарывали беременным женщинам животы. Для них евреи…
— Но здесь действует здешняя молодежь! — задохнулся Дан. — Этот Калед Келкаль живет в Воз-ан-Велен!
— И что! Одно и то же говно, — заключил Давид.
Аарон удивленно повернул голову на непривычное слово.
— Давид! Дети! — напомнила мужу Бетти.
Он попросил прощения улыбкой.
— Но Бог, он с нами, — продолжал он. — Это же чудо! Бомба не взорвалась в тот момент, когда эти… мерзавцы задумали. Слеп тот, кто не видит здесь руки Господа.
— Брань и имя Господне через запятую — вот в чем сила нашего Давида, — шутливо заметил Мишель.
— Да ты еврей только по фамилии! — тут же ринулся в атаку Давид. — Ешь некошерное, не соблюдаешь субботу. И ты будешь учить меня морали?
— Я в первую очередь сионист.
— Я сионист, потому что я иудей. В общем, черт нас побери, ребята, но нужно линять из Франции. Нам тут делать нечего.
— Пошло-поехало! — вздохнул я.
Эти разговоры у нас, французских евреев, стали уже традицией. При любой агрессии, при каждом террористическом акте мы принимались обсуждать отъезд в Израиль. Обсуждали все, складывали чемоданы единицы. Говоря об отъезде, мы словно бы бросали вызов судьбе, противостояли ненависти. У нас в запасе было крайнее средство, отход на исходные рубежи.
Лично я ехать не собирался. И если называл себя сионистом, то только потому, что признавал за Израилем право защищаться и жить мирной жизнью, но я был в первую очередь французом. Франция была моей страной, страной, в которой я вырос, нашел замечательную жену, родил своих сыновей. Мне было здесь хорошо. И потом, куда бежать от ненависти? Она и здесь, и там. Она повсюду.
Но в этот вечер я почувствовал, что смерть бродит рядом с нами.
А у меня двое детей.
Ноябрь 1995
Еврей убил еврея. Из-за политических разногласий фанатик выстрелил в Ицхака Рабина. Три пули в спину. Новость ранила нас прямо в сердце. Как посмел убийца поднять руку на своего брата, пусть даже этот брат был его идеологическим врагом? Как он посмел на глазах всего мира посягнуть на скрепляющий нас фундамент? Нееврей не может понять охватившей нас тоски, нашего омерзения и нового страха, который проник нам в душу.
Люсьен, мой коллега, спросил:
— Почему это на вас подействовало до такой степени? Ужасно, да, но история кишит политическими убийствами. Это потому, что убили Рабина?
— Нет, потому что еврей убил еврея из-за разногласий.
Люсьен улыбнулся, услышав мой ответ. Ему почудилась претензия, я словно бы настаивал на особенности, благородстве своего народа, подчеркивал его избранность.
— А что, в Израиле никогда не было убийств? — спросил он не без лукавства.
— Разумеется, были. Но… Не будем об этом. Все не так просто.
Люсьен не понял: я отказываюсь продолжать разговор, отдавая дань его прозорливости, или это новое проявление моей враждебности. Но мне не хотелось ничего объяснять. Я потратил долгие годы, пытаясь что-то донести, доказывая, защищая, оправдывая. Но в один прекрасный день мой друг, еврей по национальности и философ по образованию, блестящий интеллектуал-невротик, спросил, а для чего я трачу столько времени и энергии, стараясь заинтересовать окружающих своей религией, сионизмом, проблемами самоопределения.
— Вот увидишь, у евреев все образуется, когда они расхотят добиваться любви, — добавил он.
Я застыл в недоумении. И тогда он продолжил:
— Ты заметил, до какой степени евреи возвеличивают в глазах других свою религию? Как они стремятся убедить всех в красоте Израиля, в его благородстве и справедливости? «Любите нас!» — умоляют евреи. «Оцените нас!» «Посмотрите, какие мы вежливые, уважительные, воспитанные!» — и вот они рассказывают мирянам о мудрости субботы. Повествуют о красоте своих праздников. Обсуждают особенности еврейской души. Гордятся сельскохозяйственными и технологическими достижениями израильтян, их демократическими ценностями. И очень часто без особенных оснований. Ты знаешь другой народ, расу или церковь, которая бы с такой страстью добивалась одобрения?
— Ни один народ не претерпел столько страданий за свою историю, — возразил я ему. — Ни один народ так не преследовали, столько раз не изгоняли! Я уж не говорю о холокосте. А все потому, что гои не знают, кто мы такие. Не понимают нашей религии, нашего образа жизни. Я думаю, что евреи просто пытаются рассеять сомнения, объяснить, кто они такие.
— Именно. А если принять факт незнания, непонимания? Попробуем сделать постулатом, что никто нас никогда не поймет и не полюбит. Что для всех народов мы остаемся загадкой, которую невозможно разгадать, и это ведет к подозрениям, опасениям и отторжению. Израильтяне это поняли. Мнение Запада их не волнует. С какой стати их должно волновать отношение тех, кто совсем недавно, зная, что происходит в лагерях, продолжали сдавать туда своих евреев, отказывались бомбардировать железные дороги и сами лагеря? Признаем откровенно: если мы станем жертвой нового холокоста, кто пальцем пошевельнет? Конечно, всегда найдется и горстка справедливых людей, которые выступят на нашу защиту. Но не обольщайся, победит равнодушие, потом забвение, и наши палачи будут прощены. Еврей, который ищет любви, — это еврей, не усвоивший уроков истории, еврей, не понимающий, кто он есть. Сегодня мы должны быть сильными, уверенными в себе, обратиться к будущему, запомнив уроки прошлого. Мы должны усвоить, что заботиться надо только о себе и не обращать внимания на то, что подумают другие.
Не один день я раздумывал над его словами. Я с ним не соглашался. Считал, что ищу одобрения, понимания только из желания вступить в контакт, то есть стремлюсь полноценнее жить в обществе. Но потом, анализируя отношения между собой коллег и свои с ними отношения, я вынужден был признать, что и в самом деле бессознательно добиваюсь их любви, признательности, доходя иногда чуть ли не до угодливости. Причиной этому, я думаю, внутренняя необходимость доказать свою добропорядочность, наличие принципов, чтобы уничтожить мерзкие карикатуры антисемитов, вчерашних и сегодняшних. Элите мы открываем двери своих синагог, принимаем с почтением, кланяемся, вежливо улыбаемся, мы молимся за Францию и демонстрируем свою лояльность. Мы бываем безмерно счастливы, обнаружив благосклонную статью о евреях или Израиле, написанную гоем, и страшно переживаем, усмотрев малейшую критику в наш адрес, считая ее обидой и проявлением антисемитизма. Короче, мнение «других» имеет для нас большое значение. Слишком большое. Оно превращает нас в вымогателей любви («попрошаек любви», как пел певец, обожаемый нашими родителями) или в обиженных, готовых мстить за любую критику.
В конце концов я согласился с другом-философом и решил больше не оправдываться и ничего не доказывать. Решил жить своей жизнью, не заботясь о мнении окружающих. Я другой, и это мое богатство. Моя частная жизнь от этого становится мне еще дороже.
Поэтому я и не стал объяснять Люсьену, почему убийство Рабина так угнетающе на меня подействовало. Он выслушал бы мои объяснения, ничего не понял, забыл бы их и запомнил только, что я ему возражал. Да, с годами я был вынужден согласиться, что нам не дана возможность переубедить человека с противоположным мнением, с иной логикой, чем у тебя.
Разве он мог понять мой ужас? Понять, что это убийство свидетельствует для меня о самой страшной для еврея возможности: возможности братоубийственной войны. Вызывающую такие войны ненависть Тора называет «бескорыстной». Я боюсь распрей, которые могут повести евреев к ненависти друг к другу, к презрению, к желанию уничтожать из-за пустых, искусственных разногласий, позабыв о законах Священной книги. Из-за «бескорыстной ненависти» вот уже две тысячи лет храм лежит в руинах и длится исход. Ашкеназы и сефарды, верующие и миряне, евреи Любавича, Бреслау, Марокко, Алжира, Туниса, Орана, Константинополя, Франции… Стоит начать делить, и делению не будет конца, частички станут все меньше, меньше, пока нам не покажется, что только самые близкие к нам заслуживают нашей любви и уважения.
Но все противостояния, все несхожести, подчас такие ощутимые, теряют всякое значение перед лицом общего врага. Все мы объединяемся против антисемитов, против антиизраильтян. И до сих пор никакие наши распри не вели к убийству.
И вот верующий еврей, сефард, сторонник великого Израиля, убил другого еврея, ашкеназа, мирянина, сторонника мира. Тора запрещает убийство. А он убил.
Мы, евреи диаспоры, благополучно живущие вдали от ужасов войны, сохраняли по-прежнему идеализм и надежду. В наших глазах Израиль был особенной страной, а его жители особенными людьми: мужественными, достойными. Одним словом, героями. Сразу после объявления независимости Бен Гурион, услышав о первом совершенном преступлении, воскликнул: «Воровство? Ну, наконец-то мы стали народом, как другие!» Но сегодня отец пал от пули своего сына. И мне было мучительно больно. Потому что мы стали народом, как другие.
24. Перевернем страницу
Рафаэль
Он уперся в меня взглядом, и я сразу понял, что предстоит суровый поединок. Черт! До чего начальники предсказуемы! Я знал даже повод, по которому он на меня наедет!
Но я как ни в чем не бывало начал с запланированной темы совещания. Показал макеты, познакомил с проектами будущей рекламы. Он молча, с отсутствующим видом кивал, давая понять, что эти вопросы его не занимают ни в малейшей степени. Я мог бы взять инициативу на себя, но предпочел спровоцировать его.
— У меня сложилось впечатление, что проекты вас не интересуют. Не так ли?
Он не ждал от меня вопроса, и его отстраненное высокомерие немного подтаяло.
— Ты прекрасно знаешь, что у меня нет никаких замечаний по твоей работе. Я ценю твой профессионализм.
— И что же?
Он заморгал, и я понял, до чего он нервничает.
— Твоя религиозность представляет сегодня проблему.
Он ждал моей реакции, хотел, чтобы я попросил уточнений, объяснений, но я ему не помог. Мне не хотелось облегчать ему задачу.
— Думаю, ты в курсе, что твоя свободная суббота вызывает в коллективе недовольство.
Действительно, с некоторых пор мои коллеги стали замечать, что наш почтеннейший патрон, месье Арман Ледюк, стал проводить свои драгоценные совещания исключительно по субботам. И они, не желая терять свой свободный день, стали ссылаться на меня. «Чем наши семьи хуже? Они заслуживают такого же отношения, как религиозные взгляды Рафаэля. Ему же разрешено не присутствовать по субботам!» — ворчали они.
Сейчас Ледюк собирался пересмотреть заключенный нами договор. Стоит мне открыть рот, и я не сдержу своего гнева, и тогда начальник переложит всю ответственность на меня. Любезная улыбка и молчание. Улыбка и молчание.
Тишина нависала, и тик у Ледюка усилился: он снова заморгал глазами и стал двигать шеей, словно воротник душил его, потом резко поднялся из-за стола и заходил по кабинету.
— Ты должен понять, твое привилегированное положение ставит меня под удар. Коллеги знают о нашей дружбе и считают, что я покрываю тебя, делаю поблажки.
Меня покоробило от примитивности, с какой начальник повел разговор. Неужели он всерьез полагает, что пары комплиментов и фальшивой ссылки на дружбу будет достаточно, чтобы изменить договор? Доводы, которые он привел, мне понравились еще меньше.
Начальник остановился и посмотрел на меня, ожидая ответа.
— А ты что думаешь по этому поводу?
— Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду.
Теперь разозлился он. Его разозлила моя притворная наивность.
— Не разыгрывай дурака, Рафаэль.
— Но мне кажется, что я в самом деле чего-то не понимаю. Иначе я бы решил, будто вы хотите, чтобы я отказался от исполнения своих религиозных обязанностей и приходил на работу по субботам. Но я в этом сомневаюсь.
— Сомневаешься! — передразнил он меня. — А с какой стати ты сомневаешься?
— С той, что, во-первых, это бы значило, что вы, несмотря на нашу, так сказать, дружбу и мое привилегированное положение, плохо меня знаете. И во-вторых, что вы не хозяин своему слову, так как, принимая меня на работу, обещали, что в субботу я буду свободен. И не раз сообщали об этом журналистам в подтверждение широты своих взглядов и мудрости в работе с кадрами. Отказ от вашего обещания означал бы потерю памяти или… бесчестность.
Лицо у него мгновенно застыло.
Он был в ярости и искал слова.
— Я не допущу подобного тона. Ты дерзишь. Договор мы заключали пять лет тому назад. Тогда нас здесь работало пятьдесят человек. Теперь в четыре раза больше. Это совсем другое предприятие, Рафаэль!
— Нет, изменились вы сами! Все ценности, которые позволили вам добиться таких успехов, вы принесли в жертву новой ценности, единственной и абсолютной: деньгам.
Арман Ледюк больше не собирался сдерживаться. Он угрожающе наклонился над столом и в ярости стукнул кулаком прямо передо мной.
Я сумел держать себя в рамках. Правда была на моей стороне. Я это знал. И он тоже. Поэтому так и бушевал.
— За кого ты меня принимаешь? Как смеешь читать мне мораль? Твое высокомерие, твоя спесь недопустимы! Впрочем, вы все высокомерны и спесивы. И ваша религия тоже! — Лицо у него перекосилось. — Вы, евреи, созданы, чтобы всех на свете доставать!
Всплеск ненависти меня не порадовал, но и не слишком удивил. Я всегда подозревал, что примерно так он и думает. Но он этого не показывал, чтобы не противоречить образу начальника с широкими взглядами, не портить этической ауры, которая должна была витать и облагораживать его контору. Но его замечания относительно Израиля, сомнительные шуточки, вопросы и подковырки не оставляли у меня сомнений насчет его истинного образа мыслей и присущего ему антисемитизма, унаследованного от католической интегристской[82] культуры. И все-таки своего начальника-антисемита я помещал в разряд тех, кого между собой мы называли «подавляющие со знаком плюс».
Эти люди, не важно, правых или левых взглядов, в первую очередь хотели выглядеть толерантными и широкими, они демонстрировали, что им не чужды наши ценности, делали вид, что интересуются иудаизмом, задавали вопросы о наших обрядах, религиозной философии и выслушивали ответы с преувеличенным вниманием, нахмурив брови и не отрывая взгляд. Говоря об Израиле, на словах они лицемерно его поддерживали, восхищаясь «страной, которая сумела вырастить сад в пустыне» и «умеет постоять за себя против воинственных арабов». Более того, они признавались нам в антиарабском расизме, воображая, что все евреи по определению ненавидят мусульман. А когда таким кажется, что они усыпили подозрение, они подпускают ядовитые шуточки, без стеснения грубят и задают вопросы, не оставляющие сомнений по поводу того, что они думают на самом деле. Например, «лично я больше всего ценю в евреях их умение добиваться успеха. История научила вас наживать деньги, и вы полюбили это занятие». «Люди считают вас гордецами, но мне-то кажется, гордость скрывает амбиции, стремление к власти». «Вы так держитесь друг за друга (далее следует жест: руки соединяются в рукопожатии), мне это так нравится, но многих это тревожит, им кажется, что вы составляете заговор». И последнее: «Что ни говори, но вы не отвечаете за то, что ваши предки убили Иисуса Христа».
Арман Ледюк принадлежал именно к этой категории. Выходец из семьи католиков, близкой по взглядам к иезуитам-экстремистам, он порвал со своей средой, но не преодолел ограниченного сектантского воспитания.
До босса дошел смысл им сказанного, и он поежился. Потом взял себя в руки, пробормотал несколько слов, которые можно было счесть извинением, и постарался снова стать просвещенным начальником.
— Ничего себе понервничали! Наговорили черт знает чего.
Шеф подался назад, а я рассвирепел еще больше. Что это за множественное число? Я встал, сердце у меня бухало, гнев клокотал, но я крепко-накрепко сжал губы.
— Ты куда это? — с беспокойством спросил шеф.
Не отвечая, я направился к двери.
— Мы не закончили разговор, — продолжил он якобы жестким тоном. — Вернись и сядь.
Я резко повернулся и встал перед ним. В висках колотилась кровь. Я сжал кулаки. Перед глазами плыл туман. Я снова стал пареньком с окраины и готов был вступить в драку. «Не бей его! Не будь гадом! Не смей его тронуть пальцем!» — твердил мне внутренний голос.
Я наклонился над столом.
— Не смейте мной распоряжаться. Не говорите мне ни слова. Я ухожу, чтобы не набить вам морду!
Мои слова его напугали, ледяной тон загипнотизировал. Он не узнавал того служащего, которого брал к себе в офис, — выражение лица, свирепость взгляда открыли во мне совершенно другого человека. Из тех, от кого он привык держаться как можно дальше.
Он что-то промямлил, и все тики, с какими ему все-таки удалось справиться, беспорядочно задергались у него на лице.
Его постыдный страх стал моей победой.
Когда я рассказал жене о ссоре с шефом и необходимости уйти из конторы, она ничуть не расстроилась.
— Ты что, не боишься, что я буду сидеть без работы? — спросил я, удивленный ее спокойствием.
— Нет, не боюсь. Ты же говорил, что хотел вместе с братом Оливье открыть собственное рекламное агентство. И потом, тебе всегда хотелось писать. Значит, пришло время. И вообще, мне кажется, что евреям противопоказана служба. Я имею в виду верующим евреям. Начальникам всегда хочется, чтобы работа была на первом месте, но это не согласуется с нашей верой и нашим укладом. Невозможность работать в субботу и в праздничные дни рано или поздно станет камнем преткновения на любой работе.
Слова Гислен были более чем разумны, и я с ней согласился.
— Необходимость соблюдать субботу отдаляет нас от материального мира, напоминая, что в первую очередь мы существа духовные. Вы поссорились из-за субботы, значит, тебе нужно уходить.
Только через два дня Ледюк появился у меня в бюро и долго передо мной извинялся. «Я вспылил. Сам не знаю, что наговорил тебе. Ты же меня знаешь, я человек прогрессивных взглядов…» Он попытался меня купить, предлагал повысить в должности, платить другую зарплату. Неужели по своей глупости он мог подумать, что для еврея на первом месте деньги?
— Gam zou le tova? — cказала мне Гислен, когда я объявил ей, что остался без работы. — Все, что с нами происходит, для нашего блага. Ты все сделал правильно, и из этого может выйти только хорошее. У нас скоро родится третий сын, и говорят, что с каждым ребенком мы получаем возможность обновления.
Доброта моей жены, ее готовность считать сложившиеся обстоятельства не испытанием, а возможностью для нас стать сильнее и благополучнее, не могла не восхищать меня. Всю свою энергию она отдавала близким, исправляла их промахи, помогала. Она не знала, что такое враждебность, потому что ненависть и злоба — дурные чувства, которые мешают человеку расти и совершенствоваться. Порой я чувствовал себя до смешного ничтожным перед величием ее души.
Мы договорились с братом и действительно открыли собственное агентство. У меня появилось время, и я начал писать роман.
Июль 1999
Папа незаметно смахнул со щеки слезу.
Они с мамой пришли провести у нас субботу, и, хотя мы соблюдали все правила этого дня, включил телевизор.
— Ничего страшного, — сказал он, — этот грех на мне. Будем уходить, я его выключу.
Гислен неодобрительно взглянула на телевизор, но не сказала ни слова. Ей трудно было понять, что мои родители никогда не соблюдали субботу. Не могла понять, как глубока их привязанность к Марокко. Не могла понять, какую важность для марокканских евреев имеет король Хасан II.
Родственники Гислен так и не простили алжирцам, что они их вынудили уехать, в арабах они видели своих потенциальных врагов. Когда они бывали у нас и речь заходила о беспорядках в предместьях, они тут же начинали во весь голос винить арабов. Мне приходилось усмирять их страсти и просить говорить при детях помягче. Гислен всегда была на моей стороне. Она стремилась дать детям лучшее воспитание, приучить к уважительности и доброжелательности. И все же… Любовь моих родителей к Марокко, к королевской семье… Нарушить закон субботы и плакать перед телевизором, глядя на фотографии марокканского короля… Нет, это было выше понимания моей жены.
— Он великий король, — объявил папа, словно бы почувствовав необходимость оправдаться.
— Еще бы! Он защищает евреев, выполняет завет своего отца, который тот дал ему на смертном одре, — подтвердила мама.
Мы все знали эту историю, нам столько раз ее рассказывали! Неужели расскажут еще раз, и к тому же во всех подробностях?
— Он любит евреев, и евреи его тоже любят.
— Мы знаем, папа, мы все знаем, — поспешила не без иронии сказать Гислен.
— Когда евреи уехали из Марокко, экономика сильно пострадала. Марокканцы обиделись на нас за то, что мы их оставили, подумав, будто они справятся сами, как алжирцы.
Гислен умоляюще посмотрела на меня.
— Несколько лет назад король ездил с визитом в Монреаль — встретиться с еврейской общиной. Он хотел, чтобы евреи вернулись в Марокко. Он произнес замечательную речь, объяснил евреям, что их место в Марокко, рядом с их братьями-мусульманами, и евреи плакали.
— Вы нам об этом уже рассказывали, папа, — почтительно заметила Гислен.
— Десятки семей выслушали его, а потом вернулись в Марокко, — продолжал папа, словно не слыхал замечания невестки. — И они прекрасно там живут среди арабов. Марокканцы — справедливые люди, они уважают правильные ценности.
— Однако, папа, организации, защищающие права человека, вынесли осуждение Хасану за репрессии и казни!
Отец не дал мне договорить и с возмущением заговорил сам:
— Что они понимают, эти организации? Они осуждают и Израиль, стоит ему начать воевать! Кретины! Они всегда на стороне тех, кто жалуется и объявляет себя жертвой.
Спорить с папой бесполезно. Я опираюсь на факты, папа на эмоции.
— Я хочу, чтобы ты понял одну вещь, — говорит он мне. — Арабам нужна твердая рука. В мусульманских странах, которым удалось разбогатеть, были жестокие режимы. Освободи их, дай им свободу — и ты увидишь, что они натворят. Станут бунтовать, убивать друг друга. Посмотри, что делается в Иране. Все шло хорошо, пока был шах. Но с тех пор, как пришла новая власть, воцарился хаос: воюют с Ираком, уничтожают несогласных, пытают… Там отрезают руки, забрасывают камнями, бичуют…
— Папа! При шахе всяких ужасов было ничуть не меньше!
— А не сесть ли нам за стол? — предложила Гислен, огорченная спором, конца которому не предвиделось. — Как правоверные иудеи сначала мы сделаем кидуш.
Папа приглушил звук телевизора. Я поднял бокал вина и прочитал молитву. Папа, не отрывая глаз от экрана, сказал «аминь».
Ортен встал, подошел к телевизору и выключил его.
— Нельзя смотреть, — сказал он. — Суббота.
Гислен огорчило и позабавило поведение сына, она посмотрела на меня, словно бы объясняя мне, как трудно растить детей в почтительности и вере, когда некоторые члены семьи заблудились на дорогах истории.
Мунир
В 90-е годы я по-прежнему оставался на обочине своей мечты о будущем. Да, я стал преподавателем. В обществе, где царит расизм, это место можно считать почетным. Но я преподавал в лицее, где обучали ремеслу, и моими учениками были дети неблагополучия и безнадежности. Мне иногда казалось, что я просто поменял обстановку и стал старше. Вместо комнатки, где работал наш центр, у меня появился класс, но ребята остались теми же. Они требовали внимания и заботы намного больше, чем входило в мои профессиональные обязанности. Я был учителем, но еще и социальным педагогом, психологом, дипломатом. Думаю, что у меня получалось, потому что я опирался на свой личный опыт. Умел слушать этих ребят, говорить с ними.
Фадила никак не могла забеременеть. Год за годом мы переходили от надежды к безнадежности, от прабабушкиных рецептов к новейшим средствам медицины. Наши отношения менялись. Испытания сближали, но в то же время нам хотелось отвлечься от нерадостной атмосферы семейного очага. Фадила сделалась известной общественной деятельницей и была готова поддерживать любую борьбу, я с утра до ночи возился с учениками.
Рождение Сурии стало для нас несказанным счастьем. Мы оба посвятили себя ей, но не отказались от работы.
25. Потрясения
Мунир
Февраль 1991
Менялось все медленно, я бы сказал, исподтишка. Так я, во всяком случае, объяснил себе то, что заметил перемены, когда они превратились в события. А может быть, все менялось быстро и на глазах, и только я ничего не замечал?
Я постарел, поменялись времена, выросли дворовые ребятишки… И само собой разумеется, возникла другая динамика, иные силы, иные коды и новые точки зрения.
Нельзя сказать, чтобы я не замечал, что появился новый жест, неведомые мне словечки, незнакомые знаки — ключи бессловесного языка, по которым люди узнавали своих, благодаря которым сближались. Но все это не меняло общего течения дел.
«Война в заливе»[83] открыла мне глаза на перемены, я бы даже сказал, на радикальные перемены, которые произошли, и особенно во взглядах молодежи.
Вспомним, как это было. Если верить СМИ, то с одной стороны воевали силы союзников, а с другой — диктатор Саддам Хусейн, сразу же заклейменный Западом, который захватил богатую, но мало кому известную землю. Хусейна обвиняли в применении бактериологического и химического оружия, а также в репрессиях, которых до этого военного конфликта никто не замечал. Словом, в одном лагере воевали хорошие под знаменами свободы, справедливости и демократии, а в другом — плохие: кровавые бескультурные убийцы и при этом… мусульмане.
Придя в один из февральских дней 1991 года в школу, я понял, что на деле все обстоит гораздо сложнее.
Я вошел в класс и удивился, что ученики спокойно сидят на своих местах. Я поздоровался и повернулся к доске. На доске я увидел рисунок, который не сразу понял. Понять его мне помогли слова, написанные в виде слоганов: «Да здравствует Саддам!», «Да здравствуют СКАДы!», «Смерть США!», «Смерть Израилю!».
Рисунок изображал ливень ракет, которые сыпались на американский флаг и звезду Давида.
На миг я застыл в растерянности, думая, как мне поступить. В первую минуту мне захотелось все стереть и приступить как ни в чем не бывало к уроку. Но отмахнуться от проблемы — не значит от нее избавиться.
— Кто рисовал?
Ребята хранили молчание.
Вопрос был глупым. Как будто в этом дело.
Но, делая вид, что всматриваюсь в знакомые лица, я пытался понять, как же мне все-таки поступить. И опыт мне подсказал.
— А знаете, что мы сделаем? — спросил я. — Отложим ненадолго урок и поговорим о текущих событиях.
Ребята стали недоверчиво переглядываться.
— Кто в классе за Саддама Хусейна?
Они не решались ответить.
— Не стесняйтесь. Мне хочется, чтобы каждый имел мужество по-своему смотреть на вещи и мог объяснить свою позицию.
Призыв к мужеству помог. Поднялось несколько рук.
— Фарез, ты можешь объяснить, почему поддерживаешь Саддама Хусейна?
Я обратился к мальчику, которого знал как лидера, «каида». Воспользовался ситуацией, чтобы вовлечь в разговор и его.
— Потому что он не боится американцев, — ответил он.
— И потому что он хочет урыть евреев, — добавил Абдурахман, помощник «каида».
— Не евреев, а израильтян, — поправил я.
— Это одно и то же.
Я не знал, что для них это одно и то же.
— Значит, Хусейн герой, потому что противостоит Соединенным Штатам и Израилю?
— Вау! Американцы, они что думают? Что всем миром будут править?
— Так. А вас не смущает, что он диктатор? Что он угнетает свой народ? Что он вторгся в Кувейт, мусульманское государство?
— Подумаешь! Кувейт — твердокаменный, ему на всех наплевать! А я вам вот что скажу! Думаете, в Америке лучше, чем в Ираке? Буш такой же диктатор!
Несколько учеников хотели бы возразить, но не решались вступать в спор с Фарезом.
— Все может быть. Не все гладко в Соединенных Штатах, но люди там, по крайней мере, живут свободно, там существует правосудие.
— Американцы ненавидят мусульман.
— Французы тоже, — заметил Сулейман, скромный тихий мальчик.
«Французы», сидящие в классе, несколько смутились при этом заявлении.
— В любом случае, я всегда на стороне арабов! — отрезал Фарез. — Всегда.
— А на какой ты будешь стороне, если Ирак будет воевать с Ираном?
Фарез задумчиво сдвинул брови.
— Не надо мне пудрить мозги. Сейчас американцы и евреи против мусульман.
— Не думаю. Воюют не религии, а системы.
— Американцам нефть нужна, — вмешался Сулейман.
— Совершенно с тобой согласен.
Мальчика мой ответ устроил. Ему показалось, что он меня убедил.
— Это конфликт, в котором трудно разобраться. В нем скрестилось много целей. Согласен, что американцы хотят завладеть нефтью, а их заявления о свободе и демократии — в чистом виде лицемерие. Согласен, что заявления о применении химического и бактериологического оружия — всего-навсего средство воздействия на общественное мнение, чтобы им манипулировать. Как видите, я, как и вы, нисколько не обольщаюсь насчет истинных целей американцев. Но Саддам Хусейн ничуть не честнее их. Он оккупировал Кувейт тоже ради нефти. К тому же притесняет народ Кувейта. И манипулятор он тоже не хуже Буша. Вы что, думаете, он всерьез озабочен судьбой палестинцев? До сих пор ему было на них наплевать. Как вы думаете, с чего это вдруг он обещает засыпать Израиль бомбами и помогать палестинцам? Что ему понадобилось? Ему понадобилась поддержка мусульман всего мира. Поддерживать Хусейна — значит позволить собой манипулировать.
— Что же, выходит, нас… дурят с обоих концов? — спросил Сулейман.
— В некотором роде.
— Пусть даже обе стороны уроды, все равно я могу выбирать, — заявил Фарез. — И я предпочитаю, чтобы Саддам взорвал америкосов и Израиль.
Я не стал продолжать дискуссию. На этом уровне я сказал все, что мог. Дальше мне пришлось бы тоже подгонять факты и манипулировать. Я этого не хотел. Я бы мог возразить Фарезу и выставить его на смех. Но этого я тоже не хотел. Нельзя, чтобы он потерял лицо перед товарищами. Пока я ограничился надеждой, что посеял в них зерно сомнения. Но и на этот счет не слишком обольщался.
Опытным путем я открыл для себя: ребят, подобных Фарезу, не убедить логикой доводов, если она не совпадает с их представлениями о том, что хорошо и что плохо. Их убеждения основаны исключительно на эмоциях, они ими защищаются и всю полученную информацию раскладывают по бинарной схеме: «друзья — враги». Себя они ставят в центр «сражения», выбирают себе союзников и отвергают всех подозрительных, кто не из их «лагеря». Они ведут постоянную войну. Но, не зная истории, ничего не понимая в стратегии, постоянно все путают, не видят сути происходящего, но верят в свою правоту и цепляются за нее. Они действуют и думают с помощью клише, противопоставляя вызов безразличию, эти клише пользуются спросом в квартале, за эти клише их уважают. Сиюминутный безрассудный вызов, направленный против всего и всех. Он не в логике истории. Но благодаря ему Саддам Хусейн становится героем. Новым Че. Почему? Потому что он бросает вызов американцам.
Я закончил разговор, посоветовав им быть в курсе мнений каждой из сторон, не упрощать события, сформировать собственное отношение. Но ведь они так и поступают. Разве нет? Они пропустили мимо ушей пропаганду с антисаддамовской информацией и противопоставили себя общественному мнению. Возможно, потому что это общественное мнение всегда против них.
Сентябрь 1995
Экстремисты ВИГа пожаловали со всеми своими ужасами во Францию. Теракты последовали один за другим. Их свирепое варварство потрясло всех. Я никогда не думал, что оно может настичь Европу. Разумеется, я слышал о зверствах этих дикарей в Алжире, но порой подвергал сомнению правдивость СМИ, настолько бессмысленно жестокими были действия этих жадных до крови выродков, которых мне трудно было назвать людьми. Я не мог понять, как они могут называть себя мусульманами. И повторял: уж во Франции такого не может случиться.
И вот случилось. 11 июля в 18-м округе Парижа был убит имам Абдельбаки Сахрауи. 15-го выстрелы раздались в Броне, совсем рядом от нас. 25 июля бутылка с газом, набитая гайками, взорвалась в парижском скоростном метро на станции Сен-Мишель. Восемь убитых, 117 раненых. 17 августа бомба в мусорном ящике возле площади Шарль-де-Голль ранила 16 человек. 26-го сорвавшаяся попытка подорвать поезд Париж — Лион. 3 сентября неудавшаяся попытка взрыва на рынке Ришал-Ленуар. 7-го машина взорвалась у входа в еврейскую школу в Виллербане. Кошмар…
Сообщение полиции после операции на лионской железной дороге только усилило мое ощущение кошмара. Организатором этих покушений оказался член ВИГа, паренек из квартала Барж, сосед моих родителей! Совершенно нормальный, живой, славный паренек, отличник в школе, потом в лицее. Он был принят в элитный лионский лицей с бакалавриатом на научные темы. И вдруг парень сорвался, занялся воровством, попался, оказался в тюрьме. А потом одержимые Богом запудрили ему мозги, посеяли в нем семена ненависти, которая привела его к уничтожению невинных.
Но кошмар не кончался. Я узнал, что Воз-ан-Велен — это одна из баз террористов. И если сам я не знал Каледа Келькаля, то кое-кто из моих друзей жил с ним рядом. Все они были в шоке. Портрет, нарисованный полицией и СМИ, настолько не был похож на того мальчика, которого они знали. Доходило до того, что сомневались в справедливости обвинений, считали его козлом отпущения, найденным злокозненным правительством Франции или Алжира, а вот для чего? Ответы были самыми туманными.
Погоня за Келькалем завершилась сегодня утром. Он погиб в перестрелке с полицейскими. Картина жестокая, правдивая и такая знакомая.
Я смотрел на его лицо и видел всех молодых, с которыми встречался каждый день, которым преподавал. Его лицо не выражало ненависти, оно не было лицом одержимого. В нем читалось только недоверие, которое появляется, как только чужой взгляд хочет проникнуть в твою душу.
Фадила горько вздохнула со мной рядом.
— Сколько понадобилось обид, оскорблений, притеснений, чтобы превратить этого мальчика в убийцу? — спросила она сама себя.
— Пытаешься оправдать его преступления расизмом окружающих?
— Я не оправдываю, я пытаюсь себе объяснить. Парень, живущий нормальной жизнью, не пойдет воровать, не поверит сумасшедшим фанатикам.
— Но тысячи тысяч из нас выросли в точно таких же условиях! И уверен, многим приходилось гораздо тяжелее, чем Келькалю. Я бы сказал, что он был счастливым ребенком. И потом, мы знаем немало ребят, нарушителей закона, они крадут машины, устраивают драки, но никто из них не заходит так далеко в своем, как теперь говорят, бунте против общества.
— Что ты хочешь сказать? Что он родился уродом?
— Не знаю… Но никак нельзя оправдать все то, что он совершил. И то, что он соблазнился деятельностью ВИГа.
Фадила провела рукой по моей щеке: так она мне давала понять, что моя наивность ее трогает, а конформизм забавляет.
— Из-за таких, как он, молодым станет еще труднее. За ними будут жестче следить, их будут безнаказаннее унижать. Во взглядах французов они будут читать только страх и ненависть.
— Я согласна, Мунир. Ты знаешь, как я осуждаю эти действия, эти идеи, эту идеологию. Но если анализировать с холодной головой все факты, то можно открыть и другие истины. Например: все революции, все перевороты, направленные на то, чтобы изменить существующий порядок, начинались с крови невинных жертв и расценивались местными властями как варварство.
Иногда от рассуждений Фадилы меня бросало в дрожь. Она ухитрялась жить обычной жизнью и целенаправленно бороться, холодно анализируя действительность. Она заметила мою реакцию.
— Не думай, я тоже считаю ВИГ сборищем отбросов. Но при этом мне кажется, что мы сильно ошибаемся, называя безумием то, что не можем понять.
— Да, я догадываюсь, что ты хочешь сказать. На его месте мог оказаться любой другой. Именно это меня и приводит в ужас.
— Да, появятся другие Келькали, если порядок вещей не изменится. Это только начало. Мир на пороге страданий.
— Ни СМИ, ни политики не хотят этого понять. Они задаются вопросом, что заставило Келькаля свернуть с прямого пути, превращают его судьбу в уникальный случай. Нам с тобой повезло, мы росли в дружных семьях, учились и сумели справиться с ненавистью и притеснениями. Но многие отчаявшиеся ищут путь, идеологию, которая стала бы для них выходом. Так что ты права, надо ждать новых Келькалей.
Наша дочь Сурия мирно спала у себя в комнате в своей кроватке, не подозревая, что творится в нашем мире. Какое будущее ее ждет?
Папа был уже болен, но мы этого не замечали, списывая симптомы болезни на тоску, в которую он погрузился после того, как лишился работы. Худобу, быструю утомляемость, отсутствие аппетита мы объясняли депрессией.
Когда у него нашли рак, было уже поздно. Результаты обследования врач сообщил мне.
Метастазы.
Прогрессирующая раковая опухоль.
Врачи попытались сделать невозможное.
Еще одно обследование.
Шансы минимальные.
Шесть месяцев.
Возможно, немного больше.
Надо постараться быть мужественными.
Каждая фраза была ударом. Но я еще никогда не сражался с невидимым врагом.
Я уже слышал все эти слова. В фильмах, сериалах. Я читал их в книгах. Они иногда мне даже снились. Но теперь эти слова врачи говорили мне, и речь шла о моем отце. О его неминуемой смерти, неизбежности конца, мучительном переходе. Впереди предстояли трудные дни, долгие часы, короткие месяцы. Горькие слезы, притворные улыбки, неиссякаемые надежды и покорное ожидание.
Раздавленный всем, что услышал от врача, я вышел из больницы, сел на террасе кафе и позвонил Тарику. Попросил, чтобы он пришел в кафе.
Когда я все рассказал ему, он заплакал.
Я пожалел, что захотел разделить с ним доставшуюся мне тяжесть, переложить на его широкие плечи. От его горя мое не стало легче. Я только понял, до чего трудно нам будет жить в ближайшие месяцы.
— Мама знает? — спросил меня Тарик.
— Нет еще. Думаю, ей надо сказать. А вот что доктор не оставил надежды, говорить не будем. Побережем ее. И папу тоже. Мама для него как зеркало. Он все по ней прочитает.
— А Джамиля?
— Ей надо сказать все.
Вот какими были эти последние месяцы папиной жизни.
Мама ухаживала за отцом с таким рвением, что я боялся: она не выдержит и заболеет сама. Ни на секунду она не теряла надежды, ловя малейшие признаки улучшения и ободряя папу. Искренне она в них верила? Притворялась? Кто знает? Может быть, она была лучшей актрисой, чем мы?
И Джамиля вела себя героически. Она прибегала, убегала, смеялась, наполняла дом живой жизнью, хорошим настроением, гнала смерть от себя и от других.
Мы с Тариком навещали отца каждый день. И у нас задача была не из легких: с одной стороны, мы были сыновьями, озабоченными болезнью отца, с другой — беззаботными сыновьями, потому что вскоре отец должен был выздороветь.
Как ни парадоксально, но для отца эти месяцы, возможно, были самыми счастливыми в жизни. Он был в центре внимания, семья сплотилась вокруг него, к нему приходили друзья, он был радушным хозяином.
И для нас эти месяцы стали счастливыми, не только мучительными. Мы собирались вместе, дорожили каждой минутой, осознавая ее ценность.
По вечерам папа становился словоохотливым, как никогда. Он вспоминал свое детство, делился житейскими наблюдениями. Эти моменты близости, редкие, пока мы все считали себя бессмертными, становились для нас счастьем. Папа щедро оделял нас наследством.
Мне очень хотелось бы, чтобы в это время Рафаэль был со мной рядом. Я вспоминал о нем, сожалея, что в горестные минуты мне некому открыть душу. Мне так нужно было разрыдаться в объятиях близкого человека, не боясь без нужды огорчить его сверх меры. Услышать мудрые советы, говорящие о жизни, которая не ограничивается сегодняшним днем. В такой беде друзья открывают нам объятия. Но Рафаэля рядом со мной не было. И я не мог пытаться воскресить нашу дружбу только потому, что мне так плохо. Поддерживал меня Лагдар. Мудрых советов он дать не мог, но был рядом, улыбался, клал мне на плечо руку.
Настало утро, и папы с нами не стало. Мы все собрались, чтобы с ним проститься.
— Мы помогли ему надеяться до последней минуты, — сказала мама, собираясь на похороны.
Я крепко ее обнял. Сколько же в ней мужества! Мы считали, что щадим ее, а она несла свою ношу, помогая нам нести свою.
На похороны пришло много народу — родственники, друзья, соседи.
Когда гроб медленно опускали в могильную яму, Тарик, Джамиля, мама и я стояли, крепко прижавшись друг к другу, и незаметно плакали, словно все еще боялись, как бы не встревожить отца.
Июль 1999
На следующий год умер Хасан II. У меня не было оснований особенно огорчаться, но почему-то, узнав об этом, я почувствовал глубокую грусть. Кончилась целая эпоха: ушел папа вместе со своим королем, а теперешний корыстолюбивый мир, похоже, готов расправиться с настоящим, с будущим и даже с прошлым.
— Одним деспотом меньше! — весело заявила Фадила, когда я пришел на кухню и сообщил ей новость.
Увидев мое печальное лицо, она спросила:
— А ты с чего загрустил? Странные вы люди, марокканцы! Доведенные до отчаяния, вы ругаете своего короля; долгие годы шепотом желаете ему убраться куда подальше, а когда он наконец умирает, плачете.
— Я не плачу.
Я и вправду не плакал. Но у меня было тяжело на сердце, и в горле стоял комок, который хотелось проглотить. Я вспоминал папу, его преданность королю. Его королю. Он оставался неколебим, когда Фадила обличала репрессии Хасана. «А убийство оппозиционеров? Бен Барка? Это хорошо, да?» Папа пристально рассматривал ковер, высоко держа голову. Наезды на короля он воспринимал как личное оскорбление. «А тюрьмы? Дерб Мулей Шериф в Касабланке? Дар-эль-Мокри в Рабате? Вы знаете, как там обращаются с заключенными?!» Изредка отец одаривал Фадилу снисходительной улыбкой, словно бы говоря: «Что тут поделаешь? Женщина и политика…» Его улыбка приводила мою жену в ярость. Папа об этом знал и пользовался. «А Тазмамарт? Каторга, на которой политзаключенные погибают от пыток и голода, в то время как королевская семья блаженствует во дворцах?» Отец мог бы и Фадиле ответить так же, как отвечал мне, когда я был подростком и задавал, только более осторожно, примерно такие же вопросы. Я спрашивал о жизни в больших городах, образовании, школах, инфраструктуре, искусстве и культуре, международной политике. Но Фадиле он не отвечал ничего, испытывая своим молчанием терпение невестки, исчерпывая ее энергию. Я, слушая тысячу раз повторявшийся спор, с натужной улыбкой поглядывал на жену, умоляя ее замолчать, обращался к племянникам и племянницам, предлагая вмешаться. Иногда возмущенный отец, словно бы упрекая, спрашивал меня взглядом: «Как ты можешь позволить своей жене так говорить со мной?» Я бы мог попросить Фадилу замолчать. Повысить голос, изобразить мужчину. Фадила бы послушалась, не желая уронить моего достоинства перед моей семьей, она высказала бы свое несогласие потом. Но я ничего не говорил. Кто знает, может, я был доволен, что моя жена высказывает вслух те доводы, которые я из почтения к отцу не решался высказать сам?
А сегодня, когда Фадила снова начала смеяться над нашей семейной сентиментальностью, я рассердился. «Оставь моего отца в покое! — хотелось мне крикнуть. — Он уже ушел в другой мир!»
Король умер, и я почувствовал, как мне не хватает отца. И мне захотелось повидаться с мамой. Так спешат друг к другу родственники, когда теряют близкого человека.
Когда я пришел к маме, она сидела на диване с тряпкой в руках перед телевизором. Видно, позволила себе несколько минут отдыха среди нескончаемых хозяйственных хлопот.
Она посмотрела на меня, тяжело вздохнула и подперла рукой щеку.
— Ты уже знаешь?
— Да.
Мама вгляделась в меня, пытаясь понять, что я чувствую. Поняла, что я в некотором затруднении, и высказала неоспоримую истину, с которой мы оба были согласны:
— Твой отец очень сильно бы горевал.
Да, папа бы, наверное, плакал. Когда Хасана II показывали по телевизору, он звал нас, желая, чтобы его дети были в этот миг вместе с ним. По его взволнованному лицу мы видели, как важна для него эта минута. Нашей святой обязанностью было бросить все, прибежать, сесть рядом и выслушать, что он скажет. А говорил он всегда одно и то же.
«Я его видел однажды в Каса. Он ехал на машине. И помахал мне рукой. Его отец, Мухаммед V, был великий король. Он всему научил своего сына».
«Посмотрите, как принимает его президент Франции. Какого другого короля или мусульманского президента так принимают?»
«Президент меньше короля. Он недолго у власти. О нем забывают».
Я смотрел на маленького роста человечка, который правил Марокко, и мне было трудно так же, как папе, им гордиться. Мои супергерои не носили джеллабы и фески. А где, спрашивается, корона у короля? А его рыцари? А меч? А конь? Нет, если честно, этот король вызывал у меня смущение. Я видел, что у него под гандурой с тарбушем костюм с галстуком. Зачем ему этот маскарад, когда он вместе с французским президентом пришел на телевидение?
Мама промокает тряпкой для пыли уголок глаза. Она потихоньку плачет. Конечно. На нее нахлынули воспоминания.
— Это был великий человек, — говорит она, словно бы бросая мне вызов.
— Да, ты права, мама.
Она улыбается мне, берет за руку, гладит.
— Прав был твой отец.
Был ли он прав? Я спрашиваю себя об этом. Я достиг возраста, когда проверяют свои взгляды противоположными. Таков закон жизни: нужно убедиться, что ты на правильном пути, чтобы не остаться в заблуждении до конца своих дней. И вот ты примеряешь иные точки зрения, мнения врагов, другие перспективы. Нелегкое упражнение, но необходимое.
Так был ли прав мой отец? Что, если бы исчез королевский дом в Марокко, и его заменило бы республиканское правление, такое же, как во Франции? Всем ли странам подходит демократическое правление? Вот примеры — Иран, Афганистан. Там уничтожили одну диктатуру и установили другую, еще более кровавую. Стали ли иранцы счастливее, сменив указующий перст мегаломаньяка-шаха на мертвящий обскурантизм аятоллы?
Вопросы, сомнения. Сквозь эти вопросы пробивается, в конце концов, свет ответа. И озаряет сознание. Ослепляет. Оставляет тебя слепцом.
Часть 5 Расставание с иллюзиями 2000-е годы
Рафаэль
2000 год. XXI век не принес нам чудес. Ожидания не оправдались. Как, впрочем, обманули все предсказания, в которые в юности мы вкладывали свои надежды, желание перемен, сумасшедшие мечты. Нет летающих машин, межпланетных путешествий, не решена проблема голода, не побежден рак.
Прощание с иллюзиями — вот звезда, которая засветилась над грядущим десятилетием.
Переговоры Эхуда Барака и Ясира Арафата в июле 2000-го определят, что нас ждет.
26. Невероятный мир
Рафаэль
Июль 2000
Мир. Но безрадостный. И все-таки со вздохом облегчения. Словно весть о выздоровлении после долгой болезни. Или о ремиссии. Но у этого мира горький вкус, в нем нет искренности, потому что Эхуд Барак принял все условия.
— Гадость какая! — бушевал Давид. — Он им отдал все! Даже Иерусалим!
— Такова цена мира, — с присущим ему фатализмом отозвался Марк.
— Ты прекрасно знаешь, что они не хотят мира. Им нужна солидная база, чтобы собраться с силами и потом обрушиться на Израиль. Они это не скрывают.
— А вот я так не думаю, — вмешался я. — Я не такой пессимист, как ты.
— Израильтяне, во всяком случае, говорят именно так.
— Да, так говорят израильские экстремисты, — уточнил я устало. — Ты можешь мне объяснить одну-единственную вещь: почему во Франции ты анализируешь каждое слово политика с учетом того, к какой партии он принадлежит, а как только речь заходит об Израиле, любое высказывание кажется тебе истиной. Там тоже есть левые экстремисты, есть правые экстремисты и множество других партий с совершенно противоположными мнениями, но с одинаковой ненавистью друг к другу. Однако для тебя, как для большинства французских евреев, мнение любого израильтянина — истина в последней инстанции.
— Ну правильно! Поливай меня грязью, я во всем виноват!
Мишель вмешался.
— А по-моему, Барак принял все условия под нажимом Клинтона. Американец хочет закончить президентский срок личной победой.
— Повторяю еще раз: мы судим обо всем, не имея полноценной информации. Она у нас частичная, полученная от СМИ. Что конкретно мы знаем о договоре? Мы знаем только об угрозах, висящих над Израилем, реально судить о которых может только генеральный штаб.
Дан, молчавший до сих пор, удивился:
— И что из этого? По этой причине мы должны заткнуться? Раз у нас нет доступа к секретной информации, мы не имеем права иметь собственное мнение и высказывать его? Аргумент мне кажется несостоятельным.
Выступления Дана стали раздражать меня до крайности. И вообще, в нашей компании наметился раскол. С одной стороны, Давид, Дан и Мишель, их позиция приближалась к израильским правым. С другой — Натан, Марк и я больше прислушивались к лейбористам. Позиции, мнения были более или менее всякий раз ясны, а вот страсти накалялись.
— Я этого не говорил, и ты это прекрасно знаешь. Я стою на точке зрения, которую высказал: если Барак так поступил, то у него были для этого реальные основания. Я ему доверяю, и больше ничего. У мужика героическое прошлое. Он миллион раз доказал свою преданность родине. Неужели ты думаешь, что он пойдет на риск и даст палестинцам шанс уничтожить собственный народ? — Дан пренебрежительно мне улыбнулся и проникновенно взглянул на Давида. Но Давида смутил этот как бы заговор против меня, и он не ответил Дану таким же проникновенным взглядом. Мы же дружили с Давидом с детства. И даже если придерживались теперь разных мнений, ссориться со мной он не хотел.
— Эхуд Барак мог не согласиться делить Иерусалим? Но премьер-министр Израиля находился в позиции силы! Иерусалим! Ты видишь это?
Марк поднялся и стоял над столом, раскрыв ладони. Я слишком хорошо знал Марка, чтобы не понять: он в очередной раз хочет помирить нас.
— Послушай, в позиции Барака есть много преимуществ. Он подтверждает волю Израиля к примирению, палестинцы подписывают, мир аплодирует мудрости израильтян. Теперь о будущем. Первая гипотеза оптимистическая: палестинцы живут с нами в мире. Отлично! Израильтяне учатся с ними ладить, общаться, торговать… В стране воцаряется мир. Да, нам это стоило Иерусалима, но если мы живем в мире, то весь Иерусалим для нас открыт. Вторая гипотеза пессимистическая: палестинцы создают собственное государство, вооружаются, сплачиваются и объявляют войну Израилю. Вы думаете, Израиль будет дремать? Он мгновенно их раздавит, вновь возьмет контроль над всей территорией и объявит всему миру: «Ну что? Убедились? А мы вам говорили! Мы сделали все, а они не сдержали своих обещаний! Теперь пошли вон! Мы будем действовать, как считаем нужным!»
Мы задумались над тем, что сказал Марк.
— И третья гипотеза, реалистическая, — вновь заговорил Дан. — Мы начинаем с того, что говорим: «Пошли все вон!» И отправляем всех палестинцев в их родную страну Иорданию. Вы понимаете, мужики, что купились на их манипуляции? Не было никогда палестинского государства! Они иорданцы, эти парни, иорданцы, и больше ничего. Палестиной именовалась территория, но на ней не было управляемого государства со своей культурой и историей. Иначе куда девались следы этого великого народа? Где руины удивительной палестинской культуры? Покажите мне их! Все народы, имевшие свою землю и историю, оставили следы своего проживания!
Меня удивила злобность тона, слова эти я уже слышал много раз. Точно так же, как Натан и Марк, которые сидели, качали головами и пожимали плечами.
— Оставили, не оставили. Мирное сосуществование не определяется историей. Нужно исходить из сегодняшней ситуации и уметь идти на уступки.
— Никаких уступок арабам! — закричал Дан. — От них нужно избавиться. Раз и навсегда! Точка. И не надо на меня так смотреть! Вы что, удивлены? Не надо мне рассказывать сказки! Арабы — предатели! Они первые ревизионисты в истории. Украли Тору, переделали ее и приписали себе, а теперь хотят выступать в первых ролях. Знать не знают и не хотят знать, что такое холокост, врут и притворяются. Я им не верю ни в чем. Взять хоть здешних. Встретишься с одним, он тебе вежливо улыбнется, а встретишь кучу — нападут. Они нас терпеть не могут.
Этот бред меня достал. Хватит, наслушался.
— Можешь продолжать, а я пошел. В тебе взыграл животный расизм, Дан. Запишись в Национальный фронт, им нужны такие соратники, оголтелые евреи, но меня от этого, скажу честно, тошнит.
— Почему нет? И запишусь. Они по крайней мере с яйцами и говорят то, что думают.
— Совсем головка бо-бо! Сейчас они заняты арабами, а когда покончат с ними, возьмутся за евреев.
Дан резко вскочил.
— У кого это с головкой плоховато? Я по крайней мере не голосовал за Миттерана. Да, да, за великого Миттерана, который пожимал руку Каддафи, позволил укрепиться Национальному фронту, дружил с Буске и одновременно обнимался с Арафатом. У меня никогда не было друзей в арафатках. За кого ты себя принимаешь, Рафаэль, когда все время смотришь свысока? За истину в последней инстанции? Да мне начхать на тебя!
Давид и Марк вмешались:
— Будет вам, ребята! Может, вы еще подеретесь?
У меня кровь колотила в висках, бицепсы напряглись, горло перехватило. Я готов был ударить Дана, но знал, что никогда себе не прощу, если ударю первым. Может, я и вправду левак-размазня?
Я повернулся и направился к выходу. Ребята кричали мне вслед:
— Рафаэль, вернись! Дан, догони его! Да вы что, сдурели оба?
Еще несколько минут я кипел против Дана, шагая с яростной быстротой. Потом уселся на террасе кафе и задумался. С чего бы я так разгневался? Что меня так раздражает в старом друге? Его взгляды? Да нет, я их давным-давно знаю. Его агрессия? Вполне возможно. Мне вспомнилась лекция из курса «еврейский образ мыслей», посвященная гневу. Лектор говорил примерно следующее: «Понять свой гнев — значит понять источник собственных несчастий. Запомните, мы злимся только на тех, кто на нас похож, на свое отражение, на то, какие мы есть, были или боимся стать». Да, похоже, дело в этом. Дан воплощает часть меня. Его истины — это мои сомнения. Он высказывает чувства, которые я стараюсь в себе подавить. Мы росли, переживая одинаковые страхи, задавались одинаковыми вопросами, но вышли на разные дороги. И мы движемся по ним, постоянно сомневаясь в своем выборе…
Ну и дела! Ясир Арафат не желает мира. Эхуд Барак согласился на все его требования, но лидеру палестинцев это показалось мало. Ему предложили государство с Иерусалимом в качестве столицы, а он отказался под предлогом, что палестинским беженцам не дали права вернуться. Наш премьер пошел на то, на что не решился бы пойти никакой другой глава правительства Израиля, он заслужил поток проклятий от своих соотечественников и евреев диаспоры, но Арафат все слил.
Для нас, евреев, желавших мира, уступки показались колоссальными, я бы даже сказал, непомерными, но мы все равно оставались с нашим лидером-лейбористом, считая, что такова цена мира, необходимого и длительного. Теперь мы чувствуем себя оплеванными и с горечью вынуждены признать, что сторонники жесткой позиции были правы: Арафат не хочет мира, он хочет разрушить Государство Израиль. Он остался все тем же кровавым террористом, командиром-боевиком, который бросал свои войска на взятие школ. С годами он научился двуличию, создал себе имидж дипломата, чтобы водить за нос правительства и международные организации, а сам жил только одним — ненавистью к евреям. Он согласился убрать из устава Организации Освобождения Палестины призыв к уничтожению Государства Израиль, но не отказался от своей цели, от своей стратегии.
А как теперь тяжело всем, кто поверил в возможность такого мирного сосуществования. Они чувствуют себя обманутыми. И злятся на себя, что понадеялись.
Несколько дней я не виделся с друзьями. При встрече Дан не преминул бы пройтись по мне наждаком из-за моих иллюзий. Пока мне этого не хотелось.
Но я был готов признать, что ошибался. Готов был к тому, что власть в Израиле возьмет в свои руки сильный человек. Настоящий воин. И приготовит Израиль к грядущим сражениям. Я был готов поддерживать упертого политика, который сумеет противостоять напору всех других стран и ООН в том числе.
Да, я был готов к переменам. Прощай, идеализм, чувство меры, доводы рассудка. Я готов был ловить дыхание страны, которую любил всем сердцем, быть рядом с теми, кого хотят уничтожить, кто позволил себя втянуть в дурацкую игру. Тех, кто хотел мира, протянул руку и ее едва не откусили. Мои идеалы? Желание вступить в диалог? Все это не понадобится мне в Израиле. Останется одна забота — чтобы Израиль выжил. И тем мне хуже, если я буду видеть вокруг только одних друзей!
Октябрь 2000
Мы собрались на дне рождения Мишеля. Настроение было похоронное. Мы старались отвлечься, но на глаза наворачивались слезы. Мы не могли избавиться от ужаса, который впечатался нам в мозг.
Два израильтянина заблудились и попали в руки палестинской полиции. Полицейские вместе с обычными жителями пытали их и убили с такой жестокостью, какой я не мог себе представить в самом страшном сне. Не знал, что человек на такое способен. Жена одного из пленников позвонила ему, когда его мучили. Палач взял телефон своей жертвы и заявил: «Мы как раз убиваем твоего мужа!» — и она услышала крики несчастного. Один из мучителей подошел к окну и показал свои руки по локоть в крови, он собой гордился, а толпа, что собралась у дома, аплодировала ему и кричала: «Аллах акбар». Трупы выбросили на улицу. Их топтали, расчленяли. Чудовища были счастливы, что могут разодрать их в клочья.
— Это не люди, это звери, — сказал Дан разбитым голосом.
Никто ему не возразил.
— А израильтян принуждали заключить мир с этими дикарями! — произнес он внезапно окрепшим голосом. — Скажите, можно доверять свирепым зверям?
— Израиль и создал эту самую палестинскую полицию, — подхватил Мишель. — Были даже организованы совместные патрули: израильтяне вместе с палестинцами как символ будущего взаимодействия. Хорош символ!
— Вот вам подтверждение, что собой представляют арабы. У них нет сердца, нет никаких ценностей. Ради убийства они готовы взрывать собственных детей и счастливы, что те гибнут, читая молитвы. Нет, они даже не звери, потому что звери тоже защищают своих детей.
Еще совсем недавно, услышав такое, я стал бы возражать и возмущаться, отбиваясь от карикатурных преувеличений, но свершившееся было так низко, так чудовищно, что смело все оппозиции, все лагеря. Я дошел до крайности. Не старался усмирить свой гнев, сдержать его, найти объяснения и оправдания. Нас поразил ужас, и хотелось нанести ответный удар.
Очевидностью для меня стало одно: моему поколению не увидеть мира.
27. Невозможность понять
Рафаэль
Октябрь 2001
Примирительный матч.
— Примирение! Кого с кем? Кто ссорился? Кто извиняется? Французы за то, что заняли Алжир и мучили ни в чем не повинных? Или алжирцы за то, что отправили к нам своих отморозков?
Дан упивался собственным красноречием.
— Знаете что, ребята? Если вы меня пригласили слушать свои комментарии, то я лучше пойду смотреть матч домой, — раздался недовольный голос Марка.
— Стоп! — отозвался Дан. — Надеюсь, ты не думал, что мы будем просто-напросто дуть пиво и обмениваться банальностями вроде «спорт, он так сближает людей!..».
— Лично я нахожу инициативу интересной, — продолжал Марк. — Франция всегда закрывала глаза на собственную историю. Спроси любого мальчишку о Второй мировой войне, и он тебе расскажет про французов в Сопротивлении, де Голле и прочее. А если спросишь о войне с алжирцами, подумает, что ты говоришь о беспорядках в Воз-ан-Велен, если, конечно, что-то о них знает.
— Скажешь тоже! Мне твои шуточки кажутся неуместными, — сделал оскорбленное лицо Дан.
— Кто не хочет принять свое прошлое, слеп к будущему, — торжественно провозгласил Мишель.
— Это кто? Лао Цзы или Лафонтен?
— Моя бабушка, — невозмутимо отозвался Мишель. — А там поди знай, у кого она это подтибрила. Смотрите-ка, футболисты уже выходят на поле!
Команды выстроились друг напротив друга.
— Так! Гимн Франции. Давайте вставайте, — скомандовал Дан.
— Погоди, не спеши, старик. Это гимн алжирцев, — заметил Марк.
— Вот именно, спешить не стоит. И вообще все вопрос времени. Вы знаете, на каком иностранном языке будет говорить через десять лет большинство французов?
— Помолчать можно?
— Лично я знаю. На алжирском.
— Нет, на французском.
Все невольно рассмеялись.
— Хулиганье, — отрезал Марк, раздосадованный, что смеялся со всеми.
На «Стад де Франс» заиграли «Марсельезу», и сразу же на стадионе раздались свистки. Мы в недоумении подсели поближе к телевизору.
— Черт побери! Вы слышали? Они же свистят! Я просто ушам своим не верю, — с удивлением сказал Мишель.
Комментатор сыпал пустопорожними пошлостями, делая вид, что ничего не замечает.
— Убедились, что паршивые журналисты знать ничего не хотят? Вконец оскотинились.
— Они приглушили звук! — снова воскликнул Мишель. — Заметили, да? Звук сделали тише.
Мы прислушались. Комментатор, пребывавший в растерянности, наконец отреагировал.
— Несколько свистков! Он сказал: несколько свистков! — крикнул Дан. — Им плюнули в морду, а они утерлись, пожав плечами. Да здравствует Франция!
Дан не издевался — он негодовал. Выругавшись, он встал, прошелся по столовой и снова сел.
Наше возбуждение дошло до крайней точки. У меня тоже все внутри кипело, черт его знает почему.
Матч начался, но мы потеряли к нему всякий интерес.
Минут десять спустя Мишель взглянул на экран и заметил, что происходит.
— Смотрите-ка! Они ринулись на поле!
— Вот черт побери! Ну и дела! — воскликнул Марк.
Дан разразился истерическим хохотом.
— Как сказал бы Марк, мы имеем возможность расценить эту встречу как своеобразный символ: французы дружески встречают алжирцев. Алжирцы плюют на их гимн, на правила игры и заполоняют поле. Мы с вами видим будущее Франции.
Мишель прервал его:
— Да вы только послушайте, что говорит комментатор! Это, оказывается, манифестация радости.
— Да ты что! Сюр какой-то! Посмотрите, они спускают штаны!
— Я только не понимаю, чему вы-то радуетесь, наблюдая за этой гадостью? — возмутился Марк.
Дан картинно возвел глаза к небу.
— Радуемся, что наконец-то видим истинные лица арабов и французов. И тому, что ты теперь тоже поймешь, почему нам здесь больше нет места.
— Не преувеличивай, — отозвался Марк. — С чего вдруг такая категоричность? Не стоит все мешать в одну кучу. Мало ли что творят молодые дурачки, изображая борцов!
Марк защищал свою позицию. Из принципа, без большой убежденности. Мы все чувствовали: на наших глазах произошло что-то очень важное. Рухнула стена. Другие стены вчера и позавчера шли трещинами. А сегодня — рухнула эта. Событие особой важности. Завершающее? Открывающее дорогу неведомому? Неизвестно чему, сметающему все?
На следующий день во всех газетах журналисты напускали туман уклончивыми формулировками, стараясь преуменьшить значимость того, что произошло. Я сидел в кафе. Листал одну за другой газеты, все же на что-то надеясь. Нет. Ничего. И мне становилось все тоскливее. Что я должен был думать? Французские журналисты прикрылись недостойной маской сочувствия. А я от них ждал всего-навсего честной работы, добросовестного освещения фактов. Мне очень хотелось думать, что они так повели себя не из трусости. Не из опасения прослыть расистами, если без утаек изложат факты, расскажут, что именно произошло на стадионе.
А с чего, собственно, я так нервничаю? Если Франция закрывает глаза и позволяет унижать свое достоинство, почему мне кажется, что и мое достоинство страдает тоже? Попробуем рассуждить логически. Потому что я считаю себя французом? Потому что этот гимн мой? Нет. Я так не считаю. Во всяком случае, теперь я так больше не считал. А если считал, то не с такой убежденностью. Гораздо правдивее был другой ответ: если Франции наплевать на свое достоинство, она способна на худшее. А худшее всегда кончается гонениями на евреев.
Март 2002
Привыкают ли к ужасам? К сожалению, да.
Тот, кто узнал первым, сообщал остальным: «Еще один теракт».
И мы садились перед телевизором, включали радио, дожидаясь подробностей, объяснений, а главное, хотели узнать количество пострадавших. Но цифры перестали на нас действовать, они сообщали об успешности теракта и молчали о человеческой трагедии.
На деле, мы все меньше и меньше доверяли СМИ, мучились оттого, что нас пичкают дезинформацией, искали в сообщениях доказательства пристрастности журналистов и элиты. Мы вели нелегкую борьбу за правду, в то время как обозреватели всеми силами старались или оправдать кошмары, или свести их на нет. Палестинцев по большей части называли «сопротивляющимися», террористов — «отчаявшимися», израильтян — «военщиной», а жертвы становились в репортажах просто цифрами.
На новостных каналах сообщали, что еще один палестинец покончил с собой, взорвав бомбу и убив десять человек, оказавшихся рядом. Сообщали не о террористе, а о несчастном самоубийце, который просто неудачно выбрал место для того, чтобы свести счеты с жизнью.
Велеречивые репортажи посвятили первой женщине-террористке. Авторы не скупились на подробности, описывая обстоятельства, которые вынудили медсестру взорвать себя в сердце Израиля. Выходило, что израильтяне были настоящими исчадиями ада, коль скоро довели замечательную женщину до отчаяния, заставив предать себя смерти, чтобы защитить свой народ. О преступниках, которые вкладывали подобные идеи людям в мозги и надевали на них пояса со взрывчаткой, не было сказано ни слова. Вина за все это опять ложилась на Израиль.
Журналисты не брезговали и еще одним трюком: приплюсовывали террориста к жертвам. Фраза «взрыв унес десять жизней, в том числе и бросившего бомбу» не была ложью, она только смещала акценты, снимала ответственность, не называла убийц убийцами, потому что и они стали жертвами собственного взрыва. Теракты вошли в обиход. Повторялись и уже не поражали воображение. Никто уже не думал, что каждый взрыв в Израиле уносит от двадцати до тридцати жизней. Если бы речь шла о Франции, то это было бы двести или триста человек. Как бы называли эти сдержанные репортеры — искренне убежденные или слепые — террористов, которые принялись бы убивать наших сограждан? Как бы они нас информировали?
Впрочем, все ясно: виной всему сионисты. Израиль в устах большинства стал ругательством. ЦАХАЛ — оскорблением.
А нам было совершенно ясно, на чью сторону встали СМИ. Разве о другой какой-то войне говорилось с таким количеством «антикачественных» прилагательных, оскорблений и ненависти? Памфлетная стилистика не предполагала трезвости, ясности суждений, объективности.
На конференции в Дурбане обвинители и обличители Израиля не постеснялись сравнивать его с самыми страшными диктатурами, черпая сравнения из кровавых закромов истории.
А после боя между израильтянами и палестинцами в Дженине стали говорить о резне и тысячах мертвых. Когда правда восторжествует, когда будет подтверждено, что убито там не более пятидесяти человек, никто не покается в своих ошибках. Да и будет уже поздно: мировое общественное мнение осудит оболганный Израиль.
Израиль и его народ, который обозвали палачом. Какая низкая несправедливость! Эти манипуляции разожгли во Франции ненависть к евреям. Если слова потеряли свой изначальный смысл, если все можно подтасовывать, то почему радикалы-мусульмане должны делать различие между израильтянами и евреями? Обесценивание понятий и человеческих ценностей, разнузданность тона и лексики породили смуту в головах. А безрассудные головы стали пособниками насилия.
Порой и нас одолевали сомнения. Что, если наша оценка несправедлива? Что, если мы неправильно понимаем французских журналистов?
Да нет, правильно. Но мы всеми силами стремимся уравновесить их несправедливость. И тоже становимся несправедливыми. И если весь мир не поддерживает политику Ариэля Шарона, то ее поддерживает любая еврейская община. И чем больше нападений на Израиль, тем теснее сплачивается община, тем упрямее отстаивает свои ценности, становится все радикальнее, горой стоит за обожаемую страну.
Между тем количество антисемитских выступлений росло при всеобщем равнодушном попустительстве. Мусульмане взялись мстить евреям за палестинцев. Их недовольство, разжигаемое, поддерживаемое СМИ, понемногу превратилось в ненависть и стало искать себе выхода. В прессе об этом ни слова. Из-за чувства вины? Ничуть не бывало. Не стоило обличать ту часть иммигрантов, которая, постоянно испытывая на себе последствия социальной несправедливости, готова была взорваться. Главное, не тревожить предместья. А что касается нас, евреев… Да как-нибудь обойдутся!
«Неправильно сформулировать — значит причинить людям зло», — сказал Альбер Камю. Журналисты и политики извращали смысл слов, делали их плоскими, опустошали их. Они лишили нас опор, которые помогали бы нам ориентироваться в море фактов. Более того, отказываясь называть вещи своими именами, они увеличили смятение и несправедливость в мире.
Неужели им неведомо, что правда принуждает людей стать четкими? Не определившись, люди блуждают наугад в тумане, изобретают свои маленькие правды, доверяясь вспышкам фантазии, цепляются за них. Непонимание, бессилие, тревога ведут к рождению ненависти.
Наше положение во французском обществе непоправимо изменилось. Французы или евреи? Французские евреи? Сионисты? Будущие израильтяне? Жертвы или варвары? Нас постоянно мучают эти вопросы. Они сближают нас друг с другом. Возвращают к истокам нашего самоопределения.
Апрель 2002
Беседа подходила к концу. Я уже исписал целую страницу, стараясь изложить каждую мысль раввина как можно короче, фразой-ключом. Записывая, я глубже внедрял в свой мозг, жаждущий понимания, новые идеи. Меня потрясало богатство еврейской мысли. А иногда трогало до глубины души.
Я начал посещать эти беседы-лекции, ища ответ на «экзистенциальные» вопросы. Вопросы, которые затрагивали глубины моего существа. Вопросы, касающиеся моего отношения к религии, к обществу, к моей семье, к моей работе. Кто я такой? Какой я иудей? Какой муж? Какой отец? Мой иудаизм походил на айсберг, и до поры до времени я обходился небольшой, лежащей на поверхности частью, сформированной обрядами, традицией и сионизмом, искренним, но бездеятельным. Теперь я испытывал настоятельную необходимость погрузиться в океан и освоить подводную часть, на которой покоятся наши правила жизни.
Наверное, побудило меня к этому еще и желание ответить всем тем, кто видел в моей религии угрозу. Мне надо было понять, в чем суть моего отличия от других, узнать, что этих людей в нас тревожит.
Я убедил Мишеля посещать эти беседы вместе со мной. Он равнодушен к религии, но он ярый сионист, он на самой верхушке айсберга и страстно хочет, чтобы морские течения принесли его в Землю обетованную.
Раввин, беседующий с нами, человек небольшого роста, нервный, сухой, с изможденным лицом. На виске у него бьется голубая жилка, и кажется, она сейчас прорвет тонкую белую кожу, когда, воодушевившись, он излагает очередной постулат. Его ценят за ум, с каким он проводит свои беседы.
Эта была посвящена понятию «избранный народ». Смысл этого понятия совершенно противоположен тому, какой подразумевают в нем антисемиты. Они видят в нем гордыню и стремление возвыситься надо всеми, что оправдывает их негативизм и желание нас принизить.
Слушатели встали, Мишель остался сидеть, погруженный в свои мысли. Я открыл было рот, чтобы его окликнуть, но тут он встал и попросил у раввина разрешения задать вопрос.
Тот сначала удивился несвоевременности, но кивнул, давая Мишелю слово. Народ задержался и притих.
— Вы примете участие в демонстрации против антисемитизма в воскресенье, седьмого апреля?
Мишель оставался Мишелем. Сегодняшний день, политика, защита прав евреев среди событий настоящего момента оставались для него самым главным. Мне его вопрос показался неуместным. Судя по выражению лиц присутствующих, верующие евреи считали точно так же. Но потом я подумал, что это неправильно: все евреи должны сплотиться против антисемитизма. Сплоченность — одна из основ иудаизма.
Раввин посмотрел на Мишеля, не выразив никаких эмоций.
— Нет. Служитель религии обращается со своими пожеланиями и просьбами не к правительству. Не в нашем обычае бросать слова на ветер. Мы исполняем свой долг, молясь в синагогах.
Мишель разочарованно покачал головой.
— Со всем моим великим к вам уважением я скажу, что, на мой взгляд, главная проблема нашей общины сводится именно к такой позиции. Вы только что объясняли нам, что понятие «избранность» означает великую ответственность. Мы обязаны жить так, чтобы всем стала понятна значимость Торы. Вы также сказали, что верующие своим образом жизни должны играть роль сплотителей, потому что одна из главных ценностей нашей религии — сплоченность. На эту демонстрацию, невзирая на разногласия и расхождения, выходят все евреи. А вы нет. Что подумает община? Она сочтет это отъединением!
Мишель говорил напористо, со сдержанным гневом. Взмахом руки подвел черту, давая понять, что больше сказать ему нечего. Помолчал и все-таки добавил:
— Я из тех евреев, которые не удивятся вашему отсутствию. Я удивляюсь, что хожу на ваши беседы.
Раввин на секунду замер, помолчал, а потом объявил, что беседа закончена, и попрощался со слушателями. Мишелю он ничего не ответил. Счел время неподходящим для дискуссии? Или оскорбился его замечаниями?
Мне все-таки показалось, что Мишель задел его. Если верующие хотят служить примером, они сами должны перестать смотреть свысока на остальных членов общины. Мнение, что они избранная часть избранного народа, должно быть заслуженным.
Май 2002
Бенни Леви, Ален Фенкиелькро и Бернар-Анри Леви[84]. Три интеллектуала откликнулись на приглашение коммунального центра, работающего в квартале Виллербан. Тема лекции — «Смещения времен».
Лекция была организована после окончания цикла бесед по Торе, который из-за выступления Мишеля вызвал горячую дискуссию. Когда мы вышли, к нам сразу подошел один из верующих.
— Я понял, что ты хотел сказать. Меня это не оставило равнодушным. Мне бы хотелось встретиться с тобой и вместе поразмышлять о символическом проявлении единства, о котором ты говорил.
— Ты идешь на демонстрацию? — тут же с вызовом спросил Мишель.
— Да, конечно. Но этого недостаточно. Ты сказал о необходимости объединяться разным типам сознания. Я полагаю, что сознание реагирует на идеи.
Они встретились, а затем организовали на базе местного коммунального центра лекцию. Поистине, чудо из чудес.
Чудо, потому что вот уже много лет эти три интеллектуала не выступали вместе.
Чудо, потому что они нашли нужным отложить свои важные дела, выбрали время и согласились принять участие в мероприятии, которое, стало быть, отвечало запросам времени. Значит, речь шла не о случайном столкновении позиций и не о бреде запуганных евреев, боящихся преследований.
Чудо, потому что согласились приехать три самых главных фигуры современной еврейской мысли. Бенни Леви, литературный секретарь Жан-Поля Сартра, ставший в последнее время специалистом по Торе. Бернар-Анри Леви, человек в офисном костюме с безупречной стрижкой, ценящий в синагогах только эстетику, тем не менее откликался теперь на любой запрос общины, если речь шла о защите еврейской идентичности. Ален Фенкиелькро, философ со сложным переплетением идей, ведущих в конце концов к просветлению.
Мы были счастливы.
Три главные культовые фигуры объединились, чтобы сказать нам: нет ничего удивительного, что вы заблудились в этой Франции, которая разучилась описывать происходящее, выбирать актеров, распределять роли и четко их исполнять. Три совершенно по-разному мыслящих еврейских интеллектуала пришли поговорить со своими соплеменниками: студентами, коммерсантами, домохозяйками, преподавателями, артистами, верующими, традиционалистами, интеллектуалами, пенсионерами, холостяками, скромниками, гордецами… Все мы собрались, надеясь получить ответы на свои вопросы, включая главный — новую вспышку антисемитизма. Обрести основания для надежд. Основание надеяться, что выступления в Дурбане были случайностью, что СМИ осознают свои ошибки, что у нас не возникнет необходимости уезжать или делать алию, потому что в спину уперлось ружье.
Когда мы вышли после встречи, у всех были радостные лица. Мы были не одиноки. Нам не хотелось расходиться, хотелось подольше побыть вместе, обменяться взаимным теплом, столь естественным для нашей общины в это трудное время, полное сомнений и опасений. Я переходил от группки к группке, ловил обрывки разговоров.
Две пожилые женщины под обаянием атмосферы делились впечатлениями:
— Как было хорошо! Я, конечно, не все поняла, но мне очень, очень понравилось.
— А какой красивый Бернар!
— Бернар-Анри, да?
— Нет. Бернар. Его зовут Бернар, а по фамилии он Анри-Леви.
— Да ничего подобного! У него два имени, он их соединил, двойное имя, так красивее.
— Да я же и говорю, он красавец!
Два мужчины лет тридцати, не без иронии:
— Ну что? Остаемся и боремся или мотаем?
— В Израиль?
— Ну да. А ты куда хотел?
— В Канаду.
— Смеешься? Там знаешь, какие холода зимой!
Два студента:
— Я рад, что послушал БАЛа насчет Дженина. Ну и вранья мы огребли, когда слушали СМИ. Геноцид! Резня! Бойня! Он же сам там был. Ему можно верить.
— Слушал лекцию Фредерика Анселя?
— Гениально! Он препод в ИПИ[85].
Крашеная блондинка треплет по щеке сына лет двадцати:
— Мой сын тоже будет философом. Так ведь, детка?
— Мама!
— А почему нет? Совершенно точно, мадам, он будет как Бернар Гарри Леви.
— Хватит, мама!
— А что ты покраснел? Он на первом курсе философского. Кончит и будет писать книги, читать лекции.
— Бог ему в помощь! Мы желаем всем детям Израиля преуспеть!
— Аминь.
— Хорошо, мама. Я пойду?
— Иди, сынок, иди. У него такая голова, вы не поверите! Это у него от отца, не от меня, что правда, то правда.
Двое мужчин в костюмах и галстуках:
— Есть и другая возможность. Семья живет в Израиле, ты работаешь во Франции, вечером в четверг приезжаешь к семье. Самолет «Эль Аль» переполнен бизнесменами, которые так живут. Их называют «алией „Боинга“».
— Нет, мне это не нравится. Надо сделать выбор: или там, или здесь.
— Можно так пожить какое-то время, пока осмотришься и наладишь свой бизнес в Израиле.
— Скажешь тоже — бизнес в Израиле! Шутишь, что ли? Только тебя там и ждали. Там палец сунуть некуда. Акулы!
— Ну, должны же быть и амбразуры в стене!
Старая женщина встретилась со мной взглядом:
— Ничего я не поняла, ничего. А побывать рада. Люблю, когда евреи собираются вместе. Сразу тепло на сердце. Французы нас не любят. Арабы ненавидят. У нас один выход: обходиться без них и любить друг друга.
Франция болеет своими евреями. Франция болеет Израилем. Мы уже не французы иудейского исповедания, мы французские евреи. Евреи во Франции.
Март 2003
Я открыл на звонок дверь, и вот мама с папой уже заглядывают через мое плечо в комнату. Они отвечают мне, торопливо прикладываясь щеками к моей щеке, и входят.
— А где малыши?
— У нас все в порядке, спасибо.
Мама меня не слышит. Она слышит детские голоса и взрывы смеха и направляется к кухне. Папа спешит за ней.
— Дедуля! Бабуля!
Малыши бросаются им на шею.
— Mchekpara!
Старея, мама стала возвращаться к арабским словам, когда бывала переполнена чувствами. Малышей смешат эти слова, и они пытаются их повторять. Меня эти слова трогают. Или злят — смотря по настроению.
Мы сели за стол, и я почувствовал: мама нервничает. Она едва прислушивается к словам Гислен. Папа уткнулся в тарелку, он где-то далеко от нас, погрузился в свои мысли. Я догадываюсь, что мама хочет нам что-то сказать и ждет подходящего момента. Когда дети, кончив еду, поднимаются из-за стола, она наконец решается.
— Мы хотим поговорить с вами. Обсудить серьезную проблему.
Начало многообещающее. Проблема, должно быть, и в самом деле серьезная. Папа кивает, подтверждая, что он действительно часть «мы» и действительно заинтересован во всем, что последует.
— Ну так вот. Мы хорошенько подумали обо всем и решили… В общем, нам показалось… Что мы должны ехать. — Считая, что ее сообщение предельно ясно, мама ждет, что мы скажем.
— То есть? Кто должен ехать? И куда?
Папа с огорченным видом посмотрел на маму.
— Что ты хочешь? Он прав! Ты недостаточно объяснила. Он подумал о каникулах.
Маме неприятно, что она должна повторять все заново, и она передергивает плечами.
— Мы должны уехать из Франции. Мы все. Вся семья.
До меня не сразу доходит вся полнота смысла маминых слов. Тишина, воцарившаяся за столом, вынуждает ее продолжить:
— Мы не можем оставаться во Франции. Случаи, о которых мы знаем, будут повторяться. Все станет еще хуже. Мы думаем о вас и о ваших детях. О детях в первую очередь. Что с ними будет в стране, которая дрожит перед всякой сволочью? Евреи никогда не будут тут в безопасности. И решение нужно принимать сейчас — потом будет поздно. Ты старший. Если ты уедешь, братья поедут следом.
Я замер. Я не мог себе представить, что мои родители способны на такое решение. Они получают пенсию, живут в своем домике, у них есть друзья, и они так любят эту свою с трудом доставшуюся им жизнь, что даже отдыхать уезжают не больше чем на две недели. И я с нежностью посмотрел на маму, худенькую хрупкую женщину с острым взглядом, на прочно усевшегося на стуле отца — он еще не растерял своей силы, хоть и набрал несколько килограммов лишку.
Гислен заговорила первая:
— Все только и говорят об отъезде. Все евреи кинулись в Еврейское агентство[86] и выясняют условия иммиграции в Израиль. Что касается нас, то у нас нет никакого желания уезжать из Лиона. Уедем мы, и что дальше? Будем умирать с голоду в стране, начиненной террористами, в состоянии экономического кризиса? А самое главное — мы французы! — Жена говорила все громче и громче, и в каждом ее слове звучало отчаяние. Она не хотела больше обсуждать отъезд. Она боялась этих разговоров. Словно каждый разговор был шагом к решению, которое она мало-помалу будет вынуждена принять как неминуемое. Между собой мы уже переговорили обо всем и пришли к согласию: мы не хотим бежать. Франция наша страна. Но Гислен не могла не догадываться, какую брешь в возведенной нами стене пробивает решение моих родителей. Если наши близкие родственники соберутся и уедут, нам придется с этим жить. Взметнувшаяся волна оставит ручеек, который будет размывать берега нашей решимости, и, возможно, настанет день, когда решимость и уверенность в своей правоте оставят нас, и мы тоже снимемся с места.
— Кто говорит об Израиле? Вы подумали, что мы можем предлагать вам везти детей на войну? Тем более что мы знаем, как к нам там относятся, мы побывали там, ездили отдыхать. Нет, мы думаем о Канаде, о Соединенных Штатах. У нас там есть родственники, они помогут нам на первых порах.
Канада. Соединенные Штаты. Я на секунду попытался вписаться в пейзаж, возникающий вместе с упоминанием этих стран. Но в голове у меня был полный сумбур.
— И что мы будем там делать? Язык… Моя профессия… Не могу себе представить…
Мама улыбнулась.
— Если поедем в Соединенные Штаты, то все будем учить язык. Твоя профессия? Найдешь что-нибудь на месте. У тебя и твоих братьев хватит ума и сообразительности, чтобы не остаться без работы.
— Сначала придется нелегко, — подхватил папа. — Но ради безопасности детей стоит чем-то пожертвовать.
Гислен поднялась и стала менять тарелки, она явно хотела положить конец неприятному разговору.
— Соединенные Штаты, Канада… — повторила она. — У меня нет желания жить в этих странах. Разве можно считать себя в безопасности в Штатах? Да там у каждого мелкого воришки револьвер! Сценаристы вдохновляются убийствами, потому что убийцы там страшно изобретательны! А правосудие? Судьи отправляют на электрический стул невиновных.
Мама поджала губы:
— Это все общие места, Гислен!
Моя жена, словно на нее навалилась внезапная усталость, поставила на стол тарелки, тяжело опустилась на стул и посмотрела на меня.
— А ты почему молчишь?
Мне показалось, что я смотрю не лучший ситком и один из актеров внезапно обратился ко мне.
— Мы с Гислен никогда не собирались уезжать.
— Этой стране на нас наплевать, — сказал папа очень спокойно и очень твердо. — А наша жизнь… Ну что наша жизнь? Ну потратили двадцать, ну сорок лет…
— Вот именно, ваша жизнь! Как вы можете думать об отъезде? Оставить свой дом, своих друзей, оказаться в совершенно другой вселенной? В неведомом вам мире? Вы-то справитесь?
— Мы тут не главные. Мы прожили свою жизнь. Наше будущее — это вы, — ответила мама.
Папа, покачав головой, посмотрел на меня с удивлением.
— Ты спросил: справимся? А мы разве уже однажды не справились? Разве не оставили дом, друзей? И опять все нажили. Если говорить о жизни, то не забудь опыт нашей…
Ну да! Вот откуда их сила, их мужество! Опыт! Как же я сразу не сообразил? На миг я почувствовал себя круглым дураком.
28. Со смехом или в слезах
Рафаэль
Февраль 2004
Мы с Оливье остановились напротив лионской биржи труда. Скоро в этом здании начнется спектакль. Вокруг все было спокойно, но в воздухе уже витала напряженность. У нас невольно возник вопрос: а мы-то зачем сюда пришли? В этом квартале хозяева — скины. Но все же не двинулись обратно. Наоборот, подошли поближе, ловя на себе косые взгляды.
Что? Неужели уже началось? Неужели мы с ходу вступили в битву с чудовищем, из-за которого пришли сюда?
На ступеньках, которые вели в здание биржи, расположились сбоку два студента-еврея с плакатом в руках: двое темнокожих бросали друг другу вызов — Мартин Лютер Кинг и Дьедонне[87]. «Антисионизм по сути тот же антисемитизм», — говорил один другому.
Плакат мне не очень понравился. Фигляр с претензией на юмор недостоин был находиться рядом с афроамериканским проповедником. На мой взгляд, евреи утратили умение общаться. Их попытки привлечь на свою сторону общественное мнение по большей части плоски и неуклюжи. Бесполезны, а возможно, даже вредны. Наши враги по этой части куда успешнее. Возможно, потому что им есть что сказать, они знают, чем завести людей, у них есть стратегия. А у нас только жалобы. Выходки Дьедонне пользуются спросом, потому что народ любит язвительные формулы, ядовитые насмешки, укусы исподтишка. Наша беззубая защита никого не трогает, она похожа на нескончаемую жалобу, что судьба нас определила в вечные жертвы. Мне не хотелось идти сюда и демонстрировать свое отвращение к жалкому паяцу, но настойчивость друзей в конце концов взяла верх. И я тут же придумал, почему здесь появлюсь: я приду на представление, потому что хочу посмотреть, что за публика ходит на Дьедонне, кто они такие — новые антисемиты со спокойной совестью, коллаборационисты XXI века.
Я заметил нескольких знакомых ребят из Движения, группы, членом которой был уже немало лет назад. Узнал и несколько своих старых друзей, всегда готовых прийти на помощь в случае необходимости. Незнакомых узнавал по манере держаться. Сдержанной, но… настороженной — губы сжаты, взгляд зоркий, шея втянута в плечи. С одной стороны, они хотели оставаться незамеченными, с другой, в любую минуту готовы были вмешаться. Искоса они наблюдали за горячими головами. За своими же ребятами из общины, которые пришли сюда, чтобы подраться. Они их, возможно, даже знали и одобряли, но получили приказ всячески сдерживать. И еще наблюдали за чужими, незнакомыми, с неведомыми намерениями и планами.
В равномерно дышащей толпе я замечал искрящиеся силовые точки. Я чувствовал: малейшее повышение голоса, неожиданный шаг в сторону — все может сыграть роль детонатора, и ситуация станет неуправляемой. Поэтому я счел нужным напомнить Оливье нашу с ним позицию.
— Без лишних слов: мы пришли не драться. Если я увижу, что народ возбудился, ухожу немедленно. И ты тоже. Как-никак нам по сороковнику, так что не будем играть в мускулистых гладиаторов.
Оливье улыбнулся.
— Хорошо, старший брат. В любом случае, я полностью с тобой согласен относительно сегодняшней акции.
Появился Мишель:
— Надо же! Все-таки пришли! И кто же вас переубедил?
— Никто, — отозвался Оливье. — Мы пришли, чтобы тихо и достойно дать понять, что дурацкие шутки Дьедонне нас шокируют, что мы в курсе и настороже. Запрещать ему выступать — значит делать из него мученика. Пресса только того и ждет, найдет предлог и снова обрушится на общину.
Выражение лица Мишеля говорило, что он с нами не согласен.
— А что собираешься делать ты? — спросил я его.
Он заколебался. Операция была секретной. Но он говорил со старыми друзьями, и в конце концов доверился.
— Мы войдем в зал и устроим скандал. Пусть отцы городов, где выступает этот козел, призадумаются, прежде чем выпускать его на сцену.
Лицо Мишеля приняло торжественное выражение — с таким мы в молодости отправлялись на спецзадания. Я расхохотался, он выпрямился и обиженно посмотрел на меня.
— Прости, но… Мне кажется это смешным. Тебе сорок, Мишель!
— И что? Ты думаешь, с годами моя решимость увяла? Или сил стало меньше? Годы — пустяки! Ты остался таким же сволочугой, как в молодости!
Зазвонил его мобильник. Он ответил, потом попрощался, и мы расстались.
Начала подходить публика. Послышались свистки. Мальчик, член Союза еврейских студентов Франции, взял в руки мегафон и стал задавать вопросы будущим зрителям. Большинство проходили мимо, опуская головы. Кое-кто с улыбочкой нас толкал. Ребята, участники акции, смешались с толпой и старались завязать разговор.
— Вы идете смотреть смешной спектакль или политическое шоу?
— Что вы думаете о текстах Дьедонне?
— Вы смеялись над его последним скетчем?
— Вы слушаете его, и значит, поддерживаете. Вам не стыдно?
Ответы были разные. Диктовали их опаска, застенчивость, злоба, глупость, предвзятость.
— Хочу составить собственное мнение.
— Он юморит, юморит, и все. Как Колюш юморил. Или Депрож[88].
— А почему это вы навязываете мне свое мнение? У нас демократия, что хотим, то и думаем.
— О евреях и слова нельзя сказать, сразу запишут в антисемиты!
Там и здесь повышаются голоса, угрожая обернуться стычкой. И вдруг в толпе волнение.
На ступеньках появилась девушка в клетчатой арафатке, она по-нацистски выкидывает вперед руку и застывает с вызывающей улыбкой на губах. Толпа приходит в движение. Нас с Оливье несут к лестнице. Да нет, мы тоже охвачены яростью и стремимся туда, чтобы ее схватить. Один из скинов хватает провокаторшу за кофту и утаскивает внутрь. Крики, брань, толкотня. Организаторы акции всеми силами стараются утихомирить народ. Ребята из Движения им помогают: окружают самых горячих и отводят в сторонку.
Я стараюсь успокоиться и вдруг отдаю себе отчет — понимаю, с какой яростной ненавистью я несся к этой девушке. И что? Я бы ее ударил? Женщину?
— Если наше решение в силе, то самое время уходить, — шепнул мне Оливье.
На секунду я приостанавливаюсь. Что же делать? Как все это понимать? Юмор, свобода самовыражения, демократия… Это все слова. А ценности? После выступления Дьедонне по телевизору в передаче Марк-Оливье Фожьеля, нам все стало ясно. Все евреи всё поняли. У нас нюх на такие вещи. А как иначе? Разве юмор, в том числе и черный, изобрели не мы? Именно он приплясывающим рефреном сопровождает невеселую сказку нашей жизни. Сколько нитей вплели мы в историю разных стран, сколько оставили подарков: немцам, русским, испанцам… А голландские чердаки? А французские фермы?
Так что антисемитизм мы распознаем под покровом любой иронии, мы читаем его на лице псевдокомика: в его кривой усмешке, в недобрых огоньках глаз. Скажете, паранойя? Возможно. Но и опыт тоже. Интонация, легкое смущение, взгляд в сторону — и мы понимаем, что смысл шутки глубже остроумия, что эта шутка совсем не невинна.
Мы с Оливье уже уходили, и тут увидели полицейских, они раздвигали толпу, уводя кого-то, кого нам не было видно. Но вот они выбрались из толпы и отпустили свою жертву, подтолкнули: иди, мол! И я тут же узнал девицу-провокаторшу. Она собиралась быстренько смыться. Но не тут-то было! Я догнал ее, положил руку на плечо, заставил повернуться к себе.
— Гадючка!
Я обругал ее. Меня хватило только на оскорбление, но, видно, лицо мое выражало много больше, потому что, глядя на меня, она испугалась. Замерла от испуга, и мы несколько секунд смотрели друг на друга.
— Что ты хотела сказать своим выступлением? Что ненавидишь евреев?
Она затрясла головой и пробормотала:
— Нет, нет… Это так, для смеха…
— Для смеха?
Похоже, у французов народился новый юмор, который я не понимал.
Девчонка была смертельно напугана. Хотел бы я взглянуть на себя в эту минуту, понять, чем внушаю смертельный ужас. Она заплакала, дрожа, оглядывалась вокруг себя, то ли надеясь на помощь, то ли боясь, что ее узнает кто-то еще.
— Простите, извините… Я не хотела… Отпустите меня, пожалуйста…
Меня догнал Оливье. Он тут же понял, в чем дело.
— Отпусти ее, Рафаэль.
Только в эту секунду я понял, что крепко держу девчонку за руку.
— Отпусти. Ты же видишь: вот тебе Франция. Ни грана мужества, гордости, одна бессовестность.
Девчонка опустила глаза. Страх был сильнее стыда, она хотела одного: убежать. Шмыгая носом, она кивнула.
Я отпустил ее руку, она пробормотала «спасибо» и побежала.
Теперь наши лица станут на всю жизнь ее спутниками, наши слова будут звучать у нее в ушах. Конечно, она справится с пережитым стыдом, расскажет себе другую историю и отправит обидное воспоминание вместе с другими пакостями в страну забвения.
— Ну, что? Идем? — спросил Оливье.
— Да. Нам тут делать нечего.
Октябрь 2004
Утренние новости. Ясир Арафат прибывает лечиться во Францию. Журналисты мусолят событие. Да, для манипуляторов общественным мнением это событие. Слушая диктора, можно подумать, что вся страна в восторге от выбора, сделанного бывшим шефом ООП[89]. Журналисты в восторге, им больше не нужно разбирать, где человек, где террорист, где политика, где пропаганда, где глава государства, а где расхититель дотаций, где сторонник мира, а где представитель Хамаса[90] и сторонник джихада. Они обсуждают событие.
Арафат садится в самолет. Через несколько часов он будет в Париже. Представитель газеты вызывает своего спецкора, который находится в аэропорту.
На экране появляется молодой человек. Позади него самолет, на котором полетит палестинский лидер. Молодой человек страшно горд тем, что именно он стоит с микрофоном. Коллеги по школе журналистики должны с ума сходить от зависти, увидев его, ведущего прямой репортаж из Рамалла. Комментарий, общие места, обычный вздор. Сейчас дадут звук. Да, он садится в самолет. Нет, мы не знаем, чем он болен. Да, он выбрал Францию, французскую медицину, французские больницы. Едва дыша от напряжения, юнец заканчивает репортаж. Последняя фраза. Так сказать, итог: «Мы все здесь чувствуем, что проживаем страницу истории». Болван. С задуренными гуманитаристской пропагандой мозгами. Глуповато улыбающийся школяр.
Страница истории. Какая страница? Какой истории? С чего вдруг такая гордость? С какой радости Арафат стал такой великой персоной, что нужно перед ним расстилать красный ковер и благодарить за то, что он выбрал французскую больницу? Богач с сотнями миллионов евро в кармане, которые, судя по всему, присвоил из средств, собранных по всему миру для его народа, отказавшийся подписать мирный договор, когда Эхуд Барак согласился отдать ему чуть ли не все, стал теперь главным героем для французских СМИ.
И меня снова стали одолевать вопросы. Одни и те же. Может, я не объективен? Может быть, я пристрастен? Может быть, прав весь мир, а я не прав?
Январь 2005
Мой роман в издательстве. Вокруг меня бушует эйфория. Благодаря восторгу моих близких до меня наконец доходит эта невероятная новость: мой роман в издательстве.
Целый год я писал свою первую книгу. Днем работал в агентстве, сгорая от желания вернуться к своим героям, продолжить их историю. Ночью писал, спал по четыре часа. Меня трясло, как в любовной лихорадке.
Но я не думал, что отдам свою книгу в издательство. Мне было интересно, выдержу ли я такую длинную дистанцию, одолею ли такую длинную историю. Я обещал себе, что если выдержу, то напишу другую, более традиционную, и вот уж ту отнесу в издательство. Но мои домашние прочитали, им понравилось, и они уговорили меня показать рукопись профессионалам. Сначала я отказался наотрез, потом под их напором все-таки сдался.
И вот мой роман принят. История, окрашенная мистикой, возникшая под влиянием моих занятий Торой. Настолько безумная, что я даже предположить не мог, что на нее найдется читатель.
29. От ненависти к страху
Рафаэль
Январь 2006
Нашли тело Илана Халими. Изуродованного, обожженного, его бросили умирать в лесу.
То, что мы предчувствовали, чего ждали, случилось в самом страшном, бесчеловечном виде. И сегодня евреи Франции со слезами на глазах поняли, что кончилась одна эпоха и наступила другая, полная кошмаров и ужасов.
Начиная с сегодняшнего дня быть евреем означает совсем другое, нежели вчера. И быть французом тоже. Мы должны по-новому осознать себя, свое положение, свои взаимоотношения с окружающим.
Я давным-давно не плакал. Давным-давно не испытывал такого гнева и такой ненависти. Давным-давно не чувствовал такой растерянности и беззащитности. На этот раз трагедия произошла не в Израиле. Виной ее не были палестинцы. Она совершилась здесь, во Франции, и убийцами были французы. Такие же французы, как я? Нет, не такие.
Я слушал передачу, в которой рассказывалось о долгих мучениях Илана Халими, и кожей чувствовал пытки, которым его подвергали. В глубине души у меня шевелились страх и безнадежность, которые он чувствовал на протяжении трех недель, пока звери с человеческими лицами унижали его, морили голодом, пытали. Три недели с завязанными глазами в неизвестности и страхе. Двадцать четыре дня между угрозой быть убитым и надеждой на спасение. Что происходило с ним за тысячи мучительных минут? О чем он думал? Он чувствовал, что его убьют? Загораживался ли воспоминаниями детства, мысленно положив голову на плечо матери? Черпал силы в улыбке сестры? Надеялся ли, что полиция найдет его и освободит? Какие возможности прокручивал у себя в мозгу?
Его мать, сестра, близкие ему люди… Как они могут жить, узнав, как умер Илан?
Я не сомневался, что каждый еврей чувствовал то же, что и я. Потому что каждый из нас мог оказаться на его месте, стать жертвой чудовищ с извращенными мозгами варваров. Да нет, это не люди и даже не звери. Посмотрев на фотографию Юсуфа Фофаны, я почувствовал тошноту, ярость перехватила мне горло. Мне не захотелось рассуждать, держать себя за руки, образумливать. Я чувствовал, что способен убить, окажись преступник передо мной. Он кромсал тело Илана ножом, облил его бензином и поджег, а потом бросил умирать в лесу. Убивая, он оставался низким, трусливым чудовищем.
И еще я понял, что смерть Илана станет для многих из нас источником ненависти к мусульманам, символом нашей нескончаемой вражды.
Общественный климат переменился. Пролегли демаркационные линии. Они разделяют теперь не экстремистов, мусульманских и еврейских, они разделяют мусульман предместий и всех евреев. Неужели из предосторожности всех мусульман предместий? Неужели всех евреев, потому что каждый может стать жертвой? Есть ли здесь справедливость? Это похоже на расизм. Да, но в этот день я не был способен на объективность. Я был сгустком гнева и горя.
Французы иудейского вероисповедания стали евреями, живущими во Франции. Мы теперь знали, что нас могут похитить, пытать и убить просто потому, что мы евреи и у нас могут быть деньги. Наше гражданство не послужит нам защитой от сумасшедших.
Отныне возникло два лагеря, которые будут сражаться и питаться ненавистью друг к другу. И как на любой войне, они будут искать союзников, пособников и врагов.
Мне надо было вновь выверить свои идеалы, представления о гуманности и приготовиться к битвам. Настала пора покончить с колебаниями и сомнениями относительно собственной правоты и неправоты. Какие сомнения? Какая самокритика? Ценности правительства меняются в зависимости от обстоятельств и личных интересов. Ценности журналистов, вызванные на первый взгляд состраданием, — на деле работа на публику, желание заполучить как можно более многочисленную аудиторию.
Я больше не желаю быть студентом-психологом, объясняющим отклонения какими-либо смягчающими социальными или психологическими причинами. Мне наплевать, что пережил Фофана и его сподручные, откуда они явились, какие травмы их искалечили, под чьим влиянием они стали уродами. Пока я буду искать ответы, они будут пытать и убивать. Довольно! Отныне они мне враги. Я страстно их ненавижу, и моя ненависть поможет мне быть бдительным, я не позволю им приблизиться к моим детям, к моим родным.
Теперь я обязан распознавать врагов — людей, чьи дела и слова разжигают ненависть к евреям. Ее разжигают имамы-фундаменталисты, левые экстремисты, отребье предместий, лгуны-журналисты, искажающие правду в Дурбане, артисты, подобные Дьедонне. И еще их пособники, коллаборационисты, занимающие двойственную позицию. Они та почва, в которую мало-помалу впитывается ненависть. И потом дает всходы. Это социалисты, это «зеленые», это крайние левого фронта, которые смеются над вонючими шутками юмористов-антисемитов, это трусливые конформисты и безответственные, бессовестные, бескультурные журналюги.
Все они виноваты в смерти Илана. Все они, сознательно или бессознательно, продолжают помогать убивать евреев.
Экстремистская позиция? Безусловно. Но убийство Илана объявило о начале войны.
Давид был первым из близких друзей, кто уехал.
До этого алия была темой разговоров. Самые неуравновешенные, говоря о ней, выплескивали свои эмоции, прагматики обсуждали как запасной выход. Ей отводили роль последнего прибежища те, кто продолжал верить во Францию, хотел исчерпать в ней свой шанс до конца.
Алия рисовалась в цифрах. Она приняла вид графика, где пики свидетельствовали о росте антисемитизма, безобразных выходках, пристрастности СМИ и общественной элиты.
Но в моем окружении до этих пор никто не решался на подобный шаг. Рассказывали о знакомых знакомых, о дальних родственниках. Но никого из близких реальная мысль об отъезде в Израиль не посещала. Иногда мне даже приходило в голову, что «Сохнут», стремясь увеличить число отъезжающих, специально распространяет слухи, способные посеять панику, но не достигает цели: информационные бомбы разрываются в пустыне. Как и ракеты Саддама. И вот мой друг собрался превратить теорию в практику.
Давид давно уже был из тех, кто постоянно говорил о необходимости уезжать в Израиль, но не делал решительного шага. Он был ревностным сионистом, яростным критиком здешних порядков, и мы всегда его спрашивали, что он делает во Франции. Возможно, он ждал решительного толчка, чтобы оформить документы и купить билет. Позиция СМИ и смерть Илана Халими стали таким толчком.
Давид с женой сообщили нам о своем отъезде во время ужина в ресторане.
— Точно решили? Уже начали оформление?
— Да, два месяца назад пошли в «Сохнут» и подали документы.
— Но… Ты мне ни слова не сказал!
— Мы решили помолчать, чтобы на нас не давили. Сам знаешь, мнения, никчемные советы друзей…
— И друзья тебе очень благодарны.
— Ты понял меня правильно. Алия — это глубоко личное решение. Мне не хотелось полагаться на мнения тех, кто не готов к отъезду, тех, кто вернулся разочарованным.
Давид был прав. Заговорить об отъезде значило обрушить на себя поток историй о том, как не умеют жить израильтяне, как трудно примениться к тамошним условиям, как невозможно найти себе там работу.
— Придумал, чем будешь там заниматься?
— Есть две-три мыслишки… Но сначала у нас ульпан[91]. Пока будем учить язык, сориентируюсь, изучу возможности.
Мне показалось, что он поступает безответственно, но я ничего не сказал.
— А квартира? Где будете жить?
— Сняли на несколько месяцев квартиру в Нетании, потом переедем в Ишув.
Многие из французских евреев приобрели себе квартиры в Нетании, маленьком городке на берегу моря вблизи от Тель-Авива, чтобы проводить там отпуск или готовиться совершить алию. Они восторженно расписывали этот городок, чудесный курорт со всеми удобствами и массой других всевозможных достоинств. В последний раз, когда мы проводили отпуск в Израиле, мы из любопытства навестили Нетанию. Каково же было наше удивление и разочарование! Городок выглядел неряшливо, жалко. На домах обваливается штукатурка, они все в трещинах, изуродованы доморощенными хозяйственными приспособлениями, беспорядочно торчащими кондиционерами, пучками электрических проводов, что тянутся с крыши на крышу. В гостинице такая же красота. Только пляж и порадовал, а в остальном Нетания была точь-в-точь городок в какой-нибудь из развивающихся стран. Нужно было быть сионистом с головы до пяток или просто слепцом, чтобы восхищаться его красотой.
Потом мы поняли главное достоинство Нетании. Иммигранты из Франции, переселяясь в этот городок, где уже обосновалось много французских евреев, избавлялись от двух существенных для переселенцев проблем. Во-первых, отступала необходимость адаптироваться к менталитету израильтян, не склонных одобрять «хорошие французские манеры», считая их поверхностными и фальшивыми. Во-вторых, решалась проблема с языком. Даже для того, чтобы делать покупки и общаться с соседями на иврите, требовались немалый срок и серьезные занятия. А здесь люди, сбившись в кучку, продолжали жить привычной жизнью, говорили по-французски, уверенные, что собственные квартиры сделали их израильтянами. Собственно, так поступали все эмигранты на свете. Люди состоятельные селились в Раанане, в Герцлия Питуах, в Кесарии. С доходами более скромными — в Ашдод и Нетании. У кого средств не было совсем, отправлялись в маленькие городки в глубине страны или на оккупированные территории. Верующие, обосновываясь на родине, принимали в расчет не только свой бюджет, но еще и талмудическую школу.
Давид выбрал Ишув, городок на оккупированной территории неподалеку от Рамалла. Выбор меня напугал.
— А ты понимаешь, что в таких поселках ничего нет? Будешь жить в фургоне среди камней на расстоянии выстрела от палестинцев. Твои дети будут подвижными мишенями!
— Да, именно так я хочу жить в Израиле. Я оставляю французский комфорт не для того, чтобы затаиться в большом городе. Я хочу почувствовать израильскую землю, узнать ее как пионер. Фургон — дело временное. Потом мы построим себе дом. А что касается безопасности — не беспокойся. Ее обеспечивает армия.
— Разумеется. Семья Фожель тоже чувствовала себя в безопасности. Однако террористы ночью уничтожили всю семью — отца, мать и детей, в том числе и грудного младенца.
Впрочем, говорить бесполезно. Воспеватели именно такой алии уже сделали свое дело. Лекции, ознакомительные путешествия, встречи с обитателями подобных поселков заставили задрожать струны сердца особо ревностых сионистов. Ревностных, а главное, бедных. Возмещающих нехватки идеалами. И вот они вообразили себя пионерами, героями строящейся страны. «Неужели они не понимают, — подумал я, — что настоящее пионеры живут уже не один десяток лет как граждане сильного государства, а они превращаются в пешки, которые двигает экспансионистская политика, без которой они благополучно до сих пор обходились».
— Если бы ты видел, как во время ознакомительного путешествия нас встречали ребята, которые там живут! Гостеприимно, сердечно, по-братски. Они там счастливы.
— Это называется принципом подстраховки.
— Объясни.
— Ты, к примеру, покупаешь машину не слишком престижной марки. Но ты ее расхваливаешь, убеждаешь всех в правильности своего выбора, уговариваешь покупать такую же. Тебе это нужно для спокойствия. Лучше обманываться группой, чем в одиночку. Выглядишь не таким дураком.
Я не раз замечал состояние восторженности на грани идиотизма у евреев, сделавших алию и убеждающих упрямцев последовать их примеру. Едва только приехав, они начинали рассылать призывы: «Присоединяйтесь к нам! Мы здесь отлично живем!» «Я наконец почувствовал себя евреем в полной мере, мне здесь свободно!» «Что вы делаете в этой антисемитской стране?» Рядом они помещали фотографии, которые должны были подтвердить их правоту: чудесный песчаный пляж; улыбающаяся семья в полном составе, отец семейства, вгрызающийся в питу с фалафелем; сын, молящийся на балконе.
Израильская пропаганда сыграла немалую роль в этих отъездах. СМИ молодого государства описывали ситуацию евреев во Франции в самом безнадежном тоне. Они неустанно вещали об антисемитской агрессии, неимоверно сгущая краски. Смысл вещаний был предельно ясен, они говорили приехавшим: «Как правильно вы поступили, приехав в Израиль. Вы избежали большой опасности. Конечно, положение у нас тут нелегкое. Но разве не лучше переносить временные трудности, чем постоянно жить среди ненависти антисемитов?»
Чемоданы семейства Дана стояли наготове. Семья находилась в счастливом возбуждении. Мы собрались у них, чтобы вместе провести последний вечер. Меню: пицца, суши, напитки. Обсуждали, как они там устроятся.
Я расставался с одним из ближайших друзей и знал, что увидимся мы не скоро. И еще я знал, что нам трудно будет общаться по телефону и через Фейсбук тоже. Восторженные отзывы Дана меня не порадуют.
Наши пути разошлись. А пройдет лет десять, и наши семьи станут совершенно чужими друг другу. Его внуки понятия не будут иметь, что такое Франция. Скорее всего, даже не будут говорить по-французски, не будут знать о моем существовании, о существовании моей жены. Совершенно иная реальность станет для них родной.
Они будут израильтянами. Мои будут французами.
Если я останусь.
Апрель 2009
Меня пригласили на серьезную телепередачу, попросили представить мой второй роман. Первый появился на свет очень скромно, но потом разошелся по сайтам и блогам, завоевав внимание широкой публики. Второй был триллером и затрагивал проблемы исламистов и роль СМИ. Первые отклики были далеко не восторженные. Читатели упрекали меня в том, что я сменил тему. Но разве я мог удовольствоваться удобством найденного рецепта и пользоваться им для привлечения публики?
После приглашения у нас в доме поднялась неимоверная суматоха. Дети прыгали от волнения, жена обзванивала родню, напоминая, когда начнется передача. Родители звонили через каждые пять минут с новым советом: «Не забывай улыбаться! В последний раз ты был слишком серьезным! Не говори слишком быстро! Сказал слово и вздохни! Надень свой синий костюм, где пиджак в талию. На канале „Плюс“ все всегда элегантные».
Сам я тоже здорово волновался. Я уже давал интервью по радио, участвовал в телерепортажах, но никогда не выступал в прямом эфире на ведущем канале и к тому же в то время, когда все у телевизоров. А что, если я запнусь? Начну заикаться? Наговорю глупостей?
Ко мне подошла женщина в наушниках и с микрофоном. Она показала мне, где я должен сесть.
— Вы будете говорить до новостей, после новостей продолжите. Учитывая тему вашего романа, вполне возможно, вам зададут вопросы о новостном сюжете.
Я кивнул, потом, встревожившись, спросил:
— О каком сюжете?
— Об израильско-палестинском конфликте.
Мунир
Я долго хранил надежду, что с течением времени расизм станет достоянием ничтожной горстки людей, останется этаким островком, деревенькой непроходимо тупых и упрямых галлов.
Неизлечимый оптимист, я принимал во внимание события, которые свидетельствовали о Франции, находящейся в становлении, позитивной, открытой, способной мыслить по-новому: на победе левых в 1981 году, на созданиии организации «SOS расизм», на появлении рэпа и культуры предместий, которую подхватила молодежь всех социальных слоев без различия цвета кожи, на победе нашей сборной, черно-белой команды, на чемпионате мира по футболу в 1998 году и последовавшей за этим эйфории… Это были знаки, что менталитет меняется, что люди стремятся к взаимопониманию, не обращая внимания на цвет кожи и вероисповедание.
Пусть идеальный мир не станет достоянием моего поколения, но следующее, безусловно, будет жить в более гармоничном мире. Нужно время, чтобы стерлись привычные клише, чтобы самоидентификация француза включила в себя новые пазлы. Настанет день, и не будет больше алжирцев, марокканцев, тунисцев, а будут одни французы.
Но пришли двухтысячные годы, и разразилась катастрофа. Алжирец, тунисец, марокканец сделались воплощением мифа об агрессивном завоевателе, который вскоре получил обобщенное имя — «араб». Родился фоторобот, вобравший в себя весь негатив. Расизм нашел новую возможность копить ненависть к непохожим. Нашелся новый источник страшилок — ислам. Но самое горькое, что пособниками расистов, обрывающих связи мусульман со всем остальным миром, стали сами мусульмане. Что используется любой повод, чтобы воспламенить Францию и все остальные страны. Что таким поводом стал израильско-палестинский конфликт.
30. Жертвы и палачи
Мунир
Октябрь 2000
Дети против солдат. Камни против автоматов. Началась вторая палестинская интифада[92], и на наших экранах замелькали страшные картинки. Ариэль Шарон спровоцировал палестинцев, явившись в сопровождении полицейских на Храмовую гору. Он действовал так нарочно, в пику Эхуду Бараку, чтобы окончательно свести на нет результаты саммита в Кэмп-Дэвиде. Военный предпочитает воевать. Мяснику, устроившему резню в Сабре и Шатиле, снова понадобилась кровь — кровь палестинцев, которые каждый день гибнут от пуль ЦАХАЛ. Так он проводит избирательную кампанию, желая взять власть в свои руки. Что же будет, если он придет к власти? На какие действия окажется способен этот человек, когда встанет во главе страны, вступившей на путь безумия?
Конфликт широко освещается прессой, и, как мне кажется, журналисты целиком и полностью на стороне палестинцев. Не замалчивается жестокость мер, примененных Израилем. Однако агрессорам на всех наплевать. «Самоуверенный народ, желающий властвовать», — сказал о них Де Голль. И вот каждый день израильтяне доказывают справедливость его мнения.
В лицее израильско-палестинский конфликт — постоянная тема разговоров. Подростки, девочки и мальчики, конечно же, на стороне тех, кто, швыряя камни, отстаивает свое право на жизнь.
Нет сомнений, что Арафат в той же мере ответственен за случившееся. Говорят, что он повел себя крайне упрямо и требовательно во время переговоров. Вполне возможно, он рассчитывает этой «войной камней» добиться большего веса на мировой арене, заявить о себе как о непререкаемом вожде палестинцев. На мой взгляд, он вполне способен на подобные манипуляции. Арабские лидеры охотно жертвовали своим народом ради полноты власти. Но сколько, спрашивается, мучеников должны заплатить жизнью за его победу? И какая, собственно, победа? Он хочет получить весь Израиль и ту часть, которая была отведена палестинцам в 1947 году ООН?
Не знаю, что и думать об интифаде. Уверен, нам сообщают только часть правды, уверен, что лидеры обоих лагерей рассматривают ситуацию совсем не так, как сообщают журналистам и собственному народу.
Я мучительно размышлял о происходящем, переходя от гнева к сомнениям, когда меня позвала Фадила. Я вышел из кабинета в столовую.
— Посмотри, какой творится ужас!
Она смотрела новости по «Франс 2». Сначала я не понял, что именно ее так взволновало. Показывали очередное столкновение — как во всех новостях уже несколько дней.
— Ребенок, — уточнила она, ткнув пальцем в экран.
Я увидел испуганного малыша, который спрятался за своего отца. Услышал свист пуль. Услышал слова, которым не мог поверить: ребенку не жить! И снова автоматная очередь. Жена вскочила, зажимая руками рот, чтобы не закричать. Малыш больше не двигался. Он был мертв. Израильские пули убили его. Фадила разрыдалась.
— Убийцы! Убийцы! — причитала жена.
По моим щекам тоже текли слезы. Они убили сына на глазах отца, который не мог его защитить. Малышу было примерно столько же, сколько Сурии. Я представил себя на месте отца и содрогнулся от ужаса.
Сентябрь 2001
«Быть арабом становится все труднее», — сказал Жамель Дебуз[93] на передаче у Тьерри Ардиссона[94].
Юмористы шутят, прикрываясь пофигизмом, а нам, глядя в будущее, совсем не до шуток. Труднее? Что же будет? Перед нами закроется еще больше дверей? Ими будут громче хлопать? Нас станут больнее оскорблять, придумают нам новые, более ядовитые клички? Начнут кричать громче? Вышибалы в кафе сразу будут разбивать нос или всаживать пулю? Полицейские проверки будут еще чаще и еще унизительнее? Каждый из нас будет считаться опасным террористом? Если честно, расистам придется проявить недюжинные творческие способности, чтобы придумать для нас еще что-то новенькое. Но я в них верю: чего-чего, а фантазий у них хватает.
Не знаю, кто такой этот Усама бен Ладен, и уж тем более не понимаю, какие цели он преследует. Но уверен: ему наплевать, усложнит он нам жизнь или нет. Он решает свои проблемы, а не наши. Но больше всего я его ненавижу за то, что наша зеленая молодежь восхищается его подвигами и ваяет из него героя. Мальчишки, потерявшие ориентацию, лишенные возможности добиваться собственной цели, живут по примитивной логике Буша: там белое, здесь черное. Для них все ясно. И не надо ждать от них чувства вины. Светит солнце, а они заперты в предместье. Все наслаждаются светом, а их загоняют в темноту, отвергая в качестве тех, кем они себя чувствуют. Гнетущую тишину неприязни они разрывают звоном стекол, колотя железными прутьями по автомобилям и витринам. Они хотят жить. Мир для них двумерен. Араб меняет траекторию самолетов и обрушивает башни, гибнут сотни людей, но зато весь Запад дрожит от страха, и они рады. Бородач объявил войну, он воюет за ислам, и зеленые юнцы на его стороне.
Бессмысленно говорить им, что они переступили грань и оказались в империи зла. Имамы-фундаменталисты, приехавшие из глубинок отсталых стран, ободряют их: «Вы жертвы в руках нечестивцев. Джихад начался. Аллах на вашей стороне. Аллах вас любит». Что ж, для слабых это немало. Большинство из этих пророков не говорит по-французски. Франция для них не существует. Восхищенные обожатели переводят их проповеди на французский, и у заблудившихся мальчиков возникает иллюзия, что религия — в ее сектантском виде — распахнет двери их гетто. Мальчики тянутся туда, где, как им кажется, их понимают, любят, где их ждет будущее, в котором они будут хозяевами своей судьбы.
А я? Что я могу сказать? Что должен делать? Состоятельна ли моя политическая позиция? Мне трудно это понять. Слишком быстро все изменилось. Я был уверен только в одном: у нас из-под ног уходила почва. Культурные центры теперь мало что значили. Мусульмане зачастую становились приверженцами радикального ислама, обретая новую гордость в противостоянии системе, которая их отвергала. И здесь таилась опасность.
Октябрь 2001
Алжирские фанаты меня разозлили. Они снова дали повод французам считать нас хамами и грубиянами, которые не уважают их страну и ее ценности.
Мы с женой смотрели матч вместе с Тариком и Лагдаром. Как только болельщики хлынули на поле, я возмутился.
— А мне кажется, все нормально, — возразила мне Фадила.
— Номально свистеть во время исполнения гимна? Нормально, что парни ничего не уважают?
— Гимн и флаг — символы националистической Франции, Франции ксенофобов. И ты хочешь, чтобы молодежь, которая каждый день сталкивается с проявлениями расизма, не выразила свой гнев?
— Так по-твоему, они проявили зрелую политическую позицию?
— По-моему, именно так. Хотя, возможно, и бессознательно.
— Да у этих парней ветер в голове гуляет. Какое там представление об обществе? Какие социальные ценности? Они освистали гимн и вывалились на площадку просто из хулиганства. Пожелали устроить бардак.
— Ты сейчас говоришь как расист, настроенный против алжирцев. А песню эту мы знаем наизусть: алжирцы — безголовые агрессивные драчуны.
— Я согласен с твоей женой, — подхватил Тарик. — Сейчас ты выступил как сторонник Национального фронта.
— Я выступил сейчас непредвзято. Мне не нравится то, что я вижу. А вижу я, что ничего не улучшилось, что враждебность между французами магрибского происхождения и всеми остальными только растет.
— Так ты хочешь сказать, что виной всему алжирцы? То есть утверждаешь, что есть плохие арабы и хорошие? Не спорю, их выступление не признак политической зрелости и не поможет улучшению отношений, но оно результат социального негативизма, с которым французское правительство относилось к арабам на протяжении десятков лет. Результат вопиющего отсутствия борьбы с расизмом, многих лет изоляции и унижений. Конечно, плохо, что все это выплеснулось во время матча, который назвали «примирительным», но и тут есть своя логика.
— «Примирительный матч», — насмешливо подхватила Фадила. — Они что, думали стереть весь негатив, поиграв в мячик?
— Надо же с чего-то начинать, — желая остудить ее пыл, сказал я.
— Алжирцы не желают, чтобы их считали идиотами. Нельзя стереть века колониализма футбольным матчем.
Правы они или не правы? С присущим мне идеализмом я был склонен видеть в примирительном матче шаг к лучшему. Но сколько уже раз у меня вспыхивали надежды, а потом все шло только хуже? С какой стати «дружеская встреча» на «Стад де Франс» могла принести больше, чем перемена правящей партии, марш, создание организации, борющейся против расизма?
А с другой стороны: разве не болела вся Франция в 1998 году на чемпионате мира за нашу черно-белую команду? Разве не все вместе мы праздновали победу, став единой страной, чувствуя свое братство, мечтая о единой, но разноликой Франции, где память об общем порыве смягчит рознь?
От этой мечты ничего не осталось. Впрочем, как и от многих других.
На следующий день меня затошнило от репортажей журналистов. Они свели на нет все, что произошло на матче, закрыли глаза на оскорбление, нанесенное главным символам государства, и лишь осторожно посетовали на отсутствие воспитания у молодежи предместий. Однако не стали анализировать причин. Если сами французы не защищают свой гимн, свое знамя, свои ценности, то как потребуешь от других, чтобы они их уважали?
У меня возникло ощущение, что проблема современной Франции в том, что она не знает, какова она сейчас и чего хочет в будущем. Не может предложить своим гражданам мечты, достойного представления о самих себе, модели будущего. Как стать французом, если сами французы не могут понять, кто они такие? Папа был прав, ничего не скажешь.
Февраль 2002
Мусульманский мир закипел. Наш квартал менялся на глазах. Кое-кто из моих учеников встал на опасный путь. Укреплялась религиозность, крепли связи. Но не добрые.
Теракты 11 сентября, теракты ВИГа в Алжире и во Франции, распространение общин, живущих по правилам шариата, поставили мусульман всего мира перед необходимостью выбора. Бьющееся в истерике общественное мнение Запада также требовало от них выбора, и немедленного. Результат? Нас со всех сторон вынуждали подтверждать свою невиновность, несогласие с фундаменталистами, готовность принять западный образ жизни. Как будто мы уже не жили на западный лад многие годы.
Выходило, что я так и не стал французом, что остаюсь человеком без родины, которому постоянно напоминают о его корнях, вынуждают сводить счеты, сообщать, что связывает меня с другими мусульманами или, наоборот, от них отличает. И все потому, что все до единого мусульмане по-прежнему остаются под подозрением как возможные враги и заговорщики. А между тем мусульмане — разные, они по-разному читают и понимают Коран.
Наши обличители ухватились за высказывания некоторых оголтелых фундаменталистов, цитируют их призывы бороться против евреев и неверующих и хотят заставить всех поверить, что мы все живем, зажав в зубах нож.
Но в мусульманском мире только фундаменталисты, объявив себя приверженцами исконного ислама и носителями истины, во всеоружии вновь обретенной гордости яростно нападают на все подряд современные общества, которые отвели мусульманам жалкий статус полулюдей. Поэтому к ним охотно прислушивается молодежь, чья самоидентификация вызывает отторжение. Но Запад именно оголтелых превратил в точку отсчета и требует от нас всех, от каждого «араба», чтобы мы самоопределились по отношению к ней. Он не желает знать, насколько мы разные, какое у нас богатство культур, вкусов, верований. И я вижу, что люди, поскольку их всех видят на одно лицо, до сих пор вполне равнодушные к религии, начинают ревностно исполнять обряды, делая своей визитной карточкой ислам, превращая его в свое знамя. Все больше женщин в платках и мужчин с бородами. Способ приветствовать друг друга становится опознавательным знаком.
И что из этого следует? У французов растет страх. Порочный круг взаимного непонимания увеличивает страх у одних и желание вылечить попранную гордость у других. В конце концов, оба противостоящих лагеря становятся жертвами манипуляций. Ультраправые манипулируют одержимыми страхом, имамы-фундаменталисты, ловцы заплутавшихся душ, обиженными. Если говорить честно, я уверен, что и те, и другие варятся исключительно в собственном соку. Они борются, не встречаясь друг с другом, закрывшись каждый в своей капсуле, следуя каждый своей логике. И защищая свои позиции все более радикальными речами.
Между этими двумя полюсами колеблется толпа, которая наблюдает, задает вопросы, пытается что-то понять. Она машет кулаками после драки (в каком-нибудь предместье, я имею в виду), требует диалога — поздновато! — с молодыми, чтобы «выслушать их и понять», но не знает к ним подхода.
Один ученик на прошлой неделе рассказал мне об организованном мэрией собрании с молодежью.
— Я пошел туда, потому что думал, они расскажут о строительстве стадиона с футбольным полем и баскетбольной площадкой. Мы уже сто лет как ждем. А там какая-то придурочная из ассоциации заявляет: «Мы здесь, чтобы выслушать вас и понять». Минут десять лила воду, говорила, что нужно узнать друг друга получше, тогда, мол, можно будет строить совместные планы. Потом — бац! — и дает нам слово. «Я попрошу каждого из вас рассказать о своей самоидентификации». Тут мне поплохело. Чего это я буду о себе распинаться? С ума, что ли, спятил? Ребята кругом тоже сидят, не шелохнутся. Тогда она вообще убойное предложение делает: «Расскажите нам о своих обычаях, праздниках, кухне. Обо всем, что вам дорого». Ну, вообще! Мы все свинтили!
Я вижу, между двумя крайностями существует еще добрая воля. Но и глупости немало.
Апрель 2002
Израильская армия вновь атакует палестинцев. Операция называется «Защитная стена». Их «оборонительная» армия становится все более наступательной. Похоже, она действует под лозунгом: «Лучшая защита — это нападение».
— До чего дойдут эти ублюдки? — кипятился Тарик.
— В Дженине уже сотни убитых, — со слезами на глазах говорит Фадила. — Город разрушен. Бронированная техника и бомбардировщики действуют против мирного населения. Преднамеренное убийство.
Сведения о лагерях беженцев удручающие. Местное отделение Красного Креста посылает обращения к европейским странам и учреждениям, а также в ООН. Но Шарона ничем не остановить.
— ООН и общественное мнение Запада против израильтян, — повторяет Тарик. — Но они продолжают резню. Их поддерживают американцы.
— А евреи во Франции аплодируют Шарону.
— Уверен, что не все евреи.
— Основные представительные организации выступают на стороне сионистского правительства.
— Но интеллектуалы и видные деятели с трибун и в газетах заявляют о своем несогласии. В самом Израиле движение «Мир немедленно» требует, чтобы военные действия прекратились.
Как только началась Вторая интифада, за израильско-палестинским конфликтом стали следить все мусульмане Франции. Обсуждали, говорили, спорили. Поначалу меня это удивляло. Мне не просто далось самоопределение в юности, и я не понимал, как можно с такой страстью защищать интересы неведомых тебе людей, только потому, что у вас общая религия. Я находил естественной такую позицию у активных борцов, таких, как моя Фадила, выступающих за мир и гуманизм, но чтобы простые жители квартала с такой горячностью поддерживали палестинцев…
В лицее у моих учеников тоже кипели страсти вокруг конфликта. Их раж можно было потрогать. И уж тем более услышать. Брань так и сыпалась со всех сторон, не всегда по делу и часто мимо цели. Ребята вовсю и без разбора честили евреев. Все до единого виноваты! Не было человека, который помог бы им сдержать свои эмоции, подумать, разобраться с ненавистью. И я, я тоже ничего не мог поделать. Не в моей компетенции было открывать дискуссии по таким вопросам. У меня не было ни права, ни возможностей. Что я мог сказать? Что не стоит разжигать такой же конфликт во Франции? Что израильтяне и французские евреи не одно и то же? Что сионистское правительство и народ — это разные вещи? Они не стали бы меня слушать, потому что сами евреи громко ратовали за Шарона.
Я понимал и другое: мусульмане Франции поддерживают палестинцев и объединяются на почве антисионистской идеологии, потому что эта идеология заменяет им революционные идеалы. Их возмущение сионистами и американцами помогает их самоопределению, они чувствуют себя частью более обширного сообщества, объединяются со всеми мусульманами мира. Они становятся левыми. Защищают более слабых, чем они. Они живут.
7 апреля 2002
Благодаря какому помрачению ума и затмению рассудка можно одновременно протестовать против антисемитизма и выступать в поддержку Ариэля Шарона? Однако под такими лозунгами на улицу вышли десятки тысяч евреев в главных городах Франции. Как можно жаловаться, что ты жертва агрессии, и ратовать за агрессию? Как можно аплодировать ужасам, которые творит ЦАХАЛ на оккупированных территориях? Попробуй потом объясни пареньку из предместья, что французские евреи вовсе не израильтяне, которые поддерживают своего премьер-министра?
У наших евреев все заметнее развивается что-то вроде шизофрении, и это внушает беспокойство. У них двойное самоопределение, и два этих самоощущения независимы друг от друга. Больше всего эта двойственность присуща магрибским евреям. Считайте нас французами и не смейте допускать антисемитских выступлений, но при этом не мешайте нам свободно выражать поддержку Шарону. И от СМИ, и от лидеров общественного мнения они требуют, чтобы эта их позиция была узаконена.
Во время манифестации над демонстрантами колыхались израильские знамена. А как евреи обличали французских мусульман, когда они во время международных футбольных матчей махали алжирскими флагами, поддерживая страну, где родились! Зато они считают себя вправе идти под флагом с пятнами крови мирных палестинских жителей и при этом говорить, что они французы. А если вдруг вы посмеете намекнуть на несовместимость двух этих позиций, то прослывете антисемитом. Честное слово, Кафка, да и только!
Но двойные стандарты на этом не кончаются. Еврейская молодежь из Лиги защиты евреев и Бетара устроила драку во время демонстрации, ополчившись на тех, что несли плакаты за мир, и на журналистов. Что бы мы услышали, если бы такое устроили мусульмане из предместья! Их бы немедленно назвали дикарями и хулиганским отребьем.
А со мной что? Я тоже становлюсь радикалом и антисемитом? Нет, я пытаюсь сохранить трезвый ум и критический взгляд, которым смотрю и на своих, и на чужих. Так. А сказать «на своих и на чужих» не означает, что я уже выбрал лагерь и что я в нем окопался? Не означает, что я уже в шорах и потерял возможность объективно смотреть на вещи?
Мне бы очень хотелось обсудить все это с Рафаэлем. Он-то как? Участвовал в демонстрации? Что думает о безумии, которое нас охватило?
Именно сейчас мне так не хватает друга.
31. Борьба мнений
Мунир
— Мне хотелось бы переехать.
Фадила опустила книгу на постель и взглянула на меня удивленно.
— Переехать? И… куда?
— Не знаю… Куда-нибудь.
— Ты имеешь в виду… В другой город?
— Нет. Поближе к Лиону.
— Из-за лицея? Но мы живем не так уж далеко. Пятнадцать минут на метро.
Я мог бы сказать, что метро для меня утомительно, что хотел бы ходить на работу пешком, но зачем мне врать своей жене? Я всегда говорю с ней откровенно.
— Знаешь, мне надоело жить в Во. Мне кажется, я прожил тут всю свою жизнь, и перспектива ее тут закончить меня почему-то не радует.
— Но мы же не в Грапиньер, дорогой, и не в Ма-дю-Торо! Тут у нас очень мило.
— Мило? Если кроме Грап или Ма для тебя больше ничего не существует, то я очень рад. Но дело не в этом. Понимаешь, мне хочется… Чего-то совсем другого!
— Совсем? — смеясь, переспросила Фадила.
— Да. Мне надоело видеть вокруг себя одних иммигрантов, социально ущемленных, безработных, мятежников, смиренников. И всюду одно и то же: здесь, в лицее, те же проблемы, та же безнадега. Мне бы хотелось жить среди… обычных людей, которые думают, как провести свободное время, какой посмотреть фильм, куда поехать в отпуск. Выйти из дома и пойти посидеть на террасе кафе, почитать газету, потолковать с незнакомым соседом.
Фадила смотрела на меня и удивлялась все больше.
— Ты меня пугаешь. Мне кажется, что это ты мой незнакомый сосед, — пошутила она.
— Потому что мне захотелось нормальной жизни?
— Но у нас совершенно нормальная жизнь! А от твоего идеала веет тощищей и банальностью.
— У нас нет никакого общения. У тебя несколько подруг из ассоциации, у меня два-три друга и родня. Мы с тобой никуда не ходим. В свободное время ты ходишь на всякие акции, распространяешь листовки, сочиняешь лозунги, я проверяю тетради, читаю и навещаю маму.
— Ты думаешь, если мы переедем, жизнь изменится?
Внешнее влияет на внутреннее? Не могу ответить, потому что всю жизнь прожил в предместье. Думаю, что да, потому что вокруг будут совсем другие люди. Но возможно, и нет, если считать, что наш образ жизни — это наш выбор. Фадила выбрала жизнь общественного активиста, я — домоседа. Но это был свободный выбор или вынужденный? Мне не хотелось начинать этот разговор. Жена меня не поймет. Она уверена, что организовала свою жизнь так, как хочет, что живет своими ценностями по своей логике. А я? Я само сомнение, постоянное, неизбывное.
— Не могу сказать. Зато знаю, что не могу больше терпеть нашего предместья. Задыхаюсь.
— Вырываешься из гетто? — насмешливо спросила жена.
— В каком-то смысле. Хочу, чтобы Сурия жила по-другому, не так, как мы с тобой в детстве. Чтобы росла среди успешной молодежи, думала о достижениях, а не о проблемах, которые не решаются, а только растут.
— Какие тебе нужны достижения? Финансовые? Хочешь, чтобы она дружила с сынками богатеньких? Познакомилась с лионской буржуазией?
— Не издевайся, пожалуйста. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Здесь большая часть молодежи надеется в один прекрасный день найти работу. И это самые амбициозные. Мне хотелось бы, чтобы у нее были другие горизонты, чтобы она видела перед собой реальные возможности. Пусть занимается, чем захочет, но пусть у нее будет выбор.
Я не забыл слова Рафаэля, однажды он сказал мне: важно понять систему, войти в нее и использовать.
— Ты говоришь хоть и трогательно, но смешно.
— Но ты же меня знаешь: я и смешной, и трогательный.
Жена на секунду напряглась, потом ласково улыбнулась.
Всю следующую неделю я сидел в Интернете, а потом читал объявления в газетах. Фадила дала согласие на переезд при условии, что я сам буду им заниматься, а она только смотреть вместе со мной квартиры.
После первых же звонков я понял, что дело это совсем не простое. Стоило мне назвать свое имя, как голоса менялись и двери захлопывались. «Очень жаль, но у меня уже есть два возможных клиента». «Наш жилец пожелал остаться», «Мы уже, к сожалению, сдали». Каждый отказ — плевок в душу. Но я не хотел укреплять их предрассудки, поэтому не орал от возмущения. В Интернете я заполнял анкеты, писал, что я преподаватель, что жена служащая, надеясь, что стабильность нашего финансового положения устроит кого-нибудь из владельцев. Ни разу не получил ответа. Похоже, намеченные мной кварталы были для нас закрыты.
— Нашел что-нибудь? — спросила меня Фадила.
— Пока нет. По нашей цене нет ничего интересного.
— Может, успокоишься?
— Нет. Но зацикливаться тоже не хочу. Буду искать себе потихонечку. Торопиться-то некуда.
Фадила, понятное дело, не поверила ни одному моему слову.
Декабрь 2003
Евреи кричат, что спектакль — это скандал, они возмущены, оскорблены… Евреи склонны к преувеличениям, да еще каким! К присущей всем средиземноморцам театральности с воплями и жестами они прибавляют еще владение словом и любовь к превосходным степеням, свойственные ашкеназам. Результат? Их яростный орлиный клекот выглядит смешным и неуместным. Речь идет всего лишь о спектакле, ни о чем больше. О нескольких более или менее забавных сценках. Но они повсюду трубят о могучем антисемитском наезде. Лично у меня Дьедонне, загримированный под правоверного еврея, вызывает смех. И мне кажется, так же бездумно смеялись Жамель, Фожьель, Ариан Массне, Ширли и Дино, когда их пригласили выступить в телепередаче. Но евреи возбудились. Приложив одну руку к сердцу, другую ко лбу, они требуют головы юмориста. Это они-то, любители едкого, разъедающего юмора, не могут потерпеть, когда смеются над их чудачествами.
— Зачем они это устроили? — рассердилась Фадила, проглядев заголовки газет, собрав информацию в Интернете. — Чтобы показать, что понятия не имеют о толерантности?
— Совершенно с тобой согласен. Я их тоже не понимаю.
— Смейся над кем хочешь — над любой национальностью, любой религией, над богатыми и над бедными, но только не над евреями! Это что такое? Гордыня?
— Да и в сценке нет ничего обидного. Ну, посмеялся немного Дьедонне, и что? Любой юмор строится на выпячивании каких-то сторон.
— Когда Эли Семун[95] и Дьедонне работали вместе и шутили по очереди — один над черными, другой над евреями, никто не обижался, правда?
Дьедонне и Эли Семун… Я всегда надрывал живот на их выступлениях. Они юморят по-нашему, как мы у себя в предместьях. Мы с приятелями точно так же грубим, преувеличиваем, рисуем карикатуры. Снимаем драматизм ситуации. А еще мне нравилось, что они так дружат. Я сразу вспоминал себя и Рафаэля. Мы тоже постоянно подкалывали друг друга, вышучивали привычки, обычаи, выставляли друг друга на смех, но становились только ближе.
Дьедонне и Семун расстались, мы с Рафаэлем тоже больше не видимся. Юмор больше не помогает людям, он их не сближает.
Нескончаемые жалобы и обвинения евреев раздражают, донимают, утомляют и в конечном счете вызывают к ним антипатию. Кампания против Дьедонне — я это очень хорошо почувствовал — только подлила масла в огонь: те, кто уже относился к ним неприязненно, вполне возможно, несправедливо, — стали относиться хуже, а те, кто молчал, стали высказываться.
— Честное слово, они уже всех достали, — возмущался мой коллега по лицею, когда мы сидели с ним в учительской. — Их, по-моему, пока никто не назначал стражами порядка и морали. Уточним: иудео-христианской морали. Но они забыли, что мы живем в светской стране.
— Меня огорчает ожесточение СМИ против Дьедонне, которое за всем этим последовало, — отозвался я.
— Да говорят, они купили большую часть СМИ, — сообщил коллега, маскируя улыбочкой суть своего замечания.
Я почувствовал: он ждет моей реакции, прощупывает почву, желая знать, дам ли я ему возможность и дальше двигаться по этому пути. Я часто замечал, что в разговорах со мной люди бросают камешки в огород евреев. Собеседники, наверное, считали, что доставляют мне этим удовольствие. Я не сомневаюсь, что другие — или те же самые — ругали арабов в разговорах с евреями. Есть во Франции народ, который хочет, чтобы мы между собой ссорились. Но я никогда не ловлюсь на подобные крючки. Сделав вид, что я ничего не слышал, встал и подошел к кофеварке.
Я допивал свой кофе, стоя в столовой перед телевизором, уже в плаще. Наверняка сегодня опоздаю в лицей, но не задержаться не мог: обещанные новости меня заинтересовали.
— Ты еще не ушел? — удивилась Фадила, увидев меня в столовой.
— Они взорвали самодельную бомбу во время спектакля Дьедонне в здании биржи труда вчера вечером.
— Сионисты?
— А кто же еще?
— Есть пострадавшие?
— Маленькая девочка. Но еще неизвестно, насколько серьезно.
Наконец обещанный репортаж. Сначала короткое вступление с сообщением, что снаряд был не боевой, а только с раздражающим газом. Затем задержание подозреваемого. На первом плане стычка, мужчина с поясом сопротивляется. Увидев его, я чуть не подскочил.
— Надо же! Это Мишель!
— Кто?
— Парень, которого арестовали.
— Ты его знаешь?
Показали мужчину очень коротко, но я был уверен, что узнал его.
— Мишель Бенсуссан. Приятель Рафаэля.
— Рафаэля? Твоего друга детства?
Я кивнул. Если честно, то я был в шоке.
— Он сионист?
— Рафаэль?
— Нет, этот Мишель.
— Понятия не имею. Я и видел-то его раз или два. Он приходил с Рафаэлем к нам на праздник, когда я работал в культурном центре. Это было… Очень давно.
— Так. Значит, лучший друг твоего бывшего лучшего друга сионист, подложил бомбу в зрительный зал и ранил маленькую девочку, — подвела итог Фадила. — Супер.
Так оно и есть, друг моего заединщика, почти брата, похоже, стал активистом. Я поставил чашку на стол и поспешил из дома с настроением хуже некуда. Мне бы надо было бежать со всех ног, а я еле плелся. Вспоминал, как мы дружили, нашу борьбу, споры, надежды. Мы верили, что будем дружить всю жизнь. И это было… Вчера. Во всяком случае, не так уж давно. Кто из нас первый забыл общие идеалы? Неужели Рафаэль в самом деле стал сионистом? Неужели поддерживает правительство Израиля? Вообще-то все евреи сионисты, для них это нормально. А почему это так важно для меня? Потому что наглядно доказывает, как разрушительно действует время на юношеские идеалы? Потому что уклонение, отказ от них говорит, что и я тоже сдался? Как бы мне хотелось, чтобы мы остались прежними и по-прежнему верили в нашу дружбу! Я старался отогнать от себя черные мысли. Если Мишель стал яростным активистом, то это совсем не значит, что активистом стал Рафаэль.
Наконец лицей. Я взбежал по лестнице через три ступеньки, влетел в класс, где шумели и прыгали мои ученики. Посмотрел на них и улыбнулся.
Я был на своем месте.
Апрель 2004
Насилие, пытки, убийства, унижения. Американская армия показала свою темную сторону. «Амнести интернэшнл»[96] предъявила американцам первые обвинения. Американские СМИ подтвердили: тюрьма Абу Гираб в Багдаде, служившая пыточным центром полиции Саддама Хусейна, стала таким же центром для американской армии. Военные первой мировой державы, взявшие на себя задачу освободить Ирак от диктатуры, избавить народ от насилия, установить в стране демократию, оказались такими же свирепыми дикарями, как сбиры поверженного тирана.
Кадры на экране один отвратительней другого: девка с наглой ухмылкой фотографируется с пленниками, которых держит на поводке. Или с другим, которого заставили мастурбировать. Изуродованные тела с гордостью выставлены напоказ.
Свидетели в ужасе от варварства и бесчеловечности.
— Все маски долой, перед нами истинное лицо тех, кто притворялся носителем справедливости! — говорит мне Фадила.
— Да все на свете знали, ради чего они туда ринулись, но делали вид, что верят красивым словам, — подхватывает Тарик.
— Зато теперь мы видим своими глазами, что они такие же уроды, как и те, кого называли уродами.
— Постойте! Речь сейчас только об одном подразделении, а не обо всей американской армии! — вступился я.
Я был возмущен не меньше, но как всегда не хотел бездумных обобщений. Объективность, трезвый анализ фактов — по крайней мере, тех, которыми мы располагаем, — а потом уже выводы. Иначе мы переполняемся эмоциями, нами можно манипулировать, разжигать в нас ненависть.
— Ты прав, конечно, — признал младший брат. — Но я готов держать пари, что эти не исключение. Напротив, я сказал бы, что они симптом и воплощение методики американцев. Высокоморальными речами народ настраивают, внешней опасностью мобилизуют. Обличая зло, натравливают на врага. Таков механизм, работающий на поверхности. А чуть поглубже лежат проклятые экономические и политические интересы: нефтяные лоббисты, стремление к мировой гегемонии, уверенность, что они высшая раса, а все остальные недочеловеки.
— Согласен, — ответил я. — Но как раз того, что поглубже, никто не хочет видеть.
— Не уверен. Думаю, американский миф со дня на день лопнет.
— Ошибаешься, — вмешалась Фадила. — Мы давным-давно знаем о лживости американской системы, о ее несправедливости, но все остается по местам. А почему? Потому что западный мир нуждается в лидере, он не готов отказаться от модели, в которой он живет.
— Больше всего меня возмущает деление на хорошеˆй и плохишей. С одной стороны молодцы: это западные страны, выстроившиеся позади Соединенных Штатов, они гуманные, они преданы идеалам свободы и справедливости. С другой — арабский мир, дикий, невежественный, жестокий, деспотичный.
— Беда в том, что большая часть мусульманской молодежи во Франции, да и не только во Франции, я думаю, предпочитает лагерь, сориентированный на общую для них для всех религию. А это, согласимся, не лучший выбор.
Ноябрь 2004
Скончался Ясир Арафат. Обличения, похвалы, искренние, неискренние — все было как при его жизни, а в жизни он шизофренически метался из крайности в крайность.
Но цели, которой посвятил жизнь, так и не достиг.
Что будет с палестинцам без их лидера? Кто сможет их возглавить и повести к миру?
— Израиль отказывается похоронить его в Иерусалиме, — негодовала Фадила. — Даже после смерти Арафат внушает им страх. Они не хотят, чтобы тысячи палестинцев стеклись на похороны!
— Еще больше их пугает символическое значение этих похорон. Согласиться на погребение в Священном городе — значит признать связь палестинцев с этой землей.
— Но это их земля!
Из осторожности я отмалчиваюсь. Наши дискуссии на этой почве все чаще напоминают ссоры.
Иногда мне бы хотелось обладать уверенностью Фадилы, смотреть на происходящее с ее четкостью и определенностью. Принять ее манихейский взгляд на мир, разделить всех на злых и добрых и, следуя логике, занять свое естественное место в хорошем лагере, проведя демаркационную линию.
Но я… Разумеется, я был на стороне палестинского народа, а вот что касается его лидеров… Я постоянно спрашивал себя, чего на самом деле хочет Арафат? И очень сомневался, что он хочет справедливого мира, что согласен на существование еврейского государства рядом со своим собственным. И не меньше сомневался в лидерах Израиля.
Говорят, что народ имеет то правительство, которое заслуживает. Неужели можно судить о народе по его лидерам? Мне кажется, народ всегда жертва своих лидеров, которые ведут свою игру, не сообщая ему правил. Фадила считает мою точку зрения наивной. Я не спорю, но ничего не могу с собой поделать: я так вижу. И не хочу отказываться от тех ценностей, к которым безнадежно прикипел.
Встать, как все вокруг, на радикальные позиции и все время всех обличать мне не по душе. Несмотря ни на что, вопреки сгущающимся тучам, перемене политического климата, я остаюсь пацифистом и даже, как ни странно, оптимистом. Нелегкая позиция, если учесть, в какой среде я живу и что с нами происходит.
Не будь Фадила всем известна своей активной деятельностью, я бы вмиг прослыл среди наших друзей-мусульман подозрительным человеком. Моя жена-воительница служит мне защитой. Причем такой надежной, что мой пацифизм снисходительно именуется «романтизмом, присущим интеллектуалам» или моей «марокканской наивностью».
Потому что здесь, во Франции, позиции с каждым днем становятся все радикальнее. Евреи и мусульмане расходятся все дальше, они не ищут больше встреч, не вспоминают о своих когда-то общих ценностях. И даже если остаются еще островки, где они сталкиваются, то они именно сталкиваются, спорят, бросают вызов друг другу. Их взаимная агрессия опасна, потому что гнев им навязан, ненависть внедрена, она идет не изнутри, она пришла снаружи. Она зажигает сердца, но мы скоро окажемся в положении пожарных, которые борются с огнем с краю, а главный полыхает далеко, и до него не достать.
Январь 2006
Возмущение всего арабского мира.
Арабский мир. Это словосочетание очень долго раздражало меня своей бессмыслицей. Что общего между мусульманами Саудовской Аравии, Мавритании, Турции, Ирака, Ирана, Алжира, Нигера, Пакистана. Египта или Судана?
Уммат, сообщество верующих, всегда казался мне недостижимым идеалом, слишком ясно я представлял себе политические и культурные расхождения мусульман, их совершенно различный образ жизни, разное понимание ислама.
Парадокс состоит в том, что, вполне возможно, Запад преуспел там, где потерпел поражение Лоуренс Аравийский, с чем не справились многочисленные религиозные идеологи. Он объединил этот мир, но очень своеобразно. Он посягнул на святыню арабского мира, на то малое — я бы сказал, главное, — что его объединяет. Запад посягнул на Пророка, сумел вызвать гнев, и для арабских народов этот гнев стал общим.
Вот что пришло мне в голову, когда я размышлял о том, что происходит в странах ислама.
Демонстрации, нападения на посольства, смертельные угрозы, обещания отомстить, кровавые расправы. Начиная с октября, после появления в датской ежедневной газете «Яаланд-Постен» карикатур на Мухаммеда, мусульмане всего мира объединились и яростно выражают свой гнев.
Когда разразился скандал, я был на стороне тех, кто ратовал за свободу самовыражения. Не мог понять, почему мои единоверцы хотят заставить западный мир жить по правилам ислама. Считал, что запрет на изображение пророка существует только для верующих мусульман. Предполагал, хоть и не сочувствовал, что мусульмане могут возмутиться, если кто-то из своих нарушит этот запрет. Однако требование, чтобы все страны и народы его соблюдали, казалось мне нелепым. Больше того, мне казалось, что, высказывая подобное требование, мы превращаем ислам в нечто дремучее и ретроградное, на чем и настаивала пресса, когда в Иране вернули шариат. Мне не нравилось, что возникла возможность противопоставлять свободные, проникнутые гуманизмом цивилизации обветшалому с варварскими нравами исламскому миру.
Но когда я увидел карикатуры, то изменил свое мнение. Дело было не в графическом или живописном воплощении Пророка, а в стремлении оскорбить и унизить ислам, сведя его гуманистическую сущность к свирепому варварству.
Для чего нужно было выбрать Пророка, чтобы осмеять тех, кто по недомыслию или из жажды власти превращает нашу религию в военную доктрину? Почему вообще нужно было затрагивать религию, касаться веры, то есть самого интимного для человека, и тем самым унижать всех подряд верующих под предлогом высмеивания фундаменталистов?
Неужели эти люди не понимают, как болезненно ощущают мусульмане презрительное пренебрежение христианского мира? Мира, который обрушился на них сначала крестовыми походами, потом империалистическими завоеваниями, а теперь смотрит свысока, гордясь пресловутыми демократическими ценностями? Неужели высокомерные ревнители этих ценностей, считающие, что существует только одна истина и те, кто ее не разделяет, — отсталые недоумки, не догадываются, что творят? Что их ценности становятся нежеланными и ненавистными? Что в эпоху Интернета любой презрительный выпад чреват гневным ответом. Неужели они не понимают, что стремление господствовать мгновенно рождает сопротивление?
Особенно если в праве на господство так легко усомниться. Западный мир не живет по законам братства и равенства, он чужд солидарности, лишен основ равноправного общества. Мусульманам достаточно заглянуть в новости, чтобы понять, какая в Штатах царит коррупция, несправедливость, ущемление прав, узнать о тюрьме Гуантанамо и приготовить свой ответ. Ответ тем, кто не имеет права поучать.
Можно прислушиваться к поучениям людей безупречных, чьи действия всегда базировались на твердых принципах, а принципы были всегда созидательными. Но на что имеют право люди, совершившие в прошлом немало преступлений и доказывающие в настоящем, что никаких уроков из истории они не извлекли?
Имамы-фундаменталисты напали на золотое дно, трубя о пороках демократических стран. Свобода, равенство и братство? А бомжи, которые мрут на улицах, и никому нет до них дела? А политики, которые расхищают общественные деньги? А богатые, которые богатеют? А финасовая система, работающая на жуликов в белых вортничках и производителей оружия, которое стало главным товаром и продается без стыда и без совести?
Я тоже все это знаю, все это вижу. И знаю, до чего не по нраву многим чувствовать себя унижаемыми отбросами в коррумпированном, зияющем своими недостатками, обществе. Кое-кто из недовольных отступил назад, отодвинулся в глубь веков, задумав вернуться к своим истокам. Гордостью этих людей, их последним прибежищем стал ислам. Так смирятся ли они с тем, что это прогнившее общество глумится над их святыней? Для них свобода самовыражения не означает возможности оскорблять Пророка, унижать его, издеваться.
На этот раз я был согласен с Фадилой: они зашли слишком далеко.
— Кто учит добру, не делая добра, похож на слепца с фонарем в руках, — сказала мне жена, как будто прочитав мои мысли.
— Это кто сказал?
— Это арабская пословица.
А другая наша пословица говорит: если двое спорят о религии, то один из них сумасшедший.
Так кто же стал сумасшедшим?
Я сидел перед телевизором, и вдруг на экране появился Рафаэль. Я узнал его сразу, несмотря на то что он располнел, волосы у него поредели, а лицо постарело.
— Фадила!
Она прибежала встревоженная.
— Посмотри! Это Рафаэль.
Она села рядом со мной.
— Надо же! Выступает по телевизору.
— А с чем? Чем он занимается?
— Он написал роман. Теперь представляет второй. А я даже не знал, что он стал писателем.
Мы замолчали и стали слушать, что он отвечает. И внезапно я почувствовал гордость. Да, я был горд, что вижу Рафаэля по телевизору, что он стал писателем.
— Он немного зажимается, нет? — заметила жена.
— Волнуется, наверное. Но справляется неплохо.
Интервью закончилось, Рафаэль остался на площадке.
— Ты обрадовался, когда его увидел? — спросила Фадила, взяв меня за руку.
— Конечно. Я рад, что у него все так хорошо сложилось. У него всегда были амбиции, и он добился успеха.
— У тебя тоже они были. И ты тоже добился успеха.
— Я преподаю.
— И что? Тебе удалось стать уважаемым преподавателем. Тебе повезло в семейной жизни. У тебя талантливая любимая дочь. И жена… Тоже замечательная!
Я рассмеялся и обнял Фадилу.
Начался новый сюжет, речь пошла об Израиле и Палестине, и мы снова стали внимательно слушать. Обсуждался вопрос о возможности мирного договора. Я следил за реакцией Рафаэля. Он был поглощен рассуждениями специалиста.
Ведущий обратился к нему:
— А вы, месье Леви? Вы считаете возможным подписание враждующими сторонами мирного договора?
Я заметил замешательство Рафаэля. Он не был готов к такого рода вопросам.
— Боюсь, буду менее оптимистичен, чем вы, — сказал он, обращаясь к специалисту по геостратегии. — Для того чтобы настал мир, нужно, чтобы его хотели. Я хочу этого мира, безусловно. Но до тех пор, пока палестинцы со школы будут внушать ненависть к евреям, пока Хезболла[97] и Хамас будут стремиться уничтожить Государство Израиль, надежды на мир останутся иллюзорными.
— Мирный договор всегда подписывают враги, которые собирались уничтожить друг друга, — возразил специалист, задетый тем, что ему возражает какой-то неизвестный.
— Да, но его подписывают, когда обе стороны хотят мира или устали от войны.
— По-вашему, сейчас воюющие стороны не готовы к миру? — спросил ведущий.
— Я бы поставил вопрос по-другому, — отозвался Рафаэль. — Я спрошу вас: что было бы, откажись палестинцы от агрессии? И отвечу: Израилю ничего бы не оставалось, как жить в мире. Но что произойдет, если израильтяне положат оружие сегодня? Палестинцы их уничтожат.
Специалист принялся оспаривать слишком упрощенный взгляд Рафаэля, а у меня испортилось настроение.
— Твой друг откровенный сионист.
— Но в его словах есть доля правды, Фадила.
— Извини! Значит, главные варвары палестинцы? Значит, они должны проявлять дружеские чувства и понимание к захватчикам, которые отобрали у них землю и стали их угнетать?
— Я хотел сказать совсем другое. Если без конца возвращаться к причине конфликта, то нет возможности сдвинуться с места. Желательно закрыть глаза на прошлое, сосредоточиться на сегодняшнем дне и постараться сблизить добрые воли, которые есть и с той, и с другой стороны. Но Хамас и Хезболла не хотят идти ни на какие уступки.
Фадила встала и сердито посмотрела на меня.
— Ты слишком наивен, Мунир.
Вполне возможно, она права. Я не знаю, что во мне говорит: наивность, прекраснодушие, идеализм, когда я отвергаю вражду, веря в возможность договориться. Но в эту минуту договориться с моей женой невозможно, это точно. А что, если возможно возобновить наш прерванный разговор с Рафаэлем?..
Часть 6 Ненависть Годы 2010-е
32. Битвы и возмущения
Рафаэль
Февраль 2010
Одна из сетей фастфуда собралась предлагать у себя в ресторанах халяльное мясо[98]. Новость мгновенно взорвала социальные сети и развязала горячие споры в еврейской общине.
— Французское общество окончательно капитулировало перед исламом, — возмущался Мишель. — Хотите — не хотите, а пора съезжать! Нам больше нечего делать в этой стране!
— Погоди! А почему ты не хочешь видеть в этом всего лишь результат изучения маркетинга? Естественное решение, принятое в гражданском и этическом обществе?
Кого я убеждал этими доводами — его или себя?
— Разве это не то же самое? Французы придают так мало значения своей культуре, ее особенностям, ее ценностям, что готовы разбазарить все, лишь бы были деньги. Лично мне это отвратительно. А мусульмане понемногу ее захватывают. Распространяют свои обычаи, обряды, видение мира, требуют, чтобы в школах была халяльная еда, и в то же время не празднуют Рождество. Они возражают против изучения холокоста в курсе истории, зато борются за ношение хиджаба. И, что хуже всего, побеждают. Учителя не соглашаются, директора школ ратуют за единую форму одежды, но потом сдаются. И теперь на предприятиях…
— Ты преувеличиваешь. Да, в отдельных школах были скандалы, но не больше. И потом ты изображаешь мусульман как монолит, действующий в рамках единой логики. И вообще ты скатился к расизму.
На протяжении последнего десятка лет количество историй, свидетельствующих, что французское общество отказывается защищать свои ценности, явно умножилось, и пессимисты, потрясая ими, бьют тревогу. В 2002 году появился коллективный труд «Территории, утраченные республикой», где массового читателя знакомят с проблемой, которую мы, евреи, давно предчувствовали. И надо сказать, что каждое посягательство на республику, эту стену, воздвигнутую между варварством и законом, тревожит нашу общину, мы считаем их симптомами, говорящими, что Франция прогибается под давлением фанатиков-мусульман.
— Французы уже не знают, кто они такие и куда движутся, — снова заговорил Мишель. — Правящая элита демонстрирует свое бессилие и… коррумпированность сверху донизу. Здесь любой растекается лужей дерьма перед тем, кто орет громче.
Филиппики друга я знал наизусть, потому что слышал их не первый раз, но это было не его личное мнение, а мнение общины. Должен сказать, что Мишель высказывался еще довольно мягко, были и другие высказывания, куда радикальнее. В общем, я ему особенно не возражал. Я перестал понимать, на чьей стороне истина. Зато понимал отчетливо, что в обществе царит смятение, питаемое подозрительностью и взаимным страхом. Страхом перед «чужим», которого ты не понимаешь и не знаешь.
— Французы не знают ничего ни про себя, ни про нас, — сказал я. — Директор этой ресторанной сети распинался по радио перед микрофоном о необходимости широко мыслить и быть открытым, чувствуя себя новоявленным пророком. Еще он пел, что в рестораны с халяльным мясом будут ходить как мусульмане, так и евреи. Они будут там встречаться и общаться. Идиот толковал о широте взглядов, но не подозревал, что мы едим кошерное, а не халяльное.
— А ты заметил, что теперь политик, журналист или общественный деятель, начиная говорить о мусульманах, непременно заговорит потом о евреях. Если в школах запрещают хиджаб, тут же возникает гонение и на кипу. Если отказываются от халяльной еды, то отказываются и от кошерной. Но евреи никогда не требовали узаконить кипу или кошерное.
Похоже, действительно французы — власти в первую очередь — растерялись. Они хотят угодить всем, чтобы не прослыть ни расистами, ни антисемитами, но не знают, на какой шаг имеют право и что должны внедрять в общественное, безрелигиозное пространство. В результате реагируют на мелочные жалобы, называя это гуманизмом и толерантностью, а что касается жизни общин, то довольствуются готовыми клише, сохраняя иллюзию, будто управляют ситуацией.
Я и сам нахожусь в немалой растерянности. Разменял пятый десяток и не знаю, чего мне ждать от этой страны, не знаю, на что могу надеяться здесь, на что претендовать. Я прекрасно помню, как по убеждению и сердечной склонности хотел стать французом, но по мере приближения к этой Франции, тем более неотчетливой и расплывчатой она становилась. Франция, о которой я мечтал, оказалась зыбкой иллюзией, навеянной прошлым. Или невоплощенной концепцией?
Многие из моих соплеменников думают точно так же, как я. Одни уезжают, другие голосуют за Национальный фронт, единственную партию, — если только ей верить — которая ратует за сильную страну. А остальные тоже, как я, больше ничего не знают.
Мунир
Декабрь 2010
— Ну и дела, — закончила моя жена и, заметив, что вошла Сурия, постаралась умерить свой пыл. — Котлы закипели!
Египет, Сирия, Тунис и даже Марокко! Арабская молодежь подала голос, она бунтует, требует большей свободы, требует демократии.
Движение называется «арабская весна». Красивое название, позитивное, оптимистичное. Обещает счастливые перемены, возможность построить иное будущее.
Диктаторы — Мубарак, Бен Али, Каддафи — паникуют, пытаются вести переговоры, торгуются.
— «Долой!» — отвечают им манифестанты. Какие торги! Народ ищет не выгоды, он хочет жить по-другому!
Конец диктатуре, коррупции, притеснениям, репрессиям, пыткам! Народ хочет быть свободным, он хочет равенства, права мечтать и самому творить будущее.
Все мусульмане вокруг меня следят за событиями с гордостью. Но и со страхом тоже. Мы все разделяем надежды мужественной молодежи, но мы знаем жестокость людей у власти, их способность на любую низость, когда они цепляются за свои привилегии.
— Ты веришь, что они победят? — спрашивает Сурия.
Наша девочка идеалистка, как большинство наивных подростков. Она тоже во власти пылких мечтаний, ей близки молодые бунтари, которые заполонили улицы и требуют другой жизни, она видит себя среди них, их слоганы — это ее слоганы. Глядя на нее, я вспоминаю собственную молодость.
— Надеюсь.
— А я верю! — восклицает Фадила, не удовлетворенная моим слишком сдержанным ответом. — Они натерпелись. Он не пойдут на уступки.
Мы гоняем программы в поисках новых телерепортажей, новой информации.
СМИ тоже в лихорадке, они множат интервью, дают слово пылким революционерам — таким молодым и решительным.
— Невероятно! — восклицаю я. — Все газеты пишут только об одном!
— А в каком снисходительном тоне, — возражает мне Фадила.
— При чем тут тон? Демократы радуются, видя, как рушатся диктатуры.
— Радуются, но не без доли пренебрежения. Запад обнаружил, что арабы способны мыслить, что они не только подневольный скот. Рады, что недоумки наконец-то добрались до истин, которыми до сих пор распоряжались они одни.
— Мне кажется, ты ошибаешься. Диктаторы Туниса, Египта, Ливана душили свою молодежь, искореняли критическую мысль, уничтожали надежды, которыми живет каждый человек, и вот эта молодежь потребовала своей доли будущего. СМИ и политики любых направлений удивились и обрадовались — так же, как мы сами.
— Возможно. Должно быть, я стала излишне недоверчивой, — признала Фадила без большой убежденности.
— Ты просто не привыкла, что Запад может ценить арабов.
Но кто знает, может, Фадила права? Но не важно, я не хочу, чтобы ее подозрительность отравила мне радость.
Хотя прекрасно знаю, что путь истории усеян разбитыми надеждами, обманутыми ожиданиями, растоптанными верованиями.
Рафаэль
Май 2011
ДСК[99] вошел в зал суда серьезный, с прямой спиной. Сюр, иначе не скажешь. Когда по всем каналам стали передавать одно и то же, и к тому же в сослагательном наклонении, я ничему не поверил. Когда стали показывать угнетенное лицо героя и сообщать о расследовании, учиненном американскими судебными органами, обвинившими его в сексуальном насилии над горничной в гостинице, крайнее изумление сменилось смутным предчувствием, что это может быть правдой, а потом гневом на человеческую нелепость. И свою собственную в том числе. Потому что я верил этому человеку, верил в его компетентность, в его ответственность, в него как в предусмотрительного политика. Верил в его благополучную семейную жизнь с женой, блестящей журналисткой.
— Подстава! — объявил мой шурин Зеев.
Я предпочел промолчать, сосредоточившись на репортаже, огорчаясь пустословию журналиста, старавшегося раздуть очередную сенсацию, которыми так беззастенчиво злоупотребляет его канал.
— Безусловно, заговор! Виноват Саркози, он убрал Стросс-Кана, потому что тот мог выступить против него, — подхватила Алина, племянница Гислен.
Я закипал, но старался сдерживаться. Ввязываться в привычную словесную перепалку с родней не имело никакого смысла.
— Или еще кто-нибудь, кто не хотел, чтобы будущим президентом Франции стал еврей.
Тут уж я не выдержал:
— Может, не будем говорить глупости!
Мое вмешательство их не удивило. И не остановило.
— Но ты же видел ролик, когда показывали службу безопасности гостиницы! Они подкуплены, это ясно!
— А эту Нафисату ты видел? Она же страшнее войны! Чтобы женатый человек, с женой красавицей, который может оплатить для себя самую красивую в мире эскорт-девочку, захотел изнасиловать такую уродину! Быть такого не может!
— Но задевает тебя то, что еврея обвиняют в такой гадости, так?
— Конечно! Я защищаю всех евреев, на которых нападают, — заявила Алина.
Я не думал, что она так простодушно признает свою пристрастность. Ее глупость обескураживала.
— Видишь ли, вот как раз это мне в тебе и не нравится. В тебе и во всех оголтелых, кто выступает в соцсетях с дурацкими комментариями и создает группы поддержки ДСК. Мне не нравится слепая воинственность.
— Но поддерживать, защищать, быть солидарным — это же нормально! — возразила Алина.
— Нет, это не нормально! Нормально сохранять объективность. Будь на месте ДСК мусульманин, вы бы его давно осудили. У вас не возникло бы ни малейшего сомнения в справедливости обвинений. А в отношении соплеменника обвинения кажутся вам нелепыми и несправедливыми. Все происходит без участия головы, вы ее не включаете.
— Возможно. Но ДСК не араб, а еврей, и у нас достаточно врагов, чтобы мы сами на своих не нападали, — подал голос Зеев.
— Ах, вот оно что! Но если следовать твоей логике, если для нас иудаизм главное, то с точки зрения иудаизма этот тип — язва на здоровом теле. Какие у него достоинства? Он рвется к власти, сластолюбив и деспотичен. Лично я предпочел бы, чтобы в данную минуту все забыли, что он еврей.
— Но его преследуют потому, что он еврей. В этом все проблемы!
— Ах да, я забыл! Главный припев: «Все вокруг антисемиты»! Заговор. Все против нас. Тот самый заговор, в котором нас обвиняют. Зеев, если ты закрываешь глаза на истину под предлогом, что не стоит судить еврея, или потому, что наши бабушки говорили: «Кто не еврей, тот против евреев», — ты уничтожаешь справедливость как таковую.
Мы продолжаем спорить, и остаемся каждый при своем мнении. И как всегда после этих родственных вечеров, я сожалею, что дал себя втянуть в бессмысленную и бесплодную перепалку.
В еврейской общине немало рьяных заступников. Однако мало тех, кто заботится о серьезной аргументации, большинство довольствуется куцыми взглядами и рассматривает любую критику Израиля и своих «братьев» как безусловный антисемитизм. Они защищают Израиль всегда и везде, какая бы партия ни находилась у власти и какие бы решения ни принимались. Они вопят и кричат в социальных сетях, обуянные непомерной гордостью, используя фразы-клише и ругательства, и пишут зачастую с орфографическими ошибками. Они считают себя послами Израиля, евреями во Франции, авангардом ЦАХАЛ в стране, которая в ближайшем будущем может стать врагом. Они шумят, что Франции скоро конец, что алия — это единственный выход, но заполоняют пляжи Тель-Авива только летом, откладывая собственный окончательный переезд на неопределенное время. Самое печальное, что они не сомневаются в собственной полезности, считают себя надежными хранителями истины. Послушать их, так никто не имеет права критиковать общину и осуждать любые действия отдельных ее членов. Нам самим нечего выступать антисемитами, антисемитизм и без нашей помощи распространяется как зараза, — таково их мнение.
Евреи организовали жульническую операцию? Не стоит об этом. Таких немного, и не такие уж они злостные. Повсюду есть мошенники, разве нет?
Но я не хочу молчать. Не хочу закрывать глаза на жуликов. Не хочу ими любоваться, когда они чванятся на вечерах или в синагоге. Мне претит их бесчестный успех и дурно пахнущая щедрость. Они зарабатывают, продавая места для рекламы в несуществующих журналах, заключая фальшивые контракты на телефонную связь, предлагая профессиональное образование на воображаемых курсах, используя недочеты в различных системах. Эти «предприниматели» доводят людей до стресса, а иногда и до самоубийства, соблазняя несуществующими выгодами, выуживая последние сбережения. А потом со спокойной совестью жертвуют украденное на религию или благотворительность.
Идиоты восхищаются такими деятелями. Те же самые идиоты, которые требуют абсолютной солидарности, чтобы не давать повода для антисемитских нападок. Но как можно требовать справедливости и непредвзятости, когда сам ты покрываешь всякого рода нарушения только потому, что их совершили евреи?
В синагоге или в гостях я не вступаю в спор с подобными заступниками. Но когда слышу точно такие же разговоры в собственной столовой при детях, то считаю своим долгом высказать свое мнение. Я хочу, чтобы мои сыновья усвоили разницу и поняли: важна справедливость как таковая. Только объективность поможет нам двигаться вперед.
Но если подобные заступники так меня раздражают, то это значит, что мы похожи. Не выносишь себе подобных. В них я вижу себя. Каким могу стать.
Мунир
Распространять листовки, призывающие бойкотировать продукты из Израиля, кажется мне пустой тратой сил и времени. Я хочу поддержать палестинцев, а вовсе не ослабить израильских производителей. Но Фадила со мной не согласна и всячески защищает листовки.
— Война ведется по всем направлениям. Воевать — значит занимать территорию, доставать врага всеми средствами, деморализовать его, вселить неуверенность, а потом взять верх.
— Но я не воюю, Фадила.
— Поэтому мы и не вместе.
Мне обидно слышать такое от моей жены.
— Я хочу сказать, что у меня нет ненависти. Я поддерживаю борьбу палестинцев, но бойкотировать израильские продукты, на мой взгляд, неразумно. Ты говоришь об ослаблении израильской экономики. Хорошо, пострадают производители сельхозпродукции, и что дальше? Не сомневаюсь, что в хозяйствах работают и палестинцы. Их выгонят в первую очередь.
— Ты смотришь в перевернутый бинокль. Сейчас общественное мнение настроено против Израиля, против того, что он оккупирует территории. Мы должны этим воспользоваться. Нужно нанести как можно больше вреда израильтянам. Говорят, что в Рунжи гниют сионистские продукты. Арабские магазины отказываются их брать, и большие магазины в предместьях тоже. А почему мы должны видеть на полках наших магазинов фрукты и овощи из этой варварской страны? Эти фрукты и овощи залиты кровью!
— Сионистские продукты… Что ты хочешь этим сказать? Фрукты залиты кровью… Тебе не кажется, что ты хочешь ее добавить? И потом, ты не думаешь, как в ответ на твою акцию будет действовать еврейская община? Мне говорили, что там создали специальную сеть, которая поставляет их семьям продукты именно из Израиля. Так что ваш бойкот заведомо обречен на провал.
— Вот именно, у гадов всегда круговая порука.
— Не надо так говорить. Ты знаешь, как я не люблю, когда ты говоришь грубости. Моей жене это не пристало. Но так и быть, завтра я пойду с тобой. Пока ты будешь раздавать листовки, я куплю продукты. И обещаю смотреть на этикетки.
Фадила с каждым днем все безогляднее вовлекается в борьбу. Она яростно борется за права арабов на достойную жизнь. И с огорчением видит, что борьба слабеет по мере того, как в арабских странах возникают различные политические режимы. Но сама продолжает бороться, пытается успеть повсюду и уже ни о чем не думает. Речам она предпочитает теперь слоганы. А я? Мне не нравится эта борьба. Но Фадила моя жена и мать моей дочери. Я надеялся, что рождение Сурии умерит ее пыл, что она будет больше времени проводить дома. Хотел, чтобы у нас были еще дети. Хотя бы еще один. Желательно сын. Но Фадила так и не родила мне сына. И отнеслась к этому куда легче, чем я. Делом ее жизни стала борьба за лучший и справедливый мир — мир, в котором ее дочь будет жить, не зная ненависти и унижений.
Мы припарковались у «Ашана» в Сен-Прие. Листовки бледные, практически нечитаемые. И как всегда, составитель текста пребывал в полной уверенности, что народ в курсе проблемы.
Фадила отправилась к своим. Они уже раздавали листовки, надев платки-арафатки. Семеро из них были родом из Магриба. Трое длинноволосых придерживались крайне левых убеждений, были альтерглобалистами.
Народ, получивший листовки, избавлялся от них через два-три метра или выбрасывал чуть подальше, когда считал, что их уже не видят. Подъехала полиция, убедилась, что мы не создаем беспорядков, но попросила убрать валяющиеся бумажки.
Как обычно, Фадила работала энергичнее всех. Она протягивала листовку и, как только человек механически брал ее, оказывалась рядом, шла с ним дальше и убеждала, что это важная проблема.
Я уже вошел в супермаркет, когда раздался крик Фадилы.
— Дура! — рявкнула она женщине с тележкой.
Та обернулась и ответила:
— Хочешь, чтобы я тебя твоими листовками накормила?
К женщине подошел мужчина. Я узнал его сразу, и сердце у меня заколотилось. К женщине с тележкой подошел Рафаэль. Он явно не хотел скандала и постарался успокоить женщину. Как видно, она была его женой. Меня он еще не видел. Я направился к ним.
— Она взяла листовку, смяла и бросила мне в лицо, — закричала Фадила, заметив меня.
Рафаэль обернулся, желая узнать, к кому обращается женщина с листовками. Увидел меня, удивился, но тут же взял себя в руки. На секунду мы замерли, потом пошли навстречу друг другу.
— Привет, Мунир.
— Здравствуй, Рафаэль.
Мы неуверенно улыбнулись друг другу, но рук не пожали. Рафаэль погрузнел, полысел, но взгляд был живым по-прежнему.
Женщина позади него спросила:
— Ты здороваешься с этими людьми?
— Это Мунир. Я тебе о нем рассказывал, — ответил он смущенно.
И я очень остро почувствовал, что не одно только время разъединяет нас в эту минуту. Множество событий, переживаний стоит между нами. Наша дружба превратилась в зыбкие картины, и другие, более яркие оттеснили их. Настоящее заполонило все и мешает нам сблизиться.
— Мунир? Твой друг детства? Хороши же у тебя друзья!
Фадила мгновенно сообразила, о ком идет речь.
— Я Фадила, — представилась она. — Жена Мунира. Ваша жена обидела меня. Бросила листовку в лицо и…
Рафаэль вопреки ее ожиданию посмотрел на нее холодно.
— Обидела, потому что вы ее оскорбили своей листовкой.
Я вмешался:
— Рафаэль, прошу тебя.
— Я надеялся как-нибудь повидаться с тобой, Мунир. Но никак не мог предположить, что ты станешь… этим!
Он презрительно махнул рукой в мою сторону.
— Этим — кем?
— Экстремистом. Призывать бойкотировать израильские продукты… Это не пустяк. Это скрытая ненависть. Ненависть в чистом виде.
Слова Рафаэля больно меня задели. Я всерьез разозлился:
— Ты слышишь, что ты сейчас сказал? Это ты полон ненависти, Рафаэль! До чего же ты изменился! Я знал тебя более уравновешенным.
— Да, изменился. Сдержанность мало помогает, когда имеешь дело с глупостью. Антисемитизм набирает силу, а вы с вашими листовками его раздуваете. Вы метите в Израиль, но на самом деле вы ненавидите евреев.
— С чего вдруг? Ты забыл, как мы вместе с тобой сражались с нациками?
— Так как ты можешь участвовать в подобных глупостях? Ты ведь считал, что способен на большее, чем мешать людям покупать грейпфруты из Израиля.
Фадила яростно схватила меня за рукав.
— Не отвечай, Мунир! Ты же видишь, перед тобой готовый представитель Ликуда[100], еврей из Франции, готовый поддерживать политику Шарона.
— Я был за лейбористов, — возразил мой друг детства. — До тех пор, пока не понял, что, целясь в Шарона, вы метите в Израиль и евреев. Французы и арабы все перевернули. Арафата, прожженного убийцу, нажившегося за счет собственного народа, превратили в героя. Зато израильтян представили как варваров. Поставили все с ног на голову, извратили логику и смысл, лишь бы поскорее добиться своей цели. Вы отказались от разума. И тогда люди вроде меня предпочли не иметь дела с безумцами. Вы ведь за Дурбан? Все оголтелые за Дурбан!
У меня все поплыло перед глазами. Я был одновременно актером на сцене и озадаченным недоумевающим зрителем. Все, что происходило сейчас, не имело ни малейшего смысла. Я был готов вцепиться в горло этому хаму, наподдать ему как следует. Это я-то! Черт! Это же Рафаэль. Мой друг!
— Уходи, Рафаэль! Ты оскорбляешь меня, оскорбляешь мою жену. Ничего больше не говори, просто уходи.
Думаю, в эту минуту он осознал, что зашел слишком далеко. А до этого готов был чуть ли не вступить в драку. Он впился в меня взглядом, и мне не понравилось то, что я увидел в его глазах.
Но он все-таки ушел.
Рафаэль
Я лежал с открытыми глазами в спальне и в сотый раз переживал то, что случилось в супермаркете. Сердце у меня начинало колотиться, мысли разбегались, но я не погружался в хаос. Я задерживал картинку, вникал в ее смысл. Прошлое вспыхивало, откликаясь на произнесенные нами слова, я перебирал полученные оскорбления. Такова моя метода: я стараюсь выдавить весь яд сразу, я не люблю долго мучиться. Вбираю целиком жестокость и, обезвреженную, пускаю по сосудам мозга. Я всегда предпочитал резкую обжигающую боль долгому ноющему страданию. Спирт на рану, а не успокоительное; разрыв, а не оттягивание; удар кулаком, а не «Ой, держите меня, а то ударю!». Расплату наличными, а не жизнь в кредит.
И вот я мысленно вновь и вновь представлял себе нашу встречу, рассказывал о ней то так, то этак, одни доводы противопоставлял другим. Надеялся, что внутренняя мучительная диалектика позволит мне уснуть хотя бы к рассвету.
Мунир был моим другом. Настоящим? Думаю, нет, иначе бы мы не потерялись. Друзья — наши тени, они всегда с нами, впереди или позади. С ними невозможно расстаться. На любой колдобине жизненного пути, стоит солнцу поддать жару, они оказываются рядом.
Еврей и мусульманин. Мусульманин и еврей. Марокканцы по происхождению. Французы в мечтах.
У нас было много общего. Так что не будем отрицать из-за нашей обидной и унизительной встречи неопровержимый факт: Мунир был моим другом.
И что из этого? Детская дружба должна была связать нас на всю жизнь? Случается, что даже братьев разводит ненависть.
Мунир жив в моих воспоминаниях. Факт. И что дальше? Отказаться от воспоминаний? Нет, зачем же. Нужно отделить Мунира от незнакомца, который распространял глупые листовки в супермаркете.
Мы были детьми, мы стали взрослыми. Мунир изменился. Точка.
И я — я тоже стал другим. Согласился, чтобы изменились мои юношеские идеалы. И они изменились: остыл пыл, испарились надежды и упования, потускнели святыни. Зато понемногу я стал обретать определенность и жесткость. Я позволил ненависти проникнуть в меня и заполнить пустоты, проеденные кислотой страха и непонимания. Я постарался избавиться от того, что делало меня уязвимым, слабым, беспомощным, наделяло поутру неуверенностью. Постарался опереться на более прочное, безусловное. И опасное. Цепочке: не понимаю — сомневаюсь — тревожусь — боюсь — бездействую я предпочел шестеренки: раздражаюсь — злюсь — ненавижу — не терплю. Потому что так легче? Безусловно. Может быть, еще и потому, что гнев выглядит мужественнее, чем жалобы. Может быть, потому что возникает иллюзия, будто он даст тебе силы справиться с возникшей проблемой. Может быть, потому что ненависть — более мощный и действенный мотор, чем тревога.
Цинизм журналистов, трусливая слепота правительства, идиотизм этой самой Франции, заболевшей своими меньшинствами и позабывшей, кто она есть и чего хочет, довели меня до паранойи, и она показалась мне якорем спасения, путем к пониманию. Пристрастному пониманию, знаю, но все же дающему возможность думать и действовать. Вопреки всему. Вопреки всем. Действовать против того, что может меня уничтожить.
Ненависть? Стал ли я расистом?
Если говорить честно, сегодня я опасаюсь мусульман. И не без причины. Кое-кому из них удалось воспламенить местью сердца пустынников и создать взрывоопасные зоны. Радикально настроенные имамы проповедуют, что евреи должны погибнуть, что их должно стереть с лица земли, и никто не мешает им проповедовать. Молодежь впитывает их слова и, сжимая кулаки, изрыгая проклятья, бросается на мнимых виновников своих бед. А Франция закрывает на это глаза, не знает, что делать, и в лучшем случае делает вид, что ее смущают подобные всплески. Что же касается умеренных мусульман, то они себя никак не проявляют. Существуют ли они? Смею надеяться, что да. Но где?
«Если таково положение дел сегодня, то что произойдет через двадцать лет, когда 20 процентов населения будет мусульманами? Когда они войдут в Национальную ассамблею и будут голосовать за законы? Кто будет противостоять их агрессии? Кто будет противостоять экстремистам? Светская Франция? Эти французы уже не смеют шелохнуться. Католическая Франция? Верующих католиков осталось так мало, что они ограничиваются болтовней и на большее не рассчитывают».
Вот что мы слышим изо дня в день, вот что твердят сторонники алии. Слова действуют не хуже дубины. Я ненавижу Ле Пена и знаю, как опасны слоганы, броские упрощения, иллюзорная очевидность «простых истин». Но я знаю, что слова могут успокаивать, могут внушать уверенность в лучшее будущее.
В общем, дело обстоит так: евреев бьют, но это никого не волнует. В метро всякая сволочь оскорбляет Францию, но все опускают головы и отводят глаза. Французы с дурацкими улыбками подростков гордятся своим антиамериканизмом, считая, что проявляют мужество. Израильтяне считаются нацистами, а палестинские террористы — защитниками. Французу иудейского исповедания живется все сложнее и опаснее, и крайняя позиция становится ему все понятней. Так что же делать, как не ужесточать тон и не наращивать мускулы?
Бред? Очень может быть.
Я потерял точку опоры.
Мое прошлое затуманивается, настоящее захлестывает меня с головой, будущее меня тревожит.
Мунир
Я спал мало. Фадила варила кофе и исподтишка на меня поглядывала. В ванной я видел себя в зеркале: черты обострились, под глазами черно. Мне предстоял тяжелый день. Усталость и тоскливое чувство тормозили не только движения, но и мысли.
— Ты чего раскис? Рафаэль кретин. Этим все сказано. Точка.
Утешение жены не возымело действия, а только разозлило. Она не может понять, что меня печалит, а значит, не в силах и посочувствовать. Фадила смотрит на мир просто и прагматично: существуют два лагеря, борьба не допускает сомнений. Она готова на любые жертвы ради семьи, ради близких, ради своего дела, ее готовность защищать своих такова, что для нее состояние души других, «противников», «врагов» не существует. Меня восхищает мощь ее убежденности, и я ее побаиваюсь.
— Надеюсь, ты не собираешься считать этого типа своим другом.
— Он был моим другом, Фадила.
— Был. Но больше не друг. Закоснел. Правый экстремист.
Я пожал плечами.
— Все не так просто, дорогая. Он просто нервничал, вот и все. Иногда под горячую руку такого наговоришь…
Фадила насмешливо улыбнулась.
— Ищешь для него извинений? Он нас оскорбил, а ты находишь смягчающие обстоятельства? Ну, ты даешь!
Как же мне захотелось вскочить с места, заорать, что мы все экстремисты, способные разнести все к чертям, что она сама левая экстремистка и не видит, как от ее страстей все трещит вокруг, а потом выскочить отсюда, хлопнув дверью. Но я остался сидеть. У меня не было сил.
Сурия вошла в кухню, и на нас повеяло дыханием юности. Ей исполнилось шестнадцать, и мы тоже словно помолодели.
Она уселась ко мне на колени, обняла, поцеловала.
— А со мной здороваться не надо? — поинтересовалась мама.
Дочка рассмеялась.
— Я накормлю вас завтраком, — предложила она.
— Мне уже поздно, я ухожу. Займись папочкой. Он встал сегодня с левой ноги.
Сурия взглянула на меня, сдвинув брови.
— Да, правда, ты плоховато выглядишь.
Она налила мне кофе с молоком, намазала маслом тартинки, а сама села напротив с чашечкой шоколада.
— А ты? Ты не съешь тартинку?
Она покачала головой: нет, она ничего не хочет. Я догадался — Сурия заботится о фигуре. Я знал, что за ней ухаживают в лицее, но предпочитал об этом не думать. Восточные демоны витали поблизости, и я мгновенно мог стать отцом-защитником, читай, надзирателем.
— Так из-за чего ты так расстроился? — ласково спросила меня дочь.
Иной раз она вытягивала нас из ям, как, бывает, вытягивают родителей взрослые дети, крепко укоренившись в реальности. Реальностью Сурии была любовь к нам с Фадилой.
— Я? Из-за… глупости.
Сурия подняла на меня глаза, давая понять, что разочарована.
— Нет! От меня ты никогда не принимаешь таких ответов, так что пожалуйста!
— Знаешь, я вчера встретился с другом, и мы поссорились.
— А подробнее?
— Это был мой лучший друг. Давно, в молодости. Потом мы потеряли друг друга из виду. Он разнервничался, подумав, что я распространяю листовки, призывающие бойкотировать продукты из Израиля. Он еврей.
Сурия кивнула, давая понять, что понимает, и поинтересовалась:
— Раньше у тебя были друзья-евреи?
Вопрос меня поразил. Моя дочь считает, что у меня не может быть хороших отношений с евреями? Такая дружба ей кажется странной? Противоестественной?
Я тоже кивнул.
— Почему бы и нет? Разве у тебя нет друзей-евреев?
— У меня нет. У нас в лицее нет евреев.
Ответ меня не удивил. Еврейские семьи забрали своих детей из школ, коллежей, лицеев, где учатся мусульмане, и устроили их в городские или частные школы в «благополучных» районах и округах Лиона. Фадилу это страшно возмущало. А я их не осуждал. Понятно, что родители боятся за своих ребятишек и, как могут, пекутся об их безопасности. А то, что еврейская и мусульманская молодежь между собой не ладит, — это факт. Однако этот шаг подчеркнул нелады, усугубил неприязнь. Когда в молодости я слышал, как критикуют евреев, обвиняя их во всех грехах, я точно знал, что эти люди ошибаются: мой лучший друг ни в чем не походил на нарисованную карикатуру. И другие мои знакомые тоже. Сегодня для парня-мусульманина еврей — это миф, сформированный радикалами и антисионистами. Думаю, что враждебность евреев к нам, арабам, тоже зиждется на незнании.
— Я иногда встречаю евреев, — продолжала Сурия. — В городе. Они общаются только со своими. У них свой жаргон, свой стиль, своя одежда. Еврея узнаешь издалека: джинсы «Дизель», волосы торчком, стиль «я только проснулся», кроссовки «Пума», футболка «Вон-Датч». Общая униформа.
— Молодежь во все времена выбирала себе какую-нибудь форму одежды. Ты, например, предпочитаешь стиль «бродяга»
— «Бродяга»? Нет. Я называю его «раскованный».
— Будь по-твоему, раскованный.
— Да нет, вовсе не бродяга, а регги. Боба Марли[101] знаешь?
Если бы я знал Боба Марли… Мне пришлось смущенно улыбнуться.
— Боб — это классно, — заявила дочь.
— Не сомневаюсь. Но суть в другом: выбирая стиль, ты подчиняешься определенному коду поведения.
Сурия задумалась.
— В общем, да. Я выбрала самый свободный. А евреи больно сильно себя выпячивают.
— Не больше мусульман, если присмотришься. Ты же знаешь, наша молодежь одевается, как ракаи[102], — кепка, спортивные штаны.
— Согласна. Если араб, то ракай классический или ракай-рэп. Но мне этот стиль не нравится.
— А у меня в лицее одеваются именно так.
— Но знаешь, что самое смешное? У нас в школе даже буржуйчики заговорили, как пригородная гопота. Я постоянно слышу… — И Сурия изобразила просторечный разговор, сопровождая его забавными жестами. Я расхохотался от души.
Довольная своим успехом, она продолжала:
— Представь себе, я даже слышала, как белокожие французы клялись Меккой и говорили «иншаллах», причем совершенно серьезно. Где, спрашивается, их самоопределение? Они себя не уважают? Подбирают все у других?
— В мое время евреи заканчивали любую фразу словами «клянусь Торой». Это стало присловьем, вроде «подпишусь кровью».
— Если сейчас кто-то в школе скажет «подпишусь кровью», погибнет через пять минут, — засмеялась Сурия.
— А хиджаб?
— Ты прав, совсем забыла, у арабов есть еще религиозный стиль. У нас есть несколько таких девочек. Что тут скажешь? Они сделали свой выбор.
— Ходят в хиджабе в школу? А ты «за» или «против»?
Дочь, размышляя, уставилась в потолок. Моя привычка.
— Сначала я была «за». Ну, вроде свобода самовыражения, еще сработала инстинктивная защита мусульман. Но теперь стала сомневаться. В светской жизни много хорошего. Религии я побаиваюсь. Так что сама не знаю. Я хотела бы, как мама, иметь четкие убеждения, быть в себе уверенной и всегда готовой защитить свою позицию.
Сурия часто слышала, как мы с Фадилой спорим за столом. И я всегда замечал, что она колеблется, не зная, на чью сторону встать. Обычно она исподтишка мне подмигивала, давая понять, что скорее разделяет мое мнение, но я никогда не знал наверняка, убедил я ее или она просто хочет сделать мне приятное. Однако надеюсь, что мои умеренные убеждения и сдержанная манера общаться больше по душе моей любительнице регги.
— Значит, ты поссорился со своим другом-евреем и поэтому не можешь успокоиться?
Так оно и было, и я вздохнул.
— Именно.
— Знаешь, если он всерьез твой друг, все уладится. Тебе нужно просто поговорить с ним.
Логично. Но невозможно. Во всяком случае, сейчас. Все слишком… запуталось.
33. Убийцы и герои
Мунир
Май 2011
Бен Ладен убит. Американские коммандос выследили его, уничтожили и избавились от тела.
Пока основатель Аль-Каиды оставался живым, он был постоянной угрозой. Мертвый и погребенный, он сделался бы мучеником. Бросив его останки в море, власти в Вашингтоне позаботились, чтобы его могила не стала местом паломничества для джихадистского молодняка.
Мне бы радоваться, что его больше нет. Мне никогда не были близки его взгляды и уж тем более действия. Я всегда винил его за терроризм, создавший столько трудностей мусульманам, живущим в западных странах, но, к сожалению, операция, которая повела к его уничтожению, кажется мне постыдным реваншем, своего рода идеологической трусостью.
Взять его живым и передать в руки правосудия — так ли уж это было рискованно? В чем состоял риск? В том, что по всему миру прокатятся террористические акты в качестве требования освободить его? В том, что он выскажет свою ненависть к Западу и заронит ее в умы мусульман, ищущих идеала? В том, что ему предоставят трибуну и он скажет правду о роли Соединенных Штатов и ЦРУ в формировании движения джихадистов?
А сейчас его смерть возбуждает множество вопросов, они висят в воздухе, питают легенды и мифы.
Какие именно?
А вот какие.
«Они убили Бен Ладена, чтобы тот ничего не рассказал. 11 сентября Моссад и ЦРУ снесли башни, а потом испугались, что он докажет их вину!» — вот что один из моих учеников говорил своим товарищам на переменке. Фантазия зафонтанировала, воздух завибрировал миазмами теории «мирового заговора». И вот что парадоксально: в ответ на обвинения США громче всех, опираясь на данные псевдоэкспертов, кричат о невиновности Бен Ладена и о заговоре те же самые люди, которые его оправдывали за теракт, потому что он «насолил» США.
Этим утром я увидел в лицее нескольких учеников, которые стояли с печальными лицами, преисполненные праведным гневом. По спине у меня побежали холодные мурашки. Для этих наивных инфантильных ребят действительность представляется игровой приставкой или фильмом. Все, что происходит вокруг, для них виртуальная действительность, «воображаемая война», в которой погибшие ничего не значат, где достаточно разгадывать уловки врага и выдумывать новые ходы, чтобы чувствовать себя стратегом.
Боюсь, что эти ролевые игры превращают слабых в объект манипуляции, и они становятся солдатами новых неподконтрольных армий.
Как не так давно Келькал.
Рафаэль
Март 2012
Жуть.
Мужчина в каске въехал в школу на скутере и хладнокровно уложил отца, двух его сыновей трех и шести лет, а потом убил девочку восьми лет, пустив ей пулю в висок. До этого он убил троих военных.
Теперь убийца засел в квартире в Тулузе, и эту квартиру окружила полиция.
Мы ошеломленно следили за событиями, переходя с одного канала на другой, вытирая слезы, с яростью в сердце.
Значит, теперь сделалось возможным убивать детей, потому что они евреи. Отнимать у них жизни без малейших угрызений совести, следуя призывам имамов, проповедующих ненависть.
— Почему же они туда не ворвутся? — возмущенно спрашивал старший сын. — Что они тогда за смелые полицейские?
— Хотят узнать, не ждет ли их там бомба, так я думаю, — ответила ему мать.
— Так пусть применят газ! Усыпят его!
— Они хотят его вымотать.
— И сделают из него героя. Все ракаи небось радуются, глядя, как этот гад сопротивляется полиции.
Я был полностью согласен с сыном. Выжидание мне казалось искусственно затянутым, трагедию превращали в спектакль. Нам хотели внушить, что власти владеют ситуацией, действуют предусмотрительно, избегают любых случайностей, которые могут повредить исходу операции. Но они забыли, что убийца Мохаммед Мерах не всем кажется кровавым преступником. Что молодые головы, которые имамы начинили ненавистью, смотрят сейчас на него с восторгом, они на его стороне и каждую лишнюю минуту переговоров считают его победой и провалом всемогущей полиции.
Илан Халими, а теперь еще трое маленьких детей и молодой человек, отец семейства…
Я смотрю на своих детей, и комок подкатывает у меня к горлу. А что, если однажды… Нет, об этом нельзя и думать! Нельзя попадаться в ловушку страха, которую расставили эти безумцы!
Но нельзя становиться слепцом, готовым проглотить каждую новую жестокость, умалить значение происходящего. Один из эссеистов назвал этот процесс «варкой омаров». Что-то похожее происходило с евреями в Германии накануне войны. Сколько было сигналов, сколько предупреждений! Почему они не уехали до того, как разыгралась нацистская вакханалия? Потому что не хотели видеть реальность, искали происходящему оправдание, приводили доводы, не желая поддаваться панике, которая бы их спасла.
Так рассуждают теперь французские евреи. Что, если сейчас во Франции мы проходим путь немецких евреев? Что, если тоже закрываем глаза на то, что затевается в этой стране, — по легкомыслию. Из-за нежелания трезво смотреть на вещи. Из любви к Франции.
Мунир
Мохаммед Мерах так похож на ребят, которых я вижу каждый день. Разница в том, что безумцы сбили его с толку, начинили его мозги отвратительными идеями, тошнотворными ценностями, обернув их псевдомудростью, подключив религию, которая будто бы оправдывает любые убийства и предательства, совершенные во имя ислама. Таким же был и Калед Келькаль. Когда Мерах был убит, я вздохнул с облегчением. Необходимо было с ним покончить. Я проклял всех, кто настроил его, вооружил и превратил в бешеную собаку, которая по команде «фас» кидается на любого, на кого указали.
Правительство обратилось с просьбой провести в школах и лицеях минуту молчания, учителям поговорить с учениками. У нас в учительской никто не сомневался в добрых побуждениях правительства — мы сомневались, будет ли доброй реакция наших учеников. Как бы ни шокирующе это выглядело, совсем не все они реагировали на происходящее так же, как большинство французов. На стенах и на досках мы видели надписи в поддержку Мераха.
Когда я попросил своих учеников встать и почтить погибших минутой молчания, шестеро остались сидеть и посмотрели на меня с вызовом.
— Я просил вас встать.
Они сделали вид, что не слышат меня. Такое уже случалось. Не в первый раз. Но сейчас во мне вспыхнул гнев. Кто их так оболванил, что они остались равнодушными к такой трагедии? Нет. Мне надо успокоиться. Действовать в лоб — худшая из стратегий.
— Хорошо. Предполагаю, что вы не хотите послушаться, выражая свое несогласие. Тогда поступим по-другому. Сначала все обсудим, чтобы вы могли спокойно высказаться, а потом встанем и помолчим.
Ребята стали в нерешительности переглядываться.
— Вы можете высказать все, что думаете. Говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. Абдель!
Я опять, как и в случае обсуждения войны в Персидском заливе, обратился к тому, кого считал у них главным. Парень с головой, плохой ученик, любитель покуражиться, но с хорошими задатками. Как раз такие и становятся жертвами фанатиков.
Он заговорил не сразу.
— Почему я должен молчать из-за этих евреев, когда не было никогда минуты молчания из-за палестинских детей, убитых израильской военщиной?
— Интересное мнение, — кивнул я, — очень интересное. Кто-нибудь хочет ответить?
Мне показалось, что кое-кто попытался бы ответить, но никто не решился возражать Абделю.
— Никто? Ладно. Тогда я выскажу свое мнение. Все, что происходит между палестинцами и израильтянами, безусловно, нас касается. Думаю, никто из нас не остается равнодушным, когда убивают палестинцев. Точно так же, как никто из нас не остается равнодушным, когда погибают невинные люди, кто бы их ни убивал. Мы все с вами против несправедливости. Против любой несправедливости. Потому что мы граждане мира. Но вот в Тулузе произошла беда, и мы должны на нее откликнуться как граждане Франции. Нельзя допустить, чтобы здесь, во Франции, мстили Израилю, убивая еврейских детей, потому что имамы сказали, что евреи наши враги.
Я видел по лицам, что ребята согласны с моими словами. Мятежные головы исподтишка переглянулись и застыли, ожидая, что скажет лидер.
— Стоит убить еврея, и весь мир в шоке. А если мусульманина, всем начхать.
Сколько раз я слышал эти слова!
— Я тебя понимаю, я знаю, почему ты так думаешь, — осторожно начал я. — Я тоже рос, считая, что французское общество — несправедливое общество, что оно относится к детям иммигрантов не так, как должно. В моей молодости арабов унижали, убивали, и всем было на это наплевать. Коррумпированное правосудие оставляло убийц на свободе. Я сходил с ума от гнева.
Мой рассказ не оставил их равнодушными. Они не знали истории наших предместий, но гнев, о котором я упомянул, был сродни их собственному, пока подспудному и бесцельному.
— И все-таки я твердо верил в перемены. Во Франции не могли безнаказанно убивать арабов.
— Их правосудие судит всех по-разному, — подал голос один из учеников.
— Согласен. Так давайте себе представим, что мы столкнулись с таким случаем, и спросим себя: что нам делать?
— Разнести все к чертям, — ответил один из помощников каида.
— Согласен, это выход. Самый простой. Я в ярости, я бунтую, сражаюсь, разношу все вокруг. Кое-кто из моих друзей той поры пошел таким путем. И скажу с полной ответственностью: они плохо кончили. Когда ты оказываешься в тюрьме, понимаешь, что ничего не изменилось и что никто никогда тебя уже слушать не будет. А что еще хуже, ты подтвердил мнение расистов, которые считают арабов агрессорами и смутьянами. Но есть другая возможность: сделать гнев своей силой. Силой, которая поможет осуществить свои мечты, достичь такого социального положения, чтобы твой голос был услышан.
— Вы что же думаете, работать преподом в занюханном лицее — значит стать сильнее?
Замечание меня не порадовало, но я не показал виду.
— Да, я так думаю. Потому что, став преподавателем, могу делиться своими убеждениями с учениками. Как человек добросовестный, я пользуюсь уважением, а значит, ко мне прислушиваются мои друзья и соседи.
— А я не считаю себя французом, — раздался еще один голос.
— Если не считаешь, то льешь воду на мельницу расистам. Они тоже не считают тебя французом. Но ты француз, хочешь ты того или нет. Здесь ты родился, здесь растешь, учишься, здесь у тебя сложится семья. Я прекрасно знаю мнение на этот счет кварталов. И знаю все глупости, которые говорят имамы.
— Ничего вы не знаете. Имамы — люди веры!
— О какой вере ты говоришь, Абдель? О вере, которая требует убивать всех, кто не думает, как они? Всех подряд — евреев, христиан и мусульман тоже? Ты же видел, как мусульманка Латифа ибн Зиатен оплакивала смерть своего сына. Его убил Мерах за то, что он стал военным. Разве твои родители учат тебя такому исламу? Уверен, что нет. Твои родители выросли в вере, полной мудрости, сострадания, понимания, милосердия, необходимости делиться. Разве не так?
Он озадаченно кивнул.
— И я уверен, твои родители горевали из-за этих маленьких детей-евреев, которых убили так подло. Потому что поднимать руку на детей — это подлость и трусость. Когда мы были молодыми, мы не считали, что хорошо стрелять в детей, мы считали, что хорошо давать сдачи агрессору.
— И вы что, дрались? Вы? — Абдель задал вопрос, тая в уголке рта улыбку.
— Да, дрался с нациками. Евреи и мусульмане вместе дрались с расистами.
Что-то изменилось во взгляде Абделя. Я продолжил:
— Что ты скажешь, если завтра в школу, где учатся твои братья, войдет человек и начнет стрелять, мстя за преступления исламистов в Пакистане? Как тебе будет больно! Ты закричишь, что твои братья не имеют никакого отношения к безумцам, которые взрывают в Пакистане бомбы. Закричишь, что дети не отвечают за преступления взрослых! И тебе покажется естественным, что все французы и все верующие любых религий чувствуют вместе с тобой такую же боль. В этом и есть смысл минуты молчания. Мы не хотим, чтобы дети расплачивались за ошибки взрослых. Мы не хотим, чтобы ислам стал религией убийц. Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала повсюду и для всех.
Я сделал паузу.
— А теперь я прошу весь мой класс встать. И подумать о матери, которая потеряла своих детей и мужа. Подумать об отце, который видел, как убили его дочь. Подумать о семьях мусульман, которые потеряли сыновей.
Класс встал. Шестеро несогласных остались сидеть, переглядываясь. Потом Абдель решился. Он встал и гордо выпрямился. Остальные последовали его примеру.
Я только что выиграл сражение. Моя победа не имеет большого смысла. Я знаю, что торговцы ненавистью пользуются большим спросом у этой молодежи. Но, быть может, кто-то из них вспомнит эту минуту. И мои слова.
Все может быть.
Рафаэль
С утра пораньше мне позвонил мой приятель, журналист.
— Привет! У тебя сын учится в коллеже Вандом?
— Да, а что?
— Он говорил тебе, что у них одна учительница провела минуту молчания в память убитых в Тулузе, в Монтабане и еще в память Мохаммеда Мераха?
Я потерял дар речи. То же самое случилось два дня тому назад в Руане, но я не слышал ничего подобного о коллеже, где учится мой младший сын.
— Я получил сигнал и теперь уточняю информацию, — продолжал приятель. — Дело срочное. Статью нужно написать сегодня. Представитель коллежа отказался со мной встретиться.
— Хорошо, я позвоню Этану на большой перемене.
Когда мне наконец удалось поймать сына, он на мой вопрос ответил небрежно, словно я спрашивал о чем-то обыденном и неинтересном.
— Вроде что-то такое говорили. Но это же не у меня в классе.
— Ты знаешь эту учительницу?
— Вау. Она у нас по биологии. Странненькая.
— А кто тебе рассказал?
— Ребята. Она у них классная.
— А почему ты нам ничего не рассказал?
— Да… Да я узнал только сегодня утром.
Я перезвонил приятелю и передал разговор с сыном.
— Ты разрешишь мне расспросить его? Ответы, естественно, останутся анонимными.
— Да, конечно. Но в моем присутствии.
Мы договорились встретиться у лицея за десять минут до окончания уроков.
— Я в шоке, Рафаэль, — с ходу заговорил журналист. — История просто тошнотворная.
— Ты имеешь в виду учительницу?
— Не только. Все вместе. И отношение отдельных французов тоже.
— Согласен. На демонстрацию вышли одни евреи. Как будто убийство касается только нашей общины.
— Похоже, французы думают, что между собой разбираются землячества — одно произраильское, другое пропалестинское. Случившееся их не трогает или вовсе, или очень мало.
— Они не понимают одного: евреи всегда оказывались первой жертвой варварства, первой мишенью для тех, кто разрушал основы общества. В скором времени здесь появятся новые безумцы и будут убивать евреев, мусульман, католиков — всех подряд. Но тогда будет уже поздно.
— Я был в редакции, когда к нам пришло известие о трагедии, — добавил журналист. — Реакция кое-кого из коллег меня поразила.
— И какая же была реакция?
— Знаешь, не человеческая, не профессиональная, а идеологическая: «Опять нам придется жалеть бедняжек евреев!», «Сейчас все поднимут шум, а о детях-палестинцах все молчат!». Ну и дальше все в том же духе.
Я онемел.
— Я, конечно, не стал молчать. Попытался объяснить, что Франция не находится в состоянии войны, что детей убили из-за того, что они евреи. Кто-то понял меня, усовестился, а кто-то продолжал твердить свое.
— И это журналисты!
— Да, и в основном левые, даже ультралевые, а значит, за палестинцев. И до того циничные, что на случившуюся трагедию смотрят только с точки зрения арабско-израильского конфликта.
К нам подошел Этан. Он ответил на вопросы нашего друга, назвал имена нескольких учеников, которые сами слышали слова учительницы. Подозвал одного из них.
На следующий день в газете появилась статья. На целую полосу. Но скандал, как в Руане, не разразился. Учительницу объявят психически неустойчивой, ректорат проведет медицинское обследование. Дело можно считать закрытым.
34. Начало и конец
Мунир
Сентябрь 2013
Ну вот, мы тоже стали собственниками!
Я невольно посмеиваюсь, стыдясь, что так по-детски радовался, подписывая купчую, и теперь испытываю такую гордость. Я человек левых взглядов и все-таки мечтал иметь свой дом. Теперь я осуществил свою мечту. Мы с Фадилой и Сурией идем осматривать в последний раз перед переездом квартиру, и мне трудно совладать с радостью, от которой бьется сердце. Добиться такого, прожив чуть ли не пятьдесят лет в предместье! Добиться, потому — нет, скорее, благодаря — да, благодаря тому, что мы прожили полвека в предместье. Так оно и есть, ничего не попишешь.
Фадила остановилась, подняла глаза и оглядела фасад нашего весьма зажиточного дома в квартале Виллербан. Потом подмигнула мне, недоверие у нее в глазах смешивалось с радостью.
— Буржуазия!
Сурия взяла меня за руку.
— Мы здесь будем счастливы.
— А там мы разве не были счастливы? — удивилась ее мама.
— Конечно, были, но мне кажется, что вот здесь мы и должны были жить всегда-всегда.
— Дочь буржуя, — засмеялась Фадила. — В Воз-ан-Велен я была у себя дома, жила среди своих. А здесь мы попадаем во враждебное окружение. Каких друзей и подружек ты заведешь себе в этом квартале?
— А зачем мне новые друзья? Я со старыми не расстанусь. Просто я уверена, что мы имеем право и на все это, — важно заявила Сурия и обвела рукой дом и все вокруг.
Фадила взглянула на дочь с огорчением. Правда, не слишком искренним.
— Неужели я столько лет боролась, чтобы видеть, как моя дочь требует себе долю капиталистического счастья? Ты знаешь, что на этой улице наверняка нет ни одного араба или афрофранцуза?
— Так будем первопроходцами! Проторим дорогу! Колонизируем богатые кварталы. Это и есть подлинная борьба.
Сурия с Фадилой с веселым смехом распахнули дверь, и в холле им весело откликнулось эхо. Доброе предзнаменование.
Первопроходцы? Определение мне не слишком по душе. Я вовсе не первопроходец. Я не стремлюсь торить новые пути, открывать неведомые земли, я хочу принадлежать моей земле. Мой собственный дом — не просто мое личное желание, это еще и результат прожитой жизни. Когда тебя зовут Мунир Басри, когда твои волосы и смуглая кожа подтверждают то, о чем уже сообщило имя, трудно жить не в отведенной для тебя резервации.
Нет, я не был пионером-первопроходцем. Я индеец, чужак на своей земле. Я не принадлежу к клану завоевателей, я из клана обитателей.
«Мне очень жаль, месье… Басри, но квартира уже сдана». «Ваши доходы не позволят вам снять эту квартиру». «Вам не повезло, месье, трехкомнатная квартира была сдана сегодня утром!» Сколько я выслушал извинений, лживых объяснений, сколько перевидал притворно опечаленных лиц? И всякий раз меня охватывал гнев от того, что я бессилен перед этой несправедливостью. Гнев такой же, как в юности, когда нас не пускали на дискотеки и постоянно проверяли документы. Только на этот раз все обходилось без свидетелей, я глотал унижения в одиночку и никому о них не говорил. Вешал трубку, и обидчик больше не существовал. Черт подери! Сколько же дверей захлопнулось передо мной?! И как долго я смогу сдерживать свою ненависть, которая одна умеет прижигать гложущую меня обиду?
Араб не может снять квартиру в благополучном квартале. Араб свое место должен купить. Я его купил.
— Мне сказали, что здесь живет много евреев, — объявила Сурия.
Она стояла и смотрела в окно.
— И что? — поинтересовалась Фадила.
— Ничего. Просто так сказала.
— Твоя бабушка сказала бы, что это очень хорошо, — сказал я.
Сурия обернулась и удивленно на меня посмотрела.
— Неужели? А почему?
— Не знаю. Но она всегда говорила, что евреи знают, где хорошие места.
Жена снисходительно мне улыбнулась.
— Скажи это палестинцам. Они посмеются. Смотри-ка, как раз к слову пришлось. Ты знаешь, кто живет в доме напротив нас?
— Понятия не имею. Не знаю даже, кто у нас соседи по площадке.
— Там живет твой… друг.
Я промолчал, и тогда Фадила продолжила:
— Экстремист. Сионист. Дружок детства Рафаэль.
Я был в недоумении и продолжал молчать.
— Пойди посмотри, — позвала меня Фадила, подходя к окну. — Видишь роскошный дом слева? Когда я приходила сюда в последний раз, он входил в подъезд с женой и детьми.
— Может, навещал родню?
Не знаю, с чего вдруг я ляпнул такую глупость. Но если честно, мне совсем не хотелось оказаться соседом Рафаэля и то и дело с ним сталкиваться. Как мне себя вести? Здороваться? Попытаться снова завязать дружбу? Нет уж, наши дороги разошлись, враждебные слова рассорили. Между тем судьба свела нас снова. Может, в этой невероятной… случайности нужно видеть знак, что нам предстоит снова сблизиться?
— Не думаю. Они возвращались домой, это было видно.
— Ничего себе зашибает твой дружок! Нора неслабая!
Фадила легонько шлепнула Сурию по макушке.
— Что это за выражения? Отвыкай, детка, от жаргона, мы теперь буржуа из квартала Виллербан.
Сурия расхохоталась. А мне было не смешно. Я смотрел на шикарный дом, где, как говорят, жил Рафаэль.
Он пошел дальше моего.
Рафаэль
Июль 2014
ЦАХАЛ вошел в сектор Газа. Название операции «Нерушимая скала». Военные действия, которых мы так опасались, начались. Убийство в июне троих подростков-израильтян Гилада, Нафтали и Эяля всколыхнуло весь Израиль и диаспору. Речь шла не о заурядном преступлении — палестинцы так страшно выразили свою ненависть и подтвердили это, устроив праздник в честь кровавого события. Израильские экстремисты в ответ убили подростка-палестинца, и этот ужасный факт свидетельствовал, до какой степени накален Израиль. Хамас продолжал стрелять и выпускать ракеты в мирные израильские города. Гнев израильтян достиг пароксизма. Война нависла как неизбежность.
Сколько раз мы смотрим ремейки жестокого фильма и не перестаем ужасаться его жестокости. Война за войной, но продюсеры и актеры не упускают возможности нас шокировать.
ЦАХАЛ уже пострадал в предыдущих столкновениях, предав то абсолютное доверие, которое питали к ней евреи всего мира, и вот мы снова в страшной тревоге следим, как теряет она своих солдат. Со своей стороны Хамас не дошел еще до предела жестокости и решимости. Безудержный фанатизм не знает жалости, он безоглядно уничтожает противников и столь же безоглядно жертвует своими сторонниками, сея вокруг ужас.
С комком в горле мы сидим у телевизоров, ожидая новостей, следя за ходом операции.
В новостях нас ожидает сюрприз. До сих пор СМИ считали своей задачей пугать весь мир ужасами войны, изображая палачами израильтян. Но на этот раз они не обходят вниманием факты, которые вынудили ЦАХАЛ стронуться с места. Говорят о сотнях ракет, пущенных с территории Газы, о провокациях Хамаса, о его жестоком обращении с собственным народом: живых щитах, которыми прикрываются бойцы, жертвуя мирным населением. Говорят о том, что ЦАХАЛ предупреждает мирное население о налетах и бомбардировках, посылая СМС или разбрасывая листовки. Даже «Монд», которую большинство евреев считает пропалестинской газетой, публикует не такие однобокие статьи и смотрит на конфликт гораздо объективнее. Просто не верится!
Но СМИ опоздали, после стольких лет вранья невозможно вернуть себе девственную невинность, вернуть доверие общины. Большинство евреев уже не слушают традиционные каналы, они пользуются Интернетом, следят за событиями на самых активных сайтах, даже если они крайне правые и очень недоброжелательны к Франции. А может быть, именно поэтому. Как бы там ни было, все прекрасно знают: радио и телевидение проиграли. Настоящие сражения разыгрываются в другом месте, где идет война без правил и все средства хороши, лишь бы достать противника. Интернет для СМИ то же, что поле боя в спорте. Стратегии пропагандистов переместились в Фейсбук и Твиттер. Сообщения, заявления, фото и видео выбрасываются в Сеть одним кликом, одним прикосновением пальца, а дальше начинается драка — нападения, защита, оскорбления, вопли. Свойственная социальным сетям свобода выражений рождает самые невероятные неологизмы, которые распространяются и приживаются. Вынужден признать, что сторонники палестинцев активнее и действуют более умело. Сеть наводнена антисемитскими выпадами и призывами к смертоубийству. Этим пропагандистам недостаточно документальных съемок, какими пользуются классические СМИ, они смело выдают сирийскую войну за израильскую и захлебываются от ненависти. Все позволено. А почему нет?
Среди этого кипения я пытаюсь оставаться прагматиком, не поддаваться безумию безоглядной солидарности, требующей одобрять каждый шаг ЦАХАЛ, каждое решение израильского правительства. Мечтаю сохранить ясную голову. Но напрасно. Война требует, чтобы каждый выбрал свой лагерь, она требует преданности. И я не могу быть сторонним наблюдателем.
Я ощущаю вокруг ненависть, она меня тревожит. У меня возникает ощущение, что за столкновением этих двух армий таится другой конфликт, более глобальный и нам пока неведомый. Жертвами этого конфликта можем оказаться мы, евреи диаспоры.
Мунир
Я вне себя. Столько погибших! Такое отчаяние! Смотреть хронику невыносимо.
Израильтяне сметают кварталы, убивают детей, женщин, стариков под предлогом уничтожения членов Хамаса. Я ненавижу эту организацию исламистов, которая не принесла палестинцам ничего хорошего. Вернее будет сказать — ненавидел. Но сейчас приходится выбирать, и я готов ее поддерживать. Я надеюсь, что эти люди сумеют противостоять армии варваров, сумеют отомстить за повальные убийства.
Нет, Мунир, ты не можешь так думать. Тебя захлестнул гнев, ты пожелал новых смертей в отместку за свершившиеся. Но тебе это несвойственно, ты хочешь совсем другого!
И все-таки гнев переполняет меня всякий раз, когда я смотрю новости и видео на Фейсбуке, читаю газеты. Израиль, евреи воюют в полноте своего всемогущества. Они ощущают свою безнаказанность, потому что вокруг полное безразличие. Франсуа Олланд поддержал их на первых шагах, СМИ демонстрируют понимание по отношению к палачам, остальные западные страны одобряют или молчат.
— Как не стать антисемитом, когда видишь такое! — восклицает что ни день Фадила вне себя от горя.
Мне бы вступиться, в сотый раз повторить, что одно дело Израиль, а другое — евреи вообще, что не стоит смешивать палачей-сионистов и евреев — борцов за мир, но язык у меня не поворачивается. В социальных сетях евреи распоясались, защищают свою «другую родину», оправдывают действия армии зла…
Так зачем мне дотошно дорожить привычными для меня понятиями? Цепляться за смысл слов, которые другие давным-давно извратили?
Потому что я хочу сохранить трезвую голову. Хочу сберечь хоть малую толику человечности, которая до сих пор помогала мне оставаться над схваткой. Но когда я смотрю хронику, мне плевать на трезвость. Еще один кадр — и я готов воевать вместе с Хамасом.
— В субботу у нас акция в поддержку Палестины, — сообщила мне Фадила.
Я никогда не принимал участия ни в одной их манифестации. Бок о бок с женой в ее борьбе я поучаствовал единственный раз, когда поругался с Рафаэлем, и сохранил об этом весьма печальное воспоминание. Вовлеченность жены в политику всегда меня беспокоила, она становилась пассионарием, в ней проявлялись черты, которые мне не слишком нравились. С ее товарищами я не находил общего языка, и мне было трудно себе представить, как она с ними ладит. А теперь мне пришло в голову, что Фадила была права. Нельзя постоянно подавлять свой гнев во имя ценностей, над которыми все смеются. Эти опороченные ценности становятся оправданием трусости.
— Я пойду с тобой.
Фадила не удивилась моему ответу, она взяла мою руку и пожала ее.
— Сурия тоже пойдет, — добавила она.
Дочка иногда приезжала к нам на субботу и воскресенье. Она жила теперь в Париже, заканчивала образование. У нее был жених, звукорежиссер, если говорить точнее, дружок, потому что они не предпринимали никаких шагов, чтобы узаконить свою связь. Они познакомились на концерте и вели богемную жизнь. Сурия пошла в Фадилу, боролась за и против всего, что можно: за право голоса для иммигрантов, против голода, против исламофобии, за легализацию нелегалов. Похоже, она решила соревноваться с матерью.
Ну а теперь — да, мы все втроем пойдем выплескивать свой гнев против государства сионистов.
Рафаэль
Я пропустил несколько дней и не без опаски навестил своих виртуальных друзей — в основном это читатели моих романов — в Фейсбуке. Я знал заранее, что они меня не порадуют. В самом деле — кое-кто изрыгал ругательства в адрес Израиля, ссылаясь на совершенно лживую информацию. Но с этим я давно смирился. Что поделать? Люди, с которыми я нахожусь в полном смысле в виртуальных отношениях, читатели или друзья друзей, часто высказывают мнения, не схожие с моими.
Зашел на страницу Мунира. Я навещаю его иногда из чистого любопытства. И еще мне хочется ощутить, что мы с ним все-таки связаны. Мне даже хочется ему написать. Но что я ему скажу? И захочет ли он со мной разговаривать? Наша последняя встреча оставила у меня горький осадок. А прочитав, что пишет его жена, я не сомневаюсь, что он в противоположном лагере.
Жена его страшно активна в Сети, а Мунир нет. И если он вдруг решается написать пост в Фейсбуке, то это цитата из романа, философская мысль, мнение экономиста.
Как он? Его тоже захватила волна гнева, несущая большинство мусульман?
«Все на демонстрацию в поддержку Газы!»
В юности мы были в одном лагере, и граница, которая отделяла нас от врагов, проходила не через Газу. Угрозы, страх, непонимание, наша непохожесть на других объединили нас и заставили выступить против общих врагов. Потом приоритеты сместились. Отстаивая себя, свою самобытность, мы вышли на аванпосты армий, которые приготовились выплеснуть свою ненависть… Но мы еще способны заговорить друг с другом, прежде чем медленно двинемся каждый в свою сторону и вольемся в ряды сражающихся.
И хотя я встретил его с листовками возле супермаркета, мне больно представлять его шагающим в рядах махровых фундаменталистов вместе с оголтелыми гопниками предместий, среди перевозбужденных бородачей, которые вопят, ненавидя Израиль.
Я горько вздохнул и продолжал читать посты у себя на стене в Фейсбуке. Слова одной моей подруги-мусульманки, живущей в тысячах километрах от нас, меня ошеломили. В реальной жизни я никогда не встречал эту женщину, но мы вели с ней долгие разговоры о литературе, политике, беседовали на самые разные темы, в зависимости от новостей и настроения. Мы познакомились, когда она откликнулась на мою статью в одном психологическом журнале, где я писал о возможностях изменить свою жизнь. У нас были общие культурные ценности, мы мирно подшучивали над нашими религиями, и вот теперь она сдалась.
Мудрая добрая Малика, пишущая прекрасные стихи и замечательные рассказы, которую я ободрял, призывая продолжать литературную деятельность, поддерживал шутками и всерьез, превратилась вдруг в злобную фурию. В своих многочисленных постах, касающихся конфликта, она называет израильтян нацистами, евреев диаспоры — сообщниками, призывает ополчиться против лоббистов, уничтожать израильтян. Я окаменел. Я полагал, что и об этом конфликте мы будем говорить в том же сдержанном тоне, в каком уже обсудили множество проблем. Но нет, это оказалось невозможно. Внезапное чувство отвращения поднялось во мне. Я почувствовал себя одураченным. Вот одна из ловушек виртуального мира: чужаки пробираются в твою жизнь, становятся друзьями, занимают место в твоей истории. Но когда драма приближается к развязке, они открывают свое истинное лицо и виртуальная близость рассыпается в пыль. Сколько потерянного времени! Какое разочарование!
На секунду мне захотелось предложить ей спокойный взвешенный разговор, но ее фотографии, комментарии, замечания меня сразу же остановили. Я вычеркнул Малику из списка моих друзей. И, еще не остыв, заблокировал ей доступ к моей странице.
Хирургическое вмешательство. Болезненная утрата.
Мунир
Я продвигался вместе с небольшой плотной толпой, скандирующей враждебные Израилю слоганы. Сдержанная ярость горела в глазах манифестантов, наполняла их голоса. Она передалась и мне, как бывало на первых демонстрациях, когда я шел рядом с Рафаэлем. Здесь были белые, черные, арабы, умеренные, бородатые, молодые, старые — все ратовали за дело справедливости и были счастливы. Но я прекрасно чувствовал: защита прав палестинцев сейчас нас объединяет, но побудительные мотивы у каждой из групп свои. Измени почву — и эти группы не сойдутся. Возможность побыть вместе радует этих людей.
Фадила и Сурия шли, держась за руки. Можно было подумать, что жена боится, как бы маленькая дочка не потерялась.
Прохожие лионцы в большинстве своем отводили взгляд. Палестинцы их не интересовали. Или перестали интересовать, потому что набили оскомину. А скорее всего, люди боялись худшего. Я узнал эту опасливость, она возникает всегда, когда мусульмане шагают, сбившись в кучу. На них смотрят со страхом, недоверием и ожесточением тоже. На взгляд прохожих, в этой демонстрации участвует слишком много бородачей и юнцов-гопников из предместий, а эти люди не вызывают у них сочувствия.
Вчера в лицее ученики меня спрашивали:
— Месье, вы пойдете завтра на демонстрацию?
Я пожалел о своем посте в Фейсбуке и ответил утвердительно.
— Мы тоже идем!
Во взглядах читалось удовлетворение: мы заодно, мы воюем.
И вот сегодня мы встретились. Они несмело подошли ко мне, чтобы пожать руку, поздоровались с женой и дочкой, едва решаясь на них взглянуть, а потом, сунув руки в карманы, сбились в стайку и зашагали. Они не решались скандировать слоганы, зато всматривались в лица прохожих, ловили одобрение, которое прибавляло им гордости или, наоборот, неодобрение, которое повышало агрессию.
Глядя на моих ребят, я понял, что в этом мире мало что изменилось. Эти подростки одиноки, чувствуют себя растерянными в мире, который кажется им враждебным. Они ищут, за что им уцепиться, чтобы быть принятыми, любимыми, и готовы накинуться на каждого, кто посмеет хоть как-то их задеть. Единственная разница: преподаватель, выходец из такого же предместья, человек такой же культуры, шагает рядом с ними.
Я увидел, как они вдруг оживились, захлопали в ладоши. Группа поодаль развернула флаг Хамаса, ребята в этой группе надели платки с символами Исламского государства. Фанатики.
— Ты видишь эту гадость? — спросил я Фадилу.
— Хамас — символ сопротивления в Израиле.
— А ИГИЛ? Какое мы имеем отношение к ненормальным, которые зверски убивают всех подряд, в том числе и мусульман, если только те им не повинуются?
Жена передернула плечами.
— Невозможно все проконтролировать. На демонстрации всегда приходят экстремисты, чтобы показать себя, завербовать сторонников.
Именно это меня и обеспокоило. Реакция моих учеников показала мне, как они неустойчивы, как падки на воинственные призывы. Когда я учился в лицее, нашим героем бы Че, он был для нас символом борьбы и отваги. Мертвый герой. Ни технологии, ни авиация не уменьшили тогда еще мир настолько, чтобы призывать нас в революционные армии. Сегодня для молодежи имамы и джихадисты такие же кумиры. С той только разницей, что сегодня все расстояния сократились, молодежь призывают по-настоящему сражаться. И вместо пятнадцати минут славы Энди Уорхола[103] сулят ей вечное блаженство.
Неожиданно группа фанатиков остановилась возле небольшого магазинчика. Раздались свистки и крики. Мои ученики присоединились к ним.
— Что там происходит?
— Это магазин одного еврея, — смущенно сказала Фадила.
Сердце у меня сжалось. Мои ученики в возбуждении махали кулаками. Нет, я сюда пришел не для этого. Я борюсь по-другому. И они тоже должны бороться по-другому.
— Не получается избежать таких перехлестов, — смущенно повторила жена.
Необходимо! Иначе для владельца магазина, для прохожих демонстрация будет только выплеском ненависти.
Рафаэль
«Смерть евреям!» — вот что кричали демонстранты. И не где-нибудь, посреди Парижа. А кое-кто из них размахивал флагом Хамаса, а другие флагом ИГИЛа. Потом напали на синагогу. И все это происходит во Франции при всеобщем полнейшем безразличии. Барбес[104] в огне. Перевернутые машины, разбитые витрины, покалеченные городские коммуникации.
СМИ и политики минимизируют факты, говорят об отдельных группах. Главное для них — ни в коем случае не обличать. Не смешивать ислам и исламистов. Это их кредо, всегда одно и то же. Франция по-прежнему боится своих мусульман. Верхи и журналисты в одной и той же фразе осуждают экстремистов и призывают отделять скромных верующих от уродливого явления. Совмещение сразу смягчает силу осуждения и показывает французам, что у них нет критериев, чтобы судить о происходящем и выявлять истинных виновников. Как будто в этом случае есть о чем рассуждать, разбираться, разжевывать! А что касается мусульман, то кто, как не они, должны отмежеваться от исламистов, твердо противостоять экстриму во имя своей религии.
В этот день мы обедали с Жюльеном в ресторане и обсуждали печальные события. За соседним столиком два бизнесмена прислушивались к нашему разговору. Сначала неявно, потом откровенно. Их любопытство показалось мне неуместным, и я понизил голос, чтобы не говорить свободно. Внезапно один из них обратился к нам:
— Простите меня, пожалуйста, но я слышал ваш разговор, и я полностью с вами согласен. Все, что происходит сегодня, постыдно.
— Именно так, и нельзя позволять этим экстремистам бросать нам вызов, — добавил второй. — Они призывают к смертоубийствам, устраивают черт знает что, а правительство сидит сложа руки.
— Я скажу вам одну вещь. — Первый наклонился, словно собираясь доверить секрет. — Я целиком на стороне Израиля. Эта страна по крайней мере имеет мужество сражаться с исламистами. Надеюсь, они всех их уничтожат.
— А во Франции ничего не изменится. Разве что Марин Ле Пен станет президентом, — заключил его коллега.
Я застыл, не говоря ни слова — это были совсем не те люди, чье сочувствие меня бы порадовало. Совсем напротив. Подобных людей я терпеть не мог: они сидят тихо, ничего не делают, потихоньку ворчат, бранятся и доверяют свою судьбу течению времени и крайне правым.
Я предпочел не вступать с ними в разговор и повернулся к брату, собираясь продолжить нашу беседу.
— Они правы, — тихо сказал Жюльен. — Ничего здесь не изменится. Только крайне правые выведут эту страну на правильную дорогу.
Жюльен тоже?! Готов лечить холеру чумой? Соскучился по охоте за ведьмами?
— Марин Ле Пен тоже ничего не сможет, — убежденно заявил я.
— Ошибаешься. Она будет действовать твердо и решительно.
— Ты считаешь, что евреям нужно голосовать за Национальный фронт, чтобы обеспечить себе безопасность?
— Многие уже так и делают.
— Но это же партия антисемитов! Они громче всех костерят Израиль!
— Знаю. Но Ле Пен выглядит последним оплотом против ненависти мусульман. Многие из наших считают: чем хуже, тем лучше, и, уезжая из Франции, готовы голосовать за Ле Пен, чтобы она истребила здесь тех, из-за кого они уезжают.
— Политика выжженной земли.
— Можно сказать и так. Вокруг меня много евреев готовятся уезжать. Некоторые с энтузиазмом, остальные с тяжелым сердцем.
До сих пор большинство кандидатов на отъезд повиновались таинственному зову родной земли или хотели обеспечить своим детям будущее по своей вере и идеалам. Мало кто уезжал по принуждению из соображений безопасности. Но теперь из этих соображений уезжали люди даже моего круга. Друзья, мои родственники собирали информацию, предпринимали первые шаги, выставляли на продажу квартиры, совершали поездки в Израиль, чтобы понять, как можно там устроиться. И дело не в глубокой вере, не в идеалах сионизма. Они считали, что нужно уезжать, пока не поздно, пока не наступил настоящий ужас. Общину лихорадило. Все ободряли друг друга, призывая решиться на отъезд.
Уехать в Израиль? Отказаться от Франции? Поддаться панике? Но здесь же кричали: «Смерть евреям!» Что помешает им завтра убивать?
Отказаться от незащищенности во Франции ради еще большей незащищенности в Израиле? Отдать своих сыновей в армию? Буду ли я трусом, если останусь? Проявлю ли мужество, если уеду? Буду предателем, если избавлю сыновей от армии, или заботливым отцом, пекущимся о будущем своих детей?
Нет, пока еще я француз, укорененный на этой земле, обеспокоенный всеобщей паникой. И уже не настолько объективный, чтобы полагаться на свои предпочтения.
— Нам придется уехать.
Фраза, сказанная женой, ошеломила меня. Мне показалось, что я услышал: «Конец света завтра».
— Нужно смотреть правде в лицо, — добавила она, видя, что я молчу. — Все будет только хуже.
«Все» — это лоскуток будущего, о котором мы ничего не знаем, над которым не властны, о котором ведает только Бог, будет он погружен во тьму или залит светом. «Все» — это наши страхи, сомнения, антисемитизм, исламизм, крайне правые, Божье милосердие или наказание, жизнь или смерть. «Все» кружится у меня в голове, сбивает с толку, мешает отвечать. И тогда Гислен беспорядочно перечисляет самые разные доводы и плачет:
— Во Франции всегда будут экстремисты. Никто не станет заниматься молодежью предместий, и она вырастет в огромную армию радикальных исламистов. Сюда вернутся все, кто уехал в Ирак и Сирию, чтобы убивать, резать и пытать. Ты думаешь, они сложат оружие, откажутся от безумия и ненависти и станут добропорядочными гражданами? Нет, они будут делать здесь то, чему научились там. И начнут с евреев. Ты знаешь не хуже меня, что в Израиле никогда не будет мира, так что каждое новое столкновение окажется поводом для охоты на евреев. И даже если мир будет подписан, ненависть исламистов не погаснет. Судьба палестинцев для них только предлог. Французы слишком нерешительны, мусульманским радикалам они отвечают туманными осторожными речами.
Нельзя сказать, чтобы доводы Гислен были взяты с потолка. Действительно, нет ни одного факта, который бы говорил, что ситуация улучшится.
— И ты готова уехать?
— Нет, я никогда не буду готова расстаться с Францией, но мы должны уехать ради наших детей. Ради наших внуков.
Ну и ну.
— Уехать в Израиль?
— Или куда-нибудь еще. Где могли бы жить без тревоги, от которой каждый день все больше болит сердце.
— И что мы будем делать… там?
— То же, что и здесь. Ты можешь открыть агентство или преподавать. Там увидим.
— А дети? Их учеба? Язык? — Я задавал вопросы, заранее зная ответы, потому что не раз уже задавал их сам себе. Но я должен был произнести их вслух, чтобы знать, что мы с Гислен думаем одинаково. Когда предстоит важное предприятие, отрабатывают каждый пункт. А это было важное предприятие. Речь шла о будущем.
— Они справятся. Они способные. Во всяком случае, мы должны подготовиться. На случай, если… Быть готовыми двинуться в путь со дня на день.
Многие евреи уже перешли на такой образ жизни. Они называют его «жить налегке». Продали квартиру и вообще все, что имели, жили в съемной и готовы уехать в любой момент, если ситуация ухудшится. Общину преследует навязчивая боязнь стать жертвой очередного выверта истории, страх оказаться в положении немецких евреев, которые не сумели вовремя сдвинуться с места, уловить тревожные знаки, позволили себе поверить фальшивым посулам.
Мунир
Из парижской демонстрации не вышло ничего хорошего. Виновата горстка оголтелых. Или — кто знает? — их там было много, и они прекрасно знали, чего добиваются? Лично мне это неизвестно. В Интернете сторонники Израиля твердят о реальной опасности, об охоте на евреев, а сторонники палестинцев о провокациях Лиги защиты евреев и о том, что СМИ раздувают факты не в пользу мусульман. Как бы там ни было, но действия бунтарей, этой молодежи из предместий, исламистов, ненавидящих евреев, вредят делу палестинцев и честному имени мусульман. Французы запоминают только искаженные ненавистью лица, и в их глазах арабы всегда безоглядные свирепые экстремисты.
В молодости мне было не очень-то уютно чувствовать себя арабом, но меня спасал оптимизм, свойственный юности, которая только открывает для себя жизнь. Я верил, что с годами «коренные», если можно так выразиться, французы изменят свое мнение о нас к лучшему. Мне казалось, что время разгладит складки, которые оставила история на ткани жизни. Казалось, что французов перестанет страшить наша на них непохожесть. Они к нам привыкнут, научатся различать нас, разберутся, какие мы на самом деле, и не будут считать неистовость единиц нашей общей родовой чертой. Но каждый прожитый год убеждал меня в тщетности моих надежд. И тогда я перенес свои надежды на дочь, уговаривая себя, что нужно время, чтобы надежды реализовались.
Но, к сожалению, карикатура, именуемая «араб», стала еще уродливее, новые фантазии и страхи сделали ее еще мрачнее. Теракты 11 сентября, жестокие репрессии исламистов, убеждение, что джихадисты укоренились во Франции, подогрели страхи и подозрительность, нарисовав еще более пугающий образ мусульманина.
Франция тоже изменилась, но, похоже, пути арабов и французов расходятся, а не сближаются. Нам и дальше придется все время доказывать, что мы честные и порядочные. Они останутся судьями и контролерами, следящими за нашей жизнью в стране. А мы будем бесправными, опасными, преследуемыми гражданами, на которых всегда направлен указующий палец. И никогда ничего не изменится.
Каким моральным преимуществом они обладают, чтобы судить, где добро и где зло, где положительные ценности и где отрицательные?
Они забыли об ужасах, которые творил католицизм? О крестовых походах? Инквизиции? Преследовании евреев? Уничтожении протестантов? Их религию тоже использовали как средство укрепления власти, завоевания мира, как возможность подчинить себе другие народы. Но со временем все эти темные намерения потерпели крах. Так будет и с исламистами. Мракобесие обречено.
Но пока каждый мусульманин вынужден отвечать за их злокозненные амбиции.
Рафаэль
Сегодня я разместил пост в Фейсбуке. Писал под влиянием эмоций, исходя гневом и недоумением. Потому что молчать — значит помогать экстремистам. Потому что кое-кто из моих «друзей» хотел знать, что я думаю о теперешнем конфликте. Потому что в наши трудные времена я больше еврей, чем француз.
Иначе было бы подло.
Друзья,
среди вас нашлись желающие узнать мое мнение по поводу развернувшегося конфликта. Мнение гражданина Франции? Еврея? Писателя? Не важно, раз вы считаете меня другом, не важно, по одной из позиций или по всем вместе.
Поначалу мне казалось, что лучше не участвовать в дискуссии, которая разгорелась в сетях, и я молчал. Из опасения потерять читателей? Возможно. Чтобы сохранить душевное спокойствие? Безусловно. Потому что это не мое дело? Не без этого.
Однако я очень болезненно реагирую на происходящее. А таить свои чувства — значит отказывать в доверии друзьям, пусть мы дружим только в виртуальном пространстве, пусть основой нашей дружбы стал всего лишь ваш интерес к моим книгам.
Итак, я изменил свое мнение и хочу с полной искренностью высказать, что думаю, несмотря на то, что могу кого-то огорчить. Для меня стало невозможно продолжать читать некоторые комментарии и молчать.
Ну так вот.
Для тех, кто знает меня только как писателя, я должен сказать, что я еврей и сионист.
Для многих слово «сионист» превратилось в ругательство, потому что якобы подразумевает варварскую и полную ненависти идеологию, которую ее приверженцы таят про себя, опасаясь закона и просто из трусости.
Это не так.
Я сионист, потому что считаю Израиль страной евреев[105], считаю, что наша история уходит корнями в эту землю, что наше будущее связано с этой страной.
Сионист, потому что люблю Израиль искренно, глубоко и мистически, но не хочу расставаться с Францией, которую люблю так же глубоко.
Я сионист, потому что буду поддерживать Израиль в его борьбе с теми, кто убивает евреев, потому что они евреи.
Сионист, потому что без Израиля я не был бы спокоен за будущее моих детей. Израиль поможет им противостоять антисемитизму всех мастей.
Кто-то пытается использовать это слово как ругательство? Для меня оно знак почета.
Сионизм не лишает меня трезвости суждений, не ведет к крайностям в вероисповедании. Я не собираюсь одобрять решения израильского правительства, если они расходятся с моими убеждениями.
Я за создание палестинского государства рядом с государством Израиль, но я не оптимист и не верю, что увижу его в ближайшем будущем.
Во всяком случае, пока Хамас и Хезболла будут держать в своих руках судьбу палестинского народа.
Как можно достичь мира, если эти организации упорно стремятся уничтожить государство Израиль?
Их мало заботят несчастные палестинцы, они используют их в качестве живых щитов.
Можно ли назвать мирным время, когда Хамас обрушивает на Израиль шквал ракет? И, получив ответ, лицемерно недоумевать.
Как помириться с организаторами терактов, с убийцами подростков, на могилах которых устраиваются праздники с музыкой, танцами и пирожными?
Как мириться с палестинскими лидерами, которые присваивают себе лично деньги Европы, присланные их нищему народу?
Как мириться с теми, кто учит своих детей в школах и по телевизору ненавидеть евреев и любить смерть?
Как мириться с исламистами, пышущими ненавистью, сеющими смерть во всех концах мира?
Вы хотели узнать мою позицию? Вот моя позиция.
Но я хочу задать вопрос и вам, мои французские друзья мусульманского вероисповедания, сочувствующие делу палестинцев.
Откуда истерия? Почему такое негодование? Назовите его причину и цель. Почему вы не возмущаетесь, когда мусульмане убивают десятками тысяч других мусульман в Сирии, Ираке и других частях света? Вас возмущают исламисты, которые пытают, жгут заживо, обезглавливают христиан?
Нет. Я ни разу не слышал вашего возмущения. Ни разу не видел демонстрации, одушевленной жаждой справедливости. Почему? Мне кажется, можно назвать три причины.
Первая касается жертв: убитые палестинцы вам дороже, чем сирийцы и иракцы.
Вторая касается агрессоров: легче ненавидеть евреев, чем мусульман, пусть преступления мусульман гораздо страшнее и многочисленней.
Третья постыдная, но укорененная в истории, не раз уже вызывавшая разного рода репрессии: вы не любите евреев. Вы используете любой повод, чтобы обличить их, обвинить во всех ваших бедах. При этом потрясаете знаменем прав человека, которые растоптаны во многих мусульманских странах, столь же вражески настроенных против Израиля.
Возможно, у вас есть другие причины и мои покажутся вам пристрастными.
Я жду, что вы скажете. Пока ваша позиция не кажется мне адекватной и не внушает сочувствия.
Комментарии появились буквально в следующую минуту после публикации, и я предположил, что люди либо читают очень быстро, либо читают только первые строчки. Потом убедился, что верным было второе предположение.
Комментировали в основном крайне правые и крайне левые. Можно подумать, что в этой стране мнение имеют одни только радикалы. Мусульмане сосредоточились на моем сионизме. Правда, потом ополчились и против предложенных мной мотиваций, стали сводить счеты и оскорблять. Евреи обрушились на меня со своей правдой — никаких компромиссов с арабами! Никакой им страны! И те, и другие возражали с горячностью, приближаясь к бранной перепалке. Базар, да и только. Словесная битва. Откуда столько ярости и агрессии в мирной стране?
Дискуссия затягивалась, буксовала. Мало-помалу поток ненависти вызвал у меня отвращение, он накрыл меня с головой, чуть ли не потопил. У меня возникло ощущение, что я впустил к себе в комнату орду сумасшедших, готовых разнести все вокруг, поубивать друг друга, а меня линчевать.
Я встал, снова сел, взял сигарету, положил сигарету… Я сделал страшную глупость. О чем я думал, когда торопливо писал, выбрасывая слова в пространство? Чего я хотел? Оправдать себя? Представить лагерь, к которому себя причисляю? Вызвать на откровенный разговор? Нокаут. Я подлил масла в огонь. Огонь вспыхнул. Я сгорел.
И понял: все это бессмыслица. И стер свой символ веры.
Мунир
Сурия в отчаянии. Она сидит, обхватив голову руками, точь-в-точь как Фадила, когда горюет и кажется маленькой беззащитной девочкой, которую еще так недавно мы спасали от бед своим теплом. Но сейчас речь не о ссоре с подружками, не об отказе идти на праздник, не о любовной неудаче. Сурия узнала печальную новость: Слиман уехал в Сирию.
Слиман, ее друг детства, застенчивый мальчик, который едва решался поднять глаза у нас в гостях, стал джихадистом. А она даже не заметила, как это произошло.
— С некоторых пор он стал очень верующим — постоянно ходил в мечеть, пять раз в день совершал намаз. Мне казалось, что это хорошо. Он выглядел гораздо счастливее.
— Вы с ним виделись?
— Да нет. После лицея мы потеряли друг друга, изредка переписывались в Фейсбуке.
— И он ничего не говорил тебе о джихадизме?
— Ничего. Говорил в основном о вере, старался меня убедить, что надо быть более набожной, носить хиджаб, что соблюдать Рамадан — это мало для мусульманки, но я всегда отшучивалась. А совсем недавно узнала, что у него был другой аккаунт, с другим именем. Абу — не знаю точно, — и там он выступал гораздо более агрессивно.
Я похолодел при мысли, что моя дочь общалась с членом ИГИЛа, но, подумав немного, успокоился. У Сурии сильный характер, устойчивые взгляды, она не чета той молодежи, что мучается сомнениями, подвергаясь искушениям со всех сторон.
— А как ты узнала о его отъезде?
— Из Фейсбука. Он поместил странный пост о своем будущем путешествии, а я, как идиотка, решила, что он уезжает на каникулы. Спросила, он не ответил. А вчера один наш общий друг сообщил, что Слиман вот уже две недели, как в Сирии.
Фадила была в замешательстве. Что-то не сходилось с той логикой борьбы, которой она следовала всю жизнь.
— В какую мечеть он ходил?
— Не знаю. Но он обожал своего имама, говорил, что тот великий мудрец и человек большой веры.
— Я знаю, в какую мечеть он ходил, — вмешался Тарик. — И поверьте, парень, о котором идет речь, все, что угодно, только не мудрец. Он фундаменталист.
— А тебе откуда это известно? — спросил я брата.
— В пятницу ходил с одним своим другом. Хотел быть в курсе. Парень едва лопочет по-французски и выдает банальности с таким важным видом, будто открывает истины в последней инстанции. Перечислял унижения, которым подвергаются в мире мусульмане, предрекал гибель демократии, обличал извращения Запада. Вся проповедь — прямой призыв к ненависти.
— Проблема в том, — начала Фадила, — что эти реакционеры умеют говорить с молодежью, они на их уровне, и молодежь их слышит. Чаще всего это зеленые юнцы, которые не нашли применения своим мозгам, у них вертится в голове две-три мыслишки, им хочется отыграться за обиды. Хочется быть нужными, определиться, иметь будущее. Как только псевдомудрец говорит, что они нужны и любимы, и предлагает им будущее, где они займут важное место, они начинают его внимательно слушать. А он напускает религиозный туман и подсовывает им всякие мерзости, пообещав, что их ждет серьезное место в истории и счастье в раю.
— Молодняк чувствует, что обрел новую жизнь. Верит, что нашел свой идеал, который нужно защищать, — прибавил Тарик.
— Именно. Имамы задействуют фрустрации подростков, используют присущую переходному возрасту агрессию, показывая им врагов и обещая сражения. Завлекают их в своего рода компьютерную игру: предлагают сценарий, роль героя, полную безнаказанность и врагов.
— Как это полную безнаказанность? — не поняла Сурия.
— Они убеждают их, что наш мир — иллюзия, а значит, с ними ничего не может случиться. Умирая, они получают новую счастливую жизнь.
Сурия опустила голову.
— Не могу себе представить, что Слиман среди этих сумасшедших. Они научат его убивать. Или он сам погибнет среди чужих на чужой земле.
Мне хотелось сказать ей, что Слиман уже умер. Того мальчика, с которым она дружила, уже нет. И если он вернется живым из ада, то навсегда останется другим.
Рафаэль
— Рафаэль, к вам из полиции…
Моя ассистентка стояла передо мной и смотрела широко открытыми испуганными глазами. Она пыталась найти слова и успокоиться.
— Это… Это по поводу вашего сына. Старшего…
Паника сродни приступу эпилепсии, мой мозг атакован множеством ужасных картин. Но я беру себя в руки. Я ничего пока не знаю. Ничего не произошло. Во всяком случае, ничего серьезного.
Жена вышла мне навстречу.
— Как он?
— Ему дали успокоительное. Он спит.
По дороге в больницу я старался сладить с паникой, которая парализовала мой мозг. И еще с яростью. Я молился и продолжал молиться, благодаря Бога, что Аарон остался в живых. На него набросились четверо. Увидели у него на шее могендовид и начали бить. Четверо. На улице. Никто не вмешался.
Я вошел в палату и зажал рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Страшная картина. Голова обмотана бинтами. Наложено двенадцать швов. Разбита скула, затек глаз, разбиты губы.
Гислен беззвучно плакала рядом.
— Ты видишь, что они сделали с нашим сыном…
Аарон приоткрыл глаза. Я кинулся к нему. Он протянул мне руку, попытался улыбнуться и заснул снова.
Слезы потекли у меня по щекам. Я их не сдерживал. Я плакал о моем сыне, о том, что он пережил, о минутах, когда ему было так невыносимо страшно. Оплакивал свою глупость, дурацкий оптимизм, нерешительность, готовность выжидать.
Я плакал о Франции, с которой расставался.
Мунир
Мне сказали о драке, но я не обратил внимания. Сколько их уже было. Ребята постоянно дерутся. Но когда сказали, что дрались евреи и мусульмане, я невольно скрипнул зубами. В последнее время это стало случаться так часто, что не обращать внимания было уже нельзя. Однако как тут определишь правого и виноватого? Всякий раз в разговорах за стойкой в кафе, в сетях, на сайтах сторонников — читай, экстремистов — общины сваливали вину друг на друга. По телевизору и радио редко говорили о таких вещах, а когда говорили, мы мало верили в то, что говорят.
В лицее я слышал, что евреи спровоцировали мусульман на драку в районе небоскребов, в Виллербане. После драки одного еврея увезли в больницу в тяжелом состоянии. Мои ученики готовились, ожидая ответного удара.
На следующий день районная газета сообщила о том, что произошло, но совершенно по-другому. Молодой человек, еврей, был избит четырьмя неизвестными. Они избили его и бросили. Я лихорадочно продолжал читать и не мог удержаться от горестного возгласа.
Фадила удивленно на меня посмотрела.
— Сын моего друга… — сказал я.
Она сдвинула брови, ожидая подробностей.
— Мальчик, которого вчера избили, сын Рафаэля.
— Вот оно что! — сказала она удивленно.
И, видя, как я потрясен, подошла ко мне.
— А что, собственно, меняет, что это сын Рафаэля? Молодежь дерется. Всегда. Точка.
— Журналист пишет, что на него напали четверо. Что они били его, потому что он еврей.
— Да, так написали в газете, но я слышала совсем другое.
Что на меня так подействовало: факт избиения или то, что жертва — старший сын Рафаэля?
И то, и другое. Я думал о Рафаэле. О том, что он должен был пережить, когда узнал о беде с сыном. Вспомнил наш последний разговор, жестокие, несправедливые слова. С тех пор мы изредка встречались у нас в квартале, но делали вид, что не видим друг друга. Наше безразличие меня даже не задевало, до того он казался мне чужим. И его книги мне тоже не нравились. Не нравилось, что я нахожу в них нашу юность, идеалы, за которые мы вместе боролись. Мне пришлось поверить, что существуют два Рафаэля, мой друг и незнакомец, которого известность наполнила амбициями. Но случилось горе, и я должен был ему позвонить, узнать, что с сыном.
Никакие ссоры не могут оправдать равнодушия.
Рафаэль
Целый день я просидел возле Аарона и возвращался домой подавленный, измученный, полный гнева. И вдруг передо мной появился Мунир. Он шел от моего дома. Что он там делал? Наши взгляды встретились.
— Э-э… Привет! — пробормотал он, не ожидая встречи.
Я находился еще в больничной палате, был в ступоре, в который погружает нас беда, случившаяся с самыми близкими. И я ничего ему не ответил. Вежливость — она для присутствующих. А я вот уже несколько часов увязал совсем в другой действительности, все для меня переменилось.
— Я… Я заходил к тебе. Узнал о твоем сыне. Хотел узнать… как он.
Мне бы надо поблагодарить, предложить подняться, выпить кофе, ответить на его вопросы…
— Плохо, — жестко ответил я. — Уроды, которые на него напали, зверски его избили.
Мунир опустил голову, он чувствовал себя неловко.
— Мне очень больно. Эта ненависть, это же ненормально. Она приводит меня в отчаяние. Я не понимаю…
— Чего ты не понимаешь? Что сегодня мусульмане хотят убивать евреев? Что исламисты мечтают довершить то, что начали нацисты? Спроси свою жену, что она думает на этот счет. Она продолжает бороться за несчастных палестинцев против злодеев израильтян? А ты? Ты по-прежнему ходишь на демонстрации вместе со сторонниками Хамаса? Может быть, сам размахиваешь флагом ИГИЛа и призываешь убивать евреев?
Мунир смотрел на меня с горестным изумлением.
— Ты не имеешь права так со мной говорить, Рафаэль! Я тебе запрещаю.
— Ах, вот как? Ты мне запрещаешь? Ты считаешь, что имеешь такое право? Но ты здесь не у себя дома! Точно так же, как я. Пока здесь нет шариата. Но он скоро будет, я не сомневаюсь, но меня уже не будет здесь. Я уезжаю. Оставляю Францию тебе и твоим друзьям. Французы трусы, они вам не помеха, а я не оставлю своих детей в руках ненормальных дебилов, с которыми ты дружишь.
Я даже не знаю, что еще я ему наговорил. Мне хотелось ранить его как можно больнее, а вместе с ним всех, кто ненавидит евреев, кто изуродовал моего сына, как будто Мунир представлял их всех.
— Я не дружу…
Он не стал продолжать и вглядывался мне в лицо, словно искал возможность понять меня. Он поднял руку, как в давние времена, желая мне дать понять, что не будет отвечать, не будет спорить.
— Я пришел поддержать тебя, а ты не нашел ничего, кроме слов ненависти, — проговорил он примирительно.
Он давал мне возможность остановиться, успокоиться, но я не мог, я себя не контролировал. Меня несло, и я тоже хотел все разнести.
— А на что ты надеялся? Что я раскрою тебе объятия? Поблагодарю, и мы сядем вспоминать нашу молодость, когда еврей дружил с мусульманином? Ты понимаешь, что мой сын был на волосок от смерти?!
— Да, понимаю. Да, они могли. Но какое я имею к ним отношение?
— Ты ходишь с ними на демонстрации! И они кричат: «Смерть евреям!»
— Я борюсь за мир. Этим все сказано. Я не экстремист.
— Легко сказать. За мир! А ты понимаешь, что мир недостижим? Арабы не хотят мира! Они хотят нас уничтожить.
— У тебя паранойя, — грустно сказал Мунир. — От горя ты озлился и… поглупел.
— Мне на… плевать на тебя, Мунир! На тебя и на всех твоих! Нельзя дуть в одну дуду с сумасшедшими, а потом удивляться трупам! Вы все до одного гады и предатели!
У Мунира заходили желваки, он держал свой гнев и, возможно, понял мой.
— Ты сам не знаешь, что несешь.
И Мунир ушел с той же яростью, какая кипела во мне.
Но я, я и вправду не знал, что говорил.
Не знаю, на каком был свете.
Не понимаю больше, как дальше жить.
Эпилог
Добрый день, Рафаэль!
Не знаю, где найдет тебя мое письмо, зато знаю, что ты ему удивишься.
Я очень жалею, что не зашел к тебе перед отъездом. Меня удерживала память о тех ужасных словах, которые ты наговорил мне при последней встрече.
Я мог бы дать возможность времени развести нас еще дальше, чем развели нас мысли. Понадеяться, что пройдет время, и я все забуду. Но я знаю, что годы не властны над обидами и болью. Знаю, что попытка убежать от реальности не приводит к добру.
И я решил: я тебя прощаю. У тебя случилось горе, а в такие минуты чувства берут верх над разумом. Вылетевшие слова не были твоими. Мой друг не может так думать. Мой друг Рафаэль, с которым мы пережили столько хорошего и так хорошо и согласно думали.
И тогда я решился.
Я всегда чувствовал, что нам нужно с тобой поговорить. Разобраться, понять, что же с нами произошло. Но ты далеко, ты уехал. И вот я тебе пишу.
Это не первое письмо. Много раз я начинал писать и бросал. Не мог сформулировать, что же хочу тебе сказать. Мешала глупая застенчивость: я всегда стыдился своих чувств.
А потом все эти события. Террористы. «Шарли Эбдо»[106]. Расстрел людей посреди Парижа. Разгром кошерного магазина[107]. Столько жертв. Новая волна ужаса. И вся страна подает друг другу руки, вспоминает о своих идеалах, обретает честь и достоинство.
Всплеск единения и надежды. Такой же мощный, как мы с тобой когда-то переживали. И тоже обреченный кануть в небытие.
И я подумал о тебе. О причинах, из-за которых ты уехал. О ненависти, которой ты так испугался, что заподозрил в ней всех мусульман. Даже меня.
Как это случилось, Раф? Почему случилось? Интеллектуалы пытаются найти ответ, анализируя статистику: сколько у нас безработных, сколько ребят не кончили школу, сколько приехало иммигрантов. Вникают в ислам, в его суть, в его отклонения. Журналисты эксплуатируют тему, радуясь, что могут запустить на полный ход машину, печатающую банальности.
Завтра все забудется. До следующей беды. Потому что все мы знаем: беды еще будут, и мы ничего не можем поделать. Десятилетия заблуждений и ошибок не исправишь за несколько недель.
Рафаэль, что ты об этом думаешь? Есть шанс совладать с потоком дурных идей, недостойных средств, неоправданной ненависти, накопленных обид? Я хочу обсудить это именно с тобой. С моим другом-евреем. С моим другом-марокканцем.
Я нашел в себе силы, и тогда ко мне сразу пришли слова, и вот я тебе пишу.
Не до застенчивости, когда вот-вот разразится трагедия.
И я скажу тебе: в день твоего отъезда я плакал. Я оплакивал нашу дружбу. Благородные идеалы, которые мы защищали и от которых жизнь нас заставила отказаться. Оплакивал дорогие моему сердцу воспоминания, где ты был главным действующим лицом. Нас с тобой, какими мы были, не будет больше никогда.
Ты меня понял: я никогда бы не признался тебе, что плакал, если бы не набрался мужества пойти на встречу с тобой. Для меня письмо было серьезным решением.
Иногда я сомневаюсь в нашей дружбе. Но нет, мы дружили крепко и искренне, хотя иногда мне кажется, что эту прекрасную историю прожили не мы, а какие-то другие люди. Может, и у тебя есть ощущение, что ты не тот, каким был в двадцать лет? Как ты думаешь, у всех случается такой сдвиг по фазе или только у тех, кто к старости сильно изменился?
Я не знаю, какое место занимал в твоей жизни. Может быть, с моей стороны наивно думать, что мы были друг для друга опорой, что мы вместе строили жизнь. Может быть, я полный идиот и зря считаю, что мы с тобой срослись? Но у меня не получается думать иначе. Признаюсь, что часто думаю о тебе, говорю с тобой, словно ты продолжаешь жить со мной рядом. Я спрашиваю твоего мнения, пытаюсь представить, что бы ты сказал о том или о другом. Потому что мы узнавали мир, учились думать вместе, Рафаэль. Потому что мы вместе разгадывали его загадки в наших горячих спорах.
Как бы я хотел, чтобы ты остался здесь, Рафаэль. Чтобы здесь боролся за своих детей. За их будущее в стране, где сам вырос. Чтобы мы научились снова разговаривать с тобой и понимать друг друга. Чтобы мы опять с тобой дружили.
Не знаю точно, когда разошлись наши дороги. Но знаю, что ты был средоточием моей жизни, а потом тебя в ней не стало. Я не знаю, как появилось твое недоверие к мусульманам и ко мне тоже. Точно так же, как не знаю, почему вдруг перестал доверять евреям и, отдалившись, стал избегать.
Чтобы это понять, предлагаю тебе вернуться к нашей истории. Давай еще раз проживем ее вместе, отследим каждый факт, каждое событие, которое на нас повлияло. На нас и на нашу дружбу. Давай доверимся друг другу, переступив через застенчивость и горечь.
Давай расскажем обо всем, что было… до ненависти.
Поймем, как случилось, что мы разошлись и возненавидели друг друга, ты еврей, я мусульманин. Ты жид, я черножопый.
Мы можем писать друг другу по электронке. По очереди. Не вступая в споры. Вспоминать, и ничего больше.
Писать иногда лучше, чем говорить. Читать, чем слушать. Мы обойдемся без сердцебиений, необходимости остужать голову, цепляться за каждую высказанную мысль.
Мне кажется, нам пойдет на пользу, если мы вернем себе историю нашей дружбы.
Начать можем с приезда во Францию. Или с поступления в школу. А потом будем двигаться вперед вместе с нашими воспоминаниями.
История, я думаю, будет очень личной: мы долго отказывались принять стереотипы, которыми жили наши два сообщества. Она мало поможет историкам и уж тем более не будет образцом для моралистов. Речь пойдет только об опыте, твоем и моем, который сложился из пережитых нами событий и случаев.
Всего, что мы называем своей жизнью.
Всего, из чего родилась наша дружба, чем она держалась и как распалась… Или уцелела.
Твой друг Мунир.От автора
Не сомневаюсь, мой читатель удивится этому роману.
Он не найдет в нем сюжета, столь значимого для моих предыдущих произведений, не встретит автора, который распоряжается своими персонажами. Зато, на мой взгляд, это самая личная из всех моих книг. Почему? Ответ прост: она о моем самоощущении, моих тревогах и вопросах, которые меня неотступно преследуют.
Я начал писать ее давным-давно. Вел что-то вроде дневника, доверяя словам чувства, которые меня захлестывали. Я не знал, чему послужат эти странички. Но не мог не писать, потому что волна антисемитизма расшатывала мою уверенность, ставила под сомнение возможность жизни во Франции француза иудейского исповедания, родом из Марокко.
И вот зверское убийство Илана Халими.
Эта смерть перевернула мою жизнь. И жизнь многих моих единоверцев тоже.
Мы почувствовали: ненависть возвращается, нам стало страшно, мы были удивлены безразличию лидеров общественного мнения к вопиющим фактам, которые свидетельствовали о ней. Зверство, с каким пытали похищенного молодого человека только за то, что он еврей, бесчеловечность, с какой его убили, вызвали у нас горе, ужас и гнев. Мы поняли: положение вещей изменилось. Перемена необратима. За этим бесчеловечным преступлением последовали другие, не менее жестокие: злобная ненависть возродилась. Она выплеснулась в Тулузе кровавыми деяними Мохаммеда Мераха, она текла по улицам Парижа летом 2014-го, вместе с демонстрантами, которые, прикрываясь сочувствием к палестинцам, кричали: «Смерть евреям!»
Но память рассказывала мне другую историю: в моем детстве мусульмане дружили с евреями. Мы приехали из одной страны, говорили на одном языке, у нас были одинаковые обычаи, страхи и надежды: мы одинаково хотели стать французами. Позже в юности мы одинаково хотели бороться с расизмом ультраправых, и борьба сдружила нас еще крепче. Потом началась война на Среднем Востоке, мы отдалились друг от друга, и наши отношения осложнились. Но мы не могли себе представить, что несогласие во мнениях может привести спустя тридцать лет к смертоубийству.
Однако это произошло. Когда я отдал себе отчет в этом трагическом факте, я вернулся к своим запискам, решил использовать их и написать роман. Необычный. Путь из прошлого в сегодняшний день. Рискуя удивить своих читателей. А точнее, им не понравиться.
Почему роман?
Потому что о том, что меня волнует, я умею говорить только с помощью моих персонажей.
Потому что я не считаю возможным претендовать на исследование.
Потому что художественное произведение позволяет мне дать слово двум героям: Муниру и Рафаэлю, мусульманину и еврею.
Представляя себе жизнь Рафаэля, его чувства, события, которые его формировали, я обращался к своему детству, отрочеству, использовал воспоминания родных и знакомых. С Муниром дело обстояло сложнее. Но для меня было важно, чтобы зазвучали два голоса. Я хотел показать жизнь молодого мусульманина, постараться понять, что он пережил, что слышал, видел, как относился к событиям, которые его касались. Погружение в чужую жизнь необходимо, потому что непонимание, незнание друг друга ведут к расизму, и я вынужден признать, что французские евреи и французские мусульмане теперь незнакомы. Я много разговаривал с французами-мусульманами, много прочитал свидетельств. И мало-помалу Рафаэль и Мунир ожили и рассказали мне, как дружили и что их развело, заставив посмотреть другими глазами на события, которые стали ключевыми для их формирования.
Я совсем не считаю, что Рафаэль — это воплощение французов-иудеев, а Мунир — французов-мусульман. Их мысли, убеждения, оценки фактов и событий, безусловно, литература, но они имеют корни в реальности, позволяют очертить проблемы и точки зрения, существующие в разных сообществах, показать и рассказать, как формируются жизненные позиции, которые, развиваясь, приводят порой… к озлобленности.
Рафаэль и Мунир иногда объективны, а иногда пристрастны. Их слова, их мнения, точно так же, как слова и мнения других персонажей, я слышал от разных людей, в разной обстановке. Иногда они оптимисты, полны надежд и веры, иногда в отчаянии и преувеличивают плохое и свои страхи. Но разве не так все мы ведем себя в жизни?
Я не Рафаэль, не Мунир. Но я с любовью писал своих героев, они стали моими родственниками, я одолжил им кое-какие свои чувства, а мнения вложил другие, чем у меня.
Я не ставил своей целью «объяснить» ненависть, я хотел показать, как она вырастает, когда люди перестают понимать друг друга. Хотел рассказать историю дружбы, показать чувства, отношения, суждения (правильные, неправильные, узкие, широкие), которые формируют человека, позицию, а иногда заставляют его ошибаться относительно «других людей».
В человеческой природе находить друг в друге общее и принимать друг друга. Отказ от общения ведет к непониманию, непонимание — это потемки.
В потемках зреет ненависть.
Благодарность
Я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне создать моих героев, обогатить их, поделившись своими мнениями, чувствами, забавными и не забавными случаями, всех, кто отвечал на мои вопросы: Навеля Дриэ, Акли Хассауи, Резака Хассауи, Сами Дрефус, Мохаммеда Буджелляба, Мишеля Бенсуссана, Сафе Кассу, Самья Кассу, Надин Алезра… И всех остальных, кто в разговорах со мной доверял мне свои воспоминания.
Спасибо также:
Маме, братьям, сестре, моим первым читателям и проницательным критикам.
Отцу, которого считаю героем.
Жене и детям, которые всегда со мной рядом.
Моему издателю, Тьерри Бийяру, который поддержал меня в этой дерзкой, по моему мнению, затее и помогал тонкими и острыми замечаниями, несколько раз прочитав мою рукопись.
Сотрудникам «Фламмариона», помогавшим рождению этой книги: Клэр Ле Мэн, Николя Ватрэну и всей креативной редакции.
Аньес Абекасси и Татьяне де Ронэ, поддерживавших меня и умевших рассеять мои сомнения и колебания.
Бабушке и дедушке, которых мне всегда недостает и чьи истории очень помогли мне.
Книгопродавцам, ободрявшим меня добрыми словами.
Моим читателям, вдохновлявших меня, когда работа заходила в тупик.
Примечания
1
Сионизм — политическое движение, цель которого — возрождение еврейского народа на его исторической родине, в Израиле. прим. перев.
(обратно)2
Кошерный — пригодный для употребления в пищу и не противоречащий канонам ортодоксального иудаизма.
(обратно)3
Халяль — всё, что разрешено и допустимо в исламе. Чаще всего этот термин относится к дозволенной мусульманам пище.
(обратно)4
Французский детский сад.
(обратно)5
Прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергамента, содержащий часть текста молитвы Шма.
(обратно)6
В сериале «Захватчики» герой, Дэвид Винсент, узнает инопланетян, решивших захватить Землю, по необычному мизинцу.
(обратно)7
Французский автор и исполнитель, популярный в 1960-х и особенно в 1970-х годах на волне успеха стиля диско.
(обратно)8
Американский актер, комик, режиссер и писатель, прежде всего знаменит своими юмористическими номерами, с которыми выступал на радио и телевидении.
(обратно)9
Фильм Николя Ванье (2013) — история собаки по кличке Белль и мальчика Себастьяна.
(обратно)10
По-арабски «крепость», «старый город».
(обратно)11
Фильм американского режиссера Дж. Стерджеса (1963) о побеге военнопленных из немецкого лагеря во время Второй мировой войны.
(обратно)12
Главный герой сериала «Тайны Смолвиля», адаптированной версии Супермена.
(обратно)13
Вымышленный галл, герой ряда европейских комиксов, девяти мультфильмов и четырех комедийных художественных фильмов, входящих в цикл «Астерикс и Обеликс» (фр. Astйrix et Obйlix).
(обратно)14
Американский актер, комик, режиссер и писатель. Прежде всего знаменит юмористическими номерами, с которыми выступал на радио и телевидении.
(обратно)15
Еврейский духовный лидер, ортодоксальный раввин, каббалист, руководитель системы образовательных и благотворительных учреждений «Шуву Исраель».
(обратно)16
Раби Меир, известный как Бааль Анес (Чудотворец) — величайший мудрец эпохи Мишны. В народе прославился как человек, способный творить чудеса. Отсюда его второе имя — Бааль Анес, чудотворец.
(обратно)17
Служба внешней разведки Израиля.
(обратно)18
Общее название принявших ислам в VII веке коренных жителей Северной Африки. По религии — в основном мусульмане-сунниты.
(обратно)19
На самом деле в романе описывается маленькое селение Могадор во Франции, фильм снят в 1972 году (Франция, Канада, Швейцария, ФРГ) и пользовался большим успехом во Франции.
(обратно)20
Пье-нуары, дословный перевод «черноногие», переселенцы в Алжир из метрополии, они носили обувь и получили прозвище, которое в дальнейшем за ними закрепилось. Франкоалжирцы гордились своим происхождением, составляли особую социальную группу, во время освободительной войны в Алжире были вынуждены бежать во Францию.
(обратно)21
Арабы и берберы, поступившие на службу во французскую армию.
(обратно)22
Сефарды — группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове. Ашкеназы — североевропейская группа евреев.
(обратно)23
Еврейский ритуальный духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога животного.
(обратно)24
В иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей, завершая Десять дней покаяния.
(обратно)25
Историческая фраза Де Голля перед беснующейся толпой французских «ультра» в Алжире в 1958 году. Они увидели в ней, чего там не было. На судьбу Французского Алжира Де Голль смотрел пессимистически.
(обратно)26
Месяц обязательного для мусульман поста (саум), является одним из пяти столпов ислама.
(обратно)27
Дада Уме Иди Амин (1928–2003) — угандийский военный и государственный деятель, президент Уганды в 1971–1979 годах, создатель одного из самых жестоких тоталитарных режимов в Африке.
(обратно)28
День взятия Бастилии, государственный праздник во Франции.
(обратно)29
Музыкальный фильм компании «Paramount Pictures», вышедший на экраны в 1977 году. Воплотил в себе дух эпохи диско, имел ошеломляющий успех и сыграл значительную роль в популяризации музыки в стиле диско. Главная роль в фильме принесла всемирную славу Джону Траволте.
(обратно)30
Во Франции в лицей поступают по окончании коллежа, в 14–15 лет, либо по месту жительства, либо по конкурсу. Это завершающая ступень среднего образования.
(обратно)31
Основатель манихейства Мани (или Манихей) утверждал, что Вселенная находится в состоянии гигантской войны добра и зла и что каждый человек должен стараться высвободить добро в себе.
(обратно)32
«До победного конца!» (исп.) — лозунг Че Гевары.
(обратно)33
Панк-рок-группа.
(обратно)34
Союз защиты — организация французских студентов крайне правых взглядов, известная грубыми выходками.
(обратно)35
Французский политический журналист, философ, писатель.
(обратно)36
Французский философ и писатель-эссеист, известный своей склонностью к эпатажу общественного мнения.
(обратно)37
Персонаж комиксов издательства Marvel Comics; супергерой, обладающий магическими силами.
(обратно)38
Знаменитый автор детективов.
(обратно)39
Французская ежедневная газета леволиберальных взглядов.
(обратно)40
«Пока мы едины — мы непобедимы!» Дословно — «Единый народ никогда не будет побежден!» — песня чилийского поэта и композитора Серхио Ортеги, автора известной песни «Венсеремос».
Песня была написана как гимн левой коалиции Народное единство и получила известность в период президентства Сальвадора Альенде, а после военного переворота 1973 года стала символом борьбы за демократию сначала в Чили, а затем и во всем мире.
(обратно)41
Инициатор возрождения Олимпийских игр. Именно Пьеру де Кубертену принадлежит известное высказывание, что главное — не победа, а участие. Эти слова он произнес на открытии IV Олимпиады в Лондоне.
(обратно)42
«Либерасьон» — газета левого направления, «Юманите» — орган французских коммунистов.
(обратно)43
Речь идет об израильско-египетском мирном договоре, заключенном в 1978 году на саммите в Кэмп-Дэвиде (США).
(обратно)44
Джеймс Эрл (Джимми) Картер — 39-й президент США с 1977-го по 1981 год.
(обратно)45
Мухаммад Анвар ас-Садат — президент Египта с 1970 по 1981 год.
(обратно)46
Седьмой премьер-министр Израиля с июня 1977-го по 1983 год, лауреат Нобелевской премии мира. В декабре 1943 года Бегин стал руководителем подпольной организации «Иргун» и в этом качестве провозгласил восстание против английского мандата, начав нападения и террористические акции против английских войск, властей и учреждений. Англичане назначили за его голову награду в 10 тысяч фунтов.
(обратно)47
Дай на кофе.
(обратно)48
Герой американского телесериала «Даллас». В 1999 году TV Guide поставил его на 11-е место в списке «Ста величайших персонажей всех времен», а в 2004 году журнал Bravo включил его в список «Величайших злодеев всех времен».
(обратно)49
Героиня сериала «Даллас».
(обратно)50
Анри-Филипп Петен — французский военный и государственный деятель, маршал Франции (21 ноября 1918); видный участник Первой мировой войны. В 1940–1944 годах возглавлял авторитарное коллаборационистское правительство Франции, известное как режим Виши (официально — «Французское государство»).
(обратно)51
Валери Рене Мари Жорж Жискар д’Эстен — французский государственный и политический деятель, президент Французской Республики (Пятая республика) в 1974–1981 годах.
(обратно)52
Иранский политический деятель, лидер исламской революции 1979 года в Иране. Высший руководитель Ирана с 1979 по 1989 год.
(обратно)53
«Шма, Исраэль» — «Внемли, Израиль», еврейский литургический текст.
(обратно)54
Луи Даркье де Пеллепуа — глава Генерального комиссариата по делам евреев в правительстве Петена, который видел свои задачи следующим образом: «Нам нужно избавить Францию от евреев, от всех этих чуждых элементов, от полукровок, от космополитов». После войны сбежал в Испанию. Во Франции заочно был приговорен к смерти.
(обратно)55
Примо Леви — химик, писатель. Во время войны партизан, арестован в 1943-м, узник концлагерей, освобожден Советской Армией в 1945 году. Его книга об Освенциме «Человек ли это?» фактически ввела в общественное сознание проблему холокоста. По официальной версии, покончил с собой.
(обратно)56
Эли Визель — еврейский, французский и американский писатель и журналист, узник Освенцима, лауреат Нобелевской премии мира 1986 года.
(обратно)57
Защитный амулет в форме ладони, которым пользуются евреи и арабы. Другое название — «рука бога».
(обратно)58
Культовый фильм ужасов Стэнли Кубрика, снятый в 1980 году по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Главные роли исполняют Джек Николсон, Шелли Дювалл и Дэнни Ллойд.
(обратно)59
Имеется в виду правление президента республики Жискара Д’Эстена.
(обратно)60
В 1492 году король Фердинанд и королева Изабелла подписали указ, по которому все живущие в Испании евреи должны были либо принять католичество, либо в течение четырех месяцев покинуть страну, оставив всю собственность.
(обратно)61
Альбер Коэн — поэт, писатель, драматург. Вершина творчества трилогия — «Солаль», «Проглот», «Любовь властелина». За последний писатель был удостоен Большой премии Французской академии.
(обратно)62
Сабра и Шатила — лагеря палестинских беженцев, расположенные в Западном Бейруте. 16 и 17 сентября 1982 года, в период гражданской войны в Ливане и в ходе Ливано-израильской войны 1982 года члены ливанской фалангистской партии Катаиб, бывшие союзниками Израиля, провели здесь военную операцию по поиску и уничтожению палестинских боевиков.
(обратно)63
Армия обороны Израиля — вооруженные силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.
(обратно)64
Поль Бокюз — один из самых известных поваров ХХ века.
(обратно)65
Ультраправая националистическая партия Франции.
(обратно)66
Союз за французскую демократию (UDF).
(обратно)67
Татуаж хной.
(обратно)68
Гандура — туникообразная рубаха, которую носят под бурнусом. Тарбуш — феска.
(обратно)69
Умм Кальсум (1904–1975) — египетская певица, автор песен, актриса. Прославилась исполнением арабских песен.
(обратно)70
Так предначертано Аллахом! (араб.)
(обратно)71
Blackout — погружение в темноту (англ.).
(обратно)72
Марш получил название «Марш за равенство и против расизма».
(обратно)73
Панк-группа с очень откровенными политическими текстами.
(обратно)74
Пренебрежительное название арабов во Франции. Бёр перевернутое «араб» на французском сленге. Так стали называть всех выходцев из Северной Африки. В историю Марш вошел как «Марш бёров».
(обратно)75
«Бёр» по звучанию совпадает с французским «масло».
(обратно)76
Победа навсегда (исп.), парафраз известных слов Че Гевары «Hasta la victoria siempre!» — «До победы, всегда!»/«Всегда до победы!».
(обратно)77
Первые две рок-группы — британские, третья — австралийская.
(обратно)78
Острая приправа с чесноком.
(обратно)79
Закон Деваке проводили правые, предполагая повысить плату за учебу и отдавать предпочтение при поступлении в вузы выходцам из богатых семей.
(обратно)80
Агреже́ (фр. agrégé — партнер, принятый в общество) — ученая степень во Франции и франкофонной Бельгии, дающая право преподавать в средней профессиональной школе и на естественно-научных и гуманитарных факультетах высшей школы.
(обратно)81
Вооруженная исламская группа — террористическая организация, стремившаяся сместить светскую власть. Лидер Хасан Хаттаб.
(обратно)82
Не приемлющей обновлений.
(обратно)83
Имеется в виду война 1991 года в Персидском заливе между Многонациональными силами (МНС) во главе с США против Ирака за независимость Кувейта.
(обратно)84
Бенни Леви (1945–2003) — писатель, секретарь Ж-П. Сартра; Анри Фенкиелькро (р. 1949) — мыслитель, литератор, общественный деятель; Бернар-Анри Леви (р. 1948) — политический журналист, философ, писатель, его часто называют БАЛ.
(обратно)85
Институт политических исследований в Париже.
(обратно)86
Еврейское агентство для Израиля («Сохнут») — международная сионистская организация с центром в Государстве Израиль, которая занимается репатриацией в Израиль (алия) и помощью репатриантам.
(обратно)87
Дьедонне Маренькихбала-Мбала — афрофранцуз, актер, политический активист, антисемит.
(обратно)88
Известные французские актеры-комики.
(обратно)89
Организация Освобождения Палестины.
(обратно)90
Палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа (с июля 2007 г.).
(обратно)91
Школа для изучения иврита.
(обратно)92
Интифада — дословно с арабского «восстание», так стало называться движение палестинцев против израильтян.
(обратно)93
Французский актер, шоумен, продюсер марокканского происхождения.
(обратно)94
Французский продюсер, сценарист.
(обратно)95
Эли Семун (р. 1963), еврей марокканского происхождения, французский комик, актер, режиссер.
(обратно)96
Международная правозащитная организация, основанная в Великобритании в 1961 году.
(обратно)97
Военизированная шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
(обратно)98
Мясо, которое разрешено есть мусульманам.
(обратно)99
Доминик Стросс-Кан — французский политический деятель.
(обратно)100
Ликуд — правоцентристская национал-консервативная политическая партия Израиля.
(обратно)101
Боб Марли (1945–1981) — ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор. До сих пор самый известный исполнитель в стиле регги.
(обратно)102
Городская молодежь из самых низов, которые отличаются особой одеждой, музыкальными пристрастиями. То же, что гопник.
(обратно)103
Известный американский художник Энди Уорхол сказал: «В будущем каждый сможет стать всемирно известным на пятнадцать минут».
(обратно)104
Район в Париже.
(обратно)105
Сион — холм в Иерусалиме, по древней еврейской традиции, «веха», ориентир для возвращения. Сион стал символом Иерусалима и всей Земли обетованной, к которой еврейский народ стремился со времени рассеяния.
(обратно)106
Французский сатирический еженедельник. 7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции в Париже были убиты 12 человек, включая двух полицейских. По сообщениям СМИ, нападение произошло спустя несколько часов после появления в Твиттере карикатуры на одного из лидеров группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
(обратно)107
Нападение вооруженного террориста на супермаркет кошерных продуктов 9 января 2015 года в Париже, произошедшее спустя два дня после теракта в редакции газеты Charlie Hebdo. В результате теракта погибло пять человек, включая нападавшего.
(обратно)



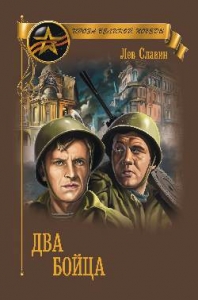
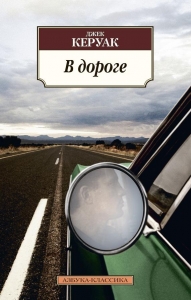







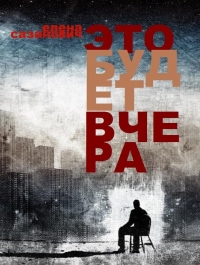
Комментарии к книге «Пока ненависть не разлучила нас», Тьерри Коэн
Всего 0 комментариев