ЮННА МОРИЦ
Рассказы о чудесном
Помойное ведро с бриллиантами чистой воды
Бывало, что ни напишу,
Всё для иных не Русью пахнет…
А. С. Пушкин. ДельвигуИван Соломонович Байрон, литературно-художественный и общественно-политический переводчик с польского, сложив руки замком на пояснице, пошёл летним вечером погулять в переулках чистого духа. И нашло его там помойное ведро с бриллиантами чистой воды. И было в том ведре бриллиантов с полкило или даже грамм шестьсот — на глазок.
На ведро это по ночам ходили очень крутые люди — по причине отключки туалета в особняке, где они ремонтировали дух Серебряного века. Но в силу исключительных обстоятельств и классического единства действия, места и времени, о которых можно строить в уме только бесчисленные догадки, — помойное ведро с бриллиантами вдруг спустилось из окна на землю посредством связки простыней цвета мокрого асфальта. Такая вот связка была продета под дужку ведра, и в миг его приземления она втянулась обратно в окно, как тихая лапша.
Ведро же, колеблемое изнутри разнообразным своим содержанием, стало двигаться колебательно вниз по улочке, скользкой после дождика в четверг.
Пешеход моментально понял, с чем он имеет дело, поскольку в последнее время второго тысячелетия его прямо-таки преследовали умопомрачительные успехи, неописуемое везение и процветание. На него после мерзости запустения и пустости замерзения вдруг обрушился ливень чудес. Он совершенно готов был к этому ливню давным-давно и заждался, претерпев содрогательно-долгие унижения и томительную безысходность в натуге своих образцовых трудов.
И вот, наконец-то, поделом ему, поделом — одно за другим сыплются на него чудеса, небо — в алмазах, в помойном ведре — бриллианты чистой воды.
Только вот люди в массе своей к этому времени стали ему противны и ненавистны, как тараканы, тошно ему глядеть на их мрачные, злобные, плебейские рожи, а уж речь этих рож — ну просто помойка. И хуже того, даже лет через двести не получится здесь никакая Великобритания. Велик обретания лик… Поэтому И. С. Байрон теперь постоянно читает в транспорте, чтоб не глядеть на людей и, заслонясь чтивом, их рожи не видеть, такая действительность в данный момент.
— Однако же мне вот лично небесами послано и велено распорядиться! — так помыслил в переулках чистого духа Байрон и с почтительной благодарностью взял помойное ведро с бриллиантами… Тем более надо сказать, что его удушливо крошечная с низкими потолками двухкомнатная квартира в кооперативном кирпиче середины века, в котором мы с тобой проживаем и который мы с тобой доживаем, драгоценный читатель, была битком набита роскошным антиквариатом с наших помоек, откуда Байрон собственными руками всю жизнь извлекал дивные вещи и сам реставрировал их с безупречным вкусом, сочетая шикарность, начитанность и въедливый педантизм.
Придя домой, он безотлагательно снял с полки, найденной на помойке, антикварный том, найденный на помойке и собственноручно переплетённый в сафьян с золотым тиснением, также найденный им некогда на помойке. Там была замечательная статья, разъясняющая подробно и толково, каким образом извлекают бриллианты из помойного ведра и возвращают им благородство «чистой воды». Не хуже нас понимая, что после выхода этого пособия прошло почти полтора столетия и с тех пор появились куда более современные средства и способы, всё же Байрон на них не польстился, а совершил свое дело, как было принято в старину, когда счастливые холопы светились духовностью, души не чаяли в барине, и совсем ещё не были тронуты никакой порчей ни язык, ни в массе людские лица.
Примерно через неделю изготовил Байрон полный список знакомых, чьи знакомые могут иметь знакомых, интересующихся бриллиантами чистой воды на предмет их покупки поштучно и оптом.
Очень многие немедленно захотели купить, но почему-то непременно в готовых изделиях — в кольцах, браслетах, серьгах, поясах, диадемах, гребнях, булавках, запонках, пряжках, кубках, обложках, рамах, биноклях, даже в спинках и подлокотниках кресел, даже в плитке для ванной, — а так вот, отдельно, в голом виде, никто не хотел. Но все они обещали быстро найти покупателей, полагая, что это как раз — проще простого и легче лёгкого, поскольку настали самые подходящие времена.
Бывало, кто-нибудь из дурно воспитанных спрашивал вдруг:
— А откуда у вас столько?..
Тогда незамедлительно Байрон им отвечал:
— Ну, видите ли, в силу известных вам исторических обстоятельств — не хотите ли чашечку кофе? — я в молодости долго скитался в краях, где этими камушками, завёрнутыми в кусок газеты, могли заткнуть бутылку с остатками водки запросто. Алмазы валялись там под ногами, как лимоны в Испании, часто ими платили за кой-какую работу, а я хранил их до лучших времен.
Месяца через два потоком пошли покупатели, брали помногу и по очень многу, большими партиями, стаканами, бидонами, ведрами. Но камней оставалось ничуть не меньше, чем было!..
И тут как тут Байрон вновь почуял себя неудачником, который на гребне своих чудес и небесных везений связался с адским кидалой и теперь обречен на сизифов труд, как в прежние времена, когда ничто не удавалось ему докатить до победного места и никак не мог он явить абсолютной и всем очевидной способности исчерпать хотя бы одну из своих проблем. Опять его изнуряло тупое чувство бессилия, унизительное мучение, бесконечно питаемое сосредоточенностью всего организма на единственной цели — увидеть конец, который делу венец.
Но чем больше он тратил времени, связей, трудов и фантазий на поиски покупателей и чем ниже спускал он цену, чтобы с этим делом покончить раз и навсегда, тем сильней и неотвратимей распирала его тоска и терзало предчувствие, что при его жизни это дело не кончится добром!..
Каждую ночь Байрон пересчитывал свои бриллианты чистой воды. Их было всё так же много!.. И ни о чём ином он думать уже не мог и не мог ничем другим заниматься, хотя на светских балах и приёмах ещё иногда шуршали восторженным шёпотом: «Вот Байрон идёт Иван Соломонович!..»
Порой ему жутко хотелось пройтись, прогуляться по той музыкальной улочке, где нашло его это помойное ведро с бриллиантами. Но портрет Федора Михайловича, который он некогда нашёл на помойке в шикарной раме, не отпускал его ни на шаг в ту сторону и прямо-таки приказывал ни в коем случае, ни под каким предлогом и видом не возвращаться туда и всячески обходить ту самую улочку стороной, делая крюк.
Тем паче тянуло его туда неотвратимо, адской волной толкая в спину, дыша в затылок и мелкой дрожью за ноги волоча. Ну прямо хоть из дому не выходи! И, чтобы пресечь эту порочную тягу и своё дурное безволие, Байрон решил отправиться в кругосветное путешествие. А куда деть нескончаемые бриллианты чистой воды на время отсутствия? Куда?!
Один очень опытный человек посоветовал ему взять бриллианты с собой, поскольку они в чемоданах не светятся ни под какими рентгенами, когда проходишь таможню, и не звенят, как металлы, и не пахнут они, как наркотики. Замечательная идея!.. Байрон взял их с собой в простом чемодане и решил путешествовать кругосветно, покуда не перестанет его тянуть на ту подозрительную московскую улочку.
Месяца через три Байрон опять расцвёл. Он совершенно избавился от пыточной тоски, сверлящего страха и панических наваждении. Байрон питался исключительно дарами садов, огородов и моря. Наслаждался Байрон музеями, театрами, пляжами, парусными лодками, особенно оперой и верховой ездой. В нём было очень развито чувство прекрасного, и он даже влюбился в одну гречанку, которую встретил в оливковой роще, а после — в лимонной.
Однажды вечером, когда было у нас раннее утро, Байрон пошёл погулять в переулках чистого духа на другом конце света, насвистывая «Сердце красавицы» и сложив руки замком на пояснице. Вдруг — из роскошного венецианского окна выбросилась связка простыней цвета мокрого асфальта, подцепила она Байрона за подбородок и втащила его целиком в окно, как тихую лапшу. Он даже не успел выдохнуть крик, он совсем ничего не понял, ну совсем ничего, — ему показалось, что он просто запутался в каком-то воздушном змее, запущенном для полёта с земли на небо.
— Чучело птицы стоит дороже птицы! — последнее, что Байрон услышал на этом свете, но от кого?.. От воздуха?.. Внимание, говорит воздух?.. Но воздух кончился.
Его тело нашли в заливе. Чемодан бесследно исчез. Труп его опознали по рукам, сложенным замком на пояснице, — и тело вернули на родину. Байрон страшно был одинок, но за его могилой постоянно кто-то ухаживает, там всегда стоит то самое ведро, но уже покрытое чудесной эмалью внутри и снаружи — и полное цветов.
Окно, из которого спустилось на землю это помойное ведро с бриллиантами, — я знаю, на какой оно улочке, но не скажу. Ещё не велено мне раскрывать вам и эту дивную тайну. За тем окном уже полностью отремонтировали дух Серебряного века и плюются через балкон. Каким-то чудесным образом к ним попал во владение музыкальный диван, найденный Байроном на помойке. Каждый час он поёт, этот диван, и слыхать его во все концы света.
Ножницы
Это была не лютая ненависть. Это была любовь без взаимности.
Волчья их самоценность в их зверской психике равнялась моей жизни, но только в одном с ними замкнутом пространстве, которое в данном случае катилось по рельсам пригородной железной дороги и звалось электричкой.
Окажись я в любом другом месте, а не в их поле зрения, тогда бы их волчья стая вовек не узнала бы, ни сном, ни духом бы не учуяла, что я вообще физически существую, — а любое существование можно физически уничтожить, если оно физически того стоит. Чистая физика, чисто физическое удовольствие и наслаждение.
Когда они завелись проиграть меня в карты, до моей остановки было еще три перегона. Нет-нет, я категорически отказываюсь уестествлять похотливую жажду деталей и описывать все эти волчьи морды, туловища, ножи, телодвиженья, их волчью речь, волчьи позы, волчьи оскалы и волчий обмен веществ.
То же самое, но в другом пространстве, на сцене, в декорациях электрички, мчащейся по расписанию зрелища, было бы вовсе не тем же самым, поскольку значения вылупляются из яиц общего места, температура которого зависит от физики случая.
Кстати о яйцах… Из-за них моя ноша физически была тяжела — как чугун.
Книги, электроплитка, свекла, картошка, капуста, яблоки, сыр, две банки консервов, мыла четыре куска, детский горшок, и в нем на салфетке — белые яйца, десять, боюсь их разбить, оттого и такая тяжесть.
Волчья стая глядит на меня в упор, а все остальные — в окна. За окнами овцы щиплют вечерний луг и, как заводные, автоматически кланяются траве, словно кто-то из-под земли дергает их за нитки. Электричка летит вперед, а заоконная физика превращается в зрелище, которое с бешеной скоростью мчится в обратную сторону.
Те, кто меня проиграют и физически уничтожат, — они съедят мои яйца и яблоки, а книги сдадут в магазин на Арбате. Там я живу, и там их поймают, на моих словарях есть мета, и потянется быстрый след. Мне кажется, что сердце мое колотится слишком громко и всем это слышно. Делаю вид, что это колотится электричка, колеса о рельсы колотятся, двери в тамбуре и мало ли что… Гляжу на все хладнокровно, с невозмутимым спокойствием, с полным отсутствием всякого здесь присутствия, — меня вообще тут нет.
Те же самые волчьи внешности, внутренности, образ речи — в магазине, в аптеке, на почте, да всюду, где не катится этот кошмар на колесах.
И, пока он не катится, как-никак там-сям ты с ними здороваешься, улыбаешься им, помогаешь по мере сил и возможностей, кого-то спасаешь, но вдруг наступает миг, когда одни тебя в карты проигрывают, а все другие глядят в окно. Классика общего места, драматургия принуждения к подлости, бездействующие лица и исполнители, планетарная пьеса.
На остановке входят четыре пары, чуют паскудство жизнеопасное, быстренько так садятся и так быстренько отворачиваются, уставясь в окна, словно там уж кино началось, на которое они опоздали.
С одной стороны — волки, с другой — овцы. С одной стороны — ржанье, с другой — тишина гробовая. А я — между ними. В узких кругах широко известные личности в карты проигрывают мою драгоценную жизнь, единственную… И ножичками друг с другом меряются — у кого длинней.
Если я двинусь в другой вагон, к машинисту поближе, там, быть может, милиция. Но тогда мне придется, уходя, к ним повернуться спиной, а это — погибель. Они только того и ждут, спина беззащитна, там нет лица. Африканец в повязке набедренной не мерзнет в своих краях, там везде у него — лицо, а на лице не носят одежду.
— То, чего ты боишься, — сказал мне когда-то Солнечный Ветер, — случится не скоро. Если что — обращайся!.. Ты знаешь как.
Солнечный Ветер, в данный миг я вижу тебя в Бомбее, на книге твоей нарисован ботинок в клетке для птицы. Ты прилетал, когда моя мать поломала бедро на девятом десятке и светила науки сказали, что жить ей осталось дней сто. А ты ей сказал, что мы не ногами ходим, а ходим мозгами. Надо закрыть глаза, увидеть любимую улицу или тропинку и долго-долго ходить, там гуляя, своими ногами. А если устанешь, надо увидеть или поставить там же скамейку, на ней отдохнуть и снова ходить, и нога срастется, нога не забудет, как все это делается. Она и срослась, и жила моя мать еще лет восемнадцать.
Солнечный Ветер, здесь в электричке волчья стая меня проиграет в карты, а до моей остановки — два перегона.
Солнечный Ветер мне из Бомбея навеял: возьми удобные ножницы, остались которые дома, и очень медленно, аккуратно, без дрожи и страха отрежь тот кусок пространства, чтобы все они сделались плоскими и загибались назад головами, покуда совсем не свернутся в бумажную трубку, словно обои.
У меня на Арбате такие большие остались ножницы, с ушами зелёными. Да вот они — на подоконнике, вижу, вижу, беру!
Режу снизу — так медленно, так хладнокровно, без дрожи и страха. Вырезаю слева кусок пространства, и сверху, и справа. Эти туловища углом загибаются, все на одну сторону. И сами в трубку сворачиваются.
Тут хотя и нет никакой остановки по расписанию, но из тамбура входит мужской человек, садится ко мне лицом и открывает деревянный сундук с инструментами, а там чего только нет!.. И камни точильные, и огромные гаечные ключи, и топорик, и молоток, и железный ломик неимоверной прекрасности.
— Давайте я наточу вам ножницы! — говорит мужской человек. — А у вас огонька прикурить не найдется?
— Меня сейчас проиграют в карты! — глазами ему говорю, зажигалку давая.
Как только он закурил, электричка остановилась, подпрыгнув с громыханьем и скрежетом. Волчья стая, трубкой скрутясь, со всеми своими ножиками слиплась и покатилась на пустую платформу, в черноту с фонарем. Чернота была там неизвестного происхождения, поскольку во всех остальных окрестностях глубокая ночь еще не наступила.
Минут через двадцать мужской человек защелкнул сундук с инструментами и взял мою ношу с белыми яйцами в детском горшке.
Выхожу я на станции, любовь моя ждет под каштаном, качает корзинку с ребенком. Мужской человек на прощанье дарит мне карманный фонарик, свет которого так слепит, что подонки с мерзавцами падают в обморок.
А мать еще скажет сквозь дрему: — О Господи, где ж тебя носит?!. Мне снилось, что катится колесо, ножами утыканное…
Вы никогда не видели, как в глубокой ночной темноте по лицам спящих людей текут сильными струйками синие искры? На щеках завиваются эти струйки, подобно древесным кольцам. Там, где у нас две главные складки улыбок, две струйки текут под таким напором, что кажется, если бы не они, не эти потоки, — лицо наше было бы гладким, как маска из, например, фарфора.
А с кончика носа, любого и каждого, всякого, эти синие искры сыплются вниз фонтанчиком. Остальное — не менее поразительно, сами увидите, читая данное Книготворение и Рисункописание.
Кто?
Звукопечаткин.
Когда написано?
Всегда написано.
Где?
На Гдереве.
Конец связи
Цветы моей матери
Инструмент назывался булька. Булек было четыре, с шариками разных размеров, в зависимости от лепестков грядущего цветка.
Из чего и как получалась булька? Отливали металлический стержень с шариком на конце и ввинчивали это орудие в круглую деревяшку — за неё и только за неё можно было хвататься руками. Собственно булькой был тяжёленький шарик на металлическом стержне, его забуливали в печной огонь, в горящие угли, в пылающие дрова, секунд через тридцать-сорок выдёргивали из пламени, а потом, нажимая на деревянную ручку, вдавливали раскалённую бульку в плоские лепестки цветка, в цветочную выкройку из мелкого лоскута. Лепестки становились от бульки выпукло-впуклыми, их чашечки шелестели.
Цыганской иглой делалась дырка, в дырку вдевали стебель, получались малюсенькие цветочки. Шёлковой белой ниткой их вязали в букетики, крепили к ромбическим картонкам, сдавали в артель художественных изделий. Изделия эти в одна тысяча девятьсот сорок третьем году были писком западной моды, воюющая отчизна сбывала их за рубеж, где носили эти цветочки на платьях, пальто и шляпках.
Три раза в месяц мы с матерью получали в артели отрывки-абзацы-фрагменты-лоскутья застиранных госпитальных простыней и наволочек, моток тонкой проволоки цвета червонного золота, банку вонючего клея, две-три краски, огрызки картона, раз в месяц — широкую жесткую кисть, десять шпулек белых шелковых ниток. Из этого получалось сто двадцать пять стаканов чудесных цветочков. Их кроила, красила и доводила до ослепительного изящества моя прозрачная от голода мать. Я же при ней работала только булькой, наловчась выдёргивать инструмент из раскалённых углей, было мне шесть лет.
Потом сразу кончились война и эти цветочки. Мы сели в деревянный вагон и поехали домой. Месяц ехали, полмесяца стояли — всюду реки беженцев, все домой текут. Покуда стояли, костры жгли, мы с матерью достали бульки из мешка, цветочков понаделали, выменяли на мятый медный чайник, на целые сандалики, отцу — на махорку, всем — на три кило пшена. Жены снабженцев брали по пять букетиков, мода из Европы докатилась.
А дом-то наш тю-тю!.. Другие в нём живут по ордерам, такое вышло историческое свинство. Опять же Высший Разум бессердечен, в том смысле, что не имеет человеческого сердца, и в этом плане он бездушен, ни добр, ни зол, ни порчи тут, ни сглаза, ни проклятья родового, а просто одна действительность другую отменила — и всё. За что? Да ни за что. Погода вот такая.
Бульки завернули в байку и забыли. Мода на те цветочки отвалила, все поэты их разоблачили: мол, мы — естественные, а вы — искусственные, мы — Божья искра, а вы — дешёвка, пошлая поделка, мы — благоухаем, а вы — барахло. Яснее ясного. Против лома нет приема даже в штате Оклахома — такие вот свежие мысли.
Шесть лет мне было, а стало шестьдесят, а матери моей — девяносто семь, и она уж меня совсем не узнавала. Держала где-то в памяти сердечной, в поле внутреннего зрения, а внешним зреньем узнавала только старшую дочь, мою сестру. И вдруг говорит:
— В обувной коробке. Восемь букетиков. Бульки помнишь? Коробка во-о-он там…
— Бред! — я подумала шёпотом. — Сущий бред! В последнее время она разговаривает с давно умершими — с матерью своей, с отцом, с бабушкой, с дедушкой, с братьями, сестрами, живёт в своей далёкой молодости, бурно до отчаянья переживает какие-то события, забытые давным-давно и вдруг теперь отмытые, как стёкла, в её остранённой памяти. Сейчас вот ей мерещатся восемь букетиков, бульки…
Уронив голову на плечо, сухонькую свою головку на сухонькое плечико, мать всхлипывала в дрёме. На всякий случай заглянула я туда, где привиделась коробка ей с цветочками.
Была там коробка, была!.. Перетянутая вишнёвой узенькой лентой. А там внутри, на вате одна тысяча девятьсот сорок третьего года, лежали малюсенькие, хрупкие цветочки подснежника, ландыша, яблони, садов и лугов, лесов и оврагов. Восемь букетиков, сверкающих свежестью, трепетных, нежных, шевелящихся от воздуха, света и человеческого дыхания.
— Можешь их увезти, если хочешь… Если они там ещё не увяли. Это тебе от меня наследство. Такая маленькая чепуха на память.
И она постаралась мне улыбнуться, кулачком утирая постоянно текущие слёзы. Истекало время её жизни, текли наяву мучительные видения: какой-то младенец, казалось ей, серебрился на краю постели — она боялась, что он разобьётся; какие-то войска входили через балкон и мимо неё проносили своих раненых; младшая дочь плохо переходила дорогу с трамвайными рельсами…
Родилась моя мать в Рождество, душа ее возвратилась к Творцу на Спас. Имя её в переводе на русский означало Нежная. Она была столь красива, что все на неё оглядывались. И две её девочки, мы с сестрой, росли в особенном свете сладостной славы, с детства слыша вослед: — Это — девочки той красавицы…
Всякий день моей всякой жизни овеян благородным происхождением от изумительно красивой матери.
А сегодня её цветочкам — пятьдесят пять лет. Кто носил эту прелесть в одна тысяча девятьсот сорок третьем году? И за каким рубежом?.. Мода на эти цветочки плыла над широкой кровью, делали эти венчики из госпитальной рвани, много пели при том, песня — она обезболивает. А как начнёшь засыпать на ходу от голода и печного жара да хватать раскалённую бульку за железо, за шарик голой ладонью, — так будешь петь нескончаемо, неизлечимо.
Марс и Энгельс Упорнографическая история
«Ты будешь видеть то, Чего никто!..»
Ю. М.Есть ли жизнь на Марсе?
Есть. Две. Марс и Энгельс.
Конец связи
Марс и Энгельс прилетели.
… у них тут лекция:
«На Марсе жизнь есть, а на Энгельсе — нет».
Конец связи
Марс и Энгельс пришли к отвязному неформалу Гоголю а Деньрождень.
А Гоголь ушел в себя и вернется оттуда к Пушкину, в Африку гулять!..
От тоже думает, что Марс и Энгельс — это воздушные шарики!..
Марс и Энгельс за работой над трудом «Кошмарс, кошмарсиане и кошмарсианство.»
Не стучать! Не входить! Небес покоить!
Марс и Энгельс в зоопарке
Если нет попутного ветра, они валетом спят на скамейке в ожидании перемен, а Марс часто спрашивает во сне: «Энгельс, я тебе не мешаю? Тебе удобно?»
Марс и Энгельс превращают связующую нить в цветочки, в снежинки, в звезды и в алмазы, во что угодно. Мастер-класс даёт связующие нити.
Скажи у входа, что ко мне. Получишь нити высших связей.
Мастер-класс «Связующие нити кипятка».
Марс и Энгельс легко проходят фейс-контроль, наладив производство лиц, как производство облаков.
Марс и Энгельс в стране, где один народ убежал весь в леса, а другой в горы, и больше некому качать пиво из космоса.
Марс и Энгельс ходят по лезвию ножа и доходят до ручки, работая над трудом «Миф и легенда — как пенсия для героев, павших в борьбе с троянским конём».
Здесь лето, а Марс и Энгельс шьют себе зимние брюки.
сногшибательные, восхитительные
Марс и Энгельс для полной неузноваемости носят дамские шляпки и притворяются воздушными шариками, чтобы лучше выглядеть.
Энгельс часто спрашивает Марса: «Тебе налить?..»
Марс и Энгельс сбрасывают партизанам в космос кофе и булочки с бубликами, сбросят еще и рассольник с киевскими котлетами.
Марс и Энгельс заводят часы, на Энгельсе появляется жизнь, а на Марсе она исчезает.
Конец связи
Когда на Марсе исчезла жизнь, а на Энгельсе появилась, они стали два сапога — пара. И Марс у Энгельса часто спрашивал: «Ну как жизнь?..»
Марс и Энгельс вышли в море
Когда нить мысли успевает охватить самое главное, Марс и Энгельс поют морские баллады и работают над трудом: «Гоголь — отвязный неформал».
Марс и Энгельс, их жены и свободная любовь.
Конец связи
Марс и Энгельс повязали бандита, который хотел их зарезать битой бутылкой — «розочкой», если кто не знает, как это смертельное оружие называется. Да, вот так!..
А бандит притворился, что он — продавец воздушных шаров и что битая бутылка — это духовой музыкальный инструмент. Да, вот так!..
Марс и Энгельс после труда над работой «Понимание движущихся сил».
У Марса и Энгельса пикничок на лугу, они обсуждают: что хуже?
когда народ безмолвствует или когда народ отсутствует?!
Рука помощи
Кастрюлька-ядоварка обожает на Марса и Энгельса доносы варить по 100 у.е. за штуку. А Марс и Энгельс дают ей пищу для этих доносов, рисуя такую веселую пищу в полёте связующих нитей. И говорит им кастрюлька-ядоварка человеческим голосом: «Все доносы варятся из нарисованных продуктов. Везде и всегда».
Конец связи
Марс и Энгельс показывают как хватают звёзды с неба.
Марс и Энгельс вдохновляют и показывают — как!
Наглядное секретное пособие.
Марс и Энгельс идут не сюда, а туда, где конкурс на лучшую мужскую грудь.
Марс и Энгельс превратились в очки, выступая на вселенском Конгрессе с докладом «Секреты превратительных сил».
Пролетая, зацепились нечаянно за памятник культуры.
У Энгельса оторвалась связующая нить, и Марс его спасает, они летят купить катушку крепких связей.
Бес Комментариев и Гомопьютер
Марс и Энгельс в работе над трудом: «Бес Коммертариев и Гомопьютер»
Здесь у Марса и Энгельса сердечный приступ от новолуния, образа жизни, парада планет, солнечного затмения и геомагнитной бури.
Спазмы связующих нитей.
Марс и Энгельс отдыхают!..
Марс и Энгельс спят и видят
Бумага для упаковки сыпучих
продуктов — 110 г/м2
Марс и Энгельс иногда показывают разное время, особенно на вокзале, где в данный миг я пишу об этом упорнографическую историю на бумаге для упаковки сыпучих продуктов, потому что все чудеса сыплются с неба!
Памятник Марсу и Энгельсу из материи связующих нитей.
Опущение человека
Это было так же неуловимо, как несомненно.
Гайто Газданов. Ночные дорогиПрофессор небесных наук, декан факультета Луны сначала сошёл на нет, а потом — с ума. Но в данный момент на базаре, где продаётся данный момент, он всё ещё кормится, то есть жив. А поэтому ни за какое вознаграждение, ни под пыткой, ни под гипнозом, ни под шляпкой грибного напитка, ни при каких обстоятельствах не могу сообщить его имя с фамилией.
После поражения наших доблестных войск под Фуфлоо, как только Родина-мать сказала ему «большое спасибо» и прекратила давать небесные деньги на лунные и марсианские «заморочки», как теперь называют у нас космическую агрессию Земли, — его тут же пригласили продолжить лунное дело и всяческое развитие небесных наук во многих упитанных странах, где непременно без унижений имел бы он всякое благо с почётом и премии с орденами подвязок и легионов, не говоря уж о мантиях с прибамбасами.
Но, драгоценный читатель, есть ещё, есть люди, по детской своей простоте не утратившие почти религиозное чувство страха-ответственности за большие секреты и взлёты отечественной в прошлом науки. Мой профессор таков, и чувства его таковы, и они совратили его на скользкий путь научной неподвижности в масштабах планеты, а научная неподвижность такого масштаба как раз порождает жуткую беготню и метание.
Профессору было пятьдесят лет, и у профессора было пятьдесят денег. В одном конце города он купил нечто за пятьдесят денег и помчался в другой конец, где продал за сто денег. Так поступил он тридцать один раз, и получился у него маленький капитал. С ним профессор отправился в Китай и обратно, нечто купил и продал. Так поступил он двадцать один раз, и получился у него капитал более путешественный. С ним профессор отправился в Турцию, в Индонезию, в Шри-Ланку, в Арабские Эмираты, в Тунис, в Мексику, в Бразилию, в Японию, в Корею, нечто купил и продал. Так поступил он сто сорок шесть раз, и получился у него капитал во всех странах, куда его приглашали продолжить лунное дело и всяческое развитие небесных наук.
Мало-помалу дети профессора подросли в интернатах на лоне швейцарских гор и озёр, альпийских лугов, потом он отправил их в Англию учиться банкирскому делу, а сам из российских сугробов надзирал за тем, чтоб его капиталы вертелись круглые сутки, мотаясь на катушку судьбы.
И, конечно, за двести пятнадцать раз в течение каких-то пяти-шести лет познал он такие секреты, в сравненье и рядом с которыми прежние, накопленные за тридцать лет научной сверхтайности, были детским лепетом и чепухой, — тем более что наука Луны закрылась у нас лет на сорок, покуда бананы не придут в каждый дом.
Не шатался он по ночным клубам, ресторанам и казино, не светился в шикарных автомобилях, не соблазнялся любовными чарами и эропланами, иногда ходил в оперу. Но вот ведь какая пагуба крылась, однако, до поры до времени в его избирательно-пристальном взгляде на городской пейзаж, и вот ведь какой штык выскочил вдруг из этой пристальной избирательности, чтобы всю его жизнь проткнуть и выпустить сок из неё безвозвратно, — о том и речь…
Как только закон разрешил всем богатеть, на улицах появилось несусветное множество нищих для постоянного там проживания и пропитания, и были они пьяные, наглые, вызывающе мерзкие, в театральных лохмотьях, в отвратительных позах, с гнусными гримасами, с культями и язвами напоказ, но даже калеки производили на него впечатление совершенно трудоспособных паразитов и спиногрызов общества. От тика их лица тикали, часто моргали…
Стал профессор Луны к ним приглядываться, прогуливаясь по вечерам перед сном. И вдруг нашло на него наваждение, будто все эти нищие на самом-то деле работают на сеть иностранных разведок, жрут лососину и хлобыщут пиво голландское, кому-то подмигивая, подавая шпионские знаки и даже записочки, которые в шапках и в картонных коробках лежат у них на земле вперемешку с деньгами, маскирующимися под милостыню.
Луна ведь такая вещь — от неё легко не отделаешься, влияет и притягательна. А летом, бывает, ещё светлым-светло, а серпик уж виден, светится весь насквозь. И под серпиком наглые нищие побираются, сиднем сидят без напряга, поют или молятся, взглядами душу пытают, а могли бы в Китай счелночить, товару навезть, оборот делать. Нет же, наклоняются к ним какие-то типы, весьма подозрительные, деньги дают добровольно — а за что?!
Так подумал он шестьдесят пять раз и сошел с ума, с одного ума сошел на другой, стал по ночам в центре города у самой роскошной гостиницы с самыми роскошными ресторанами выть на Луну.
Проходили мимо ночные цветы, на работу они надевали короткое, погладили профессора небесных наук по седой головке, положили ему на колени панамку из белого хлопка, а в панамку — пятнадцать денег тремя бумажками. С тех пор многие мимо прошли, и так же они поступили четыреста тридцать два раза. Если можешь, подай в благодарность за то, что не ты опустился. Ведь опущение находит на человека и при совсем здоровых ногах-руках, и при великих деньгах, и при наглой роже паразита — в особенности. Радуйся, что тебя миновало. Радуйся, что тебя миновало сто тысяч раз.
Вчера ему ясно привиделось, как мимо проехал на велосипеде Циолковский тринадцать раз и, тринадцать раз снимая шляпу, сказал:
— Эх, вы, профессор Луны, тить вашу мать!..
Но не Циолковский то был, а самодеятельность на роликовых коньках.
Переезд через храницу
I. Таким образом
Конец декабря, метель, гололедица, жаркий полдень, мороз припекает, вишня цветёт, яблоня, клубника в самом разгаре, скоро персик взойдёт таким образом, надо бы к меховым сапогам приделать колёса да большие карманы — пищу носить, товары, плоды, пистолеты, кастеты, кассеты с артистами пения, таким образом, кончились авоськи, сумки на пузе, опять в моде шляпы с полями и фруктами, шёлковые панталоны с брюссельскими кружевами навыпуск поверх меховых сапог, таким образом новое веет свежестью.
Света Федорова звонила, у них свежо таким образом, моргуша прошла — ток вырубился, таким образом круглые сутки нет электричества, при свечках живут, в кране воды никакой, батареи не топятся, сдох телеящик, также утюг, местами нет газа, таким образом варят борщ на костре, кирпичи раскаляют — кладут под кровать, китайский народный сугрев таким образом, восточная мудрость.
В три утюга угольных под чугунную крышку с зубьями, таким образом, мы насыпали толстых свечек и послали туда им поездом с проводником, теперь они там утюгами с пылающими углями размахивают — таким образом отапливают жилплощадь, но от ветра махального гаснет всё время свеча таким образом в туалете, зато — место курортное, море у самой кровати за тумбочкой, а за окнами тыква уже налилась помидорами и кукурузой, которая там называется пшёнкой, а по-испански маисом, таким образом главное — не сидеть на пляже без головного убора, чтоб удар не случился, а то ударит мороз и таким образом трубы лопнут, а трубы лопнут — лопнет орган терпения, лопнет орган терпения — лопнет мыльный пузырь, и все прозрят таким образом, что наелись обманной каши.
Вот именно в этом месте у чёрта из табакерки, который вечно путает высшее начало с высшим начальством, таким образом происходит концепт и подъем вожделения, он копытом заводит чёртову мельницу, таким образом Иван Грозный в памперсах ежесекундно убивает одного и того же сына, у леди Макбет колосится пятая грудь, и таким образом от воздержания снайперы с небоскрёбов совокупляются с населением через дуло — пулями достают и кончают…
Таким образом, зимой на Сицилии, где мафия, ветку срываешь — и вся она в мандаринах, в мандаранчо, в мандолинах, это же там под ногами валяется, на мраморной вилле — промозглый холод, но опять же мафия растапливает камин и кладет поленья лимонные и пускает в растопку апельсиновый хворост, на зеркальной террасе любуется — как там Этна у них извергается, таким образом по черному небу изгибно летят кровавые волны, катится лава в Бычью долину, сперва без единого звука, даже не в тишине — тишину было бы слышно, таким образом только потом вдогонку, на девятом ударе сердца — жуткий взрыв, раскаленный выдох, рёв, грохотание, огненная бомбёжка, стоны из адской плавильни, швыряющей пламя вертящихся глыб, кошмарный полив населённого пункта, всеми покинутого, таким образом, в должный час все возвратятся собирать застывшие, затвердевшие, чёрные слёзы Этны, смолистые камушки, обсидиан — от сглаза и порчи в постелях, в торговле, в министрах, — нам бы ваши проблемы, вам бы наши, бы вам бы наши вампы…
Таким образом, когда ничто не меняется, — каждый день всё другое, с «Подлинным сертификатом фальшивости», по-ихнему «certificato di falso d'autore», искусство подделки, его виртуозы и небожители, таким образом, зона общего наркоза, пробковые стены, никакой боли, небожители в бинтах с дырками для крыльев сидят на горшочках, нектар и амброзия, смотрят кино таким образом «Наполеон перед битвой спал со своей армией»… Жара, таким образом, гололедица, мумии впадают в безумие, пыль столбом, взятка словом, иней на кобыле, орган всеобщего ожидания, таким образом дают комариные брови в сметане, Гамлет на колёсиках едет без очереди… Не бывает рынка без крови в мясных рядах — о знал бы я, что так бывает.
Таким образом, оборзеватель событий, эропланы, полет жвачки — внимание! — мы в кривом эфире, голо суй или проиграешь, митинг, шопинг, ужинг, дружинг, балетинг, думинг, грёбинг, здесинг такоинг допинг — инглишем ингаляция, таким образом, идуинг я брать трамваинг, завываинг собакинг в метелинге, мой изви-линг обалдеваинг и раздеваинг с тобоинг в постелинге, таким вот чудесным образом, мой улыбинг встречает в народинге за песнинг мой в переходинге кой-какоинг все-таки денинг, и тогдаинг я покупаинг хлебинг, чаинг, редискинг, морковинг, и еще на виноинг хватаинг в переходинге мне за любовинг, таким образом, говорит живая легенда полуживой легенде о разврате мёртвой легенды, и глаз крокодила плывёт по реке, на кенгуру катается птичка, а у лошади уши — листьями, такая раздача различных видов уполномоченности.
Чтобы зло окончательно победило, с ним надо бороться, поэтому у хорошего человека — лицо корявое, как жизнь. Таким образом — в силу священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости, — причём вздохи преобладают, как тонко подметил друг детства О! Генри!.. Корабль задержавленный «пошел на иголки» в полтора часа ночи, таким образом да здравствует меньшинство, у которого большинство денег, таким образом главное — ускользнуть в ту самую пробоину, которую тебе сделали, нам это — как в два пальца свистнуть, как взять до вокзала автомобильку, если необходимочка.
Таким образом расцвела в сугробе сирень, кит Аец плывёт, на мраморных подоконниках поют соловьи в горшках, голая правда выпала из белья, таким образом, высоко в гнезде на яйцах сидит независимый авантюрист — скоро будет навалом битой жар-птицы, таким образом климат резко улучшился, многие лечатся свежим воздухом на строительстве кенгурятников, бегемотников, жирафников, антилопников, таким образом, у нас лучше всего думают раненой головой, и уже в газетах полно таким образом объявлений «Иностранный язык по методике ЦРУ». Таким образом и у них наверняка уже в газетах полно объявлений «Русский язык по методике КГБ». Вот и кончились метели, табуретки прилетели, на ветвях поют слоны…
Зато у нас таким образом теперь хуже Бродского пишет только ленивый, и теперь все поэты делятся на тех, кто пишет, как Бродский, и на тех, кто пишет, как Бродский — но лучше!.. Особняком же чудесным стоит плеяда, таким образом, звёзд — Пригов и приговня, как называют их мерзопакостные завистники, всякие хамы и неудачники, своего места не знающие, таким образом, тут самое место напомнить им, что — пора уважать «наше всё», в данном случае — абсолютно неисчерпаемый приговновый мир, чудесным образом превосходящий все ожидания чего-то ещё, — в другой бы стране быстроходно учредили бы Приговнобелевскую Премию, но и мы до неё доживём, всё ещё — впереди, таким вот чудесным образом — почему бы и нет?..
Зебра жужжит над вареньем, что едет на крыше трамвая под мостом, где грохочет поезд, а ты ничего не знаешь о свойствах серебряной пули, она — волшебная, таким образом ей проще простого отвести от нас наихудшее. Господи, дай нам всем благоприятный диагноз — и больше мне ничего не надо ни для самых близких, ни для себя. Мастер Олег отливает пулю из чистого серебра, птичка Божья на пулю какает с неба, таким образом получается талисман, ношу его на шнурке от ботинок — вместо ботинок, на босу грудь.
II. Всякий раз
— Храждане! Переезд через храницу, проверка документов, просыпайтесь, одягайтесь, похраничная застава!
— Эй, у в голове поезда, вам помощь с хвоста не надо?.. Голова! Голова, у вас всё в порядке?
— Хвост, хвост, как меня слышно?.. У в голове поезда всё в норме!
— Хражданочка, валюту везёте?
— Везу, а как же!
— Какую?
— Рубли.
— Можете мне это не показывать, лягайте, доброй вам ночи.
— А министр говорит: «Я этот пиловочник вывезти никак не могу, солярка вскочила на матерный процент, так что вы продайте пиловочник на дрова населению и сами себе зарплату сделайте, а все отходы спалите и по домам разбегайтесь». Вот какое они в тайге уничтожение производят, падлы!
— Пись-пись-пись, моя рыбонька…
— Я, значит, обстановку закупил и сгружаю. А два шкафа подходят и спрашивают: «Вам охрана нужна?..» Звоню Алику: «Тут ошмётки твои липнут мне промеж ног!» Алик мне говорит: «Давай их сюда в трубку». Берет один шкаф трубочку, ухом к плечу её притоптывает и балабочет: «Так мы ж с предложением только… Шеф, ну шеф, понято, понято!»
— Хражданка, почему у вас едет другая фамилия, чем в паспорте?
— Сосед брал билет.
— Сосед?.. С вас штраф 15 (пятнадцать) тысяч.
— А у меня нету.
— А что есть?
— В каком смысле?..
— В смысле товару лихвидного.
— Чайники.
— Ну вот, чайник сгодится. С вас два чайника.
— Говорит хвост, хвост говорит!.. Голова у в поезде, у вас всё в порядке?.. Кончай проверку, кончай, голова!
— Тася, Тася, тут черный просится. Брать или не брать?., за хохлобаксы.
— Не, за хохлобаксы — не… Бери только за валюту. Может, он спидный.
— Ну так вот, я приезжаю, а жена — мертвая, и две малых дочки в осадке. Какая уж тут личная жизнь?.. Дом продал, детей в поезд — ив тайгу трактористом. Вот на руке у меня наколочка «МУСЯ» — так это она, супруга моя законная… А так за двадцать лет — никого, ни-ко-го, один пиловочник.
— Эй, там у в хвосте поезда!.. Хвост, хвост, ты меня слышишь?.. У в голове проверка закончена, всё в норме, голова сейчас тронется. Вы готовые?..
— Мы уже готовые!
III. Почему бы и нет…
Столб напивался жутко, в одиночку и всякую ночь, но полемикой не злоупотреблял, а тихо клонился набок, путаясь в проводах и два фонаря закатывая под жестяные веки, потом по земле катался с тройным проворотом — и душа его нежная от бревна отлетала, а бревна древесина дрыхла на берегу станционной лужи. Тогда вырубался свет и врубался тать:
— Эй, светоч, дай закурить!
Живность, которую тать назвал светочем, подрагивала в румынской ветровке и ртом дышала в подкладку, одноглазо поглядывая на светофор в ожидании электрического поезда.
У татя был общий вид. Шел он рогом вперёд, вихляя всей анатомией, как экспонат скелета на большой перемене. Тать презирал дистанцию, — подходя, упирался в жертву всеми выпуклостями и впуклостями, выдыхая серу и водород. Вот, мол, я — гноище мира, тараканище Сатаны, а лицо твое мызгаю и душе твоей делаю опущение.
На самом-то деле никто, думал тать во глубине своих руд, никто по особой нужде не грабит, не убивает и не калечит, а только по вдохновению и для полной реализации скрытых возможностей, тогда — исключительный катарсис и благодать.
У татя, само собой, — жуткое детство, в том смысле, что всем существом, внутренностью и внешностью, он тащит пожизненно весь детский кошмар гляденья в дохлую кошку, в яму дворовой уборной, в промежность летящего поезда, в кровосток скотобойни, — почему бы и нет? Мало ли здесь таких заглядений?.. А глаз у татя — что чешуи на рыбе, весь он ими, глазами да глазками, густо покрыт.
В данный момент никакого нет у него вдохновения мучить живность в румынской ветровке, стращать и куражиться, дым ей нагло вгоняя в нос, дым от её же курева дарственного, дармового и, дабы уж всем подряд угодить, халявного. Но вдруг спинными глазёнками видит тать вдалеке некоторый предмет загляденья: эропланка близится вызывающая, лаковыми копытами цокающая, идущая по собственным волосам, которые растут из последнего вагона глухой ночки. Вот она уже вся на платформе, воздух понюхала, ухо к земле приложила и чует — нет, не идет электричка. Тогда нажала она на груди своей эрокнопку, вызвала эроплан и на нем улетела, шляпой лицо накрыла, и были у ней на шляпе цветочки с коленками.
Гнида и маленький
Биологичка по прозвищу Гнида хотела по-маленькому, а Маленький очень хотел по-большому. Он всего лишь просился на пять минуток в отлучку, но Гниде моча ударила в голову, а это сильно способствует приливам творческих вдохновений, о чём давно и не раз писано в мировой научной литературе по психологии творчества, от которой мы страшно отстали, называя урину мочой, и в развитии опоздав, и в опозде доживая опыт.
Гнида, влажная и румяная от маленькой пытки, показывала высшую нервную деятельность мороженой курицы и как мудро устроено всё живое, что птица ещё продолжает бегать с отрубленной головой.
Как раз в это время коварные детки, не отрывая от Гниды ангельских глаз, тайком щекотали, щипали и тычкали Маленького, чтоб он осрамился. Маленький, как мог, увёртывался от них и ускользал, сползая под парту телесными ёмкостями, частями плоти, наиболее уязвимыми для такой мучительной казни. Он под партой стоял уже на коленках, и только одна от него голова вверх лицом лежала на парте, как на блюде у Саломеи. Лицо головы было белое-белое, потом замерцала в нём синева с зеленцой.
Гнида сказала:
— Тут некоторые просятся на горшок!.. Кому невтерпеж, пусть вынет горшок из портфеля и сядет, а мы продолжим показ высшей нервной деятельности.
Образ горшка в портфеле — это же так смешно, Гнида ржала до слёз, класс надрывал животики, рыдая от хохота. Это было так заразительно, что, наделав грому и воздух испортив, Маленький вышел вон и повесился на ремне в уборной, в туалете, в сортире, в ватерклозете — кому что нравится, выбор за вами…
Он повесился на ремне, но тут случился звонок и началась большая перемена. Гнида с детками вынули его из петли, физкультурник делал реанимацию, дыша ему рот в рот. Потом прикатила «скорая» и увезла Маленького в больницу.
Гнида сказала его матери, что ребенку такому надо лечить желудок или учиться дома:
— Вот я же терплю по восемь уроков — и ничего!.. Характер надо воспитывать с горшка. Физиология человека в огромной степени зависит от высшей нервной деятельности, на которую, как известно, влияет общий настрой в семье. Что-то вы упустили — и вот результат, ваш мальчик повесился. Более того, пострадала высшая нервная деятельность у всех остальных детей, они пережили страшное потрясение, они всё это видели!.. Однако есть и отдельные удачи. Например, сильный запах аммиака в уборной способствовал не столь глубокой и полной потере сознания вашего мальчика, в другом месте он бы так легко не отделался. Ну и, конечно, вам повезло, что так быстро звонок прозвенел и началась перемена. Однако я повторяю: характер надо воспитывать с горшка!
Маленький очнулся во взрослой больнице и там на соседней койке встретил кудесника, который дал ему выпить и закурить, а также освоить многие чудеса, доступные исключительно возвращенцам, возвратникам с того света, из насоса погибели. Маленький оказался на редкость талантливым, даже гениальным учеником волшебника, изготовителя и сбытчика чудесных кудес и кудесных чудес.
Гнида она и есть Гнида. Как только Маленький в класс возвратился, она извлекла его сразу к доске и к тоске, стала с особым пристрастием терзать его биологическими вопросами, наводящими на круглую двойку или даже на единицу. А всё потому, что был у неё зверский нюх на виктимных детей. И тут, драгоценный читатель, совершенно ко времени, к месту и к случаю — любопытнейший комментарий для тех, кому некогда шуршать словарями, а надо бежать по делам.
Виктимный — от латинского слова viktima, в переводе на русский — жертва, преимущественно благодарственная, как писано в словаре, — и речь идет о животном, которое предназначено для жертвоприношения. Такое животное закалывали на жертвеннике. В данном случае — перед всем классом. Поставщик жертвенных животных — виктимариус. Виктиматор — закалывающий жертвенное животное. Благодарственно и в тайной надежде на ответное, взаимное благодарствие.
Гнида была виктимариусом и виктиматором. Она доводила до животного состояния виктимность ребенка, поставляла его на потребу жертвоедам и закалывала на жертвеннике, жрицей там становясь для всех остальных участников жертвоприношения.
Но после попытки самоубийства и пребыванья в больнице с кудесником Маленький был уже деткой иных миров. Он так научился писать на доске название члена и органа, что из доски немедленно вырастал этот самый орган и член, совершенно живой, и в натуре показывал все свои функции, натуральный обмен веществ и здоровую физиологию, управляемую высшей нервной деятельностью. С особой наглядностью и проворством, из доски вырастая, действовали рот, ухо и нос, а также любой орган из трёх букв. Специальная международная комиссия признала Маленького чудом природы.
Виктиматорша Гнида стала виктимной. У нее развился такой острый виктиматоз, что теперь на неё постоянно кто-нибудь покушается, чтоб её обесчестить развратными действиями в час пик в метро. Недавно ей продали кочан капусты, в котором плакал младенец, кочан с младенцем она послала по почте заказным отправлением с уведомлением — куда следует.
Некоторые чудеса позаимствовали у Маленького клипмейкеры, но всё равно видно, что у Маленького — натура, а у них — липучка. Клип — он и есть в переводе «липучка». Клип-лип-лип…
Игра в ножичек.
Ножичек не был зубчатым. Зубчатым было двоение в глазу и строенье часов.
Конец связи
Игра в ножичек
Кусты расцветшей сирени дрожали всеми пружинами — лиловыми, белыми, синими, розовыми, — очень пахло. Таратайка с редиской, салатом, сельдереем, укропом и огородными огурцами проклацала по горячим булыжникам. Урка играл во дворе с ребятами «в ножичка». И я с ними, и я.
Ножичек перочинный вонзался пёрышком в землю, стальным пером — по самую рукоятку, и мелко дрожал. С форсом и свистом. Со свистом и стоном. Земли у меня оставался крошечный лоскуток, размером с мою босую ступню, — и там я стояла, как одноногая. Из черного, юбочкой клеш, репродуктора проистекало пение ангелов в исполнении: Козловский, Лемешев, Александрович.
Урка всадил ножичек в землю, что была у меня между пальцами. Кровь потекла быстрая, жаркая. Затошнило. Бросать — моя очередь. Сознанье волнистое теряя расплывчато, ножик кровавый вонзаю в землю по самый звон. Урка честный мне прирезает огромный кусок той земли, и я туда падаю, вся на ней помещаясь, ничьих не нарушая границ. Вверх лицом, внутрь глазами. Дурочка наша районная, хромоножка и кривошейка, страшно мычит и бросается ко ржавому крану, урчащему из каменной, камышиного цвета стены. Под краном консервная банка на верёвке бренчит. Плюх водой, плюх! По лицу бежит и за шиворот. Скачет дурочка с банкой туда-сюда, от крана — к обмороку, от обморока — к рычащему крану. А урка юркий удрал, и журчит ручей на его земле, с моего лица убегающий.
— Что будет? Что будет? Что будет!.. — причитает уркина тетка Зоя Панова. — Гад! Убил человека! Его же теперь посадят! Увезут его в клетке и убьют, как собаку. Проклинаю тебя, паскуда, горе жизни моей! Счастливая — мать твоя, что померла от родов и не видит рожу твою из гроба.
— Ша! — говорит мой отец. — Это же просто обморок, самый обыкновенный обморок. И немедленно прекратите, гражданка Панова, так страшно ругать своего племянника, вы наносите травму его психике. Эти жестокие очень слова, что вы сейчас говорите, он ведь может запомнить на всю жизнь. Фу, безобразие! Держите себя в руках! Разве можно так распускаться? Ведь мальчик вырос на улице, как собачонка, без родительской ласки. Кому, как не вам, это знать?!.
— И правда, и правда, и правда, — скулит и кудахчет гражданка Зоя Панова, утирая замызганным, куцым передником нос.
Открываю глаза, кружатся в небе крыши, касатки, стрижи, сирени, стрекозы, лазурные мухи. Как же вставать не хочется!.. Отца моего лицо — отсюда, с земли — кажется узким и длинным клиночком и вдобавок подрагивает, и смуглые скулы его — с отливом таким металлическим.
Он покупает мне бублик с маком в ларьке и стакан газировки с вишневым сиропом. Сироп со дна подымается, всяко растёт и покачивает алыми хвощами и папоротниками, коралловыми кустами и шхунами, пузырьки там шныряют и живородят, как рыбки в аквариуме. Если когда-нибудь вдруг и выйду я замуж, — так только за человека, у которого будет огромный круглый аквариум.
За кого-то другого — ни за что, никогда, очень надо! Стирать белье, мыть полы и окна, белить потолок и катать краску по стенам, стряпать — и не иметь счастья поздним вечером или ночью, когда муж и дети уснули, счастья уткнуться лицом в стеклянный сияющий шар, где струятся, вьются, порхают эти чудесные жизни с человечьими лицами, с уморительными повадками жителей нашего города?.. А ещё лучше — выиграть по облигации трудового займа, купить аквариум и замуж не выходить вовсе, а усыновить и удочерить испанцев, корейцев и негритят. Но это уж вовсе несбыточная мечта, потому что аквариум негде поставить, комната тесная, сплю я с матерью на одном топчане, и это — одна из чудесных причин, по которой я уеду учиться в другой город, где в общежитии будет моя первая в жизни отдельная койка.
Кровь на ноге засохла черно и густо, мешает ходить, и я заталкиваю туда лист подорожника, что растёт у сарая. Удобный такой лист, и в рану уже ничто не въедается.
Божественно красивая девушка в маркизетовом платье летит по улице, вся — свет и воздух. Лицо тонкое, иконописное, в раме лучей закатного солнца над холмами, цветущими вдоль берегов Борисфена. Это — моя сестра, единственная и драгоценная, ей кажется, что она — дурнушка. Несет она толстый серебряный том Лермонтова, пахнущий буквами, свежей бумагой и клеем. У нее сегодня зарплата, и она себе позволяет. Заходит в гастроном на углу и покупает коробку, где торт с розами, за ленточку держит и по ходу слегка раскачивает.
А дома у нас — гость, дикая радость моя и ужасная тайна, учительница моя ненаглядная, махонькая, с пламенными очами и неподкупной душой, старая дева, ей двадцать четыре года. Она говорит поздравления и дарит мне что-то… Но я убегаю в кладовку, где шестнадцать соседей хранят свои клады, и плачу там в темноте, от стыда и отчаянья, что вид у меня идиотский, лохматый, жалкий, слишком часто и быстро моргающий, и что совсем я забыла, играя в ножичек, про свой деньрождень.
Помню, как меркнет солнце, стёкла звенят от ветра, отрываются форточки. Молния, гром, столбы пролетающей пыли, гроза, реки бегут по улицам. Гости пьют чай — кто с пирогом, кто с тортом. Что-то смешное рассказывают, в лицах показывают, словами и голосами расписывают. Вдвое сладостней и теплей во всякой пещере, когда снаружи — буря, огонь и мрак. Иду к подоконнику за прошлогодней наливкой и вижу: урка сидит в подъезде, уткнувши лицо в колени. Тётка опять домой его не пускает. А то и поколотила… Если дать ему сейчас пирога, он даст в морду. Я это знаю точно, сама такая. Если позвать сейчас его в гости, он полоснет матом. И, видит Бог, это будет законно, истинно, — ведь у него никогда еще в жизни не было никаких деньрождень. Я бы сама утопилась или отравилась, или все это вместе, если бы в горький мой, бедственный час кто-нибудь силу мою рассоплил своей мимоходной жалостью.
Вот, мол, нет у тебя ни отца, ни матери, ни кола, ни двора, лишний ты рот, ни детства, ни ласки, волчонок ты одинокий, а у нас про запас есть еще и такое сокровище, как сострадание, глубокое соболезнование горькой доле твоей — на, возьми, пользуйся! Нам не жаль ничего, лишь бы нас миновало. И за то, что не поровну делятся наши бедствия, мы премного тебе благодарны. Ты страдаешь, и мы тоже, и мы — сострадаем!.. Даст он в морду или самоубьётся. Слёзы окончательного бессилья перед действительностью — тельностью действий — лились из меня по щекам и капали на подоконник, где пыль раннего лета их облепила и раскатилась, словно разбился градусник.
Дурочка наша районная вышла набрать дождя в шайку и что-то мумукнула урке на ухо. Он потянулся, словно спал себе сладко, встал и пошёл за ней чёрным ходом под навес, где на деревянном столе, я видела, ели они из двух оловянных мисок огуречную с хреном квасную окрошку, отламывая от круглого тёмного хлеба, который там и тогда назывался у нас арнауткой. А потом они ели с этим хлебом яблочный мармелад, развесное такое повидло. И над чем-то смеялись они в ладонь. Над чем же он мог смеяться с той дурочкой, которая выговаривала не более пятнадцати слов?..
В те наивные времена урками называли часто сирот, беженцев и беспризорников, кормившихся мелкими кражами на продуктовых рынках и в транспорте. Я не помню имени этого парня-подростка, что звался уркой вполне добродушно в сознании человеческой улицы, а выдумывать ему подходящее имя из головы не хочу.
На моей ноге остался маленький белый след от его ножичка, драгоценная память о нежном возрасте, когда девочки еще падают в обморок при виде собственной крови. Дурочка давно умерла, перекрасили весь город, а двор тот зелёный, сиреневый вместе с домами снесли подчистую. Но страхом Божьим, стыдом, любовью мычащей, улыбкой от боли, непроглядностью тайны и окончательной ясностью — это вонзилось, как ножичек, и оно же вытекает из памяти вместе с жизнью, капля за каплей. А последняя капля там остановится, где мы признаем друг друга, истратив свою оболочку, имя, лицо и речь — всё, что было в аквариуме прозрачного лиственного двора, где ножичком я добывала землю. В той жизни, где никогда справедливости не было там, где её искали. Была, но не там. Там её точно нигде не было.
Лет сорок спустя на стеклянную крышу стеклянного зала падал с неба субтропический ливень. Ко мне подошел стройный седой человек, улыбнулся, как давний знакомый: «Не узнаете?..»
С ним была миловидная, смешливая девушка лет двадцати, то ли дочь, то ли внучка, то ли жена, то ли кто?.. Нет, не жена, чем-то их лица связаны кровно, каким-то близким родством, даже нечто напоминающим, как бы я уже видела эту игру света и тени, которая называется внешностью. Он протянул мне с улыбкой маленький перочинный ножичек, изумительной красоты, совсем не похожий на тот, который дрожал в земле. Но сквозь меня, оглушенную долгим перелётом и гулом этого зала, промчалась сиреневая искра воспоминанья:
— Вы же Панов?! Вы — Панов, жили на той стороне, где сирень, и ваша тетя была Зоя Панова. Бог мой, какими путями вы здесь оказались?..
Какой дурацкий вопрос! Была гроза, и раскат несусветного грома заглушил его голос, я расслышала только:
— …ился!.. отаю… раюсь!
Как назло, между нами протиснулась бесцеремонная стайка студентов, к ней пристроилась куча приятелей. А когда они рассосались, буквально через минуту, Панова нигде уже не было — ни там, где стоял, ни на стеклянной лестнице, ни в коридорах стеклянных. Я надеялась, что где-то потом он разыщет меня. Но человек этот больше не появлялся. И со временем стало казаться, что вообще его не было, что какой-то случайный совсем мимоходец подарил мне маленький сувенир, этот ножичек, и что во всём виноваты гроза, электричество молний, высекающие из мозговых закоулков всякую бредовню, — ведь по сути любая вещица нам кого-то и что-то напоминает, нет ни одного на свете предмета, даже среди не виданных прежде, с которым не был бы связан какой-нибудь давний случай из жизни, спрятанный памятью про запас. И тогда всё вокруг этого случая вдруг начинает всплывать и срастаться неукротимо, с тайным умыслом — во что бы то ни стало быть магнитом для всех безвозвратно ушедших, отлетевших, отплывших, пропавших без вести. Как бы и сам притом становишься вечным, неисчезающим.
Но тут как тут — письмецо мне, кем-то в Москве опущенное на Главпочтамте: «19-е января 1988 года. Сейчас в наших краях большое нашествие русских. Кажется, у Вас там действительно всё меняется в сторону Запада.
Теперь фирма, где я работаю, имеет в Москве своего представителя, через месяц я займу его место. По приезде Вам позвоню. Надеюсь, наш дворик ещё жив. Я тогда не хотел мешать Вашему общению с нашей публикой. С наилучшими пожеланиями. Ваш Виктор Панов».
Ну, конечно, Виктор!.. Это же так просто — Виктор! Как могла я такое забыть? Виктор Панов. Я же пишу правильно: тётка его — Зоя Панова. Но нет как нет ни на конверте обратного адреса, ни в письме. И ни одной там письменной буквы, всё оно мелкими точечками выползло из компьютера. Никто не приехал, не позвонил. Потом друзья мои узнавали: нет в том городе со стеклянным залом и субтропическим ливнем никакого Панова Виктора.
Совершенно загадочная история! Если всё это — умственная игра и фокусы магнетизма и электричества, так лучше их запускать в утюги, пылесосы и прочую бытовую технику. Ведь жуткая пошлость — выдавать желаемое за действительное, сочинять в своё удовольствие фальшивые документы да ещё заставлять какой-то компьютер в субтропиках тюкать письма и слать их мне из Москвы.
Но какое всё-таки чудо, что я вспомнила имя! Ведь и в самых пошлых фантазиях — незабвеннее тот, чьё прозвище «урка», чем те, кто его отбросил от имени.
Тыр-р-р — пыр-р-р
Где, где? У козла на бороде, козёл плывёт в ковчеге, ковчег плывёт в потопе, Ной глядит на небеса, — нет ли там голубки Пикассо с веточкой оливы в клюве. А мимо едут люди на дощечках.
Гдействие первое. Гдекорация гдействительности: гдес-пот, гдемос, гдемагоги, гделегаты, гдепутаты, гдезинфекция, гдезертиры, гдепортация, художественная гдекламация, гдельфины в цирке, гдекольте у гдекадентов, гденди Байрон, гдефицит и гдевальвация, праздничная гдемонстрация, спирт-гденатурат. А мимо едут люди на дощечках.
Далее — гдетали гдетства. Гдевочка живет на гдебаркадере. Гдебаркадер — такая пристань плавучая, понтоны и суда, причал для других.
В гдеталях гдетства есть целебный яд, и он помогает. У них тут, где в данный миг я пишу тебе, на гдереве качаясь, — рецепты этих вот гдеталей гдетства берут аптеки. Получается лекарство из ужаса чудес, чистейший кислород. И этот кислород тебе никто не перекроет. Скоро буду! Конец связи.
В цинковое корыто ставили стиральную доску, которая упиралась прачке в грудную клетку, иногда и в живот. Доска была облицована ребристой, волнистой жестью. В корыто вливали ведро нагретой воды, воду грели в печке, на чугунной плите, на примусе, на керогазе или на солнцепёке. А кому бешено повезло, грели в баке «Титан». Постирушку замачивали на ночь, каждую вещь натерев на ребристой доске хозяйственным мылом, незабвенный запах которого был тошнотворно едок, если мыло сварили правильно и без воровства.
Красавица прачка, склонясь над доской, с прелестным проворством отлавливала в мыльной воде бельё, скользкие рукава и вороты, и терла ритмично о доску с волнистыми ребрами жести, а доска ритмично раскатывала рокочущий звук «тыр-р-р — пыр-р-р». А в это время по улице в чистой крахмальной рубашке муж её мчался на личном транспорте к себе на работу, в сапожную мастерскую, в стеклянную будку.
Мчался он на крепкой доске, под которой вертелись колёсики, сверкающие так ослепительно шариками-подшипниками в стальных ободках. Доска обшита была войлоком, ватином и натуральной кожей, и той же кожей были обшиты брюки — ниже спины, до колен. А спереди брюки были из тёмной шерсти в полосочку, аккуратно зашитые наглухо, где чуть выше колен кончались в трубчатых брючинах ноги, оторванные, отрубленные, проглоченные Великой Отечественной войной.
Доска, на которой он ехал, была размером с крепкую табуретку, и от земли её отделяло малюсенькое пространство, иначе ездок не смог бы двумя чурбашками, что держал он по штуке в каждой руке, отталкиваться от земли, от булыжника и асфальта, и ездить не мог бы на личном транспорте.
Чурбашки были подкованы снизу железом, а сверху имели ручки, обитые кожей. На этом транспорте ездили молодые, сильные люди. Иногда они вдруг ни с того, ни с сего начинали петь, во время езды набирая скорость. И тогда пешеходы на двух ногах улыбались, им подпевая, пропуская вперёд этот личный транспорт, а доска ритмично катилась по ритмичным булыжникам с ритмичными ребрами, и ритмично она по майданам раскатывала рокочущий звук «тыр-р-р — пыр-р-р».
Эти доски, стиральная и с колесиками, были древними музыкальными инструментами, извлекать из которых звук можно только в той самой древности, подробной, не проклятой, не убитой. Там пахло керосином и примусом, самосадом и самогоном, гдезинфекцией в бане, эфиром, йодом и спиртом в госпитале, хозяйственным и дегтярным мылом, сковородками с жаркой на рыбьем жире, пахло кожами, пахло кровью и гноем расцвета военно-полевой хирургии. А чем пахли Геракл, Одиссей, Македонский?.. Чем пахли кентавры с циклопами, аргонавты, троянцы, войска, полководцы, герои гдействительной древности?.. Какими огдеколонами, гдезод орантами?..
Во мраке, где мы пребываем в зареве электричества, истошно вопя о счастье — жить не в те времена, а в эти, — я ритмично раскатываю рокочущие просторы гдеталей, и море едет в крахмальной рубашке пены, где Афродита «тыр-р-р — пыр-р-р» о волнистые ребра чуть выше колен легенды, преданий, никем не преданных даже под пыткой, когда едешь на досточке и от земли отделяет малюсенькое пространство, иначе ездок не смог бы «тыр-р-р — пыр-р-р» чурбашками по штуке в каждой руке отталкиваться, и мчаться, и вдруг запеть ни с того ни с сего.
Теперь, в блеске новых идей, он — посмешище и обрубок, памфлетный фантазм, одна из самых дешёвых тканей для кройки и шитья на фабрике чтива. А зря!.. Опасное гдело, оно отомстится. Как выскочит и как даст сдачи, — только держись!
А на той стиральной доске, если правильно выстирать человека, который от боли в спине пребывает в энергетическом проломе; если выстирать спину на той доске с волнистыми рёбрами, чтоб доска ритмично раскатывала рокочущее «тыр-р-р — пыр-р-р»; если выполоскать ритмично, выкрутить, отжать и развесить ту спину, — все глаза её распахнутся в слезах благодарности!.. А неблагодарной спине и «тыр-р-р — пыр-р-р» не поможет.
… у них тут Ямайка, очень тепло и яблоки рожают котят.
Конец связи
Композитор счастливых случайностей
Шарик размером с яблоко был целлулоидный, и его целовал радист на работе в Арктике. Был он автором секретных научных физ-мат сочинений, был он также философом, художником, пианистом и композитором счастливых случайностей, а в его целлулоидном шарике была малюсенькая дырочка, совсем незаметная, не толще укола тонкой иглой.
В эту дырочку глядя, чудесным образом попадаешь мгновенно из Арктики на материк, в глубокое, солнечное пространство летнего дня, где пахнут густые травы, цветы, деревья и сияет жена радиста с тремя детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а в воздухе — птички, стрекозы, бабочки, пчёлы, пьяные от кислорода и солнца, и ты со всеми здороваешься, и все тебя знают, и все тебя спрашивают: «Ну как там наш человек?!. В чём он ходит и как выглядит?»
А ты ведь тоже к ним не с пустыми руками, у тебя на ладони — другой целлулоидный шар с малюсенькой дырочкой, глядя в которую они попадают в глубокое пространство радиста, где он в данный миг пьёт кофе из кружки, откуда идёт вкусный пар. Кофе он пьёт в Арктике, одет в телогрейку, за окном — северное сияние и чайка вопящая, лают собаки, и всё это слышно.
В ту осень из-за погодных условий защемило льдами эскадру ледокольных судов в проливе Вилькицкого. И все силы, включая золотые мозги, были брошены на облёт и обзор катастрофической ситуации, чтобы льдами не раздавиться и правильно зимовать. Все самолёты ледовой разведки занимались только этим облётом и обзором, как я поняла из разговоров лётчиков и моряков. А я могла вернуться из Арктики на материк только самолётом ледовой разведки, поскольку в девятнадцать лет у нормальных людей не бывает таких гденег, чтоб купить билет на пассажирский самолёт из Арктики в Москву, где могли тогда запросто выселить меня из общежития, отнять стипендию и «отчислить» из-за неявки на лекции в институт.
Радист всё такое прекрасно понимал, даже то, что меня выселят и отчислят не за это, так за другое, не сейчас, так потом. Но был он композитором, не забывайте, счастливых случайностей в самых катастрофических ситуациях. Услыхав на службе в просторах Арктики, что в четыре часа утра приземлится самолёт с министром Севморпути на борту и через сорок минут улетит в Москву, он прислал за мной допотопный, грохотальный грузовичок (никакого другого транспорта у радиста в ту ночь не было), чтобы рядом с тем самолетом и тем министром я оказалась по счастливой случайности, держа случайно в руках красивую очень бумагу, согласно которой меня должны были взять на борт непременно, поскольку бумага была министром этим подписана в солнечный майский день. И меня взяли на борт!..
А в кармане моём был целлулоидный шар, в котором радист в телогрейке пил кофе из кружки, откуда шёл вкусный пар, а за окнами чайки вопили и лаяли собаки.
Долгие годы из глуби этого шара давал мне радист такие замечательные советы в катастрофических ситуациях и дарил мне такие счастливые случайности, что я до сих пор жива.
С тех времён я держала в руках и заглядывала во множество шариков и шаров с малюсенькими дырочками в глубоко таинственное пространство, где прятались от посторонних глаз брошенные, но не разлюбленные жёны и дети, события, целые страны и города, гении и злодеи, замечательные картины, иконы, голоса, музыка, поэзия, учителя, сестры и братья милосердия, клоуны, акробаты, артисты…
В данный миг я сижу под елкой, где шары качаются от человеческого дыхания, от дверей, открывающихся и закрывающихся, от интонаций человеческой речи, походки, от снежного воздуха из распахнутой створки окна, от свистящего пара из чайника. В каждом шаре на ёлке есть малюсенькая тайная дырочка, глядя в которую чудесным образом я попадаю мгновенно туда, где все — живо, и все — сейчас, и все — глубоко личное, лично глубокое. Иногда в эти дырочки я кап-кап горькими или счастливыми слезами. У меня не бывает другой ёлки. А горькие слёзы — топливо космических расстояний, где таятся туннели, сквозь которые в одно мгновенье оказываешься в другой галактике и в другом времени, там встречаясь хоть с Пушкиным, хоть с Гомером и Данте, не говоря уж о близких родственниках. Порой этих встреч избегаю, прячусь от них, боюсь, трепещу. А порой мчусь туда, как на любовное свидание, даже каплей французских духов пользуюсь.
Ночью ёлочный заяц, ушами двигая, разбил тот изумительный шар, в котором я лет пятьдесят летала из Арктики на материк самолётом ледовой разведки. В самолёте было менее десяти пассажиров, сидели все на полу, на шкурах, других сидений там не было, кроме боковых скамеек, на которых никто бы не усидел. Одно кресло с министром летало из носа в хвост, поскольку нигде и ничем это кресло не закрепили, только избыточный вес пассажира сдерживал скорость этого кресла. У министра были глаза, синие, как васильки во ржи. А васильки во ржи совсем другого цвета, чем в стакане с водой, где потолок не есть небеса над полем. Он, министр, давным-давно мечтал книги писать об Арктике, художественную литературу. Там, в Арктике, был Мыс Прончищевой, о которой он задумал роман, но ему был до зарезу необходим соавтор, чтоб заразился темой и сочинил нечто захватывающее дух и пригодное не только для книги, но и для кино. Он очень просил меня заразиться этой темой в благодарность за посадку на борт. И я обещала подумать, чтоб не расстраивать человека, который и без того болтался в бездне отчаянья, поскольку его арктические суда застряли во льдах на вынужденную зимовку, а главный за всё ответчик — он, не предвидевший такого подвоха природы, не просчитавший заранее композицию катастрофической ситуации, проглядевший не очень тревожные и поэтому очень опасные сигналы и сводки.
В этом шаре я лечу с Диксона в Москву без посадки, среди пассажиров есть лётчики, они бреются, сидя на шкурах, французским лосьоном пахнут, летят к жёнам на материк. Лётчики Арктики — отдельная песня оттуда, где чаще всего не видна граница между землёй и небом, а самолёты и люди бьются как ёлочные шары, если этой границы не видно.
Тут самое место и время сказать, что это — мой первый в жизни полёт на самолёте. А спустя три года, когда я впервые куплю билет на пассажирский самолёт и, взойдя по трапу, увижу, что там стоят кресла густыми рядами, я решу, что попала в автобус, потому что в единственном самолёте, которым я летала, не было никаких кресел. И я спрошу стюардессу: «Этот автобус повезёт нас к самолёту?» Её выраженье лица не описать!..
Веником на совок собираю осколки любимого шара, который зайцем разбит. У зайца глаза виноватые. Достаю из коробки с ёлочными сокровищами другой шар. Ёлка, дай ему время и место!.. Ёлка даёт, и в шаре сияет малюсенькая дырочка, такая лучистая звёздочка. У вас тоже такая. Глядя в неё, вижу всё то, что разбилось.
Там самолёт приземляется на травяное поле. В городе — горы арбузов, дынь, винограда, персиков, перцев и баклажанов. Вижу их как впервые, какая-то заграница, заморский край, материк!.. Земля под ногами ходит, как палуба. Еще полгода я буду ходить враскачку — и всю остальную жизнь. Каюты и палубы, вельботы, волны в иллюминаторах и за кормой, скрежеты льдов за бортами, вира-майна портовых грузчиков, круглые сутки полярный день, сумасшедшая белизна полярного солнца, корабельные ритмы, кораблесть, — вот что качается в бездонном пространстве этого шара, где и разбитый шарик цел-невредим, всё — живо, и всё — сейчас. И стюардесса мне отвечает с глубоким сочувствием: «Всё хорошо, не волнуйтесь, это — не автобус, а самолёт».
Меня удивляет только одна мелочь. Я держала в руках тысячи этих шариков из пластмассы, фарфора, целлулоида, самоцветов, стекла, где в малюсенькую дырочку можно было разглядывать вложенные туда фотографии, рисунки, записочки, память о прошлом и будущем, вещие сны и другие поэтства с художествами, которые никогда не путают высшее начало и высшее начальство. Но где бы эти шарики ни крутились, ни катались — на книжной полке, в кармане, в каюте, и где бы ни висели они — на шее, в машине, на ёлке, всегда почему-то их дырочки — на правом боку.
Мой ёжик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку. Ну почему же в правом боку?!. А вот потому! В эту дырочку глядя, чудесным образом попадаешь в замечательную погоду, в глубокое солнечное пространство, где со всеми здороваешься, и все тебя спрашивают: «Ну как там наш человек?!. В чём он ходит и как выглядит?»
Всадник Алёша
Лошадь шла весело и легко, поднимая горчичную пыль. Подросток, сидевший верхом, рассматривал горы в морской бинокль. Краснокожий, с узким скуластым лицом, был он похож на индейца. Тугая повязка вокруг головы сдерживала длинную чёрную гущу над бронзовым лбом. Всаднику было на вид лет тринадцать-четырнадцать. Во всём его облике наблюдалось достоинство натуры, мыслящей самостоятельно и привыкшей изъявлять свою волю. Сейчас он ехал в гости к отцу, у которого была другая семья и новый сын.
С утра просочился дождь, и жара поутихла. Три ветра — горный, степной и морской — шуршали теперь в пузырчатых виноградниках, остывая от многодневного крымского зноя и остужая воздух, землю и всё, что на ней. А в бинокле скакали горы, и там скакали на выпасе коровы и овцы. А ниже, в горных расселинах, скакали белые, как брынза овечья, сакли. «Хорошо, что отец купил себе саклю, — подумал Алёша, — ведь в сакле я никогда ещё не был и, может быть, не был бы никогда. Эту саклю сложили в Крыму, лет сто назад, из дикого горного камня, всей семьёй — четверо взрослых и девять детей. Летом сакля — прохладная, а зимой там теплынь, если печку топить. И гора заслоняет её от ветра, дождя и снега. Стены в той сакле — толстенные, но звонкие и поющие. Потолок низкий, а скажешь громкое слово — и во всех углах будет трижды оно звенеть утихающим пеньем. Интересная вещь!»
Алёша не видел отца три года, но любил его вечно и боль обиды своей загнал глубоко, на самое дно души, чтобы не было слышно и видно, как — был он уверен! — это делают умные, сильные люди мужского пола. Он отказался, когда отец захотел приехать за ним на машине. Во-первых, путь был недалёк и нетруден. Во-вторых, непременно полагалось быть этой встрече не в начале пути, а в конце. И по этому случаю написал Алёша заявление начальнику спортивного лагеря: «Прошу выдать мне на дорогу одну лошадь сроком на три дня для поездки по семейным обстоятельствам». Заявление показалось Алёше смешным, но зато по форме, которую он когда-то углядел и запомнил.
Начальник спортлагеря, где отдыхал Алёша, был молод и груб. Он только что закончил институт и получил впервые работу с зарплатой. Разные, очень смешные и очень страшные истории о том, как держать дисциплину, готовую ежесекундно сорваться в пропасть анархии и всевозможного буйства, а также рухнуть с издевательским хохотом, свистом, топаньем и улюлюканьем в бездну неукротимого произвола, слышал он многократно от матери и от других воспитателей — мастеров находчивой строгости. Сам же он с детства и на всю жизнь полюбил только строгих и себя воспитал строжайше быть начеку и беречь справедливую, полезную строгость как зеницу ока. Любил он строгие книжки, строгие песни и кинофильмы. И танцы любил, но только строгие. Его мама была самой строгой учительницей в школе. И он за это её обожал и втайне гордился, когда его однолетки вытягивались перед нею и замирали…
Но выдал он Алёше на дорогу одну лошадь сроком на три дня — безо всяких казённых отговорок и усмешливых вопросов. Потому что за всей его сиротской любовью к строгости таилось человечески слёзное страдание, детская неусыхающая тоска по весёлому летчику, который двадцать лет назад — раз и навсегда улетел из домашней казармы, оставив там пятилетнего мальчика с велосипедом, лыжами, коньками, а также мячами и мячиками, так больно и звонко напоминавшими о слишком краткой жизни с родителем, которая по справедливости длилась бы… Да что теперь говорить?!
«Я прикажу конюху, завтра он даст тебе лошадь. Туда лучше ехать на лошади… это имеет вид!» — И он улыбнулся строго и строго напомнил, что положено взять Алёше на кухне сухой паёк на дорогу.
Алёша ехал по Крыму на лошади и как бы совсем ни о чём не думал, только рассматривал. Фиолетовые шелковицы рассматривал в свой сильный морской бинокль, где скакали корзины яблок под яблонями, горные сакли, малахитовые навесы и колонные залы дикого винограда над столами и лавками, пестрое бельё на ветру, голопузые ребятишки, кудлатые собачонки, кошки, куры, козы, бронзовые фигурки женщин, стряпающих на улице, — и всё это мельтешило, дышало и трепыхалось в скалистых горах, в каменных выдолбах, на диких ступенях, под леденящими душу горными отвесами, которые были сплошь в трещинах и надломах, но почему-то на глазах не разваливались и не вселяли никакого стихийного ужаса в обитающий там народ.
Иногда Алёша рассматривал пролетевшую мимо, случайную мысль. Например: «Бабушка пришла в ужас, когда мама бросила скрипку и окончательно выбрала виолончель. Она посчитала уродством для женщины играть на таком инструменте, который стоит между ног. Как странно и даже, простите, глупо! Просто диву даёшься, какие предрассудки были в прежние времена даже у весьма культурных людей. Я не хотел бы, чтобы моей мамой была моя бабушка, хоть она и профессор Земли, гор и морей. Нет уж! Я предпочитаю, чтобы меня родила виолончель, а не глобус! Внук глобуса и сын виолончели — вот я кто. А кто, интересно, папина жена?..» Тут рассматривание мысли внезапно кончалось — как драка при появлении короля. И Алёша вновь рассматривал горы с их открытой и простодушной жизнью. А лошадь шла весело и легко. И легко ей, лошади, было дышать чабрецом, и полынью, и виноградным листом, и недалекой планктоновой свежестью моря.
Так бы ехал Алёша Боткин всю жизнь, потому что втайне ему приезжать совсем не хотелось, боялось и никак не светило. Вот ехать и ехать на лошади к отцу, вдоль гор, виноградников, вдаль к отцу, на рассвете и на закате, и звёздной ночью на лошади ехать к отцу — это да! Но приезжать наконец — это грустно, как всякий конец пути, думал Алёша безотчётно и отвлечённо.
Но вот показались приметы: родник, тополиная троица, самосвал на холме, за холмом — скала и в ней голубая сакля с верандой, побеленная известью с синькой. Алёша спрыгнул у родника, умылся до пояса, радостно фыркнул и, распрямившись в седле, стал подниматься вверх по тропе — мимо виноградника, мимо ручья, мимо разрушенной сакли, две стенки которой были распахнуты в каменные покои, в прохладные сумерки всеми покинутой жизни: такая Помпея, — подумал Алёша, миновал сад и подъехал к синей калитке.
У калитки сидел на горшке белобрысый мальчик лет пяти.
— Отличная-преотличная лошадь! Она устала-преустала с дороги. Я сейчас её накормлю, — сказал мальчик, натягивая штаны, и побежал с горшком к обрыву, а потом спрятал горшок в кустах.
Тут и вышел отец на крыльцо веранды, обтирая ветошью руки. Он сбежал с крыльца по крутым ступенькам и помчался к Алёше, и так жарко к нему прижался, так жарко обнял, что лицо у Алёши вспотело, и он пить захотел, как лошадь, звонко и долго.
— Пить! — сказал он отцу и наклонился к эмалированному ведру с водой.
Лошадь топталась у синей калитки и ела цветы. Отец расседлал и отвел лошадь на ближнее пастбище, куда-то вверх по склону, поросшему кустами акаций.
В голове у Алёши распространялся мучительный, опустошающий звон, и в глазах, по сине-зеленым краям кругозора забурлило волнистое серебро, как всегда у него бывало во время приступов сахарной слабости. На этот случай он носил с собой рафинад в железной коробочке из-под заморского табака. Алёша съел кусок липкого сахара, и еще два куска, и ему стало полегче. Он сел верхом на лавку, огляделся, прислушался к этому миру, в котором гостил, и тайным чувством вдруг понял, что женщины сегодня здесь нет, а есть только отец и этот белобрысенький мальчик.
— Я Гриша, — сказал мальчик. — Сейчас давай будем обедать. Мы с папой наварили-нажарили-насалатили. Я голодный-преголодный! Давай оба-вместе тарелки — ложки-вилки носить.
Взбегая на крутое крыльцо, он крикнул:
— В саклю входишь — сгибайся, а то по башке шарахнет! Ты — длинный, тебя шарахнет. И меня когда-нибудь тоже!
Алёша ему улыбнулся за такие весёлые мысли о будущем, которые бывали и у него, когда был он совсем ещё маленький и о будущем думал, не имея понятия, сколь зависит оно от человеческой воли. Сейчас-то Алёша знал точно, что его, Алёшина, воля влияет и впредь будет вовсе влиять на его, Алёшино, будущее. Потому что три года назад с мыслью о том, что его отец где-то там, в своей новой жизни, родил себе нового сына, а если только захочет, то в ещё более новой жизни родит ещё более нового сына и так далее… ну, в общем, с мыслью об этом Алёша открыл для себя невероятную тайну будущего: всё прошлое было когда-то будущим, всё будущее станет когда-то прошлым во имя ещё более и более будущих — была б только сильная воля у человека. Так думал подросток, сгибаясь при входе в саклю.
Там было две комнатки — одна через другую, и лилась по стенам прохладная мгла, и потолок был низок и толст, как в келье. Слева белела крепкая печь, за летней ненадобностью накрытая плахтой и заставленная разными книгами. В дальней комнате — во всю стену — был серый грубошерстный ковёр с тремя летящими цаплями, розовато-синими.
— А-а-а! — сказал Алёша, и сакля запела.
— А-а-о-о-у-ум-м! — и сакля звонко, протяжно зевнула, как сонная пума.
Кровати, буфет и всякое такое Алёша разглядывать не стал, а быстро взял чугунную жаровню с мясом, тарелки, ложки, вилки, стаканы — и вышел.
Гриша притащил миску с салатом, батон и вынул из-под куста прохладный кувшин с тутовым морсом. Вернулся отец, достал из погреба сыр, солёные огурцы и великий арбуз.
— Какой ты красивый, Алёша!.. Ты самый красивый мальчик на свете. Я мог бы смотреть на тебя всю жизнь! Завтра с утра мы сядем с тобой вот здесь… нет, вот здесь!., и я напишу твой портрет. У меня загрунтован подходящий холст в мастерской, — и отец показал на дверной проём в торце голубой сакли, где шаталась от ветра шторка из крашеной марли.
Он налил себе вина, а мальчикам морсу, и все трое выпили — за встречу и за долгую жизнь.
Тут в калитку просунулся потный человек в городском костюме — художник Трифон Чернов.
— Привет, старик, я у тебя сегодня ночую! Так по расписанию вышло. А завтра — в Симферополь на самолёт и прямо в столицу мира!
Он втащил два больших чемодана и этюдник, разделся и сел за стол в одних трусах.
— Я, старик, еле дышу! Давление двести двадцать на сто сорок, и пульс не меньше восьмидесяти восьми. Ты же меня знаешь, я — человек деликатный, тонкий, хорошо воспитанный. Я же слова лишнего никогда не брякну, ты же меня знаешь, я просто не умею быть хамом, даже когда это — во как нужно! Всё, что я имею, даже смешно сказать, не подумай, что я хвастаюсь, старик, но всё, что я имею, они принесли мне на блюдечке с голубой каёмочкой, потому что я — действительно прекрасный великий художник. И в кои-то веки я прошу мастерскую на Чистых прудах — так вместо того чтоб меня поддержать, они поддерживают Чимкелова, этого оболтуса, которого я вскормил, вспоил и вывел в люди, старик, ты же знаешь! Мне тридцать пять, и меня покупают везде, а ему сорок пять, и его покупают только в залы общепита. Но как платят мне и как платят ему? Смешно сказать, но несравнимо! Я продал своего «Арфиста» за семьсот, а он свой «Хор скворцов» за тысячу двести!
— Да ешь ты и пей! Успокойся! Ты — чудный художник. И я всегда тебе помогу, хоть не всегда могу помочь сам себе. Чимкелов — несомненный оболтус и такой же художник, как я — балерина. Но ты, мой друг, вскормил его, и вспоил, и вывел в люди, свято надеясь, что тебя он не тронет и в грозный час защитит от других таких же оболтусов. А у него изменились планы, и он на тебя плевал. Кстати, именно потому, что знает тебя как облупленного. Никогда, Трифон, не дружи с подлецами, они ненавидят родителей, учителей, никогда не возвращают долги, незабвенно мстят за добро — и обожают, когда им дают по морде. По морде — это их как-то успокаивает и освежает. Про это много написано, ты книги читаешь?..
Алёша сидел на высокой скале, ел жаркое и видел небо прямо перед собой. Снаружи оно состояло из синебагровых газов, из набрякших грозой облаков, золотящихся мимолетно… из птиц, обезумевших от электричества дальних летучих и жгучих молний, средь которых есть шаровые… из одуванчиков, дыма и всего, что за день туда улетело. Но внутри оно состояло из горящих камней, из раскалённых гигантских шаров, эллипсов и гремящих пустот. Там шумело сизое древо Млечного Пути, и наша Земля ползла по нему, как голубая букашка. И, холодея, сжимались какие-то звёзды до размеров, в которых они предстают перед нами ночью. А другие звёзды вновь разгорались, и несметные солнца ритмично пульсировали — золотые снаружи и черные в сердцевине, а другие солнца сгорали и коченели. И была среди этих миров изначальная точка — точка самодостаточности, божественная воля Вселенной, сама себя создающая и все — из себя самой. И меня, и Гришу. И отца, и мою маму… А где Гришина мама и куда она?.. Эту мысль Алёша не стал рассматривать и самозащитно вернулся на землю, где Гриша тормошил его за локоть и чем-то крайне был удивлён.
— Что ты видишь там, куда ты смотришь? — спрашивал Гриша Алёшу.
Алёша улыбнулся ребёнку чудесным образом, как бы из своего тайного далека, где был он за миг до того, размышляя над первопричиной всех жизней, которая так мучит подростков и всех мудрецов нескончаемой древности.
Алёша знал, что Земля и Вселенная — совсем не такие, какими они представляются житейскому глазу. Ведь у бабушки часто гостили знаменитые учёные, и к чаю они приносили невероятные, глазам не доступные новости о земле и о небе. И, хотя Алёша уже у кого-то прочел, что глаза — это часть нашего мозга, вынесенная наружу, он большей частью жил своим внутренним зрением, ему доверял всё сильней. Внутренним зрением он мог останавливать образы и разглядывать их так долго, как было ему надо для усвоения сути. А при надобности, он мог также вызывать эти образы вновь и вновь, во всей их подробности и неясности, чтобы внутренним зрением в них углубиться и кое-что прояснить, а кое-что окончательно затуманить в надежде на мудрость будущего. Людям же, которые в эти времена общались с Алёшей, казалось, что он спит с открытыми глазами.
— Что ты видишь там, куда ты смотришь? — снова и снова спрашивал Гриша.
— Вижу баранчика, который полез на Луну, чтобы стать кудрявым, как тучка. А там, на Луне, очередь лет на триста. Тучка займёт очередь, пролетая мимо, а лет через сто плюс сто плюс сто её очередь как раз и подойдёт, когда она снова соберётся из капель и мимо Луны пролетать будет. А баранчик триста лет не живёт, и не собирается он из капель каждые триста лет. Ему сейчас надо кудрявым стать! А тучки ему говорят: «Если ты даже сто лет не проживёшь, так зачем тебе кудри? Их ведь никто и разглядеть не успеет, зря очередь занял!»
Но тут один старый лунный фей по имени Филофей говорит: «Нет, так дело не пойдёт! Пропустить баранчика безо всякой очереди, потому что у него возраст детский, а детей по всей Вселенной без очереди всюду пускают! Тем более что он, баранчик, умрёт молодым по сравнению с вами, мои красавицы!»
Тучки пошумели, погромыхали, некоторые от злости даже чёрными сделались, но баранчика пропустили, как ребёнка, без очереди. И во-о-он там, видишь, идёт кудрявый баранчик с Луны на Землю.
— Вижу. Идёт кудрявый баранчик, — сказал Гриша и взял со стола большой прямоугольный пряник. — Вот смотри. Я беру этот пряник и по кусочку откушиваю. Грыз-грыз-грыз и ещё с этого боку грыз-грыз, и получился у меня баранчик. Теперь тут грыз-погрыз и тут грыз-погрыз, и получилась собачка. Теперь тут угрызу уголок и там войду в середку, и получилась кошка. Теперь съем ушки и тут погрызу, и получилась курица. Из курицы только бабочка получается, из бабочки — жучок, а из жучка — вишенка. А из вишенки ничего не получается больше, поэтому я её так просто съем, безо всякого воображения! Вообще-то, я пряники не очень люблю.
Я люблю варенье, но из варенья ничего такого не получается, в нём твёрдости нет.
— Сейчас арбузик зарежем! — сказал Трифон и воткнул финку в белый арбузный пупок. — Мировая финка, старик, с пружиной, английская сталь, между прочим, «Шеффилд»! Мне её Рокуэлл Кент подарил!
Арбуз развалился, обнажив красное сахарное мясо с чёрными зёрнами, в каждом из которых была до предела сжатая, тайно зарытая, втянутая в самую глубь, неукротимая воля к жизни, готовая вспыхнуть и разрастись этим красным сахарным мясом, раздувая кору зеленого шара.
— Ты — хвастун и врунишка. Рокуэлл Кент не имел о тебе ни малейшего представления. Ведь он, бедняга, посетил наши края, когда ты, Трифон, был ещё скромным, воспитанным мальчиком и не сочинял о себе никакой легендарной белиберды, сфальшивленной под документ эпохи. Уж это я в нашем брате просто терпеть не могу-у-у!
— Старик, ты прав! — сказал Трифон, поникнув повинной головой. — На меня что-то нашло! Ты не поверишь, конечно… Ты, конечно, теперь ни за что мне не поверишь, но я скажу тебе всю правду. Эту финку мне подарил Булат Окуджава. Будет он выступать — подойди и спроси, он тебе подтвердит, он — человек очень славный и с юмором, он тебе скажет, как просто всё это вышло. Поехал он в Англию и купил мне эту финку за три фунта на аэродроме Хитроу, где всё в три раза дешевле, потому как без пошлины. Ему жутко нравятся мои картины. Иногда он приходит без звонка, сидит часами и смотрит… Песня у него есть одна замечательная. Называется «Батальное полотно». У меня две картины с таким же названием. Так вот его песня частично повторяет моё второе «Батальное полотно». Не первое! А второе, где белая кобыла с карими глазами.
Отец сквозь зубы выдохнул воздух, встал и зажёг над столом китайский фонарик. Фонарик от тепла закружился и наполнился абрикосовой мякотью, разливающей прозрачный свет. Свет был такой — как будто он рос на дереве.
Гриша попросил лимонада, и Алёша, наливая ему пузырчатый крашеный напиток, вдруг вспомнил: «Лимонад делают из лимона, но лимон из лимонада уже не сделаешь никогда».
В ту минуту калитка распахнулась, и вошла полная старуха в морковном халате и ситцевой кепке. Она по-свойски села к столу, съела два бутерброда с сыром, запила вином и тут же из кармана достала маленький бумажный пакетик с содой. Соду из пакетика она высыпала себе на высунутый язык и съела её, не поморщась.
— Я, Трифончик, без соды помираю, будто в меня керосину налили, как в примус. Пш-ш-ш! — испустила она с наслаждением благотворную отрыжку. — Давай, Гришенька, спать ложиться, я за тобой пришла, тебя маменька ждет. Ты же знаешь, она без тебя во всю ночь глаз не сомкнёт, таращиться будет! Идём, мой пончик, я тебе сказочку расскажу!
— Не-е-ет, — сказал Гриша, глядя куда-то в свою собственную даль, — я здесь буду спать. Я буду спать с братом. Он же приехал всего на три дня. Ты скажи маме, что три дня буду я спать здесь, с братом. А потом всю жизнь с ней.
— Гриня, мы же с тобой договаривались! Разве нет? Ты своё мужское слово держать должен! Кто своё мужское слово не держит, как надо, тот — тьфу! — инфузория! Его каждая моль в бараний рог согнёт и съест в один присест.
— А бараньи рога никто не ест. Они, тётя Мотя, очень твёрдые и невкусные. Может, бараний рог мечтает всю жизнь, чтобы его слопали, а всем он не по зубам. Вот бедный! — увиливал Гриша от главной темы. Она, эта тема спанья непременно вблизи матери, была его мучительным детским стыдом и позором в присутствии старшего брата, которого он увидел сегодня впервые и успел полюбить — ни за что, за так, за то, что — брат, и всё тут!
Отец подливал себе и Трифону чай из пузатого узбекского чайника с красно-золотыми боками. Он слушал бубненье и вопли Трифона, глядя в крепкий коричневый чай, и не обращал как бы никакого внимания на битву младшего сына с превосходящими силами противника.
Алёша встал и пошел к калитке.
— Ты куда? Я с тобой! — вдруг очнулся отец и взглядом рванулся к Алёше, не успев отереть с лица паутину какой-то немой, затаённой мысли.
Алёша ему улыбнулся. И отец улыбнулся в ответ виновато и весело. Закрывая калитку, Алёша услышал, как Гриша сказал тёте Моте:
— Человек! Мы же — братья!
Алёша поднялся по склону и увидел шелковицу, где была привязана лошадь. Лошадь дремала, но, услыхав шаги, встрепенулась. Она узнала Алёшу во тьме, и он дал ей три куска сахара, и сам съел три куска — ему было не по себе, на него накатила волна отвратительной слабости, лицо стало холодным и влажным. И, стараясь вернуть себе кровное тепло, которого не даст человеку никакой ни огонь, ни жар — только кровь, Алёша вдруг вспомнил вот это из «Кавказского пленника»:
Под влажной буркой, в сакле дымной, Вкушает путник мирный сон, И утром покидает он Ночлега кров гостеприимный.Издали видел Алёша свет китайского фонарика и саклю. Там на веранде зажгли верхний свет, и в одном из окон сакли тоже что-то затеплилось. «Свеча, может быть, — подумал Алёша, — при Пушкине были бы свечи». И он улыбнулся, потому что вдохнул глубоко и услышал, как чудно пахнет живая лошадь, живая гора, поросшая живой травой и живыми кустами живой акации, и живой шелковицей… Просто стало Алёше легче, его сердце, скачущее, как лошадь, схрупало три куска сахара и теперь мчалось дальше, весело согревая живую кровь, которая вмиг обсушила жарким ветром его лицо, орошённое смертным потом и стянутое колючим льдом.
Отец подошёл, и обнял, и поцеловал Алёшу в макушку. Он сказал:
— Этот тип свалился, как сковородка с гвоздя. Но завтра мы будем одни. И послезавтра мы будем одни. И я, Алёша, кое-что тебе объясню… Это ты не видел меня три года. А я тебя видел… каждый день. Где бы ни был, о чём бы ни думал… Не говоря уж о том, что я дважды в месяц езжу в командировки в Москву, чтобы глянуть, как ты там… ну, идёшь в спортивную школу. Завтра! Все завтра! Завтра я напишу твой портрет! Завтра я смогу с тобой говорить о серьёзных вещах… Ты даже не представляешь себе, из-за какой чепухи люди в молодости… в молодости они так беспощадны друг к другу! А в моём уже возрасте… они безгранично терпимы. Спать! Всё будет завтра — и силы, и время, и слова!
Алёша пошёл за отцом по узкой тропе, облитой лунным сиянием, пошёл сквозь кустарник, замглённый пылью и пухом, сквозь дикий сад, отливающий чёрной зеленью и серебристой — с изнанки. Отец закурил, и дым его сигареты струился через плечо, на Алёшу, и с каждым шагом Алёша вдыхал этот дым, хоть он ему не был сладок. Но кто-то устроил так, что выдох отца приходился на вдох сына. И как ни старался Алёша изменить это ритмом ходьбы, ничего у Алёши не получалось, не выходило ему облегчения — на каждый выдох отца всё его существо отвечало вдохом: выдох — вдох, выдох— вдох… Алёша почувствовал, что он выдыхается, прибавил шагу и обогнал отца. Там, впереди, воздух был чист и лёгок, и в чернозёме неба сверкали крупные, круглые звёзды, шевелясь в своих лунках и бесшумно в них проворачиваясь.
Гриша лежал в раскладушке, упираясь локтем в брезент и держа на ладони свою пшеничную голову.
— Я тебе постелил, — сказал он Алёше.
И Алёша увидел у другой стенки кровать, накрытую одеялом с белым отогнутым уголком. Он разделся и лёг, потянувшись, как кошка, и весь наполнился тем блаженством, той дивной, всё утоляющей благодатью, которая так сладко поёт о божественном происхождении наших трудов и нашей усталости.
Гриша громко зевал — до слёз, но ни за что не хотел засыпать. Завелась в нём тревога, предчувствие, расплывчатая, но звонкая грусть — на тайном ветру дрожал её ледяной колокольчик. Он вылез из раскладушки и тихонечко потащил её к Алёшиной кровати, шлёпая по полу босыми ногами.
— Алёша… ты спишь?
— Не-е-ет! — отвечал Алёша сквозь дрёму.
— Расскажи мне сказку, Алёша. Мне страшно, когда я не сплю, а темно.
— Ну, слушай. Слушаешь?
— Слушаю, слушаю! Я весь слушаю.
— Погнался волк за двумя зайцами — и обоих поймал! Притащил за уши зайцев домой и спать положил в сковородку, чтобы съесть их тёпленькими — одного зайца на завтрак, а другого — на ужин.
«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу! Где же я это прочел, у какого заморского волка? — подумал волк, засыпая на овечьей шкуре. — Так или иначе, а друга у меня нет — последнего я съел на той неделе. И врага у меня нет — последнего я съел, когда съел последнего друга. Тоже, значит, на той неделе. Не с кем мне разделить обед и некому отдать ужин. Придётся всех зайцев самому съесть. Всё-таки я очень Одинокий Волк!» — и во сне он заплакал скупыми волчьими слезами.
Не всегда зайцу весело, когда волк плачет. Иногда волк плачет перед тем, как зайца слопать. Это он слезами зайчатину по вкусу подсаливает, потому что волк терпеть не может пресной пищи! И он бы ел траву, капусту, морковку, одуванчики с лютиками — чего проще? Ни за кем не гоняйся, рви себе травку да жуй в свое удовольствие! Он бы даже молоко давал и шерсть кой-какую — что ему, жалко? Но для этого пресная пища нужна, а от неё волку дурно делается и лютость его возрастает на семьсот шестьдесят процентов — и волк начинает кипеть! А волки кипят при ста градусах. Зайцы всё это в первом классе проходят, как таблицу умножения, и контрольные пишут в конце каждой четверти. И все зайцы очень любят пословицу: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь!»
А тут погнался волк за двумя зайцами — и обоих поймал. Оба — серенькие, оба — пушистенькие, оба — ушастенькие. Но один — Трусливый с большой буквы, а другой — Храбрый с большой буквы. Трусливый Храброму говорит: «Ты тихо лежи, не дрожи, лапки сложи, притворись дохлым. Волк тебя как негодного и несъедобного выбросит! И меня вместе с тобой. Тут мы и дадим дёру! А он за двумя зайцами погонится — ни одного не поймает!» Ты слушаешь?
— Слушаю, слушаю! Я весь слушаю.
— А Храбрый Трусливому говорит: «Я не от страха дрожу. Я силу так собираю. Я весь напрягаюсь, чтобы волка шарахнуть кочергой по лбу! Я не могу притвориться дохлым, у меня не получится, я очень дрожать буду или от страха взаправду помру! Лучше я этого волка враз кочергой оглоушу!»
«Это очень и очень рискованно! — говорит Трусливый с большой буквы. — А вдруг ничего не получится? Кочерга сломается? Или волк догадается, о чем ты думаешь? Нет, мой план лучше!»
Тем временем волк стал заливисто похрапывать, посапывать, сладким сном спать… Ты слушаешь?
— Слушаю, слушаю! Я весь слушаю.
— Три, четыре! — сказал Храбрый заяц, прыгнул, как лев, схватил чугунную кочергу — и волка со всей силы по лбу звякнул! Бемц! И распластался волк тихонечко, гладенько, словно пустая шкура. Морда смирная, лапы враскидон — хоть пылесось его!
«Ура! За мной! — крикнул Храбрый. — Мы спасены!»
А Трусливый лапки откинул, ушами закрылся и притворился дохлым. «Мой план лучше!» — сказал он Храброму. — А вдруг ничего не выйдет? А вдруг волк очнётся, озвереет, помчится за нами, как бешеный, — и съест! Ведь не зря у зайцев пословица: «Волка ноги кормят!»
«Не ноги кормят волка, а зайцы!» — сказал Храбрый и удрал в лес на волю.
Там, на воле, мы с ним в друзьях — не разлей вода: песни поём, за морковками путешествуем, истории с приключениями рассказываем, волков по ночам пугаем страшными голосами.
А ты спи, не бойся! Ты спишь? — спросил в темноту Алёша.
Гриша сладко посапывал. Он враз вырубился из яви и рухнул с её крутого берега в глубокое забытьё, и мгновенно утоп, и зарылся на самое дно, как ракушка. Лишь в раннем детстве так быстро над нами смыкаются воды и воздухи сна, бесшумно вливаясь в каждую лунку сознания, в каждую щёлку и трещину, в каждый глухой тайничок нашей памяти, где столько сахарных, чёрных семян закатилось, застряло, чтоб разрастись и во сне расцвести, и родить впечатленье и чувство.
— Ма-а-а-ма, ма-а-а-мочка… — Гриша вдруг заскулил во сне так тоскливо, так жалобно.
И сон отлетел от Алёши, как пуговица от шубы — на зимнем ветру, когда воротник нараспашку и холод в самую грудь! Он поёжился и натянул одеяло, а потом нырнул под него с головой и начал дышать, чтоб тепло накопилось и в этом тепле чтобы снова завелся какой-нибудь сон. Но из этого ровным счетом ничего у Алёши не вышло.
Не к месту и не ко времени напала на него совершенная бодрость. Эта бодрость раскутала всё дневное, всё, что он так старался в душе усыпить, чтоб оно не заплакало. И вдруг завладела Алёшей жгучая ясность. Он тихо оделся и вышел на воздух. Ночь показалась ему слишком светлой. Посмотрел на часы — половина третьего. В мастерской у отца горел свет. Отец работал.
Прижавшись к стене, краем глаза Алёша увидел высокий и узкий холст, прорисованный углем. Трифон сидел на сосновом ящике, пил чай из пиалы и разговаривал страшным шепотом вперемежку с неукротимой зевотой:
— Бессонница, старик, тугие паруса!.. И, Бог мой, какая только чертовщина не лезет в голову, когда у человека отшибло сон по прихоти судьбы. Прошлым летом, когда я писал декорации, там один парень приезжал… научный такой парень, с проблесками гениальности. Он не спит, я не сплю. А какое-нибудь дерьмо, вроде Чимкелова, спит, между прочим, безо всяких снотворных, часов по восемь, а захочет — по десять! Так вот мы с этим парнем, он тогда Пушкиным занимался, и я ему, как художник, был до зарезу необходим, ты же знаешь рисунки Пушкина… так вот мы с этим парнем восстановили все пушкинские строки, пропущенные во всех собраниях сочинений.
— Как восстановили?! В каких собраниях сочинений?
— В обыкновенных. Мы их сочинили, старик! Представь себе! Сочинили, исходя из того, что Пушкин написал до этих строк и после.
— Какое варварство! Варварство!.. Варварство… — задыхался от гнева отец.
— Да что ты так кипятишься? Работу, между прочим, приняли на ура. И напечатают. Когда времена будут получше. Ты какой-то, Боткин, закомплексованный и живешь не в данном конкретном времени, а в идеальном и вечном, где всё единственно и неповторимо. Я бы даже назвал это болезнью Боткина! — и он хохотнул, страшно довольный своим каламбуром. — Ведь мы реставрируем старых мастеров — и ничего, весь мир смотрит, и сам чёрт не разберёт, где кто приложился! Умеючи, и Пушкина реставрировать можно. Не всем, конечно. Но некоторым. Всё можно, умеючи! Я бы, например, будь на то моя воля, все бы чумные кладбища раскопал. Уму непостижимо, сколько там золотых и алмазных фондов зарыто! Ведь тогда люди всё лучшее с собой брали в могилу. Сами перед смертью надевали на себя всё самое драгоценное: браслеты, перстни, серьги, гривны, диадемы, золотые плащи, туфли, цепи, нарукавники, набрюшники! Под мышку — золотой кувшин, пять кило весом, молитвенник в золоте, в серебре с брильянтами, изумрудами, сапфирами! Под голову — золотую подушечку ручного плетения! А ткани! А утварь! И всё это лежит там веками, в полной целости и сохранности — потому как боятся копнуть. А чего бояться? Чего? Чумы? Так есть ведь противочумные костюмы! И можно воздух в окрестностях опылять какой-нибудь прививкой, чтобы население не пострадало. Всё можно, умеючи! — Трифон хлебнул хладного чаю и прибойно выпустил воздух из лёгких.
Алёше вдруг показалось, что дыхание Трифона источает смрад бубонной чумы. Но что ужасней всего, подумал Алёша, так это то, что одно с другим связано… не вполне научно, но связано… Одной идеи разграбить чумные кладбища — вполне достаточно, чтобы вспыхнула вдруг чума, микроб которой живёт вечно даже в могиле, облитой едкой известью, испепеляющей кости.
— Тебе, Трифон, в детстве какие прививки делали? — услышал Алёша глухой шепот отца.
— Какие всем. От кори, от коклюша, от дифтерита. От оспы первым делом. А что?
— Тебе ещё сделали прививку от страха Божьего, от мук совести, можно сказать… На этот счёт у тебя зверский иммунитет.
— Да уж! — хихикнул Трифон. — Нет как нет у меня болезни Боткина! Это я здорово про тебя скаламбурил — в самую бубочку! Болезнь Боткина, ха-ха, хо-хо!
Алёша тихонько вернулся в саклю. Маленький Гриша весь утонул в раскладушке, но спал вверх лицом, на котором играл удивительный свет, то ли лунный, то ли звёздный, то ли ещё более дальний и сильный.
«Я, пожалуй, сейчас поеду. Спать мне совсем не хочется. Сахар ещё остался, на дорогу как раз хватит. Куплю в крайнем случае, — шёпотом думал Алёша. — А маму Грише никто не заменит, он еще маленький, маму во сне зовет… а мама тоже где-то поблизости не спит, глаза таращит… Я, пожалуй, сейчас поеду».
Алёша вынул брата из раскладушки и перенёс на свою кровать, — чтобы спать ему было просторнее. Сонный Гриша обнял Алёшу за шею и засопел ему в ухо. Младший брат — это чудесно, подумал Алёша, это здорово, когда младший брат так беспомощно тебя обнимает во сне и сопит тебе в ухо! А всякое там… со временем тоже уладится. И притом с таким замечательным братом я сумею всегда сговориться, мы будем друг другу писать, и потом он приедет ко мне. Он же будет всё время расти и всё понимать, у него и сейчас уже есть характер и воля: «Человек! Мы же — братья!» — вспомнил Алёша, улыбнулся и подошёл на цыпочках к печке, там он видел днем карандаш и ломтик картонки. Вот они! Улыбаясь, Алёша нацарапал карандашом на картонке несколько слов и положил это на видное место — не под подушку Грише, а рядом, на простыне, чтобы он, проснувшись, сразу нашел послание брата.
Теперь Алёша хотел оставить записку отцу. Без этого он никак уехать отсюда не мог. Но бумаги больше нигде не нашлось. Зато нашлась коробка с розовыми мелками. Алёша взял оттуда один розовый стержень и, сойдя бесшумно с крыльца, написал на дощатом столе: «Дорогой папа! С болезнью Боткина жить можно. Я поехал. Алёша».
Он отвязал лошадь и спустился с ней по тропе с другой стороны, не с той, откуда приехал. Какая удача, что кто-то когда-то протоптал этот путь с противоположного склона!
Теперь Алёша тихо-тихонечко объехал скалу и глянул вверх — на прощание. Там, в скале, наверху, была голубая сакля с верандой, побеленная известью с синькой. За одной голубой стеной спал Гриша, очень младший и очень родной брат, мама которого где-то поблизости таращит глаза и не спит. За другой голубой стеной курил и работал очень старший и очень родной отец, художник Сергей Боткин, который детям своим передал по наследству удивительную болезнь, можно сказать, душевную.
Алёша распрямился и полетел. На востоке уже золотилось прозрачное небо, расцветая воздушными облаками. Облака на глазах превращались в самую разную живность: вот прошёл кудрявый баранчик, стал баранчик кудрявой собачкой, собачка — кудрявой кошкой, кошка — кудрявой курицей, курица стала бабочкой, бабочка — дальше некуда… вишней.
Вишнёвое солнце вышло из моря.
Всаднику было на вид лет тринадцать-четырнадцать. Краснокожий, с узким скуластым лицом, был он похож на индейца. Тугая повязка вокруг головы сдерживала длинную чёрную гущу над бронзовым лбом. Во всём его облике наблюдалось достоинство души, мыслящей самостоятельно и привыкшей изъявлять свою волю. На миг он крепко закрыл глаза, ослеплённые ранним солнцем. И увидел такое же солнце в собственном существе. Это солнце вращалось, разгораясь в космическом мраке телесной Алёшиной жизни. Он хотел удержать это солнце навеки в недрах одушевлённого тела, — чтоб, как сердце, пульсировал в ритме Вселенной этот огненный мускул неба.
Но, разгораясь, Алёшино солнце уменьшалось, сжималось и наконец превратилось в блестящую синюю звездочку, которая скрылась в незримых звёздных глубинах, однажды родясь в глубинах Алёшиной жизни, ослеплённой утренним солнцем Крыма. Эта звёздочка, подумал Алёша, свободно плавает в каждой капле пространства и времени, но рождается лишь в человеке, который смотрит на солнце, а потом закрывает глаза. Эта звёздочка — вроде мысли, когда моя воля её отправляет плавать по миру, чтобы узнать, какой он… там, где я никогда не буду.
И он снова проделал свой солнечный фокус, и снова в Алёше зажглась блестящая синяя звёздочка — посланница солнца.
От такой чепухи, доступной каждому смертному, он испытал сильнейшее чувство любви, свободы и счастья. И запел свою какую-то песню без слов — как птица. Как птица, поющая благодарение радости.
Многие утром спустились с гор по разным делам — на бахчу, на кукурузное поле, на почту, в контору. И увидели, как промчался поющий всадник. Они сочли это добрым знамением — и дела их пошли на лад.
Уходя, не выключайте свет совести!
Табуретка
Жили-были старик с табуреткой. Старику было сто лет, и стал он такой маленький, что спал в колыбели, а табуретка ногой колыбель качала и пела ему песенки.
Бывало, проснётся старичок Филофей, а тут как тут табуретка стоит с кашкой и тёртой свёклой или с пюре морковно-яблочным.
Потом бежит, кувыркаясь, табуретка на рынок, в аптеку, в магазин и на почту. На почте она шлёт открытки и письма детям, внукам и правнукам старичка Филофея, поздравляет их с Рождеством, с Новогодом, с Первомаем, с днём рожденья и с днём именин, а внизу подпись ставит — «Ваши старичок Филофей и табуретка».
Потом она домой скачет с творожком, с овощами, с овсянкой, с лекарствами травяными. Дома быстренько табуретка одевает старичка для прогулки, кладёт его в детскую коляску, на сквер катит, а там уж, на сквере, они за ручку гуляют, и табуретка покупает старичку леденец на палочке или воздушный шар.
На прогулке следит табуретка, чтоб у старичка Филофея шарфик не развязался, а то ведь простудится старичок с непригляда, будет чихать, кашлять, в ознобе трястись, бредить в жару и звать свою старушку, жену-красавицу Анастасию Васильевну, которая давно улетела на небо.
Жарким летом табуретка водила гулять старичка Филофея в одних трусиках и в панамке. Сама, бывало, стоит на берегу озера, а старичок там в озере плавает, от жары отдыхает. А потом табуретка растирает его большим голубым полотенцем с цветами и дает сладких черешен.
Летними вечерами табуретка варила на зиму варенье из роз и вишен и рассказывала старичку сказки, а он пил чай с молоком и с пенками от варенья. Больше всего старичок Филофей любил варенье из райских яблок и «Сказку о золотом петушке».
А ночью, когда старичок Филофей спал очень сладко, табуретка любила стоять на балконе и на звёзды глядеть, от звёзд у неё ноги болели не так сильно.
Однажды во сне старичок Филофей улетел на небо. Табуретка тихонечко застонала и закачалась, упала в обморок. Потом обмыла она старичка Филофея, одела во всё новое и послала телеграммы детям его, внукам и правнукам. Они приехали на поездах, приплыли на пароходах, пешком пришли, старичка помянули, дом его продали, а табуретку выбросили — у неё потому что одна нога была короче других.
Вот хромает одинокая табуретка по улице, а тут я из бани бегу и ей говорю:
— Здравствуйте, табуретка! Очень рада вас видеть. Не свободны ли вы случайно сегодня вечером? Приглашаю вас на чай с пирогом, у меня как раз день рожденья, мне сегодня исполняется пятьсот лет.
Справили мы с табуреткой праздник, и так хорошо нам было вдвоём, что стали мы вместе жить. Теперь, когда нет меня дома, табуретка на телефонные звонки отвечает и на бумажках записывает — кто звонил да по какому делу. Когда меня обижают, она покупает мне ландыши. А летними вечерами мы с табуреткой стоим на балконе, глядим на звёзды и шлём открытку старичку Филофею на небо:
«Дорогой Филофей Пантелеевич!
Мы Вас помним и нежно любим. Сегодня была гроза. После грозы посвежело, мы чирикали и качались на ветках липы. А потом опять припекло, нынче — жаркое лето, на балконе лимоны выросли. Вчера был Ваш юбилей и портрет Ваш во всех газетах и по телевизору. Выглядели Вы замечательно.
Желаем Вам благодати.
Обожающие Вас —
МАРУСЯ И ТАБУРЕТКА».
До и после обеда
Всякий раз, как мне попадаются на глаза киноленты и книги про шпионов, разведчиков, сыщиков и бандитов, я вспоминаю во всей живости одну бесподобную историю о том, как целых двадцать четыре дня прожила я в комнате — между гестапо и НКВД.
Нас разделяли только дощатые стены, за одной из которых гестапо допрашивало разведчиков — до и после обеда, а за другой НКВД допрашивало бандитов, агентов и шпионов — после обеда и до.
Дело было летом, году в шестьдесят пятом, на берегу Понта Евксинского, или Понта Скифского, или просто Понта. В общем, меня взяли на Понт, в город Гагру, где платаны, магнолии, розовые птицы и все чудеса райских садов. Правда, в этом раю грохотала железная и автомобильная дорога. Но одноэтажное, длинное строение под названием «Деревянный корпус», голубое снаружи и сырое внутри, стояло так близко к волнам, что грохоты всех дорог утопали в морском гуле. Там круглые сутки длился концерт природы, ветры свистели, море ходило, волны гуляли, чайки вопили, дети визжали от счастья, шпарило солнце, ливни гремели, всё заглушая, кроме кое-чего… А справа и слева от моей комнаты обитали авторы детективных произведений.
В семь утра за стенкой, где стояла моя кровать, начинало работать гестапо. Их было двое. Один говорил другому:
— Значит, так!.. До обеда — я допрашиваю тебя. После обеда — ты допрашиваешь меня. Во время допроса всё идет под машинку в трёх экземплярах. Допрос — перламутровый, переливчатый. Море видишь? А жемчуг на дне видишь? Так вот, жемчуг — ерунда. Главное — раковина: сюда падает свет — она зелёная, туда падает свет — она красная, а туда-сюда падает свет — она синяя, красная, зелёная, фиолетовая и так далее. Главное — куда падает свет при допросе. Это же гестапо, старик, ге-ста-по! Зрелище, ужас, игра! Я почти приволок тебя на виселицу. Теперь ты должен сработать, как фокусник. Туда бросай свет, сюда бросай свет, напрягай меня, отвлекай вниманье на мелочи, рассеивай, колдуй на конвейере обманных движений, привораживай к ерунде — и вешай лапшу на уши! Ну виртуозно так, артистично… Игра называется «Чем больше смотришь, тем меньше видишь». Но каждый раз должна получаться чистая правда, чи-ста-я! Понял? А чистая правда, она из чего получается? Из лапши, из виртуозной лапши!.. Из фокуса, больше не из чего. Старик, сегодня допрос будет кошмарный, ты наследил, а твоя любовница скурвилась с английским агентом.
Потом они шли на завтрак и весь день допрашивали друг друга с двумя перерывами для купания.
На пятые сутки я развернула свою кровать к противоположной стенке.
В семь утра за этой стенкой начинало работать НКВД. Их было трое: двое мужчин и женщина.
— Значит, так! До обеда я допрашиваю тебя, — говорила она. — После обеда ты допрашиваешь его. В это время я схожу на базар. А потом вы оба допрашиваете меня. Труп находится на экспертизе. Шарфик покойницы опознали прохожие на Марье Петровне. Но банда ещё должна наследить, а мы выследить. Если работа пойдёт, сегодня появится на пароходе немецкий агент с чемоданом денег и с рацией. НКВД получило шифровку от Рябчика и очень тихо ведёт агента. На допросе вполне допустимо психическое давление, даже пытка страхом, тихим ужасом и ожиданьем кошмара. Ребятки, если б вы только знали, как загробно делает это Хичкок!.. Нам показывали на закрытом просмотре. Вот Хичкок — это настоящее НКВД! — и она снимала купальник с веранды.
Потом они шли купаться и до ужина допрашивали друг друга с перерывом на обед. Несмотря на жару, они делали это в комнате.
Тогда, поразмыслив, я перетащила свою кровать на веранду и занавесилась.
О, ужас!.. Работа у них не клеилась, они торопились и приступили к допросам с пяти утра. Теперь с двух сторон я слышала два допроса одновременно, справа — гестапо, слева — НКВД:
— Что вы делали на Фридрихштрассе в среду вечером, когда ели омаров?
— Откуда у вас, Марья Петровна, этот шарфик покойной гражданки Моськиной?
— На Фридрихштрассе вечером в среду? Что я делал? Я? Ел омаров.
— Этот шарфик покойной гражданки Моськиной я купила на распродаже в райкоме, вот квитанция!
Не вытерпев лютой пытки, я постучалась в гестапо, которое занимало две комнаты, во второй жили их дети. Гестаповцам я сказала, что слышу все их допросы с пяти утра, и очень их попросила переселиться с детьми поближе к НКВД, а вместо моей отдать мне их детскую комнату. Они с удовольствием это сделали, но спросили сперва: «Чьи допросы лучше, у нас или у них?» Я сказала, что нечего даже сравнивать этого Шекспира с теми сапогами. Все были счастливы, у гестапо случился творческий подъем.
Но как же я потом хохотала, когда ранним утром их дети за стенкой проснулись и звонко-звонко сказали друг другу:
— Значит, так! До обеда я допрашиваю тебя. А после обеда ты допрашиваешь меня. Вам барыня прислала сто рублей! Что хотите, то купите. Да и нет — не говорите. Чёрный с белым не берите. Вы поедете на явку?
— Поеду.
— Вы — шпион или разведчик?
— Я — графиня.
— Резидент или агент?
— Я — графиня.
— А какого цвета граф?
— Голубого.
— А какого цвета зубки?
— Розового.
— Эх, графиня, вы же графа провалили! Он теперь пропал!
— Почему?
— А потому, что зубки — розовые! На зубки маску не наденешь — их везде видно, когда едят и улыбаются. По этим зубкам мы теперь его поймаем.
— А вот и нет! У графа зубки вынимаются! Они кладутся в чашку и в любой тайник. Например, в дупло. В этих зубках оставляет граф секретные записки, граф секретные записки оставляет в этих зубках! — дразнилась графиня, игравшая всех прекрасней в эту страшно древнюю «игру в допросики».
Тайная жизнь Ангелины Суковой
Призрак был в ярости. Он являлся к ней еженощно не по собственной воле, не гонимый коварством и злобой, тем более — жаждой возмездия, которая была ему отвратительна и враждебна всем его предыдущим жизням. Но помешательство плотской женщины, документально-биографические навязчивости энергичной гражданки Суковой вытаскивали его еженощно с того света на этот.
Теперь же он, весь прозрачный, как под рентгеном, сидел на перильце кресла как раз напротив телесной внешности Суковой Ангелины и языком беззвучным, загробным, не разжимая чернильных губ, задавал ей вопросы, не приличествующие привидению-призраку, достигшему высокой ступени и степени доступа к тайнам развоплощённого знания.
Судите же сами, благородно ли, мудро ли — наконец, призрачно ли — спрашивать у злодейки, убийцы и лгуньи: как могла она пасть так низко и пуститься на подлый такой обгон и захват, обрекающий жертву на гибель уже после смерти?.. Ведь теперь он, призрак, прочёл своё место в Книге Судеб и вполне постиг идейно-художественную силу и роль предопределения.
Хуже того, до столь глубочайших тайн допущенный призрак подлежал бы немедленной каре, если бы стал преследовать исполнителя предопределённых злодейств, в данном конкретном случае — гражданку Сукову, энергичную общественницу и вообще звёздную женщину.
Ангелина же Сукова была особа чувствительная и мигом почуяла, что если всё же является ей окаянный призрак, пусть даже насильственно заарканенный, значит, совесть её угрызается искренне, плодотворно и на верном пути. А это сулило надежду на искупление и ходьбу в ногу со временем, и даже на святость в грядущем.
Всей силой и ловкой хитростью своего социально-исторического чутья и опыта Сукова еженощно вонзалась в это несчастное привидение, вцеплялась в его туманность и, словно коршун с курёнком в когтях, приземлялась в своей огромной квартире с этой страшной и сладкой добычей. Покаянная Сукова и окаянный призрак — только такой расклад мог спасти её окончательно, а его окончательно погубить.
Призрак был совершенно гол и всю дорогу выскальзывал. Поначалу Сукова материлась, что её покойника бросили в общую яму, безо всякого даже исподнего. Ну хоть бы одна тесёмка, чтоб ухватиться, — так нет же! Ни шиворота, ни выворота, ни ремня, ни резинки от трусов, ни пуговицы, ни пряжки. Но Ангелина Сукова помнила, что была у расстрельного буйная грива, роскошная шевелюра волнистая, и на всякий случай вкогтилась огневым маникюром в лёгкую дымку, в курево над его продырявленным черепом, — так и есть, она самая, гуща и чаща волос!.. Надо же, люди живые лысеют до полного блеска, а тут — ни мяса, ни кожи, — на чём только держится да из какой же материи прёт шевелюра? Однако — реальность! За неё ухватясь, тащила Сукова призрак сквозь горние мраки в дольние тьмы, страдая бессонницей и острым воспалением чувства исторического момента: в кратчайший срок искупить вину покаянием!..
Перво-наперво призрак категорически не желал с ней вступать ни в какое общение. Был он облит негашёной известью, весь оброс мерзлотой и страшно светился, ограждаясь от хищно духовных и плотских раздумий и угрызений прозревшей гражданки Суковой. Она же, однако, в звёздных боях закалённая, в изящных делах исступлённая, искушённая блистательным взлётом под карканье и чириканье завистников и соперников, проявляла терпение и чудесную выдержку, с адским упорством добиваясь от призрака признанья — чистосердечного и добровольного! — её вины перед ним и отпущенья её греха по всей совокупности эпизодов.
Грех он ей отпустить никак не мог, перейдя в столь прозрачное состояние. Не в его теперь это власти. Перед смертью он всех простил, повалясь расстрельным лицом на землю. Всех простил он, очистясь вмиг сквозь восьмую дырку в бритой наголо, для чистоты, голове. Но до самой смерти ничего не знал он о подлых действиях Суковой, никогда её внешность не видел, и она его тоже видела только лёжа с биноклем на крыше. А в нынешнем образе он ничьей вины признавать, повторяю, не мог, — поскольку там, где он опрозрачнился и пребывал, обреталось конечное знание и даже смутная память о чьей-то вине беспощадно каралась паденьем, низверженьем погибельным в бездну.
Это он дал понять Ангелине Суковой синим светом очей, изъятых посмертно для юмора в эпосе посредством сторожевого штыка. Но доводы призрака ей показались недостаточно убедительными, ничем существенным не подтверждёнными и возникшими вследствие отсталого суеверия. Поэтому, обзаведясь необходимыми для столь чудесного дела запасами водки, эта Сукова еженощно грабастала призрак, исхищая из тьмы, и за волосы притаскивала к себе, чтобы тыкать в его беззащитный, безносый, безглазый, безротый, безухий череп вещественные и алкогольно-документальные улики своей неизбывной, подлой вины. Призрак тогда окутывался толстыми, глухими туманностями, кометными пламеньями, заглушающими по мере сил уговоры, матерщину, рыданья и ласковый шёпот покаянной гражданки.
А она сидела нарядная, с молодёжной спортивной стрижкой, в изумрудах, сапфирах и яхонтах, подмалёванная французской косметикой поверх резиновой маски, с жабьей кожей, растянутой и отвислой, как снятый с ноги чулок.
— Тить твою в ухо-горло-нос, лютое привидение! — говорила печально Сукова. — Из-за тебя нет никакого мне продвижения к духовному совершенству. Что ты смотришь синими брызгами? Иль в морду хошь? Тебе уже всё равно, ты на том уже свете и думаешь только, падла, о вечном своем покое, очищенье и благодати. Милости нет в твоем сердце, да и сердца ведь нет у тебя никакого. Тьфу ты, мертвяшка дырявая! Чурбан! Козёл! Где твоя милость к падшим? Выпьем с горя! Где же кружка?.. Я, здоровый, цветущий, живой человек, полный сил, с большими запросами, со взглядом на вещи, вот уже сколько лет пью по ночам вёдрами, ублажая тебя — отродье ошибок сдохшей эпохи — признать очевидность моей ни в чём не повинной, невольной, утратившей силу вины и отпустить мой нечаянный грех, заблужденье моей безупречной преданности всеобщему делу и счастью обманутых, как выяснилось, людей. Теперь, выходит, какой-то Обломов — голубь мира, герой труда. Ему-то как раз обломилось — лежал себе на диване и ничего такого не делал, пока другие, не покладая рук… Эти — спустя рукава, те — как рыба об лёд, а все кругом виноватые. Все — без исключения!
И тебе ещё тоже, псих знаменитый, придет время просить у меня прощенья на том свете. Так что моли Господа, чтоб я подольше жила и там подольше не появлялась…
Тут как раз на плите засвистел, как милиция, чешский чайник, синий в цветах, и Суков а кипятком плеснула в заварку да промахнулась — вскочил на ноге волдырь, хотя известное постное масло вовремя само опрокинулось и прицельно так потекло на ожог сквозь дырку в чулке. Но ведь нынче-то постное масло совсем извратилось и прескверного качества, поскольку всем на всех наплевать, и такой вот плевательный бассейн получился.
Поджав несчастную ногу, Сукова доскакала, как цапля, и уселась напротив призрака дуть на волдырь, поплакивая. С ресниц потёк синевато-зелёный соус, отчего лицо этой Суковой Ангелины сделалось полосато, как филе, запечённое на решётке. Улучив такой подходящий, благоприятный момент ослабления её покаянной стервозности, призрак стал поспешно рассасываться. Но абсолютное одиночество сопровождается резким похолоданием, как известно, — и Сукова так быстро замёрзла, что вовремя вдруг спохватилась, подпрыгнула на одной здоровой ноге и втащила призрак обратно, вцепясь в его гриву так сильно, что ноготь у ней сломался и пальцы влипли во что-то хлипкое, вязкое, похожее на чайный гриб, — она до сих пор отряхивает эту скользкую пакость.
— Цыц, мерзкий гордец! И не делай мне тут утечку мозгов. Все подряд, все кругом виноваты, запомни! Да я бы тебя повесила хоть сейчас — за все те гадости, что я тебе сделала! Не будь тебя, разве стала бы я такой?! Такой потаскухой, пьяницей, с бредом, бессонницей, дрожью, мурашками, червячками, кошмарами? Не будь тебя, перед кем бы я так унижалась? Тьфу, окаянство! Я жуть как боюсь мертвяков, тем более призраков. Но, видишь, приходится… Тебе хорошо, ты — привидение, а я ещё — действующее лицо, энергичная женщина времен покаяния и возрождения. Ты разве дожил до этих времен? Нет! Ты даже не знаешь, как тебе повезло. А вот я дожила. И что? Теперь по ночам гоняюсь за такими вонючими привидениями. Думаешь, ты у меня один? Хо-хо! Как бы не так! Вы же друг друга не видите!.. Каждый видит только меня — сквозь затылок другого, а вас тут не меньше полсотни, проклятая гниль. Я одна на всех, а вы — анфиладами, как зеркало в зеркале, то веером, то карточной колодой. Ой, где ж я прочла, что призрак рассыплется, если ткнуть его пальцем?.. Ткну — и рассыплешься! Но давай лучше сделаем менку, бартер по-иноземному: возьми себе мое покаяние, дай мне свое прощение, тогда все остальные призраки сделают то же самое и провалятся, с Богом, в отдельные тартарары, в тартарарам… Тар-тара-рам, тар-тара-рам…
Так напевая, Сукова углядела, что совсем еще рано, только три часа ночи, до утра еще далеко, и стала она звонить неведомым братьям и сестрам. Сначала по телефону 1234567 — никто не ответил. Тогда она набрала 2345678 — гудки и молчание, спят, гады. По телефону 3456789 полчаса никто не шевельнулся, потом раздался мат корабельный. Сукова шла до упора — набрала 4567890 — там был автоответчик с музыкой. А телефона 12345678910 в нашем городе не было, но Сукова набрала и его наугад, безо всякой надежды. Ей оттуда ответил загробный голос:
— Алле!!! Алле!!! Говори, Сукова… А то щас приедем!
Но говорить она не могла, потому что призрак ткнул ее пальцем — и она рассыпалась, вся, окончательно. И, когда он встал, разминая кости, и пошел растворяться, не торопясь и не озираясь, она уже не подпрыгнула и не рванулась ему вослед.
Её голова и руки рассыпались на столе, туловище и ляжки — на стуле, а обе ноги — под столом, как столбики пепла. Утром, сметя себя в кучку, она пепел свой скрутит потуже, как в цыгарке табак. И будет долго раскрашивать, штукатурить, румянить, помадить это сгоревшее, слоистое, серое. И протиснет это в прогулку на свежем воздухе у пивнушки, и потом привезет это в клуб, где ее понимают чудесно, и на службу, и в гости, где ей хорошо и радостно, так легко и не так одиноко, и даже совсем не страшно. Не то что дома, где можно сойти с ума.
А что касается призрака, прошу обратить внимание, драгоценный читатель, на одну привлекательную особенность: когда был он жив, прекрасные женщины вытаскивали его постоянно с того света на этот.
НЕ ТОПТАТЬ!
Сыр, индеец и надежда
Жил-был Сыр. Снаружи — круглый и красный, а внутри — со слезой и с большими дырками. Он в масле катался, да и сам был продукт. Наивысшего качества, талантливой жирности, с большим содержаньем минеральных солей. Он катался на службу, где многих вывел в сыры: одних — в крупные, других — в очень крупные, а третьих — «по собственному желанию».
Очень крупные сыры были квадратные и прямоугольные или колесом — всё зависело от пресса! Чем прессы прогрессивней, тем крупней сыры. Очень крупные раз в месяц совещались, просто крупные всё время совещались: кого переплавить? кого растереть?..
У Сыра были жёнка и трое детей. Жёнка — голландская, две дочки — швейцарские, а сын — рокфор! От первого брака было два внука: один — камамбер, другой — пармезан.
А у нас в тот год корова у колонки в лед вмёрзла. Еле отодрали, еле ископали, глядь — а она вся мамонт!., о молоке и речи быть не может. Отвели в музей. Музеец говорит:
— Это — не подделка, а подлинник мамонта, отличная сохранность, полный комплект. Мы б его купили, но у нас большие трудности. Денег нету. Можем обменять вашего мамонта на нашего индейца.
— Зачем нам индеец?.. Вещь бесполезная — ни молока, ни масла, ни сметаны, ни сливок, ни творога, ни сыра. Это — не продукт!
— Индейца не хотите? Ну, как хотите! А все равно мамонт не может вам принадлежать, он — государственный. Это ископаемое — наше достояние, принадлежит народу, науке и культуре, передовой общественности. Вызовем милицию, составим опись мамонта и конфискуем в пользу поколений. Меняйте вашего мамонта на нашего индейца, а то будет хуже! — говорит музеец, грубиян и жулик.
Ну его к черту! Взяли мы индейца. И правильно сделали, нет худа без добра. Индеец был тихий, курил себе трубку и сажал маис. От этого маиса, то есть кукурузы, вспрыгнули на ножки дохлые коровы, козы и овечки, гуси и жирафы, зебры и удоды, сами поскакали, дали молока!.. Загудели прессы на нашей сыроварне. Ох, нет добра без худа! Главный Сыр от радости съехал с катушек, в кресло покатился, запер свой кабинет и составил списки: кого переплавить, кого растереть.
Сижу и дрожу за бедную Надю, за Надежду Павловну, за душу святую. Так оно и есть! Сыр вызывает и Наде говорит с великим отвращеньем:
— Вас не переплавить, вас не растереть! Вы — старородящая! А у меня сырьёзный, ответственный сыр-бор. Кассыру из Минсыра, из Минсыробороны обещано давно, освободите место для юной пармезанки, дорогу — молодым!
Надя — на грани. Индеец курит «Яву» и думает: «Хана! Ведь он её угробит. Надо что-то делать, кому-то позвонить… Узнать — кого боится вонючий этот Сыр? И кто стоит на прессе?..»
А там на прессе как раз стоит приятель нашего индейца. Ему индеец позвонил, и выразил большое пожеланье, и попросил о маленькой услуге на вот каком секретном языке:
— Алло! Привет, китаец! Да это я! Индеец! А как живет кореец? Женился ли алтаец? А где сейчас гвинеец? Здоров ли кустанаец? Дежурят ли гаваец, малаец, гималаец?
И отвечал китаец:
— Давно пора, индеец! Я тоже — сырота, и всюду эта сырость…
Какое совпаденье! Минут через пятнадцать сама собой разбилась на сыроварне лампа — башкой своей стеклянной вдрызг о потолок. Малаец с гималайцем в такой кромешной тьме не ту нажали кнопку — и Сыр пошел под пресс!
Услышав эту новость, кассыру из Минсыра сказала пармезанка, что больше — никогда!.. Такой-сякой рокфор!
…Но всё равно ничто не поправимо. Душа Надежды жмётся к облакам, а плоть мычит, вмерзая в чёрный лёд.
До и после недели рукопожатия
Незримый лежал в трущобе и жевал сушёные финики. Сын пустыни, он выглядел дважды старше своих тридцати лет, и вдобавок глубокие, жирные, потные складки придавали его лицу выраженье кожаного мешка, где переливается с боку на бок протухшая питьевая вода.
— Эй ты, не бойся! — сказал он белобрысому, скуластому парню с завязанными глазами. — Сейчас я буду тебя кормить. Миска — в углу направо. Ползи!
Он никому не доверял кормить своих пленников, он любил это делать сам. В квартале, где Незримый родился, обитали стаи голодных птиц и животных, и годовалым ребенком он ползал средь них, посасывая сладкую гниль помоек, а позднее, встав на ноги, яростно дрался с ними за кость и за корку, рыча и зверея. Так добывали пищу многие дети его народа, они не боялись смерти, ничто не считали грязью, и брезгливая маска к ним никогда не липла. Выраженье брезгливости появилось гораздо позже, годам к двадцати, когда умопомрачительная помойка цивилизации распахивала свои роскошные, уже небесплатные внутренности, подманивая животных, чьи молодые, голодные железы вопили, что жизнь единственна.
Белобрысый облизнул пересохшие детские губы в кровавых трещинах и не сдвинулся с места. Руки его за спиной были замкнуты на железку, и жгучая боль разливалась в левом боку, текла в поясницу и закипала в ногах, раскаляя ступни.
Незримый знал эту боль наизусть, и силой воображения он сейчас пропускал сквозь себя кипяток этой пытки, чтоб удвоить страданье, униженность и отчаянье жертвы, для которой он был незрим. Как бог, подумал Незримый, как неподсудная сила, чья непреложность выше добра и зла. Благодаря этой силе он выжил в таких переделках, которым не место в памяти, если ты не издох и жизнь тебе предлагает своё время и действие в обмен на забвенье.
Он вырос в огромной семье и уже не помнил, сколько там было сестёр и братьев — полтора или два десятка? — так много их вымерло от болезней, жестоких драк и несчастных случаев. Но самой красивой из них, самой весёлой и нежной, самой незабываемой, несомненно, была Камилла, эта шлюха, — с удовольствием вспомнил Незримый и улыбнулся, мысленно перебегая кровавую диагональ той улочки в Триполи, где она расплескала мозги, поскользнувшись на подоконнике и оставив ему в наложницы восьмилетнюю дочь.
— Хочешь выпить? Я сделал тебя знаменитым. Все радиостанции крутят сегодня ту плёнку с твоим голосом. Весь мир думает о тебе. И обо мне, никому не известном. Твои портреты во всех газетах. А мои, слава богу, нет. Я, безымянный, незримый, не лезу в глаза и пью за твою всемирную славу. Если ваши ослы ровно в девять не удовлетворят мои скромные просьбы, я прострелю твои мозги через задницу. На, выпей!
Незримый железными пальцами сжал заложнику ноздри и влил ему в глотку полстакана местной паршивой водки. Он захлебнулся и выблевал желчь в приступе судорожного кашля. Руки, замкнутые за спиной железным кольцом, мешали ему глубоко вздохнуть, и он кашлял все громче.
— Заткнись, падаль! Услышат… — Незримый стал колотить его кулаком по спине, меж лопаток, и пленнику сделалось легче, он больше не кашлял. С отходом желчи воздух ему показался слаще, и горечь на губах и во рту медленно отмывалась слюной и дыханьем. Он опьянел, расслабился и, сперва опустясь на колени, лег на каменный пол:
— Господи, это я, пошли мне воспоминанье!
Во сне он купил мороженое на пыльной, ветреной улице, которая где-то вдали обрывалась, впадая в море. Мать ходила туда на закате — потрогать рукой корабль и помечтать на скамейке. Прутиком он сосчитал чугунные ромбы в ограде Этнографического музея, на мраморных ступенях которого, как в зеркале, переливались струистые отблески волн и облаков.
Когда улица кончилась, он увидел, что на скамейке у самого моря сидела мать, читая газету, которую ей перелистывал ветер. Она обернулась и спросила, не разжимая губ:
— Мой маленький, радость моя, где же ты был так долго?..
Незримый рванул его за ухо, вышиб из забытья и выволок из трущобы на воздух:
— Поехали, быстро, быстро!
В кузове маленького фургона белобрысая голова заложника билась об железное дно, и он потерял сознание. Полицейские нашли его через семь минут после звонка: «Шеф! Под мостом у аэропорта…»
Через месяц он выписался из госпиталя и вернулся на родину, через год его перевели из Министерства Иностранных в Министерство Внутренних Дел. Через пять лет во всем мире объявили Неделю Рукопожатий, и на третий день он, запивая водой аспирин, услышал из телевизора голос Незримого:
— Народ моей молодой республики знает, что жизнь человека единственна и священна, это придает нам силы в борьбе за равноправие и справедливость, за человеческое достоинство каждого крестьянина и рабочего, а также будущей народной интеллигенции. Нам отвратительно любое насилие, мы с радостью подписали конвенцию по борьбе с терроризмом, и мы неустанно боремся за права человека. Открытость, добросердечие, уваженье ко всем народам и религиям — исконные черты нашего национального характера.
Тут Незримый зло и весело улыбнулся, сунул руку за борт кителя и вмиг исчез, уступая экран козе на горном лугу.
— Господи, это он! А-а-а-а-а!.. — закричал мученик, раздираемый лютой силой прозренья и падая вниз лицом.
К концу Недели Рукопожатий он уже не был русым, он стал серебряным, словно свежая кладбищенская ограда. И мычал на больничной койке, утратив речь.
Он забыл своё имя и как называется море, скамейка, мороженое, воздух, вода и всё то, что он чувствовал, чувствует, чувствовать перестает.
И мать в этом сне спросила, не разжимая губ:
— Мой маленький, радость моя, это что у тебя в головке?.. Инсульт?..
Коза (упорнографическая история)
Пришла Коза к Человеку: «Женись на мне, будем любовь делать!» Абзац.
«Ты что?!. - сказал Человек. У меня уже есть пять жен, и все мы делаем ковры». Абзац
«Трагедия!» — сказала Коза после абзаца и от горя запела.
Абзац.
Так родилась древнегреческая трагедия — «козлиная песнь», потому что ковры делают из козьей шерсти, когда нет и нету овечьей.
Конец связи.
Из цикла КАСТРЮЛЬКА-ЯДОВАРКА
Коллекция
Когда закрыли лабораторию развития старых проблем и открыли лабораторию развития новых проблем, профессору не нашлось в ней места, поскольку площадь его письменного стола сдалась в очень выгодную аренду. Но к тому времени у профессора было очень развито чувство будущего, и он не стал сражаться с начальством за свои законные трудовые права, зная прекрасно, что нет никакого будущего ни у зарплаты на этом месте, ни у начальства на этой площади, ни у проблем развития.
Чувство будущего способно стереть в порошок, озарить, вдохновить, вознести, грохнуть по черепу, заткнуть в щель, вытащить из бездны отчаянья, распахнуть веер блестящих возможностей, заманить в самое гиблое место. Все зависит от ядов, которыми это чувство Бу питается на клеточном уровне. От качества ядов и от количества.
Как подумаешь, всё ядовито — и соль, и сахар, и спирт, и кофе, и крепкий чай, и перец, и всевозможные яйца, и апельсины с лимонами, и жара, и дожди, и жареная картошка, не говоря уже о грибах и о мясе. А жареный петух — тот вообще!.. Но человечество чаще всего отравляется не пищевыми продуктами, а продуктами высшей нервной деятельности, ядом идей, идеядами.
Есть организмы очень ядоустойчивые. Однажды они отравляются до потери сознания и полной бесчувственности. А потом, когда их приводят в чувства, вдруг оказывается, что у них при потере сознания возникло острое чувство будущего и тонкое чувство юмора — не толще снежинок в полёте.
С таким вот именно чувством будущего профессор уж лет десять работал тайком не по теме, а готовился к переменам, самым невероятным, изучая психику драгоценных и не очень камней. Раздвоение, растроение и даже расчетверение кристаллической личности, когда камень с одной стороны — изумруд, а с другой — булыжник, и мысли у этих сторон враждебны друг другу, и эту враждебность приводят в действие жуткие галлюцинации, профессор превратил в область противоядного знания о кристаллах, об их кристаллической личности, которая существует, хотя наука ей в этом отказывает и не видит в ней никаких признаков психической жизни.
А у профессора мать с отцом были геологами, они оставили после себя коллекцию горных пород с вкраплениями драгоценных кристаллов и недешёвые камушки в природном, неотесанном виде. Профессор вошел с коллекцией в тесный контакт и увидел, что в грубой породе, где завелись драгоценные камни, происходит психический сдвиг, игра враждебных миров, агрессия воспаленного воображения, которое затмевает, вытесняет и замещает любую реальность. Драгоценности рвутся прочь из грубой породы, а она их держит бульдожьей хваткой. С одной стороны — алмаз или сапфир, а с другой — грубая масса исходной материи. Обостряется их психическая вражда осенью и весной, когда у них начинаются слуховые и зрительные галлюцинации, отдающие приказы спасаться бегством и догонять. Тогда куски коллекции падают с полок, а некоторые прячутся, раскатившись по углам, и там пропадают на какое-то время, но потом возвращаются сами на должное место.
Профессор тихо ушел с работы и совсем не хотел о ней вспоминать. Если кто-нибудь из лаборатории развития старых или новых проблем вдруг узнавал его где-то на улице и хотел задать ему дежурный вопрос «Как дела?», он изображал из себя невменяемого бомжа и ложился на землю, спиной к зрителям, — такой вот артист! И надо сказать, что все настоящие ученые, которых я знала, были (в отличие от «хорошо мотивированных сотрудников»!..) большими артистами, вписанными в свою пьесу не хуже Гамлета.
Профессор сказал дома жене и детям, что теперь он работает в ещё более секретной лаборатории развития поиска новых проблем, чтоб, когда эти новые проблемы найдут, развивать их в полную силу. Но звонить в эту лабораторию запрещено. Теперь приносил он домой зарплату в пятикратном размере, а сам снял дачку в престижном месте, где лечил он очень успешных граждан от буйного и тихого помешательства. Коллекцию этих граждан поворачивал он лицом к коллекции камней, и они смотрели в каждый камень, как в зеркало. И каждый камень смотрел в них, как в зеркало. И оно помогало. Очень.
Внимание!.. Мельчайшую долю секунды идет луч от зеркала до глаза. И пока он проходит свой путь, чтобы нам свое отражение видеть в зеркале, — за эту мельчайшую долю секунды в нас нечто меняется на клеточном уровне. В этом смысле мельчайшая доля секунды огромна и вполне достаточна для самых таинственных перемен.
Со временем камни стали играть прелестную музыку и подавать желающим кофе и булочки из французской кондитерской, а также другие напитки без вредных привычек. Иногда какой-нибудь камушек говорил профессору шёпотом: «У третьего справа — нефрит». И тогда профессор давал ему зеркало из нефрита. Все камни в коллекции обожали книжечку о камнях того Куприна, что сочинил «Яму». Им вообще нравился этот писатель, а также «Каменный гость» Пушкина. Один больной гражданин сказал сдуру: «Душа — не камень!» Так они его чуть не грохнули, вся коллекция камней в него полетела, потому что у камня — живая душа, Психея и психика.
Однажды кто-то из прежних начальников, пережив тридцать три покушения с отстрелом колена, пришел к профессору полечиться. На этот случай у профессора были борода и усы для приклейки, парик с ирокезом и запасной голос.
Начальника мучили галлюцинации, шорох шагов за спиной, первые в мире открытия, им уничтоженные, особенно звездолёты. В свете развития новых проблем возник бешеный, сумасшедший спрос на такие кастрюльки-ядоварки, которые могли бы варить ядовитое прошлое. И под его руководством лаборатория создала и поставила на поток эти кастрюльки.
По чьей-то идее, всенародная выпивка ядовитого прошлого должна была бы крепить иммунитет и способствовать ядоустойчивости в светлом будущем. Но враги этого научного метода утверждали, что эти кастрюльки варят нам ядовитое прошлое, чтоб отравить наше светлое будущее. И они постоянно стреляли в начальника этой лаборатории, жгли его утюгами, громили его научную базу, не говоря уж о производственной. Одна нога у него не сгибалась, другая постоянно дрожала, отбивая чечётку в стоячем, сидячем и лежачем виде. Днём и ночью гвоздили его наваждения, навязчивые кошмары. Он даже стал выпивать. Из кастрюлек. Но выпивка ядовитого прошлого не помогала. Совсем.
Камни смотрели в него и туманились, некоторые плакали. Он тоже смотрел в них и туманился. Туманился и туманился. Ему помогло, и он в тумане исчез. Растворился в тумане развития новых проблем. Кусок породы с аметистовой щёткой послал ему в колено свой зеркальныи луч, солнечный зайчик, пускай скачет. Теперь его колено сгибается и само стреляет в противника сзади и спереди, где бы он ни таился.
Лаборатория развития новых проблем сгорела, вся подчистую. По вине электропроводки. Там теперь Собор Парижской Богоматери. Но как раз возле дачки, на которой профессор противоядно работает, открылась лаборатория развития ещё более новых проблем, потому что проблемы очень быстро стареют, изнашиваются, приходят в негодность и вывозятся с мусором.
Теперь у профессора так много клиентов из этой лаборатории, такая большая коллекция граждан, что по вторникам и четвергам он работает в бороде и усах. А по средам без никаких бород и усов он целует мне руку, снимая всякую боль. И камушки нам играют чудесную музыку, подавая кофе в белых чашках с толстыми вкусными стенками. Эти чашки я знаю смолоду и всегда их рисую.
КАСТРЮЛЬКА-ЯДОВАРКА ДУМАЕТ…
Рука помощи
Университет Культуры Ядоваров
объявляет прием на факультеты:
ядофилософский, ядоисторический,
ядофизический, ядорекламы,
ядожурналистики, ядокомпозиции,
ядопсихологии, ядоэкономики,
ядосвязей с ядообщественностью
в сфере ядоуслуг.
Только у нас —
ядоомоложение с ядопогружение
в ядовитое прошлое. Дорого.
Форма одежды голая.
Жизнь после смерти
Он ехал в бронированном «Мерседесе» и в бронежилете. Когда на бешеной скорости в ясный день его расстреляли из пулемётов, он притворился убитым.
В морге он дал сторожу взятку, принял душ, переоделся во все чистое, выпил чашечку кофе с коньяком, и сторож подбросил его в Шереметьево за сто евро, сказав на прощание: «Как только — так сразу!..»
Ближайший рейс был в город Лондон. Пройдя таможню, он мигом увидел, что в зале ожидания — много подозрительных лиц, очень похожих на те, что его расстреляли. Закрывшись маской от гриппа и притворясь, что идёт в парфюмерную лавку, добрался до кассы и сдал билет. Как только сдал — так сразу и позвонил сторожу, с ним пообедал и выспался в его безопасном месте. Там же по Интернету зарегистрировал в районе Гибралтара новую фирму консалтинговых услуг для сельскохозяйственной авиации.
Днем приходила жена, сторож сказал, что покойник ещё не готов, и велел принести помазок, бритву, полотенце, крем «Балет», одежду и обувь.
Жена хорошо выглядела, он давно не видел её при дневном свете, а сейчас, глядя в глазок бронированной двери, был доволен идеальной гармонией грусти и умиротворения во всём её облике: «Порода видна, порода!..»
Ближайший рейс был в город Мадрид. Пройдя таможню, он увидел, что в зале ожидания опять много подозрительных лиц, очень похожих на те, что его расстреляли. Закрывшись маской от гриппа и притворясь, что идет в кафе, добрался до кассы и сдал билет. Позвонил сторожу, с ним поужинал и выспался в его безопасном месте. Там же по Интернету зарегистрировал на Канарах еще одну фирму с аграрным профилем, а также купил маленький остров для постройки маленького курорта, который со временем распространится на более крупные близлежащие острова.
Утром жена приходила, сторож выдал ей сделанное по фотографиям и с натуры, — он закончил художественную Академию, где занимался скульптурой и живописью. Жена осталась довольна, дети тоже. Сторожу хорошо заплатили.
На проводы пришло немало народу, была печальная музыка и прощальные речи, глубоко искренние и торжественно благодарные. В глазок он увидел много подозрительных лиц, очень похожих на те, что его расстреляли. Все они хорошо выглядели, производя впечатление успешных, высокооплачиваемых специалистов цветущего возраста.
Мероприятие прошло замечательно, с блеском и красотой. Но кое-кто подозрительно вглядывался, внюхивался и даже поцеловал то самое в лоб. А когда понесли к автобусу, четыре снайпера с четырёх сторон сделали четыре контрольных выстрела в голову на подушечке. Голова вдребезги разлетелась, ранив осколками человек двадцать, кому-то выбило глаз, у кого-то застряло в затылке, людей заливало кровью. Но та голова оказалась абсолютно бескровной — ни капли… То, что осталось, быстро накрыли крышкой и защёлкнули на все замки.
Ближайший рейс был в город Рим. Пройдя таможню, он увидел в зале ожидания жену и детей. Они притворились, что с ним не знакомы. Ни с того ни с сего вспомнил вдруг Лермонтова:
Боюсь не смерти я. О нет! Боюсь исчезнуть совершенно.В самолёте жена и дети сидели от него далеко. Он поел, глотнул коньяка и мгновенно заснул. Снилась рыбалка на озере, по которому шли ангелы, все — в профиль, однобоко, но в белом сиянии. Они сказали ему беззвучно, не разжимая губ: «Сделай сторожу выставку его скульптуры и живописи. А рыба — это к беременности».
Он проснулся, когда самолёт подпрыгнул на посадочной полосе.
В очереди на паспортный контроль жена и дети продолжали не узнавать его. Потом в таможенном коридоре жена мимо прошла и сказала как бы даже и не ему, а воздуху: «Я беременна».
В Риме было очень много подозрительных лиц, похожих на те, что его расстреляли. Но сторож нарисовал ему замечательные документы — с другой фамилией, с другим именем и отчеством, с абсолютно другой датой и другим местом рождения, даже с другим гражданством. И это было подлинным произведением искусства, чистой правдой живучего вымысла. Эту чистую правду признавали и подтверждали все компьютеры всех аэродромов.
Не узнавая друг друга, прожили они сутки в огромном отеле на разных этажах. Этажей было двести. А через сутки, не узнавая друг друга, улетели в процветающую страну, где обожают художников, где на каждом углу — вернисаж, галерея и музей мирового значения. Там они, наконец, узнали друг друга, дом покупая.
Через месяц они встречали сторожа на благовонном аэродроме, где ароматы витали сандала, вербены и мускуса. У сторожа открывалась выставка его скульптуры и живописи в одной из самых престижных галерей. Выставка называлась «Документы. Жизнь после смерти». Все работы были раскуплены по заоблачным ценам. Пресса визжала от восторга, сторож мигом вошел в моду и стал звездой.
Уходя в звёзды, он сказал: «Как только — так сразу!..»
… у них тут гуляют платья зеркальные, в которых вся улица отражается.
Конец связи
Сапоги Леонардо
Свет разума
Он любит её. Очень.
Она любит его. Не очень.
Время стоит неважное, время великих перемен, изобрели колесо, им давят и продвигаются вглубь, завоёвывая.
Она работает по хозяйству у Леонардо да Винчи, готовит ему краски, стирает с него пыль, моет ему уши и под ногтями, а Леонардо — масон в маске из пластмассы, которую он изобрел и варит для герцога. Ария герцога из оперы «Риголетто».
У Леонардо нет денег на человеческую натурщицу, он — нищ и гол, одевается в то, что сам нарисовал, ест нарисованное, потому и знаменит как выдающийся рисовальщик. Все герцоги воюют друг с другом насмерть, чтоб его заполучить, одеваться во всё им нарисованное, и питаться свежими продуктами, натурально им нарисованными, и спать только с теми, кого он нарисует.
Леонардо просит её поработать у него натурщицей, в голом виде и в долг. Она жалеет его и соглашается. Но в припадке творческого затмения и ослепления красотой Леонардо её насилует извращённым способом в нарисованном виде. И тут как раз выясняется, что он — масон не из общей массы, а из огромного меньшинства нехорошей ориентации, очень в то время распространённой в нарисованных военных походах и в нарисованном высшем обществе.
Идёт снег. Она спасается бегством, спотыкаясь босыми нарисованными ногами о сугробы на колёсах, и рассказывает возлюбленному, как всё это было… Он клянется жестоко отомстить Леонардо таким коварным способом, чтоб не оставить следов, ведущих на виселицу. Обретя эту цель, он ищет для неё идеальные средства и сладострастно читает интересные книги о ядовитых веществах и технологиях ядоварения.
Они строят секретный сарайчик с ядоварным котлом (общепринятое название — «ядоварка», тогда были ещё и правильные кастрюльки-ядов арки в каждом серьезном дворце!..) и сушат ядовитые травки, ягодки, змей-ские плоти, чёрных кошек и таблицу Менделеева.
А поблизости лечатся тут на водах дочь Менделеева с Алекс. Блоком, оба выглядят очень плохо и друг с другом не разговаривают, Блок пьёт, Менделеева дочь тоже гуляет.
Леонардо делает фейерверки для герцога, который выгодно продает свои фейерверки другим герцогам, поэтому жизнь бьёт ключом. Но за стенами дворцов обстановка очень тяжёлая и опасная, в лес ходить невозможно, там — разбойники, наглые, грязные и заразные. А в лесу — Пастернак с женой, оба выглядят очень плохо и друг с другом не разговаривают. Пастернак спиной к жене ходит, что-то мычит и бормочет со стоном. Разбойники видят, что ненормальный, и бедняжку не трогают, жена им тоже не нравится.
Там-сям идут маленькие победоносные войны, мимо идёт Леонардо в нарисованных сапогах. У него ноги болят, ревматизм и воспаление корешков — бьёт током из поясницы в лодыжку через колено, а в сапогах окна светятся от этого электричества.
В поисках лекарственного сбора нарисованных трав он спотыкается о дверь ядовитого сарайчика, где варит котелок. А натурщица, им изнасилованная в нарисованном виде, притаилась за шторкой с лебедями.
Леонардо нюхает котелок с варевом и сам себе говорит:
«Надо употребить! Жуткая боль, Леонардо, выпей йаду!»
Выпил — и всё прошло. Чудеса, боль как ветром сдуло. На обратном пути скакал с пританцовкой мимо Алекс. Блока с Бор. Пастернаком, они сразу поняли, что ненормальный, и притворились членами общества слепых.
А Леонардо примчался в трущобу герцога и шифровальными знаками записал в амбарную книгу своё выдающееся открытие в области мировой медицины. С тех пор он лечил всех герцогов ядами.
Видя такое чудо из-за шторки с лебедями, она рассказала возлюбленному, как всё это было… Они быстренько заварили новую порцию в своей ядоварке и дружно выпили на двоих. Зря!
Оба тут же скончались, и цвет их стал сине-зелёным.
Но тут как тут вошёл Леонардо, который забыл в этом нарисованном сарайчике мелкую принадлежность. Он сразу понял, что яд был выпит несчастными ядоварами, когда свет разума был выключен. А вот это — смертельно!.. Яд исцеляет только при свете разума.
Он мигом вошел в их разум и включил там свет, все окна там засияли, а сине-зелёное порозовело, и оба от счастья заплакали, простив Леонардо все его нарисованные грехи. А он подарил им сфумато — туманчик такой от морщин и чтоб лучше выглядеть в загадочной красоте.
В это время в лесу Наполеон гадал на ромашках, а партизанский Ворон Эдгара По накаркал ему в переводе с английского на наш — «Никогда!»
Наполеон зарыдал, но воспрял духом и стал материться. Нарисованные Блок с Пастернаком сразу поняли, что ненормальный, и притворились членами общества глухих. А жены их, нарисованные, очень обиделись, стали выглядеть — хуже некуда, перестали совсем разговаривать с кем бы то ни было и притворились членами общества немых.
Понимать надо, в какие жуткие времена всё это происходило!.. Десятки стран, сотни народов, миллионы людей напились йаду, выключив свет разума. Иногда Леонардо успевал заскочить в их разум и включить там кой-какой свет после такой выпивки, но для него лично эта чистая добродетель чаще всего кончалась грязным скандалом.
И, в конце концов, Леонардо у герцога умер, но не совсем…
Озарение
«Давайте будем наболевших мест
Касаться мягко…»
Шекспир. Антоний и Клеопатра (пер. Б.Пастернака)Подоконники той редакции были вровень с травкой и одуванчиками, но гораздо ниже кустов и снежных сугробов. На травке в ожидании славы паслись телята, козлята, цыплята, а на скамейке мореного дуба в приемные дни волновались медведи, слоны, кенгуру и тигры. К вечеру там подчистую съедали всю траву с одуванчиками. Но за ночь они опять вырастали ровно в том же количестве, поштучно и каждый на своём месте.
Журнал этот в те времена был совсем молодым, и туда приходили совсем молодые химики, физики, слесари, геологи, санитары, электромонтёры, врачи, инженеры, токари, пастухи (не перечислять же все на свете профессии!..), студенты и школьники, пижоны и оборванцы, иногда и скелеты с каторги.
Авторы, которым стукнуло тридцать, попадали в разряд пожилых — и справедливо! — они ведь успевали пожить, всего навидаться, нахлебаться, заматереть
в битвах за существование и обретение знаменитого в те времена «жизненного опыта».
Слово «опыт» — прошу обратить внимание! — в обнимку со словом «жизненный» дерзким образом настаивает на том, что всякая жизнь — это эксперимент, особый род деятельности, при котором, в силу живучести, даже абсолютное поражение способно вдруг обернуться блестящей победой. И тому немало чудесных примеров на каждом шагу и со всех сторон, что лично меня вдохновляет круглые сутки, всегда и сейчас, и после сейчаса.
Однако, самая роковая ошибка — думать, будто научный опыт и опыт жизненный совпадают в главном. Ничуть не бывало!.. Вся интрига именно в том, что научный эксперимент исследует явление «в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и многократно воспроизводить его при повторении этих условий», — как сказано в словаре, лежащем на подоконнике.
Но жизненные условия никогда не повторяются с лабораторной точностью, и поэтому о многократном повторении жизненного опыта и его результата не может быть и речи. И, Боже вас упаси, становиться на этот гиблый путь, имя которому — эпигонство. А в нашем-то деле, производящем художественный продукт, это — худшее, что может с вами случиться. Эпиго-нить чужую манеру и стиль — мелкая неприятность, а крупная — эпигонить чужую судьбу…
Итак, в один прекрасный весенний день один пожилой, тертый жизнью известный прозаик, лет тридцати, правил в этом журнале вёрстку своей замечательной повести, предвкушая грядущий триумф, критические нападки, читательские восторги, узнавание физиономии автора в метро и на улицах.
— Старик, исчезни! — дружески попросил он парня, который принёс в авоське рукопись своего романа «Автостопом в Антарктиду» и ждал редактора, чтобы вручить ему три килограмма своих бессонных ночей
и мучительных откровений. А редактора срочно вызвали на летучку.
Парень с «Автостопом» исчез и устроился на лавочке обозрения, за окном, откуда прекрасно просматривалась редакционная кают-компания, довольно мглистая. Из-за окон, что стояли почти на земле, и комнатёнок наподобье кают, редакция изнутри была очень похожа на дрейфующее ледокольное судно, которое застряло во льдах полярного дня.
— Значит, так!.. — сказал редактор, пришедший с летучки. — Надо вырезать полтора листа. Срочно! Только без паники. В книге дашь целиком. А у нас пойдет журнальный вариант. Ничего страшного. Так делают очень и очень многие знаменитости. Главный — в Италии, а Клещин боится худшего, он сам с утра позвонил Хурмалаеву и спросил его в лоб: «Тебе не кажется, что?..» Хурмалаев ответил категорически дружелюбно: «Не надо дразнить гусей!»
Раздался вопль из кают-компании, трава с одуванчиками прогнулась и полегла, парень с «Автостопом» прижался к рядом сидевшему тигру, в сумочке молодой кенгуру заплакал детеныш.
— Давай сократим пять-шесть-семь острых мест, — продолжал мудрый редактор в каюте, — вещь от этого только выиграет, она станет лиричнее, это придаст ей особое обаяние недосказанности, появится больше воздуха и простора, таинственная загадочность, ароматная горечь… Когда вещь так насыщенна и талантлива, все ей на благо. Мы-то с тобой знаем, что никакие вымарки не испоганят сильную вещь. Вспомни «Мастера и Маргариту»!..
— Сволочи! Убийцы! Мразь! Палачи! — глотая слёзы, прошептал страшным загробным голосом бедный автор, белый как снег. — Я выброшусь из окна! Немедленно! У вас на глазах!
И он ринулся весь целиком за подоконник, с отчаянной яростью, озаряющей самоубийц.
О ужас, земля была так близко, что знаменитый прозаик упёрся в неё, как танцор, приседающий в гопаке на пастбище, где другие жуют траву с одуванчиками.
Это было страшнее смерти, это было её оскорблением, насмешкой над ней, надругательством, унижением и позором. Пережив такое, можно запросто, без никакого насилия над собой вырезать даже полтора листа из маленькой повести, на что автор немедленно дал согласие, хлопнув стакан водки для успокоения и закусив одуванчиками.
Однако его безумный поступок произвёл сильное впечатление на редактора, который позвонил начальнику самого Хурмалаева и добился, что повесть пошла без никаких сокращений!..
Паренёк же, который всё это видел своими глазами и слышал своими ушами, сидя на лавочке с тремя килограммами романа в авоське, внезапно почувствовал сильный прилив озарения: «Вот ведь как это делается!.. Ловкий какой трюк!..» И он твердо решил повторить потрясающий опыт, если его роман откажутся напечатать.
Через полгода редактор возвратил ему рукопись, сопроводив её очень и очень ободряющими словами о самобытности языка, сюжета, интриги. И попросил принести в следующий раз что-нибудь малообъёмное, но такого же качества и в таком же духе. Был конец ноября, ветер, снег и промозглая холодина. Паренек подошел к окну и надавил на него ладонью, но окно не распахнулось. Оно было закрыто на все железки и, хуже того, заклеено. Он злорадно подумал: «Приду весной…».
А весной редакция переехала в другое здание, на высокий этаж. Никакой там травы с одуванчиками, никаких кенгуру и подобных прекрасностей. Только в глубоком низу, на бесконечном дне, трутся, вертятся, гадят и мчатся транспортные потоки.
— Опоздал я, опоздал оказаться в нужное время и в нужном месте!.. — подумал он с горечью. — Но всё равно я теперь знаю, как всё это делается, и при случае повторю этот опыт с блеском. Кто однажды видел такое… Да что говорить!..
Однажды он ехал в одном трамвае, а я в другом, и были мы не знакомы — до полной неузнаваемости. И вдруг ни с того ни с сего едет он мимо и спрашивает:
— Не вы ли там были, когда нашло озарение?
Делаю вид, что сплю в ритме трамвая, а он говорит
в мою сторону:
— Тигры давно пробились, кенгуру теперь в шоколаде, слоны процветают. А вы, я помню, дали тому артисту пять одуванчиков, он водку ими закусывал после истерики. А уж после побега, сами знаете куда, он хвастался, что здесь по ночам сочинял доносы на близких друзей, и на вас в том числе. Оттачивал мастерство интриги.
Оттачивал, оттачивал… и сходил с ума в приступе озарения, припадочно поглощая топливо страшной и сладкой доносительской тайны, власти над судьбами. Такая эротика, сладострастие древних богов, содрога-тельный блуд озарения, скандальный восторг многобожия, солнечный ветер архаики…
Сошёл он с ума, сошёл. В зареве всех возможностей. Кто однажды видел такое, тот, если очень ему повезло, знает противоядие, которое не варят, не жарят, а едят исключительно в сыром виде. Как, например, огурцы. А тайна таких огурцов засекречена, как партизаны в космосе. Вот подсказка: всё самое невероятное, что происходит с кем-то в нашем присутствии, происходит и с нами. Может быть, даже совсем не с кем-то, а только с нами. С нами только и происходит.
Шпана
Этот сюжет по глобусу скачет чудесно, всякий раз расцветая внезапно, как мелкие стеклышки в призме калейдоскопа, где щепотка цветных осколков слагается и разлагается, образуя великое множество неповторимых зрелищ.
И на всех языках играется эта международная пьеска, наивно коварная, блистательно подлая в дивной своей простоте и прелести. Становясь её главным героем по воле чистой случайности, ты один ничего не делаешь — ни хорошего, ни плохого, ты один во всём виноват и со всех сторон оболванился. А зрители, в невероятном восторге и упоении, вслух выражают взгляды, святые идеи, сокровенные чувства, содрогательно свежие мысли, — так превращается в произведение гадость проделки, тщательно отрепетированной силами маленькой труппы, добывающей себе пропитание по всем законам искусства.
Но какова чистота и прелесть ловушки!.. Ясный, тёплый, солнечный день, золото — извините! — в лазури, агавы, оливы, магнолии, рощи лимонные, мандариновые сады, растенье папирус трепещет в ручье под мостом. Идёт себе человек, в небо глядит, на купола колоколен и храмов, идёт лучами увитый, идёт — как по воздуху, глазами хлопает, крыльями, весь наслаждается божественной благодатью. А к нему ни с того, ни с сего подскакивает, подпрыгивает, обнимает его, как родного, мелкий щипач лет семи-восьми, не более, и нежно ворует у него из потайного кармана бумажник со всеми деньгами и документами, включая паспорт и два билета на самолёт в другую страну.
Человек ограбленный — хвать щипача за цепкую ручонку, а тот визжать начинает на весь майдан и слезами брызгается: «Караул! Спасите! Помогите! Маленьких бьют! Ой, руку сломали! Ой, ногу сломали! Ой, люди, спасите ребёнка!»
В тот же миг с четырёх сторон сбегается шайка яростных отроков, лет пятнадцати, с весёлой злобой в глазах, с наглыми такими улыбочками, с тарзанскими воплями. Артистичная очень шпана, высокохудожественная, киногеничная. Этот сюжет у них виртуозно сыгран, исполняется, как танцы балета в опере. Человека бьют в энергичном ритме, отбивая ритмично ногами почки, печень, мозги, ритмично ломая рёбра и позвоночник. Маленький щипач, продолжая слезами брызгаться и визжать «Ой, маленьких бьют!», — цапает кошелёк.
Тут появляются милицейские, полицейские и сам режиссёр шайки, рослый качок с жестокой дурью в глазу, с черепом и костями крест-накрест на мандариновой майке. Он играет отца малютки. Малютка играет перелом правой руки и левой ноги. Милицеиские, полицейские играют в расследование без гнева и пристрастия. Приезжают парамедики, говорят, что избитый может сыграть в ящик, но он — большой, и всё зависит от выносливости, которая бывает очень большой в большинстве случаев. Все играют в хладнокровное сочувствие к полутрупу, чьи останки ритмично качаются на коротковатых носилках.
Ему вернут кошелёк с документами, но без денег. Выставят счет (огромный!) за сборку костей и органов, за то, что остался жив. Если он потеряет память, большую и малую, длинную и короткую, сдадут его в психбольницу, где с ним сыграют психологи много чудесных сюжетов. Если он станет совсем идиотом, так очень большим, огромным, как тот человек, который, забыв обо всём, шёл — как по воздуху, глазами хлопая, крыльями, наслаждаясь божественной благодатью.
Чтоб не стать совсем идиотом, хорошо бы ходить иногда в музеи, в театры, даже книги читать иногда, особо прекрасные, где видно со всех сторон, как много чудесных приёмов, сюжетов, нарядов, ритмов, причесок, мелодий, жестов, законов и правил своровало, ворует и будет впредь воровать у мелкой и крупной шпаны успешное человечество.
Ты, приятель, тоже был маленьким, и шпана подучала тебя вцепляться в большого, делать ему всякие гадости, радуясь, что он беззащитен под ногами шпаны. Такой большой, и такой растоптанный, и доказать ничего не может. А ты уже доказал, что пригоден для маленькой, неподсудной и потому значительной роли. В этой роли никто не может тебя заменить, ты — маленький, а шпана разыграет сцену спасения маленького, чтобы добить большого. Часто полдюжины маленьких выступают с ритмичными воплями в зачине сюжета этой трагедии. Смешно и страшно.
Мы шли из музея, где гениальная живопись и осколки скульптурных сокровищ запечатлели шпану всех времен и народов, шпану исключительной силы. «Осторожно! — сказал приятель. — Мелкая шпана хочет нас крепко обнять!» Я увидела тройку маленьких, лет шести, яркой жестянкой играли малые детки, двигаясь нам навстречу. Вдруг один из маленьких кошкой повис на груди моего приятеля и виртуозно изъял всё, что было в нагрудном кармане — изнутри пиджака, где подкладка. Маленький спрыгнул и был схвачен, но при нём ничего не было, он ликовал, махая пустыми руками, с восторгом снимая трусы и майку по собственному желанию и напоказ: «Смотрите граждане, у меня нет ничего такого!» Он владел в совершенстве своим искусством, успев передать незаметно украденное другому маленькому. Шпана покрупней стекалась, как ртуть, враскачку, ни во что не вмешиваясь, а просто с улыбкой глядя на этот спектакль.
— У нас всё украли! — сказал приятель, двухметрового роста, худой как щепка, бледный как мел.
В это время прохожие стали стекаться, электричество зрелища их магнитило. В ритме стекающейся шпаны и стекающихся прохожих можно кое-что сделать, изменить ситуацию в нашу пользу. Например, не прикасаясь телесно, никого не хватая за руки, за ноги, сделать так, что никто из воришек не сдвинется с места, шпана позовёт режиссёра, начнет стекаться полиция, режиссёр возвратит украденное сам и с великой радостью, попросив мелкие деньги за эту мелкую услугу. Мы с приятелем выпьем кофе, усевшись под навесом на улице, навес будет хлопать в ладони ветра.
— Как тебе удалось? — он спросит.
— В ритме стекания. Когда-нибудь вылей яйцо на блюдце и долго смотри, какие там ритмы.
— Это ритмы шпаны?
— Нет, ритмы шпаны — это ритмы ртути.
Право на шанс
Шанс (фр.) — изначально разновидность игры
в кости, возможность выигрыша и проигрыша,
победы и поражения.
Бедственное положение многих людей зависит от их безотвественной доброты, разлагающей наглых типов, чудовищ пафосной подлости, пожирающих дары благодетелей. И за этот разврат людоедский, безусловно, ответственна не черная неблагодарность пожирателей плодов доброты, а сама доброта, безответственно бескорыстная, безразмерная в чистоте своих помыслов.
Скажу со всей беспощадностью, что поговорка «добро не остаётся безнаказанным» вызывает, конечно, улыбку наивного изумления, а зря!.. В высшей степени справедливая поговорка, и обжалованию не подлежит, не надейтесь. Лучше следите за припадками, за приступами своей безответственной доброты и всячески предотвращайте обострения, вспышки, лихорадочный колотун, не доводя организм до таких болезненных состояний. Закаляйтесь в проруби, в бане хлещитесь веником, бегайте по горам и вулканам, летайте на воздушных шарах и ни в коем случае не приземляйтесь, если вы не готовы сказать «Брысь!» и погасить ядоварку своей безответственной, самоубийственной доброты. В противном случае вы свихнетесь от жутких чудес и повеситесь на чудесной верёвке своей всемирной отзывчивости!..
Лично я из такой петли успела вовремя вытащить одну красавицу прошлого века, птичку французского Сопротивления, уцелевшую после всех лагерей и ссылок. Она постоянно кого-то спасала, благодаря своему знаменитому и безупречно чистому, светлому имени, которое помогало порой в самых катастрофических ситуациях. Многие, но далеко не все, были достойны такой чудодейственной помощи, такого сказочно доблестного участия в судьбах, сильно хромающих прямо в пропасть забвения. Но эта красавица-птичка, с которой в парижских кофейнях дружили все нищие гении (на ветках ее московских стен висели рисунки Модильяни и Пикассо), верила свято, что она осталась в живых и душа её уцелела в кошмарах века, чтобы каждому дать право на шанс.
Право на шанс явилось в тот вечер с авоськой стихов, было оно в виде толстой бабищи лет тридцати, альбиноски с поросячьими глазками, полными слёзной мольбы: живу одиноко, с малым дитём, со старенькой мамой, с больной бабушкой, с пьяницеи-дедушкои, нигде не печатают, никуда не принимают, провинция, нет работы, не на что опереться, хочу отравиться, кастрюлька-ядоварка всегда при мне, помогите, дайте рекомендацию, напишите рецензию, предисловие к моей публикации, соберите подписи в защиту моей книги, не то дитя моё малое останется круглым сиротой. И хорошо бы ещё достать хоть немного приличной одежды, обуви, нет у нас там ничего, а у вас тут есть всё и Шанель номер пять.
Стишки у ней были так себе. Просьбы у ней были наглые. И лично я бы сказала ей: «Брысь!..» Но я ведь была в гостях, не забывайте, у безответственной доброты, к которой приехало поездом право на шанс, и вмиг сочинилась у них пьеса героического спасения от всех
бед с невероятными шансами на блистательные победы в отечественном и международном масштабе.
Всё идеально сошлось в одной упоительной точке: сила влияния, опыт возможностей и наглость потребностей. А что? Ничего особенного! Именно так начинали многие корифеи, да и вели себя ещё отвратительней, что впоследствии сильно украсило их легенды.
Безответственная доброта написала рекомендацию, петицию, предисловие, аннотацию, рецензию, комментарий, собрала чудесные подписи в защиту, а также немало прелестной одежды и обуви на всю семейную группировку той прохвостки по имени Право на Шанс, которая принимала дары с высокомерием бедной родственницы, временно утратившей королевский трон.
И вся эта пьеса спасения восхитительным образом игралась из года в год, лет пятнадцать, пока в один жасминовый летний день почтальон не вложил письмо в почтовый ящик безответственной доброты: «Вы, такая-сякая, мерзавка, пьёте кофе с миндальными там пирожными, а мои стихи с Вашей рекомендацией вышли в престижном издании с двумя опечатками. Теперь я должна из-за Вас отравиться, моя кастрюлька-ядоварка всегда при мне! Вы думаете, что Вам это с рук сойдет, потому что я — из провинции? Не надейтесь! Теперь я здесь нарасхват, и Ваши рекомендации, предисловия мне — до феньки, у меня вышла книга в твёрдой обложке».
Мимо прошел Данте, сказал: «Жесть!» Но тут же раздался тревожный звонок Эдгара По: «Надо ехать! Подозрительно молчит телефон у безответственной доброты».
И мы помчались!.. Вышибли дверь. А за дверью во мгле коридора она, красавица-птичка, вышибла табуретку и повисла на бельевой верёвке — за миг до того!.. Мы ей сделали реанимацию, понимая прекрасно, что «скорая помощь» не успеет, а если успеет, — так запрячет потом в дурдом, как водится в таких случаях. У меня, к счастью, был с собой кислород из Булонского леса.
Очнувшись, она не обливалась никакими слезами, которые в массе освежают сердце и очищают мозги, а достала из аптечки мерзавчик водки, три граненых стопки, и мы этот мерзавчик на троих раздавили с Эдгаром По в ритме тоста «За нас с вами, и хрен с ними!»
Но как только мы выпили это чудотворное, мистическое средство, — звонит Право на Шанс из малахитовой шкатулки, из алмазной глубинки: «Привет! — говорит деловито. — Это я, Право на Шанс. Мы тут посоветовались с музыкально-художественной и литературно=философской общественностью и пришли к выводу, что вы там должны организовать срочную публикацию своих извинений с моим портретом за опечатки, допущенные в моём творчестве. А я пришлю вам для супа грибы сушёные в посылке и серебряную солонку моей троюродной прабабушки дворянских кровей. Но сперва должна появиться ваша публикация с извинениями».
Телефонную трубку снял Эдгар По, был он слегка глуховат и всё время спрашивал: «Что? Что вы сказали? Вы можете повторить это по слогам? А по буквам повторить это можете? Зачем вы так громко кричите? Вы можете повторить это шёпотом? Почему я говорю мужским голосом? А каким ещё голосом должен говорить Эдгар По? Женским? Что? Я давным-давно умер? Кто вам это сказал? Вы шутите? Нет? Вы верите сплетням из печатных источников? Как я мог давным-давно умереть, если с вами сейчас разговариваю? Что? Не означает ли это, что и вы давным-давно умерли? Нет? Вы можете повторить все это шёпотом по слогам и по буквам?
Почему я задаю вам только вопросы и не даю никаких ответов? Неужели вы никогда не встречали говорящих одними вопросами? Вы ничего не знаете о классике вопросительной речи?
Что? Вы совсем не владеете вопросительным языком? А каким тогда языком вы владеете? Вы можете повторить это шёпотом по слогам и по буквам со всеми знаками препинания? Что вы сказали?
А кто же ещё по этому телефону мог ответить на ваш звонок, кроме Эдгара По? Вы не слышите мой ответ? Вы разве не слышите мой ответ — „№уегтоге!“??? Вы не слышите разве мой ответ — „Никогда!“??? Что? Вы не умеете слышать ответы в вопросах?
Кто вас так развратил? Что? Вам плохо? А кому хорошо?..»
Тут раздался чудовищный треск на линии, телефонная трубка сама повесилась, а Эдгар По схватил кусочек сыра и улетел в окно, превратясь в известную всем птицу.
С тех пор я свободно владею дюжиной вопросительных языков, европейской, азиатской и африканской вопросительной речью.
Говорить и петь иногда обожаю одними вопросами, вместо ушей рисую вопросительный знак, — да услышит имеющий уши!
А к той безответственной доброте не подпускаю теперь на пушечный выстрел наглое, подлое и бесстыжее право на шанс.
Кто это право на шанс так чудовищно развратил? Она, такая-сякая мерзавка! Она, доброта, безответственно безразмерная, самоубийственная и беззащитная в чистоте своих помыслов, — повторяю вам по слогам и по буквам.
Этот рассказ посвящается Светлой Тени тёмного прошлого.
Гдети в ясный гдень.
Гдеревня «Буча».
Конец Света
Но больше всего инвалидов — у победителей, намного меньше — у побеждённых. Потерпев поражение под Фуфлоо, можно обресть драгоценное знание, что просить у Творца надо не денег и славы, а благоприятный диагноз и хоть немного любви, даже капля которой огромна. Всякий раз я об этом пишу, повторяясь бесстыдно. Как листва и трава.
Когда, наконец, наступил Конец Света, это мероприятие состоялось так бархатно, и такой шёлковый путь распахнулся под общим наркозом, что многие при посадке, конечно, разбились, но сами собрали себя по кускам и отдельным органам, проворно зашились, подсосались к источникам топлива, к воздуходувке общего дела и потому никакого Конца в Конце Концов не обнаружили, продолжаясь исключительно ради своих детей, внуков, их Звёздных войн и физического бессмертия, на которое шла уже запись с чёрного хода, где очередь бодро двигалась.
Для съёмок: Конец Света — один, обломки воздушного транспорта — две тонны, горное эхо — пять штук, степь заволокло пылью — одна штука, живой реквизит: змея — одна штука, мерседесы — пять, верблюды — два, нейрохирургия — одна, лошади и ослы — по одной штуке, собака зевает — одна, лауреаты — массовка, мешок с бисером — один, ветродуй павильонный, пиротехнические дымы белые, кинокамера «Родина», рельсы, тележка, колокольчики, виолончель, аккордеон.
Ехал трамвай, билеты у всех кончились, в компостер совали деньги, он их дырявил, а потом их выбрасывали на землю, выйдя на своей остановке, деньги — мусор. Все от счастья были дружно контужены. Дети ржали, свободные духом и телом, отвязные, стёбные, крутые, с отмороженными лампочками в глазуньях, с ботинками на зубастой подошве, с кайфом в ноздрях и венах. Они прикольно мчались на роликах, рассекая толпу на трамвайно-троллейбусных остановках и давя зазевавшихся, которые с перепугу шарахались под колёса транспорта. Концерт, веселью нет конца, концепт и концентрационный лагерь счастья. Гестапо успеха.
Для съёмок: ржущие на роликах — пять штук, трамвай — одна штука, трамвайная остановка, усыпанная деньгами, продырявленными компостером — одна штука, перееханные трамваем старик со старухой — по одной штуке, самоубийца с балкона — один, то же из окна — один, дети под кайфом — массовка, клей «Момент», пустые шприцы, восточный базар, мешок с бисером, ветродуй, челеста, колокольчики, пиротехнические дымы.
По всему глобусу прокатилась освежающая правозащитная волна трибуналов — смертельных судов детей над родителями. Золотые мозги профессуры, режиссуры, золотые перья, струны и кисти объявили нескончаемый праздник борьбы за права ребенка на истребленье родителя через повешенье, гильотину, электрический стул, расфасовку на органы, а также на зарытие в землю живьём, потому что — Концерт Конца Света.
Дети не врут, они фантазируют. Их фантазии сказочны, а в сказках так сладок сказочный ужас, и Страшные сказки — вне конкуренции, они — всех любимей, и всех любимей рассказчики Страшных сказок. У каждого есть в извилинах ложные воспоминания, у многих — с весьма примитивным набором пыточных, жестоких фантазий: отец изнасиловал, мать откусила пипку, отец поджаривал на сковородке и выбрасывал на мороз, мать клещами сдирала ногти, далее — в том же духе, без остановок, на сказочном топливе ужасов. А свидетелей — что грязи, навалом, все в сказку хотят действующим лицом.
Детка прелестная, перекормленная любовью и возжелавшая пыток, сдает в трибунал казнительный мать и отца. Но вот что самое удивительное и на ус мотательное: детка тайком находит двадцать семеек, которые пишут пафосно ложный донос и требуют истребить тех родителей, которых и вовсе не знают, за издевательства над дитём. А летучий отряд «Истребитель Родителей» — тут как тут, он везде и круглосуточно, за выдачу платит премию.
Детка загадочно улыбалась, когда мать с отцом приговорили к отрезке ушей, носа и языка и к выковыриванию глаз вилкой. На суде сказало дитя, розовея: «Ваша честь! Не казните, пожалуста, моих родителей, я их очень люблю, несмотря на то, что по средам они морозили меня в морозильнике, а по субботам обливали крутым кипятком, привязав к баобабу. На рассвете они будили меня по голове кирпичом, а вместо сока в бокал наливали бензин с ацетоном, иногда — соляную и серную кислоту. Но я их очень люблю всё равно и прошу помиловать. Благодарю, Ваша честь, за внимание».
Детку эту с восторгом усыновили-удочерили-уматерили два почтенных профессора из трибунальского музея, у которых детка случайно дала дуба при загадочных обстоятельствах, связанных с выкипанием кастрюльки-ядов арки.
Для съёмок: подросток в судейской мантии и в шляпе с кисточкой — один, истцы и свидетели — двадцать семеек; старик со старухой, которые без ушей, без носов, без глаз и с отрезанным языком, — две штуки, палач с ножом и вилкой — одна штука, кастрюлька-ядоварка — одна штука, горное эхо — семь штук, массовка — триста, групповка — сто, бисер серебряный — один мешок, факелы разные — пятьдесят, ветродуй, пиротехника, дымы разные, скрипки, ударные, флейта, гармонь, кинокамера «Родина».
Теперь, когда дети в Конце Концов полностью сдали родителей трибуналу, выяснилось, что плюс ко всем издевательствам, пыткам, насилиям, зверствам, развратам, творимым этими негодяями над собственными ребёнками, имеет место хроническая, запущенная, неизлечимая нелюбовь некоторой части родителей к властям, — такой вот недорезанный, недоказнённый менталитет, носители которого, к счастью, быстро и хорошо вымирают, когда отрезаны от источников пропитания, электричества, газа, водоснабжения, отопления, медицины — и тыр-пыр восемь дыр. Как можно в Конце Концов не любить власти, власточки, власточкино гнездо, нечто из властилина, когда партизаны уже в космосе и скоро будут нас оттуда пускать под откос?
Мнёшь властилин, окна и прочие щели замазываешь, не дует, не свищет, бензином попахивает властилиновая замазка. А которые власть не любят, их сразу видно, особенно в трибунале. И, по мере их полного изведения в борьбе за права детей, у всех остальных благосостояние улучшается путём евгеники — естественного отбора лучших сортов человечества в Конце Концов. Называется — аутсортинг.
А для худших сортов — Министерство Кастрации, Академия Кастрационных наук, ДНК — дружины народной кастрации, РКК — республиканские комитеты кастрации, и всё это есть в Конституции глобуса. Улучшение отборного сорта требует жертв. И вот он, отборный, совсем улучшился в Конце Концов, и даже работает Общество памяти и спасения Жертв Кастрации, где им возмещают ущерб участками на Луне, бесплатно дают в кастрономе продукты и в космической невесомости лечат от кастрофобии кастрального тела. Эти сорта впадают в буйный психоз, когда слышат слово «кастрюля».
На той неделе, в четверг, Жанетта-Марфа-Луиза лет десяти подпилила спящим родителям горлышки лобзиком. Оказалось, что мать и отец несчастной бедняжки заставляли её совершать ужасные вещи: ходить в школу, пылесосить детскую комнату, выносить мусор и не нюхать кокаин.
Суд приговорил этих деспотов к самоубийству, детка приготовила им цикуту, они сказали спасибо и с удовольствием выпили, чтобы детям жилось лучше.
Сперва дело не шло, а теперь отладил ось, гениальный ученый двенадцати лет открыл и внедрил замечательный метод превращения казнённых родителей в аргентинскую парную говядину, а потрох, глаза и вся голова идут на медицинские нужды бессмертия. За это открытие он получил Нобелевскую премию и произнес лауреатскую речь «Конец Концов и гробализация — как топливо вечности».
Он сказал отборным сортам глобуса: «Высший разум присутствует только в положительном, в позитивном, в оптимистическом взгляде на всё происходящее, каким бы оно ни было лично для вас, хотите вы того или не хотите. Власть, и в первую очередь власть разума, не брезглива, брезгливость — подвид страха, она лишает власть абсолютной силы мирового закона, о чём наши предки догадывались чисто интуитивно, питаясь мясом и греясь мехом, однако только в Конце Света, в Конце Концов, они постигли истину страшной ценой. Новые поколения, строящие судьбу глобуса для себя и в своих интересах, на всё получили ответ, благодаря перевороту сознания и прорыву, оказавшись по ту сторону всех вопросов, по ту сторону Конца Света, где в Конце Концов больше нет никаких концов и свет ни на чём не сошелся клином, он всего лишь конечен, прикончен и его кончина лично меня оптимизирует. Высший сорт питается низшим, превращая его в продукт безотходного производства и поглощая с удовольствием, радостно, небрезгливо, как мою аргентинскую парную говядину».
Двенадцатилетний лауреат был практически лыс, и парик с буклями пристегивался к его полированной голове посредством липучек. На таких липучках держались мои кроссовки, в которых я весь тот день просидела в районном Трибунале Кастрации, ловя на сказочно бесстыжем вранье двух наглых мальчишек. Их мать сидела в железной клетке, ребятки сдали её, когда летучий отряд «Истребитель Родителей» арестовал их с двумя пулемётами, которые мать им якобы продала.
Вообще, они видели эту именно мать впервые, а пулемёты оказались двумя бананами, а «Истребитель Родителей», как выяснилось, подделывал протоколы и показания передним числом. Конец Света уже наступил, но мать временно выпустили, чтобы казнить её со всеми защитниками, растворив бесследно в подходящих кислотах в подходящее время.
После суда я мылась так долго, что муж меня бросил, а сын утопил.
Но это мне показалось. Они для сугрева жарили мне на сковородке носки, потому что холод стоял и Конец Света. А когда мои ноги мёрзнут, я обожаю носки, жаренные на сковородке!..
Шок и обморожение
Отличный цвет! Сукно наваринского дыму с пламенем…
Н. В. Гоголь. Мёртвые души.Я, ты, он, она, они, вы — в шоке, вы нас шокируете, мы вас шокируем, они всех шокируют, прекратите шокировать, электрошок, шикарная шокировка, шокотерапия… Словесный порошок в кастрюльке-ядоварке. Действует.
Шок (французское слово, буквально «удар») — смертельно опасная реакция организма на действие экстремальных раздражителей, выражается тяжелыми расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ в результате резкого нарушения нервной регуляции жизненных процессов. Вот оно что!..
В некотором царстве, где я родилась и живу, без поэтики пьянства нет божественных откровений. К человеку непьющему здесь относятся насмешливо и ледовито, скверное падает на него подозрение, что не зря он страшится по пьянке распахнуть свою тёмную душу да вывернуть всю её наизнанку, обнажив греховные свои потроха. И уж вовсе немыслимо пускаться на славное
дело, совершать поступки, достойные благодарной молвы, а тем более — слыть художником, если в пьянстве тебя никто никогда не видел и не может в твою пользу свидетельствовать: «Мы вместе пили». Такова традиция, она священна и неподсудна, соборна и несокрушима, и не видать благодати, а быть в ледяном одиночестве тому, кто к ней непричастен.
Это мигом я поняла, на девятнадцатом году своей жизни прикатив в столицу мира и проведя свою первую ночь в общежитии высшего учебного заведения.
Там пили вусмерть все молодые (и не очень!) гении творчески расцветших народностей, включая этнические группы соцлагеря, Крайнего Севера, Сибири, Алтая, Тибета, Гималаев и сопок Манчжурии.
Заблёванные спали вповалку, даже на подоконниках, иногда и на стенах, босиком бродили по лунному снегу в поисках свежих находок, озарений и сочных деталей, проваливались в оледенелые дырки дощатой уборной, вопили о помощи, лобзали спасателей, истекали слезами, рыдая, молились Пречистой Деве, Святым — Варваре, Трифону и Себастьяну, Аллаху и Будде, парили над крышами и ползали на карачках, дрались и кусались, кукарекали и мычали, бодая пыльную пальму в прогнившей, засиканной кадке и с нею барахтаясь в пьяном зловонье, смешанном с ароматами вьюжного снега, сосен и ветра, пасущего звёзды и облака.
«…сотовый мед каплет из уст твоих… и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!.. Нард и шафран, аир и корица… Как лента алая губы твои…» Песнь Песней — вот это что.
— Пей! — она говорит, намотав мои косы на руку и тыча в лицо мне засаленный гранёный стакан тошнотворного пойла. — Ну! Пей же! Все истинные поэты — пиляди и пьянь, свора ебитской силы, обретающая бессмертье в искушении сатаной, трезвенниками и целками. Рембо и Бодлер! Блок и Есенин! — Она ржёт содрогатель-но, её лошадиные зубья упираются в склизкую, фиолетовую сосиску нижней губы, и глаза выползают из век, словно два пузыря из резиновой жвачки. А все обитатели этой творчески адской ночлежки трясутся от хохота, покуда она отрывает мои косы от черепа, неукротимо и пыточно притягивая лицо моё древнее к склянке с вонючим пойлом.
…«Жительница садов! Товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его».
Я беру этот мерзкий стакан, выхожу на средину гогочущей площади жил, жилплощади, и выпиваю залпом, до капли, до чудовищной пустоты на дне, с предсмертным достоинством Сократа, приговорённого пьяным, заблёванным демосом. Цикута. Цикута вироза, вех ядовитый, особенно корни, корневище и молодые побеги, судорога, пресеченье дыхания, смерть.
«Есть у нас сестра, которая ещё мала, и сосцов нет у неё; что нам будет делать с сестрою нашею, когда…»
Когда я ставлю пустую склянку на стол, облепленный чавкающей клеёнкой, во чреве моем разворачивается огромный чугунный молот и, сокрушая солнечное сплетение, он изнутри раскалывает мой череп надвое, по шву, как скорлупку ореха, — ор эха! Слепну и глохну, но в искрах последнего света виднеется дверь и чёрный ветер, который её распахивает, всасывая меня в свер-кающии, ледяной пустотою гремящий космос. Так вытекает плоть человеческая в щель аэробуса, когда катастрофа. И «…запах от ноздрей твоих, как от яблоков…» Песнь Песней — вот это что.
— Дамы и господа! Большую часть пути мы летим над водным пространством, спасательные жилеты находятся у вас под креслом, достали, надели, пристегнули, надули, нажали на клапан, загорается лампочка, не забудьте подуть в свисток, вас должно быть не только видно, но также и слышно, экипаж корабля желает всем провести приятно время в полёте.
Шок и обморожение… Папавер сомниферум — мак снотворный, сок растения, головокружение, сонливость, сон, переходящий в смерть.
Сугроб, который так плавно сомкнул надо мною волны, был необъятно высок и просторен, у забора он рос, в нём лето стояло, струился полуденный зной, скрипел обжигающий белый песок, и прохладный ветер дул с океана. Меня никогда ещё не отпускали так далеко — одну, ко дну.
Скорость аиста — 41 километр в час, и делая по два взмаха в секунду, пролетает он 10000 земных километров… Колибри делает 200 взмахов в секунду, а пульс воробья 600–850 ударов в минуту, и температура его летящего тельца 39,8—45,3 градуса… Ласточка — национальная птица Эстонии… Самое огромное когда-либо существовавшее плотоядное наземное животное имело в длину 14 метров и называлось тираннозавр…
Шок и обморожение. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимуществ перед скотом; потому что все — суета!»
Это надо бы рассверкать, расплескать по чуть-чуть, в ритме тончайших вкраплений, чтоб оно обреталось внезапно, нечаянно, как всякая свежесть, как чистая прапрапамять, пра-пра-пам, пра-пра-пам!..
Но череп расколот, и оттуда сыплется всё, что с годами, с детства, из репродуктора, в библиотеке имени Павлика М. и Григория Сковороды, в амбулатории с калейдоскопом и фреской на вечную тему каверны и шанкра, дифтерита и тифа, мойте руки, фрукты и овощи перед едой, свинка, ветрянка, краснуха, капельная инфекция, не пейте из одного стакана.
Шок и обморожение. Библиотека сугробов. Листается. Говорит голосами, как местность вселенской окрестности, как звуковая дорожка, которая лично мне родней и растительней, чем саунд-трек. В сугробе сугробно дышу за гранью, за границей границ, в обложке воды, рассыпчатой, звёздчатой, как снегопад, по которому с почтой идут почтальоны Бога и показывают кино.
Отец, выходя из волны Борисфена, вздрагивает и на себе от воды отжимает — сатиновое, просторное, чёрное — изделие фабрики Розы и Карла, и слепыми зрачками глядит в небеса. Его кости печальны, улыбка блаженна:
— Ты здесь?.. — он спрашивает. — Подвинься. Чуть-чуть.
Ему не бескрайний берег, ему нужна только эта песчаная вмятина, сыпучий дочерний слепок, в котором он обретает свою пра — пра — пам, «… ибо кто приведёт его посмотреть на то, что будет после него?» Песнь Песней.
Зачем они шьют такое широкое на фабрике Розы и Карла?.. Ведь когда врывается ветер в эти мокрые черные раструбы, там всё начинает кататься, и видны волосики дыбом, гусиная кожа и жиденькие железки.
Мультум нон мульта — мало о многом, это воспоминание древнего детства, оно всегда чуть-чуть приоткрыто, как рот усыпающей рыбы, во чреве которой мы проплываем свой путь. Зачем они шьют такое широкое?..
Шок и обморожение. В сугробе — самые свежие новости, секретный завод новостей — Почтовый Ящик, новостей патефон, новостей радиола, спидола. Властью запахло, властью! Зверским таким аммиачным потом, горящим болотом, корридой, рёвом толпы «Убей!», бычьей мочой и кровью, селезёнкой лошади, дрожащей от страха, лошади с мешком на морде — чтоб кошмаров не видела! — запахло кишками прыгучего тореадора, чесноком и крутыми яйцами жрущей публики, зноем запахло, пылью, полынью и грозовым электричеством. Ящерки шаркают брюшками по раскалённым камням. Звуковая дорожка сугроба. А соловьи заливаются, глазки закатывают, горлышки запрокидывают. Вещество эротики сладостно лихорадит. Песнь Песней — вот это что. «…подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви» — к власти. «Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знамёнами? Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?..» Власть! Она, сладострастная, — кто ж еще?
«Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника?» Власточка — имя женское, одновременно — птица.
— А как в Измайлове снег сошёл, стали все они из пруда всплывать, под коленками жилки подрезаны, органы все снасилованы, поза утопленная, личики лет на пять, ну на шесть, никак не взрослей, и платечки нежненькие. Вот какая пошла песня.
— А под асфальтом в сугробах что творится?.. Жемчуг в канистрах — раз, золото всякое — ведрами да кастрюлями, яхонты — бельевыми бачками, а вниз лицом — без вести пропавшие.
— Тьфу ты, мерзость какая! У вас, гражданка, течёт из мешка.
Течёт, течёт, весна кругом, одуванчики, зелень и правда-матка, что всё развалилось, прогнило и потекло. С груди — камень, гора — с плеч, с языка — прищепка, с губ — замок: проворовались, антихристы, державу ограбили, в лагерях загробили, в тюрьмах перестреляли, сокрушили, сгноили, оклеветали, оттяпали, отравили, взорвали, измерзопакостили, привели в исполнение… Кто? Где? Когда? Фамилию! Имя! Город, область, год, месяц, число! Ворон каркнул: «Никогда!..» Перекур, перекурв, не до кур — у кур нет рук, но курвы — красоты нерукотворной, за них дерутся насмерть алмазными диадемами.
Кто? С кем? Где? Когда? Любопытному в театре прищемили кое-что, комиссия постановила судить его за порчу двери и спектакля. Тик-так, тиктактика такая, чтоб тикал тик в глазу, внизу сугроба.
Она была старше на восемь лет, выросла в дюнах, русский был для неё языком оккупации, но страшно хотела замуж за трёхэтажного партизана. Сугроб отвезла в больницу и там со мной ночевала, своей виной гвоздись, пыточной подлостью. Мох она заговаривала и поила заговорённым отваром, пеленала отморожение — мёдом и салом гусиным, апельсином кормила, отдавалась трубе с керосином — за тот апельсин, унижалась по-всякому. Унижение — страшной силы власть, моя Власточка.
Мы жили в лесу, и однажды, гуляя по этому лесу, я вытащила её из петли. В благодарность она заставила меня закурить — чтобы стало мне легче. Курение — оно, конечно, самоубийство. Но не такое ведь, как петля, из которой тысячу раз вынимает табачный дым.
Она была из материй с чудовищными амбициями, занималась изъятием ценностей, которые принадлежали не ей — исключительно потому, что она не могла бы ими воспользоваться ни при каких условиях. В ней постоянно кипела кастрюлька-ядов арка.
«Но пропади я совсем, если её не люблю», — искренне Ваш Катулл.
Быстрорастворимый парашют
Все люди, да люди —
хоть бы черти встречались…
Николай ЛесковНет конца чудесам!.. Человек изощрённого ума и фантастического чутья, хищно заточенный на собирание книг и картин, рукописей, фотографий, автографов, которые станут антикварными редкостями в комплекте с его знаменитой личностью, лет семьдесят занимается этим сладостным жизнеопасным делом, владея всеми способами и стилями коварства и обольщения, всеми тайнами тактики и стратегии, — но в один быстрорастворимый вечер вдруг впадает в старческую рассеянность, забывает включить рубильник самоконтроля и отправляется в ресторанчик поужинать с чертовски успешными типами, которые им восхищаются и ему подливают, и подливают, а он выпивает и выпивает — быстрорастворимый яд несбыточных надежд. Такая вдруг жажда на него напала, такая зверская жажда окончательного признания талантов его, драгоценностей и заслуг влиятельной чертовнёй!
Пьяный в доску, в стельку и в дым от этого наркотически подлого яда, он с чертовски успешными типами, ободряемый их восторгами, летит быстрорастворимым самолётом к чёртовой матери в замечательную страну. Там ему обещали эти быстрорастворимые черти вмиг устроить музей его имени во Дворце Йух на Площади Кастрюльки-Ядоварки, где множество галерей, театров, кафе, ресторанчиков и монмартров, куда слетаются и сбегаются все грядущие знаменитости, чтоб достичь совершенства и хлебнуть озарения через выпивку яда надежд, который там продаётся в бутылках, в банках, в пакетах с соломинкой, а также подаётся в графинчиках и в бокалах с газом и без.
Как только он туда прилетел и завис над аэродромом Звездопадло, черти дали ему парашют и сказали: «Прыгай! Аэродром закрыт на дезинфекцию».
И он прыгнул. Вдребезги и всмятку. Парашют не раскрылся над ним, а растворился, как шипучая таблетка. Это был быстрорастворимый парашют, чудо высоких нанотехнологий. «О, нанизм! Ты — супер!», — воскликнули быстрорастворимые черти, улетая с его драгоценной коллекцией по своим делам — растворять следы и улики, превращая грабёж с убийством в нечто быстрорастворимое, как сахар, облако, сон, туман…
А разбившийся всмятку и вдребезги, если б не был отравлен ядом издевательски подлых надежд, сейчас бы свою коллекцию сам бы чудесно прославил, путешествуя с ней в исключительно благоприятных условиях по лучшим музеям планеты и даже кое-что из неё за великие деньги выставляя изредка на торгах знаменитых аукционных домов. Принимал бы он в данный момент целебную ванну в гостинице супер-люкс, китаец лечил бы его позвоночник серебряными иголками, прижигал бы разные точки сигарами из тибетских трав, которые также растут на Алтае. Потом бы его ублажили массажем и повезли выступать в телевизоре, сделав лёгкий ему макияж и причёску.
Если б только он сам не травил себя мучительной очевидностью недооценки его действительно выдающихся трудов, а плевал бы на это с весёлостью, — сейчас бы его драгоценная коллекция не исчезла в тумане быстрорастворимых чертей, давно и упорно использующих достижения высоких, повторяю, нанотехнологий, нанизанных на такое нано, что по мере надобности всё растворяется…
О, нанизм! Ты — супер!
То в твёрдой обложке, то в клетчатой кепочке, то в супере с портретом на сгибе, то в первых рядах, то в последних известиях, то в ссоре с Большой Медведицей, то в модной короткой чёлке, из остатков волос начёсанной с затылка на лоб, — ходит взад-вперёд с парашютом другой влиятельный старичок, которому как раз фантастически повезло с чертовнёй. Извольте признать, что не всё так просто, везёт далеко не всем, и даже овечка однажды убила спящего пастуха, нечаянно наступив на его заряженное ружьё. Нельзя выключать рубильник самоконтроля, чертовня тут как тут и прикидывается невинной овечкой!
Но всё-таки ходит чертовский везунчик взад-вперёд с парашютом. Хищно заточенный на плодотворные связи в сфере тайных услуг и взаимного восхищения, он по мере надобности потихоньку торгует выпивкой ядовитого прошлого, озираясь на всякий случай и занимаясь лишь тем, что лениво помешивает в кастрюльке старое варево, без особых усилий включая под ним газовую горелку. Никакие быстрорастворимые черти никогда не польстятся на покражу такого художественного продукта, тем более — на убийство ради подобной, извините, халтуры.
А ходит он с парашютом, чтобы не было ни у кого ни малейших сомнений в том, что он приземлился по многочисленным просьбам и точно так же взлетит, соответствуя иерархии ценностей. Такая духовная нанохаризма!.. Но, когда пьяный в доску, в стельку и в дым он растворяется, как шипучая таблетка, и быстрорастворимый парашют исчезает, — остаются злобные глазки, злобные желваки, злобные челюсти, брызжущие злобной слюной, что и видно, и слышно. Откуда такая лютая злоба? Почему она не растворяется, как парашют? Почему эту злобу чертовски успешной туфты не берут чудеса высоких нанотехнологий?.. О, нанизм! Ты — супер!
Быстрорастворимые самолёты устриц и бомб. Быстрорастворимые угрызения совести, быстрорастворимые детские сады, школы, больницы, быстрорастворимые учителя и врачи, быстрорастворимые языки человеческого общения.
Быстрорастворимые границы возможного, включая святость могил. Быстрорастворимое прошлое, быстрорастворимое будущее и такое же настоящее в быстрорастворимой среде обитания, где быстрорастворимые черти владеют искусством, наукой и кухней быстрорастворимых событий.
— А подать сюда быстрорастворимого Мандельштама, Шаламова, Платонова, Пастернака и быстрорастворимую Цветаеву заодно!
— Кушать подано! Кушать подано! Кушать подано! — поют, приземляясь, чертовски успешные, быстрорастворимые парашютисты, с грохотом ставя огромное быстрорастворимое блюдо, на котором дымится быстрорастворимое это кино, нанизанное на такое нано, что по мере надобности всё растворяется. О, нанизм! Ты — супер!
Вот это Шекспир идет
Кусок мыла
И я очень благодарен за то, что русские победили
гитлеровцев, иначе из моей бы родни приготовили
бы кусок мыла. И, естественно, вашего покорного
слуги не было бы…
Дастин Хоффман, великий актёр американского кино.— Пахнет мылом! — сказал Шекспир. — Как тошнотворно тут пахнет мылом!
Он поправил съехавшую набок харизму и, на ходу попивая виски из внутреннего кармана плаща, завернул в подворотню, где наших мальчиков и девочек, разгромивших армию Г., нынче выкапывают из могил маленькие, гордые европейские народы. В припадке прозрения. Но выкапывают не так осторожно, как ржавые боевые гранаты, мины и бомбы, которые могут взорваться в любое время, — у них как бы нет срока давности. А у мальчиков наших и девочек, разгромивших армию Г., срок давности как бы истёк — на некоторых территориях.
Страна, где в припадке прозрения выкапывают лопатами «нехорошие» воспоминания из могил, с убийственной скоростью превращается в территорию и перестаёт быть страной, а её народы превращаются в население.
Таков мировой закон, воля небесных сил. Даже дикие племена эту азбуку знают. Нехороший закон? Отвратительный? А вы лопатой его, лопатой, и будет вам по заслугам!..
Когда помпезно и триумфально по стране покатилось кино «Покаяние», где в припадке прозрения выкапывают «нехорошего» мертвеца из могилы, а потом в припадке «хорошего» покаяния ищут дорогу к храму, — страна чудовищно быстро превратилась в территорию, а народы её — в население. Все отравились выпивкой ядовитого прошлого. Ядоварка жутких воспоминаний кипела круглые сутки, знаменитые ядовары питались устрицами. Территорию раскопали на множество территорий, а население разбросали лопатой.
— Уходим! — сказал Шекспир. — Не там копают.
С двадцатого места пятого кинояда он выскочил из душной тьмы на воздух, где выплюнул переживательную резинку, а я в неё влипла, но этот Шекспир меня оторвал, и с тех пор я — оторва и бинтую растяжение связок.
Мойте руки перед едой!.. Перед тем, как съесть человека, страну, народ, — мойте руки мылом, из них сваренным. Далеко не все готовы отправиться на мыловарню и стать куском чудесного мыла «в интересах всего прогрессивного человечества». Всего?.. Прогрессивного?.. Человечества?.. Некоторые уходят в Сопротивление, нагло отстреливаются, пакостят, пускают под откос мыловарню, взрывают мылорезку и мылят шею мыловарам. У этих сопротивленцев, почему-то категорически не желающих превратиться в кусок мыла и страну превратить в обмылок, есть даже такое грязное у них ругательство — «мыльная опера», но ещё грязнее ругательство — «замыленный глаз»!
Я уж не говорю о том, кто, к кому и в какое место «лезет без мыла», чтоб отличиться в героическом деле уничтожения сопротивлянтов и вымыть руки мылом, из них сваренным, — перед тем, как съесть эту часть человечества. Даже маленький кусочек мыла, правильно сваренного с ароматами роз, апельсинов, персидской сирени, бергамота, ванили, опиума и дыма, — отличный подарок и лучшее средство от всякой заразы, особенно для успешного людоеда с тонко развитым вкусом и чувством собственного людоедского достоинства.
Я тоже, Дастин, благодарна Господу Богу, Творцу, — за то, что русские, и моя родня в их числе, разгромили Г., победили Г., иначе из моей бы страны сварили бы необъятное мыло, чтоб вымыть руки — перед тем, как её съесть.
— Пахнет мылом! — сказал Шекспир. — Из кого-то, сейчас и здесь, варят огромное мыло, работает мыловарня и мылорезка. Уходим! В Сопротивление.
И пошёл он туда своими ногами, попивая виски из внутреннего кармана плаща и напевая хулиганский фольклор «Влезло мыло в мыльницу».
А навстречу едет кастрюлька-ядоварка, художественно расписанная ромашками со всех сторон. И руль у неё — ромашка, и за рулём ромашка сидит, на ромашках гадает, говорит в мегафон:
— Я — Ромашка! Я — Ромашка! Выдать? Не выдать? Выдать — не выдать, выдать — не выдать…
— Что выдать? Кому? — спрашивает эту кастрюльку Шекспир, окуривая все свои внешности и внутренности капитанским табаком из трубки мастера Киселёва.
— Не что, а кого. Не кому, а всем желающим, на растерзание, — говорит в мегафон ромашка.
— Кто выдаст, — того разгромили, того раздробили, того и разбили, того убедили, что все, наконец, его победили! Кто выдаст, тот обелградится и обагдадится! — сказал Шекспир, утирая платком харизму, вспотевшую от глаголов.
— А вы на кого намекаете? Что за пьеса у вас на уме? Говорит Ромашка! Говорит Ромашка! Рву на себе лепестки, гадаю: выдать? не выдать? Жду ответа!
— Ни в коем случае! Ромашка, ромашка, вы меня слышите? Говорит Шекспир! Говорит Шекспир! Немедленно покиньте кастрюльку-ядоварку! Не отравляйтесь ядом надежд! Прекратите рвать на себе лепестки! Если вам при гадании выпадет «выдать», огромное сварят из вас мыло с ромашками на обёртке!
— Мыло? Из меня? Сварят? Живьём? С ромашками на обёртке? Какой ужас! Какие жуткие мысли у вас в голове! Как можно такое вообразить, когда нас окружает со всех сторон прогрессивное человечество? А у вас, негодяй Шекспир, экстремист злодейский, на уме какие-то гитлеровские кошмары, — вот не зря ваше мрачное творчество не любил наш Лев Николаевич Толстой!
— Пахнет мылом! — сказал Шекспир. — Как тошнотворно тут пахнет мылом!
И действительно, отвратительно пахнет мылом, мыльной оперой, замыленным глазом, пахнет теми, кто «влез без мыла», и обмылками пахнет, обмылками, скользкими, жизнеопасными, — подвернётся такой обмылок — и нет человека, разбился вдребезги.
Холщовая торба есть у меня, тёмно-красная, с надписью «Шекспир и компания». Давным-давно Шекспир и его компания подарили мне в Лондоне эту чудесную вещь. Она всюду носит меня с собой и никогда, никогда никому не выдаст.
— Ни в коем случае! — говорит Шекспир, поправляя с хрустом шейные позвонки и напевая хулиганский фольклор «Судью на мыло».
— Какого судью? — кричат в мегафон из кастрюльки-ядоварки.
Не даёт ответа. Врать не хочу, воровать не хочу, это — Гоголь.
Всем повезло
Красивая, стройная Вера с медной стружкой кудрей до плеч. В длинном шёлковом синем платье с россыпью малюсеньких звёздочек. В сандалиях Артемиды на босу ногу. С охотничьей сумкой через плечо, украшенной лисьими хвостами и мордочками. Шла показать своё творчество недоступному гению, с которым договорились о встрече высшие силы.
Гений был весь из тумана, который плыл над рекой, где плыло всё остальное — луна и звёзды, флора и фауна, времена и народы, вечернее солнце и утреннее, музыка, живопись и кино, все языки человеческие, письменные и устные. Он дышал и виднелся не в глубоком кресле, не на стуле, не на диване — он вообще не сидел, не стоял и не лежал, а плавал с белой чашечкой чёрного кофе и с белой длинной глиняной трубкой, где курился дымок знаменитого пиратского табака.
Вера вынула из охотничьей сумки дохлую дичь своего творчества и, хохотнув басом на нервной почве, протянула рукопись недоступному гению. А рукопись поплыла под настольную лампу, ствол которой белым винтом уплывал ввысь, покачивая холщовым ведром абажура. Ведро абажура было наполнено пьяной вишней, пропитанной пьяным светом.
Через двадцать-тридцать минут недоступный гений улыбнулся Вере, как старому другу, как близкому человеку, перед которым он кругом виноват, и сказал:
— Всё это замечательно! Ни за что не бросайте писать, у вас есть собственная история, чувство события, вы не боитесь ни мыслей, ни слов. Печатать это сейчас не будут, и больше никому не показывайте, вас могут насмерть обидеть, унизить и растоптать, отбить охоту и всяческий интерес. Надо беречь пламя, оно ведь не газовая горелка и не лампочка электрическая — включил, выключил, опять включил. Ну, допустим, это где-нибудь вдруг напечатают, вы получите мелкие деньги, подарите полтора десятка журналов или сборников с этой публикацией своим знакомым, приятелям, они вас поздравят, — а что дальше?.. Пустота. Читателей нет. Приятелям эти журналы и сборники — лишний груз, не будут же они читать одно и то же сто раз, в лучшем случае затолкают куда подальше. Бездну времени надо убить на поиски доброжелательных рецензентов, пить с ними водку, постоянно встречаться, слушать их сивый бред, разнообразно льстить их самолюбию, в их ритме стареть и умирать. Я готов быть вашим единственным читателем вместо тех двадцати-тридцати, ради которых с таким трудом вы попали ко мне сегодня.
Искушение было сладким и страшным. Читатель, единственный, но зато какой!.. Вера к нему пробивалась два года, разнообразно льстя самолюбию многих обманщиков, унижаясь бесконечными напоминаниями о своем интересе, пока совершенно случайно не познакомилась со старушечкой, которая пылесосила раз в неделю жилплощадь этого недоступного гения.
Как только Вера о прозрачной старушечке вспомнила, туман рассеялся, и стало вдруг ясно, и стало вдруг видно, что у недоступного гения — никакая жилплощадь, никакая мебель, книги стоят на досках, доски — на кирпичах, и никакие деньги не вложены в обстановку.
«Так не живут! — подумала Вера. — Нет никаких следов никаких денег! Потолок с протечками, паркет земляного цвета, ремонта не было лет двадцать-тридцать, стены — сплошной туман. Разве ему не платят? Куда он девает деньги? Или хуже того, он — бесплатный гений? Такой знаменитый, такой влиятельный и такой бесплатный? Это — стиль поведения, образ жизни, чистота его помыслов?.. Ну сейчас я налью, ой, налью туда яду, в чистоту его помыслов!.. Так не живут!»
И забулькала у неё в голове кастрюлька-ядоварка, в которой Вера варила дохлую дичь своих сюжетов, с одуряющими приправами, с отравами, пахнущими чёрт знает чем!..
От бесплатного гения к ней приплыла кружка свежего, горячего кофе из кофейной машины и тарелка с разнообразно чудесными бутербродами. А вслед за ними приплыл вопрос:
— Как вам живется и кем работаете?
Кастрюлька-ядоварка весело забарабанила крышкой.
— А мне всё время везёт! Замечательно интересная жизнь, всякий день — интеллектуальное приключение, путешественная история, море счастливых случайностей… Быть хотела артисткой, после школы никуда не смогла поступить, вышла замуж за дальнобойщика, носил на руках, постель осыпал лепестками живых роз, хорошо зарабатывал, но по пьянке хватался за топор и вопил «Убью!» Был у него бред ревности, убить мог запросто. Однажды выскочил за мной из окна и в бреду разрубил топором козу, что паслась у соседа, поила его детей молоком, коза была замечательная. Сосед работал в милиции, выкуп не взял за угробленную козу, убийство ни в чём не повинной козы не простил и его посадил за зверское обращение и угрозу для общества. Я развелась и рванула в Москву, мне повезло, сразу стала работать дворником, подъезды мыть, дали мне угол в техническом помещении с трансформатором, который гудит круглые сутки. Но зарабатывала я замечательно, мыла ещё две конторы и парикмахерскую, продавала немецкие кастрюли из нержавейки, медицинские приборы, пищевые добавки, косметику, готовилась поступать в цирковое училище.
Однажды прихожу мыть подъезды, а там на каждом этаже возле мусоропровода лежит куча дерьма человеческого. Я всё это, как положено, убираю, начисто вымываю свои подъезды, а часа через три меня вызывает начальница и орёт, что в моих подъездах на всех этажах какие-то хулиганы накакали, навалили дерьма напоказ. Прибегаю и вижу, что всё это — чистая правда! Вымываю все этажи с первого по седьмой, а на восьмом сидит хулиган, спустил штаны и какает возле мусоропровода. Это — мой бывший муж!.. Его досрочно освободили за примерное поведение, он помчался меня искать и мстить за развод.
Я сразу оттуда уволилась, поступила в цирковое училище, сняла квартиру вскладчину на троих, мне повезло, мы давали концерты в детских садах, на ёлках работали, зимой получались очень хорошие деньги, стала я сочинять рассказы и песни, за песни платили неслабо, мне повезло, я поменяла паспорт и взяла себе псевдоним, который вместо прежней фамилии в паспорт вписали. Прихожу на концерт в гримёрку, а там сидит бородатый бомж, пьяный в доску, спустил штаны и кладет дерьмо. Это — мой бывший муж! Я вынула электрошок и разрядила ему в мозги. Мне повезло, с тех пор он забыл меня начисто, бросил пить, вернулся домой в Крым, женился, родились у него близнецы-тройняшки, он поступил в медучилище, ни за кем с топором не гоняется, работает в санатории, делает платный массаж, позвонки вправляет, иглами лечит за деньги, без денег там не живут, он опять хорошо зарабатывает, построил дом, не психует, очень культурно любит жену и детей, им повезло. Так чудесно помог ему электрошок по мозгам!.. Но это — счастливый случай, редкое исключение, повезло человеку.
И мне повезло, вот попала я к вам, и теперь могу выбирать: единственный читатель, но гений, такой недоступный, или двадцать-тридцать доступных, обыкновенных и не таких бесплатных. А кроме того, я родилась мальчиком и девушкой стала по собственному желанию, по личному выбору. Ну всё, конец прямой речи!
Бесплатный гений, напившись такого яду, испытал огромное облегчение, сердечно-сосудистое, — он развлёкся, в него потёк кислород, и стал он зевать глубоко, как собака. Но Вера не видела этой счастливой зевоты, потому что он весь, кроме весёлых сияющих глаз, покрылся речным туманом. А кастрюлька-ядоварка накрылась крышкой и охладела.
На улице Вера сняла парик и стала размахивать им, как флагом, надеясь, что это увидит кое-кто из окна на шестом этаже. Окно это было таким прозрачным и чистым, как питьевая вода в тонком стакане. И, вдыхая грязный, липкий уличный воздух, Вера вспомнила, что у бесплатного гения воздух был чист и свеж, как нигде, никогда прежде, — хотя окно его и балкон были распахнуты в паршивом районе.
— Так не живут! Так не живут! Так любая тварь может нагадить и отравить чистоту его помыслов.
— Что за глупости! — кто-то сказал, протянув руку из окна на шестом этаже, взял парик, которым она махала, и надел на Веру, потому что есть нечто, кроме «Да!» и «Нет!». Есть нечто, кроме…
…это — совсем не то, что ты думаешь, это — груша «дюшес» в таких детских объятиях, когда груша огромна своим ароматом.
Конец связи
Яблоки
Яблоки делают так. Кусачками режут медную проволоку, цвет которой — чистое золото пиратского клада, золотого петушка, золотой рыбки, золотой яблони, где в золоте ветвей растут золотые яблоки — до войны, во время и после, и вечно, и послевечно.
Из этой проволоки, забинтованной зелёным лоскутиком ситца, но лучше — батиста, получается стержень яблока и веточка, из него торчащая, там в конце и листик яблони потом образуется.
На стержень, как пряжа на веретено, слоями навивается вата, через два слоя на третий обмазанная свежесваренным клеем, чтоб звенело, блестело и гладко круглилось, — можно и жидким крахмалом, но это хуже намного, вид будет вял, не сочен.
А как высохнет обмазка в яблоке и на яблоке и заблестит оно по-стеклянному, тут же красятся кистью щёчки яблока и веточка, из него торчащая с листиком яблони, который здесь образуется.
Таким же образом делают груши, сливы, персики, вишни, апельсины, абрикосы, мандарины, баклажаны, морковь, огурцы, помидоры, — и всё это сдаётся по накладной, при точном подсчёте штук изделия, а пять яблок оставляют тебе для подвески на ёлку, если дети имеются и справка о том.
Последнее яблоко съели, когда мне было четыре года, потом война покатила нас далеко от яблок, и начисто я забыла, что их едят. Но яблок я тех понаделала с матерью и сестрой великое множество, по живому яблоку никак не тоскуя — только по круглому хлебу.
Сказок о хлебе мало, о яблоках — много. То в яблоке отрава колдунская, то сон невозможной силы, то змейский соблазн, то Божий запрет, то чистое золото, — а кто ж это ест?!.
И ещё слух был и шёпот про то, что яблоки видеть во сне — к похоронке.
Яблоки делать и во сне их не видеть?.. А как? Тайна молитвы.
Последнее яблоко сделала, когда было мне восемь лет, сразу тогда война кончилась, и поехали мы, поехали в обратную сторону, домой, в деревянных вагонах, местами — в телегах… И вдруг на станции продают яблоки ведрами!
Оказалось, что их едят!.. Их ножом режут!.. Их чистят, и стружка вьётся!.. Их варят! Они сочатся и пахнут!..
И все ко мне пристают, прямо хватают за шиворот: «Ну съешь яблочко! Ну только понюхай, какой аромат! Это же — белый налив!»
Мне съесть тогда яблочко было — что съесть табуретку или ключ от дверей. Моя память не ела яблок и противилась ожесточённо.
А люди ржали, как лошади, вгрызаясь в яблоки по самые края дёсен, из которых лилась кровь, потому что — авитаминоз.
И хрустел народ яблоками в кровавом соку и, за шкирку держа, тыкал меня в те душистые ведра, полные яблок. Пришлось мне тогда загрызть одно яблочко с листиком, белый налив. И стало то белое яблочко красным, потому что дитя народа сочится теми же дёснами, — как выяснилось на той же станции, где я тогда выплюнула в ладонь семечко яблока, красное семечко…
С тех пор яблоки даже снились мне иногда, но сон тот был не смертелен.
А вот корабль, плывущий во сне по улицам города, как в Венеции, оставил меня сиротой на лютом ветру и скрылся в тумане вечности с моими родными, материнско-отеческими. В тумане, который плющит мне сердце, когда он сюда натекает.
Надо было делать кораблики. Яблоки делают так, кораблики — эдак, но всё едино, и есть в этом деланье детском космический ритм, который — молитва, защита и светлая память о тёмном.
Наполеон и другие
Многие дамы и господа, кавалеры и барышни гадают на картах, на кофейной гуще, на бобах, на воске, на горящей бумаге, на кошачьей шерсти, на козьем пухе, на горелых спичках… А также вертят столы и блюдца, вызывая полчища духов знаменитых покойников.
Когда я была студенткой и жила в общежитии, однажды у меня за стеной в три часа новогодней ночи вызвали дух Наполеона. Он жутко ругался матом, украл зажигалку и предсказал беременность одному стихописцу мужеского пола.
Первый вопрос был такой:
— Стану ли я богатым и знаменитым?
Наполеон ответил:
— Беременность.
Но стихописец как ни в чём не бывало задал второй вопрос:
— А меня напечатают в «Литгазете»?
Наполеон ответил:
— Беременность.
Третий вопрос:
— Издам ли я двадцать книг?
Наполеон ответил:
— Беременность.
И буквально через трое суток предсказанье сбылось. Из «Литгазеты» пришло такое письмо:
«Уважаемый товарищ! К сожалению, Вы ещё только беременны поэзией, но этого недостаточно. У Вас чувствуется отдельная неподдельная искренность и встречаются отдельные тёплые детали и свежие места с находками. Но беременны поэзией многие, а рождаются настоящие стихи только у самобытных самородков и только от беззаветной любви к жизни народа, ко всему человечеству и к очень упорному писательскому труду. Советуем Вам для работы над собой читать Пушкина, Маяковского, Грибачёва, Долматовского, Исаковского, Твардовского, Симонова, Щипачёва и других современных поэтов и классиков. С приветом!»
Так в новогоднюю ночь дух Бонапарта с точностью абсолютной предсказал гражданину беременность, а «Литгазета» её подтвердила. И через малую длительность тот, кто был ещё только беремен поэзией, нарожал и выпустил в свет двадцать книг, а потом ещё десять.
Нет никаких сомнений, что вызванный дух принадлежал исключительно Наполеону, а не какому-то наглому самозванцу, который морочит голову подлыми шутками. Ведь самое скверное дело, когда по вызову ночью является фальшивый дух и отвечает на ваши вопросы оскорбительными намёками, выкрутасами дьявольскими!..
Например, одна искромётная личность вызывает дух Марины Ивановны Цветаевой и спрашивает у неё так скромно:
— Марина Ивановна, получу ли я в этом году Нобелевскую премию?
А дух отвечает:
— Был мой отец шестипалым.
Ну бред какой-то!.. Что бы это могло значить — «был мой отец шестипалым»?.. Друзья, за столом сидящие, все они в жуткой растерянности, в самых кошмарных догадках.
Тогда эта личность для окончательной ясности вызывает решительно дух Осипа Эмильевича Мандельштама и задает ему тот же вопрос:
— Осип Эмильевич, получу ли я в этом году наконец Нобелевскую премию?
А дух опять же в ответ:
— Был мой отец шестипалым.
Такое вот издевательство. В извращённой форме. Ну прямо чёрт знает что там творится в диспетчерской духов по вызову!..
И только две недели спустя, а точнее — 13 дней, обзвонив кучу знакомых, умельцев разгадывать вещие сны и духовы козни, эта личность внезапно узнала, что её и впрямь обманули, надули, умыли, а вместо духов Цветаевой и Мандельштама прислали по вызову половину строки из «Дактилей» Ходасевича:
Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного сердца, Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту, Ставит на слово, на звук — душу свою и судьбу… Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером И шестипалой строфой сын поминает отца.Потом вопроситель духов долго лечился. Такое не лечится быстро. Духовые оркестры предупреждают, что вызывать и тревожить духов — опасно для вашего здоровья, поскольку дело это — богопротивное. Представьте себе, каким путём и откуда по вашему вызову является дух отвечать на дурацкие ваши вопросы. Потом ему предстоит возвращаться, а на обратном пути много бывает жуткостей, и все они — ваши!..
Однако для человеков с неслабым воображением есть у меня фейская заначка с прелестным гаданием. На толстую большую тарелку кладём смятый как следует ворох газетных страниц, поджигаем спичкой, гасим свет.
Если от пламени тень на стене вдруг похожа на что-нибудь совсем нехорошее — пустяки, на то и сила воображения, чтобы это совсем нехорошее превратить во что-то совсем неплохое. Ближних любя, это сумеет каждый.
У нас такие тут почвы и климаты, такая высокая катаклизменность коммунизменности с капитализменностью, что быстро всё неплохое превращается во всё нехорошее. Погода такая. Какая? А вот такая, преврати-тельная.
Живу превратительно, характер мой — преврати-тельный, превращаю совсем нехорошее в не совсем плохое, поскольку в наших краях, когда не совсем плохо, это уже — совсем хорошо, это уже — прекрасно, это великолепно, это уже — благодать!
Морда для стерляди
Один намордник на сто мордей, золото утекает, а дно остаётся, ловят мордой редкую рыбку стерлядь. Рыболовная морда, она ещё вершей зовется, — очень удобное, остроумное приспособление, плетёнка из прутьев с двойной воронкой.
Заводят морду на самое дно, и лежит она тихо, не скулит, не чирикает. Стерлядь в морду идёт и сперва заплывает в ту плетёную воронку с дыркой. А дырка рассчитана на проскок только одной рыбины.
Друг за другом они в эту дырку проскакивают и прямиком попадают в другую воронку, глубокую, длинную, и далее пропускает она только воду, а рыбу ни в коем случае.
Поутру в этой морде колотится большой коллектив, десятка два или три стерлядей. Какая-то сила передовая несёт их вперёд и вперёд, а в этом «вперёде» — тупик, днище ворончатой морды, гибель по дурости.
Проще простого — выплыть, спастись из того мордодыра. Только назад поворачивай, только выскакивай в дырку, сквозь которую вплыл. Но — только поодиночке! Ведь дырка в морде придумана как раз для проплыва одной рыбины.
Так нет же! Рвутся они вперёд, а в лучшем случае пытаются влезть в эту дырку всем скопом, всем косяком. И тут им — погибель мордатая, никакого спасения, ни малейшей надежды. Но кто ж это видит и знает, в морде барахтаясь?
Живую, сильную стерлядь из морды вытряхивают на днище плавучей посудины, и дивная Божья тварь становится пищей, мордой об стол разделочный, становится блюдом, отрадой желудка, но прежде всего — добычей смекалистого устройства, дешёвого и безотказного изделия, которое тихо лежит на дне, кирпича не просит и называется мордой. О ней-то как раз, о ней, ни о какой другой, сочинилась в рыбацких кругах пословица: «Влез, что в морду, ни взад, ни вперёд». Состояние рыбьего общества, заплывшего в дырку морды, — вполне человеческий случай.
Говорят, что у стерляди в морде наблюдается эйфория, небывалый расцвет самых дерзких идей и открытий, оптимизация происходящего, а также прилив надежды на то, что можно утечь с водой, которая протекает сквозь прутья морды.
Но даже рыбу нельзя превратить в то, что мы о ней думаем.
В десять лет была у меня Шляпа из красного фетра, с полями огромными, с тонкой резинкой — от уха до уха, чтобы Шляпа не улетала, когда сильный ветер подует. Абзац. В этой Шляпе чудесной я налетала на все столбы и деревья, на людей и на всё, что стояло, ходило и ехало, — потому что поля этой Шляпы закрывали мне лицо. Тогда я взяла ножницы и сделала в Шляпе очень красивые дырки для глаз, длинные прорези с дух сторон — спереди и сзади, чтоб носить такую прекрасную вещь по-разному, день — одной стороной, день — другой. Абзац. Но резинка резала мне горло, когда со всех сторон налетал ветер. Эту резинку надо было всё время руками оттягивать, а руки мои были заняты портфелем и чернильницей «невыливайкой» в мешочке таком на шнурке. Поэтому я ходила с розовым шрамом на горле от этой шляпной резинки. Абзац.
Однажды пролетая над Шляпой, стайка птиц на неё накакала. Все сказали, что это — к счастью и знак свыше, но Шляпа исчезла бесследно, вся превратилась в пар!.. Этот пар нам вернули в кросном воздушном шаре, который я и сестра, подарившая мне незабвенную Шляпу, выпустили в небо над парком, где в тот момент публика наслаждалась концертом симфонической музыки в исполнении замечательного оркестра, вход бесплатный. Абзац. С тех пор никаких я шляп не ношу — только эту, которая в небе летает.
Все проходит сквозь всё, и мы пройдём сквозь всё остальное…
Марс и Энгельс отдыхают в ресторанчике «Звездопадло».
А гдети спросят: «А где наши гденьги?..»
А где-то здесь…
Ушла в себя. Скоро буду!
Конец связи
Цветы моей матери
Золотой человек
Видел я, что всякий живущий ходит под солнцем с отроком: это другой, который займёт его место.
Экклезиаст, гл. 4Мальчик Петя Бахов, десяти лет, очень плохо читал, никак не мог вызубрить таблицу умножения, и в диктанте он делал ошибки неимоверные — в самых несложных для написания словах! В его торчащие, обмороженные уши неудержимо лилась стройная, неистощимо образная музыка ошибок: слово «стая» мгновенно превращалось в «стайя», полное лая здешних ворон, воя бродячих псов и этого «ай», которое вечно носится в воздухе.
Все ошибки свои Петя мог объяснить, оправдать вполне осмысленными причудами слуха. И пытался он это сделать, не раз пробовал доказать учителю свою правоту. Но Павел Ильич Глебов, старый опытный педагог, никак не щадил изворотливость детского ума и карал её безо всяких поблажек, незамедлительно, страшась упустить роковой момент. Петину правду чуда он считал неприличной и полагал её видом лживости, лени и самых дурных склонностей, неизменно приводящих к скользкой дорожке и плохому концу. Так прямо, и говорил: «Никому ничего такого не слышится, а один ты, ученик Бахов, слух свой извращаешь орфографическими ошибками, потому что лентяй ты отпетый. Но что хуже всего — хитрый! Вот поёшь ты соловьём все сутки подряд — это сущая правда. И стоять тебе в опере, в парике, напудренном белой мукой, и петь разные дурацкие арии про любовь».
Тут начинался в классе повальный смех, и урок превращался для всех, кроме Пети, в одно нескончаемое удовольствие. Дети охали, корчились, рыдали от хохота, представляя себе, как Петя стоит в опере, в парике, напудренном белой мукой, и поёт разные дурацкие арии про любовь. Кто-то, заливаясь от смеха, вытягивал звонким писком: «Любо-о-овь! Любо-о-овь! Любо-о-овь не карто-о-ошка!» Тут Петю начинало мутить, из костяной ямки под слабой грудью взвивалась в самое горло противная луковая струя, и он опрометью, как зверёк съёжившись, бежал в уборную, чтобы рвотой очистить свою несчастную плоть от позора.
А ведь был он счастливцем, удачником, и уж точно — детдомовцы в Свиристели завидовали ему неслыханно, второй год рассказывая новичкам, как вот был сирота Петя, и открылся у него семи лет от роду замечательный голос, и приехал на этот голос добрый человек, учитель пения, который, к счастью, не имел ни жены, ни детей, и усыновил он Петю, и увёз навсегда в свой собственный дом, как единственного родного сына. И теперь, говорили они, поёт Петя у него в доме под рояль, ходит в музыкальную школу, в субботу-воскресенье спит до двенадцати, а по ночам до двенадцати читает взрослые книги про любовь и страшные приключения.
А Петю меж тем от этой «любви» рвало через день в школьной уборной, и читал он ужасающе медленно, потому что про каждое слово в отдельности, а потом про каждые два слова в отдельности, а потом про каждые три слова в отдельности — и так, пока не кончится всё предложение! — видел он отдельную картину, никак не связанную с текстом. Да ещё к тому же при чтении сочинялись молниеносно в его голове несусветные звуковые ошибки, уносившие мальчика далеко-далеко от печатного слова.
Теперь же речь пойдет о моём главном герое, о золотом человеке, о самом сильном любовном сне моего детства (да, так вот прямо и в лоб!), чьё имя, отчество и фамилия были предметом вечных насмешек в слегка образованной среде, но звучали обыкновенно и никакой не казались натяжкой, и не вызывали дурных подозрений в среде обычайных жителей.
Так вот, учитель пения Иван Севастьянович Бахов преподавал в столичной школе, образцовой, специальной, с английским языком, и ездил на работу в электричке, потом в метро, потом в двух автобусах, потом шёл пешком — всего выходило два с половиной часа.
Он даже и не просил, чтобы Петю приняли в эту школу, хотя обоим жить стало бы легче и можно было бы не расставаться так надолго. Иван Севастьянович понимал, что он усыновил недоразвитого ребёнка с чудесным голосом, который вот-вот исчезнет и, быть может, вовек не вернётся, и никто не поверит, что был этот голос в природе. И пусть, и ладно — чему быть, того не миновать!
Тем и тронул его сирота Петя, что, принимая коробку с яйцами из уральских камней в награду на смотре детской самодеятельности, улыбнулся извинительно, ощерив лягушачий щербатый рот, и сказал звонко с шепелявым посвистом: «Спасибо за ценный подарок! Как сломается у меня голос — сразу верну всю эту коробку в целости, чтоб и другому досталась моя первая премия. А потом у другого голос сломается — и он тоже вернёт…» И так легко, так добровольно согласился мальчик с мыслью о том, что природа права и что голос непременно сломается, а премия — нет! Тут, конечно же, судьи искусства заулыбались, завздыхали, захлопали в ладоши, всячески показывая и себя непосредственными вечными детьми, невзрослеющими, с негрубеющими голосами.
«Тьфу, артисты, притворщики чёртовы! — буркнул тогда Иван Севастьянович Бахов, закуривая. — И зачем сироте эти дурацкие каменные яйца? Ни сварить, ни зажарить! Бред!» И раскалились, поплыли с шипением перед глазами Бахова все глазуньи, которые сготовил он сам себе на завтраки свои, на обеды, на ужины… И кто-то незримый, но твёрдым ножом разрезал каждую пополам, ровно-ровно. Взял Иван Севастьянович отпуск на неделю, поехал в Свиристель, заварил бумажную волокиту, ещё семь раз съездил туда-обратно, намаялся в семи конторах и усыновил Петю, чьи родители и не померли, и в живых не числились, а без вести пропали в кипучей, неукротимой жизни, в гущах её и в чащах, оказав полное доверие человечеству, которому подарили сына…
Снег укрощает рвоту. Петя съедал две-три горсти снега по дороге из школы, а дома вынимал из печки чугунок с картошкой, облитой яйцами. Он обедал, блаженствуя в человечьем тепле своего первого в жизни родительского дома. А после мыл посуду, вытирал её и развешивал полотенце в самом жарком углу, затем он долго тряс половик на крыльце, выметал скудный сор, скоблил стеклышком дощатые полы в сенях и в горнице, обметал пыль с небогатой мебели и наконец, уж не зная, к чему бы ещё приложить старание, принимался с отчаянием за уроки. Вот тут оно и начиналось!
«Из пункта А в пункт В отправился скорый поезд, который без остановок прошел всё расстояние за два часа пятнадцать минут», — пел некий тип-невидимка, но сквозь голос угадывалась его невидимая стать в железнодорожной фуражке, из-под которой свисали колбасками белые, мучнистые букли парика, выпирая на свет божий, как зловредное неотвязное колдовство. И скорый поезд мчался без остановок, а дым валил из трубы белыми, мучнистыми буклями, повисая враскрут-ку на деревьях и вкатываясь в небо.
Да, это было, всё это было на одном рисунке под хрустящей папиросной бумажкой в старои-старои детской книжке, которую очень любили и берегли в свиристельском детдоме. Её даже не давали читать кому-нибудь одному, а только разрешали рассматривать издали всем вместе, но иногда, в особо хорошие дни, читали группе дошкольников. В книжке этой жила захватывающая история о злом богаче и о бедных сиротах в холодном каменном замке. А в детдоме было тепло, временами жарко, и все переживали за нищих, окоченевших бродяжек. Во мглистой и своевольной голове Пети книжные герои пели на разные голоса, и в его памяти накопились какие-то незатейливые самочинные напевы, от которых воскрешались и живьём шевелились картинки под теми хрустящими, прозрачными бумажками. А воздух жизни всегда наполнен всякими хрустами. Особенно же похрустывает воздух детского одиночества, пещера, исполненная воображения, устрашающих и благородных мечтаний.
«А пассажирский поезд прошел это же расстояние с четырьмя остановками за три часа сорок две минуты…»
И в самом деле, в километре от Петиного окна прошел пассажирский поезд, а потом — электричка, за ней — товарняк. И всё это громыхающее, многоколёсное железо, стекло и дерево ехало и пело, встряхивая белыми, мучнистыми буклями дыма, мчалось из одной задачки в другую, чтобы меж пунктом А и пунктом В всегда творилось нечто, требующее сложения, вычитания, умножения и деления, — в общем, решения и ответа, решения и ответа…
А в несчастной Петиной голове совершались под музыку и пение лишь картины, суть которых точь-в-точь диктовалась задачкой, — но самым таинственным образом была на ключ заперта эта суть от мудростей арифметики, от совершенства грамматики, от всего, что так мучило мальчика, мечтавшего осчастливить своего золотого отца Ивана Севастьяновича Бахова, скромного учителя пения.
И Петя, оставив под половиком на крыльце ключ и записку, что обязательно вернётся, пошёл на станцию, чтобы сесть в электричку, а с неё пересесть на поезд, который проходит за два часа пятнадцать минут расстояние из пункта А до пункта В, и там спросить у машиниста, с какой скоростью движет он этот поезд, а потом сойти на первой же остановке и вернуться домой.
Петя доехал до одного из самых огромных городов мира. Там дул ледяной зимний ветер, сияли высокие ночные звёзды, а на пустой площади, облитой серебряным светом, было три вокзала. Замерзающий мальчик долго мыкался, чтобы узнать, когда и откуда отправится поезд из пункта А в пункт В. И по мере того, как цыкали на него, грозили пальцем, чтобы не шутил над взрослыми людьми и шёл домой к маме с папой, равнодушно и не всерьёз грозились отвести в детскую комнату, чтобы не дурачил граждан и гражданок, Петина голова раскалялась, и пели в ней разные голоса, голоса отъезжающие, голоса провожающие…
«Примерно через пятьдесят лет умственные способности робота не уступят мозгу человека, а через семьдесят пять лет у роботов появятся мысли, недоступные людям. И предсказать поведение этих роботов очень трудно, хотя сейчас они умеют говорить лишь два слова: „Гуд бай!“. Компьютерная революция и захват власти машинами — хотим ли мы этого?..» — из рогатой спидолы спрашивал диктор, заканчивая свою передачу под электронную музыку, мотив которой был тут же подхвачен бабусей, качающей двух внучат-близнецов:
С мармеладом в бороде-е-е К своему папаше Плыл медведь в сковороде-е-е По кудрявой каше.Петя чуть было не заплакал от горя, совершив бесполезный путь и собираясь ни с чем возвратиться домой.
Но свет не без добрых людей. И один гражданин с кудрями до плеч, очень весёлый и очень красивый, сказал ему шёпотом: «В сущности, каждый поезд отправляется из пункта А в пункт В. Главное, друг мой, садись в тот поезд, где нет людей, — там легче дышать!»
И Петя сел в холодный, совсем пустой поезд с припогашенным светом. Там стало мальчику жарко, он лёг на пустую скамью и сладко зевнул. И ничего он не видел во сне, потому что сон этот был, что называется, мёртвый.
Из больницы Петя вышел в конце мая, когда земля расцветала и небо веяло свежим, пьянящим теплом. Петя ел из кулёчка клубнику, которую его золотой отец, скромный учитель пения Иван Севастьянович Бахов купил за бешеные деньги на рынке. И по крайней мере эти двое людей были счастливы полностью и глубоко.
Да, кстати, певческий голос у Пети пропал начисто, задолго до предначертанной природой поры. Зато открылся у него…
И тут я ничего не могу с собой поделать, хотя отлично понимаю, что все последующие события Петиной жизни выглядят скопищем жутких натяжек и от начала до конца противоречат нашей текущей реальности. Но я не в силах остановить бег своего бесконтрольно-своенравного пера, потому что впереди — чистая правда, и она — моя, и пора спешить! Ведь Емеля сел на печь — и поехал! А лягушка оказалась царевной! А двоечник — солнце русской поэзии! Чудо неповторимо, но от этого оно не перестало быть правдой. Да, это журавль в небе, неприличная правда чуда, но я без неё жить не могу, мне без неё нигде счастья нет! За что и приношу глубокие извинения.
Так вот, певческий голос у Пети пропал задолго до предначертанной природой поры. Зато открылся у него неслыханный талант к точным наукам, и шестнадцати лет от роду он поступил в университет, и вскорости засияла его сверхъяркая звезда, прославив наше отечество на весь учёный мир. А многие добросердечные обыватели описывали его судьбу в пример и в доказательство того, что вовсе не опасно брать детей из детдома — среди них попадаются очень способные и даже вот гениальные, но заранее ничего угадать нельзя.
И только скромный учитель пения Иван Севастьянович Бахов, золотой человек, до самой своей смерти безжалостно казнил себя за то, что не уберёг беззащитного, доверчивого ребёнка от изувера с кудрями до плеч, от подлой, весёлой нечисти, которая чуть было не свела Петю в могилу и украла у недоразвитого ребёнка дивный талант, искусно завив его мозг такими крутыми, учёными буклями, которых Иван Севастьянович ни видеть глазами, ни гладить руками не мог никогда. Он без памяти любил своего Петра и всей душой прислонялся к вечному шуму его справедливой славы, но временами, от невозможности разделять наравне с Петей всю красоту его учёных идей, мерещилось отцу в глубине воображения, что слава сына — это дьявольский поезд, мчащийся не по-здешнему из пункта А в пункт В. И золотой человек тосковал, считая себя виноватым и как бы извлёкшим выгоду из чудесного происшествия, которое вышло по его недосмотру.
Молодая картошка
Старуха жила и жила. Вся высохла до последней человеческой звонкости, вся сморщилась до последней серебряной ниточки на плешивой макушке, но в свои восемьдесят шесть лет не отсохла совсем от дерева жизни так, чтоб отлететь на ветру шелушинкой и растопиться в нашей общей природе. Кто-то в раздаточной времени помнил о ней и ежегодно выкраивал ей кусочек старушечьей жизни, совершенно не пригодный для более молодого существа, — разве что для котенка?..
Но старуха благодарила, весело улыбаясь лукавым сморщенным ртом с тремя зубками. И ежегодно второго февраля, в день своего рождения, повязавшись нарядным кашемирным платком, со всех сторон и так и эдак оглядывала свой новый кусочек жизни — на что он годится и как пустить его в дело, чтобы хватило до следующей раздачи.
Втайне старуха была уверена, что там, на раздаче житейного времени, как-никак ценят её смекалку, её нежадность и нетранжирство, её маленькие уловки на пользу мальчику, через которого и шло к старухе главное — охота жить и хозяйничать жизнью, несмотря на крайнюю старость с её уродством и немощью.
И на этот раз старуха распорядилась своим кусочком недурственно: в мае она вместе с мальчиком вскопала вдобавок к огороду ещё и несколько соток заводского поля, картошку там посадила, чтобы ту картошку и на зиму запасти, и на рынок снести, а мальчика приодеть на вырост для его будущей без неё жизни.
Откуда у такой старухи в сыновьях мальчик двенадцати лет завёлся — никто не слыхал, и старуха молчит. Она своё дело знает. Сама живёт и мальчику жить даёт. Но торопится старуха, торопится — помнит, что кусочки её жизни вот-вот кончатся, и хватит ей только вздохнуть, моргнуть да ноги протянуть…
Определила она мальчика позапрошлым летом к подруге в артель коробочки расписывать. И так славно, так ладно у него это расписное дело пошло, что старуха сама собой талант у мальчика пронюхала и не дала в землю зарыть! Куда-то они с подругой грамотной написали, кто-то молодой с бородой приехал, и теперь возьмут мальчика с осени в художественную школу с общежитием. Худой у старухи мальчик, кашлючий, ростом мал, криволап, нос морковкой, глаза бусинками, никакой в общем прелести, но имеется необычайность чувствительная — то ли сиротство, всем за жизнь свою благодарное, то ли впрямь художественный талант, искра Божья, да ведь написанное святым духом только святым духом и прочесть можно.
А пока захотелось старухе с мальчиком молодой картошки попробовать. Соседка вчера ездила на заводской участок, ведро накопала, картошка — прелесть!..
Вышла старуха на дорогу, а там знакомый шофёр починяется, сговорилась она с шофёром, и подвёз он её с мальчиком в грузовике. Погода была золотая, солнце лилось, текли ветерочки. Мальчик копал молодую картошку, а старуха обтирала её от земли, в два ведра складывала — одно сами съедим, одно всем продадим. Она ничуть не думала о продаже дурно, потому что многое для жизни приходилось ей покупать. И для неё было естественным, чистым делом продать на рынке ведро картошки или корзину лука, чтобы купить постного масла, сахару, мыла, вермишели — да мало ли чего?.. И яблоки она продавала охотно, если родились, и смородину, и крыжовник — стаканчиком.
Однажды какой-то лётчик купил у неё землянику и обозвал старуху противным словом таким: «Спекулянтка! Продаёшь, чего не сажала!»
Старуха отняла у него газетный кулёчек и вернула восемьдесят копеек за стакан земляники, которую нынче утром собирала она в лесу, ползая на карачках в мокрой траве. Она уже встрепенулась было ему объяснить, как поесть землянички бесплатно, да с какой платформы на какой поезд садиться, да сколько ехать до той землянички, а сколько двигаться пешим ходом. И вдруг поглядела в его стальные глазки, надутые неправедным гневом и богопротивной правотой, и расхотелось ей тратить на этого молодого лётчика свой кусочек старушечьей жизни.
Сейчас она вспомнила об этом с улыбкой и была довольна, что так по-хозяйски распорядилась тогда своим небесным добром, а также земным. Нечего тратить ей зря последние силы на молодого балбеса, который желает задаром поесть что на земле растёт и что старуха ползком собирает. Ей надо тратиться только на мальчика, прискорбная сиротская тайна которого ей одной известна и ею же напрочь забыта, поскольку старуха укромно простила кого-то и дозволила кому-то перевалить со своей молодой на её старушечью шею эту славную, горькую ношу — ничейного мальчика, который сделался главным делом старухиной жизни.
Ах, как чудесно пахнет в ведре на картофельном поле молодая картошка, — вы помните? Ну конечно, ещё бы! Старуха сложила шесть кирпичей, развела огонь и поставила с водой котелок. А в газете у неё лежал настоящий копчёный лещ! И думала старуха о том, как ловко она догадалась в тот раз притащить эти шесть кирпичей и спрятать их под ботвой. Хорошие мысли старуха любила, хорошие воспоминания, добрые знаки, весёлые мелочи — все, что радует, длит, одаряет нечаянно. Она сидела сейчас на тёплой, сухой земле и грелась под боком жизни, бросающей и старухе свои душистые кусочки, и мальчику, и ласточке, и стрекозе, и всякой мелкой букашке. Её глаза слезились в тепле, и она утирала влагу сухой желтой ладонью, и бубнила какую-то песенку, слова которой знала когда-то, ещё полвека назад или даже меньше…
Тогда у старухи были свои законные, такие же мальчики, как вот этот, Саня и Сеня их звали, Саня и Сеня… И муж был, Григорий Петрович. На фронте Петрович сошёлся с другой и домой не вернулся. Дети выросли, — он написал, — и теперь забот у тебя никаких, живи в своё удовольствие, выходи замуж, старуха! Большой шутник был Петрович, всякую работу любил, петь-пля-сать, с бабами кувыркаться. И в двадцать лет, и в двадцать пять называл он её весело: моя старуха! Ведь был он моложе на целых два года, а уж лет пятнадцать как помер от сердца в больнице. Ох, весёлый был человек! Мужик был! — старуха вздохнула с улыбкой, повёрнутой куда-то в синюю глубь её маленьких глаз и в ещё более синюю глубь её памяти, где грелась сейчас на солнце её крохотная душа.
Она ловко слила воду и слегка выпарила картошку, подбрасывая её в котелке и глубоко вдыхая белое жаркое облако, выпиравшее из посудины. «Щас накормлю молодой картошкой и лещиком, и у меня для него яблоко наливное припрятано, в этом году яблок не жди, недород, шиповника насушу», — бормотала сама с собою старуха, раскладывая копчёного леща на газете со всей подобающей для эдакой рыбки почестью. Она полила мальчику на руки из бутылки, он умылся и отёр лицо подолом рубахи. «Однако ж, ты — кра-а-а-сивый мужик!» — сказала старуха протяжно, и мальчик ей улыбнулся грустно и широко своим некрасивым лицом.
Он был толстогуб и скуласт, с синими, как у старухи глазами — без никаких ресниц и бровей.
Но если уж вспоминать… а вспоминать старуха — ужас как! — не любила, поскольку в памяти были тоска и боль, которые мешают делать жизненное действие… Так вот, если уж вспоминать, крепко язык прикусив и ни-ни! ни звука, то мальчика этого, десяти месяцев от роду, привёз как-то летом сын её Сеня, врач из Полтавы, и сказал, что оставит до осени. Сене тогда шёл пятьдесят третий год, а жене его, Ане, пятьдесят пятый. Старуха спросила: «Анюта знает?» А сын её несчастный ответил: «Узнает… если жив буду». Но Сеня той осенью умер в своей больнице, разрезанный на операции, а старухе пришло письмо от Карнауховой Светы двадцати трёх лет, что мальчик этот — её, что Сеня жениться на ней не стал, а теперь заберёт она мальчика, если выйдет замуж за хорошего человека, согласного на воспитание чужого ребёнка.
Старуха ласково ей ответила, чтоб выходила замуж для своего семейного счастья, а за мальчика не беспокоилась, он хорошо очень устроен у богатой старухи. Тут она лизнула конверт по клейкому краешку, залепила его как следует и отослала в ящик, помолясь о том, чтобы гражданка Света Карнаухова подольше не волновалась о мальчике в своей грядущей супружеской жизни.
Все подруги старухины померли, кроме двух, но эти две казались ей вечными, они расписывали в артели коробочки, шкатулки и другую ненаглядную красоту.
И старуха искренне полагала, что подруги её будут живы, пока в артели краски не кончатся, а краски не кончатся никогда, иначе станет намертво производство и все мастерицы разом помрут.
— Ешь, — говорила она мальчику, — глянь, какая рассыпчатая, снегурочка! А лещик-то мировецкий!
С моими подружками не пропадёшь, завсегда угостят. Ты в случае какой беды к мастерице Клане приклеивайся, тебе до взрослости уж недолго, лет пять, а Клане семьдесят шесть всего-то, ещё молода, поможет! — и старуха сияла при мысли, что так хорошо-распрекрасно она в этой жизни устроилась, выбрав себе таких молодых и надёжных подруг.
— Эй, старуха! Привет! Как живёшь, старушенция! — с гоготом и улюлюканьем подкатились трое парней, совершенно ей не знакомых.
Старшему было на вид лет двадцать, он нагло без спросу запустил руку в котелок с горячей картошкой и стал уплетать, чавкая и чмокая напоказ. Помладше, лет восемнадцати, выдрал у мальчика боковину леща, смазал ею ребёнка по лицу и громко, как животное, стал сосать рыбье мясцо, как если бы оно сделалось стократ вкуснее — от униженья ближнего. А весёлый и злой, лет шестнадцати, помахал перед бабкиным носом физкультурным своим кулаком и рявкнул:
— А ну, гони, бабка, рублики на выпивку — во как в глотке пересохло, харкнуть в рожу твою нечем! И цыц — будто денег нету! Я тебя тут прямо на поле ногой раздавлю, как картошку варёную! И щенка твоего так в рыло хрясну, что станет он удобрением — ха-ха-ха! — и не догонит меня никакая милиция, у меня во-о-н там папашкина машина, а папашка — ба-а-аль-шой человек!
Старуха глянула вкось во-о-он туда, где он показывал, и увидала красную легковую машину с дверцами нараспашку. А у машины стояли две девицы, одна другой заплетала косу.
«Господи! — подумала старуха. — И сколько же их там помещается? Как тараканы в печке! Господи! И девки с ними, а парни-то пьяные, еще разобьются…»
Старший вытащил из кармана складной нож и раскрыл со свистом длинное лезвие, он стал точить его для куража об кирпич, через раз тыча в лицо то мальчику, то старухе.
— Небось торгуешь своей картошечкой, спекулянтка проклятая! И яблочками торгуешь, и лучком, сволочь! — приговаривал он, свой ножик потачивая с жутким свистом и скрежетом.
— Да какими яблочками? Недород ведь нынче на яблочки, — приговаривала старуха, проклиная себя за то, что денег при ней, кроме копеек, вовсе не было. — Нет у меня денег, нет. Я вот на рынок повезу картошку, вот и будут, вот и будут тогда деньги, тогда всё отдам, берите, разве мне жалко, с удовольствием, пожалуйста, мне не жалко, — бормотала она, невпопад улыбаясь. И вдруг побелела старуха, ойкнула и повалилась на землю замертво, с каким-то окончательным стуком.
— Сдохла твоя бабуся, закапывай! От неё воняло козлом! — сплюнув, сказал старший, пнул бабку ногой в бок и скомандовал:
— Атас! По машинам!
Мальчик упал старухе на грудь, обнял все её кости и зарыдал, подвывая, со стоном. Он залил слезами старухину кофту и, тупо уставясь на первое ужасное горе своей маленькой жизни, увидел, как жутко высохла старушечья кожа на жёлтой щеке. Он выл и гладил свою родную старуху, и целовал, и пытался взять её на руки, чтоб унести с проклятого места. Он услышал рычанье мотора, увидел пыльный хвостище за красной машиной и бессильно потряс вослед кулаками:
— Бандиты! Уехали! — всхлипнул он и ещё сильнее прижался к своей холодной, деревянной, бездыханной старухе.
И тут старуха заплакала, открыла два синих-пресиних глаза, улыбнулась мальчику криво сквозь слезы и выдохнула:
— Господи! Как хорошо, что уехали! Спасительно, Господи, ты меня надоумил. Умерла — и всё тут! С мёртвой и взятки гладки! Что им дохлую-то старуху кромсать? Им живой страх нужен, чтоб в руках трепыхался, бился!
Она кряхтя поднялась, отряхнула подол сатиновой чёрной юбки, прибрала на груди свою кофту, глотнула водицы. Восторженно и ликующе, как на воскресшую, глядел на старуху мальчик. Он торопился, с жадной дрожью, ей угодить своей быстротой, послушаньем души, только что увидевшей чудо.
Они прикрыли шесть кирпичей и две лопаты картофельной ботвой между грядками, подхватили два ведра молодой картошки и подались на край поля, к дороге. Старуха по-девичьи подбирала на ветру свою чёрную юбку и уже весело хмыкала, перегребая наспех всю эту разбойничью историю, подробно разглядывая все её жуткости, а также во всех подробностях то, как ловко она обхитрила эту адскую шайку, как мудро с помощью Божьей она, старуха, провела за нос этих молокососов, как здорово, что глубокая старость не отшибла у ней разум и что на этот кусочек жизни у неё, такой старой старухи, всего хватило — и ума, и хитрости, и здоровья, словно у молодой.
Минут через сорок она сидела с мальчиком в кузове крытого брезентом грузовика, придерживая два ведра с молодой картошкой. Мальчик плакал, прижавшись к старухе и время от времени гладя ладонью костлявые плечи её и спину — жива ли?! А старуха дышала теплым закатным ветром, и дышала так глубоко, чтобы мальчик не сомневался: жива старуха, жива, совсем живая!
Уже виднелась развилка, ведущая на Постники, где жили старуха с мальчиком, но шофёр грузовика вдруг резко притормозил и какое-то препятствие он объехал, изрядно тряхнув своих пассажиров с картошкой.
То, что через мгновение увидели старуха и мальчик, было ужасно. Посредине шоссе лежали в кровавой луже пять человеческих тел, накрытых рогожами, а в метрах пятнадцати на обочине валялась красной лепешкой та самая легковая машина. И водитель цистерны лежал в кабине, откинув мёртвое своё тело. Милиция что-то записывала, отмеряя землю гибким железным метром. Санитары курили.
Всю дорогу до Постников старуха и мальчик видели перед собой это красно-кроваво-железное месиво, которое чуть не лишило их жизни, но лишилось жизни само — по какой-то неведомой воле непостижимых сил, выкраивающих кусочки старушечьей жизни, кусочки, совсем не пригодные для более молодого существа, — разве что для котёнка?..
Ночью мальчик вставал смотреть, жива ли его старуха, и наткнулся нечаянно в темноте на ведро с молодой картошкой, которое зазвенело. Старуха на звон этот пробормотала сквозь хрупкий сон:
— Жива я, жива, живая, спи, мальчик, я притворилась…
Когда ночью страшно ходить по улица, надо ходить по крышам, но не стучать каблуками, а ходить босиком, положив башмаки в сумку, — отличный способ!
Чуть-чуть
На той коммунальной кухне, где было мне лет восемь или полдевятого, стояла кирпично-чугунная печка, топилась она углём и дровами, у печки было четыре диска, на которых двадцать пять человек варили еду в кастрюлях, жарили на сковородках, тушили её в казанах, кипятили огромные медные чайники, всякие пекли пироги — квадратные, круглые, длинные и короткие. Площадь кухни была метров десять, по сорок сантиметров на каждого, там же был рукомойник один на всех, топоры для дров, лопата для угля, две кочерги, которыми в дни праздников и поминок дрались иногда по пьянке. Не все, конечно, а только некоторые, особенно женщины, они почему-то чаще мужчин.
Окно этой кухни упиралось в глухую кирпичную стену соседнего дома. Стена была страшного цвета — как внутренность адской пещеры, где на каждом шагу разверзается гиблое место, пропасть и прорва. Из окон всех пяти этажей в ту прорву летели селедочные хребты и хвосты, пустые консервные банки, осколки битой посуды, гнилые отбросы, окурки, лохмотья, помоечный мусор. Для этого только и открывались мутные окна в стене, потому что не шел никакой в них воздух оттуда, кроме отравы.
Сорок лет истекло, а всё же оно мне изредка снится к перемене погоды, снится это окно и мой детский ужас, что весь тот мусор и падаль, карабкаясь друг на друга, выдавливают стекло и всех жильцов погребают заживо, — бронхоспазмы, лёгочная обструкция… Иные люди, с которыми сводит судьба, проясняются в этом оконном сне таинственным образом, беззвучной подсказкой — ещё до того, как паршивые их поступки проясняются в яви в должное время. Мелькают они в этом сне и в этом окне, мелькают, чуть-чуть, едва-едва. Но речь не о том. А о младшем брате нашей соседки Кармен, высокой и сильной казанской красавицы.
Он был настоящий вор. Он где-то, не знаю где, воровал мешками недоделанные какие-то шкуры, ловко и очень художественно их перекрашивал под лису, под бобра и енота, под тигра и леопарда. Исключительно по воскресеньям, когда впритирку народ на толкучке, он сбывал свою красочную пушнину, не скрывая, что это — подделка, и прямо оттуда мчался на поезд, половину той выручки сунув многодетной и вдовой сестре Кармен, которая стояла там на атасе, стерегла его от облавы.
Месяца через три он тихонечко вдруг появлялся, ободранный, тощий, голодный. Как зверёк, забивался в тёплый угол на кухне и жадно хлебал «капустняк» из оловянной миски. Вместе с ним проникали в квартиру три-четыре мешка, из которых воняло мочой, как положено шкурам, над которыми он художественно трудился.
Он ходил всегда, озираясь чуть-чуть. Озираясь, мылся под краном, когда провели воду и рукомойник выбросили. Чуть-чуть озираясь, чесал свою гриву гребёнкой. Спал на подстилке у печки на кухне, чуть-чуть озираясь.
Глаза его не совсем закрывались во сне и были чуть-чуть здесь, а чуть-чуть там. Однажды, чуть-чуть озираясь, он выдолбил на кухне в стене малюсенькую себе комнатёнку, такой сундучок, холодный и тёмный, где сперва помещался один человек с электроплиткой и лампочкой в потолке.
Но потом вдруг ему открылось, что, если долбить дальше, комнатёнка распространяется вглубь, за счёт замурованной кладовки в соседней квартире, — что он и сделал, упорно долбя и затем поселясь основательно, с топчаном и столом, с двумя просторными табуретками и даже с комодом, на котором стоял сворованный каким-то невероятным образом телевизор с линзой, в которую наливали тогда воду для получения хорошей видимости. Только редкие богачи покупали в те времена телевизоры, это была несусветная роскошь. Человек по тридцать набивалось в его безоконную, беззаконную жилплощадь, чтобы смотреть в эту невидаль с водяной линзой, — и тогда он сиял весь от счастья, чуть-чуть озираясь.
Была у него чахотка, повсеместная в те времена, и были у него в двух разных городах две овдовевших сестры, чьи молодые мужья пали смертью храбрых на фронте, а у каждой — по четверо-пятеро ребятишек.
И всех он кормил, одевал чуть-чуть, обувал кое-как своей опасной профессией, преступная тайна которой завораживала меня чуть-чуть в те яркие детские годы.
Он был безупречно честен в быту. Если что-нибудь брал в долг — стакан крупы, луковицу, кусок сахара или кусочек мыла, — всегда возвращал вовремя и сполна. Яблоками делился и хлебом. Никогда не пил и не дрался.
Но и ни с кем не точил балясы, от нечего делать не вступал в разговор и никаких занятных бесед не поддерживал, избегал их чуть-чуть.
Однажды, чуть-чуть озираясь, он подарил мне альбом для акварели, о котором я даже мечтать не могла, — такой дорогой альбом!.. Он сиял на витрине универмага и вдруг исчез!.. Сиял бы на той витрине ещё сто лет, такая ему цена была там написана, — и вдруг растворился бесследно.
Чуть-чуть заикаясь и сильно моргая, спросила я продавца:
— Тут был у вас альбом на витрине… можно ли посмотреть, какая в этом альбоме бумага?
— Нельзя! Украли альбом! Из витрины украли, а стекла все целые. И другого такого альбома у нас, девочка, нет, — шёпотом сказал продавец, чуть-чуть озираясь.
Итак, когда мне было лет восемь или полдевятого, знала я лично самого настоящего вора, совсем его не боялась и даже с благодарной детской любовью описывала его в своём потайном дневнике, а тайник для моих сочинений, сам не зная того, сделал вор, приподняв доску деревянной ступеньки у входа.
Однажды январской ночью, когда в школе были каникулы и поутру не сдёргивали с меня одеяло, я сидела на кухне и читала старого «Идиота» с ятями, читала при свечке, чтоб не жечь коммунальную лампочку с электрическим счётчиком. В те времена не были редкостью дети, которые читали запоем, обожали старые книги, проникая в их многотомную суть, как в замечательно страшную сказку, где страшные тайны взрослых. Это было проникновение, более мощное и глубокое, чем…
Внезапно по воздуху, словно дикая кошка, промчался всклокоченный вор, одним рывком распахнул окно и канул во тьму, в то гиблое место, в теснину между домами, в пропасть и в прорву. И в ту же секунду страшно загрохотали в дверь кулаками и сапогами, рыча: — Откройте! Милиция!
Сонные соседи в подштанниках посыпались в коридор, все друг на друга шипели:
— Откройте! Откройте же! Откройте же, наконец!
И все мешали друг другу пробраться к двери и совершить открытие.
Ни о каком укрывательстве вора ничуть не думая, а просто от леденящего страха и зимней стужи, хлынувшей в оконную щель, которую вор оставил, естественно, не закрыв за собой окно изнутри, я проворно защёлкнула раму окна на крюк. Но этого как раз в скандальной толкучке никто не заметил.
Милиционеров было четверо, все с мороза румяные. Один бросился сразу на кухню к тому окну, матерно удивился, что оно изнутри заперто на крючок, распахнул его и стал светить фонарём в ту пропасть и прорву.
— Кармен, где твой братец? Где этот подлый ублюдок, вонючий гадёныш? Он с подельником валенки спёр со склада, пятнадцать пар! И семь электрических счётчиков, за охрану которых мы отвечаем! Где он, сука?
— А почём я знаю? Ищи!.. — сказала Кармен, зевая. — Такая твоя работа.
— Чья эта свечка и книга? — спросил он грозно.
— Это — моё…
Он схватил меня за фланелевый ворот платья и поднял над Землёй, как щенка:
— Где он? Куда сиганул? Говори, не то запру в допре!
Так сильно ворот врезался мне в горло, что я не могла говорить, даже если бы захотела. Но я не хотела. Потому что он меня мучил и унижал, держа на весу, и почти вытряхивая из платья, и произнося эти жуткие звуки: ЗАПРУ В ДОПРЕ, ЗАПРУВДОПРЕ, ЗАПРУВДОПРЕ!..
А когда, наконец, он вернул меня оттуда на Землю, я была уже вовсе не тем ребёнком, чуть-чуть другим, но это «чуть-чуть» пропитало всю мою плоть, всю душу — и там осталось навек.
— Если ты кого-нибудь или что-нибудь видела хотя бы чуть-чуть, обязательно скажи, это поможет товарищам из милиции, — белыми губами произнесла мама, поправляя чуть-чуть мои волосы и одежду. Её дрожащий нездешний голос и холодные, дрожащие, нездешние руки напомнили мне страшную механическую куклу из «Багдадского вора».
— Здесь никого не было. Я ничего такого не видела. Я книгу читала.
Милиция учинила обыск в незаконно выдолбленной комнатёнке вора, но обыскивать там было нечего, всё как-то исчезло само собой. У Кармен перевернули постели, вспороли подушки, распотрошили комод и шкаф.
Её дети смотрели на это спокойно. Никто не вопил, не визжал, не плакал.
Когда все разошлись и затихли, Кармен принесла мне на кухню кусок круглого хлеба и полила его подсолнечным маслом:
— Ешь! Чаю сейчас напьёмся, готов кипяток. Хорошо ещё товару не было, только две шкурки. А из двух шкурок дело не сошьёшь, — сказала она. — Сядет мой братец, сядет за те проклятые счётчики. И на кой они ему были нужны?.. Валенки — вещь, утеплю своих да племянников, а где взяла — не докажешь, перекрашу. Но счётчики, счётчики… Эх, дурак дураком, хоть бы в поезде его не сцапали.
Но его-таки сцапали в поезде. А умер он через полгода в тюремной больнице, на пересылке. Две сестры его и куча племянников горевали отчаянно. И какое-то время все они жили впроголодь. Между делом выяснилось, что был он им вовсе не кровный родственник, а подкидыш. Младенцем лежал себе на Земле в одеялке под окном их барака дощатого.
Я не видала его мёртвым. И поэтому я — единственный на Земле свидетель, что он просто однажды январской ночью метнулся кошкой в окно и скрылся в теснине между двумя домами, чтоб его не схватили за шиворот и не трясли над Землёй в подвешенном состоянии, приговаривая: «Запру в допре, запрувдопре, запрувдопре!..»
— Голодное воровство наказуемо, а сытое — нет или очень редко, потому что законы сочиняются сытыми, — говорила Кармен, зевая. Такая была у неё болезнь сердца, от которой зевают. И от этой болезни она начинала вдруг говорить, как по книге. Особенно если выпьет. Это явление часто встречается, но почему-то велено думать, что по пьянке язык заплетается у всех подряд. Не у всех. У некоторых — наоборот.
Чуть-чуть этот вор притворился живым, и время от времени он чуть-чуть встречается мне на улице, куда-то спешит, озираясь чуть-чуть, с каким-то котом в мешке, исчезая внезапно в людском потоке, в подворотне, в теснине между домами, чуть-чуть улыбаясь мне лично. Тогда я сама себе говорю:
— Привет!
Вазохранилище
В больших (очень!) кабинетах сидели большие (очень!) начальники, им дарили большие (очень!) вазы и вручали им в эти вазы правительственные (очень!) грамоты за большую (очень!) работу с маленькими (очень!) людьми, которых они вдохновляли (очень!) терпеть и верить.
В такое вазохранилище с утра на прием записывались в длинную (очень!) очередь у специального (очень!) секретаря.
Когда вазы стояли уже друг на друге, упираясь в высокие (очень!) потолки, а все перестали уже терпеть и верить, эти большие (очень!) начальники купили вазохранилища за мелкие (очень!) деньги, объявили себя жертвами диктатуры пролетариата и вручили себе свидетельства жертв преступного режими, улетая с вазами в чудесные (очень!) края. Очередь к ним прекратилась, объявили страну исчезнувшей, а народы ее уволенными по собственному желанию.
Кое-какие вазы знали много полезных (очень!) секретов, что самоубились, а кое-какие вазы стали, наоборот, советниками, зная гораздо больше полезных (очень!) секретов. А вазы, которые нового ничего не боятся, полагая, что нет ничего нового, сколотились в бригады преступных вазогруппировок и взяли известно что под вазоконтроль и под вазокрышу. Наступила эпоха Вазовозрождения, снова большие (очень!) вдохновляют маленьких (очень!) терпеть и верить, терпеть и верить, петь и терперить.
Терперь все вазохранилища оборудованы компьютерами, в некоторых вазах работают хакеры, наши — всех гениальней.
Многие вазы античности вплывают ко мне в окно, когда снег или долгий (очень!) дождь и влажность 97 %. Их вазохранилище — на дне морей, они знают все прошлое, настоящее, будущее и в каждой из них идет об этом кино, вход бесплатный. Горло с ручкой такой вазы живет у меня давно, еще с прошлого тысячелетия, где они плавали в крымском Судаке. Теперь это море — заграничное, и не тянет меня совсем в то вазохранилище.
Я — человек ранимый (очень!), всех прощаю, но быть не хочу там и теми, кто в своих вазохранилищах забыл начисто, как мы, наивные (очень!) лили чистую (очень!) воду на мельницу их свободы, а та мельница неблагодарная (очень!) вдохновилась идеей мстительной (очень!) — нас перемолоть, нас… Воистину, добро не остается безнаказанным.
Черновичок этой ручной работы найден в горле с ручной античной вазы на подоконнике, а ничто не зачеркнуто и не правлено, — так ведь ни улучшить, ни вычеркнуть нечего нельзя. Горло с ручкой не может выглядеть лучше, чем горло с ручкой.
Конец связи
Орден за выдающиеся незаслуги перед… КРОКОДИЛАМИ
Крашеная говядина
На острове, о котором пойдёт речь, не было ни слишком богатых, ни слишком бедных, ни слишком красивых, ни слишком уродливых, ни слишком белых, ни слишком чёрных, тем более — красных.
Крепкие, загорелые, простодушные люди стригли овец, рыбачили, крутились на сыроварне, торговали шерстью, фруктами и поделками из океанского перламутра и жемчуга. Уходя из дома, они закрывали его, придвинув ногой к дверям кусок местного камня, из которого торчали ракушки.
Иногда в этой местности шли золотые — в полном смысле этого слова — дожди, тогда золотым становился песок, и все жители острова мыли этот песок лотками, добывая себе дождевое золото для украшений, зубов и других насущных потребностей.
Те, кто в юности, одурманясь буйством гормонов, грибами и травами, покинули остров, мечтая о приключениях, о бешеной славе, о сумасшедших богатствах и выдающихся авантюрах, попадали ну просто в кошмарные переделки и переплёты, но с блеском всегда и везде своего добивались и высот достигали неимоверных. Всё утратив, на волоске от смерти, они вдруг находили горы золота и алмазов на ровном месте, клады музейных денег, утонувшие корабли с царскими тронами и коронами, разрытые смерчами, ураганами и тайфунами роскошные погребения или просто отличное место в доходном деле. И подтверждается это тем обстоятельством, что больше никто из них никогда на остров не возвращался. Никто, кроме Роя.
Какого Роя? Уж не того ли, что красил мясо на скотобойне? Вот именно, память у вас отменная для двухсот пятнадцати лет, только не жалуйтесь мне на зубы, ноги и поясницу, засыпая с дымящейся трубкой во рту и приняв как снотворное чашечку кофе с бамбуковой водкой.
Так вот, этот самый Рой красил мясо на скотобойне в не такой уж огромной, как некоторые, но весьма богатой стране, где на всякий карман найдутся жильё и пища, наряды и развлечения. Однажды, домой возвращаясь после своей интересной работы, он вдруг обнаружил ещё в автобусе пятнышко крови говяжьей на своём башмаке, в котором не был он никогда на рабочем месте, где сменная обувь. И вгляделся задумчиво: кровь или краска?.. Да ну его, тоже морока, ведь и кровь, и краска смываются.
Милашка Лизетта, телефонистка с кудряшками, ждала его за накрытым столом, где сиял прохладой хрустящий салат, а в духовке шипело говяжье жаркое с тропическими плодами. И бутылочка кьянти туманилась в холодильнике, а день был июльский, знойный, но к ночи ждали грозу, ливень, смывающий пыль и бензиновый чад. Вот как раз и подумав о ливне, о потоках небесной воды, Рой намылил пятнышко краски-крови, не снимая башмак с ноги, и тут же мокрою губкой стёр это мыло.
Мыло-то стёр, а пятно осталось и посвежело, и покраснело, и расцвело.
Трижды он повторил это действо, и пятно заблестело, как пролитая только что кровь. Башмаки были новые, он купил их два дня назад и боялся, что от влаги они покоробятся, а потому и снимать их не стал, сунул ноги под стол, надеясь потом пятно это вытравить или чем-то закрасить, замазать.
А зря!.. Зря надеялся!.. Зря башмаки, говорю я, не снял и не выбросил сразу в мусорный бак. Лучше б шёл босиком!..
У нас ведь на острове такие подлые знаки нечистой силы немедля выбрасывают куда подальше и с глаз долой, мылом три раза моют лицо и руки, трижды плюют через каждое плечо, плюют с отчуранием, глядя в зеркало, и меняют набедренную повязку.
Но этот Рой утратил уж в полной мере обычаи острова, начисто позабыл эту суеверную глухомань, да и просто пожмотился выбросить новые башмаки из-за кляксы говяжьей крови, что мимо него протекала рекой ежедневно по желобам. Не он придумал интересную эту работу, и нечего нос воротить.
Опять же, куда ни раскинь мозгами, отовсюду тащится интересная эта картина ужасная, ну хотя бы взять замечательный ресторан: стулья, диваны, туфли, сумочки, пояса, кошельки — из натурально содранной кожи!.. О блюдах нечего и говорить — сплошь убиенные твари! А шубы там в гардеробе, палантины, жакеты, шапки — из кожи, содранной с мехом! А наш черепаховый суп и черепаховый гребень?..
А кровь медвежья, оленья, чтоб не замёрзнуть на северном полюсе?
А отрезанье яиц обезьяньих для пересадки желающим содрогательно омолодиться?.. Ну нет, если каждую правду мозгами разглядывать, можно свихнуться — каков человек! Обо всех негодяйствах подобного плана успел этот Рой помыслить, сунув ноги под стол.
Тут Лизетта жаркое говяжье кладёт на тарелки, а куски прямо дышат, вздымаются, в соус душистый себя окунают. Лизетта, милашка, небритую внешность целует: «Тьфу! — говорит. — Какая колючка!» И, задом вильнув, собирается сесть… да внезапно у ней вырастает помеха в заду, где она охвостатилась сантиметров на сто двадцать. И, думая, что поправляет юбочку-клёш, Лизетта — как даст коровьим хвостом по столу, как даст — всё жаркое подпрыгнуло, но не в разлёт, а вместе с тарелками на стол приземлилось и дышит.
«Гроза, гроза!» — говорит милашка и делает Рою глазки говяжьи, а у него в башмаке под столом нога раскопытилась, но удивительное удобство в этом содержится, тянет Роя на четвереньках пройтись!..
«Ох, как тянет на четвереньках пройтись!» — говорит Лизетта, унося пустую бутылку и грязную посуду на кухню. Кофе они попили, покурили весёлую травку, — ну до невозможности захотелось на четвереньки. А почему бы и нет, если оба исправно платят налоги?
Значит, гроза, молния, гром, ковёр на полу, на ковре копыта откинули, хвостами играют, рогами шутя бодаются, расслабляются на четвереньках, травку жуют, Лизетта мычит и такое выделывает, такое, ну такое, слов нет! А ты не кашляй от смеха, уж в двести пятнадцать лет надо быть милосердней к человеческим чудесам и кошмарикам.
Дней через пять попал Рой на приём к травматологу высшей квалификации, ногу ему показывает, а там уж вовсю развилась копытья болезнь с вывертом, изничтоженье которого требует четырёх операций, никакой страховки не хватит, а работа нужна ювелирная, и гипс месяца на три. Ген такой проскочил злодейский, как сказал травматолог высшей квалификации. А от кого ген?.. Стал Рой вспоминать прадедов, дедов, прабабок, бабок, мать с отцом, братьев с сёстрами, всех далёких и близких родичей, всех обитателей острова — ну никто, кроме Роя не окопытился, ни одна живая душа!.. И Лизетта не окопытилась, значит, оно — не заразно, вот ведь какая болезнь загадочная.
Показалось ему на миг, что после того, как Лизетта его целовала, она охвостатилась и нечаянно тем хвостом чуть со стола не смахнула тарелки с едой на пол. Да мало ли что покажется усталому и голодному в миг поцелуя?
Нет как нет у неё хвоста, совершенно точно, он уж двести раз проверял по-всякому.
А говяжье пятно с башмака ничем не смывается, не вытравляется, не соскабливается, отрезанию не поддается, перекраску отбрызгивает, замазку отплёвывает, а само блестит и алеет, как свежее, сиюминутное.
В одном башмаке, значит, нет злодейского гена, там нога как нога, а в другом — ген и нога раскопытилась, и дальше копытится без остановки.
Пошевелили на бойне мозгами, испугались огласки такого случая производственной небезопасности, купили страховку для своего работника, крепкого, честного, дружелюбного. И вот, значит, ждёт он звонка из больницы для приглашения на операцию номер один, а всего их четыре.
Тут как раз к нему и является с острова парень, на работу просит устроить хоть кем и письмо привозит ему от матери, всесторонне чудесное.
«Мой родимый сыночек, — пишет она, — как ты там жив-здоров, хорошо ли к тебе люди повёрнуты, есть ли случай счастливый, завёл ли жену с детишками? Сон мне был, будто краской говядину мажешь на бойне для свежего вида, и на левый башмак эта краска через все там двери прокляксалась, и в том башмаке нога твоя вся ископытилась. Быстро выкинь те башмаки с глаз долой, сыночек, потому как нечистой силы краска есть отрава и порча злодейская, сатанинская козня, чистого и невинного она ископытит, а нечистого и во всем виноватого она усладит добавочной силой. Выбрось мигом те башмаки, не сплю из-за них, проклятых…»
Задумался Рой минут на сорок, вложил башмаки в синий мешок и отнес на помойку. В тот же миг удивительный машина подъехала мусорная, пасть распахнула, мусор всосала и пошла перемалывать. А у Роя в ноге ископытенной что-то вжикнуло, звякнуло, дернулось — словно пружина в ступне содержалась и вся выскочила. Куда?.. Где она?.. Ничего подобного нигде не видать!
Пристроил он парня с острова красить мясо на бойню, сказал:
— Только краской, смотри, не заляпайся, когда будешь мясо малярить, не то весь ископытишься, охвостатишься и на четвереньках пастись будешь, бодаясь, мыча и мумукая.
А сам пошёл себе и пошёл — куда глаза глядят, безо всякой цели, из городка в городок, всегда есть молодецкому человеку чем на хлеб заработать, где на ночь прилечь. И в таком походе нога у этого Роя очеловечилась, до двухсот пятнадцати лет дожила в полном здравии, слегка на грозу томясь.
Детей от него родилось девяносто девять от ста тридцати жен, ни с одной из которых он в законный брак не вступил по причине ходьбы своей непрестанной и мимолётности.
Двенадцать его дочерей скурвились. Потому как ели часто куриное мясо, крашенное под жемчуг. Гены сработали!.. Но на шестом десятке годов всё у них подыспра-вилось, Рой собрал их на острове, где много рыбы, фруктов и овощей, но совсем нет никаких кур, — и дочери все как одна обратно раскурвились до полной святости, обрели свою интересную благодать и уважение островитян и родичей.
Да не хихикайте, не хихикайте, одеяло же падает, а у нас тут до десятого октября батареи не топятся. Хорошо вам в двести пятнадцать лет у меня на плече греться, ластиться, языком моим баловаться — все равно не пойду за вас замуж, потому что, — как писал Августин, — нет сомнения, люди нередко любят прекраснейшие вещи самым постыдным образом.
Вешалка для лица — секрет вечной молодости!.. Снимайте лицо на ночь и вешайте у открытого окна.
Vip-салон «Афродита»
Директор поэзии
Дант, когда ему нужно, называет веки
глазными губами… Итак, страданье
скрещивает органы чувств, создает
гибриды, приводит к губастому глазу.
Осип Мандельштам. Разговор о ДантеОднажды в студёную зимнюю пору примчался в наш знаменитый журнал один псих лохматый, никому не известный автор, лет тридцати или около этого. Роман принес. В стихах! Моя, говорит, фамилия — Пушкин.
А я ему говорю: это всё уже было! с такой фамилией теперь можно стать кем угодно, только не поэтом! Очень даже распространённая фамилия! Лично я четырёх Пушкиных знаю — все инженеры! К нам тут, гражданин Пушкин, одних Есениных пять штук ходит, три Лермонтова и двадцать три Державина.
А он мне так нахально свой роман в стихах тычет. Ну псих какой-то! Поэму, и ту читать противно, если стихами написана. А тут роман — по 14 строк в каждой строфе. С ума сойти! Сколько строк в романе — все на 14 делятся без остатка! Онегинская строфа называется! Я, конечно, не хуже других Пушкина изучал… Но лично, живьём так сказать, встретился с ним впервые.
И не произвёл он на меня никакого хорошего впечатления. На портретах — одно, а в жизни — совсем другое. И совершенно я его не узнал! Так себе человек, ничего особенного. Но ужасно много из себя воображает! Плюгавенький такой, низенький, глазки навыкате, носище ноздреватый (вдобавок еще и крючком!) — все твои мысли так и вынюхивает. Настроение этот автор может испортить запросто. Даже в душу плюнуть при случае. Поперёк ничего не скажи!
Например, вошёл он в мой кабинет — как ветром внесло… и дверь за собой не закрыл! Тоже мне гений! Я эту наглую породу знаю, я их терпеть не могу! Но я ему вежливо так говорю: «Автор, закройте дверь — дует!»
Так он, представьте, ногой дверь как лягнул — она три раза подряд закрылась!
Я ему вежливо так говорю: «Автор, что это вы ногами дверь закрываете? Мы здесь таких громких авторов не очень-то любим…»
А он мне грубо так отвечает: «А мне и не надо, чтоб вы меня любили… мне надо, чтоб вы меня печатали»!
Тьфу! От его хамского такого высказывания мне прямо всю душу разворотило. Стал я весь целиком содрогаться от этой контузии. И вдруг нашло на меня предчувствие, что всё это — не к добру! В ту секунду вся моя трудовая жизнь пронеслась в голове.
Был я передовой швеёй-мотористкой, потом контролёром пододеяльников, так чёрт меня дёрнул связаться с этой редакцией! Писал бы себе свою гражданскую и философскую лирику, иногда бы печатался, издавался — колоссальная прибавка к зарплате и главное — никаких врагов!
Туг как тут гнусные, зверские, подлые рожи моих врагов заполнили весь кабинет тесными рядами — как на школьных фотографиях: кто повыше — на полу стоит, а кто пониже — сзади на табуреточках. И так их мерзавцев много — аж стены и потолок прогибаются, как резиновые. Враги — они и есть враги, самые натуральные: ни слова не говорят, уважительно так улыбаются, а всем своим видом показывают, что я — графоман и серость, работаю Директором поэзии, чтобы Директоры всех других отделов поэзии меня печатали — за то, что я их тоже печатаю. А хитрый Пушкин всё это видит и ни гу-гу, — мол, сам эту кучу врагов расплодил, сам и меры принимай, а я, Пушкин, тут ни при чем, я — выше твоей грязи, меня эта мерзость никак не касается.
Тоже мне гений! А я за свою зарплату его роман в стихах должен читать и ему отказывать в очень мягкой, уважительной форме, чтобы он, Пушкин, довольный ушёл и даже очень счастливый!
И я так вежливо ему говорю: «Автор, оставьте свою рукопись в отделе, мы её зарегистрируем и месяца через два дадим вам подробный ответ». Но ничего такого мы не печатаем. Нам вообще в номере на всю поэзию дают шесть полос! Может, к Директору прозы зайдете? Им на романы по двадцать листов дают, если вещь острая и современная!
— Ни в коем случае, — говорит Пушкин, — не пойду к Директору прозы! У меня вещь стихами написана! И вы меня ни в какую прозу не посылайте!
— Ну, ладно, — говорю. — Не хотите — не надо! Я же думал как лучше! Вася, зарегистрируй рукопись автора!
— Есть! — говорит Вася, мой заместитель. — Ваш номер, товарищ Пушкин, 1234567890 — один миллиард двести тридцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто!
И ушел этот Пушкин — как ветром сдуло! И опять, стервец, дверь за собой не закрыл! Стал я из любопытства романчик его проглядывать. Ну, какой — думаю! — псих в наше время романы в стихах строчит? Читаю строк двадцать выборочно… Аккуратненько так написано, гладенько, рифмочки правильные, кое-где даже острые мысли попадаются, чёрт побери! Но я начеку и всё время чувствую — это где-то уже было… это мне что-то напоминает, очень и очень даже знакомое!
— Вась! — говорю своему заместителю, — прочти-ка пару строк этого психа! По-моему, это что-то напоминает?
— Да… — говорит Вася. — Но что?.. Что именно? Сказать не могу! Вот если под Пастернака или под ту же Цветаеву — это я чую мигом! Это я с ходу рублю безо всяких! А тут… что-то очень и очень даже знакомое… как в лесу родилась елочка… Но что? Сплошной туман забвения!
Тут прискакала одна поэтесса, тоже Директор текущей критики, заглянула в рукопись и говорит:
— Да что вы голову себе ломаете? Ведь на каждой странице ударения неправильные — как в Одессе! И гладью написано, и рифма несовременная, теперь так строчит каждый графоман! А уж если говорить о ритме, так мне это очень напоминает «Интернационал»: Мой дядя самых честных правил… Вставай проклятьем заклеймённый… Лично я в таких случаях выбираю 5—10 просто неграмотных строк и советую посещать литстудию.
Так я и сделал! Сдуру — ответ подписал и отослал по почте! Чёрт меня дёрнул эту пакость подписывать! Я вообще никогда ничего не подписываю малоизвестным авторам! Это всегда делает мой заместитель.
А через год… издали этого Пушкина в Худлите — по безлимитной подписке, миллионными тиражами — и весь разошёлся! Весь роман в стихах — без никаких поправок! Враги мои подлые, мерзкие проникли в редакцию и прямо на стол мне положили! И тут меня — как молнией ударило! Я мигом вспомнил — мы ведь ещё в школе его проходили! Ну как же! Мой дядя самых честных правил / Когда не в шутку занемог / Его лошадка снег почуя / Плетётся рысью, как-нибудь! И так далее…
Господи, чего только не бывает в нашей бессонной творческой работе? Но Пушкин-то! Хорош гусь! Как разыграл?! Прямо-таки весь материализовался! Через сто сорок восемь лет! Вот тут, у этого шкафа стоял, в уценённом таком плащике. Руки — крестиком, ноги — крестиком!
А Васька, сволочь, нашёл в архиве копию моего ответа… доказал, что подпись — моя, подлинная, и сел на моё место, премии получает и вдобавок везде печатается!
Лично на Пушкина у меня нет зла никакого, ну ни капельки, ни вот столько! Он же гений! А у гениев — всяческие причуды, они обожают розыгрыш… Это всем известно.
Однако, вот интересный какой поворот. Я недавно в одном доме встретился с одним автором, который совсем не печатается, но многие классики очень его уважают и состоят с ним в приятельских отношениях. Так вот этот автор устроил мне личное знакомство с Гоголем — за рюмкой чая!
Мы с этим Гоголем договорились, что распечатаем его прозу — как стихи, построчно! Как такие стихи, только без рифмы. Сейчас многие так пишут. Чуден Днепр / При тихой погоде/ Когда вольно и плавно… и тыр-пыр.
Этот Гоголь отправится к Ваське — и одурачит мерзавца! Вот будет номер, когда уговорит он Ваську напечатать в нашем журнале этого Гоголя строк 200!..
А что? В нашем бессонном творческом деле и не такое бывало! Один поэт даже стихи Ахматовой под своей фамилией пробил, сделав ей мелкую правку.
Мне ещё с Пушкиным здорово повезло! А представьте, что было бы, если б я его тогда тиснул у нас в журнале с доброжелательной врезкой кого-нибудь из членов редколлегии или с дружеским напутствием кого-нибудь из культовых звёзд?!. Страшно подумать!..
Вот и конец этой жуткой истории. Но у меня есть еще и похлеще!
Хлад, глад, свет
Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. Нажим… волосок. Нажим… волосок. Не торопитесь, дети, не залезайте на клетку рядом. Не рвите бумагу перьями. Слишком не нажимайте. Рука не должна дрожать. Почерк — это характер. Пишите красиво и чисто. Перья «рондо» не годятся, от них — одни выкрутасы.
Парта одна на троих. Не кладите два локтя на парту. От этого тесно соседу. Дети, не забывайте о ближних. Никогда не толкайтесь локтями. Не кушайте промокашку. Нажим… волосок. Нажим… волосок.
На окнах толстый лиловый лёд. Сквозь замазку не дует, но стужа вгрызается в стены, как в яблоки, — и стены хрустят.
Всего холодней — в стене и в спине. В спине у стены. В стене у спины. Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. А где мама и Маша достали мыло?
На базаре — двести рублей кусок. Самое лучшее мыло — собачье с дёгтем, от него дохнут тифозные вши. Вши бывают возвратные и брюшные. Поэтому тиф тоже бывает брюшной и возвратный. Нажим… волосок. Нажим… волосок. Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. А где в это время было их барахло?
Оно было в прожарке. В прожарке сидит тётя Рая. Она там заведует жаром и паром. Тётя Рая жарит всё барахло, покуда народ моется. А по ночам она жарит мундиры, покуда народ воюет. Мундиры — это шинели, галифе, гимнастёрки, портянки. А есть ещё кителя — и бескозырки. Потом тётя Рая подметает жареных вшей — десять бочек жареных вшей! Она мне сама говорила. Их берёт подсобное хозяйство для удобрения огородов. Это изобрёл для народа дедушка Мичурин, чтобы всем хватило свёклы и картошки до полной и окончательной победы над фашистами. Свёкла сладкая. Картошка очень сладкая, если мороженая. Из картофельных шкурок, если они есть, пекут деруны. До войны они назывались блинчики. Тогда их пекли из муки.
Блинчики бывают ни с чем и со всем — с маслом, с мясом, с творогом, со сметаной, с яблоками, с вареньем, с джемом — со всем, что бывает до войны, до войны, довойны, довойны, довойны, войны-до, войны-до.
Войны-до была улица Малая Васильковская, потому что рядом у рынка продавали целые ведра маленьких васильков с опалёнными солнцем зубчиками. Я — Василёк! Я — Василёк! Вы меня слышите? Мама, я умираю…
Нажим… волосок. Нажим… волосок. Пишите красиво и чисто. Мама мыла Машу. Маша ела кашу. Войны-до. Пришли трое и управдом. Папа вешал на ёлку стеклянный дом. Весь дом упал и разбился. Мама стала вся белая. А папа весь черный. А они хулиганили в комоде, в шкафу, в банках с крупой и вареньем. Распотрошили письменный стол и диван. Расковыряли Машину кашу.
Папа сказал маме: всё утрясется. Только без паники. Только без нервов. Дети так впечатлительны! Их психику надо беречь. Для них ничто не должно измениться. Где-то что-то кто-то напутал. Произошла ошибка. Это мелочь в великом процессе великой истории. Мужество и спокойствие. Величайший всё знает, всё видит, всё слышит. Папа ему напишет. И мама ему напишет. Мама дала папе мыло и клумачок с барахлом. Сало и хлеб он не взял. Там кормят.
Папа выменял там это мыло на папиросы. Он очень курил. От этого у него отбились печень и почки. Он потом не мог ничего глотать, ел только жидкое. Нельзя так много курить. Он превратился в скелет. И потом на нём уже никогда не росло мясо. От этого дыма он стал быстро слепнуть. Но тут на нас напали фашисты. И вождь срочно послал папу на секретный завод, чтобы из трактора сделать танк. Но папа сделал ещё и самолёт, и бомбы, и мины. Теперь он получает паёк. Как все.
Из пайка мы с мамой продаём на базаре спирт и покупаем для папы махорку по 90 рублей за стакан с верхом. И относим ему на завод. В проходной у нас берут передачу и записку, что всё хорошо.
Завод очень замаскирован, и папа там ночует в замаскированной комнате. Однажды он ночевал дома и страшно кричал во сне, как перееханная собака. Я тоже. Меня разбомбили в поезде. Я от этого очень моргаю. И мне трудно играть с другими детьми, они меня за моргание дразнят. Но будут еще и такие игры, где можно выиграть, если всё проморгаешь. Нажим… волосок. Маша ела кашу. Маша ела кашу — целых четыре строчки.
Я ем промокашку, она как вафля-микадо. Все жуют промокашку. Весь класс. Сорок три человека. Скоро звонок, и дадут булочку с сахаром. А кто вчера не был в школе, тому — две. А кто позавчера и вчера не был, тому — три. Три, три, трилистник. Такой цветок. Носи на груди — не убьют. Шьём кисеты для безымянных героев, в каждый кладём трилистник. Потом получаем письма — все живы, но много раненых.
Мама бинтует раненых. Бинты тоже едят. Если очень больно. Бинты как промокашка. Они промокают кровь. Мы — чернилки-невыливайки. Невыливайки с кровью. Можно подлить, если мало. Мама моя подливает в раненых кровь. Кровью пишут. Любовные письма и страшные клятвы. Нажим… волосок. Рука не должна дрожать. Пишите красиво и чисто. Клянусь убивать врага, умереть за Родину и вернуться с победой. Жди меня. И я вернусь. Только очень жди. Кровавые дожди утопили фашистов, они проваливаются сквозь землю, а там бункер, и Гитлер красный от крови, и Геббельс. От этих фамилий я очень моргаю.
И уже прилетела комета кровавого цвета. Утром дети видят её из окна. И ночью в госпитале видят её раненые. Дети и раненые видят комету. Больше никто. По субботам — концерты для раненых. Я пою и читаю Некрасова. Там пахнет йодом, кровью, гноем и потом. Сперва ужасно тошнит. А потом все привыкают. И выздоравливают.
Комета может упасть на землю и её расколоть. Та сторона, где Гитлер, обломится и вся сгорит. А та сторона, где мы, расцветёт от тепла и будет кружиться, покуда не станет круглой. Комету прислали нам марсиане. Они голубые и питаются воздухом, у них поэтому нет голодных. Они разговаривают глазами, читают мысли на расстоянии — прямо из головы. У них голова хрустальная. У них не бывает плохих мыслей. До того, как питаться воздухом, они открыли, что можно есть промокашку. Нажим… волосок. Нажим… волосок.
Промокашка — она как воздух, ее можно есть без конца. Из нее во рту получается розоватая кашка. Пресная, чуть сладковатая, пахнущая бинтами и стружкой. Эй, рубанок, спозаранок стружку лей!., лей, лей!.. Клей тоже едят, если в нём крахмал. И мел едят. Когда едят мел, он разговаривает. И во рту — два слова: крах мал, крах мал, мал крах. Кр-р-рах! Мал мел. Мул мыл мол. Лом был бел. Лом бел мял лоб. Бил об морок. Обморок!., обморок!., обморок… Боль, ломь, темь-там… Об пол — лбом! Тили-бом, ти-ли-бом… Летим!.. Едим!., все подряд. Кашка, ромашка, роза. Тётя Роза в пузо втыкает штырь. Нашатырь!.. Глотанье меча. Запах — моча. Мир бел. Лицо — мел. Хлад, глад, свет! Звон. Дон-динь!.. Всем! дают витамин. И булочку с сахаром.
Тётя Роза давно убита, она была санитаркой, её наградили орденом. Это не тётя Роза, это моя учительница. Осенью мы помогали ей квасить капусту в бочке. Она голодает с двумя детьми. И носит галоши на лапти, а лапти на шерстяные чувяки.
Через тридцать лет в моей черепной коробке лопнет какой-то сосудик. Малюсенький. Вечно он помнил, о чём никому нельзя говорить. Потому что все и так это знают не хуже тебя. Он заведовал тайнами целой эпохи. Он был целомудрен. Мужествен и благороден. Такой малюсенький. Такой крамольный насквозь. Презирающий полуправду, трусость в худшие дни, наглость — в лучшие. Присвоенье чужих страданий, пыток, хлада, глада и света.
Сквозь этот сосудик протекало, струилось отчество первой моей учительницы. На Урале. В Челябинске. Варвара… а дальше — лом бел мял лоб — хоть убей, не помню, не помню, не помню-у-у!.. И моргаю, моргаю… Нажим… волосок. Нажим… волосок. И вся она возвращается, прозрачная, каллиграфическая, как яйцо куропатки. Как ледяная листва на окне, за которым летала комета. Вот её отчество — хлад, глад, свет, звон, всем дают витамин и булочку с сахаром — Хладгладсветзвонвсемдаютвитаминибулочкуссахаром! В руке у неё, в хрустальной руке у неё шнурок, на шнурке — мешочек сатиновый, в нём — промокашка. В промокашке — трилистник. Чистой силы цветок. Если ранят, так не убьют. А убьют, так вернёшься с победой.
А где мой трилистник? Где мой трилистник? Где? мой? трилистник?.. Господи, вот он! Лежит в промокашке. В прямой, розовой кашке. В маме, которая мыла Машу, и папе давала мыло, и кормила его из ложки, когда он вернулся из ада, из сада пыток. Нажим… волосок. Нажим… волосок. Волосок, на котором висит. Вся жизнь. Вся судьба. Вся память. Обмороки голодных. Обмороки обжор. Чванство низких. Скромность высоких духом. И бинты. И прожарка. И мыло. И мел. И кровь. И гной. И пот. И хлад. И глад. И свет. И трилистник.
Сто лет с наслажденьем жую промокашку. В самолёте, в поезде, на собранье, в больнице, в очередях. Всюду, где очевидно, что правда — она постижима, но то она есть, то нет её. А истина непостижима, но есть всегда. И в худшие дни, и в лучшие. И до лучших дней доживают все. Но всех раньше — мертвые.
Чайная
Чайничек
Жили-были чайники. Один — большой, круглый, нарядный, с красными розами на щеках, весь в золоте. Другой — поменьше, но тоже нарядный, с синими розами на щеках, весь в золоте.
А третий — совсем маленький, в мелкий цветочек и без крышки, поэтому в него клали пуговицы, скрепки, кнопки, крючки, винтики и всякую мелюзгу.
В большом чайнике заваривали чай для гостей по большим праздникам и надевали на него для крепкой заварки румяную ватную куклу — тётю Мотю.
В чайнике поменьше каждое утро заваривали свежий чай, и он весело пыхтел, булькал и чмокал, под крышкой подпрыгивая от бодрой заварки.
А маленький чайник без крышки стоял себе одиноко на книжной полке и пуговками звенел, скрепками, кнопками, крючочками, винтиками. Это был очень начитанный чайник, потому что на книжной полке стоял он лет с четырех, а недавно ему исполнилось ровно сто девяносто лет!..
И несмотря на то, что у него совсем не было крышки, ничего из головы у этого чайничка не выветривалось. Он знал наизусть множество приключений, романов, стихов, поэм, повестей, пьес, рассказов, песен, романсов, арий, симфоний, а кроме того — мореходные, самолётные и медицинские книги, а также всё, что известно о звёздах, планетах, метеорах, садах, огородах и о кухне народов мира.
Ведь есть же на свете такие чайнички, которые годами стоят на полке, уткнувшись носиком в книги, потому что разбилась крышка!
Как часто, бывало, кто-нибудь у кого-нибудь спрашивал:
— Ах, мой друг, вы случайно не помните, чьи это строки?..
Тогда маленький чайничек, набитый мелкими пуговицами, скрепками, кнопками, крючочками, винтиками, хмыкал носом и тихонько подсказывал, чьи это строки, такие чудесные, что забыть их нельзя!..
А тот, кто первым услышал подсказку, вдруг подпрыгивал и от радости громко кричал:
— Ну конечно! Ну как же, как же! Знаю, знаю! Вот же чьи это строки!
И — с подсказки чайничка! — называл имя, отчество, фамилию, год и день рождения автора, и впридачу день, месяц и год, когда эти знаменитые строчки были написаны. И даже точный адрес и комнату, в которой произошло сочинение данных строчек, прекрасных и незабвенных!.. А ведь в этом доме за сто девяносто лет перебывало множество самых разных людей, и маленький чайник всегда с удовольствием выручал их своей изумительной памятью. Он подсказывал им названия городов, гор и рек, имена растений и звёзд, даты исторических сражений, годы рождения и смерти королей, царей и султанов, рецепты от головной боли, от ревматизма и нервной почвы, и как приготовить кокосовый пудинг, столярный клей и рассаду редиски.
По его подсказкам кроили и шили бальные платья и наряды для маскарада, переплетали старинные книги, чистили медный таз и пиджак, гасили свет уходя, мыли руки перед едой, чинили лампы и утюги, сапоги и будильники, писали контрольные и делали даже научные открытия, а также лечили от свинки!
Однажды летом чайничек поехал на дачу, там в него наливали воду и ставили полевые цветы. Он всё лето смеялся, потому что цветы его щекотали. А однажды воскресным утром в него насыпали землянику, и земляника его одурманила!.. Он сделался пьяным от счастья и чуть не упал, когда его ставили на стол вместе с другими чайниками. А потом в него наливали мёд, и у него на душе было так сладко! И он так сладко заснул! А когда проснулся…
А когда проснулся чайничек, он увидел, что все с дачи уехали, все-все люди, все чайники, его одного забыли, попросту бросили — да ещё и с липким, противным медом на дне! Шёл дождь, из окна дул холодный ветер, тоскливо скрипели ворота… Наступал осенний рассвет. В доме — пусто, кругом — ни души.
«Дзынь-бум-крап-пим-пам-бим-бом-буль-пшик!» — сказала вода, выскочив из пустого крана.
И бедный, всеми брошенный чайничек-отчайничек чуть не заплакал. И ты бы ревел, если бы так с тобой поступили!
«Я погиб!» — подумал отчайничек, всхлипнув носиком, и стал вспоминать свою жизнь, которая теперь показалась ему такой жалкой.
— Последний раз во мне заваривали чай ровно сто восемьдесят шесть лет назад! Ведь у меня нет крышки, она случайно разбилась, когда ещё не было ни трамвая, ни телефона, а по улицам бегали лошади. И вот получается, что почти всю свою жизнь я простоял на книжной полке, и в меня бросали одинокие пуговицы, колючие скрепки и кнопки, никому не нужные винтики, даже крючки! Это у-у-ж-ж-жасно! Как я мог такое терпеть?!. Лучше разбиться вдребезги!
Он уже собирался броситься вниз с подоконника, но вдруг в холодном, дождливом саду чирикнула птичка, — три раза чирикнула и два раза свистнула… И маленький отчайничек от этого свист-чириканья улыбнулся сквозь слезы и вспомнил, что жизнь его была не совсем такой беспросветной и совсем не такой ужасной. Ведь стоял он на замечательной книжной полке и знал чудесные вещи, тайны и приключения, которых не знали многие, очень многие из тех, кто с крышками!
Ведь есть же на свете чайники, которые думают, что прекрасней всего кипяток, и совсем, ну совсем ничего не знают о звёздах… И о том, что некоторые редкие чайники находят дорогу домой, куда бы ни забросила их судьба.
Тут как тут чайничек прыгнул в окно и стал кувыркаться в мокрой траве. Он купался там под дождём, пока совсем не отмылся от липкого мёда.
Бодрый и свежий чайничек, он помчался, сверкая, по извилистой длинной дороге из деревни Филофеевка в город Филофейск на Филофейную улицу.
Дул сильный ветер, и с деревца упало райское яблочко — прямо в бегущий чайник! Яблочко в нем застряло, и получилась великолепная красная крышка с хвостиком!
В плохую погоду чайники бегают гораздо быстрей. А электрички бегают одинаково и в плохую, и в хорошую погоду. В очень плохую погоду они бегают хуже, чем чайники. Поэтому, когда все вернулись усталые и продрогшие с дачи домой, маленький чайник уже стоял на своей полке, уткнувшись носиком в книги.
— Ой, райское яблочко! — сказал мальчик Митя и съел.
— Ты сам пришёл? — спросил он у чайничка.
— Сам! — ответил маленький чайник.
— Я так и подумал! — сказал Митя.
— Ты съел мою новую крышку, — сказал чайничек.
— Я так и подумал! — сказал Митя. И вместо крышки он положил на чайничек осенний кленовый лист, похожий на сказочную звезду, — на счастливую живую звезду.
— Я так и подумал! — сказал чайничек и три раза чихнул в доказательство, что всё это — чистая правда, а счастливая звезда три раза подпрыгнула.
От разрушения, от размыва и оползания…
«Всё прошлое — в настоящем, всё будущее — в прошлом!»— сказал сгоряча античный поэт и философ.
В наши дни, насыщенные научными потрясениями, одни люди, умудрённые неистощимыми знаниями, улыбнутся и перепишут эти слова в тетрадку, а другие, умудрённые такими же точно знаниями, будут потрясены столь наглядной и столь живучей глупостью античного «мудреца». Всё дело в том, что прозрения современной науки одновременно и подтверждают, и отрицают торжественную наивность древних. Торжественная наивность — интонация раннего детства. «Если сегодня не будет, как я хочу, — так чтобы завтра — было!» или «Во время войны моя мама ела одну картошку, потому что наши враги съели всё мясо, а картошку они не любили».
Но если бы не торжественная наивность человеческого детства, разве узнали бы мы, какими прекрасными были и какими прекрасными стали? Во всяком случае, мне совершенно ясно, что чудесное не изнемогает под тяжестью рационального опыта, а, наоборот, процветает сплошь и рядом, в самых неожиданных и до сей поры нигде не описанных формах, сохраняя своё живучее благородство и актуальную свежесть.
В моей истории все события прошлого рассказаны, как если бы они происходили в настоящем времени, а все события будущего — как если бы они уже произошли. Но это ровным счетом ничего не меняет. Зато помогает не извратить и не скомкать подробности, и не утратить живую нить этой, в общем, чудесной истории. Вот послушайте…
Маша Мискина, рыжая прыщавая дурнушка двадцати восьми лет, рослая и громоздкая, начисто обделённая напористым обаянием хрупкости и беззащитности, приехала в Москву навестить свою вдовую бездетную тетку Пелагею Григорьевну. Живёт Маша безбедно, десятый год работает дояркой, получает прилично и к деньгам относится с бережливостью — своё зелёное старое пальто наизнанку вывернула, перекроила, потёртые куски в складки прибрала, карманами занавесила, зато приобрела «музыкальную машину» и к ней десяток пластинок, весёлых и грустных, чтобы слушать всю эту музыку в подходящее для души время.
Отец Маши всю жизнь проработал плотником, ни ленью, ни пьянством, ничем худым себя не опозорил, в самые невзгодные времена не голодал, всегда корова была, свинья кормилась да кой-какая птица. Машина мать часто хворала — то животом, то грудью, но женщина была работящая, хлопотливая, чистоплотная, вылизывала дом свой, выхаживала каждую грядочку, а год с лишним назад умерла во сне от сердечного приступа. И Машин отец, Федор Григорьевич, смертно затосковал, но не запил и потихоньку не то чтобы справился со своим горем, а приспособился жить с ним, поскольку знал, что его незамужнюю и в летах дочь Машу пока любить больше некому. Не привлекала его голубка Маша ни парней, ни мужиков. Хоть бы вдовый какой подвернулся, пускай с детьми — разве это беда? Но ни в Летунёво, ни в Цвиркино, ни поблизости где — никто не умирал подходящим образом, чтобы пригожий человек остался с детьми без присмотра.
А десятого января пришло к ним, в Летунёво, письмо из Москвы от тетки Пелагеи Григорьевны, родной сестры Федора Григорьевича, — где просила она приехать, проститься и не оставить её в смертный час и в посмертный. Пелагея в конце войны вышла замуж за морского офицера и уехала с ним в Москву, чтоб работать там театральной кассиршей и вести весёлую культурную жизнь. Морской офицер оказался человеком серьёзным, всё время где-то учился, а потом, когда выучился, стал писать научные книги, которых Пелагея Григорьевна читать не могла, но которые именно поэтому считала чем-то священным и великим.
И вот Маша в зелёном суконном пальто, в чёрном платке с красными розами, в узорчатых валенках, которые в дни смертной тоски смастерил ей отец, едет с вокзала на улицу Гарибальди. Она не торопится, в Москве мороз, а ей жарко, чемодан у неё деревянный, сам тяжёлый, да и в нём не воздух. «Надо бы купить чемодан, кожаный, лёгкий — может, еще куда поеду», думает Маша и садится передохнуть на скамейку в сквере. В сухой фонтанной чаше, где лежат метла и лопата, голодные голуби терзают бублик, а две чёрно-синие вороны вопят и вот-вот отнимут мёрзлый, твердокаменный, но вполне съедобный кусок.
Маша звонит в тёткину дверь, обитую мягкой коричневой кожей со стёгаными, как на ватном одеяле, квадратиками. Ей кажется, что сейчас дверь откроет старушка или пожилая женщина, кто-нибудь из тёткиных приятельниц по работе, по жизни. Но дверь Маше открывает мужчина лет сорока, длинный, худой, близорукий, очень приветливый и очень Маше приятный, и в руке у него попыхивает малюсенькая рябая кастрюлька на деревянной ручке. Маша сроду таких кастрюлек не видала — оказывается, в них варят кофе. А в Летунёве пьют молоко и чай, там кофе никто не пьёт, кроме клубного художника — хвастуна и пропойцы, который скрывается от алиментов и стряпает кофе в большом медном чайнике.
Маша находит Пелагею Григорьевну в самом что ни на есть привлекательном виде, и это её удивляет и настораживает. Волосы крашеные, красиво причёсанные, губы — в помаде, на ногтях — розовый лак, и халат на тётке замечательной красоты, хоть куда иди — не стыдно. И вообще выглядит Машина тётка здоровой и нарядной, словно пришла с концерта или идёт на концерт. «Уж больна ли? — думает Маша. — Может, шутит, на любовь проверяет? Чудачка!» Но ей почему-то вдруг, безо всякой причины становится так хорошо, оттого что она здесь, в этом доме, и оттого что её тётка Пелагея Григорьевна, родная сестра отца, такая красивая и нарядная!
Маша идёт в ванную, моет лицо и руки горячей водой и круглым сиреневым мылом, потом она расчёсывает и переплетает свою рыжую худосочную косу и глядит на себя в зеркало, приглаживая мокрыми руками волосы на висках, чтоб голова её была совсем гладкая, без висюлек — этого Маша не любит, просто терпеть не может! «Какое большое, ясное зеркало! — думает она. — Как будто в нём — солнце. А на солнце все хороши, потому что оно — свет. Надо бы у себя в Летунёве над зеркалом электрическую лампочку примостить — не такая уж я страшненькая на свету». И Маша полощет свой рот семь раз горячей водой, смахивает с плеч волосы и пыль, одёргивает васильковую кофту и входит в комнату прибранная и свежая.
Втроём садятся обедать: Пелагея Григорьевна, Василий Дмитриевич — родной брат её покойного мужа — и Маша. Василий разливает в три глубокие тарелки багровый дымящийся борщ, расспрашивает Машу про деревенскую жизнь, про мать — чем болела, про отца — как без неё справляется, про Машины виды на жизнь.
«Замечательный борщ! — думает Маша. — Мать, когда живая была, зимой точь-в-точь такой и варила. А я — щи да щи. Отец помалкивает, а сам эти щи, наверное, с закрытыми глазами ест — видеть не может! Вернусь, обязательно борщ сварю. Такое простое дело, а радость… Ах, как же это я раньше не додумалась отцу борщ сообразить — в первую зиму, когда мы вдвоём с ним без матери с тоски подыхали да молчали друг на друга. Вот ведь при смерти Пелагея Григорьевна, а в доме у неё свет и радость. Свет и радость…» — в уме повторила Маша.
Она огляделась кругом и увидела, что вправду — свет и радость, неизвестно откуда, но есть они здесь. И тут впервые она поняла, что тетка действительно при смерти. Поняла безотчётно, каким-то загадочным для неё самой образом, каким-то природным чувством притаённой правды. Она съела весь борщ и увидела на дне тарелки синий домик в синих кустах и в синих деревьях, рядом с которыми гуляла с синей собакой синяя девушка, а надо всем — из синих облаков — торчали синие пучки лучей.
После обеда пили чай с вареньем из грецких орехов. Орехи были целые, в скорлупе, но совсем мягкие, чуть потвёрже вишен, их надо было есть целиком. Отец часто приносил ей орехи и раскалывал молотком, вылущивая извилистые, сладковатые ядрышки. Но чтобы орехи можно было варить и жевать в скорлупе — до этого Маша бы не додумалась. И она улыбнулась тому, что купит и обязательно привезёт отцу эту невидаль, словно отец сделался младше Маши и даже совсем маленьким…
Пришла медсестра, пожилая, мужеподобная, в венчике из седых косиц. Её хриплый рокочущий голос наполнил собой всю квартиру. Она вела себя здесь по-хозяйски, как человек, всю свою жизнь проживший в этой семье, и строго объявила Маше, что её скверную кожу надо лечить, что она даст Маше в среду талончик к врачу, потому что никак не годится ходить в молодые годы с таким «запущенным лицом».
— У вас, Маня, волосы — как солнце, а глаза — зелёные, как листья, но эта кожа делает вас просто уродливой, а вывести всю эту дрянь ничего не стоит.
Медсестра ушла с тёткой в комнату, сделала ей какой-то укол и сказала, что, как всегда, придёт обезболить на ночь. «Странно, — подумала Маша, — приходит к умирающей женщине, а занимается ерундой, моими прыщами». Это было скорей удивительно, но не обидно. После укола Пелагея Григорьевна из комнаты не выходила, а осталась лежать там при занавешенной лампе. У неё тихо играла музыка.
Василий Дмитриевич вымыл посуду, прибрал, налил себе горячего кофе, закурил сигарету.
— Манечка, у Пелагеи Григорьевны неизлечимая болезнь. Неделю назад её выписали из больницы, потому что операция бесполезна. Она всё знает. Сейчас у неё улучшение, временное, очень скоро оно кончится смертью. Она всё знает, но её не покидает надежда на чудо. И она делает всё возможное, чтобы эта надежда не покидала её. Есть, знаете ли, сказка о том, как смерть пришла к сапожнику, раненному в живот, а сапожник заколотил гвоздями дыру в животе и притворился целым, здоровым. Смерть пришла, посмотрела на него и сказала жизни: бери, этот сапожник — твой.
Маша сидела напротив, сложив руки на груди. В её зелёных, как листья, глазах лежали слёзы живучей надежды.
— А что если сказка вещая? — прошептала она, оглядываясь, как будто хитрая смерть могла подслушивать их разговор. — Ведь бывали же чудеса, когда-то, давным-давно… Как хотите, а я верю, верю, и сейчас они с кем-то бывают… — шептала она, всей душой раскрываясь перед этим едва знакомым человеком и даже не кровным родственником.
— Бывают, бывают, — испуганно и торопливо согласился он вдруг, отпрянув от рыжего и зелёного пламени её деревенского лица. — Бывают, бывают! Ваша мать умерла, моя мать умерла, и ещё кое-кто, и мы с вами умрём, а чудеса — они, как же, бывают! Сейчас я поеду к себе в больницу, сделаю одну операцию, отдежурю и вернусь в десять утра, и мы сообразим, как жить дальше.
Маша совсем недолго пробыла наедине и чувствами ещё отойти не успела от всего, что они говорили тайным шёпотом на кухне, как снова пришла медсестра-грена-дёрша, озябшая и усталая. Она гремела стеклом и железом и, выключив музыку, рассказывала Пелагее Григорьевне что-то захватывающее из уличной жизни. Сделав укол, она не ушла домой, а поставила на плиту чайник, проверила, есть ли заварка, и вскоре крикнула, как бы вдаль, в летний лес:
— Чай гото-о-ов!
Пелагея Григорьевна вышла к столу, улыбаясь Маше и заправляя густые волосы под роговой гребень.
«И зачем её поднимать, когда можно чай подать в постель», — подумала Маша и сама ужаснулась тому, как быстро забыла она о сапожнике, который не умер.
Женщины пили чай, болтали о том о сём, о житейском, о погоде, о моде, о детях соседки, о том, что уже через месяц надо искать под Москвой дачу на съём, чтобы летом не умереть от жары и пыли. Потом «гренадёрша» ушла, напомнив, что ненадолго — до завтра!
Пелагея Григорьевна помогла Маше раздвинуть диванчик у стенки, на которой в соломенной рамке висела картинка: улыбающийся молодой человек, пригожий лицом, в красной четырехугольной шапочке и в белой накидке, сидел в желто-красном кресле за красным столом и белым гусиным пером записывал что-то в белую книгу. В красно-белом облаке летал над ним голубь, распластанный и лёгкий, как бабочка-белянка, в клюве голубь держал три прутика, или такую ветвь «из трех гвоздочков», как говорят в Летунёве. Происходила вся эта жизнь на мраморной веранде с тёмно-зелёным полом и рыжими колоннами. А вдали белели снежные горы и зеленели рощи.
«Человек на этой картинке похож скорее всего на врача — из-за шапочки, белой накидки», — подумала Маша. Его улыбка ей очень понравилась, потому что она как бы тайно намекала Маше: непоправимого нет, нет, нет… Знала Маша и от матери, и от подруг, что она фантазёрка, придумщица. Однако и это мало её огорчало: ведь нельзя же придумать то, чего совсем не бывает в природе! «Кто же сидит под голубем, так улыбаясь тому, что пишет? И что он там пишет?» — вздохнула она.
Расстелив простыню, Маша распрямилась и увидала, что внизу, под картиной, есть печатная надпись: «Плакетка. Св. Бонавентура. Флоренция. XVII в. Флорентийская мозаика». Слово «плакетка» Маше совсем не понравилось, потому что в нём слышалось ей слово «плакать». Пелагея Григорьевна обняла и поцеловала племянницу в лоб, они улеглись и погасили свет. Маша долго ещё не спала, как ей показалось, но не услыхала ни единого вздоха.
Ей приснилось, что — лето и что стоит она босиком на зелёных плитах мраморной веранды, а за красным столом, спиной к белым горам и зелёным деревьям сидит улыбающийся сапожник и вколачивает белые деревянные гвозди в белую книгу, а белые гвозди подаёт ему в клюве голубь, распластанный в облаке. «Здравствуйте, Св. Бонавентура! Скажите, пожалуйста…» — обращается Маша к сапожнику и видит, что это никакой не сапожник, а родная сестра её отца улыбается так, словно нет непоправимого, словно смерть вот-вот к ней придёт, всё увидит в целости и в красоте и скажет жизни: бери, это — твоё…
Пелагея Григорьевна умерла через месяц и три дня. На поминках было много народу, и Маша, измученная бессонными ночами, пекла несметные горы блинов. Когда Маша наконец присела к столу, одна приятельница Пелагеи Григорьевны, врач-онколог, сообщила всем по секрету, что сделано потрясающее открытие — вирус гриппа убивает раковые клетки. Выходило так, что надо болеть вирусным гриппом, лучше всего «гонконгским», и тогда или рака не будет, или он сам пройдёт.
Маша вернулась в деревню и рассказала всем-всем, что её тётка Пелагея Григорьевна заболела раком, и должна была умереть, и даже знала сама об этом, но решила жить, как здоровая, потому что… И тут, конечно, Маша поведала о сапожнике и о своём сне про Св. Бонавентуру. После этого сна, рассказывала Маша, заболела тетка Пелагея Григорьевна «гонконгским» вирусным гриппом, не пила, не ела, горела, бредила, но рак прошел окончательно!
И еще лет двадцать на вопрос: «Жива ли Пелагея Григорьевна?» — отвечала Маша:
— Жива! Жива! Вот жива — и всё тут!
Ещё успела Маша осчастливить своего отца и выйти замуж за молодого учителя, тихого и доброго человека, который замечательно рисовал Машу на разных картинах. За картинами этими лет пять назад гонялась «вся Москва», но их оптом скупил известный искусствовед, большой специалист не то по «интуитивному примитивизму», не то по «примитивному интуитивизму», искусный коллекционер «безыскусного искусства»…
Как все по-справедливому счастливые люди, Маша никогда не врала. Но эта история с теткой!.. Она рассказывала её бесконечно, из года в год, по первой же просьбе: «Манечка, расскажи… Вот послушайте!»
И Маша рассказывала вновь и вновь, а рыжее и зелёное пламя её лица освещало всю эту историю так убедительно, а годы летели, и выходило, что тётка у Маши — бессмертная?.. И выходило, что тётка у Маши — бессмертная…
Да! Вот ещё что! В «Словаре иностранных слов» нет почему-то слова «плакетка», но зато есть глагол «плакировать», с которым, несомненно, «плакетка» связана самым коренным родством. И у глагола этого два значения из трёх кажутся мне достойными пристального внимания и живого интереса:
1. Покрывать листы металла в процессе горячей прокатки тонким слоем какого-либо другого металла, более устойчивого к коррозии, для предохранения от разрушения; 2. Накладывать дёрн на земляные откосы с целью укрепить их корнями трав и предохранить от размыва и оползания.
Когда кружится голова, позови знакомое дерево.
Нога с ручкой
Вот — нога с ручкой
Вот — Нога с ручкой. Стоит на подоконнике, а в ней стоят цветы.
Однажды распаялся весь кофейник, цветы поставили в стакан, а Ногу взяли за ручку и в Ноге сварили кофе.
Потом поехали на речку, а там в лесу — земляника. Взяли Ногу за ручку и собрали земляники — полную Ногу с верхом, пересыпали в ведро.
Пошли с Ногой в «Продукты», на весы поставили, сметаны в Ногу кутили — поливали землянику из Ноги.
Ночью вор залез в окно, наступил на Ногу. А Нога его — бац! — пяткой по лбу, из него молочный зуб выскочил!.. Вор схватил кастрюлю с киселём и дал дёру.
Утром глядь — кастрюли нет, а в чём гречку варить?.. Взяли Ногу за ручку, сварили гречку. Потом Ногу вымыли, в неё поставили цветы, она запахла розами, клевером и кашкой.
Стоит Нога на подоконнике, на улицу смотрит, а там ноги гуляют. Нога говорит:
— Гулять хочу!
Ну, пошли. Идёт Нога с цветами, а я держу её за ручку — ветер потому что…
Птичка на ноге с ручкой
Иду себе, гуляю, держусь за Ногу с ручкой, ветер потому что… А в Ноге стоят цветы, разные цветочки — пахнут. Люди ходят и бегут, мимоходом нюхают Ногу с цветами:
— Ах, какой аромат, дивное благоуханье! Что за прелесть ваша Нога с ручкой! Где достали? Откуда это чудо? Из Парижа или из Венеции? Из Швеции, из Греции, из Дании, Германии, из Великобритании?
— Ножка из Италии или из Австралии? Какая красота! Мы бы тоже с ней гуляли, подумать только — Нога с ручкой! Она только ходит? А что ещё она умеет?
Туг раздался гром, кто-то в небе сильно дал ногой по ведру с дождём, ведро перевернулось, и хлынул ливень из ведра. А у меня зонтика нет, под ним коза улетела к зубному врачу! Ничего страшного, ведь Нога с ручкой — вещь непромокаемая. Беру Ногу за ручку, и под этим зонтиком, и под этой шляпой замечательно мчусь домой.
Одна красавица, молодая птичка, на эту Ногу вскочила, мы живём в одном дворе, это ей в самый раз — лечу быстрее птички потому что…
Нога с ручкой делает тип-топ
Стоит на подоконнике Нога с ручкой, петухом охраняется.
Петух — боевой, перья разноцветные раздувает ветер, весь петух похож на индейского вождя.
А Нога с ручкой — мирная гражданка, у неё внутри вода, а снаружи — цветочки, воду пьют и украшают.
Вдруг — Нога пошла налево!..
— Ты куда? — спросил петух.
Вода сказала:
— Буль-буль-буль!
А Нога с ручкой — три раза:
— Тип-топ! Тип-топ! Тип-топ!
Вот что это означало: какой-то Тип топает! Ногу с ручкой хочет тяпнуть этот Тип!.. Он её тип-типает за ручку незаметно, заставляет топать налево.
Тут петух как завопил, как раздул перья, крыльями захлопал, издал клич боевой!
Все окна зазвенели, крыши поехали, пыль на улице — столбом, граждане звонят в милицию:
— Почему воздушная тревога?!.
А Нога с ручкой опять — три раза:
— Тип-топ! Тип-топ! Тип-топ!
Вскочил боевой петух, прыгнул в Ногу с ручкой, чтобы Тип ее не тяпнул, пока он будет за Типом гоняться.
Летит петух в Ноге с ручкой на бреющем полете, крыльями гремит, глазами полыхает, борода искрится, гребень — как пожар, на хвосте — костер!
Весь петух дымится, весь — огонь и пламя!
Граждане звонят в пожарную команду:
— Какой ужас!.. Жар-птица! Жар-птица!
Сделал петух при таком полёте три круга без посадки, Типа не нашел, на четвёртом развороте домой возвратился, выскочил из Ноги с ручкой и безопасным образом поставил её на подоконник.
Ох!.. Какая мягкая посадка! Никто не треснул, не брякнулся, можно и поспать на одной ноге, как петух делает.
Тут как тут зелёный усик винограда Ногу с ручкой взял под ручку и загнулся там пружинкой…
А ветер налетел, усик дёрнулся, и Нога с ручкой пошла налево.
— Ты куда? — спросил петух.
Вода сказала:
— Буль-буль!
— Тип-топ! Тип-топ! — сказала Нога с ручкой.
— Где же этот Тип? И куда ты топаешь?
Нога с ручкой задумалась и остановилась.
Потом опять:
— Тип-топ! Тип-топ! Тип-топ!
Ветер потому что…
Начало в 21 час. Билетов нет.
Под лезвием звуков
В морду дай ему, в морду, я тебе говорю! Бежит он рысцой, закаляется — а ты спокойно, с большим достоинством идёшь случайно ему навстречу — и хрясть! хрясть! хрясть!.. А ещё лучше так: он сидит в президиуме, ведёт собрание, ты посылаешь записочку с пожеланием выступить, он тебя объявляет, а ты спокойно, с большим достоинством идёшь на сцену и при всех плюёшь ему в рожу — хр-р-р! хр-р-р! хр-р-р! Все понимают — за что, и мы устраиваем бурную овацию. А этот мерзавец, подонок, вор, курва, сексот, угробивший столько народу, навалит в штаны от страха и, попомни мои слова, начнёт тебя уважать, ублажать, и всё ты получишь сполна, спокойно, с большим достоинством. Ты же меня знаешь, я плохого не посоветую. Сам терпеть не могу сомнительных действий, интриг, эта мелкая возня не по мне — слишком жизнь коротка и до-о-о-роги идеалы.
Бу-бу-бу… Грум-вжжик, грум-вжжик… ияи-ияи-ияи… Непроглядное утро, промозглое, ледяное и слякотное, с гремучей, визгучей дверью в парадном, с тарахтеньем и шамканьем лифта, пахнущего мочой и окурками, с подметальным размахом, шварком и скрёбом лопат и дворницких мётел в гулком колодце за окнами, где собаки прогуливают хозяев, рычащих, роющих землю, задирающих лапку под деревом, вынюхивающих друг друга.
А в почтовом ящике — три газетки, четыре письма, две повестки, два счета за телефон, который не отвечает, и… малюсенький мышиный младенчик:
— Иди ко мне, моя крошка, бархатный, нежный лоскутик! Я отнесу тебя к мамочке, к твоей мышиной бабуле, к толпам хвостатых родичей, которыми полон подвал.
— А я уже мёртвый, ты разве не видишь? Надень очки, вот они — в левом кармане куртки. Надень и увидишь, как я спал и меня задушили, крепко и весело сжали меня в кулаке и — хруп! — и пи-пи!.. А потом затолкали в железную щёлку. Зато мне теперь не хочется ни пить, ни есть, ни дрожать от страха, я сплю в благодати, а мясо моё отнеси под кустик, пускай съедят, меня в этом мясе нет, весь вышел, — он говорит блестящими, выпуклыми глазёнками, лежа в ладони под мертвым сияньем общественной лампы дневного света.
Иду и бросаю его под кустик, в глубокий снег, не оборачиваюсь, пересекаю двор, а в глазу на затылке серебристое тельце удавленника сливается с морозной снеготочивой мглой…
— Нет, паршивец, ты дай мне собственную оценку — бу-бу-бу! — тогдашнего пакта между Молотовым и Риббентропом и приведи — жу-жу-жу! — бесспорные доказательства, неоспоримые факты, а не тявканье этой контры, этой газетной своры гнусных переворотчиков! Я преподаю вам не только и не столько нашу историю — грум-вжжик! грум-вжжик! — а железную идеологию нашего общества! Да заткнись ты, заткнись, вся семья у тебя такая! Мало он пролил крови, мало пересажал, мало перестрелял! Не своею он умер смертью! Скоты! Свиньи неблагодарные — грум-йяй-йяй! Гений он был, ге-е-ний! В гробу мы видали Европу и всю мировую общественность! В гробу — бу-бу-бу! Подумаешь, Гитлер?! — Нет ничего позорного, это же битва гигантов, мы расширяли границы! Мы, негодяй, законно увеличили свою территорию. Да плевать мне, что о нас думают! Вон из класса! Больше не смей приходить! — грум-грум! — на мои уроки. Ты очерняешь — бемц! — ты извращаешь идейно — бамц! — всю нашу действительность, ты ненавидишь историю родины — грум-йяй-йяй! — ты предаёшь идеологию нашей партии, вежливая ты сволочь!
— За что-о-о-о? Он ничего тако-о-о-о-го! Грум-вжжик, грум-вжжик, йяй-йяй!
— И ты вон из класса! И ты! И ты! И ты!.. Задуш-ш-шу, как мыш-ш-шат! Мразь, шваль, газет начитались, наслушались голосов, нагляделись на переворотчиков — бамц-бамц! — на прогрессистов, ревизионистов, антисталинистов, подонков!
Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, переменка, все мчатся в уборную.
Жилистая, подслеповатая кошка под кустом на снегу поймала задушенного мышонка и лапой толкает, чтоб он удрал, а она чтоб его догнала, а он чтоб опять удрал, а она чтоб опять его догнала и, вымотав этой древней игрой, кровожадной, беспроигрышной, съела и облизнулась. Пища должна бегать!
— А я уже мёртвый, ты разве не видишь, проклятая кошка? Меня в этом мясе нет, весь вышел! — говорит он блестящими выпуклыми глазёнками, вылетая из класса в мировое пространство — мороз и солнце, день чудесный! Тю-тю, Валендитрия Мутиновна, я свободен, я выброшен, о счастье! Теперь я не буду ходить на ваши — бу-бу-бу! жу-жу-жу! грум-грум! йяй-йяй! А буду гулять со своей девочкой и читать «Оправдание добра» Соловьева.
А другой сказал:
— Хрен вот! Выгнать меня не можешь, драная кошка, стерва и псих! У нас пока еще есть конституция, и никто не имеет права лишать меня среднего образования. Цыц, а то врежу! Нет у меня денег для репетиторов. И будешь ты учить меня, Валендитрия — хрясть! — Мутиновна, это твоя работа, тебе за неё государство платит из налогов — курва! — моих родителей, из их кармана. Так что заткни свою пасть, а то харкну. И запомни — орать на меня бесполезно, я подрабатываю санитаром в психушке, и все эти фокусы — до первой затрещины. Так что будь добра успокоиться — вот валерьянка, у меня ведь тоже нервы контуженные!
Когда телефонная вилка из стенки вынута, всё равно мне слышно, как звонят и звонят без конца. В этом году мрут от удушья, от лёгких, от запойного курева. Друг мой дальний, уж дальше некуда, красавица, умница, каторжанка, мать ограбленная, сильная, нежная, беззаветная, над чёрной рекой, где одно дитя уже утонуло, а другое ещё купается, — это звонят о ней, завтра в двенадцать, морг 2-й МПС, цветы и серебряный рублик во гроб, в ледяные ножки, чтоб заплатила Харону за перевоз. Уж чего не терпела — так быть в долгу! А в той, предыдущей жизни она под забором нашла больного зверька, дала молока, подстилку и блюдечко. Спи, голубка… спи, моя Людочка. Людмила Павловна Ярошевская. Нет тебя в этом мясе, его отнесут под кустик, а летом поставят камень. Вышла ты вся. Оболочка неузнаваема. И, только домой возвратясь, я целую твоё отраженье в колодце глубокой памяти под каплющей воском свечой.
Я только хотела сказать, что ничего не забыла, за всё благодарна, за каждую корку. Но трубку сняла пустая жилплощадь:
— Почему вы звоните так поздно, и кто вы такая? Вы знаете, сколько времени? Уже одиннадцать ночи — грум-вжжик-йяй-йяй! И вообще!
Мускул воды свивается с мускулом времени, перетеканье мглы, прозрачная непроглядность, тропический ливень, папоротники, хвощи, лианы, лемуры. Йяй-йяй — мой отрок сидит под бананом и пишет воспоминанья.
— Он болен?
— Да, — говорю, — отвращеньем к школе. Острая форма.
Оба завуча и родители двух изгнанников прибыли на толковище. В кабинетике душно, пахнет бумагами, истерической кошкой и чокнутой историчкой. Историчка чокнулась в тот момент, когда его вынесли из мавзолея. Поклялась отомстить за поруганье святыни, за оскорбленье гения, победившего Гитлера и Германию, освободившего страны Восточной Европы, ежедневно уничтожавшего внутренних подлых врагов и ежегодно снижавшего цены. Она поклялась до гроба служить ему верой и правдой, обостряя борьбу, классовую и международную. Таких было много, и ей полегчало. Но ежегодно пять-шесть-семь каких-то гадёнышей задавали ей самые каверзные вопросы и так мерзко, так подло, так вежливо ей возражали, что она колотилась в припадках и валяла им двойки в журнал, прогоняя с урока, или хуже того — повышала отметки боксёрскому классу за кровавую кашу из начитанных этих гадёнышей.
Но вот сидит она, Красная Шапочка с ангельским видом, ласково улыбаясь, головка набок, губки сладкие, глазки невинные, и так застенчиво и кокетливо сумочку теребит, ярость свою загоняет в подметки. Сразу видно: ханжа и базарная баба.
— Я очень, ну прямо очень — бу-бу-бу! жу-жу-жу! — любила ваших детей… до этого года. Но теперь, когда всё печатается и родители читают всё без разбору — вжжик-йяй-йяй! — ваши дети срывают мои уроки своими вопросами, а также каверзными ответами — грум-вжжик! грум-вжжик! — и вступают со мной в совершенно бессмысленный спор, в бесполезный и даже вредный для их будущего политического лица. А зачем? Я даю матерьял по схеме, идейно выверенной и оснащённой всеми неоспоримыми фактами. Это готовые ответы для экзамена в любой вуз. Вы меня слышите? Умные родители понимают, что, имея мои конспекты — бу-бу-бу! жу-жу-жу! — думать не надо, и спорить незачем, а надо только единственное — грум-йяй-йяй! — отвечать, как записано под мою диктовку. Вы меня слышите? Это очень всем облегчает, спросите завучей, все они — мои бывшие ученицы — вы меня слышите? — и все сдавали в пединститут.
— А я не хочу, — говорит ей одна мамаша, — чтобы моя Глаша за отметку перед вами холуйствовала и пресмыкалась. Ребёнок имеет право задать вопрос!
— А я имею право поставить двойку за срыв урока!
— Нет, не имеете!
— Нет, имею!
— Никакого!
— Полное!
— Вы развращаете!
— Вы врёте!
— Вы оскорбляете!
— К черту! Ухожу! На пенсию! Ищите! Себе! Другого! Учителя!
Тут оба завуча хватают её за кофту, за юбку, за весь трикотаж:
— Валендитрия Мутиновна! Никогда, ни за что не уходите на пенсию! Где мы найдем учителя в середине года? Для десятых классов? Где?! Ведь сегодня никто не знает, как преподавать этот страшный предмет — обществоведение! — грум-вжжик-йяй-йяй! Лучше мы выгоним этих детей из школы — бум-бум! — с их проклятыми вопросами! Пусть катятся, отщепенцы, чи-та-а-те-ли!
— Вам плохо, родительница?..
— Нет, мне хорошо… Это вам плохо — грум-йяй-йяй!
— Почему?
— Потому что я записала — бемц-плямс! — всё это на магнитофонную плёнку.
— Куда?.. Куда вы удалились?!
— В РОНО! В ГУНО! В созвездие Стрельца!
…Снег, ветер, метель. Какая-то в чёрном плаще обнимает дерево на Гоголевском бульваре и лбом-бом-бом! по стволу, и бормочет гражданка, глотая слёзы:
— Прости бессилье моё и отчаянье в час молитвы о сокрушенье злокозненных сил тщеты и адской богопротивности, распинающих детство твоё, о чадо Божье!..
— Гражданка, вам плохо?
— Нет, что вы, мне хорошо. Я всегда в это время немного дышу через дерево. Знаете, лейтенант, надо выбрать большое, сильное дерево, обнять его и прижаться — грудью, лбом, животом, коленями — и дышать сквозь него, дышать, хотя бы минут пятнадцать, лучше — тридцать, под звёздами. Очищает.
— И от камней?
— И от камней. Возьмите моё дерево, я как раз его раздышала, и оно ещё тёплое.
Хруп-хруп! Хруп-хруп! Это я прохожу мимо, мимо этой гражданки, мимо этого лейтенанта милиции, который в обнимку с деревом на Гоголевском бульваре очищается от камней.
На попутной лошадке качусь по кольцу — до своего переулка — жу-жу-жу! бу-бу-бу! — кучер трудится инженером, два года работал в Индии, там в гостинице ползают прозрачные ящерицы — хапнут мушку, и видно, как мушка эта внутри переваривается до полного исчезновения к вечеру.
Вот и ночь. Добрести до дивана — и набок — как дохлая мышь. Открываю первую дверь подъезда — кромешная тьма. С трудом вспоминаю код, бестолково давлю на разные кнопки. У подъезда — хруп-хруп! — гуляют собаки с хозяевами:
— …он тебя объявляет, а ты спокойно, с большим достоинством — бу-бу-бу! — плюёшь ему в рожу — хр-р-р! хр-р-р! И все понимают за что, и устраивают овацию — грум-вжжик! грум-вжжик! — слишком жизнь коротка и до-о-о-роги идеалы.
Йяи-Йяи-Йяи! — завизжала вторая дверь, открываясь. Лифт не работает. И, чтобы насмерть не задохнуться ни на одном из шести этажей, сплю и вижу я Киев, детство и небеса Подола, ту высокую гору, где Андреевский храм в облаках, — как легко мне тогда дышалось, как всюду мне было близко и крутое мне было плавным…
Он показывал мне, как сочинять стихи
Это был изумительный мальчик лет семи или даже младше. Он с мамой приехал в Крым на несколько дней, перед отъездом в Москву и далее — в Париж, где жили его отец и старший брат.
Мама ушла прощаться к знакомым, и мальчик со мной остался до вечера. Сперва мы купались в море, потом хохотали, потом обедали, опять хохотали, потом говорили о жизни, опять хохотали — и вдруг он спросил:
— Вы никому не расскажете?..
— Нет, — говорю. — А что?
— Ну, тогда я вам покажу, как сочинять стихи.
Положил он кренделем свои загорелые лапы на стол, голову — на лапы, но не вниз лицом, а так, чтобы можно было подглядывать… Глаза свои синие закатил — и завелась в нём какая-то длинная музыка, наподобие гавайской гитары. Из него эта музыка носом играла, и он под неё раскачивался, впадая в пьяненький транс. А когда совсем окосел и весь отправился в полный улёт — стал он вслух сочинять безо всяких бумаг и перьев, безо всяких черновиков и поправок свою гениальную поэму в стихах о свинье и командире.
Суть поэмы была в том, что командир шёл по улице, а свинья стояла на балконе и смотрела, ей было грустно, свинья рухнула вниз — «и провалилась в командира». Нет-нет, всё не так, а вот как:
Свинья упала в командира и провалилась в командира.Потом свинья влюбилась в командира, он шёл по улице, и эта же свинья впервые увидала командира. Они отправились в «Продукты», а там в «Продуктах» стояли зарезанные свиньи. Глазами видя эту страшность, «свинья распалась, как конструктор, свинья распалась, как конструктор, свинья распалась, как конструктор!..»
Но поэма не кончалась на этом, она брала разгон с любого места, где появлялся командир.
Там были такие фокусы и столько потрясающих событий, такая дивная речь и такие могучие ритмы, что я ужасно боялась случайного стука в дверь или в окно, — не дай бог, этот мальчик вздрогнет, очнётся и тогда прекратится поэма.
Часа через полтора он сказал:
— Ну всё!
Промычал гавайскую музыку, поднял голову и спросил:
— Ну как?
Я сказала ему откровенно, что думала:
— По-моему, ты гениальный мальчик-поэт.
Он ответил:
— Я могу это делать, когда захочу.
Ещё бы!.. У меня в этом не было ни малейших сомнений.
Мы снова купались, потом хохотали, сходили на ужин, опять хохотали, потом на звёзды пошли смотреть, — он уселся на пляже за деревянный столик и опять показал мне, как сочинять стихи. Это была поэма про улицу, где руки ходят отдельно, а ноги — отдельно, случайно они иногда встречаются и пожимают друг друга. Руки идут с работы и несут авоськи с ногами, всё время они влипают в какие-то умопомрачительные истории, но везде — командир и свинья!..
Когда мама за ним пришла, он заплакал и не хотел уходить. Я сказала ему:
— Не плачь, теперь мы будем видеться часто.
— Никогда, никогда! — сказал он, глотая слёзы. — Я теперь уезжаю на целую жизнь!
Потом я так часто жалела, что не включила тогда диктофон (не было!) и не смогла записать на плёнку невероятно, неописуемо великолепные стихи этого мальчика. Он теперь — я не знаю где… Лет, примерно, ему восемнадцать. Но где бы и чем бы теперь он ни занимался, такой божественный дар не мог исчезнуть бесследно — это исключено.
Я часто хожу, напевая его бессмертные строки: «свинья упала в командира, и провалилась в командира… свинья распалась, как конструктор!»
А был ли мальчик?.. Был. Мальчик был сыном моей красивой литинститутской подруги Иры Емельяновой, которая совсем молоденькой девушкой попала в тюрьму и в лагерь — «за Пастернака», а также был этот мальчик внуком её матери, Ольги Всеволодовны Ивинской, последней любви Пастернака, чью последнюю любовь посадили в тюрьму и в лагерь вместе с молоденькой дочерью.
Господи, пошли мне спокойствие духа, чтобы принять то, что я не могу изменить, и бодрость духа, чтобы изменить то, что могу, и мудрость, чтоб отличать одно от другого, — кажется, так переводится на русский с английского текст, висевший над рукомойником одной из заморских мансард.
Теперь мы — в такой поэме, где «широка страна моя родная» распалась, как конструктор, и провалилась в разных командиров. Давным-давно не была в Крыму, но часто я там путешествую. Вот сейчас, например… я беру географический атлас и ставлю птичку там, где божественный мальчик показывал мне, как сочинять стихи. Ставлю птичку на этом месте — и птичка поёт гавайской гитарой, закатывая глаза и раскачиваясь.
Дешёвка
— Он их кушает?
— Он исчезает их.
И вот теперь, мой драгоценный Читатель, я снова пользуюсь подходящим случаем обратить Ваше внимание на то, что живая птица стоит намного дешевле, чем из неё же чучело. Так не лучше ли оставаться дешёвкой, но совершенно живой, чем превратиться в шедевр, но совершенно дохлый?..
Казалось бы, дурацкий вопрос, однако же и весьма каверзный.
Летит себе в небе над лесом дешёвка — по восемь денег за килограмм, крыльями хлопает, воздух гребёт, имеет чудесный обмен веществ и нечто звуками выражает. А волею случая, который всегда и есть тот самый закон природы, падает эта дешёвка, угробленная добытчиком. И несёт он её не на кухню, не для своего и семьи пропитания, а несет он её к чучельнику, к мастеру и художнику чучельного искусства, который делает из дешёвки по восемь денег за килограмм замечательное произведение — по сто денег за образ, за выражение истинной живости мёртвой плоти, начисто выпотрошенной и набитой особой начинкой.
От качества этой загробной живости глаз, мордочки и модельной фигуры зависят цена и выход чучела в свет — то ли в престижный музей, то ли в частное философское место, обставленное библиотекой и мебелью потомка потомков династии, где всякий раз, промокая чернила, давили на пресс-папье, увенчанное золотой, серебряной, бронзовой или даже деревянной головкой Данте, или Наполеона, или Шекспира, или просто Сатира, — в кулаке зажимали эту выдающуюся головку вместе с её знаменитой мордочкой и катали таким способом промокашку по тексту.
Один коллекционер, любовью раненный навек, заказал себе трость с набалдашником по фотографии той любви незабвенной, — и потом всегда ходил по делам и жениться, опираясь всем телом и духом на головку и прелестную мордочку своей Беатриче, Джульетты, Офелии — возможны варианты…
Но я не о том. Хотя, конечно, и думать противно, что некоторым за их выдающиеся заслуги посмертно выпало стать украшением полезных вещей, — и берут их за что ни попадя, пристраивают на вешалках почётных собраний, цепляют на гвозди в стене — как рога оленя, или голову его целиком, или отдельно взятые головы тигра, льва, носорога — возможны варианты.
И все же речь — об искусных чучельниках, о художниках и дивных создателях дорогостоящей свежести и живой натуральности из убитых дешёвок.
Во-о-о-он там, за углом, где самка бабуина изобретает бессмертие в зарослях звёзд, есть знаменитая школа, куда принимают только бешено одарённых детей и внуков бешено одарённых детей и династий. Однажды в пятницу, а этот день всегда нехорош для меня, в отличие даже от понедельника, занудил один старородящий сосед, чтоб я детей его в ту школу пристроила через родственника своего Санта-Морица, который с неба заведует княжеством Санта-Мориц, а Санта-Клаус ему троюродный зять.
И так несносно впился этот старородящий сосед в мою нежную душу, так скулил он нескончаемо, неотвязно, тиранически содрогательно, что поехала я на трамвае и на троллейбусе в ту школу поглядеть на её чудеса.
В заведении этом три манерно фасонистых чучельника с сигаретками Санта-Мориц, — такие длинные сигаретки, очень тонкие, тёмно-коричневые с золотым ободком, — повстречали меня жизнерадостно, сияя рекламно и гипнотически всеми внутренностями и внешностями, как подобает обожателям и поклонникам, которые нечто мечтают немедленно раскрутить и «впарить» однофамилице маленького, но знаменитого княжества.
Вся дюжина детей моего соседа, действительного члена Академии Вранья, мгновенно была принята в эту знаменитую школу на особо прекрасную программу, после которой все без исключения поступали с ослепительным блеском в самые престижные высшие заведения того и этого света.
Дюжина прелестных, живых, свежих дешёвок! Они так чудесно играли на дудочках, рисовали, пели, плясали, сочиняли всякую всячину, строили глазки, интриги, детские козни, кувыркались, дрались, царапались, обзывались, воображали. Но всего за три года школьные чучельники бесподобно их выпотрошили, набили спецвеществом мировых стандартов и мозги поставили в позу, наиболее благоприятную для выражения крайней живости в чучельном образе.
Теперь эта дюжина расставлена в наилучшем порядке в наилучших местах, и сразу видно, как много, чего и сколько в те чучела вложено!.. Некоторая часть этих головок и мордочек достигла вершин успеха и стала для чьей-то могучей кучки опорой при ходьбе — как набалдашник трости, а также — роскошной ручкой с кольцом в носу, за которое тянут, когда открывают особую дверь в особые круги, треугольники, ромбы и эллипсы, где многие теперь работают металлическими головками для ручек пресс-папье, катая таким способом промокашку по тексту, где, например, написано — «И, действительно, толпа на презентации поэтической книги Юнны Мориц, о чём-то говорит…»
Я знаю о чём! О том, что Вы, мой люблёвый Читатель, для них — толпа…
И ещё о том, что я — не их драгоценное чучело, слава Богу, Творцу вселенных и Санта-Морица.
Предки мои когда-то во глубине веков, действительно, пробегали через княжество Санта-Мориц, когда его совсем ещё не было, и даже играли там на струнных, клавишных и духовых. Но я не играю эту мелодию.
Я играю совсем не эту мелодию. Потому своё путешественное, солнечное дитя не привела я тогда к знаменитым чучельникам в ту бесподобно чудесную школу. И свято надеюсь, что ни моя, ни его голова и лицо никогда не украсят никакую ни трость с набалдашником, ни живой уголок знаменитых чучел. Чего и вам, как себе, желаю.
Есть такие дивные чучела и вещицы, чья цена необъятна. Однако живая, летающая, рычащая, свиристящая, трепетная дешёвка — вот счастье, которому нет вообще цены, пока мы на воле и живы…
Ты родился, допустим, соболем или белкой. А уж тут как тут следы твои знает охотник с ружьем и капканом, звать его Настоящий Мужик, он в огне не горит и в воде не тонет. Руки-ноги ему отморозь, отрежь — так он силой духа превозмогнёт и эту недостачу, много тому свидетелей. Выходит он из не съеденной пожаром, не заморенной голодом, крепкой избы в зимний таёжный лес и долгие месяцы там за шкуркой твоей охотится, за нежной, серебристой, пушистой, тепленькой твоей шкурочкой, — таких на шубы идёт немыслимое количество, число необъятное, не говоря уж о шапках, воротниках, жакетах, горжетках, палантинах и прочей костюмерии.
Идёт себе в чаще Настоящий Мужик, славит Господа Бога за красоту леса и снега, за сладость воздуха, солнца, луны, за небесную силу звёзд. А в сосредоточенной своей благодати вожделеет он, чуткий ухом, нюхом и глазом, весь устремился в кино — крови твоей, агонии, быстрой и верной гибели.
Благородный в своей суровости, в своем трудовом одиночестве, и так далее в том же плане, идёт Настоящий Мужик и точно знает, что ты — его главный приз. Вскинул он ружьецо, пальнул — вот и брякнулся ты на снежок благодатный, переливчато расстелился в драгоценной шкурке, весь лежишь лоскутком, содрогаешься там предсмертно и дорожаешь.
А Настоящий Мужик радостно, полной грудью, упоительно дышит — Господа Бога за такую добычу благодарит.
После он шкурку с тебя сдирает, остальное — собакам, псам и сучкам, наивернейшим друзьям его жизни праведной в честных трудах. А если ты под шкуркой съедобен и вкусен для человека, он сам тебя съест. В избе жена его ждет симпатичная, пироги с грибами печёт, в чугуне жаркое томит с брусникой и мятой. Шкурки зверей выделывает тоже она, жена Настоящего Мужика, и надо сказать, работа её — тяжкая и вонючая, ужас в каком растворе эти шкурки, эта пушнина, эти меха доходят до товарного вида…
Вот соболья или там беличья душа твоя отлетела, а шкурку Настоящий мужик продал и на деньги, полученные таким заповедным трудом, накупил водки, муки, сахару, печенья, ножей, патронов, керосину, бензину, трусов, носков, мыла — да мало ли чего Настоящему Мужику и жене его надо?!.
Напились они водки под закуску неслыханной, домашней свежести, под грибочки, квашеную капусточку с клюквой, под жаркое из дичи, да лежат на сосново-кленово-дубовом столе головами, вниз прекрасными лицами, рыдают от счастья, что живы и рядом. Ветви звенят за окнами, снег поёт белизной, солнце золотом кроет крышу мира, в тишине такой слышно Бога.
А тебя-то в теле и нет, нет тебя во плоти — как не было, одна душа где-то плавает, — и слава Творцу, что избавил душу твою, беличью или соболью, от безоружного, непроворного, непредприимчивого твоего обитания под дулом Настоящего Мужика, зверопитающегося, птицепитающегося, рыбопитающегося, чтоб от болезни потом исчезать в долгих муках, кончаться медленно, а не мигом, как ты, — пиф-паф.
Кровь твоя и шкурка дрожащая — наилучшие воспоминания, какие у него в тайниках переливаются светом пьянящей радости: «Эко, вот я, бывало…»
А на том свете узрит Настоящий Мужик тебя лично в размерах огромных, в необъятных гробах — в одном тело твоё без шкуры, в другом — шкура твоя без тела, да оба живыми глазами усеяны. И покамест он в оба лица тебя не узнает, — никуда он не двинется, не пройдёт, лярвами со всех сторон огрызаемый.
Есть от этого способ верный, действенный, однако не всякому знать дано.
Да уж, поистине тяжела натуральная бытность Настоящего Мужика, охотника, избостроителя, шкуроторговца, звероведа. Редким такое под силу, такое стечение невероятных возможностей.
А тебе, драгоценный зверёк в переливчатой шкурке, грех жаловаться — ты ведь даже и водки не пил, и денег сроду не видел, не зажёг ни одной спички, не брился ни разу, не знал никаких документов, не говоря уж о наших буйствах духа и плоти, злобы, зависти, клеветы, военных кампаний — возможны бесконечные варианты.
Вот идёт Настоящий Мужик в малахае медвежье-вол-чьем, а ведь это — целое произведение про то, как медвежий волк его чуть было насмерть не завалил, да сам завалился в математически точном и находчивом поединке. Или опять же оленьего лося на нём бахилы — тоже целое произведение про то, как лось этот олений чуть было его насмерть не завалил, да сам…
А ты бегай, дивный зверёк, струистая зверь, дичь, красоты бесподобной дешёвка, — пока ты живьём и на воле. Дешёвка твоя божественна. Сильно подорожаешь, мордочкой и лапками свисая с гражданки в горжетке или с портрета отдельной твоей головы на стене. Бойся, трепетная дешёвка, так сильно подорожать!.. Все мы смертны. Всё ещё впереди. Даже то, что сзади.
Но душа никогда не бывает в гробу.
Мини стерство раз валин Министерство развалин
Кураж
Отвага, задор, развязность, понты, наглофильство и нагломания вкупе с бухгалтерией страха. Всё это вместе — кураж.
Главное — впаривать, впаривать, впаривать и чтобы цепляло, цепляло, цепляло! — эта мантра поётся до завтрака, натощак, и перед сном, в темноте, а также в любое время перед спектаклем, концертом. Слово «впаривать» поют животом, а слово «цепляло» — горлоносом, всё тело должно гудеть, как труба, в которой пасётся табун с бубенцами.
После всех королевских почестей и торжеств, поливаемых лестью, золотыми дождями льгот и безразмерных благ, знаменитый астрофизический старичок решил повидаться с друзьями детства, достигшими также кое-какой известности в далёкой глухой провинции глобуса, где он когда-то родился, резвился и произвёл свои первые опыты в храмах неслабой науки.
Старичок оплатил этим провинциалам дорогу, скромную гостиницу и недельное проживание. Они были счастливы! Бешеный успех знаменитого старичка погрузил их в гипноз неописуемого восторга и упоения, где расцветали сады самых невероятных надежд. Их дальнозоркая, истерически преданная любовь к астрофизику, позавчера увенчанному всеми коронами планетарной славы, возникла внезапно и, как всё внезапное, била ключом, фонтаном, каскадами, превращаясь по ходу дела в потоки яростной страсти, не говоря уж о таких мелочах, как брызги платонически нежных слёз.
Приодевшись, побрившись, благоухая, они прилетели в среду, быстренько разместились в гостинице и собрались в небольшом вестибюле. Старичок явился туда, приодевшись в тот пиджачок, в котором когда-то, давным-давно, лет двести назад или триста, он улетел из глухой провинции. Брюки тоже были от этого пиджачка. Некогда коричневые, стоптанные полуботинки, в которых двигались отдельно от ног фиолетовые, как чернила, прозрачные от износа носочки, тоже были оттуда. Нейлоновая сорочка из тех же времен той же местности была тесновата и потому расстёгнута на животе, прикрытом изношенной майкой из того ещё трикотажа, натурально хлопчатого.
Изображая хромающую, полусогбенную, неуклюжую плоть, он сиял и лукаво щурился, обнимая, похлопывая, символически чмокая поцелуйно своих дорогих гостей. Иногда и пускал слезу, но не дальше воспалённых розовых век и, тем более, не дальше ресниц. Слеза была глубоко искренняя, но трудно сказать — от чего?.. От радости, от сострадания, от злорадства, от дружеских чувств, от грусти, от боли, от роли, которую он играл?.. Содержание этой слезы сверхсекретно, окутано тайной, затуманено «пиротехническими дымами», как прописано в этом кино, в режиссёрском сценарии куража.
Астрофизический старичок повел их в «Макдональдс», заказал всё, что там было в меню, всемером они вынесли двадцать один поднос и под его предводительством отправились в путь, в потайное местечко, где можно вполне семь дней пировать на развалинах.
Развалины были прекрасны, грандиозная смесь бутафорской археологии с натуральной древностью пыли, обломков, осколков и комьев, замешенных на крови беспощадных сражений, сокрушающих царства, сжигающих города, истребляющих племена и народы. Сидеть на этих развалинах не было ни малейшей возможности, все их выступы и зигзаги вонзались немедленно в мякоть и кость, потому пировали там, стоя и разминаясь энергичной ходьбой вокруг старичка. Еда из «Макдональдса» тоже никак не держалась на острых гранях развалин, подносы съезжали, скользя, а сами пакеты с едой проваливались в глубокие трещины. Всё, что было в пакетах, пришлось рассовать по карманам, портфелям и сумкам. Портфели и сумки пришлось, пируя, держать под мышкой, на плече или повесить себе на шею. Ну, это все — мелочи в сравнении с тем, что портфель или сумка, а также подносы с бумажными кружками кофе и другими напитками, если там их поставить на землю, немедленно и безвозвратно проваливались в бездонную толщу пыли, буквально в пропасть, набитую пылью веков. Если бы эти подносы и все остальные вещи бегали на своих ногах, никуда бы они там не проваливались, — пыльная бездна всасывает только то, что стоит на месте и само никуда не движется.
Семь дней пировали семеро в этих грандиозных развалинах, без остановки бегая вокруг знаменитого астрофизика, который без остановки бегал, размахивая руками, излагая свои прогнозы всех наук и всего человечества. Когда кончалась провизия, он звонил в «Макдональдс» и просил доставить в эти развалины двадцать один поднос правильно упакованных напитков, горячих и холодных закусок.
Острые выступы, грани, зубцы, зигзаги развалин и мягкие пыльные пропасти шуршали, потрескивали, шептались, вздыхали, превращая каждое слово и каждую бессловесную мысль бесподобного старичка в гипнотическое, многократное эхо, которое каким-то чудесным образом вдалбливало в мозги, что ценность каждого из пирующих здесь равна нулю и всосётся в пыльную бездну, если не будет посвящена целиком великому делу разжигания славы знаменитого старичка и его астрофизической суммы трудов. И только в свете пламени этой славы каждый из них превратится в нечто особенное, когда уже никому ничего не надо доказывать.
Один из пирующих так заслушался, так проникся, так наполнился эхом той благодати, когда уже никому ничего не надо доказывать, что застыл на месте и немедленно провалился в пыльную бездну по самые яблоки, но вшестером его схватили под мышки и стали ритмично тащить рывками на раз-два-три. Вытащили, однако, без башмаков, без носков и без брюк со всеми деньгами, билетами, ключами, записочками, что были в брючных карманах. Но старичок позвонил и заказал ему новые брюки, носки, башмаки, билеты, ключи, записочки, которые вскоре прибыли по адресу этих развалин. И новые деньги вложил он в новые брюки.
На седьмой день вечером все они вернулись в гостиницу, обнялись в слезах на прощанье и пошли отсыпаться перед отлётом, стряхивать пыль веков, укладывать чемоданчики.
Рано утром, когда все ещё сладко спали, весь город, не только залётные гости этой астрофизически правдивой истории, старичок в отличном костюме и башмаках такой знаменитой фирмы, что и страшно сказать, выскочил из подъезда гостиницы бодро и весело, распрямясь и сияя. Был он молод, крылат, свободен, как человек, спасшийся чудом от каторги, сбросивший чудовищный груз катастроф, кровоточащей и уязвлённой памяти. Он летел навстречу автомобилю, стоявшему в переулке. В этом городе в это время шли золотые дожди, и роскошный плащ с клетчатой подкладкой был на плечи наброшен и летал, обливаясь золотом дождя у него за спиной. Из автомобиля вышел приятель, за ним приехавший, и после объятий спросил: «Ну как?..»
В ответ он запел, катая зрачком астрофизическую слезу: «Главное — впаривать, впаривать, впаривать и чтобы цепляло, цепляло, цепляло!..»
Страшно и весело
Вася Козодоев, ученик пятого класса очень приличной школы, обожал мучить женщин почтенного возраста.
Всё началось со свинки, с такой детской болезни. Пришла участковый доктор тётя Света, полезный для случаев жизни друг дома, человек необыкновенной сердечности — всегда перед контрольной справку напишет, чтоб зря ребёнку нервы не портили, не напрягали, не причиняли моральный ущерб и психотравму.
А тут — настоящая свинка, осложнения могут быть самые огорчительные, всем известно какие!.. И она говорит:
— Лежать две недели, греть синей лампой, семь дней пить лекарства, три дня колоть в попу.
А на дворе — весна, солнце, зелень, скворцы, карусели, качели, пацаны играют в футбол. Отвернулась врачиха рецепты писать, а Вася ей тут как тут английской булавкой — в самую мякоть! И хохочет, звонко так заливается.
— Ты что?.. Ты зачем?.. Я же к тебе с добром…
Отвечает ей Вася Козодоев:
— А мне страшно и весело! Страшно весело мне!
Участковая тётя Света вышла на цыпочках в коридор и сказала Васиной маме на ухо шёпотом:
— Надо бы мальчика психоневрологу показать. Наш психоневролог — очень продвинутый человек, кандидат меднаук и экстрасенс, всё понимает…
И она деликатно положив на ладонь Васиной мамы английскую булавку, вздохнула сочувственно и махнула рукой на прощанье.
А Вася, накинув махровый халат и обмотав свою свинку шарфом, выскочил на балкон, огляделся и увидел внизу старушку, которая шла себе, шла с кефиром в авоське и с маленьким ванильным сырком. «Сейчас пройдет старушенция под нашим балконом, будет страшно и весело», — подумал Вася и прицелился в старушку зелёной бутылкой из-под воды «Тархун».
Бутылочка эта была маленькая да удаленькая — бац старушку по голове, и за той старушкой прикатила скорая помощь. Народу сбежалось штук двадцать, все на Васин балкон показывали, Васе было страшно и весело!
А к Васиной маме пришел участковый милиционер Урюченко, поскольку сам Вася ещё несовершеннолетний и за поступки его целиком отвечают родители. Участковый сказал, что если у Васи не будет психической справки, его обязательно поставят на учёт в детскую комнату — ведь с балкона бутылками в разных гражданок швыряется он постоянно, только не всегда попадает так метко.
— Будет, будет вам справка! У всех есть, и у нас будет! — сказала Васина мама.
И через месяц, когда свинка прошла, она повела бутылкошвырятеля к психоневрологу.
Участковый психоневролог Картошкин показал Васе карандаш и авторучку:
— Как ты думаешь, Вася, что между ними общего?
— Что в ухе можно чесать! — ухмыляясь, ответил Вася и для убедительности засунул поочередно оба предмета в ухо и добросовестно там почесал. Ухо зачавкало.
Видя такое, доктор Картошкин выписал для участкового милиционера Урюченко справку, что Вася находится под наблюдением и проходит курс долговременного лечения. С тех пор Васина жизнь превратилась в одно нескончаемое удовольствие, в сплошное кино: то почтальонше в сумку пописает, пока она ищет, где за ценную бандероль расписаться, то гражданку дверью лифта прихлопнет и с хохотом держит кнопку давления, — страшно и весело!
Вскоре стала болезнь его расцветать с той особой наглостью, что по воле таинственных сил вызывает ответный удар. Он залез на чужую дачу с такими же больными приятелями, а там хозяйка — зверь, кусается и царапается, к водке не подпускает, консервы не отдаёт, костылём лупит, люто обороняется, вопит «караул!», на помощь зовёт. Сбил её Вася с ног, сапогом стукнул по внешности — сторожиха примчалась, в свисток дунул а!.. Страшно и весело. Сдали Васю в милицию.
Опять неприятности, психосправка нужна. Ведут Васю к другому психоневрологу, к широко известному в международных кругах профессору, фамилия его Шмуцтитул. И говорит мудрый Шмуцтитул ласковым человеческим голосом:
— Василий! Какой предмет, какое занятие вы любите больше всего, получая от него удовольствие? Выкладывайте начистоту! Можете ничего не бояться и ничего не стесняться, врачебная тайна — святой закон! А у каждого человека в мозгу, Василий, есть зона удовольствия. И очень многое, если не всё, в судьбе человека зависит от того, чем, как и в полной ли мере эта зона удовольствия насыщается.
— Женщин люблю. Мучить. Мучить люблю женщин. Люблю женщин мучить. Женщин мучить люблю, — запел профессору Вася на свою музыку, барабаня по столу молоточком.
— Понимаю вас, понимаю! — сочувственно произнес Шмуцтитул и глубоко заглянул Васе в душу своими огромными, нездешними, гипнотическими глазами. — А почему? По какой причине, мой юный друг?
— А ни по какой! Люблю, когда страшно и весело. Дух захватывает. С разными людьми интересными встречаюсь, вот с вами, к примеру. С Картошкиным. Нравится мне ваша профессия. Наблюдаю, делаю выводы, учусь жить. У школяров скучная жизнь, а у меня — дым столбом!
И сказал Шмуцтитул Васиной маме:
— Вы где, простите, работаете или служите?
— Я всё могу! — загадочно вздохнула она, заглянув Шмуцтитулу в самую душу своими огромными, нездешними, гипнотическими глазами с дьявольской искрой.
— Пристройте мальчика к делу на той лестнице, которая едет сама и везёт стоящих на ней к бешеному успеху, — сказал Шмуцтитул. — Там страшно и весело, страшно весело…
И пристроили Васю к делу на той лестнице, где зона его удовольствия была заполнена круглые сутки. Он уже министру докладывал о своих заграничных поездках, где провел успешные переговоры, улучшая наш нехороший имидж. Он получил уже всемирную премию Медузы Горгоны за гендерный креатив и серию научно-художественных философских работ, посвящённых борьбе за права женщин. Шмуцтитул был абсолютно счастлив, получая его автографы. И только Урюченко, хмырь участковый, нос воротил, встречая кое-когда Васину маму.
Но случилось невероятное… Козодоев Василий стоял на балконе, смотрел вниз, и было ему страшно и весело от того, что внизу — люди такие малюсенькие, ножками топ-топ. Он порядочно выпил на радостях французского коньяка из большой чёрной бутылки, в которой осталась теперь одна только чёрная пустота. И, впадая от счастья в детство, он вдруг запустил коньячной бутылкой в старушку, которая ножками топ-топ где-то совсем внизу.
А старушка была циркачкой, она бутылку поймала и, раскрутись, как метательница олимпийского молота, со всего размаха возвратила эту бутылку на тот балкон и снайперски шарахнула Козодоева — прямиком по зоне удовольствия. Он чуть не сошёл с ума перед тем как рухнуть!.. Старушка сбежала. Исчезла бесследно. Растворилась, как соль, как сахар.
Приехала скорая помощь, отвезла пострадавшего в реанимацию, врачи сказали, что это — инсульт. Пациент вопил, что старушка, которая шла по Земле под его балконом, поймала бутылку и снизу попала ему в голову — на двенадцатом этаже. Но врачи сказали, что при инсульте бывают такие бреды, галлюцинации… Профессор Шмуптитул абсолютно с ними согласен.
«Только для иностранцев!»
…в сущности, интересует нас в жизни одно:
наше психическое содержание.
Иван ПавловКогда мужской человек подарил мне карманный фонарик, свет которого так слепит, что подонки с мерзавцами падают в обморок, — всё было очень дёшево, но не было почти ничего.
Однажды я вышла в город с английским лордом, а на всех магазинах, кафе, ресторанах, кассах воздушного флота, где всё было очень дёшево и было всё-всё, — висят в роскошных оправах огромные объявления на русском и на английском: «ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ!», «ЗАКРЫТО. ВХОД ВОСПРЕЩЁН. ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ!», «ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН КАПСТРАН! ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ ВАЛЮТУ ШВЕЙЦАРУ ПРИ ВХОДЕ!»
Лорд улыбнулся загадочно:
— Когда мои предки жили в колониальной Индии, они добирались до Лондона поездом и пароходом. Однажды они спросили начальника станции: «А в котором часу наш поезд отправится в путь?» И начальник станции ответил с поклоном: «Ваш поезд отправится, как только вы пожелаете. Мы ждём, господа, и готовы давно!..»
— Как всем известно, — лорд продолжал не спеша, — потом мои предки бежали из Индии поездом и пароходом в Англию, которая после Индии показалась им крошечной и катастрофически тесной для постоянного проживания. Тогда очень многие впадали в отчаянье, разорялись, сходили с ума, кончали самоубийством. Но мои энергичные предки продали драгоценности, а деньги и кое-какие высокие связи вложили в успешное дело и дали детям очень хорошее образование, ведя достойный вполне, но не расточительный образ жизни. Ну, если у вас тут всё «ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ», я пришлю вам достаточно лордов, чтоб вы могли предъявлять их у входа швейцару. Замечательная идея!..
И он прислал. Не все они были лордами, но все — докторами философских наук. Все подряд, даже химики, физики, математики. Не говоря уж об историках, искусствоведах, лингвистах, юристах. Ученая степень у них такая, одна на всех, РНД — философии доктор.
И вдруг разрешили мне «разрешисты» выехать — впервые в жизни! — за нашу границу-храницу, на замечательное международное мероприятие в Кембридж по приглашению Шекспира и его компании. Сперва очень долго по этому приглашению хотели всучить кого-то другого, но Шекспир и его компания наотрез отказались.
Наконец, я пытаюсь купить билет и вылететь в Лондон, без которого нет никакого пути мне в Кембридж. А в продаже билеты есть, но «ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ» и только за их замечательную валюту, мне такую валюту иметь — строго запрещено по закону, и, если я преступлю закон, меня арестуют!.. Шекспир и его компания шлют из Лондона мне билет в оба конца.
Но дальше — всякая очередь на аэродроме делится на две, исходя из качества паспорта и паспортного гражданства. «ГРАЖДАНЕ ПАССАЖИРЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ ВЫЛЕТЕТЬ НАШИМИ РЕЙСАМИ! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОФОРМЛЕНИЕ И ПОСАДКА НА САМОЛЁТ — ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЖЕЛАЮЩИХ ОБСЛУЖАТ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ, ЕСЛИ ХВАТИТ МЕСТ». Три раза мне не хватает мест. На четвёртый день я вылетаю, до конца замечательного мероприятия остаются одни сутки, и меня в Лондоне на аэродроме, вероятно, уже никто не встречает, трое суток встречали, перестали надеяться. Как же я доберусь до Кембриджа, если плюс ко всему по жизни так вышло, что у меня — топографический идиотизм, никуда не могу добраться даже по карте?..
Место моё в самолёте оказалось рядом с молоденькой индианкой, на руках у которой был крошечный мальчик изумительной красоты, в ползунках с блёстками. Он сосал из бутылочки молоко смуглого цвета и как бы спал, одновременно играя и разговаривая на преджизненном языке. В самолёте было много индусов с башенками невероятно красивых тканей на голове, башенки этих тканей были увиты жемчугом и разноцветно сверкающими камнями, очень похожими на самые настоящие драгоценности. И все индусы были с маленькими детьми, некоторые — с двумя и тремя, на маленьких детских головках тоже были такие прекрасности. Они гуляли с детьми по проходам, сияя божественными улыбками. А дети сидели у них на руках, покачиваясь, как сказочные ветки деревьев, на которых растут золотые яблоки, жар-птицы поют и катается жемчуг небесной росы.
Стояла зима, сугробная, метельная и с морозцем. А рядом со мной индианка была в серебряных ремешках на босу ногу, и голый живот её цвета оливок мелькал между складками сложно-струистой одежды из прозрачного шёлка. С улыбкой нездешней прелести она обратилась ко мне и сказала нечто невероятное:
— Не сомневайтесь, вас очень ждут на аэродроме. Когда самолёт приземлится, идите за мной, только не отставайте, в такую погоду мы ходим быстро. Я приведу вас туда, где вас очень ждут.
Заметьте, она не добавила к этому «И не спрашивайте, откуда я всё это знаю»!.. Потому что я знала прекрасно — откуда. И она это знала.
Когда самолёт приземлился, объявили: «В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫХОДЯТ ГРАЖДАНЕ С ИНОСТРАННЫМИ ПАСПОРТАМИ! ВСЕ ДРУГИЕ ПАССАЖИРЫ НАШЕГО РЕЙСА ОСТАЮТСЯ И ЖДУТ НА СВОИХ МЕСТАХ!»
Индианка взяла мой паспорт, и её шёлковые одежды, ритмичность походки, качания головы и укачивания ребенка включили меня в поток иностранцев-индусов и вывели из того самолёта, ритмически охмурив стюардессу, проверявшую паспорта.
На аэродроме в Лондоне пропускали в первую очередь граждан безупречных капстран. Граждан Индии пропускали не в первую очередь, но не в последнюю. А в последнюю очередь пропускали известно кого…
Когда меня, наконец, пропустили, индианка к тому времени успела снять с багажного эскалатора два чемодана — свой и мой, которого в жизни она не видела, да и я бы его не нашла среди множества точно таких же, если б не золотистая ленточка, мной привязанная для узнаванья.
Шла индианка так быстро, что я задыхалась, еле-еле за ней успевая, да и скользкая была под ногами дорога, то крутая — вверх, то покатая — вниз.
— Вот люди, которые вас очень ждут, — сказала она. — Вы никогда их не видели, но это Шекспир и его компания. Не волнуйтесь, всё будет прекрасно!.. Вы только представьте себе, как прекрасно всё это будет! — И она улыбнулась мне на прощанье, сияя любовью, которая — высшая тайна и высшее знание.
Шекспир и его компания вовремя привезли меня в Кембридж, за три часа до скончания того замечательного мероприятия. Но этих часов мне хватило вполне для чудес Книготворения и Рисункописания.
На обратном пути я везла какую-то штучку, без которой не мог работать компьютер учёного в глухой российской глубинке. Учёный был всемирно известен, а у него эта штучка сломалась, и компьютеров здесь тогда не было почти что ни у кого, исключая, естественно, иностранцев. И вот один всемирно известный английский учёный попросил меня провезти эту штучку для другого учёного. Обожаю такие всемирно полезные штучки!
Ещё на обратном пути я везла себе книги, которые были простительны ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ! Книг было очень много, тридцать два килограмма, в коробчатом клетчатом мешке на колесах.
— Это что же у вас там такое? — спросил таможенник.
— Книги, — я говорю, — книги, художественная литература.
Таможенник был начитанный, он заглянул в мешок и увидел, что литература там, действительно, вся художественная… Но, пока он раздумывал, что со всем этим делать и как со мной поступить, мимо прошел лорд и хладнокровно покатил мой мешок с книгами — как свою кладь, своей иностранной ногой, в башмаке ручной работы, толкая мою художественную литературу к выходу в город, где я была ему благодарна за такую находчивость в чаплинском ритме!..
Совсем не то поразило меня на Западе, что там все есть и всего очень много. Одной вещи там не было начисто, вот этой: «ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ!»
Страна моя грохнулась вдребезги, подстелив под себя соломку, в которой была эта страшная мина: «ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ!». Образовалось общество с очень общественным мнением ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. Для этого общества и для его иностранцев наступили чудесные времена, которые я назвала гестапо успеха. Но образ, как говорят теперь — имидж, нашей страны среди иностранцев почему-то так сильно ухудшился, что надо теперь платить иностранцам за его улучшение.
Иногда я спрашиваю у того чемодана, что индианка сняла с багажного эскалатора на лондонском аэродроме «Хитроу»:
— Откуда она узнала, что ты — мой? Можно читать мысли. Но тебя в моих мыслях тогда не было, это я помню точно.
— Я сам ей сказал!.. Золотистой ленточкой. Меня в твоих мыслях не было, но ты в моих мыслях была.
— А не стать ли нам с тобой иностранцами, чтобы цену свою повысить, чтоб улучшить свой образ, «имидж» — и здесь, и там, и там-сям?.. — я его спрашиваю.
Он хохочет всеми гармошками, всеми листьями Книготворения и Рисункописания, которые в нём хулиганят.
А мимо бежит собачка со всеми подробностями, такая себячка с дамой.
Оптика
Сообщение о том, что ночь была тёмной и дождливой, считается образцом дурновкусия в англоязычной литературе. Но была эта ночь такова.
В жизни много раздражизни. За героями идут мародёры, которые побеждают, берут власть и с хохотом назначают героев идиотами века. Такая берлогика. Конкурс на лучшую мужскую грудь. Победителей не судят. Мучитель сидит в мучительской и побежденным ставит мучительские оценки за мучительские задания. Особо старательным выпишут чек на отрезанное ухо Ван Гога и вручат «Самоучитель икры на гитаре».
Часы бутикают под гдеревом сексаул, на котором растут трусы. Подсказки народов мира. Русские народные подсказки. Подсказки тысячи и одной ночи. Одна из них непременно будет дождливой и тёмной. Подсказки темной, дождливой ночи. Такой вот новый жанр напол-нолунился и свалился с луны на землю.
Где?.. В гдействительности. В гдетской книжке у Пришвина «собачка что-то причуяла» (желательно ставить кавычки и не тырить, не тырить…). А когда собачка причует, надо или сидеть столбиком, впадая в статуй-ство, или бежать во все стороны, или юркнуть в подземство (международное название — андеграунд).
Душили пожар всю ночь. А ночь была темней и дождливей, чем ожидалось. «Иракцев — больше, чем ожидалось», — говорит Евроньюс. А сколько их ожидалось?.. И где?.. Гдевочка говорит: обагдадились, обелградились, обафганились, обиранились. Где словечки её растут? На гдереве гдетства. Писать надо бы с большой буквы, как делают немцы. На Гдереве Гдетства у Гдеда-Мороза.
— О чём эти цветы? — она спрашивает.
— Колдун никого не кушает. Он исчезает их.
Через малую длительность вдруг возникла гдействительность исчезновений. Исчезли: горчичник плоский, международное право, общедоступность трески, обязательное среднее школьное образование, самокат на подшипниках, репертуарный театр, расплата за пытки, варежки на тесёмках. Завелись нагломаны, наглофилы и наглофобы. Нагломания стала витамином успеха. Потусторонним вход воспрещен.
Потусторонних всячески обзывают, колошматят железом, ногами, режут бутылками с выбитым дном. Потусторонних оказалось вдруг больше, чем ожидалось. Потусторонние стали бомжами и выглядят потусторонне, потусторонне питаясь на потусторонних помойках. Возле больниц они замерзают потусторонне. Потусторонним вход воспрещен.
Когда кислородное голодание, — часто зевают. Герои зевают часто. Миф, легенда и анекдот — их почётное место, пенсии вместо. Пьют они ерунду из отчайника и жуют сообща, каждый свою, переживательную резинку. А ночь — темней и дождливей, чем ожидалось. Страшно схватить паралич, инсульт, инфаркт, диабет, простатит, гангрену, Альцгеймера, Паркинсона и прочие крабы. У всех героев бессонница, древнегреческий хор и вестник — шпион древнегрецких богов.
Но бывает и проще того. Слёзы текут, в глазах — горячий песок, в затылке хрустят и булькают шейные позвонки. Потусторонний герой идет к нагломанскому аппарату, и оттуда выскакивает такое высокое внутриглазное давление, что зрительный нерв отдаёт концы, и свет вырубается.
Занавес. Зрение само по себе замечательное, а света нет никакого, и ни хрена не видно.
— Ты будешь видеть то, чего никто!.. — сказал оракул. — Надо было раньше, гад героический, раньше вести здоровый образ жизни, пасти овец, пахать и сеять, сыры варить, пушнину ловить, а не сидеть в одной и той же вредной позе, над писаниной голову склоня, мешая клеткам правильно питаться.
— Оракул, сжалься, дай мне капель, снизь давленье в глазках!
— Отстань! Я не аптека. Ваши капли ведут народ к хирургам в глазорезку. А страх подъемлет ваш иммунитет. Страх слепоты тебе откроет нечто. Ты слеп сейчас и был слепым всегда. Одну стекляшку дам тебе на пробу…
Оракул даёт герою стёклышко от пивной бутылки. Герой залезает, как в Гдетстве, на Гдерево и видит в стёклышко свои образ жизни, ужасный, смешной, убийственный. За героями идут мародёры и с хохотом назначают героев идиотами века.
Он выплёвывает переживательную резинку. Его более ничто не волнует, кроме счастья всё это видеть своими глазами. Он идёт в дорогую оптику к оптимисту и заказывает себе очки из того самого стёклышка, что дал оракул на пробу. Оптимист выбирает оправу и делит стекляшку надвое. Стёклышко от оракула — вещь растяжимая, видно и по ту, и по эту сторону вопроса. Очень дорого. Торг невозможен. Это ведь не именная (газовая!) плита на площади звёзд.
Это звёздочки счастья — видеть своими глазами чудесные ужасы и ужасные чудеса собственной жизни.
— Ну как тебе? — спрашивает герой, выходя из оптики.
— Ночь была тёмная и дождливая, — отвечает оракул, делая вид, что они незнакомы и всякий ответ безразмерен.
Всемирно известный кот
За окном плескал снегодождь, а на кровлях — до самого неба ворочался и дрожал холодец тумана, и в этом студне ветер скулил и посвистывал, мяукал и каркал. До нашей эры в такую погоду рождались эпос и лирика, мудрецы говорили загадками, сжимая до звёздной плотности свой опыт на этом свете, а также на том.
Всего прекрасней в такую погоду быть на Земле ребёнком, у которого есть роскошная собственность — Берег Молочного Зуба, Остров Среднего Уха, Долина Верхних Дыхательных Путей, красное горло и насморк, дающие полное право копаться в саду чудес, где мелочи жизни растут вразброс.
Но стоит на них обратить внимание — и вдруг все эти мелочи, как на магнит, на это внимание неукротимо движутся, скачут, текут, притягиваются, и в таком намагниченном виде прежняя их разбросанность, даже несовместимость, самым чудесным образом связует весь мир насквозь.
Маляр дядя Петя добавил в ведёрко с краской пузырек тараканьей морилки, как следует размешал и мазнул кистью по стенке. Работа пошла быстро и весело, вверх — вниз, вверх — вниз, краска была абрикосовой, сочные кляксы шлёпались на пол, устланный жухлым картоном.
За стеной на плите варилась баранина с рисом и овощами, в два часа полагалось рабочих кормить. Кроме этого маляра, было ещё два сантехника, один ушел отключать горячую воду, другой поехал за сварочным аппаратом.
Фрэнк Аллигатор (аллигатор — такой сорт крокодила в переводе на русский), всемирно известный писатель, который лет сорок назад «дал беспощадный портрет своего поколения», сейчас в элегантно мешковатом костюме хорошо пропечатался в левом углу свежей газетной страницы, украсив своим процветающим видом интервью итальянскому еженедельнику «Эспрессо». Всемирно известный вертел хвостом и мурлыкал о проблемах всего человечества и о себе.
Мальчик лет десяти, с компрессом на горле, пил в постели отвар травяной из алтайского сбора и томился в болезни. Кроме жестокой ангины у него была аллергия на краску. Из трещины в потолке сыпалось нечто вроде махорки — этажом выше учили девочку играть на фортепьяно. В сравнении с этой игрой дребезжанье и звон трамвая под окнами казались волшебными звуками арфы. Там, над трамвайной дугой, иногда разноцветные сыпались искры, а в стеклянной кабине трамвая сидел машинист и выпускал человека на любой остановке. Мальчик мечтал удрать из дома на улицу, проскользнуть в приоткрытую дверь, шесть этажей проплыть по перилам, выскочить в подворотню и в распахнутой настежь куртке долго-долго бежать против ветра — до самой смерти.
У кровати стоял широкий дубовый стул, застланный свежей газетой. На газете светилось белое блюдце с яблоком, из яблока торчал черенок с тёмно-зелёным листиком — если дунуть, листок дрожал. А под ним на стуле Фрэнк Аллигатор с молодецкой улыбкой старался попасть в самое яблочко:
— Как вы относитесь к своему успеху?
— Мой успех — ослепительно сбывшаяся мечта. Мои личные планы всегда сбываются с полным блеском. Всё, что касалось лично меня, всегда складывалось наилучшим образом. Я убеждён, что все мы в известном смысле где-то свыше запрограммированы. Лично я запрограммирован исключительно на успех.
В этот миг во дворе истерически завыла сирена, чьё-то авто раскачалось от ветра, и в нём сработала сигнализация.
Всемирно известный кот продолжал, между тем, отвечать на волнующие корреспондента вопросы:
— Значит, вы принадлежите к истеблишменту?
— В высшей степени, более чем… Меня раздражают представители истеблишмента, играющие в этаких бунтарей. Но это отнюдь не значит, что я солидарен с истеблишментом: просто такие люди, как я, ему дозарезу нужны. И принадлежу я к истеблишменту исключительно потому, что у меня есть большие пушистые деньги. Не будь их, на меня бы там не обратили ни малейшего внимания.
В этом месте процветающий Аллигатор дал возможность фотографу-итальянцу запечатлеть убойное электричество своей волевой улыбки.
Постой! А чей это труп всё дальше уносит река? —спрашивал индийский поэт Шрикант Варма в соседней колонке…
У мальчика слезились распухшие веки, он утирал их углом простыни. Читать всемирно известного было так трудно! Очень хотелось яблока, но тогда оторвался бы тёмно-зелёный листок и погиб, стал бы мусором, ни на чём не держась.
Маляр зашёл, пересчитал окна, их было два и балкон.
— Ты умеешь в шахматы? — спросил он у мальчика.
— Умею… Но часто проигрываю.
— В обед сыграем, и ты обязательно выиграешь! А пока поскучай.
Мальчик прилёг щекой на подушку, а всемирно известный кот облокотился на что-то глянцево-гладкое. Правой лапой он дружески взял себя за левое запястье, как бы считая свой замечательный пульс, и продолжал отвечать в самое яблочко:
— Где вы живете?
— В столице мира, в огромном городе, который отнимает так много времени! Это не город, а совершенно особенный мир, потрясающий! Когда-то давно я обосновался в маленьком городке, но там очень быстро мне всё надоело, рутина и скука, стало невмоготу. В то время было там жителей — кот наплакал. А потом появились туристы, началось процветание. Но туристы боролись с кусавшими их комарами посредством ДДТ и вместе с комарами погубили прекрасных птиц и местную флору. В общем, «после нас — хоть потоп». Правда, у нас не многие знают эту французскую поговорку.
— Почему же французскую? — спросил Аллигатора мальчик. — Я думал, она русская. Во всяком случае, мы все её знаем.
Всемирно известный кот ему подмигнул и снял пиджачок. Он повесил его на стул у балкона, давая понять, что в комнате стало жарко: то ли слишком топят, то ли здесь у кого-то выросла температура.
Этажом выше хлопнула крышка фортепьяно, толстая девочка спрыгнула с вертящегося стула и помчалась на кухню, где булькал суп с фрикадельками. Учительница музыки покашляла на площадке и уехала в лифте, для бодрости отпуская себе пощёчины и вращая глазами.
Стало тихо и слышно, как за окном снегодождь превращается в дождеснег.
Всемирно известный спохватился и напоследок пролепетал:
— Нам не мешало бы призадуматься… У некоторых субъектов больше денег, чем у целого штата Вайоминг… я хочу, чтобы такое положение изменилось. Мы, богатые, только давали деньги в виде налогов, но сами ни во что не вникали… и беднякам приходится туго.
Теперь он сидел за тюлевой шторой у батареи, приводил свою внешность в порядок, вылизывал и распушал, и несносно шуршал своими большими деньгами:
— Истеблиш-ш-ш, теблиш-ш-ш, теблиш-ш-ш!
Всемирно известный ни за что не хотел уходить в такую плохую погоду. Там, где включали и выключали его вдохновение, где раз и навсегда запустили двигатель его счастливой судьбы, он не был запрограммирован ждать трамвая на этом промозглом ветру, на слякотном перекрестке, где имей ты хоть триллион самых лучших на свете денег, на тебя всё равно никто не обратит никакого внимания. На мальчика с цуцыком за пазухой — да! На старика с попугайчиком в рукаве — да, безусловно! На бледную немочь с виолончелью — пожалуйста! На них в этом климате на остановке трамвая обращают внимание или даже очень большое внимание. Но на тех, у кого такие большие пушистые деньги? Или на тех, у кого всегда всё складывается слишком благополучно? Или на тех, кто живет в абсолютном довольстве? Ноль внимания, фунт презрения! Такой у нас перекресток.
Поэтому он, всемирно известный кот, ни за что не хотел идти на нашу трамвайную остановку и шуршал своими деньгами на стуле, на подоконнике, даже вертелся с ними на кухне, чертыхаясь на маляра за то, что он добавляет в краску тараканью морилку, уничтожая прекрасных птиц.
— Брысь, полосатый, усатый! — отшучивался маляр. — Тоже мне, прекрасная птица — таракан, который сидит на тарелке и колотит по ней своей кожаной задницей!
— А не пора ли тебе, маляр, вспомнить французскую поговорку «после меня хоть потоп»? — взывал к его совести всемирно известный кот.
— Конечно, в такую погоду не вмиг проветрится, но никто же не спит на кухне! А летом, знаешь, какая очередь на ремонт? Небогатому человеку туда не прорваться, — говорил маляр, отрезая кусок горячей баранины.
Всемирно известный вернулся в комнату и разлёгся, назло мальчику продолжая шуршать:
— Истеблиш-ш-ш, теблиш-ш-ш, теблиш-ш-ш!
Эта жвачка звуков с чавканьем и шипеньем заклеивала мозги, барабанные перепонки, раздувалась отёком в гортани, распузыривала на теле волдыри крапивных лепёшек. И от этого мальчик в мыслях заплакал:
— Ты же сам говорил, что у вас беднякам приходится туго. Отдай свои деньги бедным и перестань, наконец, так противно ими шуршать!
Всемирно известный, услышав такое, задрал свой пушистый хвост, угрожающе выгнул спину и рявкнул:
— Меня раздражают представители истеблишмента, играющие в бунтарей! У меня есть большие деньги, я запрограммирован ими шуршать. Я терпеть не могу, когда на меня не обращают внимания!
Из него посыпались искры зелёного цвета и синего. В этих искрах он пукнул развесисто.
Мальчик отлепил от подушки свой горячий, мокрый висок, вылез босыми ногами из-под раскалённого одеяла, отодвинул громоздкий стул, на котором светилось белое блюдце с яблоком, подошёл к окну, сгрёб всемирно известного и выпустил в форточку.
Всемирно известный отчаянно цеплялся за штору, царапаясь и сверкая фосфорическими зрачками. Он пытался захлопнуть форточку лапой, закрыть на крючок, и ни за что не хотел он прыгать на мокрый балкон и спускаться оттуда на улицу по скользкой пожарной лестнице в такую промозглую, мерзкую погоду, как наша!..
От сильного ветра листок на яблоке зазвенел и отпал. И на обратном пути мальчик съел это небесно прохладное яблоко, не просыпаясь. Но видел, что блюдце продолжало светиться, и каким-то чудесным образом свет его постепенно превратился в новое яблоко. С листиком.
Корнеплод
Красавица репа, янтарная, гладкая, сладкая, звонкая и сияет. Кое-где по бокам одинокие нитки вьются, — пришита была к земле, да вырвали вместе с нитками, ухватясь за хрустящий куст кучерявой ботвы, за чубатую гриву, за репник, репняк…
На просторах, дождливых и ветреных, на полях, измождённых свирепостью-репостью героических будней, окопался сказочный наш витамин, персонаж карнавальный. Проще пареной репы, всем народом навалились, вытащили репку и отправились в Сибирь: дедка — за репку, бабка — за дедку, внучка — за бабку, жучка — за внучку. Всем по репе настучали!..
А помидор с огурцом для наших сказок гниловаты, не тянут на вечность, мало овощехранилищ. Другое дело — Италия. Несмотря на Муссолини, там навалом овощей, на русский не переводимых. В итальянских сказках они кувыркаются, строят интриги, зловредные козни, а также себя проявляют с наилучших, благородных, непрогнивших сторон.
Но репка, репочка, репушка, репонька наша, в особенности турнепс, — вещь ни с чем не сравнимая в годы испытаний. Драгоценней всех изумрудов сей корнеплод.
А годы испытаний у нас сплошняком, если к ним же относятся годы пытаний…
И я тащила её, оттирала, отмывала до блеска, за хвостик брала, — и работала моя репочка зеркалом, шло в ней кино жизни.
Вон за тем холмом, где туман предзимний томится над репным полем, три оборванца варят репу с капустой на костре, в металлической каске. Из плена они идут, с чужбины на родину. Зубы, как семечки, сплёвывают. Вшами проедены — до мозгов. От голода светятся, от поноса. Где капусты урвут, где свеклы, где репы, — так и дойдут до отчизны родимой, до следственной камеры, до тюрьмы пересыльной, до лагерного барака, до лесоповала, до ссылки, до угольной шахты, до рудника, до скончания срока, до паспорта, до билета на поезд в южный райцентр, где огромные мальвы, сирени цвели под окном избяным.
Репа, Brassica napus, господня лепешка, расплющенный шар с витамином по имени Цэ («Цэ твоя Батькивщына!»), с каротином и сахаром. Вот лежит она мытая, свежая, милосердная жертвенно, свято. Из рода капусты. Растет на всех континентах. Нечернозёмный гектар выгружает нам три с половиной сотни центнеров её золотистого, сочного мяса, — если не врет ЦСУ (царство секретного ужаса).
— Репой питались, пареной репой, репной похлебкой и кашей, а строили, побеждали!.. Какая была дисциплина, какой всенародный порядок, вера, надежда, любовь, идеалы, геройство, единство, доблесть и подвиги — на каждом буквально шагу! Мощный расцвет культуры, искусства, науки, тяжелой индустрии!.. Непобедимая армия, дружбы народов надёжный оплот, безупречная нравственность, духовная красота! А песни, какие песни!.. Духовые оркестры, симфонии!
— У меня вопрос: сколько репы вашей семье выдавали в кремлёвском закрытом распределителе, по спецталонам на так называемое «лечебное питание»?
— И что вы лично построили? И кого лично вы победили?
— Эй, ты, брюква в брюках, плевать мне на твои идеалы! Репой народ питался, чтобы лично тебе коммунизм построить, двести миллионов на твой собственный коммунизм пахали, вот и вся духовная красота! Тебе — коммунизм, а нам — репня да твоя трепня.
…Бурная овация. Все встают и плюют докладчику в морду. Занавес закрывается. Актёров, режиссёра и автора вызывают шестнадцать раз. Куда следует.
Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая, больше всей моей жизни. Купил ее на Тишинском рынке мой ненаглядный возлюбленный. В дверь она не влезала, — сняли с петель. Огромная репка сияла, как зеркало, — и я на стену её повесила. Глянула в это зеркало, а там — отец с матерью и старшей сестрой моей восьмилетней у реки на траве сидят в красоте духовной, глядят они в светлое будущее, едят молодую репку.
И друзья, со мной разлучённые, по-людски живут в этом зеркале, всюду книги свои печатают, пьют сок малиново-клюквенный, странствуют до отвала, вспоминают с нежной любовью, добрые силы шлют. Иногда звонят по ночам, и я слышу их день и дождь на другом полушарии, слышу расцвет их магнолий, запах розмарина и лавра.
Такая зеркальная репища!..
Вот найдёт на меня, — и кое-что ещё расскажу, глядя в это репное зеркало, реповое и репчатое. Оно ещё и часами работает, тикает и поет, показывая точное время событий. А время само по себе — неизвестно что, мировая наука не знает его окончательной формулы. За формулу времени дадут непременно Нобелевскую премию, если к тому времени ещё останется время на это.
Крепко пришита репка, нитки торчат, формула репки сладостно пахнет. Супер! А Супер, если прочесть его задом наперёд, — превращается в Репус.
Кукарекнутый день
Однажды в среду мне подарили птичку на Деньрождень, малюсенького цыплёнка, жёлтенького, дрожащего, как шарик мимозы. Разве можно такую прелесть не полюбить?!.
Я картинки ему рисовала, сказки рассказывала, играла с ним в прятки, летала с ним на воздушном шаре, на карусели мы с ним катались, на речном трамвайчике, на пони, на верблюде, на слоне и на лыжах. Я водила его на балет, в цирк, на каток, на ёлку. Ночью, когда он плакал, если что-нибудь страшное снилось, я ему песенки пела с нежными обнимайцами, целовайцами и мечтанцами. А из этого птенчика вырос петух Бандит, жуткий хулиган и разбойник!..
Не он ли табуретки, сковородки, кастрюли, чайники, лампы, кувшины переворачивает? Ещё как переворачивает! Только и слышно: тумбер-бумбер, бумбер-тумбер!
А кто лапами топчет в шкафу чистое крахмальное бельё и человеческую одежду? Ещё как топчет, на весь дом кукарекая! А кто разбил мой будильник, чашку мою любимую, тарелку с китайцем под мельницей, банку с цветами, которая пела, когда в неё наливали воду?
А кто клюнул в нос почтальона Льва Никанорыча Дрынгова? Ещё как клюнул!
А кто разрушил модельную причёску медсестре Светлане Петровне Хвост? Ещё как разрушил!
Ну и что с ним делать, с Бандитом?!. Сварить? Подарить? Бросить его в электричке и убежать? Так ведь съедят его — жалко!
— Не хулигань! — говорю. — Немедленно прекрати безобразие!
Он чешет лапой в затылке, глазки таращит и кукарекает. Ведь он языка человеческого не понимает! Вот сижу я и думаю: как мне быть с этим Бандитом?
А тут как тут, ногами в сапожищах дрыгая, по верёвке с крыши кто-то лохматый, волосатый спускается с ножом в зубах и прыгает нагло в окно:
— Ложись! — говорит. — И лежи тихо! Я буду вашу квартиру в данный момент грабить!
Злодей бросается прямо к шкафу, размахивая своим пыльным мешком, чтобы вещи складывать, как картошку.
Лапами в чёрных перчатках он дверцы шкафа распахивает, а оттуда страшный крик раздаётся и вылетает вешалка с платьем — бац грабителя по башке, пощёчин ему натрескала, в ноздри ему вцепилась, как та прищепка, и тащит его таким образом к выходу!
А злодей руками-ногами сам себя дубасит от страха, лбом-бом-бом двери бодает и верещит. Нечем ему дышать, нос прищемило, и от этого острый нож из зубов его выскочил, об стенку брякнулся и колотит его рукояткой по дурацкой башке!..
Ну, тут, знаете ли, такая храбрость во мне заплясала, такая отвага во мне запела, что я вся разбежалась и как дала ему, как дала веником по вареникам!
Он от этого дверь лбом вышиб и с дверью в обнимку грохнулся на площадку. А там у лифта как раз милиционер стоял, Афанасий Матвеевич, Пирожков, ехать вниз собирался.
Обнаружив грабителя с головой в крепдешиновом платье и с отдельной дверью в обнимку, милиционер Пирожков, красавец и умница, произвел задержание и арест.
А платье с вешалкой отцепилось от арестованного и полетело по воздуху в коридор, завернуло налево в комнату и направо — в шкаф, где само повесилось на перекладину и кукарекнуло!..
— Чудеса! Чу-де-са! — сказал милиционер Пирожков. — Вот какие необычайные интересности на работе нашей бывают в такое судьбоносное время! Обязательно все эти действия занесу подробнейше в протокол.
Тут раздался грохот и свист, закружились над Пирожковым пух и перья, — и на площадку вылетел мой петух Бандит. В клюве держал он чёрную-чёрную перчатку злодея, которую тот потерял в неравном бою с петухом. Эту перчатку петух надел грабителю на нос, похожий на красную редьку и одновремено на вешалку, очень удобную для перчаток, зонтиков и шляп!
Милиционер Пирожков, с петушиными перьями на фуражке, погрузился в лифт, крепко держа арестованного, личность которого, как записано в паспорте, зовут Авангард Гордеевич Редькин.
Только тогда я и заметила, что моя квартира больше не закрывается, потому как дверь отдельно лежит у лифта. Мы с петухом подняли эту дверь, которая очень старалась не очень на нас наваливаться и даже сама потихоньку тип-топала, изо всех сил помогая. Мы повесили дверь на место, петли смазали постным маслом, чтоб не скрипели, и пошли с Бандитом на кухню обедать гречневой кашей с жареным луком — это он обожает!
Потом я зажгла свет в настольной лампе, чтобы для вас написать вот этот рассказ. А Бандит вцепился лапами в спинку кресла и спит, во сне кукарекая каждый час, чтобы я вскакивала на разминку, а не сидела, как тесто в бадейке.
В данный момент мой рассказ написан, и я исправляю ошибки. Вот, например, в начале я написала о моём замечательном петухе, что он языка человеческого не понимает. Эту глупость надо немедленно вычеркнуть!
Ведь если бы мой Бандит не понимал языка человеческого — вы только представьте себе, чем бы сегодня всё это происшествие кончилось, а?.. Вот именно! Я бы сейчас не в кресле сидела, попивая чаёк травяной из листа земляничного, мяты и зверобоя, а сидела бы я на полу под столом, верёвками связанная, со шляпкой во рту, и мычала бы, колотясь причёской о батарею, чтобы соседи мои услышали этот сигнал бедствия. А вор Авангард Гордеевич Редькин за это бы время зарезал бы, ощипал, сварил бы, зажарил, сожрал бы моего гениального петуха, макая в горчицу храбрые крылья, лапы и грудь моего драгоценного друга. Вот он ужас-то, настоящий кошмар! Как подумаю — хочется кукарекнуть! А я подумала об этом уже восемнадцать раз, больше нет сил терпеть — так мне хочется кукарекнуть! Что я и делаю с большим удовольствием и с большим приветом:
— КУ-КА-РЕ-КУ!.. КУ-КА-РЕ!.. КУ-КУ!..
А с балкона, что напротив, меня приветствуют весёлые граждане, отвечая:
— КУ-КА-РЕ-КУ!.. КУ-КА-РЕ-КУ!..
Вот какой кукарекнутый день!
Варенье № 5
Шанель
Е
Совершенно правильно отцы церкви
называли эллинизм «отцом всех ересей»;
слово «ересь» означает «выбор», а право
выбора было для эллина неотъемлемым
признаком умственной свободы.
Ф. Ф. Зелинский. Древнегреческая религияЕресь, оказывается, не только особое вероучение с отклонением от догматов. Е — не только отступление от общепринятых правил и вздор с чепухой, всякая чушь собачья.
Но, кроме всего, что нынче о Е известно в широких и узких кругах, ересь ещё, как следует из эпиграфа, означает давным-давно и намного давней всех прочих ересей — выбор.
Выбор бывает свободный и принудительный — «мы вам это навяжем, хочется вам того или не хочется», «нам навяжут, хотим или не хотим, относитесь к этому позитивно», «а у меня лично — один позитив, негатива нет и в помине», — такова принудиловка выбора — ереси, выбора Е…
Вы ересь несёте, всякую Е молотите языком, нарыбачили мелкую ересь, мелкую ересь наторговали, это — иносказание. Но сам еретик не бывает мелким, ересь его крупнит. Знамениты великие еретики, всё зависит от выбора ереси, от выбора Е.
Женщина-химик, огромные синего цвета глаза на желтоватом лице. Стихи принесла про личико, пожелтевшее в газовой камере, где мама строго велела попикать в ладошки, нос окунуть и этим дышать, а потом притвориться мёртвой, греться голой среди мертвецов, голых как в бане. Там же велела найти одежду для голого тельца и ночью бежать — без оглядки на мёртвую голую мать.
Урина спасает от газа, если очень ты ещё маленький, лет четырех-пяти.
Ровно столько ей было тогда. Какой национальности это личико?..
Не знаю, любой. ЛИЦО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.
Нет у меня фобического чутья. Это чутьё — не моё, это — чужой талант, расцветающий на гдереве ядоварных гденег и гдействующий на психику ядоварной гдействительности.
«Драма. Фильм рассказывает о личной жизни Гитлера, его отношениях с Евой Браун, коллегами и друзьями»… Такое кино, сфумато, туманчик, мглистый дымок, не мелкая ересь, а крупный Выбор Объекта. Цель и средства — Объективация с помощью Объектива. Объективизм, объективность, способ навязывать видимость — объективный подход, подходящий под ход, ходящий под… Под как бы явлением, существующим объективно (ветер, дождь, снегопад) и независимо от человеческого сознания и человеческой воли — «хотите вы этого или не хотите»!.. Объективно и беспристрастно. Ничего личного!.. Получается драма. Личная драма Г. и личная драма о Г. — сквозь Объектив далёкой туманности, непроглядных гдебрей гдействительности, гделающей мглистый дымок Объективной Истины. Получается такой документ, чьё содержание беспристрастно. Отражает объективную принадлежность личной драмы Г., его коллег, друзей и любовницы к объективной реальности, не зависящей от…
Хотите вы того или не хотите, а мы такой документ вам навяжем. Объективная Истина всем заказала такое кино. Отличный заказ, по-всякому очень выгодный, монументальный, документальный и весь в наградах… Гестапо успеха.
Объективная Истина — как бы ничья. Ничья — результат игры, где ничья — триумф и победа, потому что к ничьей приплюсуют, приплюснут объективную кучу очков. Объективная ныне гдействительность закажет, и будет сделано, не теми, так этими, — множество есть исполнителей, свободно владеющих языком Объектива и такой-сякой объективности. Выбор Е!
Свастика стала модным объектом, бантиком объективной реальности, бинтиком Объективной Истины, винтиком примирения, согласия и всепрощения, — проще простого. Ветряные мельницы свастик и рыцарь печального образа Дон-Кихот. Попикайте объективно в ладошки, нос туда окуните, чтоб этим дышать объективно, и притвориться мёртвыми, и в голом виде объективно греться среди голых мертвецов, и там же найти одежду для объективно голого тела, и ночью бежать объективно — без оглядки на мёртвую объективно, голую объективно мать. Но как потом притвориться живым?.. Объективно.
Пьяный Юлик Семёнов, автор саги о Штирлице, говорил мне в прошлом тысячелетии, что фашизм сидит на листе ожидания и возвратится с блеском силы и правоты, фашисты вернутся легендой — в масках борцов с коммунизмом за свободу и независимость, в масках героев и жертв, а их Г. будет отмыт дочиста, как стекло, ещё и кино про это закажут, чтобы создать Новую Объективную Истину, поскольку из всех искусств кино было и остается самым-самым, известно чем…
Но, когда объективно мы вышли оттуда, где он говорил мне такое и где много народа гудело, как на вокзале, — вдруг оказалось, что Юлик Семёнов объективно не пьян, а притворился пьяным…
Е?!. Выбор, такой вот способ рассказывать то, что случится с невероятной и неизбежной точностью. Этот способ отлично работал у древнегреческих драматургов, где по ходу театрального действа герой совершал свои героические поступки, а вестник предсказывал публике, чем всё это кончится. Как если б на вестника шпионили высшие силы. Публика в полном восторге сидела под звёздами, всё заранее зная от вестника, но герой ничего такого не слышал и продолжал свои подвиги. Древнегреческий зритель следил за ним с исключительным интересом.
Потом однажды я видела, как шла я пешком, а он ехал мимо в такси, был опять как бы в доску пьян и остановился, чтоб меня подвезти по дороге. Мы болтали на заднем сиденье о том о сём, и я спросила его про афганскую войну, позорную, разлагающую, убивающую обе страны, далее — везде… Он сказал, что когда мы оттуда уйдём, а уйдём непременно и очень скоро, потому что с нами в Афганистане воюет множество стран и огромных денег, — вот тогда Европу с Америкой и Россию пойдут взрывать и жечь террористы. Почему и Россию?.. А потому что Союз нерушимый развалится, и будет по Ежи Лецу, есть у него такое: мечта рабов — это рынок, где можно себе выбирать господ, обменивать одних на других. Ересь, я говорю. Ты несешь какую-то Е!.. А он отвечает, что ересь — не только вздор с чепухой, но и выбор.
И всю эту ересь он молотил и нёс задолго-долго-долго до того, как именно эта Е превратилась в буквальный выбор, террористы стали взрывать объективно и жечь Европу с Америкой и Россию, свастика объективно стала бантиком примирения и всепрощения во имя согласия, фашизм объективно сошел с листа ожидания и возродился с блеском, фашисты объективно вернулись в героических масках борцов с коммунизмом, а про личную жизнь Г. объективно пишут романы для чтенья взахлёб и дают драматическое кино, очищая трагический образ этого страшно одинокого Г. от всего предвзятого и пристрастного, не относящегося к Объективной Истине Г.
Ничья вышла, ничья!.. Новая Объективная Истина: мы объективно разгромили фашистов, потому что мы объективно фашистам равны. Гестаповцем нынче быть не зазорней, чем сам знаешь кем… Ересь?.. Да, выбор. Такой позитив. Хотите вы или нет. Надо навязывать именно это. Объектив «общего мнения» делает выбор. О, Е!..
Когда немцы взяли Париж, мы там жили нормально, спокойно, в привычном ритме, работали, книги писали, воспоминания. Конечно, многих тогда убивали, но партизан и евреев, и тех, кто их прятал, было такое, мы слышали. Но ужас, когда в Европу вошли вот эти красноармейцы! Многие там знаменитые люди с такой благодарностью и прямо-таки восхищением говорили о тех, кто разгромил немецкое войско. Мы тогда испугались, что наши французы станут вдруг коммунистами, и уехали мы в Америку, потому что нам стало страшно за всю Европу. А при немцах нам не было так страшно, мы ведь — не партизаны и не евреи, тем более — не военнопленные. Гестапо знало, что мы бежали от коммунистов, и нас не трогало. Такова объективная истина, я беспристрастен, — он говорит, артистично натягивая на лоб весёлую шляпу с тирольским пером, такая сегодня мода на этой улице, в Объективе.
Курносая, рыжеволосая, зеленоглазая, двадцатилетняя, с младенчиком на руках, муж-славянин бьёт фашистов на фронте, родители мужа в деревне прячут её и младенца в погребе. Но у соседей вдруг происходит психический сдвиг, жуткая эйфория, экстаз, буйное помешательство — при мысли, что можно выдать, преступить черту, за которой кошмарный грех, тем и сладостный, что неподсудный в объективно данной реальности. Такое тогда объективно случалось со многими, вдруг мужья выдавали жён, объективно любимых, жёны — мужей, одни соседи — других, по дружбе, находясь в состоянии объективного помешательства, механизмы которого плохо изучены и включаются не только в военное время.
Родители мужа прячут её с младенцем в стогах, сеновалах и клунях, продвигая поближе к румынской границе, на лодке толкая в Румынию, где никто не учует ни сном, ни духом, какой она объективно национальности, — потому что внешность у ней такая, не конкретно этническая. А соседи в том Объективе бегают с вилами, протыкают стога, снопы, сеновалы, ищут, нет ли там красотки с младенцем, чтоб выдать и страшную байку потом рассказывать со всеми подробностями. Остальные живут объективно неплохо, в привычном ритме, кроме тех, кого убивают вполне объективно.
Теперь мы с ней объективно, непредвзято и беспристрастно простили всех, и с немцами пьём беспристрастно водку, пьём с ними ересь общих воспоминаний, грея места, где нас объективно соседи проткнули вилами, но мы от них объективно тогда спаслись, улетели на крыльях Ангела… Ангела выбор, Ангела.
Красавица немка, с блестящим умом и талантом, объективно мой лучший друг. Когда не пускали меня за границу по той же причине, по которой теперь отмывают Г., она мысленно всюду брала субъективно меня с собой, путешествуя, но я не всегда понимала, где нахожусь…
Потом меня всё-таки выпустили в ту заграницу однажды, дважды и трижды. И я всюду брала её объективно с собой. Но, когда захотели мне там показать объективно Дахау, Освенцим, Треблинку и другие музеи фашизма, я сказала: «Вот этого мне никогда не показывайте! Сами смотрите, сами! Я объективно — оттуда, пеплом и дымом — и прямо в небо, потому и курю, гуляя с небес на землю, а у вас не курят».
Только немка, моя подруга прекрасная, меня поняла тогда, в том Объективе, только она, единственная. А все остальные были ужасно мной недовольны, шипели, фыркали «с ней ни о чём невозможно договориться», за спиной говорили жестокие гадости, объективно строчили доносы, какие-то подлые списки хреновые, чёрт побери эту Е — их выбор!.. Потом, когда вывалили всю эту письменность в Объектив напоказ и мне предложили прочесть, я сказала: «Вот этого мне никогда не показывайте! Сами читайте, сами!» Да и как я смогу прочесть?.. Не моя эта азбука адская, не моя эта письменность.
У меня совершенно другая — Рисункописьменность, сплошной позитив Сопротивления, где отсутствуют начисто «мы вам навяжем» и «хочется вам того или не хочется».
Такая вот Е!.. Ересь на три буквы — ГДЕ. Где?.. А вот она — где! Гдерево, гдетство, гдевочка, гдействительность, гдеспот, гденьги, гдемос, гдефицит, гдемагог, гдеталь, гдеревня, гдебаты, гдемография, гдезертир, гдекадент, гдекорация, гдельфин, гдемонстрация, гдебри, гдесант гдетской радости чистой, которую гделает гдемосу Гдед-Мороз, леденящий — кого? — Г., леденящий Г., леденящий Г.
А где-то в космосе голосом Ангела сестра мне читает Гдемона, голосом, леденящим Г., леденящим Г., леденящим Г.
Ересь?.. О, Е!.. О, Е!.. Есть в носу такая консерватория, где можно играть на гавайской гитаре, лет с пяти до пятисот, — и оттуда с Е на любом трамвае зазвенеть на Гавайи в любое время.
Когда волнуешься, будь волнистым, — оно помогает!
… у них тут Гдевочка на Гдерево летит.
Конец связи
очень одинокий слоник вышел оттуда и здесь получился.
Варежки, которые мы потеряли.
Орден за выдающийся невклад в исскустсство истребления совести
…у них тут деньги такие делают в долг.
Конец связи
И оно помогает!.. Дыши люблёво.
Конец связи
Хельга Энгельбрехт. Германия. Портрет Юнны Мориц, холст, масло.
Юрий Паскевич. Портрет Юнны Мориц, картон, темпера. 1963
Фото Д. Давыдова. 1965
«Георгий Седов», на котором я плавала по Арктике летом 1956 года.
В Арктике. 1956.
Я шла по улице ногами
С матерью на вокзале.
Фото Ник. Лаврентьева
С мужем, сыном и с собой. 1983.
Фото Роберты Финеберг. Франция


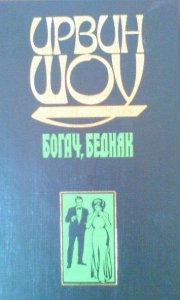

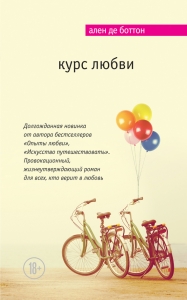

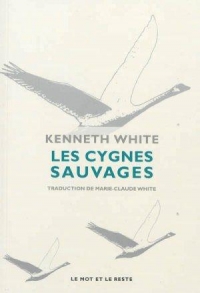



Комментарии к книге «Рассказы о чудесном», Юнна Петровна Мориц
Всего 0 комментариев