Выход: Запад
Наведу и Насиму
Часть первая
В некоем городе, полном беженцев, но все еще спокойном и тихом, или, по крайней мере, без явных следов войны, молодой человек повстречался с молодой женщиной в студенческой аудитории и не сказал ей ни слова. Много дней — ни слова. Его звали Саид, а ее звали Надия, и у него была борода, но не длинная полновесная борода, а, скорее, ухоженная щетина, а она была всегда покрыта с пальцев ног до самого горла черной бесформенной мантией. Люди еще продолжали получать удовольствие от того, какую одежду, вынужденно или нет, они могли выбрать для себя в рамках, конечно же, приличий, и их выбор всегда что-то означал.
Возможно, выглядит странно, что в городах, близких к краю человеческих бедствий, молодые люди все еще продолжали ходить учиться — в данном случае, в вечерний класс обучения корпоративного устройства и торговой марки — но так вот и есть, в таких городах с такой жизнью, что в один момент мы занимаемся текущими делами, как обычно, а в другой — мы умираем, и наши вечно-продолжающиеся кончины не останавливают наши вечно-переменные начала и продолжения, пока внезапно не случается подобного.
Саид заметил у Надии на шее родинку: желто-коричневый овал, редко, иногда, дышащий ее пульсом.
* * *
Спустя короткое время после того, как он заметил это, Саид впервые заговорил с Надией. В их городе еще не было больших сражений, лишь стрельба да редкие взрывы автомобилей, от которых грудную клетку наполняла сверхзвуковая вибрация, как от огромных звуковых колонок на музыкальных концертах; и Саид и Надия собрали свои книги и направились к выходу.
На лестнице он повернулся к ней и сказал: «Послушайте, не хотите выпить кофе?», и после короткой паузы добавил, чтобы не выглядеть слишком напористым, видя ее консервативного вида одежду: «В кафетерии?»
Надия посмотрела ему в глаза. «Вы не молитесь на вечерней молитве?» спросила она.
Саид выжал из себя самую милую гримасу. «Не всегда. К сожалению».
Ее выражение лица не изменилось.
И тогда он, ухватившись за свою гримасу отчаянием обреченного скалолаза, решился на слова: «Я думаю, это — личное. У каждого из нас — как лично у него. Или… у нее. Нет безупречных. И, в любом случае…»
Она прервала его. «Я не молюсь», сказала она.
Она продолжала пристально смотреть на него в упор.
Затем она произнесла: «Может, в другой раз».
Он смотрел, как она шла по студенческой парковке и там, вместо того, чтобы покрыть свою голову черным платком, как он ожидал, она надела черный мотоциклетный шлем, прицепленный замком к потрепанному, в сто кубиков двигателя, мотобайку, задвинула прозрачную шторку шлема, завела мотор и уехала, исчезнув мерным рокотом в наступающих сумерках.
* * *
На следующий день, на работе, Саид обнаружил, что не может перестать думать о Надии. Работодателем Саида было агенство, специализирующееся на наружной рекламе. Оно рентовало биллборды наряду с теми, которые были в его собственности, и работало над подписанием договоров для установки новых с автобусными линиями, спортивными стадионами и владельцами высоких зданий.
Агенство занимало оба этажа жилого здания, и там работало около дюжины работников. Саид был одним из новичков, но босс был доволен им и дал ему задание послать рекламный проект местной компании по производству мыла электронной почтой до пяти часов вечера. Обычно Саид собирал как можно больше информации по интернету и тщательно подгонял свою презентацию под нужды клиента. «Какая же это речь, если у нее нет публики», любил говорить его босс, а для Саида это означало, что он хотел ясно показать клиенту, что его фирма по-настоящему понимает бизнес клиента и сможет влезть в кожу заказчика и понять их нужды.
Но сегодня, хотя и рекламный проект был крайне нужен — каждый проект нужен: экономика была неважной из-за повсеместного беспокойства в обществе, и первой затратой, которую клиенты хотели уменьшить, была наружная реклама — Саид никак не мог собраться. Большое дерево, переросшее и неухоженное, возвышалось за крохотной лужайкой их здания, закрывая солнечный свет так, что трава на лужайке превратилась в пыль и проплешины одиночной травы, усеянной утренними сигаретными окурками, поскольку их босс запретил курение внутри здания, и на вершине этого дерева Саид заметил ястреба, строящего свое гнездо. Птица работала неуставая. Иногда она застывала в полете на уровне его глаз, почти недвижно в ветре, и затем, крохотным движением крыла или даже поднятием перьев, уходило в сторону.
Саид думал о Надии и смотрел на ястреба.
Когда почти закончилось время на подготовку, он каким-то образом сумел подготовить предложенный проект, копируя и вставляя куски из прошлых его проектов. Только подбор изображений, выбранных им, не имел ничего общего с мылом. Он взял черновик показать своему боссу и с трудом удержал себя от вздрагивания, положив бумаги на стол.
Однако босс был занят и ничего не заметил. Он чиркнул несколько неважных помарок на листах, вернул их Саиду с тоскливой улыбкой и сказал: «Посылай».
Саид почувствовал себя неудобно из-за того, как тот произнес это. Он пожалел, что не сделал лучше.
* * *
В то же самое время, когда письмо Саида было получено с сервера и прочитано клиентом, далеко в Австралии светлокожая женщина спала в одиночестве в Серри Хиллс — в пригороде Сиднея. Ее муж уехал по делам в Перт. На женщине была одна лишь футболка, его футболка, и обручальное кольцо. Ее торс и левую ногу покрывала простыня еще более светлая, чем она сама; правая нога и бедро были обнажены. На правой лодыжке, поверх Ахиллесова сухожилия, синела татуировка небольшой волшебной птицы.
Охранное наблюдение было установлено в доме, но не включено. Его установили предыдущие жильцы, когда-то называвшие это место домом, пока округа не наполнилась пожилыми жителями. Спящая женщина включала охрану спорадически, когда, в основном, не было мужа дома, но этой ночью она забыла это сделать. Окно спальни, в четырех метрах от земли, было открыто — лишь щелью.
В ящике прикроватной тумбочки лежали полупустая упаковка противозачаточных таблеток, использованная в последний раз три месяца тому назал, когда она и ее муж все еще остерегались зачатия, паспорта, книжки банковских чеков, магазинные чеки, монеты, ключи, пара наручников и несколько завернутых в бумажную обертку пластинок жевательной резинки.
Дверь в гардеробную была открыта. Всю комнату заливало свечение от заряжателя компьютера и беспроводного роутера, но вход в гардеробную был темен, темнее ночи, прямоугольником сплошной темноты — сердцевиной темноты. И из этой темноты вышел человек.
Он был очень темным, с темной кожей и с темными волнистыми волосами. Он передвигался с большим трудом, и его руки хватались за края входа, словно он вытаскивал себя в противовес гравитации или течения гигантского отлива. За головой последовали шея, напряженные мышцы, грудь и, наполовину расстегнутая, пропотевшая насквозь, серо-коричневая рубашка. Внезапно он застыл в движении. Он оглядел комнату. Он посмотрел на спящую женщину, на закрытую дверь в спальню, на приоткрытое окно. Он продолжил свое движение, с трудом продвигаясь наружу, но отчаянно молча, как молчит человек сражающийся темной ночью, лежа на земле, в темной аллее, стараясь освободиться от схвативших его горло рук. Только не было никаких рук у его горла. Он не хотел быть никем услышанным.
Он вылез последним усилием, дрожа и опускаясь на пол, словно новорожденный жеребенок. Он недвижно полежал, устало. Сдерживая одышку. Поднялся.
Взгляд его глаз был ужасным. Да: ужасным. Или, скорее всего, не так ужасным. Скорее всего, они просто смотрели наверх, на женщину, на кровать, на комнату. Выросший в обстоятельствах, постоянно испытывавших его существование, он понимал, насколько хрупким было его тело. Он понимал, как мало было нужно для того, чтобы превратить человека в кусок мяса: внезапный удар, внезапный выстрел, внезапный взмах острия, поворот автомобиля, микробы в пожатии рук, кашель. Он понимал, что одинокий человек — почти ничто.
Женщина, спящая, была одинокой. Он, стоящий над ней, был одиноким. Дверь спальни была закрыта. Окно было открыто. Он выбрал окно. Он выпрыгнул в одно мгновение, мягко прошелестев по улице внизу.
* * *
Пока это происходило в Австралии, Саид купил свежеиспеченный хлеб для ужина и направился домой. Он был самостоятельным, с устоявшимися привычками, мужчиной, неженатым, с приличной работой и с хорошим образованием, и, как это часто случалось в то время в том городе с большинством самостоятельных, с устоявшимися привычками, мужчин, неженатых, с приличной работой и с хорошим образованием, он жил со своими родителями.
У матери Саида был хорошо поставленный командирский голос учительницы, кем она ранее и работала, а его отец немного потерял в своем образе университетского профессора, кем он продолжал быть, несмотря на уменьшенное жалованье, и ему приходилось работать даже по наступлении пенсионного возраста. Оба родителя Саида в их лучшее время много лет тому назад выбрали для себя уважаемые профессии в стране, которая потом обошлась довольно плохо со своими уважаемыми профессионалами. Сохранность и статус надо было искать в других предназначениях. Саид родился довольно поздно, так поздно, что его мать посчитала своего доктора болтуном, когда он спросил ее: что она думает о своей беременности.
Их небольшая квартира находилась в одном очень красивом здании с орнаментом, но с крошащимся фасадом, датируемом колониальной эрой, и когда-то предназначенном для высокой публики, а ныне — многонаселенном и коммерциализированном. Их жилье было отделенной частью большей квартиры, и сейчас у них были три комнаты: две скромные спальни и третье помещение, которое они использовали для отдыха, еды, развлечений и смотрения телевизора. Третья комната тоже была скромной по размерам, но у нее были высокие окна и, хоть и узкий, балкон с видом вниз на аллею и бульвар с опустевшим фонтаном, когда-то булькающим и сверкающим в солнечном свете. Вид такой, что за него могли попросить больше денег, если бы были более спокойные, более процветающие времена, но совершенно нежелательное во время военного конфликта, когда их жилье могло бы очень просто попасть под перекрестный обстрел пулеметов и ракет, если бы воющие вошли в эту часть города: вид ружейного ствола в лицо. Место, место, место, как говорят коммерсанты жилья. География — это судьба, отвечают им историки.
Война скоро обезобразит фасад их здания, потому что у войны более быстротечное время, и ее день стоит десятилетия.
* * *
Когда родители Саида впервые встретили друг друга, они были такого же возраста, как Саид и Надия в их первой встрече. Их свадьба состоялась продуктом любви, браком между двумя незнакомцами без никакого сводничества между их семьями, что в их кругах, пусть и нечасто, было все-таки не так привычным.
Они встретились в кинотеатре во время перерыва кинофильма о находчивой принцессе. Мать Саида заметила, как его отец курил сигарету, и ее поразила, что он был очень похож на главного мужского персонажа в кино. Это сходство не было простым совпадением: хоть и застенчивый книгочей, отец Саида все же пытался подражать своим видом популярным звездам кино и певцам того времени, как и многие его друзья. Близорукость отца Саида вместе с его характером придавали ему вид мечтателя, отчего, вполне понятно, мать Саида посчитала, что он на самом деле был таким. Она решила познакомиться первой.
Встав перед отцом Саида, она продолжала довольно живо беседовать со своей подругой, полностью игнорируя объект ее желания. Он заметил ее. Он прислушался к ней. Он собрал все нервы в кулак, чтобы заговорить с ней. И таким образом, радостно рассказывали они, вспоминая их первую встречу в последующие годы, все и произошло.
И отец и мать Саида любили читать и, по разным поводам, поспорить, и они часто встречались тайно в начале их романтических отношений в книжных магазинах. Позже, после свадьбы, они проводили послеполуденное время, читая вместе в кафе и ресторанах, или, когда позволяла погода, на их балконе. Он курил, а она, по ее словам, не курила, но часто, когда пепел его, казалось, забытой сигареты вырастал до невозможных размеров, она забирала ее из его пальцев, мягко стряхивала в пепельницу и вдувала одну долгую и немного неприличную затяжку прежде, чем возвращала ему аккуратно подстриженную сигарету.
Кинотеатра, где встретились родители Саида, уже не было в то время, как их сын повстречался с Надией, как и большинство их близких сердцу книжных магазинов и любимых ресторанов и кафе. Не кинотеатры и книжные магазины, не рестораны и кафе исчезли из города, а просто тех тогдашних уже просто не осталось. Кинотеатр, радостно вспоминаемый ими, сменила торговая аркада компьютеров и электронной периферии. У здания было то же название, как и у кинотеатра до того: у обоих был один и тот же владелец, и кинотеатр был настолько знаменит, что стал олицетворением местности. Проходя мимо аркады и видя старое название в новой неоновой вывеске, иногда отец Саида, а иногда и мать Саида, вспоминали и улыбались. Или вспоминали и останавливались.
* * *
У родителей Саида не было секса до их свадьбы. Из их двоих, мать Саида нашла это действие более неудобным, но она была более заинтересована, и потому она настояла на том, чтобы до рассвета они попробовали еще два раза. И много лет их баланс оставался таким же. В общем говоря, она была ненасытно упорной в постели. В общем говоря, он старался. Возможно потому, что она не могла, до самого зачатия Саида через двадцать лет, забеременеть и решила, что больше не сможет, и поэтому она могла заниматься сексом без, так и было, всяких мыслей о последствиях или возможностей появления ребенка. В то же самое время, он во время первой половины их брака был постоянно приятно удивлен от ее настойчивых наступлений. Ей же очень нравились его усы, и как он любил ее сзади. Он считал, что она была главной в их плотских утехах.
После рождения Саида, частота их сексуальных сношений значительно упала, и она продолжала постоянно уменьшаться. Вагина состарилась, эрекцию становилось труднее поддерживать. В этот период отец Саида начал ощущать себя, или заставлял себя ощущать, тем, кто первым предлагает секс. Мать Саида иногда спрашивала себя: вызвано ли это было его настоящим желанием или привычкой или просто близостью. Она, как могла, отвечала ему. Он постепенно был отвергнут своим собственным телом, как и ее.
В последний год их совместной жизни, в тот год, когда Саид встретил Надию, секс у них случался черезвычайно редко. Столько за год, сколько в одну новобрачную ночь. Но его отец всегда хранил на лице усы, как настаивала мать. И они никогда не меняли своей кровати: изголовье, словно сплетение перил, постоянно напоминало о том, чтобы за него схватились.
* * *
В комнате семьи Саида, называемой общей, находился телескоп — черный и гладкий. Он был подарен отцу Саида его отцом, и отец Саида подарил в свою очередь Саиду, но, поскольку Саид жил в их доме, это означало, что телескоп продолжал стоять, где он был всегда, треножником в углу, под клипером, заплывшим в стеклянную бутылку по морю треугольной полки.
Небо над их городом стало слишком загрязненным, чтобы следить за звездами. Правда, в безоблачные ночи после дневного дождя отец Саида иногда выносил телескоп, и вся семья, прихлебывала зеленый чай на их балконе, наслаждалась легким бризом и по очереди разглядывала объекты, свет от которых часто исходил задолго до того, как кто-нибудь из этой троицы был рожден — свет из других столетий, только сейчас достигающий Земли. Отец Саида называл это путешествием во времени.
В одну ночь, точнее, в ту самую ночь после того, как он с трудом смог подготовить свой проект для мыльной компании, Саид бессмысленно проводил телескопом траекторией чуть ниже горизонта. В окуляре ему виделись окна, стены и крыши — иногда совсем не двигаясь, иногда пролетая невероятной скоростью.
«Мне кажется, он наблюдает за молодыми девушками», отец Саида сказал его матери.
«Как не стыдно, Саид», заявила мать.
«Ну, он же твой сын».
«Мне никогда не нужен был этот телескоп».
«Да уж, ты всегда стреляла сблизи».
Саид покачал головой и приподнял взгляд вверх.
«Вижу Марс», сказал он. Так и было на самом деле. Вторая по близости планета во всем своем виде, цвета заката пыльного шторма.
Саид выпрямился и достал свой телефон, направив камерой на небо, сверяясь с программой-апп звездных тел. Марс показался в более детальном виде, хотя, конечно же, это был Марс какого-то другого времени, прошлый Марс, запечатленный создателем апп.
Семья Саида услышала, как вдалеке раздалась автоматная очередь плоским треском — негромко, но довольно отчетливо. Они еще посидели некоторое время. Затем мать Саида предложила вернуться внутрь.
* * *
Когда Саид и Надия впервые решили выпить кофе вместе в кафетерии, что произошло на следующей неделе, после их совместного класса, Саид спросил об ее консервативной и все-закрывающей черной робе.
«Если ты не молишься», поинтересовался он, понижая голос, «почему ты ее одеваешь?»
Они сидели за столиком на двоих у окна, разглядывая ревущее движение на улице внизу. Их телефоны покоились экраном вниз между ними, словно сложенные оружия отчаявшихся душ на переговорах.
Она улыбнулась. Отпила чай. И объяснила, спрятавшись лицом за своей чашкой.
«Чтобы никто не *** до меня», сказала она.
Часть вторая
Когда Надия была ребенком, ее любимым занятием было рисование, хотя его преподавали лишь один раз в неделю, и она не считала себя талантливой в этом. Она ходила в школу, где вдалбливалось простое запоминание, для чего она была просто не создана, и поэтому она проводила большинство своего времени, разрисовывая края учебников и тетрадей, пряча, согнувшись, каллиграфические овалы и миниатюрные вселенные от взгляда учителей. Если бы они поймали ее, она получила бы выговор или даже удар по голове.
Искусство в доме Надии представлялось религиозными стихами и фотографиями святых мест, висевшими в рамках на стенах. Мать Надии и сестра были тихими женщинами, а ее отец пытался быть таким, считая молчание достоинством, но все равно постоянно и легко вспыхивал, когда речь заходила о Надии. Ее постоянные вопросы и нарастающее скептическое отношение к святости в вопросах веры, расстраивали и пугали его. В доме Надии не было физического насилия, как и благотворительности, но, когда по окончании университета Надия объявила ко всеобщему в семье ужасу и к ее неожиданному удивлению своим словам, что она съезжает из дома — незамужняя женщина, то раздались жесткие слова с обеих сторон: и от отца, и от матери, даже и от ее сестры, и, более всего, от самой Надии; после чего и Надия и ее семья решили, что она лишается семьи, и об этом решении для всех их до конца жизней они жалели, но никто из них никогда не попытался починить их отношения: частично от упрямства, частично от непонимания, как сделать, и частично от надвигающегося на их город хаоса, надвигающегося так быстро, что им не хватило времени осознать свою ошибку.
Жизненный опыт Надии во время первых месяцев жизни одинокой женщины в некоторые моменты даже превзошел страхи и опасности, о которых предупреждала ее семья. Все же у нее была работа в страховой компании, и она была полна решимости выжить, и она смогла. Она сняла верхнюю комнату у одной вдовы, купила проигрыватель и небольшую коллекцию виниловых пластинок, нашла круг знакомых — таких же городских вольнодумцев — и умеющую хранить секреты женщину-гинеколога. Она научилась тому, как одеваться для всех взглядов, как лучше всего вести себя с агрессивными мужчинами и с полицией, и с агрессивными мужчинами из полиции, и как всегда доверяться своим инстинктам, чтобы избежать или покончить с нежелательной ситуацией.
Сидя за рабочим столом в страховой компании, днем, звоня с предложениями возобновления договоров, она получила сообщение от Саида с просьбой о встрече, и ее поза не изменилась: все так же склонившись, как будто она все еще была школьницей, и все еще продолжая разрисовывать, как всегда, края различных бумаг перед ней.
* * *
Они встретились в китайском ресторане по выбору Надии, не в день их вечерних занятий. Семья, которой раньше принадлежало это место, после прибытия сюда после Второй Мировой войны, процветая три поколения, недавно продала это место и переехала в Канаду. Но цены оставались приемлемыми, и стандарты приготовления еще не упали. У зала была темная, как в опиумном притоне, атмосфера по контрасту с другими китайскими ресторанами в городе. Намеренно освещенный будто-бы-свечами-в-бумажных-фонарях, которые на самом деле были пластиковыми коробками, иллюминированными мерцающим светом лампочек.
Надия прибыла первой и наблюдала, как вошел Саид и приблизился к столу. У него было, довольно часто, выражение удивления в его ярких глазах, не насмешливое, но словно он видел смешное в вещах вокруг его, и это выражение нравилось ей. Она сдержала улыбку, зная, что он сам улыбнется очень скоро, и, так и есть, он заулыбался еще по дороге к ее столу, и она ответила ему своей улыбкой.
«Мне нравится», сказал он по поводу помещения. «Нечто таинственное. Как будто мы можем быть где угодно. Ну, не то, что где угодно, а просто — не здесь».
«Ты когда-нибудь путешествовал за границей?»
Он покачал головой. «Хотел бы».
«Я тоже».
«Куда бы поехала?»
Она подумала об ответе. «Куба».
«Куба! Почему?»
«Я не знаю. От этого названия мне хочется думать о музыке и прекрасных старых зданиях, и о море».
«Звучит замечательно».
«А ты? Куда бы ты выбрал? Одно место».
«Чили».
«Значит, мы оба выбрали бы Латинскую Америку». Он широко ухмыльнулся. «Пустыня Атакама. Воздух такой сухой, такой чистый, и там совсем немного людей, и почти нет света. И ты можешь лежать на спине и смотреть вверх и видеть Млечный Путь. Все звезды — будто молоком по небу. И можешь увидеть, как они медленно двигаются. Потому что Земля двигается. И почувствуешь, как словно лежишь на гигантском крутящемся шаре в космосе».
Надия наблюдала за лицом Саида. И в тот момент к ним прикоснулось чувство удивленного потрясения, и он стал выглядеть, несмотря на небритость, совсем, как мальчик. Он показался ей странным мужчиной. Странным и привлекательным.
К ним подошел официант за заказом. Ни Надия, ни Саид не выбрали газированных напитков, предпочитая чай и воду, а, когда прибыла их еда, никто из них не прикоснулся к палочкам, и оба выбрали для себя, наблюдая друг за другом, вилки. Несмотря на начальное ощущение неловкости или прятавшейся застенчивости, они обнаружили, что им довольно легко общаться, и что всегда дается с трудом на первых свиданиях. Они говорили тихо, осторожно, стараясь не привлекать внимания других сидящих. Их еда закончилась слишком быстро.
Затем им пришлось столкнуться с проблемой, с которой приходится иметь дело всем молодым людям в городе, желающим продолжать встречаться после определенного времени. Во время дня — парки, кэмпусы, рестораны и кафе. Но по ночам, после ужина, если только у кого-то был свой дом или автомобиль для спокойного времяпровождения, оставалось не так много мест для пар. У семьи Саида была машина, но ее ремонтировали, и ему приходилось добираться везде на мотороллере. У Надии было свое жилье, но пригласить к себе мужчину являлось по многим причинам сложным.
Все равно, она решилась на приглашение.
Саид заметно удивился и очень взволновался, когда она предложила ему прийти.
«Ничего не произойдет», объяснила она. «Я сразу хочу сказать. Когда я говорю, чтобы ты пришел ко мне, я совсем не говорю, чтобы твои руки хватали меня».
«Нет. Конечно».
Выражение глаз Саида стало печальным.
Но Надия кивнула головой. И хотя ее взгляд оставался теплым, она не улыбалась.
* * *
Беженцы занимали много открытых мест в городе, разворачивая шатры на зеленых промежутках между дорогами, возводя трущобы у стен домов, спя в пешеходных проходах и по краям улиц. Некоторые из них пытались вернуться к ритму обычной жизни, словно было нормальным проживать семьей из четверых под пластиковым покрывалом, растянутым ветками и укрепленным крошащимися кирпичами. Другие смотрели на город зло или удивленно, или просительно, или с завистью. Другие совсем и никуда не двигались: от шока, может быть, или отдыхая. Возможно, умирая. Саид и Надия должны были осторожно поворачивать на углах, стараясь не задеть вытянутую руку или ногу.
Она вела свой мотоцикл домой, с Саидом на мотороллере позади нее, и Надия несколько раз спросила себя о правильности своего решения. Но не изменила его.
На их пути находились два проверочных пункта: один — полицейский и другой, новый — с солдатами. Полиция проигнорировала их. Солдаты останавливали всех. Они заставили Надию снять шлем, возможно считая, что она может оказаться переодетым мужчиной, но, когда увидели, они тут же пропустили ее.
Надия снимала верхнюю часть узкого здания, принадлежащего вдове, чьи дети и внуки жили в другой стране. Этот дом когда-то был просто одним зданием, но рядом с ним находился рынок, который постоянно разрастался вокруг дома. Вдова сохранила для себя средний этаж, отдав нижний этаж под магазин для продавца систем запасного-энергоснабжения-на-автомобильных-батареях и верхний — Надии, которая успокоила все начальные подозрения вдовы заявлением, что она тоже была вдовой, а ее муж — молодой офицер пехоты — погиб в бою, что, признаться честно, не было никакой правдой.
Квартира Надии представляла собой студию с кухонным альковом и крохотной ванной комнатой: водой из душа было легко забрызгать комод. Правда, комната выходила на террасу крыши с видом на рынок и, когда не было электричества, студию заливало мягкое мерцающее сияние от огромного анимационного неонового щита, водруженного неподалеку производителем газированного-ноль-калорий напитка.
Надия попросила Саида подождать какое-то время в темнеющей аллее за углом, пока она открыла металлическую решетчатую дверь и вошла в здание. Поднявшись наверх, она накрыла постель пледом и задвинула грязную одежду в гардероб. Она наполнила небольшой пакет, подумала еще одну минуту и бросила его из окна.
Пакет приглушенным стуком упал за Саидом. Он открыл его, нашел запасной ключ от входа и также одну из ее черных роб, которую он спешно надел поверх своей одежды, покрыв голову капюшоном, и мелкими шажками, для нее сверху похожими на походку театрального вора, он приблизился ко входной двери, открыл ее и, минутой спустя, появился в ее квартире, где она указала ему сесть.
Надия выбрала пластинку — альбом одной давно умершей певицы, которая когда-то была иконой музыкального стиля в Америке, называемого соул, и ее оживленный, но более не живой, голос волшебным образом стал третьим в комнате, в которой находилось лишь двое, и Надия спросила Саида: не хотел ли он выкурить джойнт, на что тот с радостью согласился и предложил свою помощь в закрутке.
* * *
Пока Надия и Саид делили между собой их первый джойнт, в это же время в токийском округе Синдзюку, где уже пришла и ушла полночь, и, говоря точнее, уже наступил следующий день, молодой человек попивал напиток, за который он не заплатил, но который ему принадлежал. Его виски появилось из Ирландии, из места, в котором он никогда не был, но к которому он питал мягкую нежность, возможно от того, что Ирландия казалась ему словно Сикоку из параллельной вселенной: такого же вида, и точно так же лепилась на океаническом побережье огромного острова на конце широчайшей евразийского континента; или, возможно, из-за ирландского гангстерского фильма, неоднократно просмотренным им в скучной юности.
На мужчине был костюм и хрустяще-белая рубашка, и оттого татуировки, имел он их или нет, не были бы видны. Плотного телосложения, но встав на ноги, элегантный в своих движениях. Трезвые глаза, без выражения, несмотря на виски, глаза, неразличимые глазами других. Жесткие взгляды, как среди стаи диких собак, где иерархия устанавливается предчувствием потенциальной жестокости.
Выйдя из бара, он зажег сигарету. Улица ярко освещалась иллюминированной рекламой, но шума не было. Пара пьяных клерков прошли мимо него на безопасном расстоянии, затем — закончившая свою работу официантка, быстрыми шагами и глядя вниз. Облака над Токио висели низко, отражая краснеющее мерцание назад на город, но поднимался ветер — почувствовал он своей кожей и волосами, ощущение морской солености и легкой прохлады. Он задержал дым в легких и медленно его выдохнул. Дым исчез в потоке ветра.
Он удивился неожиданному шуму позади него, потому что аллея была безлюдным тупиком, когда он вышел. Он просмотрел ее, привычно и быстро, но внимательнее, прежде, чем повернулся назад. Там стояли две филиппинские девушки, чуть меньше двадцати лет, рядом с неиспользуемой дверью бара, дверью, которая всегда заперта, но в этот момент открытая порталом сплошной черноты, словно там не было никакого света, и никакой свет не смог бы пройти сквозь эту тьму. Девушки были странно одеты: в одежду слишком тонкую, тропическую, не такую одежду, обычно, одевают филиппинки в Токио, и никто — в это время года. Одна из них задела пустую пивную бутылку. Та покатилась, звонко отлетая быстрыми отскоками.
Они не взглянули на него. Ему показалось, что они не знали, за кого принять его. Они тихо разговаривали, пройдя мимо него, почти неразличимо, но он распознал тагальский язык. Они казались взбудораженными: возможно — радостными, возможно — напуганными, возможно — и то и другое; «В любом случае», подумал мужчина, «с женщинами так трудно разобраться». Они находились на его территории. Не в первый раз на этой неделе он видел группу филиппинцев, не понимающих странным образом, где находятся. Ему не нравились филиппинцы. У них есть свое место, и они должны были знать свое место. В его школе, в последних классах, был один полу-филиппинец, которого он часто бил, однажды, так сильно, что вылетел бы из школы, если нашелся бы кто-то рассказать о нем.
Он последил за походкой девушек. Подумал.
И направился следом за ними, нащупывая пальцем метал в кармане.
* * *
Во времена жестокого насилия всегда есть кто-то первый наш или знакомый или близкий человек, кого эти времена касаются, и от чего казавшееся страшным сном внезапно становится опустошающей явью. Для Надии таким человеком стал ее двоюродный брат, человек настойчивый и яркого интеллекта, который, даже когда был юным, никогда не любил играть в игры, редко смеялся, который выигрывал медали в школе и решил стать доктором, потом успешно эмигрировал за океан, вернулся, однажды, навестить своих родителей, и которого вместе с восьмидесяти пятью другими людьми взорвала автомобильная бомба на мелкие кусочки, буквально на мелкие кусочки, и самыми большими частями тела в случае с родственником Надии были голова и две трети руки.
Надия не узнала об его смерти, когда проходили похороны, и она не навестила своих родственников не из-за бесчувствия, но из-за того, чтобы избежать быть причиной для их неудобства. Она решила пойти на кладбище одна, но позвонил Саид и спросил после ее молчания, что случилось, и она каким-то образом смогла объяснить ему, и он предложил ей пойти вместе, настояв без настаивания, и ей, странным образом, полегчало. И они пошли вместе, рано следующим утром, и увидели покатый холмик свежевыкопанной земли, усыпанный цветами, над тем, что осталось от ее родственника. Саид стоял и молился. Надия не молилась, не рассыпала лепестков розы, а лишь встала на колени и положила руку на холм, влажный от недавнего прихода кладбищенского садовника с лейкой, и закрыла глаза на долгое время, пока звук садящегося самолета не пролетел над ними и исчез в аэропорту.
Они позавтракали в кафе: кофе и хлеб с маслом и джемом; и они говорили, но не об ее родственнике, и Саид казался очень простым, спокойным в это довольно необычное утро, не заводя разговоров об очевидной причине встречи, и она почувствовала перемены в отношениях между ними, становящихся в чем-то более устойчивыми. Потом Надия пошла на свою работу в страховую компанию и разбиралась со страховыми полисами до самого обеда. Она разговаривала серьезно и профессионально. Звонящие, с которыми ей пришлось иметь дело, очень редко допускали в разговоре с ней неподходящие к месту слова. Или спрашивали номер ее личного телефона. Чего она, когда ее спрашивали, никому не давала.
* * *
Надия до этого какое-то время встречалась с одним музыкантом. Они встретились на подпольном концерте, скорее джэм-сешн, где было около шестидесяти человек, набившихся в звуконепроницаемые помещения музыкальной записывающей студии, специализирующейся на звукопроизводстве для телевидения: местный музыкальный бизнес по причинам неспокойствия и музыкального пиратства находился в плачевном состоянии. На ней была, как обычно в то время для нее, черная роба до самой шеи, а на нем, как обычно в то время для него — белая узкая футболка, обтягивающая его сухопарые грудь и живот, и она наблюдала за ним, а он ходил вокруг нее кругами, и потом они пошли к нему ночью, и она избавилась от груза своей девственности с долей неуверенности и без чрезмерной радости.
Они редко говорили по телефону и спорадически встречались, и она подозревала, что у него были другие женщины. Ей не хотелось точно знать об этом. Ей нравилось, как он знал свое тело, и его плотское желание обладания ею, и ритм и поглаживания его касаний, и его красота, его животная красота, и наслаждение, вызываемое им. Она думала, что она не значила ничего для него, но тут она была неправа, поскольку все было наоборот для музыканта, но его гордость, а также страх, а также стиль жизни удерживали его на расстоянии. Он постоянно ругал себя последними словами за это, правда, совсем непродолжительно, хотя, после их последней встречи он очень часто вспоминал ее до самой его скорой смерти, которая — никто не догадывался об этом — пришла через несколько месяцев.
Надия поначалу считала, что не нужды в прощании, потому что прощание всегда предполагало предысторию и причину, но потом ей стало горько от того, что надо было попрощаться не для него — ей казалось, что ему все равно — а для нее самой. Они мало говорили по телефону, а сообщения казались слишком безличными, и она решила встретиться с ним на улице, в публичном месте, не в его неубранной, запущенной квартире, где она не смогла бы удержать себя, но, когда она упомянула об этом, он пригласил ее к себе «в последний раз», и, желая отказаться, она согласилась, и их секс стал страстным прощанием, и, неудивительно, секс был замечательным.
Позже ей было интересно, как могла сложиться его жизнь, но этого она никогда не узнала.
* * *
Следующим вечером вертолеты заполнили небо, будто птицы от напугавшего их выстрела или от удара топора по основанию их дерева. Они поднялись, одиночками и парами, и облепили верх города в краснеющем закате, когда солнце уплывало за горизонт, и рокот их двигателей эхом разлетелся по окнам и аллеям, сдавливая, казалось, воздух под ними, будто каждый из них стоял на верху невидимой колонны, невидимого воздушного цилиндра, каждый из них — странного хищного вида, словно двигающаяся скульптура; некоторые — тонкие с кабиной на двоих, пилот и стрелок на разных высотах, а другие — толстые, наполненные людьми, но все — мерным рокотом по небу.
Саид наблюдал за ними со своими родителями с их балкона. Надия наблюдала со своей крыши, одна.
Молодой солдат смотрел вниз через открытый дверной люк на их город, на город незнакомый ему, выросшему в провинции, и его поразила величина города, высокие башни и зелень парков. Шум вокруг него был еле выносимым, а живот сворачивало при каждом резком повороте.
Часть третья
У Надии и Саида, тогда, были свои телефоны. В их телефонах были антенны, и эти антенны вытягивали для них невидимый мир, волшебным способом, мир, который был вокруг них и также нигде, перенося их в разные близкие и далекие места, туда, где они никогда не были и никогда не будут. Много десятилетий в их стране после обретения независимости телефонные линии в их городе оставались большой редкостью, и лист ожидающих был длинным, и рабочие, проводящие медные провода и устанавливающие массивные телефонные аппараты, встречались, уважались и получали взятки, как какие-нибудь герои. Но теперь волшебные палочки правили воздухом города, свободные от всего, миллионы телефонов, и можно было стать обладателем телефонного номера в считанные минуты за совершенно небольшие деньги.
Саид пытался совладать с притяжением к своему телефону. Он посчитал, что у него слишком мощная антенна, и магия, созываемая ей слишком завораживающая, словно еда на бесконечном банкете, набивая себя, беспрерывно набивая себя, пока не начинал ощущать себя заторможенным и больным, и ему приходилось стирать или прятать или запрещать себе пользоваться приложениями-аппами, за исключением некоторых необходимых. Его телефон мог позвонить. Его телефон мог послать сообщения. Его телефон мог фотографировать, определять небесные тела, трансформировать город в карту, когда он ехал. Но только и всего. В большинстве своем. За исключением каждодневного вечернего часа, когда он включал браузер на телефоне и исчезал на тропинках интернета. Правда, тот час был жестко регулируемым, и, когда он проходил, таймер подавал сигнал — мягкий, еле слышный звон, словно приходящий с некоей воздушной планеты от жрицы, светящейся голубым мерцанием науч-фана — и он вешал электронный замок на браузер до наступления следующего вечера.
Даже такой урезанный в своих возможностях телефон, лишенный стольких потенциальных возможностей, позволил ему коснуться существования Надии, сначала осторожной неторопливостью, а потом — все чаще и чаще, в любое время дня или ночи, позволил ему войти в ее мысли, когда она вытиралась после утреннего душа, когда ужинала в своем одиночестве, когда сидела за рабочим столом, когда облегченно откидывалась на спинку туалета после опорожнения мочевого пузыря. Он рассмешил ее, однажды, потом еще раз, потом еще и еще, и еще, и от него загоралась ее кожа и укорачивалось ее дыхание от внезапно охватившего желания, и он стал ее настоящим без своего присутствия, и точно то же произошло с ним. Вскоре установился ритм их отношений, и после чего не проходило и нескольких утренних часов без их контакта, и в те ранние дни их романа они ощутили нарастающее желание насытиться, коснуться друг друга, но без телесного прикосновения, без выплеска. Они начали проникать друг в друга, еще не поцеловавшись.
В отличие от Саида, Надия не нуждалась в ограничении своего телефона. Он был верным компаньоном в долгие вечера, как и для многочисленных молодых людей, запертых в своих жилищах, и она отправлялась далеко-далеко в мир в одинокие, бесконечные ночи. Она смотрела на падающие бомбы, на занимающихся упражнениями женщин, на совокупляющихся людей, на скапливающиеся облака, на волны, падающие на песок, будто шершавые лизанья недолговременных, короткоживущих, исчезающих языков, языков планеты, которой когда-то не станет.
Надия часто посещала социальные медиа-сайты, хотя от нее оставалось не так много следов, не выставляя многого о себе и применяя неявные пользовательские имена и аватары — интернетные эквиваленты черной робы. Оттуда Надия заказала глючные грибы, которые она и Саид съели в их первую ночь физической близости, такие грибы все еще доставляются за наличные курьерами в том городе и в наше время. Полиция и антинаркотические агентства занимались другими, лидирующими, субстанциями, и для ни о чем не подозревающих — грибы, галлюциогены ли портобелло ли, выглядели одинаково и довольно безобидно, чем воспользовался местный житель средних лет с прической понитэйл, у которого был небольшой бизнес, предлагающий редкие ингредиенты поварам и эипкурейцам, и в кибер-пространстве почитаемый, в основном, молодыми людьми.
Через несколько месяцев этому человеку с понитэйлом отрубят голову, прорезав метку на шее зубчатым ножом для большего дискомфорта, его безголовое тело подвесят за лодыжку на электромачте, где оно болталось, размахивая ногами, пока не сгнил и не порвался обувной шнурок — вместо веревки — палача, и никто не осмелился опустить тело оттуда.
Но даже до этого свободный виртуальный мир города находился в явном контрасте с повседневной жизнью большинства людей: для тех молодых людей, и, в особенности, для тех молодых женщин, и, более всего, для тех детей, улегшихся спать голодными, которые могли видеть на крохотных экранах людей в других странах, приготавливающих и поедающих еду, и даже устраивающих драки с пищей, и где еды было так много, что в сам факт существования подобного было трудно поверить.
В интернете присутствовали секс, спокойствие, многообразие и гламур. На улице, за день до прибытия грибов к Надии, стоял плотного телосложения мужчина у светофора с красным светом у полуночного перекрестка, который повернулся к Надии и поприветствовал ее, а когда она проигнорировала его, начал ругаться, говоря, что только шлюха может водить мотоцикл, и разве она не знает, что было неприлично так водить для женщины, и разве она видела хоть кого-нибудь еще с мотоциклом, и кто ты такая, и ругался с такой злостной яростью, что ей показалось — он нападет на нее, пока она там стояла у светофора, глядя на него, с опущенным забралом, и громко стучало сердце, но ее руки крепко держали сцепление и газ рукояток, ее руки были готовы унести ее оттуда, явно быстрее, чем он мог бы последовать за ней на своем ободранном мотороллере, пока тот не кивнул головой и уехал, выкрикнув нечто, вроде придушенного возгласа — этот звук мог быть и гневом и точно так же болью.
* * *
Грибы прибыли следующим утром в офис Надии, их курьер в униформе совсем не подозревал, что было внутри посылки, за которую расписалась и заплатила Надия, за исключением описания — продукты. Приблизительно в то же самое время группа вооруженных людей захватила городскую торговую биржу. Надия и ее коллеги провели много времени у телевизора, расположенного на их этаже рядом с водяным кулером, но к полудню все было кончено, и армия решила, что риск для заложников был меньшим злом, чем риск для национальной безопасности, чтобы продолжался этот слишком законопослушный и подрывающий мораль спектакль, и здание было захвачено максимально возможными силами, и вооруженные захватчики были уничтожены, а приблизительное число погибших среди работников было немногим меньше ста человек.
Надия и Саид посылали друг другу сообщения во время происходившего, и сначала они решили не планировать их встречу в этот вечер — второе приглашение для Саида прийти к ней домой — но, когда ко всеобщему удивлению, сообщения о ночном комендантском часе не последовало, скорее всего из-за желания власти показать свое полное контролирование ситуации, да и Надия и Саид беспокойно тосковали друг о друге, и тогда они решили все-таки встретиться.
Автомобиль семьи Саида был отремонтирован, и он приехал в нем к Надии вместо своего мотороллера, ощущая себя менее заметным для окружающих, сидя в закрытой машине. Но во время перемещений в трафике его боковое зеркало поцарапало дверь блестящего черного дорогого, стоимостью больше дома, автомобиля, перевозящего какого-то богача или важную персону, и Саид приготовился к крику, возможно, к драке, но охранник, вышедший с переднего пассажирского сиденья машины, с ружьем, едва бросил взгляд на Саида — скользящий и воинственный — как тут же был позван назад, и автомобиль сорвался с места, поскольку, видимо, хозяину сейчас очень спешилось.
* * *
Саид запарковал машину за углом здания Надии, послал сообщение о своем прибытии, дождался стука упавшего пластикового пакета, надел на себя робу и поспешил наверх, все точно так же, как до этого, только в этот раз он принес свой груз: поджаренные на гриле курица и баранина и еще горячий, свжевыпеченный хлеб. Надия взяла его еду и положила в печь, чтобы она оставалась там теплой надолго, но эта предосторожность была напрасной, поскольку их ужин станет совсем холодным, когда они съедят его под самое утро.
Надия вывела Саида на крышу. Она разложила широкий матрас с плотным ковровым верхом на террасе и села, упираясь спиной в парапет, и пригласила Саида сделать то же самое. Он сел и ощутил своим бедром гладкость ее бедра, а она ощутила своим бедром гладкость его бедра.
Она спросила его: «Разве ты не снимешь?»
Она имела в виду черную робу, а он забыл, что он — в ней, и он оглядел себя и ее и улыбнулся, и ответил: «Ты первая».
Она засмеялась: «Вместе, тогда».
«Вместе».
Они встали и стянули с себя робы, лицом к лицу, и под ними они были одеты в джинсы и свитера из-за прохлады ночного воздуха, и его свитер был коричневый и свободный, а ее был бежевый и обтягивал ее тело словно мягкая вторая кожа. Он попытался благородно удержать себя от взгляда на ее фигуру — его глаза в ее глазах — но, конечно же, как нам всем известно, что случается в таких обстоятельствах, он не был уверен, что смог удержаться: феномен бессознательного взгляда.
Они сели, и она положила кисть руки на его бедро, закрытой ладонью вверх, разжала пальцы.
«Ты когда-нибудь пробовал психоделичные грибы?» спросила она.
* * *
Они тихо беседовали друг с другом под облаками, за которыми иногда прорезывалась луна, иногда — темнота, рассматривая волны и завихрения отсвеченной городским светом серости. Поначалу все казалось обычным, и Саид спрашивал себя: может, она, пошутила, или ее обманули и продали не то. Вскоре он решил, что по каким-то неведомым обстоятельствам — биологические ли, психологические ли — он был просто, увы, невосприимчивым к чему-там-эти-грибы-должны-были-сделать.
И потому он оказался неподготовленным к благоговейному страху, объявшему его, к удивительному чувству, ощутившее всей своей кожей; и лимонное дерево в глиняном чане на террасе Надии, вышиной с его рост, проросшее из земли, которая проросла в глину чана, который стоял на кирпичах террасы, которая была словно вершина здания, которое само вырастало из земли, и на этой вершине земной горы лимонное дерево тянулось вверх, вверх, порывом таким прекрасным, что Саида захлестнула любовь, и вспомнились родители, к которым он внезапно ощутил чувство благодарности, и захотелось мира, такого мира для всех, для каждого, для всего, потому что мы все такие хрупкие и такие прекрасные, и все конфликты разрешились бы, если бы другие ощутили то же самое, и потом он увидел Надию, и что она увидела его, и ее глаза были, как миры.
Они не держались руками пока не вернулось ощущение реальности к Саиду, спустя несколько часов, не обычная нормальность, которую, как показалось ему, он уже не смог бы воспринимать, как обычную нормальность, но нечто близкое к восприятию до того, как они съели грибов, и когда они взяли руки друг друга — лицом к лицу — сидя, их запястья покоились на их коленях, на их коленях, почти касающихся друг друга, и тогда он наклонился вперед, и она наклонилась вперед, и она улыбнулась, и они поцеловались, и тут они поняли, что наступило утро, и что их более не скрывал сумрак, и что их могут увидеть с других крыш, и тогда они зашли внутрь и поели остывшую еду, не всю, и вкус у еды был очень сильным.
* * *
Телефон Саида отключился, и он подключил его в машине к запасной батарее, которую он держал в ящике для перчаток, и его телефон вернулся к жизни, гудя и звеня родительской паникой, их пропущенными звонками, их сообщениями, их накапливающимся страхом по невернувшемуся домой сыну в ночь, когда многие дети многих родителей не вернулись домой.
Когда Саид вернулся домой, его отец лег спать, и в прикроватном зеркале промелькнул вид еще более постаревшего мужчины, а его мать так обрадовалась виду своего сына, что ей захотелось, всего на одно мгновение, шлепнуть его по щеке.
* * *
Надии совсем не хотелось спать, и она решила помыться в душе, прохладной водой из-за долгого нагрева газового бойлера. Она вышла из душа обнаженной, словно только что родившаяся, и одела джинсы и футболку, как обычно, когда была одна дома, и затем — ее робу, готовая сопротивляться притязаниям и ожиданиям окружающего мира, и вышла на улицу погулять в ближайший парк, который сейчас уже опустел от ранноутренних наркош и гей-любовников, ушедших до этого из домов по делам, объясняя их долговременной необходимостью.
* * *
Позже этим же днем, вечером — любимое время Надии — солнце соскользнуло за горизонт, а в Сан Диего, Калифорния, в районе Ла-Холья, было еще утро, и там жил один старик, объясняя свое место для жизни тем, что ему нравилось смотреть на Тихий океан. Обстановка в доме была обшарпанной, но тщательно отремонтированной, как и его сад: мескитовые деревья и пустынные ивы и суккуленты, росшие здесь уже долгое время, но все еще живые и без болезненных язв.
Старик когда-то служил во флоте во время одной из больших войн, и он уважал форму и тех молодых людей, выстроившихся по периметру вокруг его жилья с командующим ими офицером. Они напомнили ему о том времени, когда он был их возраста и такой же сильный, и такой же подвижный, и такой же целеустремленный, и такой же уверенный в своем соседе, и эта уверенность, которую он и его друзья называли братской, была в чем-то крепче братской, или, по крайней мере, крепче его отношения к своему брату, к младшему брату, который умер прошлой весной от рака горла, исхудавший до веса какой-нибудь девочки, и который не разговаривал со стариком много лет, а, когда старик пришел увидеть его в больницу, тот уже не мог говорить, мог только смотреть, и в тех глазах было одно лишь усталое истощение, не страх, смелые глаза младшего брата, которого старик никогда не считал смелым.
У офицера не было много времени для разговоров, но для возраста и послужного списка старика время у офицера нашлось, и поэтому он позволил старику пройтись вокруг, пока не попросил вежливым наклоном головы покинуть свое жилье.
Старик спросил офицера, кто выходили — мексиканцы или мусульмане, потому что он не знал точно, и офицер ответил, что он не имеет права отвечать, сэр. И старик постоял молча еще какое-то время, и офицер позволил ему это сделать, пока автомобили разворачивались и объезжали это место, а богатые соседи, недавно купившие по соседству дома, сидели у своих окон и пялились, и тогда старик спросил, чем он мог бы помочь.
Старик внезапно ощутил себя ребенком, спрашивая так. Офицер возрастом мог быть его внуком.
Офицер ответил, что они скажут когда надо, сэр.
«Скажу когда надо», так говорил отец старика, когда он приставал к нему. И каким-то образом офицер выглядел, как его отец, скорее, как его отец, чем сам старик, как его отец, когда старик был просто мальчишкой.
Офицер предложил старику устроить его доставку, если он захочет, к родственникам или к друзьям.
Это был теплый зимний день, спокойный и солнечный. В океане копошились серферы в своих гидрокостюмах. Над океаном, вдалеке, серые транспортные самолеты выстраивались линией перед посадкой в Коронадо.
Старик задумался над тем, куда он должен перебраться, и, раздумывая об этом, понял, что не было никакого определенного места.
* * *
После атаки на биржу в городе Саида и Надии стало похоже на то, что вооруженное противники власти изменили тактику и стали более самоуверенными, и вместо обычных взрывов бомб или перестрелок они начали захватывать и удерживать части города, иногда здание, иногда целый район, на несколько часов, но, иногда, на несколько дней. Как получилось, что прибыло из их укреплений в горах столько много людей и так быстро — оставалось загадкой, но для слишком широкого города было совершенно невозможно отъединить его от окружающей провинции. К тому же, у противников было много сочувствующих в городе.
Комендантский час, так ожидаемый родителями Саида, наконец-то наступил, и за исполнением стали следить очень жестко: увеличилось не просто количество проверочных пунктов, укрепленных мешками с песком и колючей проволокой, но и количество боевых машин пехоты с крупнокалиберными пулеметами и танков с металлическим башенками, окруженными прямоугольными отростками противоракетной защиты. Саид отправился с отцом на молитву в первую пятницу после объявления комендантского часа, и Саид молился за мир, а отец Саида молился за Саида, а священник в своей проповеди попросил всех молящихся направить свои молитвы на победу правоверных, но осторожно воздержался от уточнения, чью сторону конфликта он считал правоверной.
Отец Саида упал по дороге в университетский кампус, и его сын отвез его на работу, которая оказалась ошибкой всей его карьеры, и ему надо было сделать в своей жизни что-то такое, чтобы у него были деньги, и он смог бы послать Саида в другую страну. Возможно, он был слишком самовлюблен, и его решение о помощи молодым и стране через учение и исследования оказалось лишь выражением честолюбия, и более правильным путем в жизни было бы накопление богатства любой ценой.
Мать Саида молилась дома, в последнее время — еще более усердно, и она настаивала на том, что ничего не поменялось, что в городе и раньше случались подобные кризисы, хотя не могла сказать, когда именно, и что местная пресса и зарубежные медиа преувеличивали опасность. У нее, правда, появились трудности со сном, и, получив от своего фармацевта — женщины, которой она доверяла — успокоительное, она стала принимать его на ночь.
В офисе Саида работы стало еще меньше даже после того, как трое сослуживцев перестали приходить, и, казалось, от этого работы должно было стать больше. Разговоры сфокусировались более всего на различных тайных теориях заговоров, на ситуации со сражениями, и как уехать из страны, поскольку визы, долгое время почти невозможные, теперь стали совсем невозможными для небогатых людей, а путешествия на пассажирских самолетах и кораблях вообще были без вопросов, и размышления о возможностях, или точнее — о риске, различных наземных путей снова и снова приводились и разбирались до самых деталей.
На работе у Надии происходило почти то же самое, с добавлением интриги по поводу ее босса и ее босса у босса, по слухам, улетевших через океан, поскольку ни один из них так и не появился после праздников. Их офисы оставались опустевшими стеклянными коробками в командной рубке длинного коридора — оставшийся костюм в чехле на вешалке в одном — пока ряды открытых виду рабочих столов возле них оставались еще, в основном, занятыми, включая стол Надии, за которым она все чаще проводила время со своим телефоном.
* * *
Надия и Саид стали встречаться днем, обычно, за обедом в дешевой бургерной, равноудаленной от их работ, с глубокими кабинками в конце зала, вроде как вдали от глаз, и там они держали друг друга за руки под столом, и иногда он гладил ее внутреннюю часть бедра, а она клала свою ладонь на застежку-молнию его брюк, но совсем ненадолго и очень редко, в перерывах между появлениями официанта, и когда не смотрели посетители, и так они мучили друг друга, поскольку путешествия между закатом и рассветом были запрещены, и они не могли остаться наедине друг с другом без того, чтобы Саид провел всю ночь у нее, что, казалось ей, стоило сделать, а для него, как сказал он, они не должны торопиться, потому что он не знал, как сказать своим родителям, и еще потому, что боялся оставить их одними.
В основном, они сообщались по телефону: то сообщение, то ссылка на статью, фотография с работы, или из дома, перед окном на закате или в набежавшем бризе, или смешное выражение лица.
Саид был уверен, что влюбился. Надия не была уверена в том, что чувствовала она, но понимала — что-то происходило. Драматические обстоятельства, подобные которым испытывали они и другие влюбленные, имеют привычку создания драматических эмоций, и, более того, комендантский час вызвал эффект, подобный любовным отношениям на далеком расстоянии, а такие отношения на далеком расстоянии хорошо известны своим нагнетанием страсти, по крайней мере на какое-то время, так и пост хорошо известен своим нагнетанием страсти к еде.
* * *
Выходные дни первых двух недель комендантского часа прошли без их встреч, и вспышки перестрелок сделали невозможными путешествия сначала в районе Саида, а потом и у Надии; и Саид послал Надии популярную шутку о том, что военные просто вежливо напомнили городскому населению: всем надо хорошенько отдохнуть в выходное время. И в обоих случаях армия провела воздушные атаки, разбив окно душевой Саида, когда он там мылся, и вызвав похожую на землетрясение дрожь крыши с лимонным деревом, когда Надия сидела на своей террасе, выкуривая план. Боевые самолеты с ревом проносились по небу.
Третья неделя была тихой, и Саид направился к Надии; и она встретила его а близлежащем кафе, поскольку для нее с каждым днем становилось слишком рискованно находиться снаружи без робы, а для него — менять верхнюю одежду на улице, и тогда он достал робу в туалете, пока она платила счет, и с покрытой головой и со взглядом в землю, последовал за ней, и как только они поднялись, то тут же бросились в постель и уже почти что обнажились, и после, как посчитала она, такого длительного молчания, она сама спросила его, принес ли он кондом, а он взял ее лицо руками и произнес: «Я не думаю, что мы должны заниматься сексом до свадьбы».
И она засмеялась и придвинулась еще плотнее.
А он закачал головой.
И она остановилась, уставилась на него и сказала: «Ты что, *****, шутишь?»
* * *
На мгновение Надию охватила дикая ярость, но затем она взглянула на Саида, а тот стал почти до смерти напуганным, и пружина ослабела в ней, и она слегка улыбнулась и крепко обняла его, чтобы подразнить и проверить его, и сказала, удивившись сама себе: «Ничего. Все понятно».
* * *
Позже, лежа в постели, слушая старую и немного заигранную пластинку с босса-новой, Саид показал ей на своем телефоне фотоработы французского фотохудожника известных городов ночью, залитых одним лишь звездным светом.
«Но как он сделал, чтобы все выключили свой свет?» спросила Надия.
«Он не делал», пояснил Саид. «Он просто убрал освещение. Компьютером, я так думаю».
«А звезды оставил».
«Нет, над городами ты почти не увидишь звезд. Как и тут. Ему пришлось добираться до безлюдных мест. Где нет человеческого света. Для каждого города он находил безлюдное место, которое было бы чуть севернее, южнее или почти на такой же широте, практически в этом месте мог бы быть город через несколько часов с вращением Земли, и как только он попадал туда, то нацеливал камеру в том же направлении».
«Значит, он получал то же самое небо над городом, как если бы было совсем темно?»
«То же самое небо, но в разное время».
Надия поразмыслила об этом. Они были прекрасными до боли, те призрачные города — Нью Йорк, Рио, Шанхай, Париж — под их раскрашенными звездами небесами, фотографии, как будто с эпохи до-электричества, но с нынешними зданиями. Выглядели ли они, как в прошлом, или как в настоящем, или как в будущем — она никак не могла решить.
* * *
На следующей неделе стало казаться, что тяжеловесное шоу правительственных сил прошло успешно. Больше не было громких атак на город. Даже появились слухи о снятии комендантского часа.
Но в один день просто-напросто исчезли сигналы у каждого мобильного телефона в городе, отключились, словно кто-то щелкнул переключателем. Заявление о правительственном решении было сделано по телевидению и радио: временная антитеррористическая мера, как было сказано, но без даты окончания. Интернетное сообщение тоже исчезло.
У Надии не было дома обычного телефона. Проводная линия у Саида не работала уже несколько месяцев. Лишенные доступа друг к другу и к миру, привязанному к их мобильным телефонам, и заключенные в свои квартиры ночным временем комендантского часа, Надия и Саид, и бесчисленное количество других стали чувствовать себя покинутыми, одинокими и напуганными происходящим.
Часть четвертая
Вечерние классы Саида и Надии закончились, совпав с появлением первых густых туманов зимы, да и в любом случае, комендантский час означал одно, что курсы, как их, вряд ли будут продолжаться. Оба они не побывали в рабочем офисе его и ее, и потому не знали, как найти друг друга в течение дня, а без мобильных телефонов и доступа к интернету не было никакого пути возобновить их общение. Было так, словно они стали летучими мышами, потерявшими свои уши, и, как следствие того, потеряли способность находить вещи в полете в темноте. На следующий день после того, как исчезло телефонное сообщение, Саид направился в бургерную — их обычное место для обедов, но Надии там не оказалось, а на следующий день, когда он опять пришел, ресторан был наглухо закрыт, и его хозяин, скорее всего, сбежал или просто исчез.
Саид знал, что Надия работала в страховой компании, и из своего офиса он позвонил телефонисту и попросил названия и номера телефонов страховых компаний, и попытался позвонить во все — одна за другой, спрашивая о ней. Заняло много времени: телефонная компания работала с большой нагрузкой от внезапного наплыва звонящих и от необходимости ремонтировать поврежденные боями линии, и линия офиса Саида подключалась не все время, а когда это происходило, то лишь изредка, и телефонист — несмотря на отчаянные мольбы Саида, отчаянные мольбы стали обычными в те дни — мог позволить лишь два звонка за один раз, и когда Саид, наконец, получал пару новых номеров для пробы, то чаще всего один или даже оба оказывались нерабочими в то время, и ему приходилось звонить и еще раз звонить, и еще раз.
Все свое обеденное время Надия проводила в поспешном накапливании запасов дома. Она покупала мешки с мукой, с рисом, с орехами и сухофруктами, бутылки масла, консервы с сухим молоком, мясом и рыбой, все — по заоблачным ценам, и ее плечи заболели от постоянной переноски в свою квартиру то одного, то другого. Она любила есть овощи, но люди посоветовали, что главным было накопить как можно больше калорийных продуктов, а такая еда, как овощи, занимала слишком много места для количества энергии в них, и к тому же легко портились — мало пользы. Вскоре полки магазинов и лавок неподалеку от нее опустели, а после введения правительственного постановления, что никто не мог купить больше положенного в один день, Надия, как большинство других, запаниковала, и в то же время ей стало легче.
В наступившие выходные она пошла на рассвете в банк и встала в уже длинную очередь, ожидающую открытия банка, но, когда он открылся, очередь превратилась в беспорядочную кучу, и ей не оставалось ничего, как влиться в нее вместе со всеми, и в той беспорядочной толкотне ее хватали сзади, кто-то водил рукой по ее ягодицам и между ног и пытался войти в нее сзади пальцем, чего этому некто никак не удавалось сделать из-за многих слоев одежды на ней, но добрался довольно близко, как только было возможно в тех обстоятельствах, давя в нее с огромной силой, пока она была зажата телами вокруг, не имея никакой возможности двинуться или поднять свои руки, и, находясь почти в полусознательном состоянии, она не могла кричать или говорить — лишь сжимая свои ягодицы вместе, и рот ее почти автоматически сжался, почти физиологически, инстинктивно, запечатывая свое тело в одно целое, и, когда толпа двинулась, и палец исчез, то вскоре какие-то бородачи разделили толпу на две половины — мужчин и женщин, и она попала в женскую зону, и ее очередь дошла до банковского служащего лишь после обеда, где она сняла столько наличных, сколько позволялось, пряча ее на теле и в обуви, и оставив совсем немного в своей сумке, и потом она направилась к меняльщику поменять деньги в доллары и евро, а потом — к ювелиру, чтобы купить на оставшееся совсем немного золотых монет, постоянно оглядываясь через плечо в поисках следящих за ней, и затем она пошла домой и увидела, что у входа ее ожидает какой-то человек, и, разглядев его, она вся застыла от нежелания расплакаться, хотя все ее тело болело от синяков, и она была страшно напуганной и разозленной, и тот человек, ожидавший ее весь день, оказался Саидом.
Она провела его наверх, совсем забыв о том, что их могут увидеть, или наплевав на это, не беспокоясь ни о каких робах, и наверху, у себя, она сварила для них обоих чай, и руки ее дрожали, и было трудно начать говорить. Ей было стыдно и зло от того, что ей стало радостно от вида его, и у нее появилось ощущение, что она может накричать на него в любой момент, и, видя ее в таком настроении, он молча открыл свои пакеты и дал ей керосиновую походную печку, топливо, большую коробку спичек, пятьдесят свечей и упаковку таблеток для дезинфекции воды.
«Цветы не смог найти», сказал он.
Она, наконец, улыбнулась полу-улыбкой и спросила: «У тебя есть оружие?»
* * *
Они выкурили джойнт и послушали музыку, и после Надия опять попыталась приблизить Саида к себе не потому, что у нее появилось настроение, а потому, что ей захотелось выжечь из себя воспоминание о банковской очереди, а Саид опять смог удержаться, хотя они продолжали гладить друг друга, и он снова сказал ей, что секс у них должен быть только после свадьбы, и он не может пойти против своих убеждений, и потом он предложил ей переехать к его родителям, и она поняла его слова, как некое предложение.
Она погладила его волосы на голове, пока его голова покоилась у нее на груди, и спросила: «Ты хочешь сказать, что ты женишься?»
«Да».
«На мне?»
«На ком угодно, если честно».
Она хмыкнула смехом.
«Да», сказал он, понявшись и глядя на нее. «На тебе».
Она ничего не ответила.
«А ты что думаешь?» спросил он.
Она ощутила огромную нежность к нему в тот момент, когда он ждал ее ответа, и также она ощутила нарастающее напряжение, и потом она ощутила нечто еще вместе со всем этим, нечто сложно описуемое и близкое к горькой жалости.
«Я не знаю», сказала она.
Он поцеловал ее. «Ладно», ответил он.
Перед его уходом, она записала все детали его рабочего местонахождения, а он — ее, и она дала ему черную робу для накидки сверху, и она попросила его больше не прятать робу в узком проеме между ее зданием и рядом стоящим, где до этого он прятал накидку, и она забирала ее потом, а просто оставить эту робу у себя, и она дала ему запасной комплект ключей. «Чтобы моя сестрица смогла сама зайти в следующий раз, если она появится здесь раньше меня», объяснила она.
И оба они переглянулись, улыбаясь.
Но, когда он ушел, до нее донесся грохот далеких разрывов артиллерии, расчищающей здания — где-то возобновились яростные бои, и ее охватило волнение за него и за его дорогу домой, и она посчитала происходившее абсурдной ситуацией, потому что ей придется дождаться следующего дня и пойти на работу, чтобы узнать: смог ли он спокойно добраться до своего дома.
Надия закрыла входную дверь на засов и с трудом передвинула свою софу дополнительным укреплением двери, забаррикадировавшись от всего изнутри.
* * *
Той же ночью, на крыше не такой, как у Надии, в районе города не так далеко от района Надии, стоял смелый человек в освещении своего мобильного телефона и ждал. Он мог слышать иногда тот же грохот артиллерии, который слышала Надия, только гораздо громче. От шума дрожали окна его квартиры, правда, мелкой дрожью безо всякого риска разбиться. У смелого человека не было наручных часов и фонарика, и поэтому его неработающий телефон служил ему и тем и другим, и на нем был тяжелая зимняя куртка, а во внутреннем кармане находились пистолет и нож с лезвием длиной в кисть руки.
Еще один человек начал появляться из двери в конце комнаты, из двери чернее наступившей темноты, черной, несмотря на свет от телефона, и этот смельчак лишь наблюдал за появлением другого со своего поста у выхода на крышу, но ничем не пытался помочь тому. Смельчак лишь прислушивался к звукам на поднимающейся лестнице, к отсутствию звуков на лестнице, и стоял на своем посту и держал телефон, и касался пальцами пистолета в кармане куртки, бесшумно наблюдая за всем.
Смельчак был возбужденно взволнован, хотя это трудно было различимо в темноте и на его бесстрастном лице. Он был готов погибнуть, но у него не было скорых планов на смерть, он планировал жить, и он планировал совершить много великих дел, пока он мог.
Второй человек лег на пол, закрыв глаза от света, и стал набираться сил, держа рядом с собой, похожий на советский, но сделанный в другом месте, автомат. Он не мог ясно видеть, кто стоял у двери на крышу — просто кто-то стоял.
Смельчак продолжал стоять, держа руку на пистолете, прислушиваясь, все прислушиваясь.
Второй человек встал на ноги.
Смельчак махнул светом своего телефона, посылая второго человека вперед, как будто хищную рыбу, охотящуюся в чернильной глубине, и, когда второй человек приблизился так, что его можно было коснуться, смельчак открыл дверь квартиры, и второй человек вышел в тишину лестницы. И тогда смельчак закрыл за ним дверь и продолжил свое стояние, ожидая появления другого человека.
* * *
Не прошло и часа, как второй человек вступил в бой, среди таких же, как он, и бои, завязавшиеся сейчас с жестокой беспрерывностью, стали еще более яростными и равносильными по сравнению с предыдущими.
Война в городе Саида и Надии стала выглядеть, как нечто интимное, близкое: воющие находились на очень близком расстоянии друг от друга, фронтовые линии определялись улицами, по которым когда-то ходили на работу, школами, в которую когда-то ходила чья-то сестра, домами подруги чей-то тети, магазинами, в которых когда-то покупались сигареты. Матери Саида показалось, что она увидела бывшего ее студента, яростно поливающего вокруг из крупнокалиберного пулемета, установленного позади пикапа. Она посмотрела на него, а он посмотрел на нее, но не развернулся в ее направлении и не начал стрелять, и поэтому она посчитала его тем самым студентом, хотя отец Саида заявил, что это ничего не означало, а означало лишь одно, что она увидела человека, которому хотелось стрелять в другом направлении. Она вспомнила, что он был очень застенчивым заикой и быстро соображал в математике — хороший парень, но она никак не смогла вспомнить его имени. Она не была уверена, что это был точно он, и как она должна была отнестись к этому. Если повстанцы победят, предположила она, значит, не все плохие люди могут быть с ними.
Городские районы становились повстанческими довольно быстро, и у матери Саида воображаемая карта места, где она провела всю свою жизнь, стала похожа на лоскутное одеяло с кусками правительственной земли и кусками повстанческой. Рваные швы между лоскутами были самыми смертельными местами, и их нужно было избегать чего бы это не стоило. Ее мясник и красильщик, который когда-то помог сделать ей празднично-выходную одежду, оба пропали в одном из таких швов, их лавки были разбиты и превратились в руины и осколки стекла.
Люди исчезали в те дни, и, в большинстве случаев, трудно было сказать, по крайней мере долгое время, живы ли они или мертвы. Надия прошла однажды специально мимо дома ее семьи, чтобы не поговорить с ними, а просто убедиться на расстоянии, что с ними все в порядке, и все живы, но покинутый ею дом выглядел оставленным и без признаков жильцов и жизни. Когда она снова пришла туда, то дома уже не было — неузнаваемое место, раздавленное мощью бомбы весом почти с небольшой автомобиль. Надия так и не узнала о случившимся с ними, но она всегда надеялась на то, что те нашли возможность скрыться целыми и здоровыми, оставив город хищным воякам на обеих сторонах, которым, как казалось, очень хотелось разрушить то, чем они потом овладевали.
Ей и Саиду повезло, что их дома оставались нетронутыми какое-то время в районе, контролирумом правительством, и им не пришлось увидеть самые жестокие бои и ответные воздушные налеты, которые посылала армия на местных жителей, выказавших свою нелояльность.
У босса Саида стояли в глазах слезы, когда он сказал своим служащим, что ему приходится закрыть свой бизнес, извиняясь за свою неспособность продолжать и обещая рабочие места для них, когда все образуется, и он сможет вновь открыться агенство. Он выглядел настолько плачевно, что служащим казалось: это они, с прощальными денежными чеками, утешали его. Все посчитали, что нынешнее время было совсем нежелательным для таких прекрасных и деликатных людей, как он.
В офисе Надии отдел зарплаты перестал выдавать денежные чеки, и в течение нескольких дней все перестали появляться. Не было никаких прощаний, по крайней мере там, где она работала, и поскольку первыми исчезнувшими оказались охранники, то началось тихое растаскивание, или оплата натурой, и люди ушли, унеся все возможное. Надия взяла два лэптопа в переносных кейсах и свой плоскоэкранный телевизор, но, в конце концов, она не взяла телевизор, потому что было трудно прикрепить его на ее мотоцикл, и тогда она передала его мрачному коллеге, вежливо поблагодарившему ее за это.
* * *
Изменилось поведение людей у окон. Окно стало границей, через которую быстрее всего могла прийти смерть. Окна даже не могли защитить от случайно долетавшей далекой стрельбы: любое место с видом наружу могло оказаться местом долета. Более того, само стекло могло легко стать шрапнелью от близкого взрыва, и каждый слышал о ком-то умершем от того, что потерял слишком много крови от порезов разлетевшихся стеклянных осколков.
Многие окна были уже разбиты, и благоразумнее было бы вынуть остающиеся, но шла зима, и ночи были холодными, а без газа и электричества — их все меньше и меньше доходило до населения — окна, как казалось, останавливали наружный холод, и люди оставили их в том же виде.
Саид и его семья занялись передвижением мебели дома. Они установили шкафы, набитые книгами, у окон их спален, блокируя стекла от их вида, но оставляя свету возможность пробраться внутрь по краям, и они прислонили кровать Саида вдоль длинных окон общей комнаты, с матрасом, стоймя, под углом, чтобы ножки кровати упирались в верхнюю оконную балку. Саид спал на трех уложенных на пол коврах, и он успокаивал родителей, что такая кровать очень подходит к его спине.
Надия заклеила свои окна изнутри липкой лентой, которой, обычно, заклеивают картонные коробки, и прибила гвоздями по оконной раме плотные черные пластиковые пакеты. Когда была возможность получать электричество, она заряжала аккумуляторную батарею, устраивалась поудобнее рядом и слушала свои пластинки в одиночном свете лампочки; грубые звуки войны приглушались ее музыкой, и тогда вид ее окон казался ей аморфными черно-цветными картинами современного искусства.
К дверям у людей тоже начало меняться отношение. Появились слухи, что есть двери, которые могут перенести тебя в другое место, часто — далеко отсюда, благополучно вытащив тебя из смертельной ловушки. Некоторые утверждали, что знают людей, которые знали людей, которые пробирались через такие двери. Обычная дверь, как говорили они, может оказаться очень необычной дверью, и подобное может случиться без всякого предупреждения и с любой дверью. Большинство посчитало такие слухи небылицами, суевериями слабоумных. Но большинство других начали смотреть на свои двери как-то по-другому.
Надия и Саид, тоже, обсуждали подобные слухи и не поверили им. Хотя каждое утро, когда они просыпались, Надия разглядывала свою входную дверь и двери туалета, гардероба и на террасу. Каждое утро, в своей комнате, Саид занимался тем же. Все их двери оставались просто дверьми — вкл/выкл переключателями двух соседних мест, бинарно открыта или закрыта, но каждая их дверь, подразумевая почти невозможность иррациональной возможности, частично превратилась в одушевленный объект, обладающий еле заметной насмешкой над желаниями тех, кто желал оказаться далеко отсюда, шепчущий молча из дверной фрамуги о том, что такие мечты были мечтами глупцов.
* * *
У безработных Саида и Надии не было препятствий для встреч друг с другом, за исключением боев, но это препятствие было крайне серьезным. Несколько местных радиостанций, все еще передающих, заявляли, что война продвигается успешно, а международные станции говорили о разрастающем конфликте, и что разрастается количество мигрантов, добирающихся до богатых стран, которые начали строить стены, ограждения и пограничные укрепления, но с небольшим эффектом для них. У повстанцев была своя пиратская радиостанция, где вещал сладкоголосый диктор с глубоким и обезоруживающим сексуальным голосом, который выговаривал нарочито медленно монотонную, словно в рэпе, каденцию о том, что падение города было неизбежно.
Саид спросил ее еще один раз о переезде к нему и к его семье, обещая ей, что все объяснит своим родителям, и что у нее будет своя комната, а он будет спать в общей комнате, и им не обязательно будет жениться, и им, из уважения к его родителям, только придется сохранять целомудрие, и так будет сохраннее для нее в такое время, когда нельзя оставаться в одиночестве. Он не добавил слов об особой опасности для одиноких женщин, но она знала, что они оба понимали это, хотя она и не приняла его предложения. Он видел, как ее положение волновало ее, и поэтому он больше не говорил об этом, но предложение оставалось в силе, и она решилась.
Надия сама пришла к решению, что это уже не был город, где опасности для молодой, независимо живущей женщины были управляемы и решаемы ею, и точно так же она волновалась за Саида каждый раз, когда он ехал к ней и возвращался от нее. Но часть ее не принимала идеи переезда к нему, да хоть к кому-угодно, после того, как она с таким большим трудом переехала в свое нынешнее жилье и очень привыкла к нему, к жизни, пусть часто и одинокой, которая была выстроена ею здесь, и также сама идея жить целомудренной полу-любовницей, полу-сестрой Саиду в такой близи с его родителями была довольно странной, и она, возможно, не решилась бы еще долгое время, если бы не смерть матери Саида: заблудившаяся крупнокалиберная пуля пролетела сквозь лобовое стекло их машины и унесла с собой четверть головы матери Саида, не во время ее вождения — она не водила уже много месяцев — а когда она искала внутри потерянную сережку; и Надия, видя в каком состоянии находились Саид и его отец, когда Надия впервые пришла к ним в квартиру в день похорон, осталась с ними той ночью, чтобы предложить свою помощь и утешение и более не провела ни одной ночи в своей квартире.
Часть пятая
Похороны были скромнее и проходили гораздо быстрее в те дни из-за боев. У некоторых семей просто не было выбора, и им приходилось хоронить в своих дворах или в укромных местах у дорог, и стало невозможно добраться до кладбищ, и от того вокруг росли импровизированные могильники: одно умершее тело притягивает другое, как появление одного сквотера на неиспользуемой государством земле может вырасти в целую трущобу.
Обычно, дом, потерявший близкого человека, наполнялся родными и доброжелателями на много дней, но подобная практика теперь была ограничена опасностью пересечения города, и если появлялись люди повидать Саида и его отца, большинство их приходили, стараясь не привлекать к себе внимания, и не задерживались на долгое время. Не та ситуация была в то время, чтобы расспрашивать — какое отношение имела Надия к мужу и сыну умершей, и никто не задавал вопросов, но некоторые вопрошали своими взглядами, и их глаза следовали за Надией, перемещавшейся по их квартире в черной робе, подавая чай и бисквиты и воду, и не молясь, по крайней мере, явно не молясь, а лишь ища повод помочь людям в их земных нуждах.
Саид же молился много, как и его отец, и их гости, и некоторые из них рыдали, но Саид зарыдал лишь один раз, когда впервые увидел тело своей матери и закричал, а отец Саида плакал лишь когда оставался один в своей комнате, молча, бесслезно, словно тело начинало заикаться или дрожать, долго не успокаиваясь, потому что для него потеря была безграничной, и для него благожелательность вселенной исчезла, и его жена была для него лучшим другом.
Надия называла отца Саида «отцом», а тот называл ее «дочерью». Это началось с первой их встречи, посчитав условность приемлимой для нее и для него, приняв допустимую форму общения между молодым и пожилым, даже и не для родственников, а в их случае Надия, как только взглянула на отца Саида, так сразу он показался ей словно отцом из-за его мягкости, и в ней вызвалось чувство оберечь его, будто своего ребенка или щенка, или прекрасное воспоминание, улетучивающееся с каждым мгновением.
* * *
Надия спала в так называемой комнате Саида, на куче ковров и одеял поверх пола, отказавшись от предложения отца Саида поменяться с его кроватью, а Саид спал на такой же, только потоньше, куче в общей комнате, а отец Саида спал в своей спальне, в комнате, где он спал всю свою жизнь здесь, но никак не смог бы вспомнить свой последний раз одинокого сна, и отчего ему было немного непривычно.
Отец Саида каждый день натыкался на вещи жены, и они уносили его сознание из происходящего, как говорится, настоящего: фотография или сережка, или особая шаль, надеваемая по особым случаям; а Надия натыкалась каждый день на вещи, которые приносили прошлое Саида: книга или музыкальная коллекция, или наклейка внутри ящика комода, и в ней вызывались эмоции ее собственного прошлого, остро напоминая о судьбе родителей и ее сестры, а Саид находился в комнате, в которой он обитал лишь изредка, короткое время, давно, когда приезжали родственники издалека, и, попав сюда опять, в нем отзывалась эхо лучших времен, и, странными путями, эти трое делили эту квартиру, пересекаясь и смешиваясь своими ощущениями и различными течениями времени.
Район Саида заняли повстанцы, и небольшие стычки поблизости прекратились, но огромные бомбы все еще падали с неба и взрывались с силой, сравнимой с мощью самой природы. Саид был благодарен Надии за ее присутствие здесь, за изменение, принесенное ею в молчание, опустившееся на их квартиру, совсем не обязательно заполняя ее словами, а тем, что молчание становилось менее пустым и блеклым. И еще он был благодарен ей за своего отца, чья вежливость, когда он вспоминал о нахождении в одной компании с молодой женщиной, удерживала того от замыкания в бесконечной полудреме, и ему приходилось обращать на нее внимание. Как хотелось бы Саиду, чтобы Надия смогла познакомиться с его матерью — ах, если бы его мать смогла бы.
Иногда, когда отец Саида уходил спать, Саид и Надия сидели вместе в общей комнате, бок о бок — близко и тепло, и, держась руками, обычно, обменивались поцелуем в щеку перед сном, но, чаще всего, они сидели молча, но, еще чаще, они тихо разговаривали о том, как сбежать из города или о бесконечных дверных слухах, или просто ни о чем: как точно назвать цвет холодильника, как худеет щетина зубной щетки Саида, как громко храпит Надия, во время ее простуды.
Однажды вечером, они забрались вместе под одеяло в мерцающем свете парафиновой лампы, поскольку в их части города больше не было электричества, и не было ни газа ни воды, и городские службы не работали, и Саид сказал: «Так просто и привычно, что ты — здесь».
«И для меня — тоже», ответила Надия, кладя голову ему на плечо.
«Конец мира, иногда, может оказаться очень уютным».
Она засмеялась. «Да. Как в пещере». «А ты пахнешь, как пещерный человек», добавила она чуть позже.
«А ты пахнешь костром».
Она посмотрела на него и почувствовала, как напряглось ее тело, но удержала себя от любовного прикосновения.
Когда они узнали о том, что и район Надии перешел к повстанцам, и что дороги между их районами расчищены, Саид и Надия вернулись в ее квартиру, чтобы она смогла собрать кое-какие ее вещи. Дом Надии был поврежден, и часть стены на улицу была разрушена. Магазин аккумуляторных батарей на первом этаже стоял разграбленным, но железные двери на лестницу оставались нетронутыми, и, по большому счету, строение стояло довольно прочно — нуждалось в значительном ремонте, естественно, но далеко от того, чтобы разрушиться.
Пластиковые черные пакеты, закрывающие окна Надии, все еще висели, за исключением одного, который был сорван вместе с окном, и вместо узкой прорези края окна виднелось голубое небо, необычно чистое и прекрасное, за исключением тонкой колонны поднимающегося ввысь далекого дыма. Надия взяла проигрыватель и пластинки, одежду и еду, и засыхающее от жажды, но, возможно, живое лимонное деревце, и также деньги и золотые монеты, спрятанные в земле дерева. Эти вещи она и Саид погрузили на заднее сиденье автомобиля, и верхушка лимонного дерева торчала из опущенного окна. Она не вынула деньги и золото из горшка в случае, если их станут обыскивать на пропускном пункте, а тот находился на их дороге, но остановившие их люди выглядели усталыми и изможденными и быстро согласились принять банки с едой за оплату проезда.
Когда они добрались до дома, отец Саида увидел лимонное дерево и заулыбался, впервые за последнее время. Втроем они быстро унесли растение на балкон из-за громкого шума группы вооруженных людей, похожих на иностранцев, которые начали спорить о чем-то между собой на непонятном языке.
* * *
Надия спрятала свой проигрыватель и пластинки в комнате Саида, из-за того, что, хоть время на оплакивание матери Саида уже прошло, сама музыка попала под запрет повстанцев, и их квартира могла быть обыскана безо всякого ордера, и такое уже случилось однажды, когда повстанцы забарабанили в дверь посреди ночи, да и в любом случае, если бы ей захотелось послушать музыку, электричества все равно не было, даже на зарядку аккумуляторных батарей.
Той ночью, когда пришли вооруженные повстанцы, они разыскивали людей определенной религиозной секты и потребовали предъявить удостоверения личностей, чтобы проверить какие у них были имена, но, к счастью для Саида, Надии и отца Саида, их имена не ассоциировались с общим знаменателем разыскиваемых. Соседям сверху не повезло: мужа уложили на пол и перерезали ему глотку, а жену и дочь увели с собой. Кровь мертвого соседа протекла вниз по трещинам пола, и его кровь вышла пятном в верхнем углу комнаты Саида, и позже Саид и Надия, после всех криков семьи, поднялись наверх, чтобы забрать тело и похоронить его, но, как только они, набравшись духу, поднялись туда, то обнаружили, что тела не было, очевидно, утащенное палачами, а его кровь уже высохла пятном, такой же нарисованной лужицей, как у них в квартире, с неровными линиями по входной лестнице.
Следующей ночью, или, скорее всего, через одну ночь, Саид зашел в комнату к Надии, и они отбросили целомудрие в свой первый раз. Каждый вечер до этого смесь ужаса и желания безостановочно жалила его, несмотря на обещание не делать ничего неуважительного по отношению к родителям, и они лишь обнимались, гладили друг друга и целовались, всегда останавливаясь в полу-шаге от секса, на чем она больше не настаивала, а нынешние обстоятельства дали слишком много поводов обойти его обещание. Его матери больше не было, и его отец, похоже, не утруждал себя обращением внимание на их романтические отношения, и тогда они перешли к делу, и факт, что неженатых любовников, какими они были сейчас, выводили на всеобщее высмеивание и наказывали смертью, придавал их каждому совокуплению ужасную скоротечность и остроту желаний, граничащие со странным видом экстаза.
* * *
Повстанцы постепенно захватывали город, гася последние шумные вспышки сопротивления, и наступило какое-то спокойствие, иногда прерываемое дронами и самолетами, сбрасывающими бомбы с небес — связанные между собой машины, чаще всего невидимые глазу — и публичными и непубличными казнями, продолжавшимися почти безостановочно, с телами, повешенными на фонарях и биллбордах, словно некая форма украшений к наступающим праздникам. Казни происходили волнами, и, как только очищался район, его охватывало атмосфера передышки от случившегося пока кто-то не совершал нечто вроде правонарушения, а правонарушения, чаще всего назначаемые случайным образом, без исключения наказывались беспощадно.
Отец Саида каждый день посещал дом своего родственника, который был словно старший брат отцу Саида и всем остальным живым родственникам, и там он сидел со пожилыми мужчинами и пожилыми женщинами, пил чай и кофе и обсуждал прошлое, и все они были хорошо знакомы с матерью Саида, и у каждого находился какой-то рассказ, где она выступала в главной роли, и пока отец Саида был с ними, он ощущал не то, что она все еще жива, поскольку важность потери ее поражала его вновь и вновь каждое утро, а, скорее, что он мог разделить с ней хоть какую-то малость общности.
Отец Саида надолго задерживался у ее могилы каждый вечер по дороге домой. Однажды, когда он там стоял, он увидел молодых ребят, игравших в футбол, и обрадовался их виду, и ему вспомнилось, как он сам играл в футбол в их возрасте, но потом он понял, что они были не мальчиками, а подростками, молодыми парнями, и они играли не с мячом, а с бараньей головой, и он подумал: «Какие варвары», но затем до него дошло, что мячом служила не баранья голова, а человеческая, с волосами и бородой, и ему очень захотелось поверить в то, что он ошибся, что свет осветил игру не так, как надо, и его глаза обманули его, и это он сказал себе, стараясь не смотреть в их сторону, но что-то в их поведении оставило мало сомнения в очевидности правды.
Саид и Надия в то же время полностью погрузились в поиски выхода из города, и, поскольку наземные пути были слишком очевидно опасными для попыток, означало только одно: исследовать возможность перехода через двери, и в это верило большинство людей, особенно после заявления повстанцев, что попытки использования и недонесение о двери заслуживали наказания, как всегда и довольно уныло, смертью, и еще потому, что радиостанции на коротких волнах заявляли, что даже самые уважаемые международные медиа подтверждали существование дверей, и что мировые лидери обсуждали их наличие, как важный глобальный кризис.
Следуя совету друга, Саид и Надия вышли на улицу с наступлением темноты. Они были одеты согласно правилам одежды, и у него была борода, согласно правилам бороды, а ее волосы были спрятаны согласно правилам волос, но они старались держаться краев дорог, оставаясь в тени, как можно дольше, стараясь не попасть на глаза никому, стараясь при этом не выглядеть старающимися не попасть на глаза. Они прошли мимо тела, висящего в воздухе, и не унюхали вони, пока на них не начал дуть ветер, и тогда смрад стал почти невыносимым.
Из-за летающих роботов высоко в темнеющем небе, невидимых, но никогда не покидающих сознания людей в те дни, Саид шел, слегка наклонившись вперед, словно от тяжести мысли о бомбе или ракете, готовящейся попасть в него в любой момент. В отличие от него, чтобы не выглядеть виноватой в чем-то, Надия шла выпрямившись, и если бы их остановили и проверили бы их удостоверения личностей, и оказалось бы, что он не вписан ее мужем, то она могла бы привести спрашивающих домой и показала бы фальшивку якобы свадебного сертификата.
Человек, которого они разыскивали, называл себя агентом, хотя было не совсем ясно: из-за его специализации в путешествии или из-за секретности операций, или из-за чего-то еще; и они должны были встретиться с ним в лабиринтной мрачности сгоревшего торгового центра — руины с бесконечными входами и укромными местами, при виде чего Саид пожалел, что не настоял на неприходе Надии, а Надия пожалела, что не принесла с собой факел или, хотя бы, нож. Они стояли, еле различая обстановку вокруг себя, и ждали с нарастающим беспокойством.
Они не услышали, как подошел агент — или, возможно, он находился тут все время — и их напугал его голос, донесшийся из-за их спин. Агент говорил тихо, почти сладким голосом, и его шепот напомнил им то ли поэта, то ли психопата. Он проинструктировал их, чтобы те стояли, не двигаясь, не поворачиваясь. Он сказал Надии, чтобы та открыла голову, а когда она спросила о цели этого, то ответил, что это была не просьба.
У Надии появилось ощущение близости нахождения его, как если бы он собирался коснуться ее шеи, но до нее не доносилось его дыхания. Вдали раздался какой-то звук, и она и Саид поняли, что агент мог быть не один. Саид спросил о том, где могла быть дверь, и куда она могла привести, и агент ответил, что двери были везде, но надо было найти такую, которую еще не обнаружили повстанцы, которую еще не охраняли — вот такой был трюк, и может уйти много времени на поиски. Агент потребовал деньги, и Саид дал их ему, точно не зная: то ли они заплатили залог, то ли их ограбили.
Спеша домой, Саид и Надия шли и смотрели на ночное небо, на всепроникающую мощь звезд и на рябую яркость луны, в отсутствие электрического освещения и очистившегося от почти исчезнувшего автотрафика неба, шли и размышляли о том, куда могла провести дверь, доступ к которой они только что купили: куда-нибудь в горы или на равнину у побережья; и им попался по дороге тощий человек, лежащий на улице, который умер совсем недавно от голода или от болезни, потому что на нем не было ран; и в своей квартире они сказали отцу Саида о возможно хорошей новости, но тот, странным образом, был молчалив, и они подождали какое-то время его ответа, и потом он произнес: «Понадеемся».
* * *
Прошли дни, а Саид и Надия не услышали ничего от агента, и они начали сомневаться: услышат ли они о нем, хоть когда-нибудь; а другие семьи в то же самое время перемещались успешно. Одна семья — мать, отец, дочь, сын — появилась из сплошной темноты служебной двери внутри здания. Они вышли в обширный коридор под белоснежно-стеклянными зданиями, заполненные люксовыми апартаментами и называемые по имени их владельца Джумейра Бич Резиденс. В изображении камеры можно было увидеть, как эта семья моргает и протирает глаза от стерильного искусственного света и оправляется от своего перехода. Каждый из них был худощавого телосложения, с прямой спиной и темной кожей, и, хотя изображение не сопровождалось звуковой записью, программа чтения по губам определила их язык, как тамильский.
После короткой передышки семья двинулась дальше и попала на вторую камеру, перейдя коридор и нажав на горизонтальные полосы аварийного выхода тяжелых двойных пожароустойчивых дверей, и эти двери открыли яркость солнечного света дубайской пустыни, забелив изображение чувствительной настройки камеры, и четыре фигуры, казалось, стали еще тоньше, невесомее, расплывшимися в ауре белизны, но в тот же самый момент они попали на три камеры внешнего наблюдения: крохотные персонажи на широченной пешеходной дороге-променаде вдоль бульвара с односторонним движением машин, по которой медленно катились два дорогущих двухдверных автомобиля — желтый и красный — своим беззвучным ревом напугавшие девочку и мальчика.
Родители держали за руки детей, и, казалось, не знали: в каком направлении идти. Возможно, они были с какого-то прибрежнего селения, а не с города, отчего они направились к морю и подальше от зданий, и они стали видимы с разных углов камер: идущие по обрамленной травой дорожке, проложенной по песку, родители о чем-то шептали друг другу время от времени, а дети пялились на бледных туристов, лежащих на полотенцах и в креслах в почти голом виде, и количество загорающих было меньше обычного для зимнего сезона, но дети об этом не могли знать.
Небольшой четырехмоторный дрон летел над ними на высоте пятидесяти метров, слишком тихий, чтобы быть услышанным, и посылал изображение в центральную станцию наблюдения и также двум разным охранным автомобилям: седан без опознавательных знаков и раскрашенный фургон с решетками на окнах; и из второго автомобиля вышли два, одетых в униформу, человека и направились целенаправленно, но без пугающей туристов спешки, по траектории, которая неминуемо привела бы их к тамильской семье через одну-две минуты.
Во время этой минуты семья также попала на селфи-изображения мобильных телефонов разных туристов, и они выглядели не единой группой людей, а, скорее, как четыре совершенно различных человека, и каждый вел себя по-другому в отличие от остальных: мать постоянно разглядывала глаза-в-глаза встречных женщин, а затем утыкалась взглядом в землю; отец прохлопывал свои карманы и рюкзак, будто проверяя их на дыры или потеки; дочь неотрывно смотрела на скайдайверов, разгоняющихся к ближайшему пирсу и останавливающихся коротким рывком; сын каждым шагом проверял упругое покрытие дорожки; а затем прошла минута, и их взяли и увели — растерянных и потрясенных, все так же держащих за руки, несопротивляющихся и не пытающихся убежать.
* * *
Саид и Надия были рады какой-то изоляции от постоянного наблюдения, когда они были в помещении, из-за того, что не было электричества, хотя, их дом все так же мог бы обыскан вооруженными людьми безо всякого предупреждения, и, конечно же, когда они выходили наружу, они попадали в линзы, рассматривающие их город с неба и с космоса, и на глаза повстанцев и их осведомителей, кем мог оказаться любой человек, каждый человек.
Когда-то бывшее интимным и частным делом, теперь им приходилось заниматься опорожнением живота на людях из-за того, что ни вода ни канализация больше не работали в здании Саида и Надии. Жильцы выкопали две глубокие траншеи позади здания: одну — для мужчин и одну — для женщин, отделенные тяжелой занавесью на веревке; и теперь всем приходилось усаживаться и облегчаться прямо под небом, игнорируя вонь, лицом направленным в землю, на случай если кто-то смог увидеть действие, то актер оставался бы неузнанным.
Лимонное дерево Надии не выжило, несмотря на постоянную поливку, и оно стояло безжизненно на их балконе, зацепившись к нему высохшими листьями.
Могло показаться необычным, что даже в таких обстоятельствах и у Саида и у Надии было непростое отношение к желанию исчезнуть из города. Саид отчаянно хотел покинуть свой город, на самом деле, но в воображении у него всегда оставалась мысль, что он покинул бы его только на время, взять перерыв, не на всегда, а потенциально приближающийся отъезд был, в общем-то, совсем не тем из-за сомнений, что он когда-либо вернется, и от того, что разбежались в разные стороны его многочисленные родственники и круг его друзей и знакомых, навсегда, и от этих мыслей он сильно огорчался, как от потери дома, никак не меньше — потери дома.
Надия, возможно, более лихорадочно готовилась к отъезду, и в ее характере возможность нечто нового, какой-то перемены, будоражила ее. Но и ее одолевали сомнения, кружащие вокруг мыслей о зависимости, сомнения, что, после отбытия в далекие края, она, Саид и отец Саида станут зависеть от прихотей чужих людей, выживать одними подачками, заключенные в клетках, будто заразные животные.
Надия раньше в своей жизни — да и потом — относилась к различным изменениям в ее судьбе легче, чем Саид, в котором импульс ностальгии был сильнее, возможно, из-за того, что его детство прошло более идиллично, или, возможно, просто из-за его темперамента. Оба они при этом, какие бы у них не были ожидания возможного будущего, не сомневались в одном: они покинут город, как только будет шанс. И никто не ожидал, когда появилась написанная от руки записка агента, однажды утром протолкнутая под дверь их квартиры, и в ней говорилось — в каком точном месте им надо быть, и в какое точное время завтра днем, и что отец Саида заявит: «Вы двое должны пойти, а я не пойду».
* * *
Саид и Надия сказали, что это — невозможно, и объяснили, если он неправильно понял, что не было никаких проблем, и что они заплатили агенту за проход троих, и все пойдем вместе, а отец Саида выслушал их, но не поддался на уговоры: они, опять повторил он, должны пойти, а он должен остаться. Саид пригрозил отцу, что отнесет его на своих плечах, если понадобится, а, ведь, он никогда не говорил с отцом в подобном тоне, чтобы тот понял, какую боль он приносит сыну; и, когда Саид спросил своего отца о том, какая причина могла вызвать его оставание здесь, то отец Саида пояснил: «Твоя мать — здесь».
Саид сказал: «Матери больше нет».
Его отец заявил: «Не для меня».
И это было по-своему правдой: мать Саида оставалась с отцом Саида, каким-то образом, и для отца Саида было бы чрезвычайно трудно покинуть место, где он провел жизнь с ней, трудно не навещать ее могилу каждый день, и он не желал ничего такого, предпочитав остаться, скажем так, в прошлом, поскольку прошлое могло предложить ему большего.
Но отец Саида также думал и о будущем, и, хотя он не объяснил ничего Саиду, опасаясь, что если он объяснит, то его сын может и не пойти, а он сам знал, что его сын должен пойти, и вот, что он хотел объяснить: он достиг такого периода в своей жизни родителя, когда, если надвигается потоп, понимаешь, что пришло время отпустить своего ребенка в пику всем инстинктам сохранения юной жизни, потому что, держа его рядом с собой, больше не сможешь защитить, а лишь утащишь с собой и утопишь его, и ребенок теперь стал сильнее родителя, и обстоятельства таковы, что потребуется как только возможно много сил и выносливости; и линия жизни ребенка лишь кажется совпадающей с линией родителя, а на самом деле она проходит поверх другой, холмом по холму, дугой по дуге, и линия отца Саида должна изогнуться опусканием, а в то же время линия его сына изгибается ввысь, и двое молодых людей с грузом старика за плечами скорее всего не смогли бы выжить.
Отец Саида сказал своему сыну, что любил его, и сказал также, что Саид должен послушаться его в этом, что он никогда не приказывал ему, но в этот момент он решился на приказ, что только смерть ожидала Саида и Надию в их городе, и что, однажды, когда для Саида все станет гораздо лучше, он вернется за ним, и оба они знали, что это никогда не случится, что Саид не сможет вернуться, пока его отец будет жив, и на самом деле Саид — после той ночи все началось — больше не проведет ни одной ночи вместе со своим отцом.
* * *
Затем отец Саида позвал Надию к себе в комнату и поговорил с ней без присутствия Саида, и сказал ей, что доверяет ей жизнь своего сына, и она, кого он назвал дочерью, должна, как дочь, выполнить сказанное им, кого она называла отцом, и она должна приглядывать за Саидом и беречь его, и он надеялся, что, однажды, она выйдет за него замуж, и ее также будут называть матерью его внуки, но они сами должны это выбрать, а он попросил лишь одного, чтобы она оставалась с Саидом до тех пор, пока опасность не покинет Саида, и он попросил ее обещать ему это, и она сказала, что обещает, если только отец Саида пойдет с ними вместе, а он ответил, что не сможет, но они должны пойти, и он сказал так очень тихо, словно молитву, и она просидела с ним какое-то время в молчании, и после минут тишины она пообещала, и это было легкое обещание, потому что у нее совсем не было в то время никаких мыслей покинуть Саида, и в то же время — трудное обещание, потому что у нее появилось ощущение того, что она оставляла старика без помощи, и, хотя у того оставались родственники, и он мог перейти жить к ним, или те могли перейти жить к нему, они не могли ухаживать и помогать ему так же, как могли Саид и Надия, и, заставляя ее принять на себя обещание, она, в каком-то смысле, убивала его, но так все устроено, что когда уезжаем мы, мы убиваем из наших жизни тех, кто остается.
Часть шестая
Той ночью они спали совсем немного, той ночью перед их уходом из города, и наутро отец Саида обнял их, попрощался и ушел в слезах, но твердыми шагами, зная, что лучшим было бы оставить молодых людей, чем видеть их, переживающих за него, выходя из дома, и смотреть на их спины. Он ни за что не сказал бы им, куда он ушел, и Саид и Надия остались одни, и не было никакой возможности найти его, как только он ушел, и в тишине его отсутствия Надия проверяла и перепроверяла содержимое своих небольших рюкзаков, которые они возьмут с собой, небольшие из-за того, чтобы не привлекать к себе внимания, и каждый — в напряжении, словно черепаха, заключенная в тесный панцирь; и Саид провел кончиками пальцев по квартирной мебели и телескопу, и по бутылке с кораблем внутри, и также он аккуратно сложил фотографию своих родителей, чтобы спрятать ее в одежде вместе с картой памяти, содержащей семейный альбом, и дважды помолился.
Дорога к месту встречи была бесконечной, и Саид и Надия шли, не держась за руки из-за запрета для разных полов в публичных местах, даже для явно женатых пар, но время от времени их суставы пальцев касались друг друга, и эти неожиданные касания были важны им. Они понимали о существующей возможности того, что агент рассказал о них повстанцам, и из-за этого они понимали, что существовала возможность последнего дня для них.
Местом встречи было здание, стоящее рядом с рынком и напомнившее Надии об ее бывшем доме. На первом этаже находилась зубная клиника без лекарств и болеутолителей, а после прошлого дня — без самого дантиста, и в комнате ожидания клиники их охватил шок при виде вооруженного человека с автоматом за плечом. Тот взял у них остаток оплаты и усадил их, и они уселись в заполненной людьми комнате с напуганного вида парой и их двумя школьного возраста детьми, с молодым человеком в очках, и с пожилой женщиной, сидевшей с прямой спиной, словно она была из богатой семьи, хотя и в грязной одежде, и через определенное время кого-нибудь вызывали в офис врача, и, когда позвали Надию и Саида, они увидели худого человека, похожего на повстанца, царапающего край ноздри ногтем пальца, словно играя с мозолью, или бренча на музыкальном инструменте, и, заговорив, они услышали его особый мягкий тон голоса и тут же догадались, что перед ними был их агент.
Комната была сумрачной, и дантистские кресло и приспособления навевали мысли о пыточной. Агент указал кивком головы на черноту двери бывшего складского помещения и сказал Саиду: «Первым», но Саид, который до этого считал для себя, что пойдет первым, решил убедиться, что с Надией все будет в порядке, и теперь поменял свое решение, посчитав — слишком опасно для нее находиться здесь, пока он бы проходил, и ответил: «Нет, она — первой».
Агент пожал плечами, словно для него не было никакой разницы, и Надия, не раздумывавшая до этого момента о порядке их убытия и понявшая, что не существовало для них лучшего варианта, и что риск был и для идущего первым и для идущего вторым, не стала спорить и подошла к двери, приблизившись к которой, ее поразила тьма, непрозрачность, невозможность увидеть тот край двери и также никакого отражения этой стороны, одинаково ощущаясь и как начало и как конец, и она повернулась к Саиду и увидела его пристальный взгляд на нее, и его лицо было полное тревоги и печали, и она взяла его руки в свои, сжала крепко-крепко, а потом, отпустив их, бессловесно, она вошла внутрь.
* * *
В те дни говорили, что переход был и смертью и рождением, и, на самом деле, Надия ощутила себя, словно исчезла, входя в черноту, и с трудом выдохнула, борясь с выходом, и ей было холодно, мокро, ощущала себя побитой, лежа на полу комнаты на том конце, дрожа и бессильна для вставания, и она поняла, пока с трудом наполнялись легкие, что влажность была ее собственным потом.
Показался Саид, и Надия проползала вперед, уступая ему место, и тогда она заметила впервые туалетные раковины и зеркала, плитки на полу, кабинки позади нее с обычными дверьми, кроме той, через которую она вышла, через которую сейчас выходил Саид, и которая сейчас была черной, и она поняла, что находилась в туалете какого-то публичного места, и она прислушалась, но все было тихо, и одни лишь звуки от нее, от ее дыхания, и от Саида, от его молчаливого кряхтения, как от мужчины, занимающегося упражнениями или сексом.
Они обнялись, не вставая, и она обхватила его, как ребенка, потому что он все еще был без сил, и, когда они набрались сил, они поднялись, и она увидела, как Саид сдвинулся снова в сторону двери, словно желая, может быть, вернуться назад в дверь, а она просто стояла рядом с ним, не говоря ни слова, и он постоял так недвижимо, а потом он решительно шагнул вперед, и они вышли наружу и очутились между двумя невысокими зданиями, и звуки доносились до них, будто из морской ракушки, приложенной к уху, и они ощутили лицами холодный бриз и почувствовали соленый воздух, и они рассмотрели вокруг себя и увидели полосу песка и серые мелкие волны, выходящие на берег, и вид показался им чудом, хотя они и не были таким уж чудом, а всего лишь простым пляжем.
Рядом с пляжем стояло здание пляжного клуба с барами и столами, и с огромными звуковыми колонками, и с пляжными сиденьями, собранными вместе на зимний сезон. Вывески были на английском языке, но также и на других европейских языках. Пляж выглядел нежилым, и Саид с Надией пошли к морю, где вода останавливалась почти у их ног, уходя в песок и оставляя линии на гладкой поверхности, как после мыльных пузырей, выдуваемых родителями для своих детей. Через какое-то время показался бледнокожий человек со светло-коричневыми волосами и попросил их идти дальше, направляя жестом руки, но без никакой вражды или грубости, скорее, как часть разговора на международном диалекте языка знаков.
Они ушли от пляжного клуба, и в укрытие холма они увидели нечто похожее на лагерь для беженцев с сотнями палаток и временных укрытий и людей разного цвета кожи и их оттенков — много разных цветов кожи, но, в основном, оттенки коричневого, простирающиеся от темно-шоколадного до молочно-чайного — и те люди сидели возле костров, разведенных внутри промышленных металлических бочек, и разговаривали какофонией всех языков мира, как услышалось бы тому, кто смог бы стать спутником связи, или шпионом, подслушивающим фиберглассовый кабель на морском дне.
В той группе все были иностранцами, и поэтому, в каком-то смысле, никто им не был. Надия и Саид быстро обнаружили кластер выходцев из своей страны и узнали, что они находились на греческом острове Миконос — притягательное место для туристов летом и, похоже, притягательное место для мигрантов зимой; и двери «из», точнее говоря, двери к богатым местам, сильно охранялись, а двери «в», двери из бедных мест, стояли в основном неохраняемыми, возможно, в надежде, что люди вернутся туда, откуда они пришли — хотя почти никто никогда не возвращался — или, возможно, от того, что было слишком много дверей из слишком многих бедных мест, чтобы охранять их все.
Лагерь был во многом похож на перевалочный пункт в старые времена золотой лихорадки, и многое можно было купить или обменять: от свитеров до мобильных телефонов, антибиотиков и, тихо шепотом, секса и наркотиков; и там были семьи в поисках будущего, и банды молодых людей в поисках слабых, и честные люди, и жулики, и те, кто рисковали своей жизнью ради своих детей, и те, кто знали, как бесшумно задушить человека в темноте. На острове было довольно спокойно, как им сказали, за исключением того времени, когда не было спокойно, что, в общем-то, происходило довольно часто. Приличных людей было гораздо больше, чем опасных, но лучше всего все же приходилось оставаться в лагере рядом с другими людьми с наступлением ночи.
* * *
Первое, что купили Саид и Надия, и она торговалась: вода, еда, одеяло, рюкзак побольше, небольшая палатка, складывающаяся в легкий, плоский сверток, зарядное устройство и местные номера для своих телефонов. Они нашли кусок земли на краю лагеря, частично по холму вверх, который не был слишком продуваемым ветром и без камней, и установили свой временный дом там, и у Надии возникло ощущение подобное тому, когда она играла игрушечным домиком, еще ребенком со своей сестрой, а у Саида — словно он был плохим сыном, и, когда Надия присела за костистым кустом и притянула его к себе, и там попыталась поцеловать его под открытым небом, он гневно отвернул свое лицо и тут же извинился, и прижался своей щекой к ее, и она попыталась успокоиться, прижавшись своей щекой к его бороде, и в то же время она удивилась проявленному чувству, выглянувшей из него желчи, потому что она не видела этой желчи в нем до этого во все те месяцы, ни на одну секунду, даже от смерти матери, когда он горевал, да, печалился, но без этой желчи от того, что нечто грызло его изнутри. Он всегда казался ей противоположностью желчи, часто улыбаясь, и это ощущение вернулось к ней, когда он взял ее руки и поцеловал их, будто искупая свой поступок, но в ней осталось беспокойство, потому что она увидела, что желчный Саид совсем не был тем Саидом.
Они прилегли передохнуть в палатке, вымотанные. Проснувшись, Саид попытался дозвониться до своего отца, но записанное сообщение заявило, что его звонок не может состояться, а Надия попыталась связаться с людьми по интернетным программным приложениям, и один из ее знакомых, добравшийся до Окленда, и еще один — до Мадрида, они ответили ей тут же.
Надия и Саид сели рядом друг с другом на землю и узнали все новости, весь шум мира, о положении в их стране, о различных дорогах и направлениях, выбираемых мигрантами, и их рекомендациях, о разных полезных хитростях, об опасностях, необходимых избегать.
После полудня Саид поднялся на вершину холма, и Надия тоже поднялась на вершину холма, и там они оглядели остров и море вокруг них, и он стоял неподалеку от того места, где стояла она, и она стояла неподалеку от того места, где стоял он, и ветер тянул и раскидывал их волосы, и они смотрели вокруг друг друга, но они не видели друг друга, потому что она поднялась раньше его, а он поднялся позже ее, и оба они постояли на вершине холма лишь недолго и в разное время.
* * *
Когда Саид спускался по склону к Надии, сидящей у их палатки, молодая женщина выходила из галереи современного искусства, где она работала в Вене. Вооруженные люди из страны Саида и Надии зашли на прошлой неделе в Вену, и в городе прошли невиданные убийства на улицах, когда эти люди расстреляли безоружных людей и затем исчезли, убийства посреди дня, каких не видела Вена, точнее, не видела ничего подобного со времен войны прошлого века и веков до этого, войн, которые были совсем другие и более кровавые; и эти вооруженные люди, скорее всего, хотели спровоцировать реакцию против мигрантов, пришедших с их части мира, проникших в Вену, и если на это они и надеялись, то они этого и добились; и молодая женщина узнала, что собиралась толпа у зоопарка, решившая напасть на мигрантов, и все только говорили и посылали сообщения об этом, и она решила присоединиться к человеческому кордону, разделяющему две стороны или, точнее, защитить мигрантов от анти-мигрантов, и на ее одежде висел значок с символом мира, значок с радугой и значок сочувствия положению мигрантов — черная дверь в красном сердце, и она заметила, ожидая своего поезда, что толпа на станции была не обычной толпой, что отсутствовали дети и старики, и женщин было значительно меньше, чем обычно, и все знали о надвигающихся волнениях, и, считала она, люди просто старались не выходить наружу, но все изменилось, когда она зашла в вагон и обнаружила себя среди людей, похожих на ее брата и ее родственников и на ее отца и ее дядей, но только эти люди были злыми, и они были в бешенстве, и они уставились на нее и на ее значки с нескрываемой враждебностью и возмущением от вида ее предательства, и они начали кричать на нее и толкать ее, и ей стало страшно животным страхом, ужасом от возможного, и, когда приблизилась следующая остановка, она протолкнулась сквозь них и вышла наружу, и она боялась, что они могут схватить ее, остановить, причинить ей боль, но такого не произошло, и она смогла выйти из вагона, и после ухода поезда она еще постояла там, вся дрожа и собираясь с мыслями, и, набравшись мужества, она пошла не в направлении ее жилья, ее уютного жилья с видом на реку, а в другом направлении, в направлении к зоопарку, куда она направлялась с самого начала, и куда она все так же решилась пойти; и все это происходило, когда солнце спускалось по небу, точно таким же образом в Миконосе, южнее и восточнее Вены, и в планетарном масштабе — не так уж далеко, и где в Миконосе Саид и Надия читали новости о волнениях, начавшихся в Вене, и о которых напуганные люди, пришедшие из их страны, обсуждали он-лайн, выбирая оставаться или уходить оттуда.
* * *
Ночью стало холодно, и поэтому Саид и Надия спали в одеждах, не снимая курток и прижавшись друг к другу, завернутые в одеяло поверх, вокруг них и под ними для хоть какой-то мягкости на твердой и неровной поверхности. Их палатка была слишком малой, чтобы можно было встать — длинный, но невысокий пятиугольник, похожий на стеклянную призму, которая была у Саида в детстве, и которой он преломлял свет в тонкие радуги. Сначала он и Надия прижимались, обнявшись, но вскоре их объятия стали неудобными, особенно в таком тесном помещении, и вскоре они легли спиной-к-животу, и ему пришлось первым прижаться к ее спине, а потом, где-то после прохождения пика луной, они повернулись, и она прижалась к его спине.
Наутро, когда проснулся он, она уже не спала и смотрела на него, и он погладил ее волосы, а она коснулась его щетины над губой и ниже ушей, и он поцеловал ее, и им стало хорошо при виде друг друга. Они собрали вещи, и Саид закинул за плечи большой рюкзак, а Надия взяла палатку, и они поменяли один из своих небольших рюкзаков на подстилку для занятий йогой, спать на которой, понадеялись они, будет помягче.
Внезапно люди начали спешно покидать лагерь, и до Саиди и Надии донесся слух, что найдена новая дверь — в Германию, и они тоже поспешили, сначала слившись с толпой, но после ускоренного шага они приблизились к началу спешащих. Люди заполнили узкую дорогу и обочины, растянувшись на несколько сот метров толпой, и Саид не знал, куда направляются все эти люди, и затем он увидел впереди нечто вроде отеля. Приблизившись, он разглядел, что их путь блокировали люди в униформе, и он сказал Надии об этом, и им стало страшно, и они замедлили шаг, пропуская людей вперед, потому что они уже видели в своем городе, что происходит, когда стреляют по массе безоружных людей. Но выстрелов не случилось, и люди в униформе лишь остановили толпу и не пропускали никого, и несколько смелых или отчаявшихся, или исхитрившихся душ попытались проскочить на бегу по краям линии стоящих, где были просветы между людьми в униформе, но их поймали и вернули назад; и после часа стояния толпа начала расходиться, и большинство пришедших направились назад в лагерь.
Прошло несколько дней, полных ожиданий и несбыточных надежд, дней, которые могли бы оказаться днями скуки и безделья, какими они стали для многих людей, но у Надии появилась идея отправиться на осмотр острова, как будто они были туристами. Саид засмеялся и согласился, и впервые за все время здесь после их прибытия он рассмеялся, и ей стало от этого тепло на душе; и они нагрузились своим добром, будто пешие туристы по дикой природе и отправились в путь по пляжам и далее — вверх в горы, и направо — к крутым спускам, и они решили, что Миконос на самом деле был прекрасным местом, и им стало понятно, почему сюда приезжали люди. Иногда им попадались группы людей потрепанного вида, и Саид и Надия осторожно обходили их стороной, а к вечеру они всегда старались попасть на ночлег в периферию какого-нибудь большого лагеря для переселенцев, которых было здесь много, куда мог попасть кто-угодно, или уйти кто-угодно, как бы ему там ни вздумалось.
Однажды они встретили знакомого Саида, и эта встреча выглядела совершенно невозможным и радостным совпадением, словно два листа, сорванных ураганом с одного дерева, упали один на другой в далекой дали, и Саид ужасно обрадовался. Тот человек сказал, что он занимался нелегальным переходом людей через границы и помог людям покинуть их город, и занимался тем же самым и здесь, потому что знал все выходы и входы. Он согласился помочь Саиду и Надии, и он предложил им помощь за половину обычной цены, и они начали благодарить его, и он взял их платеж и заявил, что доставит их в Швецию завтра утром, но, когда они проснулись, они не смогли его найти. Его не было нигде. Он исчез за ночь. Саид верил ему, и поэтому они остались там на целую неделю, оставаясь на одном и том же месте в том же самом лагере, но больше они его так и не увидели. Надия знала, что их кинули, и подобное здесь происходило довольно часто, и Саид понял тоже, но предпочел какое-то время верить, что с тем человеком что-то случилось, что-то такое, из-за чего тот не смог вернуться, и, когда он — Саид — молился, то молился не только за его благополучное возвращение, но и за его сохранность, пока не почувствовал, что дальнейшие молитвы за того человека будут выглядеть слишком глупыми, и после этого Саид молился только за Надию и отца, в особенности за отца, который не был с ними, хотя и должен был бы быть. Но не было никакой возможности увидеться сейчас с отцом, потому что уже долгое время не оставалось никаких дверей в их городе, необнаруженных повстанцами, и никто из возвращенцев, нарушивших своим бегством их законы, не оставался в живых.
Однажды утром Саид смог одолжить элеткробритву и срезал свою бороду до щетины, каким он был, когда впервые Надия увидела его, и тем же утром он спросил Надию, почему она все так же одета в черную робу, поскольку здесь нет никакой нужды в ней, и она ответила, что не нуждалась в ней и в их городе, когда жила одна до того, как пришли повстанцы, но она выбрала такую одежду, потому что эта роба посылает определенный сигнал, и она все еще хочет, чтобы этот сигнал оставался; он улыбнулся и спросил — сигнал относился и к нему, и она улыбнулась и ответила, что не для тебя, ведь, ты же видел меня совсем без нее.
* * *
Их финансы продолжали таять, и больше половины денег исчезло с тех пор, как они покинули свой город. Им стали больше понятны отчаяние, увиденное ими в лагере, страх в глазах людей от того, что они застрянут здесь навечно, или голод заставит вернуться их через одну из тех дверей, ведущих в нежелательные места, дверей, оставленных без охраны, называемых в лагере мышеловками, но в которые, примирившись с судьбой, некоторые люди, несмотря ни на что, уходили, особенно те, у кого закончились все ресурсы, отправляясь в те же места, откуда пришли, или в неизведанные места, где, как думали они, будет все же лучше, чем здесь.
Саид и Надия решили ограничить свои походы, экономя силы, и, таким образом, уменьшить расходы на еду и питье. Саид купил удочку по гораздо меньшей, чем обычные заоблачные, цене, потому что спиннинг был сломан, и леска управлялась вручную. Он и Надия уходили к морю, вставали на камень, клали хлеб на крючок и пытались поймать рыбу; одинокие — два человека сами по себе — окруженные водой, которую бриз разрезал в мутные холмики, скрывавшие что находилось в глубине; и они рыбачили и рыбачили по очереди, но никто из них не знал, как правильно ловить рыбу, или, может быть, им не везло, и, когда им казалось, что кто-то касался крючка — ничего не выходило наружу, и было похоже на то, что они просто кормили хлебом ненасытную соленую воду.
Кто-то посоветовал им, что лучшим временем для рыбалки были рассвет и закат, и они оставались в своем одиночестве еще дольше, чем могли оставаться другие. Становилось темно, когда они увидели четверых людей вдали, идущих вдоль берега. Надия сказала, что им надо уйти, и Саид согласился, и пара покинула место, быстро, но, казалось, те люди последовали за ними, и Саид и Надия увеличили скорость ходьбы сколько могли, и Надия поскользнулась и поранила себе руку. Эти люди продолжали приближаться к ним, и Саид и Надия стали раздумывать, что они могли оставить после себя, чтобы им полегчало с их ношей, и вроде некоего приношения их преследователям. Саид решил, что они хотели удочку, и эти слова показались им более убедительными, чем другие мысли, о которых тоже приходилось думать. Они оставили удочку, но вскоре за поворотом они увидели дом и стоящих у дома охранников в униформе, что означало дверь в желанное место, и Саид и Надия впервые очень обрадовались виду охранников на острове. Они приблизились к ним, и стражники крикнули им, чтобы они держались подальше, и тогда Саид и Надия остановились, чтобы стало ясно об их нежелании броситься в дом, и сели там, где охрана могла их легко видеть, и они почувствовали себя в безопасности, и Саид захотел вернуться и подобрать удочку, но Надия сказала ему, что это было бы слишком опасно. Они оба пожалели, что оставили ее там. Они подождали какое-то время, но те четверо так и не появились, и тогда они разложили свою палатку, но заснуть они в ней не смогли.
* * *
Дни становились теплее, и весна прокрадывалась на Миконос с почками и одиночными цветами. За все недели нахождения здесь Саид и Надия никогда не побывали в самом городе из-за того, что в нем не было возможности остаться на ночь, и им настойчиво советовали не ходить туда даже днем, за исключением окраин, где они могли меняться с жителями, или, говоря по-другому, с теми, кто жил на острове дольше, чем несколько месяцев, но рана на руке Надии начала загнивать, и тогда они пошли в клинику на окраине города. Местная девушка с частично выбритыми волосами на голове, которая не была ни доктором ни медсестрой, а простым волонтером — подросток с добрым характером, не старше восемнадцати-девятнадцати лет — почистила и перевязала рану, бережно держа руку Надии, словно та была нечто драгоценным, держа почти застенчиво. Женщины поговорили друг с дружкой, и приятельские отношения возникли между ними, и девушка сказала, что хотела бы помочь Надии и Саиду, и спросила их, в чем они нуждались. Они ответили, что нужнее всего было найти способ покинуть остров, и девушка сказала, что могла бы что-то для этого сделать, и им надо было держаться поближе, и она взяла номер телефона Надии, и каждый день Надия приходила в клинику, и они беседовали вместе, и иногда пили кофе или выкуривали косяк, и девушка, видимо, была рада встречам с ней.
Старый город был прекрасным: белые коробки с голубыми окнами, разбросанные по светло-коричневым холмам, стекающие к морю, и с окраины города Саид и Надия различали крохотные ветряные мельницы и овальные церкви, и волнующуюся зелень деревьев, с расстояния похожие на рассаду. Было слишком дорого держаться поближе, и в лагерях собирались люди с деньгами, и Саид начал волноваться.
Новая подруга у Надии сдержала свое слово, и однажды ранним утром она усадила Надию и Саида на заднее сиденье своего мотороллера и провезла их по неподвижно тихим улицам к дому на холме с большим двором. Они вбежали внутрь, и там была дверь. Девушка пожелала им удачи и крепко обняла Надию, и Саид удивился слезам в глазах девушки или, если не слезам, то, по крайней мере, печальному блеску, и Надия обняла ее тоже, и то объятие длилось очень долго — девушка что-то зашептала ей — и затем Саид и она повернулись и вошли в дверь, оставив Миконос позади.
Часть седьмая
Они вышли в спальной комнате с видом на ночное небо и обставленной так дорого и со вкусом, что Саиду и Надии сначала показалось, что они очутились в отеле: нечто похожее из кинофильмов и толстых, глянцевых журналов с деревянной отделкой бледных тонов, с коврами кремового цвета, с белыми стенами и с блеском металла то тут, то там, металла блестящего, как зеркало, обрамляющего покрытие софы, и с такой же металлической платформой настенных выключателей. Они недвижно полежали, надеясь на незаметность их появления, но вокруг было тихо, и они решили, что также тихо должно быть и во дворе дома — не было у них опыта встречи с акустически изолированным покрытием — и что все в отеле, должно быть, спят.
Они поднялись, все-таки, и увидели с их роста, что находилось под небом: город с рядом белых зданий друг напротив друга, каждое из которых — безукоризненно выкрашенное и тщательно ухоженное, и невозможно похожее на другое; перед каждым из этих зданий, возвышавшимися из прямоугольных пропусков в дорожном покрытии из прямоугольных блоков или бетона, залитого в форме прямоугольных блоков, росли деревья, вишневые деревья с почками и с несколькими распустившимяся бутонами, словно недавно выпавший снег, и этот снег задержался на ветках и листьях, по всей улице, на дереве и на другом дереве, и на всех деревьях, а они стояли и смотрели на все это — почти нереальное, невозможное.
Они подождали какое-то время, зная о том, что не смогли бы остаться здесь, в этой комнате отеля, и им пришлось открыть дверь, которая не была заперта на ключ, и выйти в коридор, приведший их к лестнице, и на следующем этаже вниз они нашли еще больших размеров лестницу к другим этажам с номерами и с комнатами для отдыха и с салонами, и тогда они догадались, что находились в каком-то отличном от отеля здании, само собой — дворец, с комнатами за комнатами и с разными чудесными вещами за еще более чудесными вещами, и текла вода, как с гор — вся белая от пузырей и мягкая, да-да, мягкая на ощупь.
* * *
Рассвет вступал в город, а они все еще оставались незаметными, и Саид с Надией зашли на кухню и стали решать: что им делать. Холодильник был почти пустым, из чего можно было сделать вывод о том, что долгое время тут никто не ел, и, хоть в шкафах хранились коробки и консервы с долгохранящейся едой, они не хотели услышать никаких обвинений в воровстве в свой адрес, и поэтому достали свою еду из рюкзака сварили два картофеля на завтрак. Все же они взяли два чайных пакетика и приготовили чай, и каждый еще одолжился по чайной ложке сахара, и если бы там было молоко, они бы не удержались от того, чтобы плеснуть его в чай, но молока нигде не было.
Они включили телевизор, чтобы смогли понять, куда они попали, и сразу же стало понятно, что они находились в Лондоне, и, смотря отрывочные апокалиптичные новости, они при этом неожиданно почувствовали себя в нормальных обстоятельствах, поскольку не видели телевизора много месяцев. Они услышали шум позади себя и увидели человека, уставившегося на них, и они вскочили на ноги, и Саид бросился к их рюкзаку, а Надия — к палатке, но мужчина молча отвернулся и ушел вниз по лестнице. Им стало непонятно: что произошло. Этот человек, казалось, был, как и они, также удивлен обстановкой вокруг, и до самой ночи больше никто не появлялся.
Когда стало темно, начали появляться люди с комнаты верхнего этажа, где появились Надия и Саид: дюжина нигерийцев, позже — несколько сомалийцев, за ними — семья из пограничья между Майянмаром и Тайландом. Все больше и больше. Кто-то сразу же ушел из здания. Другие остались, найдя для себя спальню или комнату отдыха.
Саид и Надия выбрали небольшую спальню позади, на втором этаже, с балконом, откуда они могли бы выпрыгнуть в сад, если нужно, и откуда они могли бы скрыться.
* * *
Комната для них — четыре стены, окно, дверь с замком — казалась невероятной удачей, и Надии очень захотелось распаковать их вещи, но она знала о необходимости быть готовой убраться отсюда в любой момент, и поэтому она вынула из рюкзака только самые необходимые вещи. Саид, в свою очередь, вытащил фотографию своих родителей, которую прятал в одежде и поставил на книжную полку, где та стояла со сложенным сгибом, смотря сверху на них, и превратив эту узкую спальню, по крайней мере частично, временно, в их дом.
В коридоре неподалеку от них находилась туалетная комната, и Надии ужасно захотелось принять душ, и ее желание было даже сильнее чувства голода. Саид встал снаружи у двери, а она зашла внутрь и разделась, оглядывая свое тело, исхудавшее как никогда, грязное, в основном, от ее же биологических выделений, засохшие следы пота и очерствевшая кожа, и волосы в тех местах, где она избавлялась от них всегда, и ее тело стало выглядеть для нее телом некоего животного, телом дикарки. Давление воды в душе было чудесным, силой разминая ее плоть и вычищая кожу. Тепло было тоже прекрасным, и она выпрямилась, как только могла, и тепло проникло сквозь ее кости, застывшие от месяцев холода, и душевая наполнилась паром, будто горный лес, наполнившись запахом сосны и лаванды от мыла, найденного ею — о, райские кущи — и полотенца были такие пушистые и мягкие, что когда она стала вытираться ими, то почувствовала себя принцессой или, по крайней мере, дочерью диктатора, безжалостно расправлявшегося со всеми, чтобы только его дети могли наслаждаться подобной выделкой из хлопка, чувствуя подобное непередаваемое ощущение ее животом и бедрами о полотенца, которые, казалось, никогда не были использованы и, возможно, не будут использованы больше никогда. Надия стала одевать свою сложенную одежду, но, внезапно, не смогла заставить себя сделать это от вони, исходившей от нее, и она решила постирать ее, и тут она услышала стук в дверь и вспомнила, что закрыла ее на замок. Открыв, она увидела нервничающего, недовольного и сердитого Саида.
Он спросила: «Какого черта ты тут делаешь?»
Она улыбнулась и придвинулась, чтобы поцеловать его, и ее губы коснулись его губ, и его губы не ответили ей ничем.
«Слишком долго», сказал он. «Это — не наш дом».
«Мне нужно было пять минут. Я должна была постирать мою одежду».
Он уставился на нее, но не возразил, и даже если бы он возразил, она почувствовала себя непреклонной, что означало для нее только одно: она все равно постирала бы. Чем она занималась, что она сейчас только что делала — не было никакой бессмысленной вольностью, а необходимостью, человеческой нуждой, возможностью быть человеком, напоминанием себе о том, кем она была, и потому это было важным, и, если необходимо, стоило ссоры.
Но удивительное наслаждение от заполненной паром душевой, похоже, исчезло, когда она закрыла дверь, и стирка одежды, и вид побуревшей воды, вытекающей с одежды в сток душевой, были разочаровывающе обыденны. Она попыталась вернуться в радостное настроение и не сердиться на Саида, который, как она убедила себя, был по-своему прав и просто разошелся с ее настроением, и, когда она вышла из туалетной комнаты, закутанная в полотенца — ее полотенца — одно вокруг тела, и другое вокруг волос — с капающей, но чистой одеждой в руках, она была готова к примирению.
А он заявил, глядя на нее: «Ты не можешь так стоять здесь».
«Не говори мне, что я могу делать».
Он изменился в лице, словно его ужалили ее слова, и при этом рассердился, и она тоже рассердилась, и после того, как он помылся и постирал свою одежду, примирительным жестом или, очистившись от своих выделений, он смог ощутить то, что ощутила она, они легли спать на узкой кровати вместе, молча, не касаясь друг друга, как только могла позволить узость комнаты, но не как пара людей, живущих в долгом и несчастливом браке, а как пара, готовая пережить и радость и страдания.
* * *
Надия и Саид появились в здании субботним утром, а к утру понедельника, когда пришла уборщица на работу, в доме было уже много народа, где-то около пятидесяти сквотеров, от младенцев и до стариков, пилигримы от запада — Гватемала — и до востока — Индонезия. Уборщица закричала, открыв входную дверь, и полиция прибыла очень скоро, двое в черных узнаваемых шлемах, но те лишь смотрели снаружи и не вошли внутрь. Вскоре прибыл фургон с полицейскими в полном снаряжении для столкновний, а затем — автомобиль с еще двумя в белых рубашках и черных жилетах, вооруженные автоматами, и на их черных жилетах стояло слово из белых букв POLICE, но те двое выглядели для Саида и Надии солдатами.
Жители дома очень напугались, и большинство из них хорошо знали из своего прошлого, что могут сделать полицейские и солдаты, и от этого страха они начали разговаривать друг с другом больше обычного. Образовалась некая общность, которая вряд ли могла бы образоваться на улице, в открытом пространстве, где они, скорее всего, просто разбежались бы, но тут они были зажаты вместе, и эта зажатость создала из них группу.
Когда полицейские через свои громкоговорители объявили, чтобы все покинули здание, то большинство решило не подчиниться, лишь немногие вышли, и, в основном, все остались; Надия и Саид остались среди них. Срок исполнения подходил к концу, все ближе и ближе, и, наконец, настал, а они все оставались там же, и полиция не наступала, и люди решили, что они выиграли какое-то время передышки, и тогда произошло то, чего никто не мог представить: на улице появились люди, темно- и не совсем темно- и даже светлокожие, в потрепанных одеждах, как люди в лагерях на Миконосе, и из тех людей образовалась толпа. Они стали стучать ложками по кастрюлям и скандировать на разных языках, и вскоре полиция решила уехать.
Той ночью в здании было тихо и спокойно, лишь иногда разносилось прекрасное пение на языке Игбо; Саид и Надия лежали вместе и держали друг друга руки на мягкой постели в их небольшой темной спальне, и им было приятно слышать пение, словно колыбельную, приятно несмотря на то, что они держали дверь своей спальни запертой. Наутро они услышали, как вдалеке кто-то звал на молитву, на рассвете, похоже, через микрофон приставки караоке, и Надия встревожилась, проснувшись и решив, что она вновь очутилась в их городе, с повстанцами, пока не вспомнила, где она находилась на самом деле, и затем она смотрела, немного удивившись, как встал Саид с их кровати и начал молиться.
* * *
Во всех лондонских домах, парках и бесхозных местах находились подобные люди, и кто-то говорил, что миллион мигрантов, и кто-то говорил, что в два раза больше. Казалось, чем больше пустел город, тем больше его занимали сквотеры; нежилые усадьбы в районе Кенсингтона и Челси пострадали больше всего, и их отсутствующие хозяева часто обнаруживали, что плохие новости приходили к ним слишком поздно, и таким же образом ширилось вторжение в Гайд Парк и Кенсингтонские Сады, заполняемые палатками и хижинами, и говорилось, что между Вестминстером и Хаммерсмитом легальные обитатели составляли меньшинство населения, и местных жителей становилось все меньше и меньше, и местные газеты стали называть те места самыми худшими черными дырами в материи страны.
Люди вливались в Лондон, но также часть людей покидали его. Бухгалтер в одном городке графства Кент, раздумывающий о том, как покончить свою жизнь, проснулся однажды утром и обнаружил черноту двери, где раньше был вход в его небольшую, залитую светом вторую спальню. Сначала он вооружился хоккейной клюшкой, оставленной его дочерью, решившей покинуть дом на время между окончанием школы и поступлением в колледж, и он также взял телефон, чтобы позвонить в полицию, а потом остановил себя за бессмысленным занятием и решил отложить клюшку и телефон и наполнил, как решил ранее, ванну, и положил недавно купленный им острый резак на закругленный край ванны рядом с органическим мылом, которым больше никогда не будет пользоваться его покинувшая подружка.
Он напомнил себе, что пора начать резать, если решил, запястья и в ширину, а не в длину, и, хоть сама идея боли ему была ненавистна, и также мысль о том, что его обнаружат голым, он решил, что все равно это будет правильным решением, хорошо продуманным и хорошо спланированным. Однако, близкая чернота нарушила ход его мыслей и напомнила ему нечто, какое-то чувство, ощущение, связанное с детскими книжками, с книжками, прочитанными им в детстве, или книжками, скорее всего, которые ему прочитала его мать, женщина с нежными словами и нежными руками, которая не умерла слишком рано, ее состояние ухудшилось слишком рано, и болезнь унесла ее речь, ее личность, и этот процесс сказался и на его отце, отдалившегося от сына. И при этих мыслях бухгалтер решил, что мог бы просто войти в дверь, всего один раз, чтобы посмотреть — что там такое на другой стороне — и так он и сделал.
Позже дочь и его лучший друг получат по телефону его фотографию — у моря, без деревьев, пустынное побережье или побережье где-то в сухом месте, с возвышающимися дюнами, побережье в Намибии — и сообщение, что он не вернется, но не стоит волноваться, потому что он ощутил нечто, он почувствовал нечто важное, и они могут присоединиться к нему, и ему было бы радостно, если они присоединяться, и если они решат, то дверь они смогут найти в его квартире. Таким образом он исчез, и его Лондон исчез, и как долго он мог оставаться в Намибии — было трудно сказать каждому, кто знал его.
* * *
Жители дома, где были Надия и Саид, не могли сказать с уверенностью: победили ли они. Они наслаждались жизнью внутри помещения, поскольку многие из них провели много месяцев без крыши над головой, но понимали, что такой дом, такой дворец никто не отдаст так просто, и их радость наслаждения не будет вечной.
Жизнь для Надии казалась немного похожей на студенческие общежития в начале учебного года, с незнакомцами, поселявшимися вокруг, и многие вели себя прилично, пытаясь заводить разговоры и не выказывая никакого неприятия в надежде, что со временем отношения между всеми станут обычно-привычными. Снаружи здания царили беспорядок и хаос, но внутри, похоже, выстраивался некий порядок. Возможно, некий общественный порядок. Там были люди с отличным от всех поведением, но такие люди были везде, и их поведением можно было управлять. Надия ожидала совершенно иного в сложившейся ситуации.
Жизнь в доме для Саида была довольно замкнутой. На Миконосе он предпочитал окраины лагерей мигрантов, и в нем возникла привычка держаться независимо от их окружения беженцев. Он держался настороженно, особенно при виде мужчин, которых было немало, и раздраженный стресс овладевал им, когда находился в тесных группах людей, говорящих на языках, непонятных ему. В отличие от Надии, он чувствовал себя виноватым в том, что они и их собратья-беженцы оккупировали чужой дом, и также виноватым от того, как их присутствие видимо сказалось на обстановке дома, присутствием свыше пятидесяти жильцов в одном здании.
Он был единственным человеком, возмутившимся тем, что люди начали присваивать себе вещи дома, и Надии его поведение показалось абсурдным и к тому же опасным для Саида, и она сказала Саиду, чтобы тот не вел себя, как идиот, и сказала жестко, чтобы защитить его, а не обидеть, но его шокировала интонация ее голоса, и, согласившись с ней, он начал спрашивать себя: так ли они будут разговаривать друг с другом, и эти жесткость и недоброта, вползающие в их слова раз за разом, были знаком того, куда вело их будущее?
Надия тоже заметила напряженность между ними. Она не была уверена в том, как можно было разорвать цикл надоедливости партнером, в который они входили раз за разом, поскольку попав однажды, подобный цикл трудно прервать, чтобы сделать уровень надоедания и раздражения все меньше и меньше, как в случаях с определенными аллергиями.
Вся еда в дома скоро закончилась. У кого-то были деньги на покупку, но большинство проводили свое время в поисках еды, что заключалось в походах по разным местам, где выдавались пайки или бесплатный суп с хлебом. Дневной рацион в обоих случаях быстро истощался в течение нескольких часов, иногда, минут, и единственной возможностью был лишь бартер с соседями или со знакомыми, а поскольку у людей оставалось совсем немного предложить к обмену, они, обычно, предлагали обещание поесть завтра или на следующий день в обмен на поесть сегодня, предлагая к обмену, сказать точнее, свое время.
* * *
Однажды Саид и Надия возвращались домой без еды, но с приятно сытыми животами после довольно неплохого вечера в поисках еды, и она все еще ощущала особенно сладкое послевкусие и кислый привкус горчицы и кетчупа, а Саид смотрел в свой телефон, когда они услышали крики впереди и увидели бегущих людей, и они поняли, что их улицу Пэлас Гарденс Террас атаковала толпа местных жителей. Нативисты выглядели для Надии незнакомым и обозленным племенем, решившимся на разрушения и насилие, и некоторые среди них вооружились монтировками и ножами, и Саид с Надией повернулись и побежали, но не смогли укрыться.
Надия получила синяк под глазом, вскоре, заплывший весь глаз, а у Саида была рассечена губа, забрызгав кровью подбородок и куртку, и в их ужасе они схватились друг за друга руками, боясь потеряться, но их лишь бросили на землю, как большинство остальных, и в тот вечер недовольных выступлений по всему Лондону три человека потеряли жизни — совсем немного по обычным стандартам тех, кто прибыл сюда.
Наутро они почувствовали, что их кровать была слишком мала для них после вчерашних побоев, и Надия оттолкнула Саида бедром, пытаясь отдалить его, и Саид оттолкнул ее, пытаясь сделать то же самое, и на секунду она разозлилась, и оба повернулись лицом к лицу, и он коснулся ее заплывшего глаза, и она хмыкнула и коснулась его разбухшей губы, и они посмотрели друг на друга и молча решили начать свой день без недовольства.
* * *
После волнений начались разговоры по телевидению, в каждом городе, после Лондона, чтобы вернуть Британию Британии, и появились новости о том, что армию привели в боевую готовность, и полицию — тоже, и тех, кто когда-то служил в армии или в полиции, и волонтеров после недельных курсов тренировки. Саид и Надия услышали, что нативистские экстремисты формировали свои отряды с молчаливого согласия государства, и в медиа все больше рассуждали о ночи разбитых стекол, но на организацию подобного требовалось время, и в это время Саиду и Надии предстояло сделать выбор: оставаться или уходить.
В их маленькой спальне после заката они слушали музыку с телефона Надии, включив встроенные звуковые колонки. Было бы проще включить эту же музыку с различных веб-сайтов, но они решили экономить во всем, включая хранители памяти, купленные ими для своих телефонов, и Надия смогла бы записать пиратские музыкальные версии, какие они смогла бы найти, и чтобы они смогли их потом слушать. К тому же она была рада восстановить свою музыкальную библиотеку: из ее прошлого она не доверяла постоянной возможности извлечь все с интернета.
Однажды ночью она включила альбом, который, как знала она, очень нравился Саиду, популярной группы в их городе, когда они были еще подростками, и он удивился и обрадовался, услышав музыку, потому что он прекрасно знал об ее отношении к поп-музыке их страны, и стало совершенно очевидно, что она включила эту музыку для него.
Они сели, скрестив ноги, на их узкой кровати, упершись спинами в стену. Он положил себе на колено кисть руки, открытой ладонью. Она положила сверху свою ладонь.
«Давай попытаемся больше не говорить друг с другом по-говяному», предложила она.
Он заулыбался. «Давай пообещаем».
«Обещаю».
«И я обещаю».
Той ночью он спросил ее: какой она представляла свою жизнь в мечтах, в большом городе или в провинции; и она спросила его о том: смог бы он представить их жизнь в Лондоне, если бы они остались; и они стали обсуждать, как дом, подобный этому, занятому ими, мог бы разделен в настоящие жилые квартиры, и как они могли бы начать все заново в другом месте, в другом месте этого города или в городе далеко отсюда.
Они почувствовали, что стали ближе друг другу той ночью, когда занимались своими планами, и занятие большими решениями отвлекло их от серых реалий жизни, и иногда во время их дебатов в спальне они останавливались в споре и смотрели друг на друга, словно вспоминая, каждый из них, кто был человек напротив.
Возвращение туда, где они родились, было невозможным, и они понимали, что в других желанных ими городах в других желанных ими странах могли происходить подобные события и сцены волнения нативистов, и, продолжая обсуждать уход из Лондона, они все так же оставались. Появились слухи о более строгом кордоне, который устанавливался в лондонских кварталах с меньшим количеством дверей, т. е. с меньшим количеством прибывающих, где посылали людей, не могущих доказать свое легальное пребывание, в специальные лагеря для задержанных, построенные в зеленых зонах города. Правда или нет, но никто не опровергал, что количество мигрантов в зоне Кенсингтона и Челси и в примыкающих к ним парках постоянно росло, и вокруг этой зоны находились солдаты и бронированная военная техника, а над ней летали дроны и вертолеты, а внутри этой зоны были Саид и Надия, убежавшие от войны и не знающие, куда еще можно было бежать, и ждали, ждали, как большинство других.
* * *
И в то же самое время там были добровольцы, доставлявшие еду и лекарства в те районы, и работали агентства помощи, и правительство не запретило им продолжать работу, как запретили бы правительства тех стран, откуда прибыли мигранты, и потому оставалась надежда. Саида в особенности чрезвычайно тронул приход одного парня из местных жителей, только что закончившего школу или, возможно, на последнему году обучения, который пришел к ним в здание и раздал вакцину от полиомелита детям и взрослым, и, хоть многие не доверяли подобной вакцинации, а многие, как Саид и Надия, уже были привиты, в том парне была такая упорная настойчивость, такие сочувствие и доброе намерение, в чем сомневались некоторые, никто не смог отказать ему.
Саид и Надия были знакомы с подобным назреванием конфликта, и ощущение, нависшее над Лондоном в те дни, не было для них новым, и они встретили его, если сказать точнее, не набравшись смелости и не паникуя, не совсем, а наоборот — приняв за данное с моментами напряженного ожидания, напряжения дрожащего и наплывающего, а когда напряжение ушло, то наступило спокойствие, то спокойствие, которое называется покоем перед бурей, а в реальности — это фундамент человеческой жизни пережидания на ступенях пути к нашему концу, когда мы выбираем паузу, а не действие — просто бытие.
Вишневые деревья взорвались в то время на Пэлас Гарденс Террас, распускаясь белыми цветами — самая близкая по цвету белизна, какую видели новые жители улицы, сравнимая со снегом, а другим они напомнили о созревшем хлопке на полях в ожидании сбора, в ожидании сборщиков, сильных черных тел из поселка, и теперь в этих деревьях тоже были черные тела: дети, карабкающиеся и играющие между стволами, словно маленькие обезьянки, не потому, что быть чернокожим — это быть похожим на обезьянку, и об этом столько уже было сказано скользких слов, а потому, что люди — это обезьяны, которые позабыли, что они — обезьяны, и потому потеряли уважение к тому, чем когда-то были, к миру природы вокруг них, но — нет, те дети, взбудораженные природой, играя в придуманные игры, затерялись в облаках белизны, будто воздухоплаватели или пилоты, или фениксы, или драконы, и в приближающем кровопролитии они сделали из этих деревьев, которых, по всей видимости, никак не высаживали для лазания, предмет для тысяч фантазий.
Однажды ночью в саду у здания, где жили Саид и Надия, появилась лиса. Саид показал ее Надии через окно их маленькой спальни, и они изумились ее появлению, не понимая, как подобное создание могло выжить в Лондоне, и откуда она взялась. Когда они начали спрашивать людей, видели ли кто-нибудь лис, то все сказали, что — нет, и кто-то сказал, что она пришла через дверь а другие — что она заблудилась из пригородов, а одна пожилая женщина поведала, что они увидели не лису, а себя, их любовь. Трудно было понять, что она имела в виду: лиса, как символ живущего, или лиса была их видением или просто чувством, и когда другие посмотрели, то не увидели никакой лисы.
Упоминание об их любви смутило Саида и Надию, потому что у них не было в последнее время никакой романтики, и каждый просто проживал, терпя присутствие другого, и они оставили в сторону все эти чувства из-за слишком долгого проживания в вынужденной тесноте — что легко могло бы случиться с кем-угодно. Они начали бывать поодиночке в течение дня, и от такой раздельности им стало легче, хотя Саид постоянно волновался о том, как если бы решили очистить их район совершенно внезапно, а они не смогли бы вовремя вернуться домой, зная из своего опыта, как ненадежна может быть мобильная связь, чей сигнал в обычных условиях был бы для них солнечным или лунным светом, и на самом деле мог бы оказаться лишь внезапным и бесконечным затмением, а Надия волновалась о своем обещании, данном ею отцу Саида, кого она тоже называла отцом, что будет оставаться со Саидом до тех пор, пока они не окажутся в безопасности, волновалась, что если она не сможет сдержать своего обещания, и окажутся ли тогда все ее слова напрасными.
Освободившись от клаустрофобной тесноты дня, исследуя окрестности раздельно, ночью они становились ближе друг к другу, пусть при этом теплота их отношений ощущалась скорее как отношения между родственниками, а не как у влюбленных. Они усаживались на балконе их спальни и ждали темноты, чтобы появилась лиса внизу — в саду. Такое благородное животное, и со всей ее благородностью радостно ковырявшееся в мусоре.
Сидя так, они иногда брались за руки, иногда целовались, и изредка вспыхивал огонь притихшего костра, и они шли в постель и мучили свои тела, никогда не дойдя до секса, но без нужды в нем, более без нужды, с последующим ритуалом освобождения. Затем они спали, а если не спали, то возвращались на балкон и ждали лису, а лиса была непредсказуемой, и она могла прийти и могла не прийти, но чаще — она приходила, и тогда им становились легче из-за того, что лиса не исчезла и ее не убили, и она не нашла другую часть города для своего дома. Однажды ночью лиса наткнулась на грязный подгузник, вытащила его из мусора и стала разнюхивать его, как будто распознавая, что это такое, а затем потащила это в сад, пачкая траву, передвигаясь зигзагами, словно декоративная собачка с игрушкой, или медведь с попавшимся неудачником-охотником, в любом случае — передвигаясь намеренно и непредсказуемо зло, и когда она закончила, то от подгузника остались одни клочья.
Той ночью отключилось электричество, отрезанное властями, и Кенсингтон и Челси погрузились в темноту. После этого возникло острое ощущение страха, и замолчал зов к молитве, часто доносящийся издалека из парка. Они решили, что приставка караоке, которой пользовался зовущий, не работала на батарейках.
Часть восьмая
Электрическая сеть Лондона была такой сложно сконструированной, из-за чего в окрестностях дома Надии и Саида оставались несколько точек ночного свечения поближе к краям — у баррикад и проверочных пунктов, охраняемых вооруженными силами правительства — в разбросанных местах, которые по непонятным причинами были трудно отделяемы от общей сети, и какие-то одиночные здания то тут то там, где находчивые мигранты могли присоединиться ко все-еще-работающей высоковольтной линии, рискуя иногда попасть под напряжение и сгореть. В большинстве же, все вокруг Саида и Надии оставалось темным.
Миконос не был залит электросветом, но электричество доходило до каждого, где висели провода. В их покинутом городе, когда пропало электричество, оно пропало насовсем. А в Лондоне части города все так же оставались яркими — ярче, чем Саид и Надия когда-либо видели, расцвечивая небо и отражаясь вниз от облаков — и, по контрасту, темная часть города казалась еще более темной, более значимой, как темнота океана означает не незначительность света сверху, а внезапный срез в глубину падения.
В темном Лондоне Саид и Надия пытались представить, как должно быть сейчас в светлом Лондоне, где, представлялось им, люди ужинали в элегантных ресторанах и ездили в блестящих черных авто, или шли на работу в офисы и магазины и свободно ходили куда им вздумается. В темном Лондоне накапливался мусор, и станции метро были заколочены. Поезда продолжали ездить, пропуская станции рядом с Надией и Саидом, и ощущались колебанием под их ногами и слышались тихим, мощным звуком, почти сверхзвуковым, как гром или взрыв огромной бомбы вдали.
По ночам, во мраке, когда дроны, вертолеты и воздушные шары наружного наблюдения постоянно кружились над головами, иногда вспыхивали драки, и тогда происходили убийства, изнасилования и нападения. Часть людей в темном Лондоне обвиняли в этих инцидентах провокаторов из нативистов. Другие обвиняли других мигрантов и начинали переезжать, словно размешивалась колода карт во время игры, рассредоточиваясь по мастям и достоинствам — свои к своим — или, скорее, что снаружи к такому же наружному — все червы вместе, все пики вместе, все суданцы, все гондурасцы.
Саид и Надия никуда не перемещались, но их дом все равно начал меняться. Нигерийцы с начала были самой многочисленной группой среди многого числа мигрантов, но мало-помалу не-нигерийские семьи стали съезжать из дома, и их место почти тут же почти всегда занималось еще нигерийцами, и их здание стало известно всем, как Нигерийский дом, как и два здания рядом по бокам. Старейшие нигерийцы этих трех домов начали встречаться в саду дома справа, и эти встречи они стали называть Советом. Приходили и женщины и мужчины, но единственной явной не-нигерийкой была лишь Надия.
В первый раз, когда пришла Надия, все удивились ей, не из-за ее этнической принадлежности, а из-за ее молодого возраста. Мгновенно наступило молчание, но пожилая женщина с тюрбаном, которая жила со своей дочерью и внуками в спальне над Саидом и Надией, и которой Надия не раз помогала подняться по лестнице — величественная женщина была большой по всем размерам — эта пожилая женщина махнула рукой Надии, призвав ее встать рядом с ней, встать у ее садовного стула, на котором она восседала. Это успокоило всех, и ни у кого не возникло никаких вопросов к Надии.
Сначала Надия с трудом понимала, что говорилось — что-то тут и что-то там — но через какое-то время она стала понимать все больше и больше, и до нее дошло также то, что нигерийцы были не все нигерийцами, часть — полу-нигерийцами или с граничащих с Нигерией районов, от семей, живущих по обе стороны границы, и даже вдалеке от всякой Нигерии, или не имеющих ничего общего с Нигерией, и даже разные нигерийцы говорили на разных языках среди своих и исповедовали различные религии. Вместе во всей этой группе людей они разговаривали на языке, вышедшем, в основном, из английского, но не совсем английский, и часть людей были более знакомы с английским языком, чем другие. К тому же они разговаривали на различных вариациях английского, и, когда Надия высказывала свое мнение или свою идею, то она не боялась, что будет непонята, потому что ее английский был совсем такой же, как один среди многих подобных.
Совет занимался обычными земными делами, вынося решения по спорным комнатам, заявлениям о воровстве или непорядочном поведении, а также отвечал за связи с другими домам на улице. Дебаты часто были долгими и изнуряющими, поэтому подобные собрания не были особенно популярными. А Надии очень нравились эти встречи. Они для нее представляли нечто новое, рождение нечто нового, и она обнаружила, что эти люди, похожие и непохожие на людей ее города, знакомые и незнакомые, стали интересными для нее, и она обнаружила, что принятие ее равной, или, по крайней мере, их терпимость к ней, стали для ее некоей наградой или достижением.
Среди молодых нигерийцев Надия получила специальный статус, возможно из-за того, что видели ее со старейшинами, или, возможно, из-за ее черной робы, и молодые нигерийские мужчины и женщины и подростки, у которых не задерживаются никакие слова на губах, редко говорили с ней, о ней, по крайней мере, в ее присутствии. Она спокойно, не задеваемая никем, приходила и проходила сквозь многолюдные комнаты и коридоры, незадеваемая никем, кроме одной быстроговорящей нигерийской женщины ее возраста, женщины в кожаной куртке с отколотым зубом, которая стояла ковбоем, расставив ноги и держа руки на ослабленном ремне, и никого не пропускала мимо без своих словесных кнутов, ее комментариев, прилипающих и следующих за тобой, даже когда она осталась позади.
Саид же оставался менее спокойным. Он был молодым мужчиной, и поэтому другие молодые люди время от времени примерялись, сравниваясь, к нему, как обычно делают молодые мужчины, и Саид посчитал это необнадеживающим явлением. Не из-за того, что он не встречался с подобным в своей стране — у него был опыт — а потому, что он был единственным мужчиной из своей страны, а все остальные мужчины были из другой страны, и тех было очень много, а он был совсем один. Нечто первобытное, нечто на племенном уровне, отчего возникало напряжение и что-то отдаленно похожее на страх. Он никогда не знал, когда он мог бы просто спокойно вести себя, если такое было бы возможно, и поэтому за пределами его спальни и внутри здания он редко ощущал себя не в напряжении.
Однажды, он шел один домой, пока Надия была на Совете, и женщина в кожаной куртке стояла в холле, закрывая ему проход своим узким изогнутым телом, прислонившись спиной к одной стене и упершись ногой в другую. Саид ни за что не признался бы никому, но она пугала его своей напряженностью, быстротой и непредсказуемостью слов, которых он часто не мог понять, но эти слова смешили всех остальных. Он встал там же и ждал, когда она сдвинется, уступив ему место для прохода. А она не двигалась, и тогда он попросил ее, извиняясь, а она заявила, почему должна его извинять, и она сказала больше того, но он смог распознать только эту фразу. Саид разозлился из-за ее игры с ним, но, удержав себя в руках, решил повернуться и прийти попозже. В этот момент он увидел мужчину позади себя — мускулистого нигерийца. Саид слышал, что у того был пистолет, хотя никогда не видел у него, но у многих мигрантов в темном Лондоне были ножи и другое оружие, потому что они находились вроде как в осаде, и правительственные силы могли атаковать их в любой момент, или потому, что, принимая во внимание откуда они родом, они были привычно вооружены, и Саид подозревал, что этот человек был из таких.
Саид захотел убежать, но не было возможности, и он попытался спрятать панику на своем лице поглубже, и тогда женщина в кожаной куртке отвела свою ногу, и там образовалось место для прохода Саида, и он протиснулся сквозь — его телом по ее телу — ощущая себя совсем незначительным и слабым, а когда он попал в их с Надией комнату, он сел на кровать, и его сердце рвалось из груди, и ему захотелось закричать, уткнувшись в угол, но он сдержал себя.
* * *
За углом, у Викаредж Гэйт, был дом, ставший известным, как дом людей из их страны. Саид стал проводить больше времени там, притягиваемый знакомым языком и акцентами и знакомым запахом еды. Однажды днем, он был там в молитвенное время, и он присоединился к своим землякам в молитве в саду под голубым небом, удивительно голубым небом, словно небо другого мира, в котором нет пыльного воздуха города, где он провел всю свою жизнь, при этом пристально смотря в небо с другой широты, с другой жердочки крутящейся Земли, ближе скорее к полюсу, чем к экватору, и разглядывая пустоту с другого угла, более голубого, и, молясь, он ощутил молитву по-другому, каким-то образом, в саду того дома с теми людьми. Он ощутил себя частью нечто, не нечто спиритуального, но нечто человеческого, частью этой группы, и во вспыхнувшую болью секунду он вспомнил о своем отце, и потом бородатый мужчина с двумя белыми пятнами на черном по обеим сторонам лица, как у величественных кошек или волков, обнял Саида и спросил, если их брату хочется выпить с ними чаю.
В тот день Саид ощутил себя принятым в тот дом, и он решился и спросил того мужчину с белыми пятнами на бороде о том, если там было место для него и Надии, которую он назвал своей женой. Мужчина ответил, что всегда найдется место для брата и сестры, при этом сожалея, что они не смогли бы жить в одной комнате, и Саид мог бы спать с ним и с другими мужчинами на полу жилой комнаты, если, конечно, он не против сна на полу, а Надия могла бы находиться с другими женщинами на верхних этажах, но, к сожалению, даже он и его жена живут точно так же, как все, и они были одними из первых жильцов, и оставался один лишь возможный выход впустить столько много людей в дом — как получилось, как было правильно.
Когда Саид выдал Надии хорошие новости, та повела себя так, как будто они не были хорошими новостями.
«Почему нам надо переехать?» спросила она.
«Быть среди своих», ответил Саид.
«Почему они — свои?»
«Они — из нашей страны».
«Из страны, из нашей бывшей страны».
«Да». Саид старался говорить ровно.
«Мы покинули то место».
«Это не означает, что не осталось никакой связи».
«Они — не как я».
«Ты еще с ними не встречалась».
«Мне и не нужно». Она долго и сердито выдохнула. «Здесь у нас есть своя комната», сказала она, умягчая свой тон. «Лишь нас двое. Это — большая роскошь. Зачем нам отдавать это для того, чтобы спать раздельно? Среди совершенно незнакомых людей?»
У Саида не нашлось ответа. Раздумывая позже, он принял, что действительно было бы странно, если бы он оставил их спальню на двоих в отдельном месте с барьером между ними, как если бы они все еще жили в его родительском доме, и то время он все еще радостно вспоминал, несмотря на весь ужас, радостно от того, что тогда он полюбил Надию, а она полюбила его, и как они были вместе. Он не стал настаивать в том разговоре, но, когда лицо Надии приблизилось к его лицу той ночью, приблизилось настолько, что ее дыхание стало щекотать его губы, он не смог найти в себе сил перейти тот мостик близкого расстояния для поцелуя.
* * *
Каждый день самолет военно-воздушных сил пролетал по небу грохочащим напоминанием людям темного Лондона о технологическом преимуществе их оппонентов, правительственных и нативистских сил. Бывая у границ их района, Саид и Надия видели танки и боевые машины, коммуникационные установки и роботов, которые катились или ползли словно животные, неся грузы для солдат или репетируя разминирование, или, возможно, готовясь к каким-то неизвестным задачам. Эти роботы, хоть их было совсем немного, казались еще страшнее самолетов, танков и дронов над головами, потому что они выглядели неостановимой эффективностью, нечеловеческой мощью и вызывали тоскливый страх подобный тому страху, который появляется у маленьких животных перед хищником, как у грызуна перед пастью змеи.
На собраниях Совета Надия часто слушала обсуждения старейшин о том, что делать, когда начнутся действия. Все соглашались, что самым важным делом было суметь удержать молодежь от необдуманных поступков, а вооруженное сопротивление, скорее всего, вело к бойне, и лишь ненасильственные действия оставались их самым разумным ответом — увещевания к гражданскому способу решения. Все согласились, кроме Надии, которая была совсем не уверена в своих мыслях, потому что она видела, что происходит с теми, кто сдается — как в своем городе, сдавшемся повстанцам — и считала, что молодые люди с их оружием и ножами, их кулаками и зубами имели право на ответ, и что ярость меньшего — вот, что удерживало хищника от нападения. Правда, в словах старейших присутствовала мудрость, и потому она не была уверена в своих мыслях.
И Саид — тоже. В доме неподалеку, в доме их земляков человек с белыми пятнами на бороде говорил о мученической смерти, не как о желаемом исходе, но как об одном из возможных путей праведно мыслящего, если не оставалось ничего другого, и призывал объединиться всем мигрантам по религиозным принципам, а не по границам разделения по расам, языкам и национальностям, потому что единственное различие, что-то значащее в мире, полном дверей, единственное различие было лишь между теми, кто искал правильный путь, и теми, кто мешал им в этом пути, и в таком мире религия праведности должна была защитить ищущих свой путь. Саид чувствовал себя располовиненным, потому что его тронули эти слова, укрепили, и те слова не были варварским набором слов повстанцев в его городе, из-за которых погибла мать, и, возможно, погиб отец, но в то же самое время собрание людей, притягиваемых словами человека с белыми пятнами на бороде, напомнило ему о повстанцах, и, когда он подумал так, то ощутил в себе нечто кисло-прогорклое, словно от гниющего внутри него.
В доме его земляков было оружие, и все больше прибывало каждый день через двери. Саид взял не ружье, а пистолет, потому что его легко было спрятать, а в глубине сердца он ни за что не признался бы в том, что взял пистолет из-за того, что с ним он чувствовал себя сохраннее от нативистов и нигерийцев — его соседей. Раздеваясь той ночью, он не сказал ни слова о нем, но также не стал его прятать от Надии, и он подумал, что она станет ругаться с ним или, по крайней мере, спорить, потому что знал, как решил Совет. Но она не стала.
Вместо этого, она посмотрела не него, а он посмотрел на нее, и он увидел в ней телесную животность и странность ее лица и ее тела, а она увидела странность в нем, и, когда он приблизился к ней, она приблизилась к нему, отстранившись слегка от него, и после вспышки обоюдного насилия и страсти их совокупления — внезапность шокирующего, почти что до боли, открытия.
Лишь после того, как заснула Надия, а Саид просто лежал в лунном свете, прокравшемся между пластин жалюзей, до него дошло, что он совершенно не знал, как ухаживать за пистолетом: совершенно никакой идеи, кроме известного факта, что курок вызовет выстрел. Он понял, что был смешон и должен вернуть завтра пистолет.
* * *
В темном Лондоне расцвела торговля электричеством в тех местах, где оно было, и Саид и Надия могли время от времени заряжать свои телефоны, и если они приближались к краям их района — даже поймать сильный сигнал, и, как многие другие, узнавали, что творится в мире, и, однажды, Надия сидела на ступенях здания и читала новости на своем телефоне напротив улицы с группой военных и танком, ей показалось, что она увидела он-лайн фотографию ее самой, сидящей на ступенях здания и читающую новости на телефоне напротив улицы с группой военных и танком, и она поразилась, озадаченная тем, как такое было возможно, как она могла читать эту новость и быть самой новостью, и как газета смогла опубликовать так мгновенно ее фотографию, и она повернулась в поисках фотографа, и у нее возникло странное чувство времени, огибающего ее, как будто она была из прошлого и читала о будущем, или была в будущем и читала о прошлом, и она почти ощутила, как если бы она встала сейчас и пошла домой, то в это же самое мгновение возникли бы две Надии, и она разделилась бы на две Надии, и одна осталась бы читающей на ступенях, а другая ушла бы домой, и две разные жизни развернулись бы для этих двух ее различных версий; и она подумала, что начала терять свой баланс или, возможно, разум, и тогда она увеличила изображение и разглядела женщину в черной робе, читающую новости на своем телефоне, но та была совсем не ей.
Новости в те дни были полны войной, мигрантами и нативистами, и также были полны разделениями регионов от государств, городов — от провинции, и, казалось, все стремились как-то объединиться, и все стремились при этом как-то разъединиться. Государства без границ становились некоей иллюзорностью, и люди начали сомневаться в роли государственности. Многие утверждали, что меньшие образования имеют больше смысла, а другие оспаривали это тем, что меньшие образования не смогли бы себя защитить.
Читая новости в то время, было легко решить, что государство становилось похожим на человека со многими персоналиями, настаивающими на объединении и дезинтеграции, и эта личность со многими персоналиями становилась персоной, чья кожа менялась по мере того, как вливались в кипящий котел другие люди, тоже меняющие в свою очередь цвет кожи. Даже у Британии не было иммунитета подобному феномену; и кто-то заявлял о том, что Британия уже разделилась, будто человек, которому отрубили голову, а тот все еще продолжал стоять; и кто-то завлял, что Британия была островом, и все острова смогут выстоять, даже если пришедшие люди захотят изменений, и такое продолжалось уже столетия, и так будет продолжаться еще столетия.
Ярость нативистов, жаждущих крови, более всего поразила Надию, прежде всего от того, что эта ярость была знакомой, такой же яростью повстанцев в ее родном городе. У нее возник вопрос к самой себе: чего добились она и Саид своим уходом, если изменились лишь лица и здания, а сама базовая реальность их положения — нет.
Однако, увидев вокруг себя всех этих людей всяких разных цветов кожи во всяких разных одеждах, ей стало легче; и лучше было здесь, чем там, и она поняла, что задыхалась в том месте ее рождения почти всю свою жизнь, и то время прошло, а новое время находилось здесь, и — напрасно ли или нет — она принимает данность, как ветер в лицо в жаркий день, когда она ездила на своем мотоцикле и поднимала забрало шлема, и дышала пылью и грязью, и мошкара иногда залетала в рот и заставляла тебя откашливаться и отплевываться, но после плевков — расплывалась ухмылкой, и та ухмылка была сама неукротимая дикость.
* * *
Для других двери тоже были выходом из положения. В горах неподалеку от Тихуаны находился сиротский приют называемый просто Дом Детей, скорее всего из-за того, что не мог считаться лишь сиротским приютом. Или не только сиротским приютом, хотя, так его называли все студенты, которые иногда приходили сюда добровольными помощниками-волонтерами: малярничать, плотничать, шпаклевать стены. У многих детей Дома Детей оставался, по крайней мере, один родитель или родственник, или тетя, или дядя. Обычно, те близкие работали на другой стороне границы — в США, и их отсутствие длилось до тех пор, пока ребенок не вырастал достаточно большим для того, чтобы попробовать перейти границу, или близкие выдыхались от работы и возвращались, иногда на время, чаще — навсегда, потому что жизнь и ее конец — непредсказуемы, особенно, в таких обстоятельствах, когда смерть причудливо выбирает себе цель.
Дом стоял на склоне хребта горы, парадной стороной к дороге. Цепные ограждения и частично забетонированная игровая площадка находились позади здания, лицом к высохшей от жажды долине, на которой были выстроены низкорослые строения той же дороги, часть из них — на сваях, как будто над морем, и вид был совсем несочетаемым из-за засушливости и недостатка воды вообще. Правда, Тихий океан находился в паре часов ходьбы к западу, и, кроме того, сваи все же подходили к окружающей местности.
Из черной двери ближней кантины — места совершенно не предназначенного для молодой женщины — появилась молодая женщина. Хозяин питейного места не удивился — времена были такими — и, как только эта женщина смогла подняться, она направилась к сиротскому приюту. Там она нашла другую молодую женщину, или, скорее, девушку, и молодая женщина обняла девушку, которую она видела лишь на электронном дисплее телефонов и компьютеров, поскольку прошло столько много лет, и девушка обняла свою мать и затем смутилась.
Мать девушки встретилась с людьми, управляющими приютом, и много детей уставились на нее и завелись разговорами о ней, словно она была каким-то знаком, а она и была, поскольку если появилась она, то могли появиться и другие. Ужин в тот вечер состоял из риса и пожаренных бобов, поданных на бумажных тарелках, и еду ели на сплошном ряду столов с приставленными скамьями, а мать сидела в центре, словно знаменитость или какая-то святая, и рассказывала истории, которые некоторым детям представлялись происходившими с их матерями сейчас или до того, когда их матери были живы.
Мать провела ночь в приюте, чтобы дочь смогла попрощаться со всеми. И, когда мать и дочь вместе вернулись к кантине, то хозяин впустил их, качая головой, но улыбаясь улыбкой, прячущейся в его усах, отчего свирепый вид его стал немного нелепым, и мать и ее дочь ушли.
* * *
Саид и Надия услышали, что в Лондон прибыли военные и добровольческие вооруженные формирования со всей страны. Им представились британские отряды с названиями прошлых времен и в современном обмундировании готовые усмирить любое сопротивление, попавшееся им на пути. Похоже, назревала большая бойня. Они оба прекрасно понимали, что Лондонская битва могла быть лишь безнадежно односторонней, и, как многие другие, не пытались уходить далеко от своего дома.
Операция по очистке мигрантского гетто, в которую попали Саид и Надия, началась довольно плохо: с раны полицейского в ногу в самые первые секунды вхождения его отряда в занятое здание кинотеатра у Марбл Арч; и затем раздались глухие звуки стрельбы оттуда, а потом — из других мест, нарастая и нарастая, повсюду; и Саид, очутившийся на открытом месте, бросился бежать домой и наткнулся на запертую входную дверь, и он начал стучать по ней, пока она не открылась, и Надия задернула его внутрь и захлопнула дверь за ними.
Они забежали в их комнату, задвинули их матрас в окно и сели вместе в углу, и стали ждать. Они услышали вертолеты и еще стрельбу, и объявление покинуть мирно зону такое громкое, что задрожал пол, и они увидели в щель между матрасом и окном тысячи листовок, падающих с неба, а потом они увидели дым, и почувствовали запах горения, и затем все затихло, но дым и запах длились долго, в частности запах, проникающий даже тогда, когда поменялось направление ветра.
Той ночью пришел слух, что больше двухсот мигрантов сгорело в здании кинотеатра — дети, женщины, мужчины, но, особенно, дети, много детей; было ли правдой или нет, как и другие слухи о кровавой бойне в Гайд Парке или в Эрлс Коурт, или в Шепередс Буш, что мигранты погибали в большом количестве, и чего бы там ни происходило, но что-то все же произошло; и возникла пауза, и солдаты, полицейские и добровольцы, продвинувшиеся по краям гетто, вернулись назад, и больше не было никакой стрельбы той ночью.
Следующий день был тихим, и день после, и на второй день тишины Саид и Надия вернули свой матрас из окна и решились на выход наружу и поиски еды, но ничего не нашли. Места раздачи еды были закрыты. Какую-то еду раздавали через дверь, но ее было совсем мало. Собрался Совет и реквизировал все продовольствие в трех домах, и его решили раздавать пайком, большинство — для детей, и Саиду с Надией доставались лишь горсть миндаля на день и банка сельди на два дня.
* * *
Они сидели на их кровати и смотрели на дождь и разговаривали, как прежде, о конце мира, и Саид стал рассуждать вслух опять о том, смогут ли их убить местные жители, и Надия вновь повторила, что местные жители были так напуганы, что смогли бы сделать что угодно.
«Я их понимаю», сказала она. «Представь, если бы ты жил здесь, а миллионы людей со всего мира внезапно прибыли бы».
«Миллионы прибыли и в нашу страну», ответил Саид. «Когда у них были войны».
«Там было по-другому. Наша страна была бедной. Нам казалось, что ничего особенного не теряли».
За балконом дождь стучал по горшкам и кастрюлям, и время от времени Саид и Надия вставали, открывали окно, несли два сосуда к душевой комнате и выливали их в заткнутую пробкой ванну, как решил Совет на случай аварийного хранилища воды, которая больше не поступала по трубам.
Надия посмотрела на Саида и не в первый раз задалась вопросом: не увела ли она его в сторону с его пути. Она подумала, что он, возможно, колебался в принятии решения покинуть их город, и она подумала, что, возможно, она могла бы подтолкнуть его к любому решению, и она подумала, что он был добрым и порядочным человеком, и ее объяло чувство глубокого сочувствия к нему в тот момент, смотря на его лицо, вглядывающееся в дождь, и она поняла, что в своей жизни не из-за кого никогда не переживала таких эмоций, какие возникли в ней из-за Саида в первые месяцы, когда в ней вспыхнули сильные чувства к нему.
Саид со своей стороны тоже хотел бы сделать что-нибудь для Надии, как-то защитить ее от приходящего, даже если бы он и понял, в какой-то момент, что любить — это войти, однажды, в неизбежность того, что не сможешь защитить самое драгоценное для тебя. Он считал, что она заслуживала гораздо лучшего, чем это, но не видел возможности изменить, решившись не уходить, не играть в рулетку с еще одним убытием. Уйти навсегда — недоступно многим: даже загнанное охотниками животное в какой-то момент остановится и станет ожидать своей участи, хотя и ненадолго.
«Что ты думаешь происходит, когда умираешь?» Надия спросила его.
«Ты — о загробной жизни?»
«Нет, не о потом. А тогда. В тот момент. Все становится черным, как выключишь телефонный экран? Или попадешь в некую странность где-то посередине, как если засыпаешь, и ты находишься и там и тут?»
Саид решил: что зависело от причины смерти. Однако, он увидел, как Надия смотрела на него, напряженно ожидая, и он сказал: «Мне кажется, это будет, как засыпаешь. Придут сны прежде, чем тебя уже нет».
Лишь такую защиту он смог предложить ей тогда. А она улыбнулась в ответ теплой, светлой улыбкой, и он спросил себя: поверила она ему, или она решила, что нет, дорогой, это совсем не то, что ты подумал.
* * *
Прошла неделя. И затем — еще одна. И затем местные и их вооруженные силы отошли.
Возможно, они решили, что у них не было того, что необходимо для совершения задуманного, чтобы согнать и, если необходимо, убить мигрантов, и нашли какое-то другое решение. Возможно, до них дошло, что двери невозможно было закрыть, и новые двери постоянно открывались, и они поняли, что отвергать сосуществование требует необходимости уничтожения одной стороны, и уничтожающая сторона тоже должна была бы измениться в этом процессе, и многие местные родители после этого не смогли бы смотреть в глаза своих детей и гордо рассказать о том, что совершило их поколение. Или, возможно, количество мест, где появились двери, делало бессмысленным любую войну.
И поэтому, вопреки смыслу, порядочность в этом случае взяла верх и храбрость, когда вопреки страху решаешь не атаковать; и вновь вернулись электричество и вода, и возобновились переговоры, и появился тот слух, и среди вишневых деревьев на Пэлас Гарденс Террас началось празднование до самой глубокой ночи.
Часть девятая
Тем летом, как казалось Саиду и Надии, вся планета начала передвигаться, и весь юг направился на север, и также южане направились в другие южные места, а северяне — в другие северные. В зеленой зоне вокруг Лондона, которую раньше строго охраняли, началось строительство кольца новых городов, которые могли бы принять больше людей, чем сам Лондон. Это строительство назвали Нимбом Лондона — одно из бесчисленных человеческих нимбов, спутников и созвездий, развернувшихся в стране и по всему миру.
Там обнаружились Саид и Надия в те теплые месяцы, в рабочих лагерях. В обмен на их работу по очистке местности, постройке инфраструктуры и сборке жилых домов из блоков мигрантам были обещаны сорок метров и труба: дом на сорока квадратных метрах земли и присоединение ко всем современным удобствам.
Был принят добровольный временный налог, по которому часть от денежных поступлений и заработка тех, кто недавно прибыл на остров, шла проживавшим здесь много лет, и этот налог работал в обе стороны, уменьшаясь по прошествии лет и становясь через какое-то время субсидией. Много было волнений, и конфликт не исчез за одну ночь, продолжался и тихо бурлил, но сообщения о тех продолжениях и бурлениях перестали казаться апокалиптичными, и пока какие-то мигранты продолжали цепляться за собственности, им не принадлежащие, и какие-то мигранты и местные жители продолжали взрывать бомбы и стрелять, у Саида с Надией возникло ощущение того, что большинство людей, по крайней мере в Англии, стало более терпимо относиться друг к другу.
Рабочий лагерь Саида и Надии был обнесен по периметру забором. На территории расположились огромные павильоны из серой материи, выглядящей словно пластик, натянутой на металлические фермы по краям, и внутри было просторно, защищая от ветра и непогоды. Они занимали небольшое, ограниченное занавесями, помещение в одном из этих общежитий, и занавеси держались на тросе, протянутом на высоте, еле доставаемой Саидом, и, глядя сверху, павильон был похож на лабиринт или операционные комнаты огромного полевого госпиталя.
Питались они скромно, и их еда состояла из мучных, овощных и, иногда, молочных продуктов, и, если был удачный день, фруктов и немного мяса. Они никогда не наедались досыта, но спали крепко из-за тяжелой продолжительной работы. Первые дома, которые строили рабочие их лагеря, почти были готовы ко вселению, а Саид с Надией не были далеко в списке получающих, и поэтому к концу осени они рассчитывали въехать в их собственный дом. Их мозоли затвердели, и дождь более не беспокоил их никак.
Однажды ночью, когда Надия спала на раскладушке рядом с Саидом, ей приснился сон — сон с девушкой из Миконоса — и ей приснилось, как она вернулась в тот дом в Лондоне, куда они сначала прибыли, и как она пошла наверх и вышла назад в греческий остров, и, когда Надия проснулась, она дышала с трудом, и ощутила все свое тело, несмотря на все его изменения, из-за сна, показавшегося таким настоящим, и после этого она стала часто вспоминать о Миконосе.
* * *
Саиду же часто приходили сны о его отце, о чей кончине рассказал Саиду родственник, недавно сумевший сбежать из их города, и с которым Саид связался по интернету, и тот родственник обосновался неподалеку от Буэнос Айреса. Родственник рассказал Саиду, что его отец умер от пневмонии после нескольких месяцев борьбы с болезнью, начавшейся обычной простудой, и в отсутствие антибиотиков он не смог выжить, но он никогда не был одиноким, и его родственники оставались с ним, и его похоронили рядом с женой, как он и хотел.
Саид не знал, как оплакивать, как выразить свое сожаление, находясь так далеко. Тогда он взял на себя двойную работу и дополнительные смены, хотя у самого еле хватало сил, но скорость получения жилья для него и Надии не ускорилась, хотя и не замедлилась, поскольку и другие мужья и жены, и матери, и отцы, и мужчины, и женщины работали так же — в дополнительные смены, и усердие Саида лишь сохраняло их с Надией высокое место в листе.
Надию очень расстроила новость о смерти старика, больше, чем она ожидала. Она попыталась заговорить с Саидом об его отце, но столкнулась с трудностью найти нужные слова, и Саид со своей стороны оставался тихим, неразговорчивым. Ее охватывало иногда чувство вины, хотя при этом она не понимала причины этой вины. Все, что она знала: когда пришло это чувство, то ей было легче не быть рядом с Саидом, на ее работе, отдельной от его, легче, пока она не стала думать об этом, посчитав, что легче от того, что его нет рядом, потому что как только она начала думать об этом, то чувство вины сразу же появилось за ее спиной.
Саид не попросил Надию молиться за его отца, а она не предложила ему этого, но, когда он собрался помолиться со знакомыми, собиравшимися в длинной вечерней тени, отбрасываемой их общежитием, она сказала, что хотела бы присоединиться к кругу молящихся, посидеть с Саидом и с другими, даже не затем, чтобы склониться в мольбе, то он улыбнулся и ответил, что в этом нет нужды. И у нее не нашлось слов на это. Она все равно осталась с ними, рядом с Саидом, на голой земле, лишенной всякой растительности из-за сотен тысяч шагов по ней и расплющенной тяжелой техникой, и впервые она ощутила недружелюбие. Или, скорее, отстраненность. Или, скорее всего, и то и другое.
* * *
Для многих приспособиться к этому новому миру было очень трудно, но для кого-то это прошло неожиданно просто.
На Принсенграхт, в центре Амстердама, пожилой человек вышел на балкон своей маленькой квартиры, одной из тех, расположенных в переделанных под жилье столетних домов и складов у канала; и окна тех квартир выходили на двор, залитый разноцветьем растений — словно тропические джунгли — мокрый от зелени, в городе воды; и мох разрастался по деревянным краям его балкона, а также папоротник, и усики расползались по сторонам; и там стояли два стула, два стула с тех времен, когда еще жили два человека в этой квартире, а теперь оставался лишь один, и его последняя любовь покинула его; и он сел в один из тех стульев и аккуратно раскатал себе сигарету; пальцы его дрожали, бумага хрустела, слегка мягкая от влажности, и запах табака напомнил ему, как всегда, о давно ушедшем отце, и как тот вместе с ним слушал записи научно-фантастических приключений, и как раскуривал свою трубку, пока морские создания атаковали подводную лодку, и звуки ветра и волн в записи смешивались с шумом дождя в их окне, и пожилой человек, тогда еще мальчик, думал, что когда я вырасту, то тоже буду курить, и так и случилось; курильщик со стажем разминал сигарету и собирался зажечь ее, как увидел выходящего из простого сарая во дворе — где хранились садовые инструменты и всякое такое, и откуда выходили и куда заходили постоянные потоки иностранцев — морщинистого мужчину, щурящегося на свет, с тростью и в панаме, одетого как для тропиков.
Пожилой человек посмотрел на морщинистого и ничего не сказал. Он всего лишь зажег сигарету и затянулся ею. Морщинистый тоже не произнес ни слова: он прошелся медленно по двору, опираясь на трость, скрипящую по гальке дорожки. Затем морщинистый направился назад в сарай, но перед этим он повернулся к пожилому, все еще пренебрежительно смотрящего на него, и элегантно приподнял свою шляпу.
Пожилой поразился этому жесту и просидел какое-то время неподвижно, словно парализованный, и прежде, чем он решил как-то ответить, морщинистый человек зашел внутрь и исчез.
На следующий день сцена повторилась. Пожилой все так же сидел на балконе. Появился морщинистый. Они посмотрели друг на друга. И в этот раз человек в морщинах приподнял приветственно свою шляпу, пожилой поднял бокал вина — бокал крепленого вина, которое он тогда пил — и он при этом серьезно, но благопристойно, кивнул головой. Никто из них не улыбнулся.
На третий день пожилой мужчина спросил морщинистого, если тот желает присоединиться к нему на балконе, и, хотя пожилой не говорил на португальском бразильском языке, а морщинистый не понимал голландский, они затеяли между собой разговор — разговор со многими долгими паузами, но эти паузы были в высшей степени понятными, почти незаметными для тех двоих, словно два древних дерева не заметят нескольких минут или часов, пролетевших незаметно.
В следующий приход человек в морщинах предложил пожилому зайти в черную дверь внутри сарая. И пожилой согласился, медленно шаркая ногами, как и морщинистый; и на другой стороне той двери пожилой, поднявшийся на ноги с помощью морщинистого, очутился в холмистом районе Санта Тереса Рио-де-Жанейро в тот же самый день, только раннее и жарче, как и в его Амстердаме. Морщинистый отвел его по трамвайным путям в студию, где тот работал, и показал ему свои картины, и пожилой, несмотря на то, что ему было трудно оставаться несочувствующим критиком, решил, что те картины были созданы настоящим талантом. Он попросил продать одну работу, но вместо этого — получил ее в дар.
Неделю спустя, военный фотограф, проживавшая в квартире на Принсенграхт с окнами в тот же двор, первым из соседей заметила присутствие пожилой пары на балконе на другой стороне. Она также была первой, через совсем короткое время, и к ее изумлению, кто увидела их первый поцелуй, который она запечатлела, совершенно не собираясь делать этого, а затем уничтожила снимок позже той же ночью из-за внезапного приступа сентиментальности и уважения чужой приватности.
* * *
Иногда какой-нибудь представитель прессы появлялся в лагере или на работе Саида и Надии, но, прежде всего, сами чужеземцы описывали, постили и комментировали происходящее. И, как обычно, больший интерес привлекали события подобные тому, как налет нативистов, испортивших машинное оборудование или сломавших, почти построенные, здания, или как избили какого-то рабочего, далеко ушедшего от лагеря. Или как мигрант пырнул ножом бригадира из местных, или драка между группами мигрантов. Но, в основном, не было ничего для новостей: лишь день-за-днем бесконечная человеческая работа и обычная жизнь, и старение, и любовь, и разводы, как везде, и, явно, не стоило никаких заголовков и не привлекало ничьего внимания, кроме тех, кого это напрямую касалось.
В общежитях не было местных по очевидным причинам. Однако, они работали вместе с мигрантами в рабочих местах, обычно, супервайзорами или операторами тяжелой техники, огромных машин, напоминающих механических динозавров, которые могли поднять огромный кусок земли или закатать горячую полосу асфальта, или размешать бетон медленным спокойствием жующей коровы. Саид, конечно же, видел подобное строительное оборудование, но некоторые машины не были сопоставимы никакими размерами с ранее виденным, и работать рядом с пыхтящим, сопящим строительным двигателем ощущалось совсем не так, как вид с далекого расстояния, точно так же отличались ощущения пехотинца, бегущего рядом с танком в бою, и мальчика, смотрящего на этого пехотинца на параде.
Саид работал с дорожниками. Его бригадир был знающим дело, опытным местным с прядями белых волос по облысевшей голове, покрытой, чаще всего, шлемом до тех пор, пока он не вытирал голову от пота в конце рабочего дня. Этот бригадир был честным, сильным человеком, не боящимся показать свои мысли и отношение. Он не любил никчемные разговоры, но, в отличие от многих местных, ел свой обед с мигрантами, работающими с ним, и, похоже, ему нравился Саид, а если нравился — слишком сильное слово, то, по крайней мере, он ценил отношение Саида к работе, и часто садился рядом с Саидом, когда ел. Саиду тоже было на руку находиться как можно чаще между рабочими, говорящими на английском, и он занял место некоего посредника между бригадиром и другими людьми его бригады.
Бригада было многочисленной: излишек рабочих тел и недостаток оборудования; бригадиру приходилось постоянно изобретать способы эффективного использования большого количества людей. Можно сказать, что тот находился между прошлым и будущим: прошлым от того, что в начале своей карьеры баланс необходимых к решению задач склонялся в сторону ручных работ, а будущее — потому что, оглядывая вокруг сейчас почти непредставимое происходящее, ему казалось, что они переделывали саму Землю.
Саид обожал бригадира, и у бригадира была своего рода негромкая харизма, к которой часто тянутся молодые люди, и частью того притяжения было отсутствие желания быть обожаемым. Также, для Саида и многих других в бригаде, их контакт с бригадиром был самым близким и самым продолжительным из всех их общений с местными, и поэтому они смотрели на него, как на ключ к пониманию их нового дома, людей и порядков, устройства и привычек, кем, в чем-то, он и был, хотя, принимая во внимание их само присутствие, люди и порядки, устройства и привычки претерпевали огромные изменения.
Однажды, под вечер и окончание смены, Саид подошел к бригадиру и поблагодарил его за все, что тот делает для мигрантов. Бригадир не промолвил ни слова. В это самое мгновение Саиду вспомнились солдаты, виденные им в родном городе, вернувшиеся домой после боев, которые, когда начинали выпрашивать истории о том, где они были и что делали, смотрели на тебя, как будто ты совсем не представлял себе того, что просил.
* * *
Саид проснулся на следующий день перед рассветом, и его тело саднило зажатостью. Он попытался подвинуться, стараясь не потревожить Надию, но, открыв глаза, увидел, что она не спит. Его первым желанием было инстинктивное притворство сна, что он устал после всего и мог бы еще полежать непотревоженным в кровати, но мысль, что она лежит здесь и ощущает себя одинокой, забеспокоила его, и, кроме того, она могла заметить его притворство. Тогда он повернулся к ней и спросил шепотом: «Хочешь пойти наружу?»
Она кивнула головой, не глядя в его сторону, и они поднялись и сели спинами друг к другу по разным концам раскладной кровати, и стали нащупывать ступнями их рабочую обувь. Шнурки прошуршали металлом, натягиваясь и завязавшись. Они услышали дыхание, кашли, детский плач и торопливые звуки тихого секса. Ночное освещение павильона было сравнимо со светом месяца: достаточно для сна, и также достаточно, чтобы разглядеть очертания предметов, но не их цвета.
Они вышли наружу. Небо начинало меняться и становилось не темнее индиго, и вокруг были другие люди, другие пары и группы, но, в основном, одиночки, но могущие заснуть, или, по крайней мере, не могущие больше спать. Было прохладно, но не холодно, и Надия с Саидом стояли рядом, не держась руками, но ощущая легкое присутствие близких рук через их рукава.
«Я такая усталая этим утром», сказала Надия.
«Понимаю», ответил Саид. «Я — тоже».
Надия хотела сказать Саиду больше этого, но ее горло стало непроизносимым, почти болью, и что бы ей захотелось сказать — не нашло пути к ее рту и губам.
Голова Саида тоже была занята мыслями. Он понимал, что смог бы сейчас сказать Надии. Он понимал, что должен был сейчас сказать Надии, потому что у них сейчас было время, место, и ничто не отвлекало их. Только он не смог заставить себя говорить.
И вместо этого они пошли, первыми шагами — Саид, а Надия — следом за ним, и затем — рядом друг с другом, вместе, и для тех, кто могли увидеть их, они казались марширующими работниками, а не гуляющей парой. Лагерь в это время был безлюдным, но вокруг летали птицы, много-много птиц, летающих или сидящих на павильонах и на окружающем заборе, и Надия и Саид смотрели на этих птиц, которые уже потеряли или скоро потеряют свои деревья из-за строительства, и Саид иногда отвечал им еле слышным, шипящим, сквозь зубы, свистом, похожим на звук медленно сдувающегося шара.
Надия пыталась разглядеть, если какая-нибудь птица заметила его свист, но в их ходьбе не заметила ни одной.
* * *
Надия работала в почти женской бригаде по укладке труб: огромные бобины и поддоны их различных цветов и окрасок — оранжевые и желтые, черные и зеленые. По тем трубам скоро потекут жизненные соки и мысли нового города, все те вещи, связывающие людей, которым не нужно никуда перемещаться. Впереди укладчиков работала выкапывающая машина, словно паук-волк или охотящийся богомол, широкая и с опасно выглядящими впереди выступами, сходящимися вместе зубчатым скрепером там, где могла бы находиться пасть. Эта машина копала траншеи в земле, куда раскручивались, укладывались и собирались в одно целое трубы.
Водителем выкапывающей машины был дородный местный с неместной женой, похожей для Надии на местную, но, как было известно, прибывшую сюда из страны неподалеку лет двадцать тому назад, и та, скорее всего, все еще говорила с еле заметным акцентом своей родной страны, но у этих местных было столько разных акцентов, что Надия не могла их различить. Женщина работала неподалеку супервайзором в одном из отрядов, готовящих еду, и она появлялась иногда во время ее обеденного перерыва, когда был муж, не всегда из-за того, что он выкапывал траншеи для многих трубоукладочных бригад, и тогда женщина и ее муж разворачивали свои бутерброды, раскручивали крышки термосов, ели, беседовали и смеялись.
Со временем Надия и еще другие женщины из их бригады присоединились к ним, и те ничего не имели против их компании. Водитель оказался любителем поговорить и пошутить, и ему нравилось внимание публики, и его жене так же нравилось это, хотя она говорила гораздо меньше, но, как выходило, она была довольна, когда все женщины зачарованно слушали ее мужа. Наверное, он вырастал в ее глазах в то время. Надии, обычно слушающей, улыбающейся и мало говорящей в тех посиделках, та пара казалась королевой и королем страны, населенной одними женщинами, временной страны, длящейся только несколько коротких сезонов, и, может, думала она, они тоже так считали и решили насладиться этим коротким временем.
* * *
Говорили, что с каждым месяцем становилось все больше и больше рабочих лагерей вокруг Лондона, и, даже если это и было правдой, Саид и Надия заметили, как с почти каждым днем разбухал их лагерь новыми пришельцами. Кто-то приходил пешком, другие прибывали на автобусах и грузовиках. В дни отдыха рабочим предлагали помочь с обустройством лагеря, и Саид часто добровольно соглашался на помощь новоприбывшим.
Однажды, он помогал небольшой семье — мать, отец и дочь — из трех человек, чья кожа, казалось, никогда не видела солнца. Он был поражен длиной их ресниц, и на их руках и щеках были видны сетки крохотных вен. Он не знал, откуда могли они прибыть, но он не знал их языка, а те не знали английского, и он не хотел показаться назойливым.
Мать была высокой и узкоплечей, и таким же высоким был отец, а дочь казалась чуть меньшей версией ее матери, почти такого же роста с Саидом, хотя ему показалось, что она была еще очень юной — тринадцати-четырнадцати лет. Они следили за Саидом настороженно и пристально, и Саиду пришлось разговаривать и передвигаться медленно, как будто повстречавшись впервые с нервничаещей лошадью или обозленным щенком.
За то время дня, проведенное с ними, Саид очень редко слышал, как они переговаривались на их, как казалось ему, необычном языке. В основном, они общались жестами или взглядами. Возможно, сначала решил Саид, они боялись того, что он сможет их понять. Позже он догадался. Им было стыдно, и им не было знакомо это чувство стыда, а для переселенца это чувство было обычным, и не было никакого особенного стыда, ощущая себя постыдным.
Он провел их в отведенное им место в одном из новых павильонов, еще незаполненное, с первичным набором сервиса, с раскладными кроватями и матерчатыми стеллажами, висящими на тросах, и он оставил их, чтобы те устроились, оставил их троих бездвижными и разглядывающими. Однако, когда он вернулся час спустя, чтобы привести их в кладовую за едой, и позвал их, и мать отвела в сторону полог, ставший входной дверью, и он мельком увидел появившийся дом с заполненными отсеками стеллажей и аккуратными стопками их вещей на полу, и покрывало на кровати, а также кровать дочери, и та сидела на ней с прямой спиной и скрещенным ногами и держала небольшую записную книжку или дневник, в котором она что-то лихорадочно писала, пока мать не позвала ее по имени, и тогда дочь закрыла свой дневник на замок ключом со шнурка на ее шее, и положила книжку в одну из горок ее вещей, забросив поглубже от других глаз.
Она встала позади ее родителей, которые приветливо кивнули головами Саиду, и он повернулся и повел их от того места, которое уже становилось их местом, в другое место, где, не сворачивая никуда в сторону, можно всегда было найти еду.
* * *
Северные летние вечера — бесконечны. Саид и Надия часто засыпали задолго до темноты, и перед сном они часто садились снаружи на землю, спиной к общежитию, и уходили вдаль своими телефонами сами по себе, хотя со стороны казалось, что вместе, и иногда он или она озирались вокруг и ощущали своим лицом ветер, продувающий насквозь потревоженные поля.
Их разговоры почти прекратились, и к концу дня они, обычно, уставали настолько, что могли еле говорить, а телефоны обладают сами по себе особенностью отдалению от присутствия другого человека, что тоже сказывалось на них, и Саид и Надия больше не касались друг друга, лежа в постели, не так, как ранее, и не потому, что их занавешанное жилье в павильоне не казалось приватным местом, или не только из-за этого, а если начинались продолжительные разговоры, они — пара некогда согласных друг с другом людей — начинали пререкаться, словно их нервы были настолько напряжены, и долгое близкое нахождение вызывало приступ боли.
Каждый раз, когда пары меняются, они начинают, если их внимание в тот момент на своем спутнике, видеть друг друга по-другому, поскольку у характеров нет одного неизменного цвета — белого или синего — а, скорее, представляют собой экран, а тени, отбрасываемые нами на него, зависят от того, где мы находимся. То же происходило с Саидом и Надией, обнаружившими, что изменились в глазах друг друга в этом новом месте.
Саид для Надии стал казаться более привлекательным, чем был ранее, и его тяжелая работа и стройность тела очень шли ему, и работа давала ему время для молчаливых раздумий, вылепляя из молодого человека мужчину. Она заметила, как другие женщины иногда поглядывали на него, и все равно ее странным образом не волновала его привлекательность, словно он был камнем или домом, нечто таким, чем можно восхищаться, но не иметь никакого желания обладать.
У него появились редкие седые волосы в бороде — новоприобретение этого лета — и он молился с большей регулярностью каждым утром и вечером, и, очевидно, во время обеденного перерыва. Когда он разговаривал, речь шла о прокладке дорог и списке получающих жилье и политике, но никогда — о своих родителях, об их путешествии, о местах, какие они могли бы когда-нибудь посетить, и о звездах.
Его все более тянуло к людям их страны, работающим в лагере или общавшимися с ним по интернету. Надии стало казаться, что чем дальше они отдалялись от родного города во времени и в пространстве, тем больше он искал связи с тем местом, пытаясь притянуть к себе воздух той эпохи, давно ушедшей для нее.
Для Саида Надия выглядела почти такой же, как в первую их встречу, все такой же поразительно привлекательной, только более усталой. Совершенно необъяснимым оставалось то, что она продолжала одевать черную робу, и немного смущало то, что она не молилась, избегала родной речи и сторонилась их людей, и иногда ему хотелось закричать, чтобы она сняла тогда уж свою робу, и он кривился досадой внутри себя за это, поскольку верил, что любил ее, и от пузырящейся горечи обиды он злился на себя, на того, кем становился — все менее и менее романтичным, и не таким человеком, он считал, нужно было стремиться стать.
Саид хотел продолжать чувствовать то же самое, что он чувствовал всегда к Надии, и от возможной потери этого ощущения его понесло в мир, где можно было отправиться куда-угодно, но не найти ничего. Он был убежден, что заботился о ней, желал ей лишь добра и защищал ее. Она стала всей его близкой семьей — а он считал семейные ценности превыше всего — и, когда теплота их отношений начала остывать, его печаль возросла неимоверно, так неимоверно, что неясность заполнила его: возможно ли, что все его потери собрались в одно целое, и центр этого целого — смерть матери, смерть отца и возможная смерть его идеи о себе, когда-то любящего эту женщину так крепко — стал словно одной смертью, которую могли преодолеть лишь тяжелый труд и молитва.
Саид решил чаще улыбаться с Надией, и он понадеялся, что и она ощутит нечто теплое и дружеское, когда улыбнется он, но в ответ к ней приходила печаль и ощущение недоконченности и того, что им вместе необходимо найти выход из их ситуации.
* * *
И в один прекрасный день, совершенно внезапно, под небом бороздящих дронов и в невидимой сети наблюдения, заполнившей их телефоны, все записывающей, подхватывающей и знающей, она предложила покинуть их жилье, оставить свое место в списке нуждающихся и все, нажитое ими здесь, и уйти в ближайшую дверь, о которой она недавно услышала, в город Марин на берегу Тихого океана возле Сан Франциско, и он не стал спорить или даже сопротивляться, к чему готовилась она, а просто согласился, и их обоих охватила надежда — надежда их обновленных отношений, восстановленных отношений, какими те были совсем не так давно и скрыться через треть земного шара от того, кем они становились.
Часть десятая
В Марине чем выше поднимаешься на холм, тем меньше людей, но вид становится все лучше и лучше. Надия и Саид были в числе поздноприбывших, и поэтому все нижние места у холмов уже были заняты, и тогда они нашли место повыше с видом вокруг и на мост Голден Бридж в Сан Франциско и на залив, когда была ясная погода, или на разбросанные островки, плывущие в облачном море, когда спускался туман.
Они собрали хижину с крышей из гофрированного металлического листа и стенками из найденных упаковочных ящиков. Как объяснили их соседи, такая конструкция была лучше всего приспособлена против землетрясений: могла легко рассыпаться, но вряд ли бы причинила много вреда ее жильцам из-за довольно легкого веса. Телефонный сигнал был сильный, и они раздобыли панель солнечной батареи с аккумулятором и универсальным разъемом на все возможные штекеры и сборщик дождевой воды, представлявший собой кусок синтетической ткани и ведро, а так же сборщики росы, выглядевшие в пластиковых бутылках словно нити накала в перевернутых лампочках, и, таким образом, их жизнь, пока еще без никаких излишеств, не была тяжелой, как им представлялось ранее, или, во всяком случае, каковой могла оказаться.
Из их хижины туман казался живым: передвигался, густел, соскальзывал, рассеивался. Он открывал виду невидимое, происходящее на воде и в воздухе, и — неожиданно — тепло, холод и влажность не просто ощущались кожей, но становились видимыми атмосферным явлением. Надии и Саиду казалось, что каким-то образом они жили одновременно и в океане и среди вершин холмов.
Надия спускалась вниз пешком на свою работу, сначал проходя через такие же, как у них, кварталы жилья без канализации и электричества, затем через кварталы с электричеством, а затем лишь кварталы с дорогами и водопроводом, где она могла сесть на автобус или поймать грузовик, едущий к ее месту работы — продовольственный кооператив, наскоро построенный в коммерческой зоне у городка Саусалито.
Марин был очень бедным городом, особенно по сравнению с пузырящимся изобилием Сан Франциско. Однако, в нем, несмотря ни на что, присутствовал дух волнообразных приливов оптимизма, скорее всего из-за того, что Марин не был таким неспокойным местом среди всех мест, откуда уехало большинство местных жителей, или из-за вида вокруг, его нахождения на краю континента с видом на самый широченный океан мира, или смеси живущих здесь людей, или из-за близости к пространству головокружительной технологии, растянутой по всему заливу словно согнутый большой палец руки, соединенный с указательным пальцем Марина в слегка деформированном жесте ОК.
* * *
Однажды ночью Надия принесла домой немного марихуаны, которую ей дала одна из коллег по работе. Она не знала, как к этому отнесется Саид, и эта мысль внезапно поразила ее, когда она возвращалась домой. В их родном городе они курили траву вместе и наслаждались этим, но прошел целый год с тех пор, и Саид изменился, и, скорее всего, изменилась и она, и расстояние, открывшееся между ними, было таковым, что нечто обыденное между ними больше не оставалось обыденным.
Саид стал более меланхоличным, чем раньше, что было объяснимо, более тихим и религиозным. Она иногда ощущала, как его молитвы каким-то образом были направлены и в ее сторону, и подозревала, что в них присутствовал элемент неодобрения, хотя не могла объяснить, почему она так себя ощущала, потому что он никогда не настаивал на ее молитвах и никогда не осуждал ее за нежелание молиться. Только его увлеченность религией все больше росла, а увлеченность ею, казалось, все уменьшалась.
Она решила скрутить сигарету на улице и выкурить ее одной без Саида, не сказав ему, и она удивилась такому решению, и задумалась, почему она решила поставить барьер между ней и ним. Ей трудно было понять, с чьей, в основном, стороны росла дистанция между ними, но она знала, что в ней еще хранилась нежность к нему; и она принесла траву домой, и, когда она села рядом с ним на автомобильное сиденье, выменянное бартером и служившее им софой, она поняла из своей нервозности: как он отреагирует в этот самый момент на ее траву было необычайно важно для нее.
Ее нога и рука коснулись ноги и руки Саида, и тепло его тела прошло сквозь материю одежды, и он выглядел вымотанным. Он смог выжать из себя усталую обнадеживающую улыбку, и, когда она раскрыла свой кулак таким же жестом, как она сделала совсем не так давно до этого на крыше ее квартиры, он увидел траву; он засмеялся почти беззвучно легким смешком, и он сказал растягивающе, медленным выдохом марихуанного дымка: «Фантастика».
Саид скрутил сигарету для них, а Надия еле сдержала себя от радости и желания обнять его. Он зажег, и они выкурили ее, обжигая свои легкие; первой мыслью у нее было то, что эта трава была гораздо крепче их домашнего хаша, и ее развезло, и ей понравилось, как она не могла вымолвить и слова.
Какое-то время они просидели молча; температура снаружи начала падать. Саид принес одеяло, и они закутались в него. А потом, не глядя друг на друга, они начали смеяться, и Надия смеялась до самых слез.
* * *
В Марине почти не было индейцев, которые умерли или были истреблены давно, и можно было видеть их очень редко — на импровизированных торговых постах — но, возможно, и чаще, когда они одевались и вели себя точно так же, как все остальные. На торговых постах они продавали прекрасные украшения из серебра и одежду из мягкой кожи и яркую цветную материю, а их старейшины, казалось, обладали безграничным терпением и точно таким же печальным видом. Истории рассказывались в тех местах, куда приходили послушать их люди со всех краев, и истории индейцев звучали уместно для времен миграции и придавали силы слушающим.
Все же было бы неправдой утверждать, что там почти не было коренного населения, ведь быть коренным — относительная вещь, и многие другие относят себя к коренному населению в этой стране, что означает: они или их родители, или их деды и бабушки, или деды и бабушки их дедов и бабушек родились на куске земли, протянувшемся от средне-северно-тихоокеанской части до средне-северно-атлантической, и что их проживанию здесь не способствовали никакие физические миграции за всю их жизнь. Саиду казалось, что люди, которые больше всего отстаивали эту точку зрения — право считаться коренным населением взятое силой — не были в почете у бледнокожих людей, похожих на выходцев из Британии, поскольку большинство этих людей явно были озабочены происходившим сейчас на их родине, причем за такое короткое время, и многих злило это происходящее.
Третий слой коренности состоял из тех, кто отсчитывали свое происхождение — иногда мельчайшей крупицей в их генах — от людей, привезенных рабами из Африки на этот континент несколько столетий тому назад. Тот слой не был настолько велик по сравнению с остальными, и все же он был очень значим для общества, изменившегося под его влиянием, и невыразимое словами насилие было вызвано им, и — все же — тот слой выжил, стал плодородным, пласт почвы, давший возможность вызревать будущим перенесенным сюда пластам земли, и к ним стало притягивать Саида после того, как однажды в пятницу он решил пойти в молитвенный дом, где пастором был один человек, выходец и приверженец традиций третьего слоя, и Саид обнаружил после нескольких недель проживания в Марине, что слова этого человека полны душеспасительной мудрости.
Пастор был вдовцом, а его умершая жена родилась в той же самой стране, что и Саид, и выходило так, что пастор немного знал язык Саида, и его подход к религии частично был знаком Саиду, хотя, в то же самое время, и довольно непривычный. Пастор не только проповедовал. В основном он занимался тем, что кормил, давал убежище своей пастве и учил их английскому языку. У него была небольшая, но эффективная, организация добровольцев, молодых людей цвета кожи Сида и темнее, и к которой вскоре присоединился и Саид, и среди тех молодых мужчин и женщин, с кем трудился Саид, была одна особенная женщина — дочь пастора — с кудрявыми волосами, затянутыми высоко вверх куском материи, та женщина, та особенная женщина, с которой Саид избегал говорить, потому что каждый раз, когда он смотрел на нее, у него схватывалось дыхание, и он виновно вспоминал Надию и думал, что лучше не пытаться ничего делать.
* * *
Присутствие другой женщины дошло до Надии не отстраненностью Саида, как могло бы ожидаться — наоборот. Саид выглядел более счастливым и готов был выкурить в конце дня с Надией сигарету, или, по крайней мере, разделить с ней пару дымков, привыкнув к силе местной травы; и они начали разговаривать друг с другом о ни о чем, о путешествиях и звездах, об облаках и музыке, услышанной ими из других хижин. Она ощутила, как возвращалась какая-то часть Саида.
Ей очень захотелось при этом стать прежней Надией. Однако, хоть она наслаждалась болтовней между ними, и настроение их улучшилось, они редко касались друг друга, и желание его прикосновения, давно угасшее, не зажглось в ней прежним огнем. Надии стало казаться — нечто внутри нее успокоилось, затихло. Она говорила с ним, но слова заглушались ее собственными ушами. Она лежала рядом с Саидом, засыпая, но без желания прикосновения его рук или его рта к ее телу, застывшая, словно Саид становился ее братом, хотя у нее никогда не было брата, и она не понимала, что означало это слово.
В ней не умерла ее чувственность, ее чувство эротичности. Ее легко охватывали эти ощущения, когда она проходила мимо красивого мужчины, идя на свою работу, когда вспоминала музыканта — ее первого любовника — и когда приходила на ум девушка из Миконоса. Если Саида не было рядом, или он спал, она ублажала себя, и когда она ублажала себя, то вспоминала с каждым разом ту девушку — девушку из Миконоса — и яркость воспоминания больше не удивляла ее.
* * *
Ребенком Саид помолился в первый раз просто из одного любопытства. Он видел, как молились его мать и отец, и их действие было загадочным для него. Его мать, обычно, молилась в спальне чаще всего один раз в день, если не было какого-то особенного дня, или кто-то умер среди родственников, или из-за болезни, и тогда она молилась гораздо чаще. Его отец молился, в основном, по пятницам в обычных обстоятельствах и лишь спорадически во время недели. Саид смотрел, как они готовились, смотрел, как они молились, смотрел, какие лица были у них после молитвы — обычно улыбающиеся, словно успокоенные или освобожденные, или утешенные — и ему становилось интересно: что происходит, когда молишься; и ему было любопытно ощутить это самому, и тогда он попросил, чтобы его научили, еще задолго до того, как родители подумали об этом же; его мать дала ему все необходимые инструкции в одно очень жаркое лето, и таким образом для него все началось. До конца своих дней молитвы иногда напоминали Саиду о матери, о родительской спальне с легким запахом парфюма и о потолочном вентиляторе, разгоняющим жару.
При достижении подросткового возраста отец Саида спросил его, если бы он захотел пойти вместе с ним на пятничную общую молитву. Саид согласился, и после этого в каждую пятницу — без пропусков — отец Саида приезжал домой и забирал с собой сына, и Саид молился с отцом и с другими мужчинами, и молитва для него стала вроде мужского бытия, бытия одного из таких же мужчин — ритуал, приведший его во взрослость и к пониманию того, чтобы быть особенным человеком, джентльменом, вежливым человеком, защитником сообщества, веры, доброты и порядочности, человеком, другими словами, как его отец. Молодые люди, конечно же, молятся по разным причинам, но некоторые молодые люди молятся в честь добродетельных людей, которые вырастили их, и Саид был одним из тех.
Ко времени его поступления в университет родители Саида начали молиться гораздо чаще, чем когда он был моложе, возможно из-за того, что потеряли много дорогих им людей их возраста, или возможно временность их собственных жизней постепенно прояснялась для них, или возможно они волновались за жизнь сына в стране, где, как казалось, поклонение богатству ценилось превыше всего — как ни пытались люди восславить другие ценности — или возможно просто потому, что родительское отношение к молитве стало более личным и более глубоким за прошедшие годы. Саид тоже чаще молился в то время, по крайней мере раз в день, и он начал ценить дисциплину молитвы: сам факт, что она стала моральным кодексом, его обещанием, за которое он отвечал.
Здесь, в Марине, Саид стал еще больше молиться, по нескольку раз в день, и его молитвы в основе своей были символом любви к тому, чего больше нет, и что придет, и что не может быть любимым никак по-другому. Своими молитвами он касался своих родителей, к которым он никак не смог бы прикоснуться другим способом, и к нему приходило чувство того, что мы все — дети, потерявшие своих родителей, все мы, каждый мужчина и каждая женщина, каждый мальчик и каждая девочка, и мы все тоже будем потеряны для тех, кто придет после нас и будет любить нас, и эта потеря объединяет все человечество, объединяет каждого человека со всеми; временность нашей бытийности и нашей общей горести; сердечную боль несет каждый и, все же, слишком часто не замечает ее в другом человеке; и от всего этого Саиду подумалось, что перед лицом смерти стоит поверить в потенциальную возможность построения более лучшего мира для человечества; и он молился стоном, утешением и надеждой, осознавая при этом невозможность передачи этого ощущения Надии, этой тайны молитвы, проникшей в него, а выразить это было важной необходимостью; и он каким-то образом сумел выразить дочери пастора во время первой их беседы на небольшой церемонии, которая состоялась после работы и оказалась поминками по ее матери, родившейся в той же стране, откуда был родом Саид, и ее поминали совместной молитвой в годовщину ее смерти; и ее дочь — дочь пастора — попросила Саида, стоявшего рядом с ней, рассказать ей о стране ее матери, но когда Саид начал рассказывать, сам того не желая, он начал рассказывать о своей матери, и он рассказывал долгое время, и дочь пастора тоже говорила долгое время, и было очень поздно, когда завершился их разговор.
* * *
Саид и Надия оставались верными друг другу, и, как бы не называли они свои отношения, каждый по-своему верил в то, что нуждаются в защите друг друга, и поэтому никто из них не заводил разговора о каком-либо свободном расстоянии между ними, не желая вызвать в своем партнере страха покинутости, хотя сами же испытывали его — страх разделения, конца мира, построенного ими, мира совместных переживаний, которые более не с кем было разделить, и их интимного языка, уникального для них обоих, потому что они могли разрушить нечто особое и, скорее всего, невосстановимое. Хотя страх был частью того, что удерживало их вместе первые несколько месяцев в Марине, более сильным, чем страх, было желание увидеть, что у другого или другой было все в порядке перед их расставанием, и таким образом конец их отношений стал напоминать отношения брата и сестры, где преобладала, скорее, дружба; и, в отличие от многих страстных отношений, они смогли остыть медленнее, без рывков назад в реверс, без злости, случавшейся лишь изредка. И этому, позже, они оба были благодарны, и оба задавались вопросом: означало ли все случившееся, что они совершили ошибку, и если бы они переждали те обстоятельства подольше, то все расцвело бы вновь, и их воспоминания начинали уходить в возможное будущее, откуда приходит к нам самая острая ностальгия.
Ревность изредка появлялась в их хижине, и пара, ставшая непарой, пререкалась, но чаще всего они предоставляли друг другу больше личного пространства, и так продолжалось какое-то время, и если были и печаль и тревога, то приходило и облегчение, и облегчение было сильнее всего остального.
Все еще оставалась их близость, потому что конец пары — это подобно смерти, и ощущение смерти, временности может напомнить нам о ценности многого — что и произошло с Надией и Саидом — и, хоть они все меньше говорили друг с другом, они обращали друг на друга больше внимания, хотя, конечно, недостаточно больше.
Однажды ночью один из маленьких дронов, наблюдавших за их дистриктом — из части большой стаи — размером не больше колибри, грохнулся на их прозрачный кусок пластика, служивший им и дверью и окном, и Саид поднял недвижный, переливающийся цветами корпус и показал его Надии, а та улыбнулась и предложила похоронить его; они выкопали небольшую яму неподалеку, в холмистой почве, лопаткой, а потом закопали его, утоптав, и Надия спросила Саида, не планировал ли тот помолиться за покинувшее этот свет устройство, и тот засмеялся и ответил, что, может, так и будет.
* * *
Иногда им нравилось сидеть снаружи их хижины, на открытом воздухе, где они могли слышать все шумы и звуки нового поселения, звучавшего словно фестиваль — музыка, голоса, мотоцикл и ветер — и трудно было удержаться от вопроса: каким был Марин до этого. Люди говорили — прекрасным, но по-другому, и пустым.
Зима в тот год была смесью осени и весны, иногда — с летними днями. Однажды они сидели, и было так тепло, что им не нужно было одевать свитеров, и они наблюдали за тем, как падающий вниз солнечный свет пробивался под разными углами сквозь пролеты между яркими, набухшими облаками и расцвечивал части Сан Франциско и Оукленда и черные воды залива.
«Что там такое?» спросила Надия, указывая на нечто плоское и геометрической формы.
«Называется Остров Сокровищ», ответил Саид. Она улыбнулась. «Какое интересное название». «Да уж».
«Вон тот, за ним, должен называться Островом Сокровищ. Тот более загадочный».
Саид согласился кивком головы. «А тот мост — Мост Сокровищ».
Кто-то готовил еду на открытом огне на другом склоне холма позади хижин. Они могли видеть тонкий дымок и ощущать запах. Не мяса. Похоже на батат. Или на бананы.
Саид замялся, потом взял руку Надии, ладонью накрыв суставы ее пальцев. Она повернула свои пальцы, прикоснувшись их кончиками к его. Ей показалось, что она почувствовала его пульс. Они просидели так какое-то время.
«Я проголодалась», сказала она.
«И я тоже».
Она едва не поцеловала его в колючую щеку. «Ну, там внизу есть все, что захочешь съесть в этом мире».
* * *
Недалеко, южнее, в городе Пало Альто, жила пожилая женщина в одном и том же доме всю свою жизнь. Ее родители привезли ее в этот дом после того, как она родилась, и мать умерла, когда она была подростком, а отец — когда ей стало за двадцать; к ней присоединился ее муж, и двое детей выросли в этом доме, и потом она жила одна после развода, а позже — со вторым мужем, приемным отцом ее детей; и ее дети уехали учиться и не вернулись, а ее второй муж умер два года тому назад, и за все это время дом не менялся, и она никогда не покидала этот дом, путешествовала — да, но не покидала, а мир, похоже, изменился, и она с трудом узнавала город, существующий за пределами ее собственности.
Пожилая женщина стала на бумаге богатой женщиной, и дом начал стоить целое состояние; ее дети надоедали ей просьбами о продаже, говоря, что ей не нужно столько места. А она отвечала им, чтобы они не спешили, и — будет их, когда она умрет, чего осталось недолго ждать, и она сказала им это мягко, чтобы острее звучали ее слова, для того, чтобы напомнить им, как они торопились получить деньги, которые они уже тратили, не имея их еще, чего она никогда не делала, всегда сберегая на черный день, даже когда их было у нее совсем немного.
Одна из ее внучек пошла учиться в университет неподалеку, и этот университет превратился из местного секрета в знаменитый на весь мир буквально на глазах этой пожилой женщины. Эта внучка приезжала навестить ее каждую неделю. Она одна из всех потомков женщины навещала ее, и пожилая женщина обожала ее и иногда разглядывала ее с интересом: ей казалось, что вот так могла выглядеть она сама, если бы родилась в Китае, поскольку у внучки были черты пожилой женщины и, каким-то образом, китайские корни.
К улице, где жила эта женщина, вел небольшой подъем, и, когда она была маленькой девочкой, пожилая женщина толкала свой велосипед вверх, затем садилась на него и скатывалась вниз без педалей, а велосипеды в те времена были громоздкими и тяжелыми для подъема вверх, особенно для тех, кто мал, и такой она была тогда, и твой велосипед тоже был огромным, как и у нее. Ей нравилось увидеть, как далеко она могла укатиться, не останавливаясь, пролетая перекрестки, готовая притормозить, но не совсем уж готовая, потому что тогда было мало автомобильного движения, по крайней мере, так это ей вспоминалось.
У нее всегда жил карп в мшистом пруду позади ее дома, карп, которого внучка называла золотой рыбой, и она все еще помнила имена почти всех на ее улице, и большинство их жило тут долгое время — они были старыми калифорнийцами, из семей калифорнийцев — но со временем все поменялось и менялось очень быстро, и теперь она не знала никого из живущих и не видела смысла, чтобы узнать, потому что люди покупали и продавали дома, как покупаются и продаются ценные бумаги, и каждый год кто-то выезжал, и кто-то въезжал, а теперь все эти открытые двери из всяких мест, и всякие разные люди появлялись вокруг, люди, которые вели себя, как будто они были дома, и даже бездомные, неговорящие по-английски, вели себя по-домашнему, потому что они были молодыми, и, выйдя на улицу, она почувствовала себя, что тоже мигрировала, что все куда-то мигрируют, даже оставаясь в одном и том же доме всю свою жизнь, потому что тут ничего не поделаешь.
Мы все — мигранты во времени.
Часть одиннадцатая
По всему миру люди исчезали из тех мест, где были раньше, из когда-то плодородных, а ныне засыхающих, долин, из побережных поселков, задыхающихся от приливных волн, из перенаселенных городов и смертельно опасных полей сражений, и исчезали также от других людей, людей, которых когда-то любили, как и Надия исчезала от Саида, а Саид — от Надии.
Надия первой начала обсуждать свой уход из хижины, заявив об этом, вдыхая дым травы, набирая его короткими вдохами, и задержав дым в легких, пока идея ее слов висела в воздухе. Саид ничего не ответил; он просто затянулся сигаретой в свою очередь, выдохнувшись в ее дым. Утром, проснувшись, она увидела его, смотрящего на нее, и он убрал волосы с ее лица, чего не делал уже несколько месяцев, и сказал, что если кто-то и должен покинуть их дом первым, то это должен быть он. Только сказанное им прозвучало, словно он притворялся, а если не притворялся, то — как запутавшийся в своих мыслях и неспособный на честный ответ. Он на самом деле считал, что должен был уйти, что должен был заплатить репарации за его сближение с дочерью пастора. Поэтому не слова воспринял он притворством, а то, как убрал волосы с ее лица, на что, как показалось ему в тот момент, он не имел никакого права. Надия тоже почувствовала и приятность и неловкость от его движения, и она ответила, что — нет, она хотела бы уйти, если кто-то и должен уйти из них, и точно так же почувствовала неискренность ее слов, потому что речь шла не о том — кто из них, а когда, и это когда означало скоро.
Отторжение начало проявляться в их отношениях, и каждый прекрасно отдавал себе отчет, что лучше разойтись сейчас, перед худшим, но прошло несколько дней, пока они вернулись к обсуждению, и пока они обсуждали, Надия собирала свои вещи в рюкзак и сумку, и их обсуждение ее ухода не было, как они пытались представить, просто обсуждением ее ухода, а проявлением — словами совсем о другом — их страха перед тем, что случится потом, и, когда Саид начал настаивать на том, что отнесет ее вещи, она стала настаивать на том, чтобы он этого не делал; они не обнялись и не поцеловались, они просто встали друг перед другом в дверном проеме хижины, которая была их и только их, и они даже не пожали рук, они посмотрели друг на друга долго-долго, и любой жест не передал бы ничего, и в длящемся молчании Надия повернулась и ушла в туманную морось, и ее обветренное лицо было мокрым и живым.
* * *
В продовольственном кооперативе, где работала Надия, были свободные комнаты в помещениях наверху и сзади. В тех комнатах стояли раскладные кровати, и рабочие, бывшие на хорошем счету в кооперативе, могли ими пользоваться, оставаться там, похоже навсегда, поскольку нужда коллеги кооператива считалась обоснованной, если тот вложил достаточно много часов своего труда, и хоть подобная практика, по всей видимости, могла считаться нарушением каких-то правил и кодексов, выполнением их никто не занимался, даже здесь — в Саусалито.
Надия была знакома с теми, кто оставался в кооперативе, но не была уверена, какими были правила, и никто ей об этом не рассказал. Хотя она была женщиной, и в кооперативе работали и управляли им, в основном, женщины, ее черная роба воспринималась многими, как нежелательное, само-отдаляющее и некоторыми — слегка враждебное, и потому лишь немногие из ее коллег общались с ней до того дня, как бледнокожий татуированный мужчина подошел к ней, когда она стояла за кассой, выложил пистолет на прилавок перед ней и сказал: «Ну, что ты, ***, думаешь об этом?»
Надия не знала, что и сказать, и потому она молчала, не смотря в его пристальный взгляд, но и не отводя своего в сторону. Ее глаза сфокусировались на его подбородке, и они постояли так в молчании короткое время, и мужчина повторил свой вопрос, немного неувереннее во второй раз, а затем, не ограбив кооператив, не стрельнув в Надию, он ушел, забрав свой пистолет, ругаясь, и пинув мешок яблок, уходя.
То ли из-за того, что их поразила ее храбрость перед лицом опасности, то ли из-за того, что они перерешили, кого надо было опасаться и кого не надо, то ли из-за того, что у них появился повод для разговоров, многие люди в ее смене начали общаться с ней. Она ощутила, что становилась своей, и, когда кто-то рассказал о возможности проживания в кооперативе, если ее семья давила на нее, или — добавив быстро — если она хотела что-то поменять в своей жизни, и эта возможность ошеломила Надию, будто открылась дверь, дверь, в этом случае, в форме комнаты.
В эту комнату вселилась Надия, покинув Саида. Комната пахла картошкой, тимьяном и мятой, а кровать слегка пахла людьми, хотя была довольно чистой, и там не было магнитофона, не было возможности декорировать комнату, потому что помещение все еще оставалось кладовой. Тем не менее, Надии вспомнилась ее квартира в ее родном городе, которую она любила, вспомнилось, как это было — жить там одной, и если в первую ночь она не смогла заснуть, а вторую проспала урывками, с каждым днем она спала крепче и крепче, и эта комната стала восприниматься домом.
Окрестности вокруг Марина, казалось, возникали сами по себе из глубокого общего упадочного настроения тех дней. Кто-то сказал, что депрессия — это невозможность представления путей достижения желаемого будущего, и, не только в Марине, но и во всем регионе, в районе залива, да и во многих других местах близко и далеко, казалось, наступил апокалипсис, и, все же, это не было апокалипсисом, пусть перемены не были желаемыми, конца света все же не было, и жизнь продолжалась, и люди чем-то занимались, как-то жили, находили других людей, и достижимое желаемое будущее начинало появляться, непредставимое до этого, но уже представимое, и результатом всего этого был абсолютно непривычный и непредсказуемый покой.
Во всем регионе расцвело буйным цветом творчество, особенно, музыкальное. Кто-то называл это время эпохой нового джаза, и, гуляя вокруг Марина и видя всевозможные ансамбли, людей с людьми, людей с электроникой, темную кожу со светлой кожей и со сверкающим металлом и с матовым пластиком, компьютеризованную музыку и неприглаженную музыку, и даже людей в масках или просто скрывающих свой вид. Разные стили музыки собирали разные племена людей, племена, несуществовавшие до этого, как это всегда бывает, и на одном таком собрании Надия увидела главного повара кооператива — красивую женщину с сильными руками, и эта женщина заметила Надию и кивнула головой, узнавая. Позже они окажутся рядом и станут говорить, не много, лишь между песнями, но, когда закончится выступление, они не разойдутся, они продолжат слушать друг друга и говорить во время следующего выступления.
У поварихи были глаза совершенно нечеловеческой синевы, или синевы, которую Надия не могла бы представить цветом человеческих глаз, бледно-бледные, и если посмотреть на них, когда повариха смотрела в сторону, казалось, ее глаза были слепыми. Но когда они смотрели на тебя, не было сомнения в том, что они видели тебя из-за ее пронзительного взгляда, и она была наблюдателем, и ее наблюдение ощущалось некоей силой, и Надию охватывал трепет, когда та смотрела на нее, и когда Надия смотрела на нее в ответ.
Повариха была, естественно, экспертом по еде, и в последующие недели и месяцы она познакомила Надию разным видам прошлых кулинарных школ и новым, недавно родившимся, кухням, поскольку много разных школ и направлений сливались вместе и реформировались в Марине, и там был настоящий рай для гурманов; из-за нехватки продуктов все были немного голодны и потому сохраняли свой аппетит для лучших блюд, а Надия никогда прежде не наслаждалась пробованием различных блюд, как ей пришлось в компании с поварихой, которая напоминала ей отчасти ковбоя, когда они занимались любовь, с крепкими и уверенными руками, точным глазом и ртом, который открывался изредка, но напрасно — никогда.
* * *
Саид и дочь пастора постепенно сближались, и если кто-то сопротивлялся этому — предки Саида не испытывали в прошлом ни рабства ни его последствий — то особенность религии, проповедуемой пастором, смягчала это сопротивление, и помогала дружеская помощь, когда Саид работал со всеми на равных; к тому же существовал факт того, что пастор был женат на женщине из страны Саида, и что дочь пастора была рождена той женщиной из страны Саида, и сближение пары, хоть и вызывающая у кого-то недовольство, все же было принято терпимым, а для самой пары сближение было вызвано искрой экзотичности партнера и радостью узнавания, как это случается у многих пар в самом начале.
Саид искал ее по утрам, приходя на работу, и они говорили и улыбались, стоя рядом, и она могла коснуться его локтя, и они садились вместе за общим обедом, а вечером, после их работы, они гуляли по Марину, вверх и вниз по тропам и образующимся улицам, и однажды они проходили мимо хижины Саида, и он сказал, что живет здесь, и во время следующей их прогулки она попросила у него посмотреть его жилище, и они зашли внутрь, и они закрыли за собой пластиковый кусок двери.
Дочь пастора заинтриговали отношение Саида к вере, и как далеко простирался его взгляд на вселенную, как он говорил о звездах и о людях мира — очень завораживающе сексуально, и его касания, и черты его лица, напоминающие о ее матери и ее детстве. А Саид обнаружил, что с ней было изумительно просто разговаривать не только из-за того, что она умела и слушать и говорить, а из-за того, что она вызывала в нем желание слушать и говорить, и ко всему прочему она была настолько привлекательной для него, что было почти невозможно смотреть на нее, и также, хотя он не сказал ничего такого ей или даже никогда бы не подумал о возможности сказать, в ней ощущалось нечто похожее на Надию.
Дочь пастора была одним из местных лидеров кампании плебисцитного движения, которое пыталось вынести на всеобщее обсуждение вопрос создания местного законодательного собрания в районе Залива с членами собрания, выбранными на принципе «один человек — один голос», невзирая на происхождение голосующего. Как это собрание стало бы сосуществовать с функционирующими правительственными органами, это не было еще решено. Казалось, что у данного движения было лишь моральное право, но это право могло оказаться очень весомым в отличие от других голосовательных органов, где кто-то мог посчитать себя недостаточно интересующимся в голосовании, и это новое собрание могло бы представлять желания и интересы всех людей, и перед лицом этих желаний, как надеялись, было бы легче соблюдать справедливость.
В один день она показала Саиду какое-то устройство, похожее на наперсток. Она была очень довольной, и он спросил причину этого, и она ответила, что это устройство могло стать ключом к плебисциту, что оно могло отличить одного человека от другого, чтобы голосовали лишь один раз, и его производят в огромных количествах по такой дешевой стоимости, почти равной нулю, и он положил это устройство себе на ладонь и обнаружил к своему удивлению, что оно весило не тяжелее птичьего пера.
* * *
Когда Надия покинула их хижину, она и Саид не общались друг с другом до конца дня и весь следующий день. Это был самый долгий перерыв в их общении с тех пор, как они покинули их город. Вечером на второй день после расставания Саид позвонил ей и спросил, как она, чтобы узнать, все ли у нее в порядке, а также услышать ее голос; ее голос показался ему и знакомым и незнакомым, и во время разговора ему очень хотелось увидеться с ней, но он сдержал себя, и они закончили разговор, не делая никаких попыток для встречи. Она позвонила ему следующим вечером, и вновь — короткий разговор, и после этого они обменивались сообщениями и звонками в последующие дни; прошли первые выходные после их расставания, и на следующие выходные они решили встретиться на прогулке у океана, и они прогулялись под шум ветра и разбивающихся волн в шипении брызг воды.
Они опять встретились в следующие выходные, и — опять в другие выходные; горечь присутствовала в их встречах от того, что они скучали друг по другу и были одиноки, ощущая свою бесцельность в новых для них местах. Иногда после их встреч Надия разрывалась внутри, и точно так же чувствовал себя Саид, и оба с трудом балансировали на краю отчаянности физического жеста, который снова сблизил бы их вместе, но все же они удержали себя от опрометчивого шага.
Ритуал их недельных прогулок — и мучений — был нарушен тем, что вступили в действие другие силы человеческих отношений: Надии с поварихой, Саида с дочерью пастора, их новых знакомств. Первая пропущенная ими прогулка в выходные остро переживалась ими, вторая — уже не так остро, а третья — почти никак, и вскоре они встречались лишь раз в месяц или где-то около того, и много дней проходило между их звонками или сообщениями.
Они находились в подобном состоянии расхождения до перехода зимы в весну — хотя переходы сезонов в Марине иногда длились несколько часов в день, когда куртка снималась и одевался свитер — и все в том же состоянии до перехода теплой весны в прохладное лето. Никого из них не радовал случайный взгляд на новые отношения прошлой любви в социальной среде интернета, и они отдалились друг от друга в виртуальных отношениях, и пока они все еще хотели интересоваться и справляться о жизни друг друга, это желание угнетало их, служа тревожным напоминанием о непрожитой жизни, отчего они начинали все менее и менее беспокоиться друг о друге, все менее и менее считая, что бывшему партнеру будут интересны лишь поиски нового счастья, и в конечном итоге прошел месяц без никаких контактов, а затем — год, а затем — и жизнь.
* * *
За пределами Марракеша, на возвышенности, рассматривая роскошный дом мужчины, которого когда-то называли принцем, и женщины, которую когда-то считали чужеземкой, стояла служанка в опустевшем поселке, и она не могла говорить, и, судя по всему, именно по этой причине она не могла никуда уйти. Она работала в том доме внизу, где сейчас работало гораздо меньше слуг, чем год тому назад, и еще меньше по сравнению с предыдущими годами, и обслуга постепенно уходила или меняла хозяев, но только не эта служанка, которая ездила каждое утро на автобусе и жила на одно лишь жалование.
Она не была старой, но муж и дочь покинули ее; муж уехал вскоре после их свадьбы в Европу, откуда он не вернулся, и откуда со временем он перестал слать деньги. Мать служанки заявила, что это произошло из-за того, что она не говорила, и что она привила ему вкус наслаждения плотью, незнакомый ему до их свадьбы, и так получилось, что она вооружила его, как мужчину, и обезоружила себя, как женщину. Ее мать слишком строго отнеслась ко всему, а служанка не считала себя неудачливой, потому что ее муж дал ей дочь, и дочь была ее спутницей в жизненной дороге; дочь тоже ушла через дверь, но она возвращалась навестить, и, каждый раз возвращаясь, она просила мать пойти с ней, а та не соглашалась, потому что понимала ненадежность и хрупкость вещей и ощущала себя небольшим растением на небольшом куске почвы между камнями в засушливом и ветреном месте, и она не была нужна миру, а здесь ее знали и терпели, и это уже было благом.
Служанка была в возрасте, когда мужчины перестают интересоваться ею. Еще девушкой у нее было тело женщины, и после замужества — такая молодая — ее тело продолжало созревать и после родов и во время кормления дочери, и мужчины задерживали свои взгляды на ней, не на ее лице, а на ее фигуре, и ее часто тревожили подобные взгляды, потому что в них была опасность, и еще из-за того, что она понимала, как изменятся они, когда узнают о ее немоте, и потому прекратившиеся взгляды стали для нее облегчением.
Служанка не знала, сколько ей лет, но она знала, что была моложе хозяйки дома, где работала, чьи волосы все еще были тщательно ухожены, чья осанка оставалась прямой, и чьи платья шились с намерениями привлечь мужское внимание. Хозяйка, похоже, совсем не ощущала возраста за все многие года работы служанки в доме. С расстояния ее легко было принять за юную особу, и в то же время служанка состарилась вдвое, возможно, за них обоих, будто в ее работу входили старение обменом месяцев жизни на банкноты и еду.
В то лето расставания Саида и Надии дочь служанки пришла навестить мать в поселок, где почти никого не осталось, и они пили кофе под вечерним небом и смотрели на красную пыль, поднимающуюся на юге, и дочь снова попросила мать пойти с ней.
Служанка посмотрела на свою дочь, которая выглядела так, что, казалось, взяла все самое лучшее от нее и ее мужа и ее матери, чей голос выходил изо рта дочери — строгий и тихий — но не ее слова, а слова дочери были совсем непохожими: быстрыми, легкими и новыми. Служанка положила свою руку на руку дочери и притянула ее кисть к своим губам и поцеловала ее, приклеившись на мгновение кожей губ к коже своего ребенка, и ее губы продолжали цепляться, опуская руку дочери, и служанка улыбнулась и покачала головой.
«В один прекрасный день, может, и пойду», подумала она.
Только не сегодня.
Часть двенадцатая
Пятьдесят лет спустя, Надия впервые вернулась в ее родной город, где пожары, виденные ею в молодости, выгорели давным-давно, а города живут гораздо более устойчивее и спокойно-цикличнее, чем люди в них, и город, в который она вернулась, был ни раем и ни адом и казался знакомым и также незнакомым, и во время ее медленных блужданий изучения, она узнала о близком нахождении Саида и, постояв недвижимо какое-то время, решила связаться с ним, и они согласились встретиться.
Они встретились в кафе неподалеку от их старого здания, все еще стоящего, хотя большинство зданий вокруг уже поменялись; они сели рядом друг с другом на соседних сиденьях за небольшим квадратным столом под открытым небом, и они посмотрели друг на друга, дружелюбно разглядывая, как изменило их время, но все еще узнаваемы своими особенностями, и они смотрели, как проходили мимо них молодые люди их города, молодые люди, которые не имели никакого представления о том, что творилось здесь когда-то, за исключением прочитанного в учебниках по истории, что, в общем-то, и правильно, и они пили кофе, и они разговаривали.
Их разговор шел о двух жизнях с тщательными подробностями и умолчаниями, и он также был танцем прошлых влюбленных; они не причинили друг другу достаточно боли, не найдя общего ритма судьбы, и они все молодели и молодели, пока кофе таяло в их чашках, и Надия сказала: «Попробуй представь, какой другой была бы жизнь, если бы я согласилась выйти за тебя замуж»; и Саид ответил: «Попробуй представь, как все было бы по-другому, если бы я согласился на секс с тобой»; а Надия сказала: «У нас был же секс»; и Саид подумал, улыбнулся и ответил: «Да, полагаю, был».
Над ними пролетали яркие точки спутников в темнеющем небе, и последние ястребы возвращались в свои гнезда, а вокруг них шли прохожие, не обращая никакого внимания на пожилую женщину в черной робе и пожилого мужчину с короткой щетиной бороды.
Они допили кофе. Надия спросила Саида, был ли он в чилийской пустыне и видел ли там звезды, и так ли они виделись, как он представлял их себе. Саид кивнул головой и сказал ей, что если у нее будет свободный вечер, он бы мог показать это ей, и тот вид стоило увидеть хотя бы раз в жизни, и она закрыла глаза и ответила, что очень хотела бы; они встали, обнялись и разошлись, совершенно не представляя себе, когда бы мог состояться этот вечер.


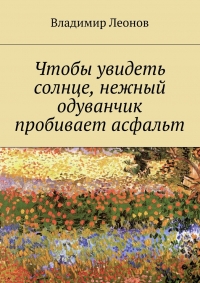


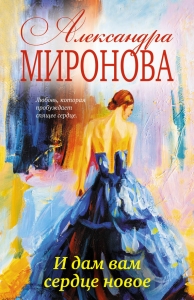







Комментарии к книге «Выход: Запад», Мохсин Хамид
Всего 0 комментариев