– Слушай, Элька, – пробормотал Сундуков, поддаваясь очарованию заповедной улочки. – Неужели мы когда-то были детьми?
– Меня другое волнует, – ответил, подумав, Флягин. – Неужели я когда-то стал взрослым? Николай Якушев. (Люди на корточках) ------------------------ Я мялку вынимаю И начинаю мять. Кого не понимаю – Не надо понимать. А то если подумаешь И что-нибудь поймёшь, Не только мялку вытащишь, – А схватишься за нож! ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ
Глава 1
Веревка
«Удавлюсь!» – подумал Шишин, и за веревкой в хозяйственный пошел.
— Куда собрался? — спросила мать.
— За веревкой. — Ответил Шишин.
— А-а… — сказала мать. — И мыла заодно купи. У нас все мыло кончилось, – добавила она.
– Земляничного? – поинтересовался Шишин.
– Земляничного, какого? – кивнула мать.
--- А если земляничного не будет, дегтярного купить? – И Шишин посмотрел на мать довольный, радуясь, что вспомнил слово, которое все время забывал. «Дегтя—я-рное…», – подумал он.
– Дегтярным веревку себе намыль и удавись, – сказала мать.
«Ладно, земляничного куплю. Им от Танюши пахнет…», – и снял с крючка собачью шапку.
— Только денег дай мне, у меня нет их.
— У тебя их нет, а я печатаю! До смерти жилы будешь из меня тянуть, – бубнила мать, но денег Шишину дала.
«Жадная…», – подумал он, и за веревкой в хозяйственный пошел. «Мыло заодно куплю, а на всю сдачу куплю веревку и повешусь», – думал, вдоль забора неохотно плелся к переходу.
Магазин «Хозяйственный» через дорогу был, как все хозяйственные магазины. «Все хозяйственные магазины через дорогу. Почему?» – подумал вдруг, переходя дорогу. И испугался посредине, что светофор переключится, все поедут, и его раздавит насмерть. От страха опустил глаза и шел сутулясь, боязливо косясь на сонные дорожные столбы. Он светофоров не любил и турникетов тоже. В метро особенно опасно, возле турникетов — того гляди возьмут и треснут. «Схлопнут — и пиши пропало», – и турникеты проходил зажмурясь, удара ожидая, оглянувшись, думал с облегченьем: «Что, собака, съел?!» И если рядом не было людей, то дулю турникету показывал или язык. Но люди обыкновенно были.
«Повсюду люди», – с раздраженьем думал он. – «Битьем людьми набито, как в аптеке», – и редко удавалось турникету показать язык и дулю. Шишин не любил, когда повсюду люди, и людям тоже Шишину хотелось показать язык и дулю, но мать не разрешала баловаться и била Шишина ребром ладони по дуле или языку.
«Злая мать моя», – подумал, живым пройдя дорогу, и светофору показал язык. Пока не видит мать. И люди. «Не люблю людей».
День был тихий, белый. Снежным облаком лежало на крышах небо.
«Как в больнице», – и снег мочил ему лицо, и ветер безжалостно трепал за капюшон. А под ногами шлямкало и жижей воротило за шнурки.
«Жалко, все же, что меня машиной не задавило насмерть, – размышлял, шагая дальше. – Не надо было бы теперь в хозяйственный спускаться, веревку покупать. Там лестница у них такая скользкая, что можно шею запросто себе свернуть, ни разу чем-нибудь специальным не посыплют — сидят и ждут, пока я шею у них себе сверну». И Шишин, держась за поручень обеими руками, осторожно стал в магазин хозяйственный спускаться.
Еще не нравился ему у магазина козырек со снежным горбом. «Не убирают снега, паразиты, – думал он, опасливо косясь на козырек, – за что им только деньги платят…?» Шишин не любил еще, когда сосульки высоко висят, под самой крышей. Особенно в капель. Того гляди — опля! — и всё. Любил, когда сосульки низко, под какой-нибудь витриной бородой висят, чтоб можно их сбивать и обрывать руками. Шишин с детства любил сбивать и обрывать сосульки, сосать, пока не видит мать, или в кармане принести домой — и в морозилку. И посмотреть, что будет. Мать не любила, если морозилка сосульками набита, и выкидывала их.
«Злая мать моя», – он обернулся боязливо (всегда казалось Шишину что может мать следить как он в хозяйственный спускаясь, оглядывался, опасаясь, не следит ли мать за ним) дверь потянул, шагнул в тепло. Тепло дышало ацетоном, краской, порошками, дихлофосом…
«Клеенкой свежей пахнет», – он вдохнул. Любил, когда клеенкой свежей пахнет, как на праздник пирогами, и праздники любил, чтоб гости, когда придут с тортами и в пальто, дарили шоколадки. И он, задумавшись о многом, бродил меж полок в поисках веревки. На полках были круглые тазы оранжевого цвета, ежики для унитазов, кастрюли, крышки, шланги, лейки, лаки в черных липких баках, кружки, чашки… Скипидар.
«Скипидар…», – прочтя, подумал он, он так любил прочтя подумать, что прочел…
Он медленно дошел до края ряда, уткнувшись взглядом в обойные ряды, и вдоль рядов обойных раздраженно зашагал обратно, думая о том, что много слишком делают обоев, стенок мало. На все обои ни за что не хватит стенок. И не найдя веревки, к кассе подошел.
— Веревки есть у вас? — спросил у кассы Шишин.
– Какие вам?
– Обычные, какие?
— Обычных нет, — сказали из-за кассы.
«Обычных нет у них веревок, как не спросишь. Все с вывертом какие-то веревки, с подковыркой. И смотрят вечно из-за кассы, как на дурака», – и Шишин хмуро, пристально смотрел поверх прилавка, на черную чугунную сковороду.
–- Крепежные есть. Бельевые. Австралийские, из шерсти ламы. Синтетика. Канат. Какую вам?
– Не надо мне канатов. Мыло есть?
– Вам земляничное? – спросили из-за кассы.
– Земляничное, какое? – ответил Шишин. Шишин только земляничное любил. Из-за Танюши. Земляничным мылом от Танюши пахнет, – вспомнил, и о Танюше вспомнив, угрюмо посмотрел вперед. Потом назад. Он так всегда смотрел назад после того, как посмотрел вперед: на мать, на кошек, на ворон, на то, как роют ямы возле дома, на школу и забор. На все. И Шишин снова посмотрел вперед, поверх, на черную чугунную сковороду.
— Есть только Ландыш, детское… Дегтярное еще… — сказали из-за кассы.
— Дегтярного не надо, — вздрогнув, буркнул Шишин. – А когда завоз?
«А если земляничного не будет, – учила мать, – не вздумай «Ландыш» покупать, его из кошек варят. Из кошек, понял? Понял у меня?» «Да понял, понял»; «Спроси у них, когда завоз, когда завоз, тогда пойдешь, и купишь. Слышишь у меня?» «Да, слышу, не глухой», – подумал он, и ждал, когда ответят из-за кассы, когда у них завоз.
— Не будет никаких завозов. Аренда кончилась, распродаемся, — сказали из-за кассы, — дегтярное берите, Ландыш, по закупочной цене. Канат. Берите, может больше и совсем не будет. Кризис!
«Мать тоже «кризис» вечно говорит», – припомнил Шишин, с неприязнью разглядывая ту, которая за кассой.
Красивая, почти что как Танюша. «Но все же не она», – подумал он и к выходу ни с чем пошел.
На улице завечерело тускло, серо, гадко. Как назло, встретился под самым козырьком опасным Шишину красивый Бобрыкин ненавистный, в лоснящейся бобровой шапке, белозубый, чернобровый, в широком шарфе, небрежно брошенном за спину, с румяными щеками, носом от морозца алым. И ветер, как обычно, дул, плевался Шишину в лицо, Бобрыкина придерживая дружески за спину.
— Здорово, Шишкин лес! Брателло! — Сказал Бобрыкин ненавистный, ухмыляясь, — ты не в курсе, у них веревки есть, обыкновенные? – добавил он.
И Шишин посмотрел назад, потом вперед. «Гораздо лучше, если знаешь, что будет впереди — без неожиданностей чтобы», – думал он и, убедившись, что впереди стоит Бобрыкин ненавистный, второй раз посмотрел спокойно, зная, что неожиданностей впереди уже не ждать.
— Тебе зачем? — поинтересовался он.
— Нужно… — отмахнулся Бобрыкин ненавистный.
«Меня, наверное, повесить хочет, сволочь», – тихо думал Шишин, угрюмо глядя снизу вверх Бобрыкину в лицо. Бобрыкин улыбался. «Мразь…», — подумал Шишин, уже совсем тихонько. Он всегда старался думать тихо-тихо, если лицом к лицу оказывался с тем, о ком подумал он.
— Нет обыкновенных, — сказал злорадно, ожидая, как огорчится у Бобрыкина лицо.
— Посмотрим…, — пообещал зловеще ненавистный, и было видно по его суровому, красивому лицу, что если веревок нет обыкновенных, то он повесит Шишина и на канате, или на шарфе повесит, или задушит голыми руками, без всего.
— Чего смотреть-то? Нет обыкновенных у них веревок, да и всё. Как ни смотри…
— Посмотрим, — твердо повторил Бобрыкин ненавистный, отстраняя Шишина от входа, и спускаться стал.
«Иди-иди… Посмотрим!» — думал Шишин, показывая следом ненавистному Бобрыкину язык и дулю, пока не видит мать.
Сам Шишин некрасивый был, маленький, в болотной куртке старой, перьем свалявшимся набитой, в дрянь колючей, влажной и худой. Бобрыкин был в хорошем пальто демисезонном, верблюжьей шерсти, скроенном футляром, с норковым окладом, и сразу после школы на Танюше был женат.
«Бобрыкин ненавистный, ненавистный…! – думал Шишин, – На моей Танюше!» – думал он, желая взглядом козырьку упасть Бобрыкину на спину. Но козырек не падал, ветер выл, плюясь на Шишина, и был с Бобрыкиным, как раньше заодно.
«Погодка… – думал Шишин, – тьфу, какая!», от ветра отворачиваясь, морщась, но не уходил. Ему хотелось видеть, как Бобрыкин ненавистный тоже без веревки выйдет, «без веревки, без веревки выйдет, сволочь, гадина такая, гадина такая, как и я…»
И все не уходил, стараясь, впрочем, от козырька опасного на расстоянии держаться. В ногах поземкою вертелось. Был февраль, и из заносов снежных вдоль домов торчали голые опилки елок новогодних и трепыхались, запутанные в ветках, шарики и ниточки серебряных дождей.
И вышел, наконец, Бобрыкин ненавистный из хозяйственного магазина, по лестнице поднялся беззаботный, не пугаясь оскользнуться, не держась перил, насвистывая, и с веревкой… с обыкновенной самой… несинтетической, и не из австралийской ламы, не бельевой и не крепежной, а такой, которых нет и не было нигде…
Ветер дунул, плюнул, завыл, приподнял с козырька подушку снежную, рассеял в небе. Шишин зло, угрюмо на высокого, красивого Бобрыкина смотрел замерзшими глазами, слезясь и щурясь, на Бобрыкина, женатого на Тане, похожего в пальто на Ланового, с веревкой новой, в черных кожаных перчатках с норковой опушкой, в сверкающих начищенных ботинках, и… ненавидел, ненавидел, ненавидел...
— Что? — спросил Бобрыкин.
Шишин промолчал. От ненависти у него сводило зубы.
— Что? — повторил Бобрыкин ненавистный, снова Шишин промолчал.
— Ладно, Шишкин, я пошел… бывай! — сказал Бобрыкин, и пошел, пошел… красивый, безнаказанный, веревку новую, обыкновенную в карман пальто засунув.
«Душить меня пошел», – с тоской подумал Шишин, в спину Бобрыкину толкаясь взглядом, и развернувшись, отбежал назад, нырнул за угол, и параллельно двинулся, кустами, с обратной стороны домов. У арки Шишин выскочил внезапно, и не успел Бобрыкин ненавистный удивиться, что снова Шишин ему попался на дороге, бросился, рыча, ему под ноги и в щиколотку впился, и повис, скрипя зубами. Но был Бобрыкин Шишина сильнее, схватил его за шкирку, поднял над поземкой, отшвырнул назад. Куда подальше. Отшвырнул — и Шишин отлетел, свистя, упал, ударившись, но больно не было ему, в губах скворчала пена. Головой мотая, поднялся Шишин и, набычившись, едва переставляя ноги, снова на Бобрыкина пошел.
Но не дался Бобрыкин Шишину и в этот раз, а лишь небрежно, легко опять приподнял и потряс…
И выпали из Шишина от тряски ключи и мелочь, стеклышко зеленое, дверная ручка, соль, сахар, спички, фольги кусок, и пара марок, билет счастливый если бы не лишний правый ноль, который можно оторвать, и съесть спокойно, гайки, длинный гнутый гвоздь, который молотком еще исправить можно, куриное перо, отвертка, ножик перочинный, скрепка, кнопки разноцветных три, три не надписанных конверта, желудь, и мандариновые корки, которыми карманы Шишина от моли набивала мать..
«Иначе все сожрет, не будет куртки», – вспомнил он.
— Все, Шилохвость, сейчас узнаешь у меня… — пообещал Бобрыкин ненавистный, и Шишина не выпуская из перчатки понес от светофора к арке..
«Душить несет…», – подумал Шишин, и мертвый, Бобрыкиным задушенный, но все-таки живой проснулся вдруг в своей постели и, сжавшись в запятую, тихо заскулил…
Глава 2
Камера
Было страшно Шишину, что сон такой ему приснился страшный, что задушил его Бобрыкин ненавистный, как собаку последнюю, веревкой, и только рассвело, он к матери пошел узнать, не вещие ли сны с субботы на воскресенье снятся.
Мать была в постели, читала книгу.
«Евангелие читает», – подумал Шишин хмуро. Шишин не любил, кода Евангелие читала мать.
Светила лампа. Босые ноги Шишину лизал сквозняк. «Это форточка у матери всегда открыта», – переступая в сквозняке ногами, думал Шишин, и ждал, что мать ответит, не вещий ли ему приснился сон.
– Нет, не вещий, – сказала мать, но все же встала, и в стопочку налив святой воды велела выпить залпом:
– Пей, от греха подальше, – сказала мать, и Шишин выпил залпом мутную густую воду, морщась от холодного и металлического вкуса. Остатками со дна мать окропила волосы ему, и сверху три раза лоб перекрестила.
Шишин не любил, когда его кропят и крестят, и встряхиваясь по-собачьи, втягивая пальцы в рукава, пошел скорей умыться, и долго мылил язычком обмылка лоб и шею, и волосы сушил, как будто их помыли, феном.
Был православный праздник Сретенья господня, мясопустная неделя, и на завтрак мать Шишину дала тарелку перловой каши, без молока и без изюма, и бутерброда с сыром даже не дала. Он попросил тогда у матери сварить ему сосиску, но и сосисок было Шишину нельзя на мясопустной.
В доме было тихо, скучно, тикали часы, журчал бачек. На кухне в облупленном и ржавом тазе яблоки пылились, и мандариновая корка сохла на полу. Шишин задумчиво ходил по коридору, выглядывая из трельяжа, и выглянув показывал кривую рожу, делал страшно пальцы, и, сделав страшно пальцы, быстро отходил.
– Докорчишься, чумной! Язык сломаешь, – сказала мать, по коридору проходя, и, сделав страшно пальцы матери в ссутуленную спину, Шишин снова посмотрел в трельяж. «Врет, думал он, язык так не сломаешь!», – и, высунув язык, до носа кончиком достал проверить, нельзя ли будет так сломать его. И вздрогнул.
– Вот напугают сзади, и останешься таким! – пообещала обернувшись мать. – И так – такой, а будет хоть давись.
И в комнату ушла. На дверь закрылась.
«Не останусь…», – подумал он, и от трельяжа отойдя издалека смотрел, с опаской, убедиться, что снова мать грозила на воду, зазря…
Мать за стеной Евангелие читала, ниже этажом Танюша с дочкой Оленькой жила. «Бобрыкин ненавистный тоже с ними», – думал он, и, думая, садился на колени, и, отгибая коврик, ухо к полу прислонял, чтобы услышать, как живут они, но ничего не слышал. «Надо все-таки Бобрыкина убить…», – подумал он, и вышел в общий коридор, чтоб взять стремянку. Но стремянка грохотала, гремела, и на грохот вышла мать.
Мать была седая, длинная как палка, сердитая, в халате сером, беззубая. Из тапок торчали дырки пальцев с не стриженными желтыми ногтями.
–- Чего полез-то? – неприветливо спросила мать, и зло смотрела снизу, как Шишин на антресолях копошится.
–- Ищу веревку, – буркнул он.
– Тьфу! – сказала мать.
– Бобрыкина повешу.
– Тьфу…! – еще раз повторила мать, и снова в комнату ушла.
«Бес вверх плюет, а ангел к низу», – подумал он, и, вытянув веревку с антресолей, слез, убрал стремянку, и в комнату свою пошел, на ключ закрылся, положил веревку на кровать, сел сверху, дальше думать стал. «Не будет Бобрыкин ненавистный стоять и ждать, пока я задушу его веревкой, – думал Шишин дальше, – он меня сильнее. Вырвет веревку, и надает по шее, как в прошлый раз…» Шишин уже не в первый раз пытался задушить Бобрыкина веревкой, но все не выходило: то Бобрыкин ненавистный не оказывался дома, если Шишин заходил душить его, то дома были Оленька с Танюшей, а при них душить Бобрыкина неловко становилось, а то вдруг разглядев в руках у Шишина веревку, Бобрыкин отбирал ее, и приходилось Шишину идти за новой, в хозяйственный через дорогу, или в другой хозяйственный, что тоже как назло через дорогу был.
Иногда, увидев нетерпеливо переступавшего под дверью Шишина с веревкой, Бобрыкин злился, и мог крепко оттрепать за уши, или брал нос Шишина в щепотку, и больно крутил его, пока у Шишина в глазах не солонело.
Однажды Шишин вцепился в новую веревку, и не хотел отдать Бобрыкину ее, и тот, за это с лестницы спустил его, пообещав, что в следующий раз задушит Шишина и без веревки, голыми руками. «Мешок со сменкой, сволочь, на лампу в раздевалке вешал, – думал Шишин, – знал, что не достану, а буду прыгать, всех просить, чтоб сняли, а никто не снимет, а будут только гоготать, руками тыкать... Не люблю, когда руками и гогочут», – думал он.
«Ищите дурака другого гоготать и тыкать», – думал. Он любил, чтобы другого дурака искали тыкать, гоготать. Другого, не его. «В собачку еще мешком моим играли на переменке, в футбол в спортивном зале», – думал Шишин, сидя на веревке сверху, и делался мрачнее. «Танюша видела, как все мешком играли, моим мешком играли, не смеялась, одна из них из всех, из них из всех одна. А я смеялся, чтобы думали, что я смеюсь», – подумал он.
«От Танюши земляничным мылом пахнет…», – вспомнил Шишин, и в ванную хотел пойти, понюхать мыло, но вовремя сообразил, что, мать, пока он в ванной будет нюхать мыло, может в комнату зайти. «Найдет веревку, и отнимет», – подумал Шишин, и мыло нюхать в ванну не пошел.
В третьем классе повесил Шишина Бобрыкин ненавистный на ветке клена. «За ногу повесил, гад, за ногу! Вниз головой повесил», – вспомнил он, и приподнявшись достал из-под себя веревку, улыбаясь сумрачно и странно на колени положил, и гладил как живую. Как кошку гладят. «Хорошая веревка», –думал он. «Вот, если бы наоборот, наоборот! – веревку на коленях собирая в петлю, думал он, – наоборот! Я был Бобрыкин, а Бобрыкин – я, то как бы задушил его тогда веревкой этой, как бы я его повесил!» – думал он, и, встав, с веревкой вместе подошел к окну.
День зимний короток, до Масленой недели сумерки в окно приходят рано, и если включен свет, в окне двоится отраженье. Шишин свет включил, и в отражение Бобрыкиным себя вообразил, веревку на плечи накинул, и, затянув на шее петлю, показал Бобрыкину язык.
– Господи помилуй, ты опять!? – спросила мать из-за спины, неслышно в комнату войдя, и вздрогнув, обернулся он с петлей на шее.
– Сними, чумной, беду накличешь! – сказала мать, и отраженье вместе с Шишиным перекрестила.
Он неохотно, пальцами слепыми распустил петлю, и сняв веревку задумчиво перебирал в руках, по узелкам считая, чтобы не забыть с какого начал. Шишин не любил, когда к нему входила мать. Мать тоже не любила, если Шишин входит…
«Мать, кстати, тоже можно задушить веревкой, все равно не любит», – подумал он, и посмотрел на мать внимательно, с шестого узелка.
– Что вылупился?! Дай сюда! – велела мать, и быстро подошла, отобрала веревку. – За хлебом, душегуб, сходи!
Всегда ходил за хлебом Шишин. Постоянно. Как на почту. Каждый день ходил. Как будто мыши в хлебнице на кухне жили.
– Селедочки еще купи. Посолимся, сынок. Сегодня можно, Праздник, – Объяснила мать, пока возился Шишин в коридоре, пальцем помогая влезть ноге в запять.
–Да хоть бы ложку взял, как люди, идиот! – сказала мать.
«Зачем мне ложка, – удивился Шишин, – если я ботинки надеваю…? И что за праздник, когда нельзя сосисок, колбасы сырокопченой, сала… И кашу с утра перловую дала без молока и без изюма?» – думал он, и, взяв протянутую пятьсотку, недоуменно посмотрел на мать.
– Иди-иди… Господь с тобой, – сказала мать, и Шишина опять перекрестила.
«Живого места нет на теле от креста», – подумал он, и, низко натянув собачью шапку, вышел.
Шишин вышел.
Мать за ним закрыла.
В общем коридоре было тесно, пыль на старой мебели лежала, пол прилипал к следам, линолеум вздымался пузырями и лопаясь ботинками хрустел. Вверху под потолком на крючьях ржавых висели лыжи, камера велосипедная на них. Он сделал вид для матери, которая всегда в глазок смотрела спину, что уходит, и вернулся пятясь, за камерой велосипедной. Встал на табурет, чтоб дотянуться, снял ее, и, сжав в руках, по черной лестнице пошел. За хлебом.
На лестничной площадке увидел Шишин ненавистного Бобрыкина, стоявшего спиной к нему согнувшись. Бобрыкин ненавистный, в длинном бархатном халате мусор вытряхивал в контейнер, и страшно, как к покойнику овчарь выл ветер в мусорной трубе. Тихонько крался Шишин, камеру велосипедную петлей сжимая, и так же тихо прокравшись мимо, обернулся, добежав до нижнего пролета, и снизу посмотрев наверх, велосипедной камерой в Бобрыкина швырнул.
Пельменями из дворницкой тянуло, кислым мясом, там жили люди в таджикских байковых одеждах, с тюрбанами, с зубами золотыми без креста. В лифтовой шахте копошились крысы, где-то в доме открывались и захлопывались двери, мигала тускло лампа, ящики почтовые тянулись вдоль стены.
Над ящиками было рукой врага написано: ГАНДОН!
Дверь за собой захлопнув, Шишин с черной лестницы в парадное ворвался, спиной к двери прижавшись замер, прислушиваясь, не идет ли следом Бобрыкин ненавистный с камерой велосипедной, чтобы задушить его, но тот не шел, и подождав немного, Шишин вдоль почтовых ящиков шмыгнул к своей ячейке, и на лифты косясь украдкой, чтоб не распахнулись, быстро вставил в дверцу ключ, та приоткрылась. Глаза зажмурив, Шишин осторожно руку в почтовый ящик опустил. Всегда зажмуривался Шишин, когда не знал, что в ящике почтовом. «А этого никто не знает, никогда», – подумал он. «Засунешь руку, – думал он, – а там вдруг кошка, например, сидит. Возьмет и тяпнет. Откусит палец по колено, буду знать…»
Или Бобрыкин ненавистный ворону дохлую опять подложит …
«Никогда не знаешь, что там может быть», – подумал Шишин, вспоминая, как в третьем классе Бобрыкин ненавистный дохлую ворону подложил в портфель ему. «Бобрыкин ненавистный!» – думал он, и никогда не лазил в ящик с открытыми глазами, каждую секунду готовый спрятать руку, и одновременно опасаясь, как бы за спиной не распахнулся лифт, и из него не вышел сам Бобрыкин с камерой велосипедной, чтобы задушить его. «Бобрыкин ненавистный…», – думал он.
Вороны не было, на дне конверт нащупал Шишин, схватил его, и с облегченьем к груди прижав, стоял, не открывая глаз, и так стучало сердце под конвертом, точно перепрыгнуло из Шишина в конверт. Подчерком Танюши ровным, точно в прописной тетради, значилось в линейке адресата:
Шишину от Тани.
Улица Свободы 23.
«Шишину от Тани…», – Шишин прочитал, вздохнул и выдохнул, лицо в бумагу спрятал, и долго дышал чернилами и типографской краской, клеем канцелярским, лакрицей, жженым сахаром, корицей, монпансье, и мылом земляничным… и той рукой, что выводила: Шишинуоттани! Тани-Тани-Тани! Трам-пам-пам…! стучало сердце.
Щекотно было, запах светом солнечным сочился. Перцем лестничная пыль глаза слепила, и расплывались строчки на губах. От Тани, Тани! Тани! Тани… Трам-пам-пам!
Все расплывалось, растворялось, все стучало! Все! Пельменный запах, лампа, батарея, мать за дверью, тусклая вода… и растворилось, все пропало, все исчезло… Все! Трам-пам-пам! – стучало сердце, и Шишин не заметил, как огоньки табло над лифтом вверх вбежали, и быстро заскользили вниз.
«Шишину от Тани…», – опять подумал он, нос защипало радостно, как одуванчиками в мае, мятным леденцом, кленовым медом …
Весенней пылью.
Коркой ледяной.
Полынью пыльной у забора.
Черешней, что с Танюшей ели из газетного кулька, вдвоем, и воблиным хвостом.
Ореховым колечком.
Кексом кулинарным, в коричневой промасленной бумаге.
Киселем в брикете.
Крем-брюле…
Черемуховым снегом.
Варежки комочком, сухарем с изюмом, конфетой «Ласточка», кремнем о кремень, корой сосновой и янтарной пылью, которую закатные лучи в библиотечных школьных полках собирают…
Он не удержался и чихнул, забыв в рукав прикрыться, рот перекрестить забыв…
– Здоров чихать, брателло! Пей скипидар, ты нужен людям! – сказал Бобрыкин ненавистный, выходя из лифта, и к Шишину неторопливо, усмехаясь, пошел, чтоб отобрать письмо, и камерой велосипедной задушить его…
– Смотрю, ты брат опять чего-то замышляешь? Иж как нахохлился, ну, сознавайся, что молчишь? Молчишь? И хрен с тобой! Держи!
И камеру велосипедную на шею Шишину накинув, Бобрыкин ненавистный мимо прошагал, к своей ячейке, достал газету, и опустив в карман просторный длинного халата, дверь распахнул на лестницу и скрылся.
Глава 3
Два капитана
В тягостном раздумье Шишин из подъезда вышел, оглянулся, но дверь уже закрылась. Он мрачно заморгал на острый талый свет. Хотелось рот прополоскать от страха, язык заплесневел, разбух, как будто мать дала на полдник подлой вязовой хурмы, и было не очистить рта теперь от рыжего крупитчатого мха. Он пуговицу слабыми руками поискал за ворот, но тошно стало пальцами озябшими искать, и он оставил так. Кивая кротко, пестрый голубь в серых жабрах мимо прохромал, и сел нахохлившись на люке, грелся, тускло кося на Шишина больным и глупым глазом. Шишин оживился, сунув руки по-Бобрыкински, с морщинкой в карманы тощей куртки, неспешно подошел, и, приготовив ногу голубю, сказал: «А ну… пошел!» И для острастки немного приподнял колено, чтобы голубь знал. И голубь вверх поднялся в дне холодном, переместившись так на следующий люк.
Припорошило, из пустого неба летели косо белые колючки, в проталинах собачьих песьим стыло, на площадке детской ветер заупокойную качелями играл, как будто мертвеца баюкал, а тот все кашлял, кашлял, кряхтел, вздыхал простужено и страшно. Шишин растерянно стоял, не зная, как бы взять, да и домой вернуться сразу, как и вышел, без хлеба, без селедки, почитать письмо… Открылась подъездная, Шишин оглянулся. На ступенях, поправляя санки, стояли Оленька с Танюшей, и те же были санки и подушка, привязанная к спинке та же, и та же самая казалась Шишину метель…
– О! Шилохвость, брателло! Давно не виделись, примерз? – спросил Бобрыкин ненавистный, появляясь следом, и Оленька смеялась, на Шишина показывая варежкой, что он вот так стоит, как будто бы примерз, и прыгала и хлопала в ладоши, чтоб не примерзнуть тоже, и Шишин улыбнулся Тане, что мог давно примерзнуть, а все же, выходило – не примерз…
С разбегу ветер налетел на мусорные баки, заскулил, и, грохнув кровельным железом, потряхивая и крутя, понес за трубы ТЭЦ ошеломленную ворону. Рвануло провода, шрапнелью разлетелись с тополей и кленов остальные твари.
Танюша обернулась, помахала, но ветер вздернул ворот, запорошил, отвернул лицо. Мир, занесенный снегом не кончался, все тянулся вдоль забора к арке, подглядывая из окошек школьных шел по часовой. Он спрятал соловеющие уши в картонный ворот куртки, натянув пониже песьи уши, и за селедкой, против часовой пошел. Пошел то боком, то спиной, с упором, как всегда бывает, если против часовой…
Здравствуй мой родной, хороший Саня…, – Шишину писала Таня.
«Здравствуй, моя родная, хорошая, любимая Танюша», – думал Шишин, письмо Танюшино читая.
Как твои дела? У нас все хорошо, вот только не уходит все проклятая зима. Весна почти в календаре, а за окном такая стужа, что нос не покажи.
А помнишь, Сашка, как в детстве мы с тобой любили зиму? Как ты на санках катал меня, и на картонке вниз по горке вместе? И все свистит в ушах! Так здорово! Такая жуть! И об забор! И нос и щеки всё мороз кусает, пока на варежке снежинку несешь домой. Желанье загадаешь, чтоб не растаяла она пока дойдешь, она не тает… И всё сбывается, как загадали…все! А помнишь, как я загадала себе на новый год коньки? Сбылось! Сбылись! Какие белые, красивые коньки…
Как ели снег! Какой был вкусный снег! Невероятно, Сашка…
Как прилипал язык к замку, когда играли, у кого прилипнет крепче... Вот же дураки!
А помнишь, как морковку в овощном стянули, для снеговика… А нас поймали! Отругали? Но отпустили …. помнишь? Помнишь, милый, какой был синий, какой скрипучий в детстве снег?
Он только холоден сейчас, он грязен, с ботинок не отмоешь соли, гуталин не помогает даже, и день не тот, и ночь не та…
А помнишь, как мы крепость строили за голубятней старой, и вдруг пришел Бобрыкин, все разрушил… Все…
«…Помню», – думал Шишин, письмо Танюшино читая, он и в самом деле прекрасно помнил, как Бобрыкин ненавистный пришел за голубятню, все разрушил… «Все!»
– Ты есть идешь? Остынет! Сколько можно звать? – спросила мать, распахивая дверь, и вздрогнув Шишин рукавом от матери прикрыл письмо.
Мать не любила, чтоб от Тани приходили письма. И не велела Шишину читать.
– Опять!? – спросила мать, заметив, что Шишин под рукав чего-то спрятал, – давай сюда! А ну!
Он протянул листок, и, скомкав, опустила мать письмо в карман халата, и вышла, хлопнув дверь.
«…Мать тоже камерой велосипедной можно задушить», – в след матери подумал он, и руки земляничным мылом мыть пошел, перед обедом. «Задушу ее, чтоб письма мне Танюшины читать давала», – думал, смывая земляничный запах с рук, и снова мылил, мылил и смывал… Пока от мыла в пальцах не осталась только пена.
– Санька, ты смотрел «Два капитана»? – однажды Шишина спросила Таня.
– Нет, – ответил он.
Мать Шишину не разрешала смотреть «Два капитана». «Глаза себе испортишь», – говорила мать. И Шишин не смотрел.
«Чтобы глаза не портить, лучше не смотреть»
– Я расскажу тогда! – сказала Таня, и рассказала Шишину «Два капитана».
О верной дружбе, верной дружбе, и о вечной, вечной о любви.
Про Саню с Катей и Ромашку, про какого Шишин сразу же решил, что тот Бобрыкин ненавистный будет.
«Я летчиком полярным стану. Бобрыкин ненавистный Тане скажет, что меня убили, а я пока открою Северную землю, и назову ее в честь Тани – Таней! И однажды приедет ко мне она, где я полярным летчиком работать буду, и скажет «Здравствуй, Саня… это я!». Да, так и скажет: «Здравствуй, Саня, это я!».
И думал Шишин, о любви прекрасной, вечной, верной дружбе, и вспомнил вдруг, что Саней звали его когда-то люди, а теперь все Шишиным зовут они его…
«Бороться и искать, найти и не сдаваться! – сказала Таня. – Поклянись!» И в домике зеленом, под горкой ржавой во дворе, поклялся Шишин бороться и искать, найти и не сдаваться…
– Ты навсегда клянись! – сказала Таня.
– Я навсегда! – поклялся он.
«А если найдет Бобрыкин ненавистный первым Северную землю, убью Бобрыкина тогда, и отниму», – подумал он.
– Ты что там делаешь, чума?! Поминок ждешь моих? – по двери постучав, спросила мать.
-Я умываю руки, – буркнул Шишин, и краны от греха подальше закрутил.
Глава 4
Приближе к нему
Приснилось страшное. Пустую колыбель качала мать, и колыбель скрипела, будто по стеклу удавленники пальцами водили.
«Темная сегодня, Саша. Зимней Анны день. Теперь до самого Солнцеворота, так и будет тьмить», – сказала мать, и лампу тряпочкой прикрыла. Села, облокотясь о стол вздохнула тяжко, забормотала «мытари мое..»
«…Приближе к Нему мытари и грешники одне, убийцы, изверги, насильники, своекорысти! Сестры Лия и Рахиль – блудницы, как эта тварь твоя, и слушали его, и ели с ним хлеба, и называл их «Соль земли». И только Фарисеи, Саша, ропотали, как ты блажили, и не слушали его, как ты не слышишь мать… Порог переступи, сказала! Ну? – Нечистый влезет! – и Шишин поскорей переступал порог, обитый изоляционной лентой, с корочкой отодранных газет и тополиной пыли. – И говорили, и роптали: «Он принимает грешников, и вместе с ними угощает нас, и сам их пищи ест…» – бубнила мать, ссыпая соль в тряпичку из кулька, завязывала в узелок и прятала в карман пиджачный, «на память, Саша, не забыть урок. Смотри не потеряй!», крестила спину: «Господи храни» – и в голове вертелось «ближе к нему», и Шишин все уроки потрошил мешок в кармане, на пальце указательном облизывая соль. И хлебную солил горбушку, мякиш, и соли в Танину ладошку высыпал.
Бродили тени по ступеням , глухо, сонно выл ветер в мусорной трубе, и молчаливые тома на полках жались, в два ряда, Карл Энгельс, Фридрих Маркс, «или наоборот?», – подумал он, Иосиф Сталин, «Родная речь» за пятый класс, «Айвенго», «Книга о вкусной и здоровой пище», СССР 1952, где все картинки можно взглядом есть. Салат «Весна», «Форшмак» , «Миноги»
-Миноги это что?
-«Готовые миноги нарезать поперек, кусками длинной 4 сантиметра, сложить в салатник…» – хмурясь, прочитала Таня, – я не знаю…
-Вкусные наверно…
-А то! А это – чур мое!
-А я вот это…
-Ого! Паштетик из печенки!
-О! «Поросенок заливной»! Ням-ням!!!!
- «Хрен с уксусом» у-й-я! Какая гадость!
-А корнишон…?
-А у меня стерлядь!
- Дичь …. Я дичь! Ты тоже дичь! Татьяна Николавна дичь несет! Подайте дичь! Ха-ха! Ух, ты… ого…
А на блокноте Тани из союзпечати, с серыми листами был переводной котенок, в нем написала Таня: «Ты гулять пойдешь сегодня»? Он писал: «пойду».
А в центре актового зала стопкой маты, вдоль стены канаты, а в рекреации на третьем пальма, с кнопками в стволе, и надписью на кадке «ШБ -164». А возле вешалок из гипса Ленин, то есть гипсовая голова его, с которой, если нету ведьмы бабы Гали, много гипса, сколько хочешь! ногтями можно сколупать. А можно звездочкой царапать парту «ТАНЯ», и дома тоже «Таня», «Таня», «Таня»…, и получить от матери за это по ушам.
Цветы не вянут, зимы жарки, и можно заблудиться в белом яблочном саду, и золотом лучи сквозь доски голубятни старой щекочут нос, и тени исчезают в полдень, тени веток, трав, и тени лет.
«Ты помнишь, Сашка, мы всему смеялись? нам только палец покажи, и все! – Писала Таня, – как пес идет, как грач скакать, какой у Анны Капитонны «капитон» на заде, ворона дура кар, да кар! Как тетя Тося с Тетей Дусей за субсидией идут. «Субсидия» – смешно… «Вам только палец покажи»! – мать говорит твоя, а только из подъезда выйдем – палец покажу тебе, и оба хохотать. Нет, правда, ты попробуй, удержись! Серьезно, Сашка! Я серьезно! животик надорвешь, вот до чего серьезно все смешно, «Черт за уши щекочет!» – скажет мать твоя, – а нам смешно и это. Смешно, хоть удавись.
Разбитые коленки, от зверобоя зыкинские синяки… никак не зарастет травой пятак заговоренный, и с каждым годом тяжелеет что-то. То тут, то там, как будто ты учебники несешь за пятый класс домой, а лету – все, кранты. И из осенних листьев в сентябре венок, из одуванчиков в апреле… А помнишь на скамейке он лежит, засохший, смятый, снятый… нитками из детства все насквозь прошито, колются иголки, не дают уснуть… И если елку вынесли уже, то в доме пусто так, что слышно пустоту. Она ничем полна. В совке еловые иголки с пылью, осколки шариков разбитых, шорох мишуры. Стучит по классикам от ваксы черной крышка, шайбу мальчики большие отобрали, в чернилах пальцы, клякса в чистовик, и через горизонт натянутой веревки перепрыгнуть можно, и там уже осалить нас нельзя…
Твоя ТБ.
«Приближе к нему» – мать сказала в голове, и Шишин палец послюнил, и, окунув в солонку, облизнул.
Глава 5
День рожденья
«Уж небо осенью дышало…», – сказала мать, плотней задергивая занавески, обернулась. Шишин хмуро посмотрел на мать. Он не любил, чтоб вслух она стихов читала. Не любил.
– Что смотришь, как удавленник на свадьбу? – спросила мать. – Не помнишь разве? Пушкин!
–Почему на свадьбу? – удивился он, но как-то сразу понял, почему. Мысль показалась серой, длинной как резина, он с подозреньем кинул взгляд на календарь, где красным помечала мать все «православные» недели, сжался: Скоро…
Тапки под клеенкой незаметно скинув, прислушался с тоской как гниль бормочет в черной и кривой закрытой дверцами трубе, и вспомнил вдруг, что спал сегодня плохо в мертвый час, и сны плохие, как в гробу все снились. Старуха с девичьим лицом, собака в волчьей бабушкиной шали, младенец в люльке с каменным лицом, Бобрыкин ненавистный, мать, и дворник страшный Петр Павел, тот который за забором школьным учительницу Анну Николавну в листьях сжег, что музыку до пятого вела, а с пятого пропала.
«Убавил, не убил…» – шепнуло в голове. «С Петровки сухо, день велик…» – в ответ вздохнула мать, и стало страшно Шишину, что день велик и сух с Петровки, и все идешь, идешь, никак не смеркнешь, и сам не знаешь... что. «И почему так говорят, что он убавил? Убавил не убил, а он убил…»
– Иди, скажу секрет! – во сне пообещала Таня. Шишин подошел.
– Дворник Петр Павел Анну Николаевну зарезал, – касаясь уха шепотом лакричным, прощекотала Таня. – Теперь, где закопал, награбит листьев и сожжет, пойдем смотреть?
– Пойдем, – ответил он, – за что сожжет?
– Из ревности, – сказала Таня, – что с физруком в учительской смеялась…
– А… – и вдоль забора, за кустами прячась, они пошли смотреть, как Петр Павел Анну Николавну в листьях жжет. Во сне запахло шерстью подпаленной, прелью земляной, водой тяжелой. Дымились мусорные кучи, клевало воробье рассыпанные бусины рябин, унылые дорожки беговые, черные от рыжих тополей – двойным тянулись кругом. На воротах висел мешок со сменкой, синий Шишина мешок, качался как манок. Туда-сюда, туда-сюда, как будто ветер в нем качал кого.
«Спи, Саша, спи, Господь тебя храни», – сказала мать, и дворник Петр Павел грабил, грабил листья, и руки земляные вытирал о фартук, и капал дождь с изнанок крыш, по ржавым желобам текла вода, и в ухо прошептала Таня: «мамочки мои…»
Ссутулившись и шаркая ногами, мать подошла к столу, и медленно, цедя, жалея ягод, по кружкам разлила компот вишневый, разбавленный, несладкий, как всегда. Горелой шкваркой тлело от плиты, на разогревшейся конфорке выкипала гуща постного борща. Ведущая «Маяк» протягивая буквы, новости читала. «И днем такие были, – думал Шишин. – И всегда».
Приподнимая кружки, мать стерла липкие овалы со стола, и было в кухне тускло, темно, будто света никогда не зажигали в ней. На табуретку встала, придерживая угол у стены, кряхтя, вскарабкалась на стол носками шерстяными, скрипя столешней, лампадным маслом залила фитиль, поправив ласково на полочке образник. Перекрестясь на угол, пошатнулась было, но не упала все же, не сломала шею. Скарабкалась обратно, стала пол мести, и отогнув клеенку зло сказала:
– Опять без тапок, паразит… хоть кол теши!
Он вздрогнул, подобрал колени, ногами под клеенкой шаря, вспомнил, что мать велела тапок не снимать, и под клеенкой, где никто не видит – тоже, а если снял, то вверх подошвами поставь, вот так! Не как бес на душу поставил, а буквой «Т», а так как ты, по всем углам кидаешь – к потере роковой, и скорой смерти выйдет…
– Умру! Дождешься у меня, – пообещала мать и веником ударила внизу, за пятки.
Шишин поперхнулся, не допив компота, встал и вышел. В комнате своей поставив тапки буквой нужной у полога, сел ждать, когда она войдет проверить, как дела. Она вошла уже умытая, с свечей в руке зажженной, и, увидав, что правильно на этот раз составил тапки, не привязалась, а перекрестив углы по комнате прошла, читая отходную, вышла. Шишин наклонился, быстро тапки развернул, и развернув довольный накрылся одеялом и уснул…
– Саня! Саня! Иди скорей, я нарядилась! – во сне услышал он, и глаз не открывая, встал с кровати и пошел…
Из проволоки медной плела Танюша бантики, браслеты, вплетая в меди разноцветный бисер, невестой наряжалась и звала…
Нарядится невестой, и зовет с балкона: «Саня! Саня! Иди скорей, я нарядилась!» Шишин встанет, и идет.
– Зажмурься! – говорит Танюша, – я завяжу глаза, а ты иди не разжмурясь, пока я не скажу.
И он зажмурится, и ждет, сопя, пока она глаза ему завяжет. И бегают мурашки по затылку, щекотно дышат в шею, в щеку, в ухо облачка смешков, янтарный мятный леденец звенит. И земляничным мылом пахнут быстрые Танюши пальцы. Щекотно носу от повязки и чудно, и тоненькой полоской свет за тапочки сочится.
– Иди! – он снова топает за ней с закрытыми глазами и сопит.
– Стой! – и остановится, и ждет, что нужно дальше.
– Теперь вертись! – она ему, и он переступает, опасливо, чтоб не наткнуться, не стукнуться, не уронить, и не упасть.
– Быстрей! – велит она, – быстрее ковыляет Шишин, но не так, чтобы совсем уж развинтиться.
– Еще быстрее! – она опять ему, и слышно, как нетерпеливо мятный леденец во рту звенит. А Шишин вдруг замрет, опустит руки и стоит, хитрит, когда Танюша сама его раскружит…
И раскружит неповоротливого Шишина Танюша, размотает, и снова будет Шишину щекотно от мурашек: всё щекотно, всё смешно вокруг, как в карусели – всё смешно и быстро, качается туда, назад; как на качелях – небо-лужа, лужа-небо… птица-мячик.
Всё закружится, все вспыхнет, сдернет с глаз она повязку, скажет: Разожмурь!
И Шишин, разожмурившись, моргает, но кроме света ничего не видно. Ничего.
А только свет.
И карамелью мятной свет пахнет в комнате ее, и монпансье в жестянке, что нитками к карманам прилипают, только положи и не отлепишь, ирисками, лакрицей, леденцами. … И сохнут ландыши на подоконнике в стакане, и за окном не небо кажется, а небеса.
Из света в белом платье подвенечном стоит она, и волосах венок цветов бумажных, таких, как на Христово Воскресенье мать в кулич втыкает, на запястьях медные браслеты в проволоках бисер разноцветный. Всё кружится! Всё мелькает! Скачут по салатовым обоям солнечные зайцы, золотые пчелки в лучейках жужжат, и широко распахнуто балконное окно…
– Красивая я, Саня?
– Красивая… – глаза опустит, на пол смотрит, морщит нос…
– Саня! Саня! Иди скорей, я нарядилась! – во сне услышал Шишин, и глаз не открывая, встал с кровати, и пошел…
Был у Танюши день рожденья, в третий день апреля.
В белом фартуке нарядная Танюша конфеты в честь рожденья в классе раздавала, горстями высыпая всем на парты. Мишки, белочки, ириски, театралки… как бывают в сундучках жестяных, на утренниках новогодних, когда чего не загадаешь только Дед Морозу, а он одни конфеты только в сундучках дает…
В окно сочилось солнце. В конвертах приглашения на праздник раздавала Таня, не всем, а тот кому конверт протянет – тот и рад. Кому же не протянет приглашенья, с тем она не дружит, а с кем не дружит Таня, тот без приглашения дураком сиди.
Стоял в Танюшином буфете, бледно розовый сифон, который из воды как в автоматах делал минералку. Из бутылки в минералку Танюша желтого сиропа добавляла, как мед густого. Шишин пробовал. Он знал, что вкусно. «Наверно, газировка будет», – думал он, ему хотелось тоже получить конверт на праздник.
Приглашение.
Саше Шишину от Тани.
Улица Свободы 23.
– Господи спасибо, унесло заразу! – крестилась мать, за тетей Люсей закрывая дверь. – Не загостится добрый человек в чужом дому. Не загостится, совесть знает. Без приглашенья черти только в гости ходят, бездельники, и невоспитанные люди. Дармоеды. Нет дел других у них, у паразитов, чужое время на свое переводить, по людям шныть. Объедь людей. Придет, рассядется, трещит, трещит… как свищ. И дай господь до ужина её спровадить. Нет! так и будет, будет! квашней сидеть, с обедни до вечерни, покуда отходную дьяк в колокола не зазвонит. Все съест, что перед ней поставишь, съест и ждет, чума такая, когда еще рябиновки нальют. Алкоголичка! – объясняла мать. – И ты мне чтобы по гостям не шастал, чтоб не шастал! Понял? Знаю я тебя. Не звали – не ходи. И позовут – подумай. Может так позвали. Не чтоб пришел, а так, что неудобно было не позвать. Подумай трижды, чем в дверь другим звонить. А после третьего в четвертый раз подумай. Не для того перед тобой закрыли люди дверь, чтоб ты в нее звонил, и шастал туда сюда, чужие чаи пить.
И Шишин по гостям без приглашенья не ходил, а только если Таня позовет с балкона, и то стоял под дверью, чтобы не звонить. Танюша подождет, и дверь сама откроет. Скажет: Привет! Чего стоишь, балда? Входи!
Но очень Шишину хотелось все-таки пойти на день рожденья к Тане. Из-за газировки этой оранжевой с сиропом. И за конвертами, которые кончались быстро, с беспокойством, пристально следил. Конверт последний положила Таня Бобрыкину на парту, Шишин отвернулся, стал в окно следить за тем, как поживают воробьи.
А воробьи там поживали хорошо, отлично поживали, им было хоть бы хны на ветках, что приглашения ему не дали. И маленькая девочка с хвостами – внизу мелками рисовала зайца на черном тающем асфальте. Асфальт не тает, думал Шишин, это тает снег…
– Саня, ты придешь? – спросила Таня, садясь за парту рядом, высыпая Мишек и ирисок Шишину под нос, он засопел, не обернулся.
«Бобрыкину дала конверт, другим дала с кем дружит, а на меня конверта не хватило, – думал он. – Я без конверта не пойду. Другого дурака пусть ищет без конверта, просто так ходить» Он так любил, чтобы уж если пригласили, то с конвертом, а на словах не дело приглашать людей. Придёт – где будет там написано, что приглашали? И могут даже не пустить без приглашенья. «Где ваше приглашенье?» – спросят, как в кино, и без билета. Что сказать…
«И даже из-за газировки, если даже газировка будет, не пойду…», – подумал он, но все же обернулся, посмотрел на Таню.
– На! – сказала Таня, протягивая Шишину конверт.
Глава 6
Жмурки
Продольная полоска в камне и воронка, запах солнца, цвет апреля.
— Ой! Чертов палец! Капитально… дашь потрогать? Зыко пахнет… А если долго в кулаке зажать еще вкусней, смотри!
— Ага…
— А угадай теперь, в какой руке? Не угадаешь — чур мое!
И Шишин долго думал, в какой руке у Тани громовица, но не угадывал почти что никогда. А громовиц на счастье было много. На пустыре, за длинным домом, в песочнице другой, там, у забора… «Еще потом насобираю, ладно, сколько захочу».
«Илии пророка, Саша, стрелы «громовицы» — в платочек громовицу обернув мать долго мялкой молотила по кулю, крещенской разведя водой, давала пить: «с усадком Саша пей, на счастье…» Но Шишин не любил, чтоб громовицы мать его толкла на счастье, и громовиц найдя, от матери в дыру кармана прятал, и спрятав забывал, искал еще. И на газету, громовиц нащупав за подкладкой, мать высыпала, и опять толкла, толкла…
На счастье ржавый гвоздь и на двери подкова. Четырехлистный клевер, старый ключ. Ресница, перышко рябое, автобусный билет, билет трамвайный, монетка вверх орлом. Куриный бог, Илья пророк, каштан в кармане правом, мутная вода с крупой беленой, все на счастье… все.
«Вели чутворче безначальный, угодниче заступнече благие и везде в скорбях наших поможи…»
Дверь Таниной квартиры приоткрыта. Из-за двери звенели смехи, голоса, стучали каблучки, играла музыка; паркетною гвоздикой, пирогами пахло. Пустынно и тоскливо пробурчало в животе, покрытый мраком лестничный пролет манил бегом назад. Он часто убегал от двери, когда за нею голоса и смех.
— А, Санька, ты? Чего застрял? Входи! — и яркий свет цветной в глаза ударил, и земляничные смеялись губы, и васильковые глаза сияли, и медным золотом закатным волосы горели, в них цвели бумажные цветы.
— Давай-давай, не топочись, идем! — дыша нетерпеливо солнцем и лакрицей, мятным язычком звеня во рту, сказала Таня, схватила за рукав, и потянула за собой.
Он замычал, сопротивляясь, во сне пытаясь спрятаться от сна, и продолжал смотреть…
— Смотри, какое платье мама подарила! Нравится тебе? — и поворачиваясь боком, половинкой глаза на Шишина из сна смотрела; и от запястий тонких, от коленей взлетела юбка цвета акварели, и били больно, внутри, где прятал Шишин всякие печали, лаковые каблучки.
— Ага, — ответил он.
— Еще часы! Смотри! Бобрыкин подарил! — и протянула Шишину ладошку вверхтормашкой, на запястье блестели крошечные настоящие часы.
— По камушку вот тут и тут, и здесь за ремешком, и пряжка золотая!
— Золотая…
— Мне идут?
— Идут… — прислушавшись, ответил, и вспомнив свой подарок, кулак открыл и громовицу протянул.
Был третий день весны.
Нарядные сидели гости. Все были дети. Девочки и мальчики из класса. Ели торты, перемазанные сладким. Корзиночки, эклеры… Звенели чашки-ложки, наклонялся розовый сифон, выплевывал в бокалы апельсиновые пузырьки.
— Давайте в жмурки! В жмурки! — закричала Таня, — Сашка вода! Сашка опоздал, ему водить! — И закрутилась вихрем разноцветным, и это был весенний ветер с моря, с юга. Солнечный был ветер. Из тех, что в мае по дворам гуляют, расшвыривая вишен сквознячки.
Всё закружилось, свет погас внезапно. Погасли звуки, на лице от дня осталась колкая полоска шарфа, и захватали вдруг чужие руки, невидимки пальцы, щипали, цапали, и гоготали, били в бубен, и колокольчик зазвонил хрустальный, и ничего не видно было под повязкой. Никого.
И смолкло. Оборвалось. В круг тесней дыханья сбились, таял эхом где-то голосок Танюшин, летний странный смех. Как будто падает она, подумал он, и тишина такая стала, такая… Такая странная, такая… тишина…
И потихоньку дети за Танюшей из комнаты на цыпочках крались, на черной лестнице скрывая звуки.
Шишин, ты один остался…
Жмурик Шишин…
Шишин вода!
Шишину водить…
— Ты Шишин в жмурки сам с собой играешь… — шептались в голове и под подушкой.
— Смотри, идут часы? — спросила Таня.
— Идут… — прислушиваясь, согласился он.
И шли часы. И было в комнате темно и тихо. Сумерки стекали синими тенями, прятались за шторы, во дворе знакомо скрипели старые качели, и метроном стучал на Танином рояле, как будто в сердце этот метроном стучал. Он подождал еще, и, не дождавшись, сам сорвал повязку. Сорвав ее, остался в той же темноте.
Глава 7
Песочница-песочек
После дождичка небеса просторней...
В пятницу на Святочной неделе сон всякий вещий — объясняла мать. Уснешь, душа во сне покинет тело и скитается, блуждает. Ее нечистый дух тогда подстерегает. Иисус уже родился, но не крещен, в это время сатане раздолье. Спросишь — правду скажет, но плату за рассказ возьмет такую, что не открестишь потом и не отмолишь. Ты, Саша, если сон тебе плохой на Именинную приснился, за темя подержись, в живое пламя свечки под образами в кухне посмотри, или в окно, где свет от дня, перекрестись, и постучи в стекло. Три раза постучи. Как в деревяшку. Стучишь по деревяшке, дураком не будь! Проверь, чтоб не фанера и не пластик. По пластику стучать и по фанере, как головой твоей пустой о стенку, толку нет! Хоть десять раз стучи.
Хоть кирпичом.
И не зевай со сна и перед сном! А если зявкнул, перекрестись и тут же рот прикрой ладонью. Слышишь у меня? А то раззявишь пасть, и черт влетит, не вызевнешь потом. И будет дрянь тебе такая сниться, что волком взвоешь, понял у меня? И если, все-таки со сна удавленника хуже, то за железку подержись тогда, а хочешь, высунь ногу левую через порог, и прикажи дурному сну уйти. Попей святой воды. И окропи остатком кровать, ковер и полки, все углы… И ничего с дурного сна тогда тебе не будет — обещала мать.
В мертвый час, после обеда, Шишину приснилась девочка Танюша, из тридцать третьей квартиры снизу. Дождь оборвался каплей на носу. Брезгливо от воды отряхивая лапы, придворный кот Степан прошел, с отрезанным садистами хвостом и разноцветным ухом, колченогий. Когда-то найденный Танюшей мертвым за забором, а теперь живой. По кромке лужи пропрыгал воробей, застрекотал, отряхивая солнечные искры; медовой канифолью задышало от земли. Парил гудрон, цвела сирень, Сергиевский шиповник ракушки раскрывал, ручьи сметали к люкам снег вишневый, и ветер тек навстречу теплый, южный, как будто в небе жарили картошку с луком, ну или сырники изюмные пекли…
— Вон девочка Танюша, из тридцать третьей квартиры снизу, — Шишина подталкивая в спину, сказала мать. — Иди с ней подружись и поиграй в песочек, понял? — и Шишину дала совок с ведерком, подтолкнула. Он не любил, когда его толкали, и девочек он тоже не любил. Любил, чтобы в песочнице без девочек играть. Сейчас совок отнимет и ведерко, укусит, ущипнет и палкой треснет, а после заревет, как будто это я… Его нередко девочки в песочницах кусали. И Шишин хмуро посмотрел на мать.
— Иди-иди, куркуль! — сказала мать, и Шишин неохотно захромал куда велела, и девочке Танюше из тридцать третьей снизу сразу протянул совочек и ведро. «Пускай теперь отнимет», — думал он.
Она на корточках сидела, палкой ковыряя лужу, взяла совочек и ведерко, палку Шишину дала. Он палку взял, подумал, осмотрел, и с палкой отошел от девочки подальше. На всякий случай, чтоб не укусила, и заворочался, забормотал во сне, стараясь отвертеться, чтобы небо не светило, но только глубже завернулся в сон.
— А как тебя зовут? — спросила девочка из тридцать третьей снизу. Он промолчал, на всякий случай. «Молчи, за умного сойдешь», — советовала мать.
— Ты что, дурак? — спросила девочка из тридцать третьей снизу, он молчал.
— Иди сюда! Иди, ты будешь суп? — он промолчал еще, надеясь, что девочка сама отстанет приставать, отдаст ведро с совком, и «ничего потом не будет», но девочка не отставала.
— Ты что со мной не дружишь?
— Нет.
— А с кем?
— Ни с кем.
— Тогда давай дружить?
— Давай, — ответил он, хотя и не хотел дружить, и отвечать не думал. И палку тоже девочка отобрала.
Песок снаружи желтый, а внутри сырой, и свет такой, как будто солнце выплеснули в лужи, чертила девочка из тридцать третьей снизу палкой на песке…
— Вот тут прихожая у нас, тут висельница, шапки вешать, вот тут твой кабинет, тут кухня. Это телевизор. Ты позвони, а я уже как будто дома.
Он позвонил, она открыла.
— Привет! Котлеты будешь?
— Буду.
На бортике песочницы котлеты. К чаю куличи. Из одуванчиков компот. Картошка из камней. И Шишин камни чистил, а девочка из тридцать третьей снизу их в ведре варила. И посыпала все укропом из травы.
Поели супа, стали чай варить. Но чаю оказалось мало в ближней луже, и вместе к морю Черному пошли, под горкой.
— Корабль! — на горку показав, сказала. — Хочешь, поплывем?
— Нее… глубоко… — ответил он, — мне мать не разрешает в лужи лазить.
— А трусов на корабль не берем! — и через море зашагала к кораблю.
Кирпичная стена четвертого подъезда. Резиновый прыгун, упавший за подвальную решетку. Кривая карусель одним крылом скреби. Оранжевая медь на козырьках, кусок тянучки, эмальный запах краски от качель. Угольной черноты земля, дымящийся асфальт. Следы кота, и их следы на память, резина жженая подошв. Балкон ее, расклешенная занавеска в синих тиграх.
Его балкон повыше, с зеркальной гладью мытых матерью окон. Трофейная гармошка, в розовой бархотке, в нижнем ящике стола. Испорченная йодом скатерть. Пистоны на столе, чердачное окно, в нем висельник висит. Посмотришь — тоже висельником будешь. Жуки пожарники, и майские жуки, «Земелька» «Ножечки» и «Дымовушки», расплавленный свинец на чайной ложке. Замазка, вар, смола, заколка «незабудка», шпильки, лейка, запах желтых книг, и горизонт из бельевой веревки натянутый от горки до забора. Резиночка, хомяк Песочек сдохший в банке, в термосе взорвавшийся карбид, пороховушки, Главный муравей, могильный крест из спичек, небо,
небо…
Корабль уплыл. Держась за темя, Шишин в мрачном настроении вошел на кухню, на живое пламя свечи под образами посмотрел, открыл окно, и посмотрел в него, и, постучав в стекло три раза, взял кастрюлю, прижав ее к груди, через порог просунул ногу и так стоял, приказывая сну не сбыться. Мать споткнулась.
— Чтоб ты провалился, ирод! — отобрала у Шишина кастрюлю, и велела убираться с глаз долой.
Глава 8 Почта
«Здравствуй мой родной, хороший Саня, — Шишину писала Таня. — Только посмотри, какое странное, какое синее, как будто кто-то море опрокинул небо! И так и думаешь, что как же мы внизу, одни…
Я думала, что я умру. Бессмертны только в детстве. Больничная палата, осень, оконный свет такой пронзительный и яркий, как будто я обречена, и эти апельсины три, этот кроссворд проклятый, этот, этот, этот запах страшный! Саша! Господитыбожемой… вода в бутылке «Аква-минерале», мне ничего не надо этого, не надо. Я не хочу состарясь, Саша, умирать.
И я стояла у окна, смотрела долго, а в голове такое странное, такое бесконечное терлинь-тирлем, тирли-и-иии, как колокольчик тренькал, и все тирли, тирли, на ноточке, на ниточке одной, и фьють! затихло вдруг, оборвалось, чудно. Как будто оборвали.
Мне только счастья, Саша, только счастья, Саша… Я счастья, счастья, Саша, так хочу!
А мир такой спокойный, зимний, тихий, звезды… Сугробов намело, оранжевые окна, фонари, и льдом вода покрыта Головинского пруда, таким глубоким, что как будто до дна льдом. А помнишь осенью оранжевые листья опадали на длинные ступени у воды, и мы с тобой стояли на последней, а ты боялся ноги промочить, чтобы не заругала мать?
Жизнь взять и выдохнуть как облачко в оконное стекло, а лучше в форточку, и пусть летит, летит себе, и ничего не жалко, никого. Закрыть глаза, калачиком свернуться, пусть и пусть! И обо всем забыть. Тирлем-тирли…
Квартира в три стены, окно, и занавеска та же. И знаешь, Саша, точно, если я посуду не помою, мир сойдет с ума! Все эти стулья, ниточки-катушки, чашки — ложки, полки, забитые хламьем, быльем, жильем, тряпьем, что только приоткроешь дверцу — валится на пол. И кажется однажды, как во сне раздуется и лопнет шкаф… Бабах! Как лопнул в термосе у нас с тобой карбид.
Тебя ругала мать за термос, за веревки, за… Господи! за то, что в луже промочил ты ноги! Но как же можно, как же можно по лужам в детстве не ходить? Не прыгать через них! А по чему еще ходить? Через чего же прыгать, как не через лужи?
А я умру когда, возьму с собой на память ржавый гвоздь, четырехлистный клевер, старый ключ и перышко рябое, что ты мне подарил, автобусный билет счастливый, чертов палец… и если ты пойдешь со мной — тебя.
«Пойду», — подумал он.
Ты помнишь, Сашка, умер Главный муравей, и мы с тобой его похоронили у забора, и нового на Главного потом ловили муравья? Такая очередь, один возьмет билет, за ним другой, и бесконечно так Тирлим-тирлим… и оборвется вдруг.
И море. Саша, Саша милый, милый, милый Саша, море… нет всему конца, ему конца. Но чтобы не было конца у моря, всего лишь нужно берег пруда заслонить под козырек рукой. Всего лишь! Фокус покус! чтоб морю не было конца.
Чтоб не было окна — глаза закрыть. Чтоб завтра не было всего лишь не проснуться. И все-таки мне грустно стало, Саша, о том, что как же мир потом, один, без нас?»
Все вечерело — вечерело, и погасло. Вдоль школьного забора Шишин за конвертами шагал на почту. Долгие полоски в розовом снегу чертили тени, оранжевые ложечки семян крутили фонари, жемчужным яблони цвели, и черные в засахаренных шапках пудры снежной зябли в звездах лапочки рябин. «Как клюква в сахаре», — подумал, и голову задрав, остановился и смотрел. С забора на него смотрели снегири. «Еще не всю склевали, паразиты! — думал. — Не могут сверху, подлые, пообкусать. Назло пообкусают снизу, а сверху — как не прыгай — не достать». И он подпрыгнул все же под рябиной, но только снежных шишек в рукава натряс.
На почте было тихо и тепло. Какие-то старушки копошились за письменным столом, у батареи жалась не разобранная елка, очередь молчала, пылился в кадке фикус, новогодние гирлянды дрожали по углам, в межоконьи спали мухи, перьями цветными на улице кружился снег. Жужжала тишина.
Шишина в окошке девушка узнала, и улыбнулась, кутаясь в платок. «Как моль прожрала», — хмуро думал он, разглядывая волосы почтарки, нос ее кривой и длинный, и узенькое призрачное ухо, зачем-то дважды отраженное в стекле.
— Так много писем пишете, мужчина, что же за работа у вас такая? — спросила та, приветливо и с лаской заглядывая Шишину в глаза.
— Мне пишут — я пишу. Работа, как работа, — буркнул, отводя глаза. «Да и сама как моль», — с тоской подумал он, внимательно считая сдачу, и спрятав под обшлаг конверты, вышел.
Из снежной пустоты вздохнуло, ухнуло, завыло, обкусывая уши, понесло, толкая и крутя по слезной стыни, вдоль тусклых ламп фонарных, от пятна к пятну. Навстречу, из небытия бежали люди тени, облепленные вихрями взбешенных белых пчел… Забралом лязгая, промчался мимо Шишина гараж железный. Гавкнул хрипло из-под арки пес. Хромая проскрипел засахаренный горб «победы» синей, с вырванным крылом и мертвым глазом. Торжествующе мигнула в ржавом небе вышка. У забора ветер свистнул, тряхнул и потащил из снега старый клен, но не осилил, бросил, огляделся, и Шишина во тьме не рассмотрев, завыл разбойничьи и жутко, бросился назад, на площадь, другого дурака искать…
Он быстро пересек до половины детскую площадку, огляделся, и нырнув под горку, из под ступеней посмотрел наверх. Танюшино окно приветливо смотрело абажуром рыжим, занавески с львами обнажали край кухонного стола. Она вошла…
— Здорово, Шишкин лес, брателло! Ну как тут с коммуналкой, топят? Не дует? В щели не свистит? А то смотри, зови, по старой дружбе помогу законопатить! — от подъезда пообещал Бобрыкин ненавистный, ухмыляясь, махнул рукой, и скрылся.
Мир заклокотал опять, вцепился в горло, затряс над головой ледовый желоб, затявкал и завыл и закружился, толченое стекло к забору унося.
— Все носят, носят черти паразита! Господи, прости — никак не унесут. Снимай, не натопчи! — сказала мать, из кухни выходя, и хлопая руками, шурша газетами, прошла по коридору. Над ней кружилась моль. Он отшатнулся. Руками в страхе отмахнул седую жуть с лица…
— Все барахло твое, труха твоя! Заводчик! — обратно проходя, все так же хлопая руками, бубнила мать. — Смотри: тебя сожрет, как всю крупу сожрала. Как все мозги твои! Есть будешь?
— Позже, да.
— Запозже моль сожрет, — пообещала мать.
Развесив мокрое по шкафу, в комнату свою пошел, на дверь закрылся, и, в нижний ящик от моли с матерью свои покупки спрятав, подошел к окну, письмо Танюшино из рукава достал, и дальше стал читать…
«А я сегодня убиралась целый день. У нас в муке, крупе позаводилась моль. И в банки, хоть они закрыты, тоже пробирается зараза. Или сама заводится, из ничего? Из этих корок апельсинных, что специально от нее кладу в шкафы?
У вас есть моль? У нас она повсюду. Мне кажется, она съедает все… Съедает время, память, даже сны, чтобы леденец в кармане летней куртки стал похож на кокон шелкопряда, а яблоко каштана сгрызла черная труха.
Она, как дворник, что учительницу музыки убил. Сгребает листья над разрытой ямой, метет, метет, и граблями шуршит... И жизнь как будто сниться, сниться всё, и сны ее из выцветшего ледяного дыма.
Ты помнишь, Саша, за забором школьным, в траве полынной облако из мух, и листья, листья… и слипшаяся, как будто дегтем перемазанная шерсть… Какая страшная становится земля, едва припорошит ее седое в снег истолченное просо! Как ветер дует изо всех щелей!..
Пустое снится, милый, страшно в нем, темно, и только шорох крыльев без свечи не видных, и ветер за окном закрытым у-ууууууу… всё заметает, заметает всё. И мать твоя раскладывает в коридоре старые газеты, чтобы мы с тобой не натоптали. Где тут? Что всё?..
В аквариуме школьном рыбке золотой со стеклянными глазами желаний много мы загадали, но ей, наверно, надоело строить замки из корыт. Мечты мои о будущем, любимый, прошлое напоминают. Вернуть, вернуть, вернуть! И все начать опять…
Туда вернуть, где горка, а под ней с помятым боком мячик. Где пахнет медом осень, а весна дождем, и где сосульки все как леденцы. Туда, родной, где суп из одуванчиков, а чай из лужи. Где клад зарыт за школой, птица золотая и звезда над башней. Где прошлого не страшно, жизнь в начале, и вот-вот гроза…
А помнишь, Саня, те волшебные часы? Я их случайно, убираясь, сегодня в нижнем ящике нашла… Опять цвела в саду та самая сирень, тот самый воробей скакал по кромке лужи, скрипели старые качели, в небе простыни захлопали, как паруса, корабль отходил обратно, кот Степан убийцами убитый сидел живой на лесенке, под мачтой, и умывался от дождя, а с веток все летели солнечные брызги…
А помнишь, как мы стрелки на часах с тобой переведем вперед под партой, и уже звонок! А если воскресение к сумеркам и понедельник на носу, и никуда не деться — вернем на день назад, и так сидим, и смотрим друг на друга. И довольны. Довольны, дураки! Как будто правда больше понедельника не будет…
А Воскресение всегда… Часы волшебные придворного кота Степана воскресят. Корабль нас дождется. Будет чай из лужи. Солнце. Лакричная карамель и сны.
Твоя Т.Б.
Глава 9
Рынок
Едва за полночь повернули стрелки, поведя отсчет иному дню, Бобрыкин ненавистный Шишину во сне явился. Нечеловеческая злоба читалась в искаженном ревностью лице его. С глазами алыми, играя желваками, Бобрыкин в длинном бархатном халате по черной лестнице спускался с мусорным ведром в руке. В ведре, похрустывая банками пивными, среди картофельных очисток, хлебных корок, шелухи, в зловонной гуще, сидел сам Шишин, ногами и руками упираясь в бак. Себя во сне увидев, он похолодел, и, ослабев, скорее голову прикрыл руками, и, сжавшись в запятую, заскулил.
– Цыц, шиш собачий! – с кривой усмешкой, будто пережевывая стекла, прикрикнул ненавистный, ненавистный! И лязгнув крышкой, вытряхнул ведро.
– Ну что блажишь, скулишь, как пес чумной!? – заглядывая в комнату седая, страшная со сна спросила мать, и, мрачно цокая губами, скрылась. Слушая шаги, которые всегда под утро за стеной ходили, Шишин быстро в воздухе водил руками, закрыв глаза, отряхивал с пижамных складок шелуху и гниль, и окруженный банным паром долго стоял, переступая под горячим душем, оглядываясь, будто шел куда-то торопясь, или бежал. И пеной земляничной тело под пижамой обмывал.
– Завтракать иди, размылся! Дурь не отмоешь, сколько не скреби! – в дверь постучав, сказала мать, и, не дождавшись, погасила свет. Она всегда гасила свет, не дожидаясь.
Он вылез, в темноте держась за скользкий ванный борт, содрал пижаму, вышел, оставив мокрым комом на полу…
По чистым четвергам мать посылала Шишина на рынок: молочка живого литр возьми с цистерны, творожка, сметанку, триста грамм, на борщик, чтоб не больше мне смотри. А то навалят! Увидят, что дурак, навалят, и пойдешь, как навалили, за бери – живешь! Изюму, кураги – они там знают, сколько дать тебе. Селедки – у армян, у них хорошая, молоковая. У наших подряннее, плоская, жирами вся в икру. Овсяного печенья весового. Чтоб не как в прошлый раз – зубов переломать. Сосисок развесных штук десять, пять! И «докторской» сто грамм на ужин, сальца, дарницкого и батон. Батон и можешь кекс. Нет, кекса не бери! Задрали цену, паразиты, сволочи, собаки! Что только удавиться с них. Лимон и мандаринов килограмм. Их там, где курага. Они там знают, сколько дать тебе, какие. С косточками не бери. Так и скажи, без косточек чтоб были! С косточками сами пусть едят, их свиньям только жрать. Без косточек не будет мандаринов, то лучше апельсинов полкило. И курицу – где ты берешь сосиски. Где ты берешь сосиски, помнишь?
– Что?
– Тьфу, Господи, холера! – сказала мать, и, послюнив на грифель, в листок все так же непонятно записала, и дала.
– Чтоб все по списку, понял? Понял!? Слышишь, или нет? – и Шишин закивал, что слышит, слышит! закивал… Он списков не любил, и морщась от бумажного шуршанья, остановился на пороге, качаясь складывал углом к углу в четыре, в пять, еще…
-Щаc руки оборву! – пообещала мать.
Он вздрогнул, вспомнив список, в котором не было его. «Все были, с «А» до «Я», как и положено, по алфавиту», – думал. – «а я?» – спросил у Ольги Константинны, – «Ты, Саша, из другого списка», – ответила она. И долго Шишин на журнал смотрел, сквозь плечи класса, надеясь, что случайно выпадет на пол тот список, в котором он, но список так и не упал на пол.
-Давай, как все уйдут, потом еще поищем? – спросила Таня. Но все из класса так и не ушли. Все никогда и никуда не уходили. «То выйдут, то войдут. Сидят и копошат. Английский делают», – подумал с отвращеньем, и заторопился, как всегда он торопился после, и до того, как никуда не торопился он.
– Куда без шапки, куль чумной? Там без тебя не похоронят, – протягивая шапку, затупила мать. – А купишь – вычеркни из списка, что купил. Чтобы по двести раз не покупать. И плюй на грифель, плюй! А то не пишет, через крест дыши! Кругом зараза, птичий грипп! – и Шишина перекрестила. –- Свиной, Господь тебя храни…
«Шишкин! Шилохвостый в списке! вычеркнем его»! – кричал на черной лестнице Бобрыкин ненавистный, и чтобы не кричал под шапкой, сволочь, гнидагад! собачьи уши Шишин крепче, ниже опускал.
- Давай другой напишем список! Где только кто хотим? – спросила Таня. Таня ручку грызла.
-Давай, – ответил он. И записали в списке только Таня Т. и Саша Ш.
«Вот так!» – подумал он.
День встретил незаметный, хмурый. «Вчерашний», – догадался он.
Четверг. Свет капал, всхлипывал, вздыхал. Скрипел. Он чуточку прошел, и обернулся к Тане. В окне стояла мать. Слетела с подоконника ворона, большая, черная, как поминальный материн платок, и, пролетев всего два шага, упала на забор, пропрыгала, и снова полетела. А если б Таня…Таня! Если б Таня… думал, но мать не отходила от окна…
За голубятней старой небо порвалось, и раскололось желтым, плюнуло в лицо, как будто скорлупа разбилась. В лисьей шубке, в шарфике вишневом вышла из-под арки Таня. «Таня…, – прошептало сердце, – Таня!!! Таня-Таня! Та-ня!» Застучало, будто летним утром бабушка с веранды завтракать звала, и выпрыгнуло, полетело, на рябине стряхивая снеговые перья, кося веселым глазом закрутилось воробьем.
– Привет! – сказала Таня, варежкой махнула и прошла…
Он вздрогнул, обернулся. Белым день промозглый выдохнул в лицо, и пусто улица смотрела с краю и до краю, снежные кружили перья. «Пустодень, – подумал Шишин, – как ангела распотрошили, идешь, идешь...»
У входа «РЫНОК» постоял немного у палатки «видеопрокат», разглядывая разные названья фильмов, с любопытством читая под стеклом истории. В витрине лампочки зеленые, как в новый год горели, смеялась грустно девушка внутри. Снаружи тоже девушка смеялась… «Красивая какая, но не Таня», – думал… Кругом была не Таня, где не посмотри…
Костлявый страшный продавец весь в оспе, с гадостным лицом, спросил внезапно «Какого плана фильмы вам?», и Шишин заморгал растерянно и, сжавшись, отошел, сжимая плечи с ресниц промокших вытирая снег.
– Козел, – сказали в спину.
«Но может и не мне?», – подумал, без особенной надежды. И засмеялись тоже не ему.
Заборным словом, напугав, ругнулась женщина с цыганскими глазами, в палатке «Творожок» спросили: «Сколько вам?», и головы свиные висели над поддоном ржавым пятачками вниз, коровьи ребра, в тучах снежных мух. Замахиваясь рукавами с крючьев свешивались свитера… Бритоголовые, все в черном, сплевывали сигаретный дым…
«Да ладно, ладно вам!», – подумал, карандаш достал, остановился, послюнив на грифель, вычеркнул из списка всё, и вздрогнул, ужаснувшись, что мог и не купить того, что вычеркнул уже. Пошел назад, тревожно вглядываясь в лица продавцов, но продавцы все были, как китайцы, на одно лицо. Кивали, говоря на непонятных языках, как будто языки во ртах свернули, и снова стало пусто. Душно. Жутко. Везде шумели шумы, голоса, из тех, которые всегда везде шумят… С печей татарских пахло хлебом мягким, Шишин подошел, и стал. И медленно пошел за длинной шубой, в которой тоже кто-то очереди ждал…
На шерстяных ногах, в пальто буланом, у хлебного лотка стоял старик худой, протягивая шапку, в шапку падал снег. Не таял на подкладке. «Как моя подкладка, гладкая со шрапью», – и в шапку Шишин рубль положил, как научила мать: подай и не убудет, что подал, но на весах небесных медную монетку ангелы в серебряник зачтут. Как некий был богат, как президент, антихрист (наш, и их), всё одевался в порфиря, кровь пил и жрал, и бед не знал, как все они не знают бед и совесть. А некий Лазарь у ворот лежал, весь в струпьях, и молил о корке, о воды стакане, о гроше. И так и умер у ворот, неподаянным, не напившись. Но равно в тот же день господь прибрал и этого, скотину, который одевался в порфиря. И Лазарь нищий вознесен был в лоно Авраама, и там напился и наелся вдоволь, а тот, бессовестный – был в ад. И в аде, будучи в мученьях страшных, варясь в котле, как холодец варю, он возопил: «О, Аврааме! Умилосердись надо мной, пошли мне Лазаря, чтоб омочил конец перста в воде, которой не допил. И прохладил мое пылающее тело, мой язык и лоб. Так мучаюсь я пламенем сиим!» Но Авраам сказал ему: «Ты получил уже награду на земле, а Лазарь ныне же в раю утешен. И так же, как однажды пропасть к Лазарю не захотел ты перейти, хотя тебе мерзавцу на земле до Лазаря всего два шага было, так же и теперь отсюда Лазарь не сойдет с небес к тебе».
– А если бы подал горбушку президент? – поинтересовался Шишин.
– А если бы подал, тогда сошел, – сказала мать.
И Шишин посмотрел на старика. Старик затопал, засердился, и шапку вниз перевернув, стряхнул на снег, и прочь пошел, размахивая рукавами, оглядываясь дико, бормоча. И две монетки поднял Шишин из-под ног, и, с прежними сложив, купил лепешку.
Он ел лепешку по дороге к дому, откусывая понемножку, и опуская сумки в снеговую завесь, воробьям крошил, которых было много в феврале. «Как мух в Афганистане» – из памяти сказала мать. А в долгой зимней мути близко бежали круглосуточные магазины, лужи, крутили головами фонари… Там сумерки уже спустились к дому. В подъезде было сонно, гнило. Воняло тряпкой, проводами, дрянью, как будто в утнице чугунной мать хвосты тушила за дверцами пожарного щитка. Мигала лампа. Уныло ныло в шахте, на душе скреблось, и вылезти хотело, закричать и с криком спрятаться за дверь.
Войдя, затравленно и долго Шишин жал на выжженную кнопку, давил, давил, и голову задрав, ждал с беспокойством, болезненным и чутким желтый огонек с восьмого этажа. Но тот был неподвижен. Из лифтовой щели сочился тусклый свет, как будто мать в кабинке запершись евангелие читала… «С чужими в лифты не садись, господь тебя храни! Зарежут, выпотрошат, как гуся, и будешь знать!» – из памяти сказала мать.
Лифт, наконец ожил, поплыл, не торопясь, с трудом глотая этажи, и распахнулся. Он рванулся, каждую секунду ожидая, что вместе с ним какая-нибудь сволочь, на все готовое войдет, или маньяк. Вдавил шестой, и с облегчением замер, закрыв глаза, переводя дыхание к стенке прислонился…
– Здорово, Шишкин лес! Своих возьмешь? – спросил Бобрыкин ненавистный, плечом могучим раздвигая дверь. Румяный, бодрый от морозца, повязанный небрежно шарфом, кареглазый Бобрыкин ненавистный, усмехаясь, сверху вниз на Шишина смотрел. – Что вылупился? Дорого берешь? – спросил Бобрыкин, и нажал на пятый.
Глава 10
Варежка
Дверь сквозная, с лестницы – налево. Шишин у двери остановился, боясь, что, открывая, треснет по лбу мать, и отошел подальше, вжался в стену. Мать не открывала. Всегда с надеждой он заглядывал в глазок с обратной стороны двери, хотя и знал по опыту, что никогда в глазок с обратной стороны не видно. Не видно было и сейчас. Дверь распахнулась. Шишин отшатнулся, потирая шапку, хмуро, исподлобья посмотрел на мать.
– Замерз? – спросила мать.
– Нормально, нет, – ответил он.
– Ну, дай господь, – сказала мать. – Входи! – и Шишина перекрестила. Он вошел. Мать собиралась.
«Собирается куда-то, – понял он. – Когда мать собирается куда-то, сразу видно», – думал, и, думая, за матерью ходил.
– Да отвяжись же ты!
Он сел на кухне, с кухни слушал, ждал, угадывая в звуках, что собирает, собираясь мать. Один в квартире он любил остаться. Все можно делать, что-нибудь искать…
Шишин редко знал, что именно он ищет, но интересно было поискать и так, не зная, а поискав чего-нибудь найти. Мать знала, что, когда она уходит, Шишин любит искать чего-то по шкафам, в буфете, в антресолях и даже в тумбочке ее, и этого не выносила.
– Я в сберкассу! Ненадолго, понял? И чтоб не смел мне лазать, ящиков не открывал! Ты слышишь? Понял?
– Да понял, понял…
– Знаю я, как понял! Будешь лазать, увижу, руки оборву! – пообещала мать.
«Всегда не обрывала, и сейчас не оборвешь», – подумал он, из кухни выходя прощаться.
– Смотри! – сказала мать, рукой махнула и ушла.
Он к двери подошел, прислушался, ушла ли мать совсем, или еще стоит под дверью, поджидая, как только лазать он начнет, и тихо створку приоткрыв, увидел, что ушла. Захлопнул дверь, и сразу же присел на корточки у шкафа. Обыкновенно Шишин быстро находил что ищет. «Когда не знаешь, что искать, то проще находить, а если знаешь, то хоть тресни не найдешь», – подумал, и старенькую варежку найдя, прижал к лицу. Тихонько варежка хрустела коркой мандаринной, лавандой выцветшей, зимой давно прошедшей, огоньками елки, что погасли… шариками, что разбились…
«Варежка моя…», – подумал он.
– Пора вставать! – сказала мать, прошла к столу, и занавески распахнула. За окнами крещенская густела синева, потрескивали стекла. Над швом бетонных крыш горой свинцовой толпились облака, отчетливо очерченные всполохом зарницы, в небесной проруби мерцало… Шишин с ненавистью посмотрел в окно, зажмурился, и в мягкой теплоте прижавшись к варежке щекой, свернулся в запятую. «Тихо у меня…», – шепнул, и варежка притихла.
– Мороз! – сказала мать. – К засушливому лету, вот увидишь. Посмотри-ка только, как разобрало к великодню! На Волочебник тянет, к Пасхе… Опять пораскидал! Порассувал! Нет на тебе креста, бессовестный такой, – бубнила мать, игрушки подбирая, – а мать ходи… кряхти.
И мать ходила и кряхтела:
– Теперь три дня, смотри, белья стирать нельзя, загадишь и ходи в гадье до Спаса…
Тепло и сонно варежка колола щеку, косясь на Шишина из-под руки веселым пуговичным глазом.
– Вставай-вставай, тетеха… – сказала мать, откинув одеяло, и Шишина за пятку ухватив, пощекотала.
Шишин пятку отнял, зарычал.
– Не заболел? Опять в кровать заразу тянешь, да? – спросила. – Опять?!? Дождешься у меня! Дождешься, заблошивешь, понял? Вон и сейчас горишь! А дальше пятнами пойдешь лишайными, как плесень! – и, отойдя к шкафу, открыла ящик, градусник достала, стряхивая, снова подошла. – Ну, дай её сюда! Отдай… Добром прошу! По улице в ней ходишь, аспид! За всякую же держишь дрянь, потом в кровать несешь? Давай сказала, ну?
Он заскулил.
– На, градусник поставь! Сил нет с тобой! Ну нету сил с тобой… Весь пятнами пойдешь, как пес чумной, облезешь… Не дашь? И не давай. О Господи, прости – под тридцать девять! Да подавись ты, подавись ты ей! Не дашь – не надо. Только знай: Кто тащит дрянь в постель, тот весь чумой потом, блошливый ходит. С чумным никто играть не станет, дружить не будет. Понял у меня? За партой девочка красивая с чумным с лишайным, с дураком, как ты сидеть не сядет. Вырастет и замуж за другого выйдет девочка такая. Знаешь, знаешь, как ее зовут? – спросила мать.
«Знаю…», – вспомнил Шишин, и варежку с кровати отшвырнул.
«Цветом без запаха, и запахом без цвета, временем без цели пахнет, – думал, сидя у ящика в прихожей на полу. – У времени нет цели. Оно идет, идет, идет куда-то, куда само не знает, стирает все. Как дождь стирает утро, день и вечер, как снег в окне стирает двор, песочницу, качели, голубятню, голубей, весь мир. Ведь это время перекрасило скамейку, домик, горку во дворе… Зачем? – подумал он. – Оно уходит вырванным листом тетрадным, самолетиком, летящим в школьное окно, когда учительница вышла. Звоном стекол мячиком разбитых, съеденной черешней, каплями дождя, что шариками ртути катятся по тротуару, шагами в лужах, пылью на окне, забытым. Всем забытым. Всем. И бабушкиной чашкой, которой нет уже, и бабушкой, которой тоже нет… А хорошо бывает, только если Таня…»
Шишин встал, и ящики ногой задвинув, боком, пошел к себе, на дверь закрылся, лег, и варежку укрыв получше одеялом, подумал снова: «Варежка моя…» И задремал.
– Войдешь, и тихо, поняла? – он варежке во сне сказал, и, спрятав варежку за спину, вскарабкался на табуретку, позвонил. Мать дверь открыла. Шишин с табуретки слез, и снизу с опасеньем посмотрел на мать.
– Что? – спросила мать, увидев, как Шишин мнется на пороге, в дверь не входит. Шишин не ответил. – Ясно… – вздохнула мать, и дальше ничего не выясняя, взмахнула полотенцем, и ушла.
– Лежать! – и варежка послушно легла в ногах у Шишина на коврик, потянулась, снизу пуговкой смеясь в глаза. – И не виляй тут у меня, а то … – и пальцем погрозив, он стал галошей о галошу валенки снимать. В прихожей вкусно пахло к позднему обеду. – Проголодалась?
Облизнувшись, варежка уткнулась мордой в коврик, заскулила.
– Тшшь! – пришикнул Шишин и дернул за резинку. Варежка подпрыгнула, затявкала и завертелась.
– А это что еще? И где вторая? – спросила мать, и посмотрела волком.
– Потерялась… – ответил он.
– Потерялась?! Потерялась… так иди, ищи! Жизнь на тебя не напасешься, росомаха! И Шишин стал на валенки обратно галоши надевать. – И без второй не приходи! Глаза бы не смотрели, хоть к рукам пришей! – и Шишина перекрестив, закрыла дверь за ним.
Он постоял, подумал, вниз по лестнице пошел. За ним, хвостом виляя, варежка скакала.
– Морда! Все из-за тебя… Давай быстрей! Вот потеряешься, никто тебя искать не будет. Никто! И я. Как будто очень надо. Мне мать другую свяжет.… Поняла?
Она на Шишина смотрела виновато, преданно виляя шерстяным хвостом.
– Вот то-то!
Варежка поджала хвост.
«А ищут тех, кто прячется, а тех, кто потерялся – искать не интересно», – думал он.
На улице мело, крутило. Горбами синими лежали волны снега. К стенам катились, утыкаясь в них, вздымали пенные валы. В лицо крошилось.
– Смотри не потеряйся! – обернувшись варежке сказал, но варежка и без того испуганно в ногах вертелась, и жалась к валенкам. Галоши погрузились в снег.
Овалом тусклым школьную площадку обводили фонари. У горки ледяной толкались и визжали дети, кто по трое, кто паровозиком, кто на картонках катились до забора. Одна фигурка в вихре снежном, вьюжкой белой кружилась на катке. «Танюша…», – понял он и замер на обрыве хрусткой корки, где снег глубокий обрывался черным льдом. «Как балерина в материной табакерке». Мать Шишину не разрешала с табакеркой баловаться, и ставила повыше, туда, где даже со стремянки руки никогда не доставали взять.
Сквозь снег, кусавший щеки и слепящий тающий в глазах, смотрел из темноты на Таню Шишин. С беспокойством радостным и жгучим, смотрел, как вихрем кружиться она, и все кружилось вместе с ней, и в нем кружилось, и он рукой то закрывал Танюшу от себя, то пропускал меж пальцев, а то в кулак сжимал, то заскучав по ней, скорее выпускал назад.
И белой бабочкой она кружилась снова.
И желто, снежно смотрели окна школы, и неуловимы, гибки, были движения фигурки, кружащей на льду.
Танюша Шишина заметила, и помахала. Еще раз крутанулась, отставляя ножку, и завертелась, замелькала, присев, и так стремительно, что Шишин испугался, что раствориться может в вихре снежном и навсегда исчезнет. Навсегда.
И он зажмурился от страха. В голове свистели, разбрасывая искры лезвий белые коньки. Дохнуло карамелью и лакрицей, теплым пронеслось мимо щеки, и он открыл глаза. Она смотрела улыбаясь, близко: раскраснелись щеки, и губы пахли вкусно, снег на волосы ее ложился и не таял.
«Теплый снег…»
– Приветик, Саня, хочешь карамелек? – куртка на ней распахнута была, и влажным, как от одуванчиков в апреле, пахло от свитера ее, и на ресницах тоже не таяли снежинки, и в глазах по звездочке горело, и розовели щеки, облачка словами улетали с губ.
– Хочу, – ответил он.
– Держи! – и из кармана куртки горсткой протянула Шишину конфет. И жалась варежка в ногах его, боясь, что потеряется и Шишин про нее забудет, тихонечко скулила.
– Что там у тебя? – спросила Таня, за Шишина схватившись рукавами, и так, нагнувшись близко-близко, заглянула.
– Варежка, чего? – ответил он сердито, – вторая потерялась, – вот, ищу…
– Смешная, – сказала Таня. – На песика чуть-чуть похожа. На резинке, как на поводке. Мне мама тоже раньше на резинке варежки давала, чтоб не потерялись…
«Чуть-чуть похожа! – думал Шишин. – Тоже мне…!»
– Я варежки, как маленькой была, едва не каждый день теряла, – рассказывала Таня. – Мама так сердилась! Очень- очень! Ну, пока! – и вздрогнуть не успел, как чиркнула коньком, из света высекая искры, и закружилась, полетела, улетела, свет и снег вокруг себя крутя…
– Здорово, Шишкин лес! – сказал Бобрыкин ненавистный. – С варежкой гуляешь? Молодца!
Вздрогнув, обернулся Шишин. В спортивной куртке красной, с белыми лампасами под ворот, закинув за спину огромные коньки, стоял Бобрыкин ненавистный. Ненавистный! Усмехался, варежка под каблуком раздавленной лежала. Падал снег.
– Тяф-тяф! – Сказал Бобрыкин.
Шишин отвернулся, за резинку потянул, и потянул еще, и вырвал, наконец, и варежка подпрыгнула со свистом, заскакала следом, по кромке фонарем очерченного льда. У самого забора обернулся Шишин. Две фигурки на катке кружила вьюга, фигурки разлетались, и, соединяясь, разлетались вновь.
Он варежку позвал. Она служить вскочила, нетерпеливо весело хвостом виляя, затявкала смешно и звонко.
– Тяф-тяф-тяф…
Он поднял варежку повыше, надел, и, поднеся к одной из двух фигурок, схватил и, сжав в кулак, держал до дома, пока фигурка в Варежке не задохнулась.
Глава 11
Соль
«Еще же говорил, не преступайте клятвы, – бубнила в голове за стенкой мать, мешала буквы разбирать.
«Бубнит, бренчит…» – подумал он, и крепко руки прислонил к ушам, до звона, чтоб проще было буквы разбирать. «А тот сказал им: Не клянитесь вовсе, ни небом, ни землею, ни собой, ничто не вам, ничто не ваше, а только лишь подножье ног моих, и без меня не будет слово ваше. И «да» не да, и «нет» ни нет…»
«.. А мы клялись, клялись в листе тетрадном. В уме клялись, и просто так клялись. А в чем клялись, не помню, Саша. Вспомнить не могу.
Все этот странный, темный, зимний полудень, – писала Таня. – И музыка его больна, пуста, как будто пономарь по счастью отходную служит. Глаза от туши режет. Новый вздох, и от него вот тут, вот в этом месте, видишь, милый такая тянь, такая режь, такой из шерсти комом ком. Застрянет и першит, и не проглотишь, не выдохнешь назад, и снова не вздохнешь. Как будто свитер на тебе колючий. Водолазка. Ненавижу их! И так, ползешь скуля, как пес на перебитых лапах, и ясно что не доползешь, и некуда ползти, а все равно! И снегом, снегом все, хоть глаз не открывай, не открывай, любимый глаз, закрой их, как и я сейчас закрыла, и губы прислони к оконному стеклу, с обратной стороны его тебя я поцелую, и там в окне окошко вместе мы надышим, такое синие, такое круглое, с морозным синим искристым узором по краям. Приснился, милый, мне щеночек, маленький такой, смешной, чудашка. Скулил, бежал за мной, как будто на резиночке привязан, а взять нельзя, у Оленьки ведь аллергия на собачью шерсть, но покормить? Мне так его, любимый, жалко стало! Я остановилась. Из сумки покрошила колбасы, и молочка немножко налила на снег. Он ел со снегом, с крошками песка, такой худышечка, такой малюньчик, и вот я, Саша, говорю ему потом, иди, иди мол, и машу, чтоб шел куда-нибудь, но только не за мной. А он хвостом виляет, смотрит на меня, и мордочка умильная такая, прямо, Сашка, как варежка была твоя. Я топнула ногой, – он видимо решил, что я играю… Саша, так: наскочит и отскочит, тяф-да тяф… а я боюсь мне юбку подерет и лапами извозит сапоги. Он все за мной, до самого подъезда… Что же…? мне некуда его. Я обернулась, встал он на ступеньке и стоит, наверное, все понял. Я закрыла дверь. А дома как обычно, то да се. Щеночек этот не дает покоя, Саша. Забыть я не могу, как он мне вслед смотрел.
Легла, (во сне легла, ведь это сон мне снился) Все не могу уснуть… В ушах в глазах стоит щеночек тот (тяф, да тяф) … и думаю – пускай, пойду за ним и все, пусть что ли, Саша, в общем коридоре будет, поживет у нас, хоть так, да все же легче, чем вот так.
И побежала вниз, распахиваю дверь, а мне навстречу, Саша, с этой темноты из снега, из метели этой огромный прыгнул, черный пес…
Любимый, подойди к окну, я руку прислоню к стеклу с той стороны его. Сейчас иди, теперь!
Твоя ТБ.
– …Собаки! Паразиты! Чтоб им пусто было!
Услышал Шишин, вздрогнул, поскорее варежку убрал в карман. Всегда сердитой из сбербанка возвращалась мать. И отовсюду возвращалась мать сердитой. Как уходила, так и возвращалась мать.
– Живодеры! – звякая ключами из-за двери, сказала мать, и к Шишину не заглянув, прошла на кухню, там зашебуршилась, разбирая сумки. Шишин встал и следом матери пошел, проверить, что она купила. Он так любил, поинтересоваться, чего хорошего купила мать.
Не сняв платка, босая, стояла мать спиной, и голову задрав, за пауком внимательно следила.
– Тшшшш, не вспугни! – Он замер на пороге, тоже посмотрел на паука. В канавке плиток паук полз вниз при матери, но Шишина заметив, вверх пополз, к копченому углу над образами, скрылся.
– Не будет денег, – безнадежно заключила мать, и, наклонившись, сумки стала разбирать.
– Чего купила?
– Хвост пся на пенсию мою и тот не купишь, вот чего! – и соли каменной достала из пакета, гречки, чечевицы, риса…
– А клюкву в сахаре случайно не брала? – он так любил, чтоб мать, когда откуда-то вернулась, в палатке клюквы в сахаре коробочку взяла.
– Ты на пороге мне еще постой и покачайся! И будем вместо клюквы домовину грызть, – пообещала мать. – Да сядь ты, Христа ради, пень заморный!
Он сел, и крошку со стола смахнув случайно, с опаской покосился на пол, что упала там, где сумки мать разбирала.
– Домашешься! – сказала мать, и крошку в пальцах сжав, с трудом поднялась с пола, ссыпала в горшок.
«…Покрытою ладонью крошки только со стола смахай! Запомни мне! Чтоб в тряпке, полотенцем, и мочалой. Бумагой тоже и салфеткой не смахай! Смахать бумагой к ссоре, к дрязгам, душевному разладу и в семье…»
Под скатертью кухонной мать хранила для достатка, большим достоинством, но дореформенных купюр. И веник ставила в углу лопатой вверх, и горевала, если падал он под ноги… Веник падал.
Мать подошла к плите, и крышку опустив с компота, столовой ложкой выбрала с поверхности все пузырьки, и осторожно протянула Шишину ко рту.
– Давай! – велела.
Он с отвращеньем привычным ложку облизнул. Всегда по пузырькам стояли грязи, букашки, дряни, ягоды пустые, черенки…
– К деньгам, – сказала мать и, ложку облизнув за Шишиным повторно, руку обернула мокрой тряпкой, клеенку стала к ужину стирать. Задев случайно ложку уронила, всплеснула рукавами, замерла.
В дверь тут же позвонили. Шишин вздрогнул, мать перекрестилась.
– Господи, помилуй, на ночь глядя несет кого-то черт, – и к двери подойдя на цыпочках, в глазок взглянула, прошептала, – дрянь твоя стоит …
Он ринулся к дверям, но мать остановила взмахом рукава, смотря темно и тускло.
– Откроешь мне! Увидишь, как откроешь…
Шишин замер.
– Надежда Николавна! Это я! – из-за двери сказала Таня. – У вас не будет соли, спичечного коробка до завтрашнего дня? У нас вся вышла, не хотела в магазин идти…
– Нет соли, Танечка! – не открывая, отвечала мать. – Была – вся вышла. Бессоли который день сидим…
– Тогда схожу, вам тоже занесу! – пообещала Таня.
– Не надо заносить! – сказала мать. – Не заносить, не выносить не надо! Обойдемся.
– До свидания, спасибо, – прочь от двери быстро побежали легкие шаги.
«Как воздух вытекает…», – думал он.
– Унес Господь пиявку, – сказала с облегченьем мать, соль убрала в буфет, задвинув ящик.
– Видал? – садясь к столу, спросила, – иж какая! Из таковских… соли ей!
Но Шишин мрачно, зло смотрел на мать.
– Ну что таращишься, Тарантул? Не знаешь разве? Соль, да хлеб, из дома – счастье прочь. По коробочку вынесет дотла, и плюнет в душу. А я добра тебе хочу! – сказала мать.
«Сама узнаешь у меня», – подумал хмуро, и снова крошку со стола смахнул, назло, и, вздрогнув, от стола отдернул руку.
– Мало била, мало! – замахиваясь, прошипела мать. – Два дурака в тебе живут, да ты двоих дурнее! Приваживаешь эту! Соли ей…. Как в детстве свистопляска все была, так и осталась свистопляска, вертихвостка…дрянь! на все готовенькое ей…, – и мать закашлялась, надсадно дохая, захлебываясь, багровея…
Шишин встал, мать кругом обойдя над ящиком склонился, дернул, и в пальцах разодрав картонную обивку пакет открыл и камнем высыпал на пол.
– Да постучи же, за-до-хну-сь! – согнувшись пополам, хрипела мать, и он ударил. Не раз один – четыре раза, пятый… и тяжело дыша, присел назад, к столу. Мать поперхнулась кашлем, замолчала, вытирая слезы вдруг посмотрев сквозь Шишина безумно, жутко, сказала еле слышно, головой тряся…
– Так топором бы, Саша… за тварь свою, да топором по голове…
Глава 12
Прощеное воскресенье
Уже трещали, но еще стояли льды, над речкой тлел закат, и корочкой арбузной хрустели валенки по кромкам луж. В проталинах лежали пестрые прихрамовые кошки. Тепло и зябко было. Сыровело. С колокольни тянули высоко и чисто, небу, осподи поми… густели тени, и пугаясь света, возвращались в свет. У храмовых ступеней шаль накинув, мать собачью шапку с Шишина сняла, убрав в заплечный, поклонилась низко, в три креста вратам.
– Перекрестись мне, ну! – чесночным шепотком за ухо, и с непокрытой головой перекрестился он на черные кресты, на воронье сидевшее на них…
В притворе низком чадно, тесно, душно, тусклый свет сочился. Мать, тяжело держа за плечи, подтолкнула, протискиваясь сквозь одежд, их раздвигая, точно висельные платья в шкафе, он пошел вперед. Катасаркирь лиловый лежал на алтаре, на горнем в семь грехов горели свечи…
«Прости, что есьм я на земле…», – читал старик священник маленький и хилый, качая головой в огромной митре синей, и точно новорожденный щенок, переступая еле-еле, поверх голов водил крестом. А позади него огромный дьяк с лицом сердитым вздыхал болезненно, протяжно, кропил кадилом стол и «Свете тихие…» – шептал. И женщины, похожие на мать, все как одна в платках вороньих, в черных шалях, подолом платьев серых низ мели, и падали и бормотали, губами зацеловывая пол. Творя на три поклона «Господу глаголем, – сзади, держа над головой свечу, причитывала мать, – не отврати лица от отрока твого и яко я скорблю и скоро услыши мя, вонми души моей, избави ю…»
«Ей господи Царю, даруй ми зрети прегрешения мои, не осуждати брата мояго, как яко ты благословен во век, аминь…» – и Шишин лопотал.
– И ты целуй! – мать прошептала, подтолкнула в спину. Не удержавшись, Шишин растянулся на полу, в ногах у всех, в растворы – носом. И, покачнувшись, с алтаря упал потир, и черное густое потянулось из овала на пол. Он дырочку заметил вдруг на золоченой ризе, и с ужасом зажмурился, увидев моль, скользнувшую из дьяконских одежд…
– Прости меня… – у бога попросил.
Бог не ответил.
«Никогда не отвечает, – думал, – все прячется, как будто в прятки мной играет, то под кровать залезет, то под стол… за штору только загляни. И страшно, вдруг возьмет, и схватит. И не заглянешь тоже страшно, вдруг его там нет…»
За подбородок облизнул холодный пол, целованный, исползанный другими, на курточку закапало топленое стекло, и искривились образа, захохотали. Протягивая языки к хоругвям зашипели свечи, тая, извиваясь, змеем сползли, и поползли меж ног, меж тел. И раскололся пол, а позади, как елочные шарики, разбились купола, и из скорлуп, из трещин, сминая воздух, хлопотом и криком взметнулось, шавкая, седое воронье…
– Прости, сыночек, – вдруг сказала мать, и Шишин заворочался во сне, и провалился в трещину подушки…
Был день Прощенья накануне поста великого, пред Пасхой. Свет лился из окна весенний ясный. Звонко, точно в клавиши металлофона по подоконнику стучали солнечные капли, и светом тихим комната была полна.
– Прости меня, – еще раз повторила мать, склоняясь над постелью, откинув одеяло, трижды Шишина поцеловала в щеки, мокрыми губами.
Шишин не любил, чтобы три раза, мокрыми губами целовала мать. Он так любил, чтоб Таня…
– Таня... – Шишин прошептал.
– Уймись! – сказала мать, и Шишина перекрестила. Морщась, ладонью утерев с лица, где щек она коснулась, он открыл глаза, и с подозрением долго, пристально смотрел.
– А что ты натворила?
Мать молчала.
«Не хочет признаваться, – думал хмуро, – а как ее простишь, когда не знаешь… Может быть она кого-нибудь убила, или ограбила, пока я спал…»
– Нельзя в немирном состоянье, Саша, входить в Великий пост, пойми! – вздохнула мать – Ты вспомни, что сказал Господь: Вы будете прощать, и вам прощу! … Сегодня отпущающе всеими, и отпущенным быти от бремен греховных, в духовном обновленье пред Пасхой, понимаешь, ну? От сердца, не от разума простить. Как перед смертью.
– Ты заболела что ли? – поинтересовался он.
– С чего ты взял? Не каркай Бога ради!
– Прости…, – ответил он.
–- Вот, в древней Палестине, – сердито продолжала мать, – на пост Великий, вплоть до самой Пасхи, монахи уходили в пустынь, зверям на растерзанье, голоду и холодам. И так прощались, будто навсегда.
– А ты куда-нибудь уходишь?
– Тьфу! – сказала мать, – как об стену горох! Пойми ты, наконец, что непрощенье – страсть, нельзя во страсти прибывая соблюсти поста! Христос распятый, испытывая страшные мученья своих обидчиков простил. Тебя же, Саша в непрощенье без устали лукавый теребит, и шепчет: Помни, помни все! Копи, записывай в тетрадку, в календарь свое дрянье, дранье! Носи в мешке. Одна, вторая, третья… до магазина скоро не дойдешь! На Пасху в прошлом веке пряника не дали! Копи-копи, дурак, копи, таскай с собой, покуда под мешком своим костьми не ляжешь. Не мне тащить, тебе. Как хламь свою в карманах тащишь. Помрешь, обиженным и закопают. Понял? Так и напишут на плите: «Дурак обиженный лежит под этим камнем».. – пообещала мать.
– Прощаю, ладно, – согласился он, и с беспокойством посмотрел на мать, чтобы прощенной поскорей ушла она. Но и прощеная она не уходила.
«Не уходит», – хмуро думал он, он-то всегда скорее уходил, когда его прощали…
“Ты тоже должен попросить прощенья у меня”, – сказала мать, и он насупился, стараясь вспомнить, что натворил вчера. Вчерашнее не возвращалось. Мать не уходила.
– И ты прости меня.
– Господь простит! – сказала мать, и Шишина перекрестила.
«Всегда вот так хитрит, – с тоской подумал. – Сама прощать не хочет никогда…»
– Нет, ты меня прости! Сама! Сейчас!
– Прощаю, Сашенька. Господь тебя храни, за все прощаю… – сказала мать, но снова не ушла, а села на кровать, евангелие открыла на Матфеи, где было у нее всю жизнь заложено под уголок. – Ты знаешь, Саша, сколько раз Христос велел прощать за брата?
– Какого брата?
– Брата твоего. Все люди – братья, – объяснила мать.
– Ааа…
– За грех один прощать Христос сказал апостолу Петру седьмижды семидесять, а это означает, за грех один до бесконечности прощать Христос учил, – сказала мать. – Ты, понял?
– Понял, понял…
– Всех прости сегодня. И легче сразу станет, вот увидишь, Саша. Простивший в Царствие небесное взойдет, а не простивший в Царствии не будет. Бывайте же друг другу благи, прощающе друг другу, яко же Господь, в спасителе и сыне своем Христе, простил, – читала мать. – Мудрец Питтак, когда ввели к нему убийцу сына, убийцу отпустил, сказав, что лучше уж простить, чем мстить…
«Пятак – дурак», – подумал он, и улыбнулся. Он любил, когда подумать выходило в рифму. Мать недоверчиво нахмурилась, что Шишин слушает ее, чему-то улыбаясь.
– Убийцу сына отпустил Питтак! А ты собаке, в прошлом годе сдохшей, простить не можешь, что облаяла тебя! – сказала мать. Но Шишин давно забыл собаку, что облаяла его, и, вспомнив, с удовольствием подумал: «Сдохла, значит? Хорошо…»
Глава 13
Странный сон
– Пляши! – сказала мать, вернувшись от обедни, и Шишин встал со стула, поплясав немного, сел. Была хорошая примета, поплясать. Попляшешь, мать отдаст письмо.
– Давай!
– Так пес чумной с клещей плясал, как ты. Удавленник на свадьбе, – сказала мать, но все же из кармана письмо достала, отдала.
– Сосал дурак к обеду ложку, да наелся, – ни к чему сказала мать.
Здравствуй мой родной, хороший Саша! Поздравляю тебя с Прощеным Воскресеньем. Прости меня! Прости за все. За беды все и горя, которые тебе я причинила, знай, что не со зла, что не нарочно. Что я всегда хорошего тебе хотела, добра и только счастья. И я тебя прощаю, Саша мой, хотя и не за что тебя прощать. Ты никогда мне зла не причинил. Но раз прощать сегодня, я прощаю, за все что было, будет и не будет впереди.
Сегодня во дворе так много воробьев! По щебету, по солнышку, по снегу вижу, что скоро, миленький, весна. Уже весна! И я в окно смотрела, как простудившись в детстве, смотрела я в окно, а ты под окнами ходил, и ждал, чтоб выздоровела я. Вот, видно из-за этих воробьев, приснился странный сон, что я воробушком в окно своей влетела спальни. Бобрыкин там меня увидел, стал ловить, залез на стол, руками машет, пытаясь дотянуться. Я сверху на него смотрю со шкафа, и страшно, что поймает, и смешно, как все чудно. Бобрыкин вышел, и вернулся со стремянкой, я поняла, что он вот-вот меня поймает. Окно открытым показалось мне, и я к нему, и об окно ударилась так больно, все помутилось, я упала замертво за батарею.… Упала, и проснулась. Странный сон … Мне грустно было, что воробушек разбился, тихо было в комнате. Светло. И знаешь почему-то, вместо снега с неба перья белые во сне летели, я форточку открыла, оказались просто снег... И таял на ладонях. На губах. Прости меня за все. Твоя Т.Б.
– А воробья-то, воробья! Не приведи Господь! – сказала мать, и, фыркнув, форточку закрыла. – Ты, Саша, только посмотри!
Он неохотно подошел к окну. И в самом деле, что-то много было воробья. На горке, в лужах, на качелях, засыпав мусорные баки, люки, на подоконниках, на ветках на автомобилях сидели воробьи. Чирикали, скакали, пролетали…
«Да… воробья не приведи господь», – подумал он.
– Ну, это не к добру, увидишь! – пообещала мать. – К добру не разведется столько воробья. Жить стали хорошо, зажрались, сволочи, как до потопа, вот и поразвилось. Надкусят и в помойку. Пожуют, и тьфу! Вчера, ты представляешь, Саша, обуви коробку, дармоеды на помойку отнесли! Не ношеной почти. По три автомобиля на семью! В Помпее так до извержения было. Катаются в жиру, гребут, ворье! Живут в грехе. Не каясь. Покаются – и снова водку жрать. Да только знай! Господь все видит! Настанет ссудный день и спросится со всех. Уже не долго!
Он недоверчиво смотрел, как мать толчет в кастрюле хлеба крошки, мешая с кислым молоком. «Кутью месит», – он не любил кутью. И к воробьям неплохо относился. «Другое дело – голуби. Вот их бы всех передавить, то это да…»
Мать покачала головой, поежилась, как будто зазнобило, поставила с кутьей кастрюлю на плиту, лампадного достала масла, на табуретку встала, подлила огню. «Потом сама кутью свою не будет, я не буду, воробьи и те.… И в унитаз сольет…» – подумал он. По подоконнику пропрыгал воробей. Слетел, перечеркнув окно на ветку, закачался, кося черничным глазом, хитро посмотрел на мать. Мать тоже посмотрела. Хмурясь.
– Проклятая птица воробей, – вздохнула. – Влетит в окно – жди скорой смерти. И дед твой умер из-за воробья, еще на той квартире. На первомайские окно большое в комнате у них открыто было, бабка стекла мыла. Только отошла в тазу воды сменить, как вдруг воробушек влетел, и шасть туда-сюда: давай под потолком кружится. Дед бабке на подарочек поймать хотел, окно закрыл, и ловит. Воробушек перепугался видно, и с налета об стекло убился. Упал за батарею – дед полез достать. Да так уж и не разогнулся, скрюченный лежал до самой смерти: ни гы, ни мы. Как ты. И все в окно смотрел, смотрел… да так и помер, пух ему земля, с открытыми глазами…
Шишин заморгал, и отвернулся от окна.
– А голуби к чему? – на всякий случай поинтересовался он, хотя считал давно, что много Бог создал того, что никому не нужно. Даже даром.
– А голубь – птица божья, – сказала мать. – На Благовещенье архангел Гавриил принес благую весть Марии, о том, что Спаса она родит, Христа. И голубь белокрылый слетел с небес на Рождество. Благую весть принес. Небесный хор поет на этот праздник радости большие, – мать наклонилась, пробуя кутью. Поморщилась. Закрыла крышкой. – Бабушка твоя, Тамара, очень голубей любила. Так и вижу: сидит на лавочке – в своем пальтишке синем – и зовет: гуль-гуль! гуль-уль! гулюни! И булочку крошит. Они слетятся, хлопают, курлычут. Рябые пестрые, седые. И вся потом в говенном бабушка твоя. И все пальто в помете: светлая ей память, светлая душа! Бывало, скажешь ей: мамуля! У вас-то воротник, смотрите, весь в дерьме… Она не видит. Где, отвечает, Надя? Где? Я говорю: да где? – везде! А вонь такая, Саша, с птичьего помета! Что и не сказать… – сказала мать, опять открыла крышку, закрыла, и к уборной понесла…
Глава 14
Нож
– Что смотришь, идол? Продал, растащил Россею? – спросила мать, и Шишин вздрогнул, обернулся, но мать спросила президента, не его. – Ты, Саша только посмотри, какую лялю наел на наши деньги, паразит! На наши кровные наел, не на свои! – сказала мать, и Шишин равнодушно посмотрел на президента, который продал, растащил, наел.
– Страна переживает…, – начал президент.
– Кровопийца, – сказала мать, и выключила президента пультом.
– А цифра есть? – поинтересовался Шишин, он ждал, чтоб цифры попадались в сыре. Он цифры сырные копил на счастье, с цифры «8» начиная. Теперь в жестяной банке под кроватью единицы не хватало Шишину на миллион.
– Какие цифры, Саша, Бог с тобой! Без цифр теперь фасуют, лишь бы, что не распродали допродать. По триста сорок восемь пошехонский! Из пальмового масла варят все, скоты! Сметану, молоко…. И костромской у них из пальмового масла, и вологодское по семьдесят, и хлеб из нефти. Совесть потеряли, Бога не бояться! И вкус совсем не тот. Проклятая страна!
Смеркалось. Дремы да зевоты овладели миром. Ходила мать, гремела, грохотала, искала что-то, заставляя ноги поднимать, мела, скребла… Над стопочкой сгибая палец стучала в темный пузырек, и нацедив тринадцать на глазок, пила.
– Ох, Саша, что-то худо мне: печет в боку под левым. Печет… и жжет и колет, будто что застряло. Взгляни, не видишь, что? – дрожащим пальцем указала бок. Из бока нож у матери торчал: большой, кухонный, тот которым к посту капусту рубит – ручкой деревянной был вперед.
– Нож у тебя … – дивясь на нож в боку, ответил он.
– А я-то все ищу, ищу его! – всплеснув руками, говорила мать, – совсем дурная стала, осподи прими…
– Достать?
– Не надо, что ты! Нож к дурному снится. Зарежешь ты меня во сне, и наяву зарежешь, понял?
– А это разве я тебя зарезал? – удивился он.
Мать не ответила, вздыхая, подошла к столу, и слепо жмурясь, кипяток дрожащими руками из чайника лила без кружек, на клеенку, на пол… Шишин отшатнулся, боясь ожечься, с ужасом открыл глаза…
– Что смотришь? Пей, давай, остынет! – сказала мать, и Шишин, обхватив руками кружку, отхлебнул пустую воду, без сахара и без завару…
– Постный, – объяснила мать.
– А где твой нож большой кухонный, которым ты капусту бьешь?
– Твое какое дело?
– Так..
– А так у черта под хвостом, – сказала мать.
Сквозь занавеску тускло засмотрел фонарь подъездный, между оконных рам пылились мотыльки. По кухонным углам сгустилась синева, огромными тенями; шурша в лампадном круге, скользила моль. Мать новости включила, и, губы трубочкой сморча, пила вприкуску кипяток остывший, макая челночок, чтоб зубы не крошить. «И-эх!», – подумал он, и снова задремал.
Стучали спицы, ниточка тянулась, на дне корзинки шерстяной клубок скакал, и ловко петелька к петельке ложилась пряжа бабушке в колени. Бабушка Тамара на стуле вместо матери сидела, шапку Шишину вязала. «Умерла, а сниться…», – во сне подумал он, и хмуро посмотрел со стула, как бабушка Тамара вяжет шапку, хотя и умерла.
Он шапок не любил. «Наденешь шапку, – думал он, – под ней жужжит, кусается, и ползает, как будто голову в осиное гнездо засунул...»
– Шапку вяжешь?
– Шапку…
– Баба, не вяжи мне шапки!
– Это не простая шапка. Шапка-невидимка! Её наденешь, да и нет тебя. А снимешь – вот и ты! Хоть кассы грабь, хоть в поезд без билета, – пообещала бабушка Тамара.
«Хитро…, – подумал он. – Надену шапку, нож возьму кухонный, пойду на лестницу, Бобрыкина зарежу», – и с нетерпеньем ждал, когда повяжет бабушка во сне свою чудную шапку.
Бабушка Тамара позвала. Он слез со стула, подошел, и низко бабушка покойница Тамара шапку натянула, низко… на глаза.
– Ничего не видно…
– Тебе не видно, и тебя не видно, – сказала бабушка Тамара и пропала. Он заморгал со сна, увидел мать.
– Чего тебе? – спросила мать.
– А помнишь, шапка у меня была?
– Мне дурь чужая память не отбила, чего ж не помнить? Помню! На трюмо. Где бросил, там лежит.
– Не эта шапка, та, другая…
– Другие шапки, Саша, пусть другие носят, – сказала мать, – а ты своим умом живи, и под своей!
«Своим сама вяжи…», – подумал он и вышел, в коридоре на колени опустился возле шкафа, и с нижнего на верхний стал перебирать.
– Вот так я есть! – сказал однажды Шишин Тане, и бабушкину шапку натянул до подбородка. – А так вот нет меня! Теперь могу куда угодно так пойти и банк ограбить, никто и не увидит, поняла?
– Ага, – сказала Таня.
– Ограблю банк, в Австралию поедем, да?
– Поедем, – согласилась Таня.
– О! Шишкин лес! Здорово, человек без головы! – сказал Бобрыкин ненавистный, и, сдернув шапку за помпон, на мяч футбольный надел ее и гол забил. «Четыре гола…», – вспомнил он.
«А всех прощать другого дурака ищите, – думал, из старой шапки вытрясая на пол моль и мандаринную труху, и шапку натянув пониже выскользнул за дверь. – Убью Бобрыкина, и точка. Хватит! Не убивать бы мог его, конечно, но все-таки уж очень ненавижу и убью…»
Танюша открывать пошла, звонок дверной услышав, откинула глазок, и увидав переступавшего от нетерпенья Шишина, в натянутой под горло старой шапке с заячьим помпоном, накинула цепочку и на цыпочках от двери отошла.
Бобрыкин ненавистный по черной лестнице, насвистывая, поднимался, Шишин хмуро сверху вниз смотрел.
– Здорово, Козаностра! А тебе идет, брателло! Один совет: ограбишь банк, ложись на дно…
Глава 15
Изумрудный город
– Чего полез, чума? – спросила снизу мать, и Шишин хмуро посмотрел с буфета.
– Бутылку зеленую ищу, пустую. У тебя была.
– Под уксусом она. Тебе зачем?
– Без уксуса была, – сердито буркнул он.
– Что было, то прошло, по прошлому девятый день поминки, дурень! Слезай мне, ну?! – велела мать, и Шишин слез, и в комнату свою пошел, на дверь закрылся. Думал, вспоминал…
– Идем! – однажды Шишину сказала Таня.
Он со скамейки встал, пошел за ней. Танюша шла, под ноги глядя, сапожком сковыривая наледь так, как будто что-то на земле искала.
– Чего ты потеряла?
– Ничего.
– А что тогда ты ищешь, если ничего? – он думал, ищут только то, что потерялось.
– Изумрудный город.
– А… – И долго они бродили по дворам, туда – сюда, искали Изумрудный город. Было холодно и некрасиво. Старый серый снег лежал повсюду, серые тянулись тротуары к серым люкам, с серых веток с тоской смотрели птицы, серые ободранные кошки пересекали путь, на сером серым март дорисовывал февраль.
Танюша наклонилась, стеклышко зеленое подняв с земли о куртку вытерла, и сжав меж пальцев, поднесла к лицу, и через стеклышко куда-то посмотрела.
– Нашла? – поинтересовался он, «не потеряешь – не найдешь» – так говорила мать, найдя сберкнижку, паспорт, или направленье на анализ.
– Нашла… – сказала Таня, протягивая Шишину стекло.
Он взял его, и ничего не понимая, смотрел, вертел в руке.
– Не так! Смотри через него!
Зелеными щеками улыбаясь, в зеленой куртке и зеленой шапке, в зеленых сапогах, колготках и с зеленым носом стояла Таня, за спиной ее зеленое, как светофор, включилось солнце; в зеленом небе салатовые плыли облака, зеленые сугробы лежали на земле зеленой у подъездов, и окнами зелеными смотрели зеленые дома. Зеленая ворона, нахохлившись, сидела на заборе, и забор, который раньше не по настоящему зеленым был, стал через стеклышко по-настоящему зеленым…
– Изумрудный город… – догадался он.
– А то! – сказала Таня, и дальше шли, меняясь стеклышком, и стеклышком меняя ненастоящий черно-белый город, на город настоящий, что нашли.
– Иди, сходи куда-нибудь, – увидев Шишина, смотрящего сквозь банку, сказала мать. – Торчишь в дому как тать, смотреть темно…
– Куда куда-нибудь?
– Куда-нибудь! – сказала мать.
И он пошел.
Навстречу Шишину ручьи бежали. На небе, синие, раскинув крылья, светило солнце, жмурилось в глазах, оранжевым котом сворачиваясь в капюшоне. «…Диез, дубль-диез! Бемоль, дубль-бемоль! Бекар…!» – кричало сверху, отовсюду. В два голоса тремоло пели галки, в репризах галкам вторили грачи…
«Поналетели», – хмуро думал он. Дышало кошками, сырой землей, печеной булкой; все спешило, в спешке этой пугая Шишина автомобильными гудками, катилось вниз, назад, ему за спину, ликовало там, хихикая, и лезло на глаза… «А, может быть, еще застынет?» – думал он.
Стеклышко зеленое на тротуаре лежало, он остановился, наклонился, поднял, рукавом утер, поднес к глазам. Мир стал зеленым.
«Нашел!» – Зеленое опять сияло солнце, зеленый тротуар бежал навстречу, в нем зеленые ручьи крутились, зеленые на Шишина смотрели окна, крыши, воробьи, к зеленой арке зеленая бежала такса, женщину зеленую вела за поводок…
Он крепко стеклышко в кулак зажал, и, развернувшись, заспешил домой…
К Танюше.
Седая арка, снег седой и двор, песочница, качели, все седое, подъезд, два лифта, ящики почтовые, пролет, еще пролет, и запах пирожков с повидлом плывший из закрытой Таниной квартиры, как всякий выплывать умеет вкусный запах из квартир, где пирожки пекут с повидлом на обед… Он позвонил. Она открыла.
– На! – Кулак раскрыв, сказал. Танюша вскрикнула, по пальцам, по стеклу рябиновые капли стекали, падали на пол.
– Здорово, Брут! Кого зарезал? – спросил Бобрыкин ненавистный, из кухни появляясь с пирожком, и, с ужасом отдернув руку, Шишин выронил стекло. Оно на миг блеснуло зубом изумрудным и погасло.
Мир погас.
Глава 17
Страшный человек
Сегодня снова мне приснился страшный человек. Его ты помнишь, Саша? Ты не мог забыть… – писала Таня. – Я шла одна, вдоль школьного забора. Смеркалось, от земли осенний, зябкий поднимался пар, так тихо опадали на тропинку листья…
За спиной я вдруг услышала почти забытый свист, во сне подумав, что это, может быть свистит у вас на кухне чайник. Я от чего-то в детстве всегда его боялась свиста. Засвистит и вздрогну. Обернулась. Никто не шел за мной, следы мои, едва заметно на дорожке проступали, и только этот свист, тоскливый и протяжный, без мотива, все делался пронзительней и ближе. Точно того, кто рядом был, уже скрывал туман. Он появился не из-за спины, он шел навстречу, в карманах пряча руки. Вскрикнув, я побежала к дому, прочь от него, от этого ужасного, мучительного сна. Но Саша! Саша… я забыла, что нельзя во сне бежать от сна. Свист становился тише, глуше, только ветер теперь шумел в ушах моих и под ногами, как в прихожей вашей постеленные газеты, шелестела тусклая листва. Я у подъезда обернулась снова. Страшный человек, остановился у забора, не решившись из сумерек ступить в фонарный свет. Переведя дыханье, с облегченьем распахнула дверь. В дверях, стоял Бобрыкин. Он ухмыльнулся мне и засвистел. Мне страшно, Саша. Береги себя, и берегись его!
Твоя ТБ.
Дверь выстрелом закрылась. Шишин оглянулся. За ним цепочкой шли следы. «Зарезал…» – щекотом лакричным за ворот шепнуло. «Господи, помилуй дурака!» – сказала мать, и со спины и впереди крестила пустота, и точно ящер по ступеням, мотая и крутя седое эхо к шахте «резал-езал» волокло…
«Зарезал-езал-резал… Кто? Кого?» – с тоской подумал он.
– Себя! – сказала мать. – Зарезал без ножа, живьем зарезал….
– Меня… – лизнуло ухо холодком лакричным…
«Тебя? Нет, я не мог тебя…», – подумал он, и всхлипнул, окровавленную руку подставляя лампе, та, мигнув, погасла.
– Резал-езал… повторила темнота.
Он слипшимися пальцами перил коснулся, и, не оглядываясь, вниз пошел, сперва едва переступая, а потом быстрей. Следы не отставали. Следом шли.
– Давай следить! – однажды предложила Таня.
– Давай. За кем? – поинтересовался Шишин.
– Да не за кем, а сами на себя! – и, в лужу наступив, пошла следя.
И Шишин поскорее тоже в лужу наступил, погуще. Заследил за ней. Перед подъездом кончились следы у Тани.
– Я умерла!
– А я? – поинтересовался он.
– А ты живой. За всеми, кто живой, следы! За кошками, за голубями, только мертвые следов не оставляют, понял?
– Понял… – согласился он, присел на корточки, и, сняв промокшие ботинки, Тане протянул.
– Смотри! – она сказала. Шишин посмотрел.
– Да не туда! Туда! – и Шишин посмотрел туда, а не туда.
Из серой дымки зябкого тумана вдруг появился страшный человек.
«Все страшное, – подумал Шишин, – появляется внезапно». Из темноты, из-за угла, из арки, из-за поворота, как Бобрыкин. Неожиданно, но так, как будто ждал его. И даже легче, когда уже появится Бобрыкин ненавистный, чем просто так, когда еще не появился, ждать…
А страшный человек шел вдоль забора, накрест обхватив себя руками, выкидывая ноги впереди не очередно, а беспорядочно, как будто путал их. «Ужасно страшный человек, – подумал Шишин, желая человеку страшному пройти скорее. – Все страшное когда-нибудь проходит», – думал он.
Но страшный человек остановился, оглянулся что-то бормоча, и, не заметив Шишина с Танюшей, наклонился, высматривая позади и в круг себя, сложился пополам, присел на корточки, и так сидел крутясь, перебирая траву.
– Как паук… – шепнула Таня, и Шишин согласился, как паук…
А страшный человек вдруг вскрикнул, и вскочив помчался вдоль забора странными скачками, точно крыльями летучей мыши хлопая полами серого плаща.
– Убил кого-то, – прошептала Таня, – теперь, наверно ножик ищет, чтобы перепрятать, или зарезать им еще кого-нибудь…
– Пошли домой?
– Смотри, опять… – хватая за рукав, сказала Таня.
Страшный человек обратно возвращался, свирепо наступая на следы.
– Следы стирает…
– Вижу…
– Сейчас сотрет, и все, ищи свищи… – пообещала Таня.
А страшный человек, перетоптав следы, остановился, тусклыми глазами вглядываясь в сумерки двора, и снова не заметив Шишина с Танюшей, расправил плечи, руки опустив в карманы, пошел насвистывая дальше вдоль забора, скрипя шагами в кромке выцветшей травы…
«Ищи-свищи», – подумал Шишин, выйдя из подъезда, в карман засунув окровавленный рукав, спустился по ступеням, обернулся, и, следы заметив, нахмурился, и торопливо прочь пошел от них.
Глава 17
Звезда
Весенний мир сковали льды, холодный ветер прокатил пивную банку; окрепнув, бороды сосулек светились мрачным электрическим огнем, забор сомкнула тьма. Двор опустел: застыли старые качели, озябшая ворона обреченно сникла на ольхе, и изможденный мокрый пес простыло гавкнул... Сухая корочка земли покрылись белой взвесью, вечер густо красил небо в синь, в домах зажглись огни. На небе звезды.
Шарахнувшись в фонарном круге, по площадке детской мрачная метнулась тень, дыша затравленно и хрипло, наискосок прошлепала по луже до подъезда, дверь распахнула, оглянулась, скрылась. За тенью в дверь пропрыгали следы.
Прохладой сумрачной вздохнуло из парадной, щами водяными. Пожарный щит пугал скрипучей щелью… Удавом в нем свернулся пыльный шланг… Вдоль ящиков почтовых пульсируя горели лампы, выло в шахте. Остановившись, Шишин ногтем подцепил замок, откинул дверцу, ухватив конверт прижал к себе.
Шишин оглянулся. Неторопливо, неотступно шли за ним следы. Не отставали. По черной лестнице поднявшись быстро, к холодной створке прислонившись лбом, он долго ждал, когда откроет мать, и у следов, что неотступно шли за ним, ему мерещились Бобрыкинские рожи, и, разевая сбитые подошвы, усмехались в спину проклятые следы. Мать не открывала. Все не открывала и не открывала мать… и все не открывала и не…
Мать открыла.
– Стой, не входи! Не видишь, новую газету постелила? – сказала мать, и дверь закрыла. Звякнула цепочкой. Шишин дико посмотрел на дверь, попятился, ошеломленно оглянулся. Следы, дойдя до двери, в старые ступали каблуками, и превращались в новые следы.
– Одиннадцатый час! Где только черти носят, паразита? Дай, ноги хоть сниму, нагадишь, – и, выставив за двери табурет, велела сесть.
- И ноги протяни! – Сказала мать.
Он сел и, над порогом ноги подняв, вцепившись красными руками в сидень, терпеливо ждал, пока мать снимет сапоги. Она сняла с носками, стельками за войлок, кряхтя, бубня, шурша газетой, растворилась в сумерках прихожей, Шишин босиком пошел за ней, и, перейдя порог, с Бобрыкинской усмешкой оглянулся на следы.
Следы остановились. Мать вышла с тряпкой, согнувшись пополам, подтерла, ползая руками, пол перекрестив, закрыла дверь.
– Есть нечего, – сказала мать. – Не те тут времена, чтоб в полночь каждый ел. Творожник ставила, сгорел, не будешь?
– Нет, – ответил он, и в ванную пошел, и долго мылил руки мылом земляничным, думая про Таню.
«Таня… Таня, Таня, Таня», – думал он.
– Полей мне там, полей! Ливмя-ливми, хоть все излей, проклятый! За воду в ЖЭКе черт за мать заплатит! – из-за двери пообещала мать, и застучала, загремела кулаком по четырем стенам… Он кран закрыл, и закрутил его, понюхал смылок земляничный, постоял и вышел.
Тусклый луч тянулся из-под ванной к материнской спальне. «От спальни матери уже не далеко к себе», – и по лучу пошел.
– Творожник-то будешь? – из-за спины спросила мать, он вздрогнул, замер. – Поел бы, Саша, с чаем… сла-а-дким.… целый день кровинки не было во рту….
Он не ответил.
– И свет опять не гасишь, чтоб ты провалился! – сказала мать и погасила свет.
«Сама ты …», – думал он, и в темноте кромешной, не оборачиваясь, дальше шел, рукой скользя по стенам, на ощупь, тапком проверяя газетный шевелящийся настил.
– …Дом твой во тьме, – причитывала мать, – постелю постелю, в преполовине дней твоих к вратам Шеола, и с тем низвержена твоя гордыня будет, со всем шумом твоим. И под тобою червь, в тебе, и черви твой покров. Так каждый, как и ты, сравняется меж мертвых, к мертвым брошен, где адом правит низверженный дух … Ибо живые знают – зна-а-ют! – что умрут. И ты умрешь. И я.
«Шеол, шеол, шеол…», – шуршала под шагами новая газета, и новые следы, невидимые жуткие следы, как мать заупокойную читали в спину… Всегда боялся Шишин: может мать однажды застелить газетой не паркет, но пропасть преисподню… в ад. И дух мерещился тлетворный, слезливый погорелый дух, и снилось, загорается газета; похрустывая, тлеет плинтус деревянный, и разъедает буквы темнота с оранжевыми язычками по краям… «Это творожник у матери сгорел», – подумал он, вдыхая запах выстоянной гари, и, успокоив так себя, опять пошел.
– …И помещу тебя на глубину земли в пустынях вечных, с сошедшими уже туда, и теми, что как ты, путем земным идут в нее… – рассказывала мать. – Тогда настанет день, в каком из озера уйдут все воды, улетят все птицы, вымрут звери, иссякнут реки, высохнут моря, и ляжешь, не восстав, и не восстанешь до скончания небес, и до скончания времен не пробудишься, кто бы не буди тебя. Насколько не поставь будильник. И источая дух, сотлеешь от безверья и исчезнешь навсегда.
– …Сам Лазарь, умерев, таким тлетворным духом исходил четыре дня до воскресенья, когда пришел за ним Христос, чтоб воскресить его. За Лазарем и за девицей пришел Иисус, по вере их. А за тобой, безверцем, за грешником чумным, который только ходит-бродит, придет Иисус Христос? Придет? – поинтересовалась мать.
Он не ответил, вспомнив, что никогда за ним еще никто и никуда не приходил… а только Таня… И Шишин снова думал… «Таня… Таня… Таня…»
– Что смотришь? Что кряхтишь, как сто грехов? Простое говорю тебе! Лишь верою воскреснешь! Понял, наконец? – бубнила мать, над преисподней новую газету устилая. – И будешь вознесен на небеса, как Лазарь и девица были. Только так!
…И так сказал Иисус, для тех, которые как ты, «не верую» смеялись: Все выйдете отсюда! Ибо спит всего лишь друг наш Лазарь, и Я пришел, чтоб разбудить его. И о девице так же им сказал Иисус: Девица эта, что лежит, не умерла, но спит. Войдя, Он взял ее за руку, и та девица встала и пошла…
И Шишин снова заскользил руками по стенам на ощупь. Газета кончилась. Он в комнату свою вошел, на дверь закрылся, и, обернувшись, посмотрел следы. Следы ушли.
В окне луна горела. Шишин подошел к окну, луну прикрыв ладонью, посмотрел через стекло. Над крышей школьной белая звезда взошла. «Красивая… как Таня…» Пальцы прислонив к оконному стеклу, считал, на сколько будет пальцев до звезды. И выходило до нее четыре.
– Спишь, идол? – щурясь в темноту, спросила мать, на щелочку приоткрывая дверь, и Шишина не разглядев, перекрестила пустоту. – Спишь… ну, Христос с тобой, поспи…
Часы пробили полночь. Шишин из-за пазухи достал письмо, и, опустив лицо в бумагу, стоял, вдыхая лакричный и земляничный дух.
Шишину от Тани.
Улица Свободы, 23 Здравствуй мой хороший, мой родной, любимый Саша! Как твоя рука? Боюсь, что ты забудешь перекисью водорода продезинфицировать порезы и йодом смазать их. Ты береги себя, родной, любимый, береги себя! И обязательно все сделай так, как нужно – йодом раненую руку смажь, бактерицидным пластырем заклей! Ты ведь не знаешь просто, сколько бактерий могло быть в этом стеклышке проклятом, лучше б ты не находил его! Зря я напомнила тебе про Изумрудный Город. Быть может, даже зря вообще придумала его… Придумала? Нет, нет! Он был, любимый… был. Он есть… он есть… он есть… Он есть у нас с тобой. У нас с тобой. Как хорошо мне, как легко мне называть тебя любимым… Тот – чужой. Чужы его слова, его шаги, дыханье, запах, его мечты… О, боже! Это ли мечты? Их так нельзя назвать в бреду, в беспамятстве, в безумье! Его глаза меня пугают. Он мне никто, ничто… Мое проклятье, мои разбитые надежды, мой скомканный бумажный самолет. Моя чудовищная, страшная ошибка. Мое – Ничто. Я в никуда смотрю, любимый, и ничего не вижу в нем, не слышу в нем, не чувствую, не осязаю… точно умерла. И может так и есть, что умерла, или наоборот, не умерев, осталась жить в умершем мире? Тлеть? Дотлевать, как уголек костра, какой уже никто не оживит и не раздует? Растаявшая искра в небе. Небо… Я помню, Саня, какое синее оно бывает… Сапфировое небо. Нарисуй какой-нибудь художник небо настолько синим, как оно бывает, кто ему поверит? Кто ему поверит? – я и ты. Зачем внесли в календари осенних птиц, птиц, улетающих на юг, весенних птиц, пусть тех же самых, возвратившихся обратно… Память – не хочу, и помнить не хочу, но не могу не помнить… Я памяти своей еще не подписала приговор. Куда уходит детство... в нем хочу остаться… Я знать хочу, что Изумрудный город есть… Есть небо разноцветных рыб, есть море пестрых птиц с оранжевыми плавниками вместо крыльев, есть замок на невидимой горе, волшебные зеленые очки, в которых видно гору, и в горе есть потайная дверь, ведущая к сокровищам несметным, что, замок покидая навсегда, от человеческого глаза жадные заколдовали гномы. Великанья пещера, и лилипуты! Лилипуты, а не карлики, не клоуны смешные, которых нет печальней, не злые дети… Феи, добрые волшебники! Кольцо надежды, которое на пальце повернуть три раза нужно, чтобы оказаться в той стране, которую придумал. Какую загадал, и сбудется страна. Где люди летают на драконах верных, а в полях растут между ромашек с васильками – самоцветы. Где перед рассветом эльфы собирают звезды в заплечные мешки, чтобы к закату снова высыпать их в небо… Где все, что мы с тобой придумали, осталось… Где-то осталось. Где? И неужели только в осколках битого стекла, что замела в совок, после того, как ты ушел? Как можно что-нибудь увидеть, милый, в городе с названьем НИКОГДА… Там не горят фонарные огни, в которых осенью под «Августин» кружатся апельсиновые листья. В которых дождь оранжевый идет и снег похож на сахарную вату… Фонарные огни, в которых пропадает темнота, и где весной махровые сиреневые ветки похожи на плывущие над миром облака… Не забываются разбитые коленки… Не забываются обиды… Я это знаю, мой родной. Разбитые надежды опаснее разбитого стекла, их осколки застревают в сердце, как осколки кривых зеркал из сказки… Мне приснилось, таяли в лучах проснувшегося солнца звезды, и, тая, росяными каплями стекали с листьев в мостики зеленые травы…
Твоя ТБ.
Глава 18
Тумбурлентность
Бубнило радио, стекало ржавой каплей в подставленный для капель битый таз. Усами на часах кухонных шевелили стрелки. Квадратов на клеенке было восемь с половиной (можно и не проверять) и шесть кругов. Облокотясь о подоконник, мать в окно зевала, утро неподвижно стыло между стекол, в межоконьи лежали крылья прошлогодних мух. Из времени росли и упирались в небо башни, кончалось то, другое начиналось, заканчивалось тоже. На площадке детской таял снег.
– Добрый день, месье! Я капитан-пилот эскадры Дженни Грин. Мы рады вас приветствовать на нашем воздушно-временном лайнере! Погода в Сочи двадцать девять плюс! В рабочий полдень два часа! Температура Атлантического океана 36 и 6, в Камчатке полночь! В Атлантиде все спокойно. Затонула. Ваш билет на третье место справа, у окна. Ленч в шесть. Полет составит сколько захотите лет вперед, назад. Что будем пить, месье?
– Я газировку, – ответил Шишин, и из лужи налила Танюша ему в ведерко.
– Лимонад!
Взяв «лимонад», он на скамейку сел на третье место справа у окна. Все было видно. Двор, песочницу, Танюшино окно, качели…
– Не так, а так! – И Шишин сел не так, а так, как показала Таня, хотя так было неудобно «из окна» смотреть.
– Пристегнись, мистер! У нас при взлете тамбурлентность будет!
– Что?
– Ну, тамбурлентность! Это как бермудский треугольник. Не слыхали? В нем пять бомбардировщиков пропали! Торпедоносцы Эвенджер! А это было в ясную погоду, при спокойном море. «Мы направление определить не можем! – сказал по рации отважный капитан-пилот Мартин. – «И опускаемся в неведомые воды!» А лейтенант Тейлор, которого ждала невеста, перед исчезновеньем сообщил, что потерял ориентировку, и отказали компаса!
Он мрачно посмотрел на капитан-пилота Дженни Грин, вперед, за ним, на горку, пристегнулся.
– Проверьте спасжилеты! Кнопка СОС внутри! У Вас вот тут, – и Таня показала слева, где кнопка СОС у Шишина была. – И нате вам конфету, ешьте-ешьте! При трансплантации вам уши может заложить, когда войдем в пространственную временную яму.
Шишин карамельку взял, и в карамелевой щеке надулся флюс.
– Теперь держите пульт, в маршруте укажите цель поездки, установите дату, время, год! – командовал пилот, протягивая Шишину картонку и мелок. В какое направленье полетим. Париж? Венеция? Вперед? Обратно? Вам Будущее, прошлое, хотите к динозаврам? Или, может быть, где Пушкин жил? Хотите Пушкина спасти, предупредить перед дуэлью? А можно даже пулю на пустую в револьвере у Дантеса подменить!
Но Шишин не хотел к Дантесу, и молчал.
– Вы на экскурсию, или по делу, мистер?
– Я? По делу…
– По делу так и напишите: цель поездки дело! Все можно изменить благодаря машине нашей! И если в прошлом вы кого-нибудь убили, вернемся, мистер, чтобы никого не убивать!
– А я не убивал! – ответил он.
– Тогда заглянем в будущее, может, там кого-нибудь убьете, и сразу же исправим, чтоб не рисковать!
Он посмотрел на капитан-пилота в школьном платье, в распахнутом пальтишке в клетку, звездочкой на фартук, в берете синем, с рыжим локонком, с рулем от трехколесного велосипеда, и на картонке мелом написал: «Обратно. Улица Свободы, 23».
– А у меня машина будет, во-о-т такая! – вдруг сказала Таня. – Нет: Та-А-Кая!!!!
Шишин посмотрел какая будет у нее машина, пошире воздух разведя руками, показал какая будет у него.
– А у меня тогда такая! – Таня отбежала к горке, и от ступенек прочертив ботинком до скамейки, посмотрела, щуря в солнце хитрый глаз.
– А у меня тогда отсюда и до туда! – фыркнул Шишин, показав, что от скамейки, где кончалась Танина машина, его машина будет до забора, и даже чуточку подальше, носом в грязь.
– А у меня с сиреной! Эу-эу!
«Эу, эу… у меня давно с сиреной будет», – думал он.
– А у меня летучая машина! Во-о-т такая! – и Таня, растопырив руки, полетела по двору.
«Летучая машина лучше не летучей», – подумал он, и тоже растопырив руки, зажужжал. Танюша долетела до подъезда, «из машины вышла», по ступеням поднялась к двери.
– Смотри!
Он посмотрел наверх.
– Я выхожу такая, вся такая! В бальном платье! Тут бретельки, там… А тут вот шарф такой! – Танюша показала воздухом какой. – Тут у меня такая сумочка, с которой тетя Нита вечером в театр ходит, туфельки такие, и манто. Я вся такая! Тут моя летучая машина подъезжает, и из нее выходит весь такой, он как в кино, как Бонд, или Учитель танцев Зельдин, мне открывает дверь! И я… сажусь…
Он, помрачнев, смотрел, как Таня по ступеням вся такая спускалась в бальном платье в белое летучее ландо, в манто, и с сумочкой, как тетя Нита, и тот который весь такой, как из кино, «учитель танцев» ей открывает дверь. «Бобрыкин ненавистный…», – думал он.
Машина зафырчала, выставив подкрылки распугала турбо трубами листву и поднялась над двориком, над двориком, который сверху наверно был похож на маленький картонный коробок.
– А я? – подумал он.
– Да не туда смотри, туда! – сказала мать, и Шишин вместо неба посмотрел туда, куда велела мать.
Сверкая никелем, облитая свинцовым лаком въехала во двор машина, кошачьими глазами подмигнула. По ступеням, Оленьку держа за руку, спускалась Таня. Бобрыкин ненавистный вышел, заднюю им дверь открыл. Захлопнул. Усмехаясь, посмотрел наверх.
– Тьфу! Паразит! Ничтожество такое… Дуремар! – сказала мать. – И эта вон твоя, смотреть аж тошно, разоделась, егоза! Всегда была такая, с детства! Проститутка!
Шишин молча посмотрел на мать.
– Что смотришь, дурень? Ну, смотри, смотри… Хоть обсмотрись, а локоть не укусишь. Ишь, слюни распустил, там по тебе не плачут. Рот, говорю закрой! И завтракать садись…
Мать отошла к плите, скрипя половником горелую снимала с дна перловку. Он выдохнул в стекло, и пальцем в выдох написал: Т.Б. Мать крышкой треснула, он вздрогнул, поскорее стер от матери окно.
Глава19
Новый год
Купила в суповом наборе мать говяжьи ноги, каленые, худые, ледяные, все в плесени зеленой, и шерсти. Довольная сидела, разложив копыта на столе, смотрела.
-Дешево копыт взяла, на праздник, Саша. К следующему Рождеству…
Представив, что в копытах этих коровы по земле ходили, и мычали, траву ели, Шишин недовольно посмотрел на мать.
-Что смотришь? На пятьсот взяла всего, последние, с поддона! Хорошие копыта. Не то, что край говяжий. Дрянь говяжий край у них. – Сказала мать.
«Говяжий край…? – подумал он. – Там, где коровы по земле ходили…»
-Студень наварю, – пообещала мать. Но Шишин не любил, чтоб студень из копыт. «Сослепу как всегда процедит плохо, и будешь с шерстью есть…» – подумал, морщась, и ушел к себе. На дверь закрылся. Лег, калачиком свернулся, закрутился в плед.
«До следующего Рождества… – подумал с облегченьем, – долго…»
Приснилось Шишину, что в актовом сидели зале с Таней, на занавесе звезды золотые, бумажные снежинки, дождики, флажки, и в шариках на сцене огромная живая елка, юбку все натягивала Таня на коленку, где штопка у нее была.
-Ты в Дед Мороза веришь?
-Верю.
-И дурак! Смотри! Не видишь, у него из-под тулупа физрука штаны торчат! Снегурочка, не видишь, Ольга Санна?
-Ну и что?
-Дурак ты, вот что!
-Почему дурак?
-А что ты попросил у матери под елку?
Но елку мать до Рождества не разрешала ставить. И Шишин ничего еще не попросил.
-А я коньки, – сказала Таня. – Я видела, как мама вчера у Спорттоваров в очередь стояла. Точно, купит мне коньки.
-А мне велосипед, – ответил он.
И возле Дома Пионеров, и вообще под каждой елкой велосипед искал.
«Ну не в сапог же спрячет Дед Мороз велосипед? не влезет! Или все же?»
Под сочельник топором рубила мать копыта, в студень. А их еще вари, вари…
-А сервелата можно?
- До Вифлеемской нет, нельзя!
Ко Всенощной, перекрестив иконы мать вела. И было много звезд на небе, колко, и среди них, закинув голову искал одной звезды, из Вифлеема, после которой можно будет сервелат.
Холодным синим льдом она сияла.
-Эта?
-Да.
И значит, можно будет сервелат…
А под ногами, на ступенях храма хрустел припорошенный снегом лапник, и отовсюду ярко так и густо свечи, свечи, ладан, воск…высоки купола.
- Великое повече, Саша… – Шепнула в ухо мать.
«Языцы разумейте, покоряеся ему….» – сказал священник, и царские врата открыл, и на серебряной парче, горели тоже свечи, и скатерти белым белы, как днем сугробы, как в окнах льда узорные следы.
«Услышите, и покоряйся яко с нами Бог...»
-А сервелату можно?
-Завтра Рождество. Дотерпишь. Спать ложись.
И ночью долго выла за окном метель, тепло и тихо с синего мороза в доме было, и снилось Шишину, что вот, волхвы, одеты в волчьи шкуры вдруг из шкафа вышли, и бродят в кухне на двух лапах, сервелат грызут, и языками из подноса студень лижут. И пело в голове «Твое Христе...» и «Дева днесь присущего рождает…»
«Христорождаши слави…», серебряные вьюшки за окном, и в веточках морозных все стекло. Крахмально белый день, как простынь смерз на бельевой веревке, снег вьюжный, скрипкий, необыкновенный снег. «И убояться знамений твоих живущие в пределах, и утро, вечер возбудиши славою твоей, и напоиши бразды, равняши глыбы, стези источат, на лето благости твоя…»
«И дух его на мне, его же ради поможи нам в благости живущи, и исцелите сокрушенным сердце мо отпуще, слепым прозренье, и нареши Лета нам Господнее твое. Одъяша овни, овчи, удоля и множить пищи воззовут и воспоют…»
- На святки прежде приходился, Саша, Новый год. Но черти эти, будь они неладны, приняли закон от юлианского сменить в григорианский, и новый год теперь на самый пост. Грешно. Народ налижется в свино, а первого, на светлый день, на Вонифатия дожрется. Сволочь, сволочь Саша, наш народ.
-А можно сервелату?
—Тьфу! – Сказала мать, и сервелат из холодильника достав снимала с сервелата тряпку и фольгу, любовно протирала с пленки пот и плесень, и завернув обратно, убирала. Давала горькой каши с ситным постным.
- Сегодня первое. На первое, к сословью мучеников принят Вонифатий. День его, – садясь напротив, говорила мать. – Был мученик великий, истин, пострадал крепчайше за Христа, мощами возвратив и верою пославши Вонифатий блажне. Молить за нас, в прощение грехов…
Но Шишин Вонифатия не любил за сервелат.
-А как терзали, мама, Вонифатия?
-Сто раз рассказывала… хватит!
Но Шишин ждал, что мать в сто первый раз расскажет, как терзали Вонифатия, смотрел на мать.
«Был Вонифатий раб у римлянки богатой Аглаиды. И в беззаконные сожительства с ней состоял. Как эта тварь твоя с Бобрыкиным до свадьбы. И вот обоих затерзало. Чтоб омыть грехи решила Аглаида Вонифатия послать к мощами святых, чтоб Храм потом на них воздвигнуть. Поехал Вонифатий за мощами, приехав же, пошел на городскую площадь, где мучили, пытали Христиан. И потрясенный стал тогда он руки мученикам целовать, в виду у стражей. Тогда схватили Вонифатия и начали пытать.
-А как пытали?
-Пытками пытали.
-Какими?
-Били. Так уж били, Саша, что мясо отпадало от кости, кололи иглами под ногти…
-Умер Вонифатий?
-Господь благословил не умереть.
-И что тогда?
- И влили в горло олово расплавлено ему.
-Тогда он умер?
-Силою господней нет, – сказала мать.
-А дальше что?
-А дальше, на следующий день увидев, что Вонифатий жив, то кинули в котел его с кипящими смолами.
-И умер?
-Нет! Но, только вспыхнув вылилась с котла смола в неверцев и обожгла мучителей его.
«Никак не умирает Вонифатий этот…» – мрачно думал он.
- И был тогда приговорен он к усеченью. И в усечении из ран его пролилось молоко. Увидев это уверовали многие в Христа.
-От усеченья умер Вонифатий?
- Да. – Вздохнула мать. – А следующим утром, Аглаида слышит голос: «Исторгни нечистоты мира ся, и будущих мучений, возврати к ангельскому бытию. Прими того, который прежде раб был твой, а ныне брат нам и служитель, и будет он хранителем души твоя. Молитвенником за тебя» – дорассказала мать.
-А сервелата можно?
-Нет! – сказала мать.
-На, Сашка, ешь! – сказала Таня, и из портфеля достала с сервелатом бутерброд.
Глава 20
О возвращении забыть
«Сны вещие по дням недели, Саша, не считают, – рассказывала мать, – но только к праздникам Христовым. Придется праздник к сну, тот вещий, не придется – тот пустой, телесный. Ты лоб вот так перекрести, да и забудь… В ночь с понедельника на вторник тоже может вещий сон тебе присниться. Ты наволочку тогда переверни, изнанкою наружу, чтобы не сбылся он, а если хочешь, чтобы сбылся, так оставь. И нечего напрасно наволочку тягать туда-сюда. И сбудется твой сон до полдня. Если же не сбудется до полдня, то и не сбудется уж больше никогда.»
В сон послеобеденный и краткий Бобрыкин ненавистный Шишину приснился.
– Здорово, Жижин! – во сне сказал Бобрыкин ненавистный, протягивая к носу кулаки. – Меняемся, не глядя?
Шишин застонал во сне, и, отвернувшись к стенке, слепо шарил в темноте руками, натягивая одеяло. Он не любил с Бобрыкиным меняться, даже глядя, Бобрыкин ненавистный мог гляденное на крышку от кефира или фигу прямо перед носом подменить…
– Не меняйся, Саша! Он обманет! – сказала Таня, и на Бобрыкина сердито посмотрела, жмуря нос.
– О, Ларина Татьяна! Наше вам! Спешил, летел, как говориться, вот у Ваших ног! Читал, читал письмо! Что я скажу? Оно прекрасно! Такая искренность, такая чистота! Нетленка! Согласен хоть сейчас, и в ЗАГС. Чего тянуть? Онегин плохо кончил, Ленский тоже.… Да, брателло?
Мрачнея Шишин дальше страшный сон смотрел.
– Ну, ладно уж, меняться не хотите, так дарю! – сказал мерзавец и кулак раскрыл. В ладони негодяя лежала марка с Маринеско.
– Маринеско… – прошептала Таня.
– Маринеско-Маринеско! Маринеско! Наш герой! – сказал Бобрыкин, и кулак закрыл.
– Дурак, помнешь! – сказала Таня.
– Дурею от любви! – ответил негодяй.
– Давай меняться, – буркнул Шишин, сжимая кулаки .
– Иди ты лесом, Жижин! Не меняйся! Оставайся Жижин идиотом. Навсегда! – и спрыгнув с парты, насвистывая прочь пошел между рядов.
– Вот гад... – сказала Таня.
– Хочешь, Таня, я его убью?
– Хочу, – сказала Таня.
– Ладно, – согласился Шишин. Улыбаясь, дальше сон смотрел…
Дверь в материнскую на щелочку была открыта, на цыпочках подкравшись, Шишин заглянул с опаской, мать ушла. На тумбочке стояли розы, подушки пуховые пирамидой выстроились у стены, высокая кровать вязьем укрыта, на сложенном столе гостином клеенка та еще, которая была, с зелеными в полоску львами, старый телевизор «Юность» стоял на ней.
В кресле с тертыми ушами сидел сам Александр Иваныч Маринеско, командир краснознаменной подводной лодки С-13, 3-го ранга капитан, Герой Советского союза. Он был в фуражке, с золотой кокардой (как на марке) в черном галстуке, в тужурке кожаной и знаках наградных.
– Входи-входи, сынок! – заметив Шишина скрипевшего под дверью, капитан сказал и подмигнул. И Шишин тоже замигал и заморгал от света, и в комнату вошел, и рядом стал с его огромными ногами, в узких и сверкающих ботинках…
– Ну, вырос! Молодца! – разглядывая Шишина, сказал отец.
– Вот вырастешь еще чуть-чуть, и тоже капитаном станешь, – пообещала мать, и улыбаясь в комнату вошла в нарядном сарафане, с золотыми волосами, неся пирог вишневый, на том еще с полоской синей блюде, что не разбито было, а потом …
И Шишин сжался, вспомнив, что это блюдо он потом …
– Не дрейфь, моряк, прорвемся! И не такие миноносцы брали! – сказал отец, а мать смеялась, по синим кружкам разливая черный заказной «Индийский» крепкий, крепкий, крепкий, крепкий….
– Ах, ты, дрянь! – сказала мать. – Где марка с Маринеско? Лазил? Лазил, сознавайся, паразит!?
– Молчи, браток! – сказал отец, и снова подмигнул, а Шишина молчавшего угрюмо мать за ухо в чулан поволокла. Дверь распахнулась, из чулана вспыхнул свет…
– Атака века! – закричала с горки Таня. – О возвращении забыть! Задраить люки! Мой папа командир подводной лодки 0-13 Маринеско! К бою, экипаж!
– И мой тогда… – подумав, вставил Шишин.
– Ладно уж, и твой! Выходим под покровом ночи, мичман, продержитесь до рассвета, курс на Данциг! Любой ценой остановить «Тироль»! Пали-ииииии! – и запустила в белый дом снежком.
– Холодная война! Ура-ааааа! – кричала Таня, слетая с горки. – В атаку, краснофлотцы! Взять на абордаж!
И Шишин тоже в белый дом палил снежками с горки, сползая в снег за Таней, и к дому белому с гранатами хромал. А белый дом стоял без окон, без дверей, на нем написано «Огнеопасно» было, напряженье 320, внутри его жужжало, из-под снега, торчали ежики зеленые травы. А по двору Бобрыкин ненавистный в санках ехал, и вез его обыкновенный папа, в драповом пальто…
– Мой папа капитан подводной лодки, Маринеско, как на марке? – Шишин мать спросил.
– Твой папа хуже идиот, чем ты, – сказала мать.
«…Царю Небесный душе истины воуповаю, иже везде сый и всяко исполняй, прииди и вселися в ны, от всякой скверны дом очистить поможи мне грешной, Тобой припаду благости твоей, помози, Господи, помози! благословением Твоим и Сына твояго и Богородицы и всех твоих святых, убраться мне! Аминь… – перекрестив кухонный угол с образами, прошлякотала мать, и прибираться начала.
И в баке с перцем от чертей варила веник, и колокольчиком звоня кропила зеркала, и открывая шкафы вещи вынимала, складывая на газеты, церковную свечу зажженную держа в одной руке, другой пересыпая солью, складывала причащенное в мешки…
– Пойди сюда! – позвала, и Шишин неохотно вышел из комнаты своей, над матерью остановился, ожидая, мосластые повесив руки, так стоял, качаясь, в спину ей смотрел.
– Написано, читаешь? – оглянувшись пробурчала мать. – В чужом горбу любой читать готов, держи свечу! – и он держал свечу, в рукав пижамы обернув ее, боясь ожечься, дальше, дальше от себя, над нею, и капал воск топленый на пеленки, платья, распашонки, школьные рубашки, пиджаки, на молью источенное тряпье…
– Отца штаны! – сказала мать. – На кухне ножницы большие, синие, пойди и принеси!
И ножницы найдя, он ножниц не понес, а спрятал их под полотенцем, чтоб не порезала она отцовские штаны.
– Давай! – сказала мать, и Шишин протянул пустые пальцы.
– Тьфу, черт дурной! – сказала мать, встала, сама пошла на кухню, ножницы нашла, и с подозреньем на Шишина косясь, порезала отцовские штаны на тряпки.
– Все! – сказала мать, мешки перекрестив, и долго ругаясь и кряхтя обратно в шкаф запихивала их, придерживая дверцы боком то локтями, но лезли прочь из шкафа к матери мешки.
– Да придержи, чума! – и он уперся в дверцы и держал, пока, ворча, из связки подбирала мать к шкафу нужные ключи.
– Ну, Саша, слава Богу! – и обметав крестом тройным, замок и дверцы, пошла на кухню, он пошел за ней…
День все не проходил, был серый, тусклый, рыбьим пузырем смотрело солнце, в рваном небе ветер хмуро шевелил ворон.
– А воронья то, воронья! – сказала мать, взглянув в окно. – Воронья свадьба, посмотри-ка, Саша! – Шишин посмотрел. Множество ворон деревья облепили, будто листья, на проводах сидели, на заборе, на подоконниках и козырьках, песочнице, качелях, крыше школы, на крестах антенн…
– Господи, помилуй, не к добру… – пробормотала мать, и двор перекрестив за ниткой алой в спальную пошла, чтобы ручки от ворон перемотать. – …Посланница диавола ворона, птица сатанинская, худая, – оконные обматывая ручки нитью алой, рассказывала. – Всех грешных души вселяются в ворон и меж мирами целый день шныряют, туда-сюда, от нави к яви. Смерть в клювах носят. КАРРРРР!!!!! И все! – пообещала мать, и нитку меж губами обкусила.
– Гнилье, не нитка!
«Кар, и все…», – подумал он, и отвернулся от матери и от окна.
«…Ной птицу эту проклятием своим из белой в черную оборотил, когда вместо того, чтобы разведать остров, к которому хотел пристать ковчег, она на берегу выклевывать глаза умерших стала…» Шишин вздрогнул и прикрыл глаза.
«Сядет хвост к окну направив, каркать станет – жди скорой смерти в том окне, в какой уставит хвост», – сказала мать, но Шишин сидел с закрытыми глазами, и не мог увидеть, в какую сторону направлены вороние хвосты. «.. А в страшный день, когда преданный Цезарем Марк Туллий возвращался к берегам своим, ему навстречу с башен храма, что стоял над морем, слетела каркая воронья стая, и многие расселись на камнях прибрежных, скалах, а остальные черной тучей облепили и клевали парусные снасти, кружась над Цицероном, предвещая смерть. Зарезали его под вечер, помнишь?
– Помню…
– И голову и руки отрубили…
«…Перелетит ворона с криком двор, быть во дворе убийству страшному, пожару, или ограбленью, а может электричество отключат снова, паразиты, отопленье, или воду… А если Ворон двор перелетит – другое дело. Не путай ворона с вороной! Ворона с вороном не муж с женой, две разных птицы. Ворон – надежды символ, пищу для Христа в пустыню пророк Илья огромным вороном принес, в ворону же лишь ведьмы обращаются да колдуны, да эта дрянь твоя, да ты – ворона. Жизнь воронишь. Чаем в бочку льешь… – сказала мать, и занавески от ворон задвинув, чаю налила, и пряник Тульский порезала на четвертинки. И ела, макая пряник в чай, и мутным становился чай в ее стакане, и жутко было Шишину, что во дворе сегодня обязательно произойдет убийство, ограбление, пожар, или горячую отключат в доме воду, а под холодной плохо руки мылом земляничным мыть. «Не мылится совсем в холодной», – думал он.
– Темнеет, – сообщила мать, и, сверившись с часами, встала, ведро достала, Шишину дала.
– Иди, чтоб до заката! Не приведи господь после заката выбрасывать ведро!
ЧАСТЬ 2
Улыбнулась и вздохнула, догадавшись о покое, И последний раз взглянула на ковры и на обои. Красный шарик уронила на вино в узорный кубок. И капризно помочила в нем кораллы нежных губок. И живая тень румянца заменилась тенью белой, и, как в странной позе танца, искривясь, поникло тело. И чужие миру звуки издалека набегают, И незримый бисер руки, Задрожав, перебирают.
Николай Гумилев
Глава 21
Маленький музей
«Дом с мезонином. Маленький музей. Сюда приходит множество гостей…, – писала Таня, – откуда это, я не помню, Саша? Из линейки школьной? Утренник, какой-нибудь? Не помнишь ты? Бог с ним, и ладно. Всплыло вот в памяти, и в голове застряло. Хожу и повторяю, целый день… «Дом с мезонином, маленький музей…»
А помнишь, Саша, ключик золотой от вашего стянули шкафа? Стянули, а не знали, где открыть! И в запертых дверях подвальных, на чердаках искали скважину, но так и не нашли. Какими белыми шарами сирень сегодня во дворе цветет, как высоко и низко звезды. Закроешь пальцем на стекле одну, другие вспыхнут. Убежище времен избушка во дворе. В ней дворник Петр Павел умер насмерть, помнишь? Тот, что Анну Николавну, учительницу музыки из ревности убил, и листья жег, как будто лето… А в маленьком картоновом саду, в коробке «спички» сдох майский жук… большой, хороший жук. Но маленьким не страшна, а любопытна смерть. Не страшно: бабочка, к стене приколота булавкой, умерла, и ей не больно было, Саша. Скажи мне, Саша, да? Ведь ей не больно было… или? Красивая она осталась, как была, и как была засохла на обоях, не потеряв ни пятнышка, ни цвета, ни усов, а только крапинки той медной золотой пыльцы, которая осталась между пальцев… Камыш – заговоренная трава, венок из незабудок, тополь, тополь, летний снег скользит над оловянным прудом, касаясь пуховичками воды… не тонет, а плывет, качаясь… Что же это? В доме отключили свет? Или ослепла я? Я в детстве, Саша, боялась так ослепнуть… Глаза закрою, и по комнатам хожу на ощупь, ударяясь об углы. А мама скажет: «Таня! Прекрати дурить!», а мне так страшно снова открывать глаза, а вдруг, открыв, я ничего больше не увижу? А у меня есть две копейки, можно будет на углу из автомата позвонить… – Алло? – Алло! Мы вам звоним из ЖИЛКОНТОРЫ! Наберите в ванную воды, мы на неделю вам ее сейчас отключим! (и держишь нос прищепкой, чтобы не узнал никто, что это ты звонишь). Ха-ха! Стеклянная вода, зеркальная река, и мальчик утонул, и мертвым мальчика выносят из воды, и гомонье вокруг, и свет, и солнечные искры, под эти искры детка утонул. А солнце день слепит, чтобы не видели, не слышали, не думали, не помнили о смерти. Сегодня воздух, Саша, пьян весной, и больно им дышать, и сладко, сухие губы холодом к стеклу. Но и стекло не остужает, плавится, и темнота двоится. А в комнате часы тик-так, как будто правильно идут, не отстают, но врут. Волшебные часы, в которых стрелки, как у вас идут назад. На кухне матери твоей. От стрелок этих, Саша, у меня всегда кружилась голова, как в карусели. Сжигает солнце тень, а к вечеру так тихо во дворе, что кажется звонок велосипедный чудом, как будто вечность поселилась в стареньком саду. И пахнет желтыми духами, киселем сухим, ванилью, лопухами, маминой помадой. Все спят, как в замке у царевны, что палец веретеном уколола и уснула навсегда (ты помнишь, Саша, на картинке в книжке было?) Все спят; и рыцари, и разодетый в полосатое король, и королева, фрейлины, гвардейцы … И эта страшная старуха, ведьма, по уснувшим залам клюкой стучит, тик-так, тик-так, тик-так… Дурман и белена, какие бесовские, колдовские чары у весны. Как мало быстро пожили мы в детстве! Как были горьки гори-беды, каким убийством, казалась бабушки разбившаяся чашка, случайно выскользнув из рук. И с каждым словом, с каждой буквой, Саша, с ума схожу, и брежу наяву, как будто кто-то спал на дне коричневой шкатулке, и проснулся… Точно вместо ящика буфета мы окно открыли. Там на ветке кот Степан придворный, на яблоневой с белыми цветами ветке висит, повешен, с подпаленной шерстью. С тусклым-тусклым ужасом в глазах, и вывернутым ртом. Болото, камыши, и оскользь тины, рыбы с алыми хвостами воду бьют, и птичья тишина, а дальше, дальше свинцовая еще затянутая льдом вода, и эта сырость земляная прошлогодних листьев, и этот скос, и холод в рукава, в разбитых зеркалах реки четыре солнца, четыре утки, селезень один, и жизнь одна. И птица так кричит, пронзительно, так страшно, как мать твоя с балкона ужинать тебя зовет… Из сна родятся мыши и пищат, краснеют маки, на девять дней по бабушке твоей завесит простынями мама зеркала… Я заглянула, Саша, мать твоя увидела, сказала, что в этом зеркале останусь навсегда.
Твоя ТБ.
Глава 22
Репейник
Весь вечер мать в тазу эмалевом старое тряпье варила, из кипяченых тряпок отжимая клей, веревки новые плела, чтобы тряпье не пропадало даром, сушила, сверчивая, связывая лоскуты, тянула от угла к углу на табуретке стоя, кряхтя натягивала над плитой. Стеной парной стоял на кухне жирный дух хозяйственного мыла, и деревянными щипцами варево мешала мать, горячий лоб обмахивая вафельным промокшим полотенцем.
А Шишину хотелось посмотреть на Таню… Часто Шишину хотелось посмотреть на Таню, бывало, что не так хотелось, как сейчас, но именно сейчас хотелось больше, чем тогда, когда не так хотелось… Он рукавом, в который раз утер задышанное варевом окно, но детская площадка пуста была, и вдоль забора, сколько не стоял, не ждал, не шла она.
Он сел, схватившись за уши руками закачался, из-под локтей с пронзительной тоской смотрел на мать.
– Что лупаешь, репей? – спросила мать.
– Не лупаю, – ответил он, отвел глаза, и в сторону смотрел от матери другую, где лампа висельником рисовала тень ее.
– Нет лупаешь, чумной! Не лупай, сглазишь! Упаду, не приведи Господь, сломаю шею. Сниться буду. Иди и не сверби глаза! – велела мать, и в раковину следующий лоскуток отжала.
Шишин встал, ссутулился, пошел… В прихожей сумрачной, прохладной, дух стоял полынный. Сухой, привычный, неподвижный запах складок материнских платьев, пустых и тусклых, карманов съеденных пальто, и обувных короб, сенной травы, собачьей шерсти, гостей, что так и не пришли, отцовских запонок в шкатулке, бабушкиной брошки, пудреницы с морем из эмали, желтого резного хрусталя.
«Чего же мне теперь…?» – подумал он, и снова к матери пошел, не зная сам зачем, чего… Мать чай уже пила из желтой кружки, прикусывая корочкой просфоры, крошила сошиво на православный календарь.
– Памфила пресвитера, Павла, Илии и Даниила, святителя Макария Московского денек сегодня. Светел, Саша… – сказала мать, и, улыбаясь, чаю подлила...
Клеенка стертыми углами узор делила пополам, ворчала батарея, кран чихал. Прихваченный морозцем март застыл в окне пятном глухим, в стекле троилась лампа, хотелось выть, и вывовать все это. И, вывовав, захохотать… Присев напротив, он заходил вокруг пустого блюдца пальцем указательным и безымянным, воображая, что торопиться куда-то (в школу на урок) и перепрыгивая от горошка на горошек, о чем-то думал беспрестанно, монотонно отбивая ногтями по клеенке дробь. Мать протянула руку, цепко ухватив, к столу ладонь прижала.
– Стрянь! – сказала мать.
– Пусти…– ответил он, и дернул руку, но мать держала крепко, не пускала, давила пальцы ладушкой к столу. – Пу-у-с-ти… – и задыхаясь, с отвращением матери в зрачки смотрел. В зрачках плясали язычки лампады. Как черти на церковном масле, мотыльки у лампы…
– Хватит, я сказала! – мать выпустила руку, сквозь губы семечко калинное цедя. И выплюнула в блюдце.
Пальцы сжав, он уронил за край стола кулак, потухшими глазами на мать смотрел.
– Налить тебе чайку? – и ложкой деревянной заскребла по краю банки… – Кончилась калинка, – сообщила мать.
– Где мой альбом? – ответил он.
– Альбом?
– Альбом…
– Какой альбом, Сашуля?
– Фотографический альбом… с цветами.
– Твой школьный, сныть? На тварь свою смотреть? Не дам!
– Отдай, во сне зарежу…
– Что? – усмехнулась мать.
– Уснешь – зарежу и возьму альбом
– Да в глубине, на антресолях, подавись! – и снова выплюнула в блюдце семечко калины.
Он встал и под дождем веревок, натянутых под потолком с угла к углу, с угла к углу, с угла к углу… и перекрещенных над люстрой, пошел по мокрым пятнам за стремянкой, в общий коридор.
– Погрохочи мне, там, погрохочи! Соседей перебудишь… – сказала в спину мать, и следом Шишину пошла, согнувшись, бормоча, держась за перевязанную шалью песьей спину…
Здравствуй мой родной, любимый Саня, – Шишину писала Таня. – Сегодня книжные перебирала полки, много книг подаренных одних и тех же у меня скопилось, (помнишь, все на дни рожденья нам дарили книги). Ии тех, что есть по две, и даже по четыре я решила отнести в библиотеку нашу, в школу. Дюма «Три мушкетера» оказалось три… «Плутония», «Айвенго», «Квентин Дорвард», Жуль Верн, «Два капитана», «Кортик», Диккенс…
Что полки даром забивать? И вот пока перебирала, альбомы школьные нашла. И целый день листаю и листаю. То плачу, то смеюсь. Закрою и открою. Открою – оторваться не могу. Все черно-белые конечно снимки, но как цветные, нет, цветнее, чем они. Где ты на школьной елке в первом классе зайцем был! Ты помнишь, Сашка? Я Красной шапочкой, Бобрыкин волком. Глупости какие! Бобрыкин там скорей не волк, а крокодил какой-то!!! Ну и морда! Зубы из фольги, и хвост с отцовского воротника! А мы с тобой… Ты с пирожком столовским под елочкой стоишь, и вид такой, как будто бы из зала Анна Николавна наша кулаком тебе грозит… Грозила, сознавайся?
«Не грозила», – вспомнил он.
Какие же чудные, Санька мать тебе тогда связала уши!!!! А я! А я… Тогда красивой я такой себе казалась, в этом белом из марлевки платье, в соломенной и красной шляпке…с бантиком под горло…
«Ты и была… ты и сейчас… ты и всегда…»
А мне Бобрыкин говорит, что я как мухомор! И я обиделась ужасно, заревела, убежала, под стол залезла физрука. Сижу, реву. Тут ты. Стоишь и смотришь. Увидел, что реву, и испугался, тоже заревел…
А я еще немного поревела, смотрю из-под стола, а ты стоишь, такой! Усы, что мы углем нарисовали, все размазал, нос… и уши по плечам повисли… Мне стало так смешно тогда, что хочется сейчас опять заплакать. Родной, хороший мой, любимый Саша… На фотокарточке в девятом классе нет тебя. Ты помнишь, долго ты болел тогда? Я помню. Мать твоя уйдет, а ты к окну, стоишь и смотришь на забор, и ждешь, когда из школы я домой пойду. Нос о холодное стекло расплющишь, и стоишь… а мы с Бобрыкиным дом обойдем с той стороны от арки – и в кино. А из кино идем, ты все стоишь и ждешь. Ты вспомнишь сам, я знаю, карточку, вот эту, что я тебе в письмо кладу.
Твоя ТБ.
На фотокарточке, которую прислала Таня, Шишин в голубой рубашке в материнском «ромбами» жилете песьей шерсти – сидел за партой, ждал, из последней силы не крутясь, когда из фотоаппарата вылетит обещанная птичка.
Не как обычно, ждал, без пиджака.
Бобрыкин ненавистный как-то у забора, где Шишин часто бабочек ловил, поймал его, и там велел стоять, не шевелится, репейниками в Шишина кидал.
– Стой, жди, пока я в нос не попаду тебе, не вздумай шевелиться! Чем быстрее в нос я попаду тебе – тебе же лучше, понял? – и Шишин терпеливо ждал, когда Бобрыкин ненавистный репейником по носу попадет ему…
Танюша шла вдоль школьного забора, и посмотрев сказала: «Дураки!»
– Ну весь пиджак загадил, сам репей, и весь в репье! – сказала мать. – Ходи теперь, чешись, как пся во всях! – и доставать репьев не стала…
Всю зиму он носил пиджак в репьях, вертелся.
– Да не вертись! Что ты сидишь, как на углях? – спросила Таня,
– У Шилохвоста блохи завелись! – сказал Бобрыкин. – Или вши. Или клопы.
– Да сам ты клоп! – сказала Таня.
– Красавица моя! – сказал Бобрыкин ненавистный. – Лишай смотри не подцепи!
А Шишин перестал крутиться, боясь, что правда у него клопы и блохи с вшами завелись. “Возьмут и к Тане перескочат,” – думал он и скомкав выкинул пиджак с клопами на черной лестнице в контейнер. И в вязаном жилете песьем, в ромбик сидел теперь на фотографии своей.
А в мае у забора, солнце обжигало спину, стрекозы над травой круги чертили, и самолеты белым мелом в синем крестили небеса. С горы летело в лето, мчалось, на велосипеде, в полынный запах, одуванчиковый цвет, на скосе школьного двора, крапива, мать и мачеха, репьи, ромашки… Таня…
Над миром тьма сгустилась. В мерзотной хляби улиц в линейку выстроились фонари, от карлика до великана, и тусклыми глазами таращились друг другу в спины. С евангелием за стенкой разговаривала мать, и теплые разводы ночника бросали на паркет оранжевые пятна. Шишин положил альбом на стол, задвинул шторы, лампу настольную включил, открыл…
На каждой фотографии, где Таня, мать ножницами, аккуратно, старательно, любовно вырезала пустоту.
Глава 23
Месть
– Я Гуля Королева! Я погибла под Сталинградом, защищая высоту! Четвертую! А ты? – спросила Таня.
Но Шишин не придумал пока еще ни кто он, ни какую защищает высоту.
–Тогда ты – Валя Котик, пионер-герой, в атаку! – и Таня бросилась в атаку, Шишин бросился за ней.
И страшно говорило радио про гонку атомных вооружений, угрозу НАСА, занавес железный, и серые плакаты в кабинете НВП, «Что делать если…». Если? То в белых тапочках на кладбище ползти – понятно!
Бумажный лист, в листе пинг-понга мячик, поджечь, и под русичкин кабинет подбросить, чтобы не писать диктант. И жвачку вставить в дверь химозы… Четыре спички и иголка – дротик. Кораблик из газеты «Правда», муравий – капитан в расплесканной под солнцем луже. Ленин в рамке на стене. Чайковский в рамке, Менделеева таблица. Пионерская дружина, флаги, барабаны, белые перчатки, корабли и капитаны, дети капитана Гранта, крем-брюле…
И радугой бензинные круги у гаражей. И утром раньше школы встать, чтобы после салюта гильзы поискать на поле боя. «Досюда можно, за – нельзя» – Бобрыкиным прочерченное палкой во дворе. И главное, чтобы Бобрыкин ненавистный не увидел, как Шишин с Таней, под покровом ночи перешли границу, и бежать в СССР….
Подложенный в дыру в сугробе порох, перед «Белым домом», где Рейган замышляет против нас войну. Солярка слитая с коллайдера на стройке, 2000 мкФ. И телефонный кабель Тане – корзиночки и бабочки плести. Черкаш на правой кеде, мать со слезами соскребавшая черкаш. Стереоскоп, почтовые открытки, марки, слайды, компас. Звездочка с пагонов в кулаке (что у меня?) и вкладыш с Микки, переводилки, дедушкина готовальня. Бритвой срезанная двойка до дыры. В ракушке на серванте рубль юбилейный. Пломбир за сорок восемь, ягодное – десять, жвачка на штанах, к спине приколотая надпись: «Я козёл». Пятнашки, кубик-рубик, ножницы и канцелярский клей, катушка голая, катушка с ниткой. Резиночка из бабушки трусов. Ковер с оленем на стене у Тани, там озеро и елки, чей-то домик.
– А я, чур, тут живу!
– И я…
Мишень альбомного листа, из стержня стрелы. Мастика пахнет вкусно, но название вкусней. Кленовый вертолетик (кто поймает больше), от пушки кинескопа зыкий взрыв, «что стекла даже в уши задрезжали»… Мир встрепанный, промокший, разноцветный, весенний ранний мир, с поникшими плечами крыш, под козырьком воды, и падал, падал снег в растаявшие лужи, на крапинки рябин, на дворника следы.
– Все! Не реви! – сказала Таня. – Мы с тобой еще ему покажем!
– Мы покажем!
– Та-а-а-к покажем!
– Так покажем…
– Он еще у нас получит!
– Да! Получит…
– Так получит!
– Та-а-к получит…
– Узнает он еще у нас…
– Узнает…
– Не реви!
– Я не реву…
– Ревешь!
Он шел за ней, ревя, но не ревя, пока в дыхании не обрывался воздух, прихлебывая воздуха еще, и задыхаясь им выплевывал из щек, опять глотал…
– Увидишь, Сашка! Вот увидишь! Не реви….
Он шел и видел, как всхлипывая по аллее, мимо шли деревья, мокрые, седые, в ветках все, качаясь… шли и шли…. Он шел, пытаясь воротник приделать к пальцам и от пальцев к кнопочкам пальто, но кнопки были справа, были слева, и с молнией творилось все не то…
– Погодь! – велела Таня, придерживая за карман его. – Давай попробую сама… – сказала.
– Ма-а-ть меня убьет…
– Да не убьет!
– Убьет…
– Да не убьет…
– Убьет…
– А хочешь … поцелую?
Он остановился. Лопнул воздух. И всхлипнув, задохнулся в да...
– Я тоже маму иногда убить хочу, – поцеловав его, сказала тихо Таня. Он руку прислонил к щеке, где целовала, и воздухом ее не надувая, дышал ничем, никем, кроме нее.
Она стояла рядом и молчала. Все улыбки, корабли и капитаны, полоски на тельняшках (и зари) и лошади и океаны, ведра красок были в ней так близко, что….
– Виват, придурки! – сказал Бобрыкин ненавистный, мимо проходя. – Татьяна Александровна! Нет слов… отличный выбор! Жижин! Стреляться на заре! – и честь отдав под козырек, подъездный, дверью треснул.
– Сашенька, домой! – с балкона завизжала мать…
– Пойдем, – вздохнула Таня.
– А ты после уроков выйдешь?
– Нет наверно…я не знаю…может выйду. Может. Но наверно нет.
Стреляться на заре…
Опять меня отлупит, думал Шишин, поймает завтра на заре у школьного забора, или на дальнем пустыре, и так отлупит, так отлупит, так… и пусть! и думал – есть ли у матери в кладовке черный пистолет…?
Из мрака дома кошками запахло, километры серой лестничной воронки вматывались вверх, до страшной двери за решеткой, за которой крыша на замке. Спала за письменным столом консьержка баба Люба, с открытыми глазами, как мертвец. Сквозняк читал «Крестьянку» в худенькой газетной стопке, на перекошенном четвероногом стуле стул стоял, и шторки с синими цветами прятали любовно ржавый щит.
– Я на лифте, – Шишина предупредила Таня, и Шишин тоже выбрал лифт. На пятом этаже они расстались.
Дальше лифт, тряся и дергая, повез внутри пустой глухой и тесной шахты, канаты дряхлые над головой крутя, стуча, гремя, мигая и живым дыша, решая стать ли с Шишиным внутри, упасть, или открыться. Зажмурившись, как и всегда он делал в лифте, ехал обреченно, в туфли – нос, вцепившись варежкой в коричневую ручку толстого портфеля (фыр-яз, рус-яз, лит-ра, физ-ра. дневник 6 класс «А», прир-вед, и Чейз «Весь мир в кармане»). Лифт замер. Шишин замер в нем. И распахнулся.
– А ну, иди сюда, говня! – иссвету белого сказала мать, и, ухватив за ворот, поволокла домой, трепя, тряся, плюясь.
Пора было обедать. В коридоре пахло клейкой подгорелой кашей, и, выворачивая рукава, как с волка мясь, мать говорила, говорила, говорила: «Тварь такая! Творь какая! Ходи, ходи, ходи теперь гольем…»
И весь обед держал он у щеки, что целовала Таня руку, и на целованной щеке не ел и не дышал.
– Что прихватился, зуб загнил? Не чистишь! Что не чистишь? Порошком балуешь, мочишь банку. Ту измочил, и эту измочил, я новую поставлю, ты почись… и мумие приложим. Баба Люба, вот хабалка! За двадцать пять рублей из-под стола торгует мумие…
И обессилив, села мать за стол, заплакала, перебирая складки разорванной Бобрыкиным проклятым куртки, и мутные, как в скисшем молоке вода все слезы эти капали и капали в клеенковый горох.
«Я тоже маму иногда убить хочу», – сказала тихо Таня.
«Я тоже маму иногда убить хочу», – подумал тихо он.
– Надежда Николавна, здрасьте, можно к Сане?
– Танюша, здравствуй, умница моя. Он делает уроки, позже приходи…
И Шишина, гремя ключами по коридору к спальне отпирать пошла.
- Твоя-то заходила, стрянь такая! «Надежда Николавна, здрасьте, можно к Сане»? – шипела, передразниваясь, мать. – Вот вспомнишь, вспомнишь Саша матери слова! Не ветерком надуло! Сживет тебя со свету эта, ох сживет, сживет…
«Сживет! – подумал Шишин выходя из спальни. – Так говорит, как будто у нее во рту газета, или пауки, сживет-сжует… сживет-сжует…»
«Весь мир в кармане! Чейз! – сказала Таня. – Там про любовь, но детектив… Ужасно интересно! Почитай…»
– Она дала? – спросила мать, портфель перебирая.
– Не она, – ответил он.
– Она-она, я знаю, зна-а-ю… – сказала мать, и книгу порвала.
– Теперь смотри, как кто-нибудь пойдет, – сказала Таня, и у окна на цыпочках стояли, ждали, как кто-нибудь пойдет.
Из-за забора показалась мать с своей тележкой, шла бормоча сквозь свет осенних листьев, палкой воробьев гоня…
– Вон мать идет…
Они переглянулись.
– Вот! – сказала Таня, и, палец приложив к стеклу, закрыла мать.
– Так будет с каждым, кто нарушит клятву четырех стихий, шестой звезды и сонной рыбы, что под корнем глухим в коре ствола живет, отныне, повсеместно. Навсегда! Клянись!
– Клянусь, – ответил Шишин,
– Саша! Я пришла! – сказала из прихожей мать.
«А я его вот так вот, как клопа! – подумал затаив дыханье Шишин, и палец над двором занес, и ждал, когда Бобрыкин ненавистный ближе подойдет к окну… – Давай..давай… Давай!
Бобрыкин ненавистный, небрежно скомкав рукава в карманах, насвистывая шел вдоль школьного забора…
– Все! – подумал Шишин, и вдруг отдернул руку, заморгал, втирая кулаками измученные красные глаза. Бобрыкину навстречу от качелей Оленька смеясь бежала: «Папа! Папа!» Тот широко раскинул руки, наклонившись Оленьку поймал и закружил.
Глава 24
Не внеди
«…Во искушенье не внеди, пропусти в врата, ибо есть узкие оне, и каждый искушается пред ними, – бубнила мать. – Обрящась в плотия и похоти свои. Живущие во плоти, Саша, не могут Богу угодить и жажду утолить не могут, сколько бы не пей – все жажда будет в новый день терзать…»
И Шишин вспомнил, что и правда, сколько не пей воды сегодня, или чаю, завтра снова хочется попить.
– Сокровища на небе, понял, Саша? Где ни тля, ни ржа не истребит садов. Вороны не клюют, не гают, не лает пес, не бродит сатана. Новоявленный чудотворе, все изречь, в трезвении внимая Богу, веди Господи, помилуй и прости, прости!
И Шишин с любопытством посмотрел на мать, которая у Бога прощения просила так, как будто Бог напротив сидел на табуретке, размышлял, простить ее или не надо.
– Ты испытал терпение мое, и знаешь, когда сажусь я и когда встаю… – мать встала, Шишин следил за нею дальше: видит ли на самом деле Бог, когда мать сядет или встанет. И думал: вряд ли Бог за матерью следит все время. «Много всех, на всех не уследишь».
Она же собрала посуду, водой холодной залила, поставив в бак железный отмокать.
– Дай мне терпенья… – обернувшись снова попросила, увидав как Шишин на клеенке новый хлебный кат катает, засучила рукава, стояла, смотрела долго, молча, тяжело, а Шишин кат катал. Катал, катал…
– Другого слова нет на языке моем! Ты знаешь, господи, уже, что я скажу! – сказала мать, и Шишин тоже знал, что дальше скажет: «Куда пойду от духа твоего, чтоб не смотреть на идиота этого чумного, Ты отведи глаза мои…» – и подойдя к окну спиной на Шишина смотрела. Шишин кат катал.
– Испытываешь, испытай! Блажен терпящий без упреков, истинно дающий хвалит брат униженный падьму свою. Катаешь, Саша? Ну, катай… катай… Восходит солнце, зной настанет, и зноем иссушит траву, и цвет ее опаде, исчезнет радость, молодость спадет, увянет и богат, и беден, красив и сморщь, и каждый на путях своих. Дай только мне терпенья, Господи, помилуй дурака терпеть такого! Такого дурака, какого и не скажешь, и знаю, Господи, что всякое даяние Твое, деяние добра нисходит выше, и всяко злобное ниспаде камень черен есть. И дав, и смять, и гне…
Вы братия мои, сказал Господь, – сказала мать, – творите правды, и в кротости примите могущее вас спасти закон, прибудете благочестны, не обольщайте душ своих в скорбях уныньем, храните их неоскверненными от вся…
– А яблок нет у нас? – поинтересовался он.
– Откуда, Саша, яблоки у нас? Весна! Дешевые сошли давно, а эти, все по триста. Да и не знаешь, что в них накололи, химию какую, Саша! Наколют силикон, и будешь знать, что бесовицы эти себе теперь вставляют в груди! – пообещала мать. Дрянь люди, яблоки по триста дрянь, – сказала мать. – И сотворил Бог землю с небом, безводна и безвинна и безвидна, Саша, пуста была земля в начале лет. И создал твердь, и горы, и моря. И травы. Семена их всходы, утро с ночью, рыб больших…
– Китов? – поинтересовался он.
– Китов, – кивнула.
– Акул?
– Акул. И, кроме рыб, больших животных, пресмыкающихся тварей. Птиц летящих, благословил их размножаться на земле. И так сказал всем им: Я дал вам всякую траву, цветы, плоды и семи. И ветер дал вам, рассыпающий от них, и всходы, живь и ствол древесный, камень, высекать огонь. И стало, Саша, так. И вечер был, и было утро. И рай был на земле. И человек был в нем, в нетлении бессмертным, для вечного бытья.
«В нетлении бессмертным», – думал он, не очень веря матери, чтоб все не тлело.
– Не две ли птицы продаются за ассарий? – спросила мать, он не ответил, кат катал.
– И ни одна из них не упадет на землю без желания Его, и воли. Без Него не стал бы Сатана Адама с Евой искушать, – сказала мать.
«Кого его»? – подумал, но спрашивать не стал, чтоб снова дураком не назвала. «И так уже четвертый кат катаю…» – думал.
– И создал женщину Он из ребра Адама, – свое бубнила мать, – привел, сказав: Адам, вот, кость твоя и плоть костей твоих, и будет называться Евой, тебе женой, ибо взята из ны. Я дал вам все, и только наслаждайтесь, радостью – сказал Господь. А только с яблони вот этой яблок не берите, это запрещаю вам! И только отвернулся, как Ева яблоко сорвала, надкусила, и мужу своему попробовать дала, и ел. И оба умерли они. И с ними грех вошел во всех людей, и смерть во всякого вошла, единым яблоком согре. И так удел людской, с тех пор, как Ева ела и, надкусив, дала попробовать ему.
– А так бы дальше жили люди в рае?
– И жили бы, а как ты думал, Саша? – спросила мать, но он никак не думал, кроме «Живы, как живем» и кат катал.
– Тела грехи творили, и души пили плотское вино, а не кагор причастный. И предпочел Адам непослушанье послушанью, в пути себялюбивый, завистливый, и любопытный, как и ты. И Ева предпочла. Как Ева, так и эта тварь твоя! – сказала мать. – И всякая же тварь, с тех пор, как съели яблоко Адам и Ева, окружена была снегами, холодом и льдом. Удалена от Бога, из предела, и стали люди чадами во гневе. Каждый стал! Катаешь? Ну, катай, катай…
«Все! Не реви! Вот, яблоко возьми»! – сказала Таня, протерла фартуком и Шишину дала.
Глава 25
Ищи свищи
– Теперь мы самыми богатыми на свете будем! Богаче всех-привсех! – пообещала Таня. – Давай сюда!
И Шишин протянул в ладони Тане медный пятачок, что мать на хлеб дала.
– Сейчас! – и пятачок в кипящий ковшик опустила, добавив цинковый брикет и поташа. Все забурлило.
– Смотри! – и в ситечко плеснула варево свое. Из медного в серебряный у Тани превратился Шишин пятачок.
– Ну как?
– Ого… – ответил он, за пятачком протягивая руку.
– Погодь! Еще не все, теперь смотри! – и Шишин из всех глаз смотрел, глаза слезились. В щипчиках держа над газом, монетку закрутила Таня. Сверкнув серебряным бочком, монетка превратилась в золотой.
– Ого?
– Ага…
– Тебе! – подкинув в воздухе монетку и поймав, сказала Таня, протянула. Шишин пятачок скорей зажал в кулак.
– Неси еще! Быстрей! – и Шишин со всех ног к себе помчался, где на трюмо, на блюде лежали трешки, двухкопейки, пятачки…
– Где деньги, Саша? я сюда клала! – сказала мать нахмурясь. И Шишин из кармана горсть золотых достал, и, улыбаясь, высыпал на стол…
– Иж, как обкостенело, приварило…Тьфу! – заглядывая в чайник, говорила мать, резиновой рукой всыпая на ночь в дышло каустическую соду. – Пить захочешь, Саша, рот перекрести и протерпи, не пей! Сожжешь кишки! Так тетка Нина наша, из Тальятья, светлая ей память, тоже на ночь глядя чайник щелочила. Забыла, господи не приведи, да с утречка чуечку попила…и долго умирала, долго, Саша! Пока не умерла…
– На! Клюква в сахаре, сказала Таня, протягивая Шишину на варежке комочки сахарного снега.
– Вкусно?
– Да! – хрустя, ответил он, выплевывая шерстяные нитки. И катушки от варежки Танюшиной доев, смотрел, где катышки еще, на ней. И были катушки на шарфе на помпоне, на воротнике…
Он клюкву в сахаре любил, но редко клюкву в сахаре мать приносила в сумках. Редко. Почти что никогда…
– Снег ел? Под тридцать девять, дрянь такая! Лежи-лежи… Лежи сказала!. Ах, горе-люди! горе-люди… Осподи помилуй. Лежи, чумной! А я пойду до дворницкой схожу, скажу, чтоб ссыпал вам в сугробы вместо снега поташа с соляной…
И уходила в дворницкую мать, просить, у дворника, чтоб поташа в сугроб для Шишина и Тани насыпал…
Всю ночь скрипели, открываясь-закрываясь двери, краны, ставни, снилось…
Под окнами шумела свадьба, музыка играла. Невеста в саване, с венком цветов бумажных, какие мать на пасху ставит в куличи, кружилась по двору, и дети с лицами старух, их карлики мужья, смеялись, хлопая в ладоши и кричали горько…
«Горько! Горько….» – Шишин бормотал во сне, мать в комнату вошла, неся обернутую полотенцем жестяную кружку, с тягучим взваром зверобоя, и коры…
– Попей, сынок, – сказала мать, и губы кислой ваткой обмочила до щипоты, до слез. Он сел, облокотившись о подушки, отхлебнул, уваром обжигая губы.
–Пей, Саша! Пей, родной…
– Не надо… горько… мама…
– Горько …Не на слащены, родился, беда! До дна!
И Шишин пил до дна, тягучий взвар угарный, горький, и в голове мутилось, тихо в ней шуршали от венка бумажные цветы.
Вот громче музыка в окне, все громче, громче, как будто скрипки вверх кидают скрипачи, взлетая скрипки превращаются в ворон… В когтях ворон смычки, в глазах монетки …
– Горе, горе! Святые твоей, ну весь в жару! Того гляди помрет, благослови отроче се, – шептала мать, и лоб крестила, кропила на воде святой углы, «Убоженьким на масло…»
Входила-выходила со свечей, с ведром пустым, и пустоту, похожую на щеву гущу, гремя железной ручкой выплескивала за окно, чтобы свадьбу разогнать, что спать мешала. Задрав подол, кряхтя и кашляя полезла по стене, держа в одной руке эмальный таз, и таз на потолок поставив днищем к полу, ползла по потолку, скребла ногтем убитых потолочных мух, и смахивала на пол, на кровать сушье, и мыла, терла. И из заклеенной замазкой щели таза мутная вода сочилась, и капала на лоб, и расплывалась черное пятно по потолку…
– Вставай-ка, Саша, принеси гвоздей, окно заколочу! – велела мать, и Шишин встал, и за гвоздями в общий коридор пошел, и долго в темноте искал, гремя, переставляя жбаны, нашел и перепрятал…
Обернувшись, зло от потолка смотрела мать, сердясь, что не принес гвоздей окна забить…
– Сашка, Сашка! Выходи гулять скорее! – кричала снизу Таня.
Шишин встал, под матерью пошел к окну, и распахнуть хотел, но мать упала с потолка на спину, он охнул и осел, мать в волосы вцепившись зашипела: «Не пущщщщщу-у-у…. через меня, когда помру!….» и Шишин закрутился волком, но мать держалась крепко когти выпускала в волоса… Он взвыл, упав на спину, хрипя давил локтями пол, и билась мать под ним, барахталась, стонала, и так стонала все, пока не замерла.
Пока не ожила…
– Тю-тю… Ищи-свищи! – хихикнув позади, сказала мать, поднялась с пола, оправила исподнее, халат. И пусто было во дворе, и в доме пусто, апрельской прелью пахло от побеленной земли, и одинокая ворона с перекладины качелей уставив хвост в луну спала.
– Ищи меня теперь за тридевять земель, – сказала Таня, в варежку сгребая со скамейки страшный снег, – всю жизнь ищи! Считай до десяти, тогда найдешь…
И Шишин отвернулся к стенке, стал считать.
«Присниться же такое!» – думал он, проснувшись утром, радуясь, что все ему приснилось, абсолютно все, и к носу поднося, и относя от носа, разглядывал сквозь солнечный щекотный луч ладоши детские, вертя и так, и сяк, считая до дести.
Была суббота. Светом комната полна, как будто воздух пыль позолотила…
– Твоя-то, замуж вышла, знаешь? – в комнату войдя, сказала мать… тю-тю…
Он равнодушно посмотрел на мать, зевнул, и снова стал считать до десяти.
Глава 26
Двенадцать палочек
Здравствуй мой родной, хороший Саня, Сашка мой…
А мне весь день сегодня хочется заплакать. Заплакать, что я есть…чудно? Ну да, я знаю… заплакать, что я есть, и что не будет. Я в детстве часто представляла это. Светлый день такой, денек, денечек, все небо голубым-бело, по подоконнику, по потолку так солнечные зайцы скачут, скачут! Ты помнишь, Саня, мы с тобой ловили их? Все разлетается, искриться, как на речке лето, жмурюсь и смеюсь, смеюсь над всем, над всеми, над тобой смеюсь. Что ты не сделай, так смешно! Как будто мне смешинка в рот попала. И понимаю вдруг, что я остановиться не могу, и это так, как будто кто меня внутри щекочет. Щекочет и щекочет. Щекотун. И знаешь, досмерти щекочет, досмерти... чтоб задохнулась. Смеюсь, а улыбнуться не могу, и губы склеены губной помадой, той, что мы из ящика у матери твоей таскали. А до чего противный запах у помады был! И на губах как будто раздавили ливерную колбасу. Ты помнишь? Я накрашусь, я надену платье белое из шкафа, колечки бабушки твоей Тамары, а они спадают с пальцев, велики! И покручусь перед трельяжем вашем, разом три меня, и реверанс! Миссир… увы… расписаны все танцы… Польку? И нос тебе намажу красным, щеки красным, ты смешной такой, я все смеюсь, смеюсь… И вот легким-легка, и вижу вдруг, что ноги сами от земли, от пола. А я всегда мечтала, Сашка, что так, как я во сне летаю, тут смогу. Чего же проще? Мне часто снилось в детстве, что летаю. Всем детям сниться, говорят, такое. Когда во сне летаешь, то растешь, а ты летал во сне? Бывало, что проснешься утром, знаешь, что летать умеешь, а ничего и не выходит. Ничего! Ни с табуретки, ни с кровати не взлетаешь, с окна так страшно, вдруг как с табуретки? Раз и все. Взлетела, вижу сверху, мертвая лежу, в гробу красивом. Весь как тортик, розочки, и вишни, а я как кукла в нем. Фарфоровая кукла в подвенечном платье. Помнишь, мы с тобой ее разбили? Лицо разбилось, а под кружевами вата. Как если ковыряешь пальцем думочку в диване, или как плюшевого зайца потрошишь…Ты помнишь, заяц заболел у нас, а мы его лечили? Я хирург была, ты медсестра… И так лежу, фиалки синие в руках. Тогда мы в похороны играли: я умерла как будто. Как же хоронить, что нет цветов? Ты в спальню к матери пошел, сорвал в горшке фиалок, и принес. Наверно мать тебя потом ругала очень? Ах, Саша, Саша! Я не думала об этом, было мне не до того. В кармане зеркальце лежало, так что, пока ходил ты за цветам,и красивее накрасила я губы, и волосы руками привела… Вот гости собрались, все в черном, плачут. И Анна Константиновна пришла, и Ольга Алексевна, что музыку у нас по пятницам вела. И говорят все: Как живая, как живая… и мать твоя бубнит «Прими рабу твою…» И так смешно! Ведь я то, я-то хороша! Придумала так славно, и лежу живая, чуть-чуть не засмеюсь! А ты…Ты испугался вдруг, что правда умерла, и стал будить меня, будить, трясти… Вставай! Вставай! Вставай, кричишь, ревешь, балда такой! Ну я же говорю, что понарошку! Ты забыл? И я ни-ни… дышу через разок, совсем тихонько, тише, тише, и перестала вдруг, как стрелки на часах. И жутко стало не дышать, подумала, что сплю, хочу проснуться, Сашка, и понимаешь…не могу. И губы склеены губной помадой, ресницы кукольные тяжелы, и не откроешь глаз, переверни, и «Мама! Мама…», вдруг, из душика в спине. И только я себя навоброжу все это, что хоть со всеми по себе реви, и так проснусь назад, а мать твоя в прихожей скажет: «Саша! Я пришла, до сумок помоги…» А в сумках этих, хоть они большие, нет все равно лимонных долек, польского лукума, чешского компота, клюквы в пудре, пистолета из союз печати, красного коня… И вот весь день такой, что хочется заплакать по себе… На улице капель, весна… а силы на исходе, может витамины пить? Ревит… я так любила: мне мама даст, я подержу во рту, где желтым сладко, а беленьким выплевываю на пол, за кровать, как будто там все пропадает в темноте. А мама в генеральную уборку отодвинет, увидит беленьких горошков и ругает, что витамины нужно целиком… А целиком кто станет, если кисло? И все равно опять, как Оленька теперь, все за кровать, все на пол… Дела, дела, дела… В пирог капустный тесто замесила, поставила под батарею и забыла, оно подняло крышку, поползло, как из волшебного горшочка. Вари, горшочек! Стой, горшочек, не вари! А комната и лестница и люди, двор, и улица, и дальняя дорога, все в каше этой, и ползет, ползет, а дурачек не может вспомнить, как остановить. Горшочек, не вари! И просит: не вари, ну не вари, пожалуйста, горшочек… Весь день все валится из рук, разбила кружку, уронила нож. И знаешь, уронила, тут же подняла, стою и жду, одна в пустой квартире, что ты придешь, а я скажу: «А, Санька, это ты? Входи!» А ты ответишь: «Я, а кто же?» И обернешься, как всегда, чтобы проверить, ты или не ты… Я вышла в коридор, и дверь открыла. Ты в детстве часто стоял под дверью ждал. Открыла, а за дверью лестничный пролет и пустота. Так день прошел, и я за Оленькой пошла, забрать ее из сада, и Оленька бежит ко мне из группы. «Мама! Мама!», – кричит, а в голове все закружилось, как на карусели, будто это я сама бегу к себе. Бегу, бегу, весь день, всю жизнь, и так, как было: в комнате вечерней, вчерашней комнате, в окне вчерашнем те же крыши, лужи, радуги бензина, на тротуаре расплывается мелок, резиночка, забор у школы, голубятня, железные за голубятней гаражи, душистый черный вар, молочный зуб в ириске, с окна замазка, и ворона та же на кресте антенном, хвостом указывает на фонарный круг. На лестничной площадке лежит вчерашний мяч, с отбитым боком, которым можно поиграть еще, но будет все не так, когда он прыгал, и можно в глаз замочной скважины увидеть что-нибудь, а можно получить по лбу, и радио бубнит «В рабочий полдень» и ждешь спектакль по мотивам книги «Голубой карбункул» и думаешь, в стеклянном шаре на подставке настоящий снег… Японка с веером мне подмигнет с открытки, у зеркала глаза тяну к ушам, и веер, вырезанный из цветной бумаги, и папин с бахромой халат.. И, кажется, сейчас я спрячусь и скажу тебе, считай до десяти! Ты досчитаешь до дести, лицом в углу, а где тут спрячешься, когда как жук в коробке? Все на виду, все на бегу, и все как будто можно отсчитать назад… Еще не спряталась. Уже не спрячусь. Вот и мои пришли.
Твоя ТБ
Закрыв глаза, к стене прижавшись носом, в коридоре Шишин от дести назад считал…
– Считаешь? Ну считай, считай, дурак! Ищи вчера в сегодне, – сказала мать, и, мимо Шишина зевая, прошла на кухню, завтрак накрывать.
«В «Московские» играют, – думал он, лицо расплющив по оконному стеклу. – Пойду и попрошусь… Веселая игра, возьму и попрошусь. Скажу: можно с вами? Скажу, и будь что будет: не возьмут, так не возьмут, не очень-то и надо». И думая «Совсем не надо даже…» в прихожую пошел и одеваться стал…
– Иди-иди, просись к волчью на ужин, тебя там только ждали! Тьфу! – сказала мать.
«Тебя…» – подумал хмуро он, и вышел.
– Можно с вами?
– Можно! Иди сюда! – сказала Таня. Шишин подошел.
– Здорово, Жижин! Новенький водить!
–Нет, посчитаемся! – сказала Таня.
– Чего считаться? Нас двенадцать и тринадцатым гундон.
– Сам ты! – сказала Таня, и лучезарно улыбаясь, Бобрыкин ненавистный свистнул: «Фью-тирлю!», и камушек ногой отбил к забору. Пять раз пропрыгал по асфальту камень, и ровно пять отпрыгивал назад.
– От так! – сказал Бобрыкин ненавистный.
– Крутень! – сказали все.
Двенадцать палочек на доску положили, доску поставив на кирпич, и Шишин встал у камня и глаза закрыл. Бобрыкин ненавистный ударил по доске, двенадцать палочек взлетели в небо, в рассыпную побежали игроки.
Наклонившись, Шишин долго палочек двенадцать собирал, искал в траве, в кустах, считал, старательно укладывал обратно, и все двенадцать наконец сложив на доску, искать пошел…
– Иду искать! – предупредил…
«Ищи-свищи», – из головы сказала мать.
– Эй! Шило-мыло! – закричал Бобрыкин ненавистный и за спиной ботинком треснул по доске…. – Иди сюда! И «буратино» перед носом покрутил.
Собрав двенадцать снова, Шишин огляделся, нет ли по близости Бобрыкина опять, и отходил теперь с опаской, оглядываясь на доску…
– Сашка…– услышал Танин шепот, – ищи меня, я здесь! – он сделал шаг к забору, и…
– Эй, Шишкин! На тебе! – опять сказал у камня Бобрыкин ненавистный, и опять ботинком двинул по доске…
Кто прятались – те разошлись давно. Смеркалось. К окошку Таня подошла, увидев Шишина у камня, вниз опустила ручку, нахмурилась, и отпустила, задвинув занавески, плечи обхватив отошла, к Бобрыкину присела на колени, накручивая локон золотой на палец Бобрыкин в ухо напевал «Тирлем-тирли…», и «Машу и медведь» смотрела Оленька с дивана.
И все стоял у камня Шишин, озираясь. Палочек двенадцать охранял…
– Есть иди, творог остынет! – сказала мать.
– К чему это присниться, мама? Свадьба, музыка играет, невеста в белом, гости… окно, протекший таз, ведро пустое, гвозди, потолок, ты по нему ползешь и моешь, моешь…
– Какие были гвозди? – поинтересовалась мать.
– Не знаю, не нашел, – и отводя глаза, скрестив тайком колени, пустую руку быстро опустил в карман и в фигу сжал.
– Что, не нашел гвоздей к добру, – сказала мать, – а гвозди к гробу. К концу пути земного, вот к чему. Перекрестись, скажи спасибо, не нашел! – и он тревожно посмотрел на мать, плотнее сжав колени с фигой, соображая, стоит ли признаться, что гвозди все-таки нашел во сне, и перепрятал.
Мать, пристально нахмурясь, посмотрела, наклонившись, откинула клеенку, заглянув под стол.
– Колен понавертел, канаты вяжешь? Себе то не соврешь, дурак! – сказала и стала молча есть, во рту перетирая творог сухой и теплый, вертя в щеках, прихлебывая чай.
– А если я нашел и перепрятал? Что?
– Что? – фыркнув усмехнулась мать, газетой утирая губы, и скомкав за тарелку отложила. – Перепрятал, Саша, значит отложил. Припрятанное-то само из дому не уходит, лежит как есть, до часу, до поры…
– А таз и свадьба?
– Таз со стирьем?
– Нет, с мылом был...
– Вот со стирьем к делам. Бессмысленным делам, как все твои, к напрасным хлопотам к гнилой картошке. С мыльем – покойницу любить.
Он завертелся, под клеенкой тапком засучил.
– Уймись! – сказала мать.
– Окно тогда?
– Закрытое – к болезни, разочарованью, к пустому. Разбитое – к слезам, открытое – к ненастью.
– А невеста?
– Невеста к горю. Разлуку означает, и предательство в любви. Лицо-то видел у нее?
– Не разглядел…
- А если б разглядел, узнал бы, кто предаст, – качая головой сказала мать, и, встав, спросила, обернувшись:
– А без лица не знаешь, Саша, разве, кто?
Глава 27
Иголка
Приснились люди без лица, и лица без людей, ворона, мать в окне, дупло, почтовый ящик, крыса, плуг, Танюша за роялем в музыкальном классе. Приснилось, что учительницу музыки уже убили, а она жива. Бобрыкин ненавистный на коне и с саблей наголо. Трамваи номер шесть, и девять, что одно и то же, если их перевернуть, и равно не к добру. Аптека, шапка, рожь, капуста, еж, и кошки, кошки…
Три раза пуговицу на рубашке белой мать ниткой красной обмотала, обвила во сне, кривыми пальцами стянула узелок, держа в зубах от красной нитки хвост, цедила: «Молчи, сиди, не дрызь, чтоб память не отшибло…»
«Где бирочка – изрань, запомни, Саша, наизрань надеть,– себя показывать другим с израни. Снимай, снимай! сама побью тебя, подальше от греха, и молотила кулаком не сильно, не так, как били бы другие, остальные, все. Но бирочка кололась, снова наизнанку Шишин свитер надевал во сне.
«И с левой не влезай в рукав, я для чего тебе держу-то, идол правый? Чтобы в левый лаз полез, чума? Весь день себе изгадишь, жизнь изгадишь!» – но Шишин забывал, где лево, а где право, и на манжетах, на рубашках, на пижаме мать вышивала «Л» и «П», а Шишин нитки выдирал во сне зубами, чтобы не смеялись в классе, и вообще. Мать снова вышивала «Л» и «П», а Шишин снова нитки сколупал.
«Посколупаешь мне, посколупаешь! Всю жизнь исколупал…» – цедила мать сквозь нитку. «Посколупаю» – думал он и сколупал.
- Смотри, где школа от забора – это справа, голубятня тоже, дом пионеров слева, и кинотеатр Юность тоже там, – во сне сказала Таня.
«Но если я пойду спиной к забору, все будет задом наперед…» – подумал он.
– Где родинка, смотри, тут право, где нету родинки, там лево, понял? – Понял… И с облегченьем вспоминал во сне, по родинке у Тани, где лево, а где право в мире, у всего.
«И дворнику три раза поклонись, если метет, а если не метет, не кланяйся! А то подумает: дурак. Дурак и есть, но чтобы все не знали. Всем не надо, Саша, знать, что ты дурак. Собака воет в сторону твою, к несчастью, нос держит в землю, к смерти скорой, вверх – к пожару. В Зиновия с Зиновьей стаями собаки ходят – к мору, Саша. К мору и войне. Война-то будет , Саша. Будет. В мире не бывает без войны…»
Как рано Саша в том году черемуха цвела, – во сне писала Таня, про год, в котором рано так черемуха цвела, – и странно, помнишь, мы с тобой лежим, фашистами убиты, на траве, а небо кажется так близко, и с него на нас без ветерка, без чего-нибудь, черемуховый снег. Все эти сотни лепестков прозрачных тонких белых… и пятна голубые неба, между веток, солнечные пятна. Вся эта золотая липкая резная взморь, весь этот дух акации полынной, и счастье тут, под сердцем вдруг сжимается в комок, в кулак, как будто кофточка любимая при стирке села, как будто что-то потерялась важное в траве, а думала, что снится, проснулась – правда оказалось. Потерялось что-то навсегда в траве. И вдруг захочется вскочить, бежать отсюда, не считая ног, всего, чтоб не считая, чтоб замелькало, засвистело, чтобы так. Смеяться, хочется смеяться и смеяться в крик, рассыпался на солнечные искры, взорвался, разлетелся в водяные искры, в свет…
И лето коротко, и память коротка, и лжет, раскрашивает то, что было черно-белым в краски, вспыхивает, манит, невыносимое смягчает, сбудусь – шепчет, неведомое солнце счастья там горит… и кажется, что перепрыгнешь горизонт веревки, и уже по небу, Саша… не идешь, летишь…
Сегодня долго телефон у нас звонил. Бобрыкин на работе, Оленька в саду, я трубку взять хотела, вдруг мне стало страшно, не бери… Ты помнишь, Саня, мы играли в «Позвони мертвец»? А телефон звонит, звонит, я думаю, вдруг с Оленькой чего-нибудь в саду случилось? И трубку подняла, а в ней молчок.
Молчок-волчок. Как в «Позвони мертвец».
Замри-умри… и отомри-воскресни…
Не дочитав, глаза открыл, зевнул, прислушиваясь к стенам.
«…Поможи, Господи, поможи… помилуй мя, велицей милости Твои, по множеству щедрот очисти беззаконие мое, аз знаю грехи мой перед тобой, и выну весь Тебе единому, согреша говорю, лукавое перед тобою сотворях, как в беззакониях зачата есьм, так и творю, во грехе есь! Омоеше меня, очистиши, поможи, Господи, поможи! Открой глаза! Помилуй мя…» – бубнила, потеряв чего-то, мать и по дому ходила, стукаясь о стены, распахивая двери комнат, шкафов, заглядывала под столы, отодвигала стулья, рукой столешницы, сиделища водила, и щупала настенные ковры, и коврики трясла, оглядывая все от верху к низу раздвигала шторы, распахивала ящики, перебирала вещи, грохотала… не давала спать.
Он вышел, хмуро посмотрел на мать, мать тоже посмотрела хмуро, с полу, от газет.
– Чего? – спросила мать.
– А что ты ищешь? – поинтересовался он.
– Иголку, – отвечала мать, сгребла газеты комом, открыла дверь и выставила за порог.
– Себя ощупай, Саша! А то, не приведи Господь, вопьется и пойдет гулять по жилам. Пойдет, и выйдет к сердцу, и умрешь… – себя ощупывая тоже, объясняла мать. – Вера так, покойница, соседка наша, помнишь? В муках страшных от иголки умерла. Все штопала, старье чинила, на нашу пенсию новьем не загрустишь, откусит нитку, а иголку так во рту и держит. И не заметила, как проглотила. Иголка ей пошла, пошла, пошла… по жилцам, впилась, и все! – сказала мать, крестясь.
И Шишин закрутился, вытряхивая из штанов пижамных, из рубашки, спереди и сзади, и не найдя – к себе пошел искать, решив что утром мать могла иголку у него в постели обронить. А может и впилась уже, пошла, прислушиваясь к внутреннему бормотанью думал он, ища на коже след, какой войдя оставила она…
– Нашла! Упас Господь, – сказала мать, показывая Шишину иголку с ржавым брюшком, и с облегченьем опустившись на кровать он, вскрикнув, подскочил.
– Чего орешь? – спросила мать, и, повернувшись Шишин показал, что колет.
– Нет ничего, не брешь! – сказала мать. – Или прошла уже, не приведи Господь, – добавила она, и Шишина перекрестила, вышла…
– Нет вроде ничего, – сказала Таня. – Знаю! Давай ее попробуем магнитом! – и магнитом в раздевалке школьной искали в Шишине иголку, но так иголки в нем и не нашли.
– Здорово, Шишкин ежик! – сказал Бобрыкин ненавистный, из спины у Шишина достав иголку. – Обрастаешь? Молодца, Чернобыль! – и на карман под галстук Шишину иголку приколол.
Глава 28
Мосгаз
– Кого-то черт несет, – сказала мать и, к двери подойдя, не открывая «кто?» спросила.
– Мосгаз, – представились, – откройте!
Мать перекрестилась: «Господи помилуй…!» и бросилась от двери, заметавшись: «Прячься, Саша! Прячься!». И Шишин под кровать залез, а перестав дышать от ужаса, проснулся, и из-под кровати за тапками вошедшими следил, не зная – мать ли ходит в них…
«…Приходит он в квартиры, показанья счетчиков снимать, несет с собой топорик новый, купленный в универмаге ГУМ, а ГУМ от нас недалеко… Недалеко! Всего четыре остановки с пересадкой на метро… – рассказывала мать. – …На Соколе, на улице Балтийской, где раньше бабушка твоя жила, он в дом вошел, прошелся по квартирам, звонил… звонил… никто не открывал, и только семилетний мальчик, такой же, Саша, идиот как ты, открыл ему, Мосгаз достал топорик, зарубил его, и детский свитер взял, и 60 рублей с копейками с трюмо, флакон одеколона Шипр, и пляжные очки…»
И Шишин с грохотом во сне задвинул ящик, в котором пляжные очки у матери лежали, с отвращеньем покосившись на двоившийся в трельяже флакон пустой одеколона Шипр.
Связав веревками, чтоб не упал с кровати, не убился, задув над ним свечу, мать вышла озираясь, невидимая в темноте шурша газетой. Прошла за стенкой, цепочкой звякнув приоткрыла дверь на лестницу пустую, проверив, не стоит ли там Мосгаз, и так же быстро заперла на три замка: высокий, средний, нижний, проверила цепочку, подергав ручку, прислушиваясь замерла… Он тоже замер, привыкая к темноте, и кто-то под кроватью тени полог шевелил, и волосы вставали дыбом, едва подумаешь, кто мог быть там...
– Тссс!.. Санька, это я! – сказала Таня. – Проклятый мистер Сайкс, убийца, эксплуататор детского труда, связал тебя! Но если мне удастся развязать веревки, мы уйдем, как Ненси с Оливером Твистом. Уедем на кабриолете навсегда! – и торопливо пальцами, зубами, коготками подцепляла, развязывала матерью плетенные узлы…
– Готово! Побежали… – крепко за руку схватила, увлекая за собой к окну.
– не бойся, не оглядывайся! Прыгай!
И прыгнула сама… Дверь распахнулась, Шишин оглянулся…
– Совсем осатанел, чумной! – сказала мать, протягивая руки, схватив за шиворот пижамный, оттащила, повалила на пол, и замотала Шишина в ковер…
– Сашенька, сынок, вставай, девятый час…
– Давай не так пойдем! – однажды предложила Таня.
– Давай. Но так короче, – ответил Шишин, опасаясь, что если выйдет очень уж длиннее, то мать ему устроит.
«Устрою! Вот увидишь!» – в голове пообещала мать, и Шишин оглянулся на окно. В окне стояла мать.
«Стоит, – подумал он, – стоит... Как не оглянешься, откуда не посмотришь, всегда стоит и смотрит, хоть ты что!..»
– Там мать стоит.
– Она всегда стоит, – сказала Таня. – Ты не оглядывайся только, да и все. Тогда она тебя не заподозрит…
– Не заподозрит в чем?
– Ни в чем не заподозрит. Видишь кошку?
– Где!? – встрепенулся Шишин, кошек он любил.
– Да тихо! Там…
– Да! Кошка! – поразился Шишин.
Кошка оглянулась, с опаской щурилась на них.
– Кис-кис! – окликнул Шишин.
– Да тихо, говорю! Вспугнешь!
– Кыс-кыс… – позвал потише Шишин, и, разевая лапы, кошка деранула прочь. Стеля хвостом, пересекла пустырь и оглянулась у гончарной бочки, с таким пожарным видом, будто победила их.
– Вспугнул… эх, ты! – сказала Таня.
– Да… капитально припустила…
С подозрением кошка издалека на них смотрела, готовая рвануть, рвани они…
– Наверно что-то натворила, раз боится, ишь! – с уважением заметил Шишин, хмуря лоб, и кошка отошла еще на десять лап, и снова оглянулась. – Подозрительная кошка…
– А я тебе о чем? – спросила Таня.
– О чем?
– У всех кто оглянулся, вид такой…
– Какой?
– Как будто натворили что-то…
– Да, капитально… – согласился он и снова оглянулся на окно.
В окне стояла мать.
– Да не оглядывайся ты! – сказала Таня. – Оглянешься – щелбан! Нет! Десять щелбанов, без всяких там! – и дернув за рукав, поволокла куда-то, так ничего как следует не объяснив…
Они пошли по улице Балтийской в день безлюдный, и ветер тряс троллейбусные провода, а те гудели, отчетливо и скучно.
– Как мертвые гудят, – сказала Таня. – Брррр… идем скорей!
Скорей по улице Балтийской в день безлюдный пошли они, и провода как мертвые гудели. «Брррр», – подумал он. У синего пальтишка Тани боком близко топал, и все ему казалось, что вот-вот уже закончится дорога эта, и сразу же начнется та, другая: другая площадь, фонари и люди какие-то другие, а не те… Он шел и ждал.
Но было холодно, дорога не кончалась, странно в тишине шаги двоились, точно кто-то следом в след… Он оглянулся
– В последний раз предупреждаю! – пригрозила Таня, но разлетелось, что предупредила, в ушах осталось только, что в последний раз, в последний раз…
– Такая холодрыга, да? – спросила Таня.
– Да, капитально… – согласился он.
Желтым глазом подмигивал безлюдью светофор, тянулись спичечные коробки пятиэтажек, дворами отвернувшись во дворы, с потухшими зрачками, с ржавчиной кирпичных стен. Прошли второй пустырь, оцепленной колючей проволокой военной; изрытая, холодная земля катилась в котлованы комьями сурьмы, дышала паром; серое клубилось небо, точно мать в нем холодец варила, половником мешая сваи, трубы, тросы, ребра арматур… заснеженные остановки, дебаркадер райсовета, лица на доске почета, бумажные пустые, похожие на клочья сорванных газет. Прошел кинотеатр «ЮНОСТЬ», закрытый на ремонт железными щитами, клочки афиш, ползущих по стенам, пунктиры крыш, комиссионный магазин «Учет»…
В прокуренном стекле универмага с аршинной вывеской «МОСКВИЧКА» стояли манекены в длинных платьях, на ступенях старуха продавала ржавый таз и грузовик без дверцы и без дна, и пупсика без глаз, и куклу без волос с закрытыми глазами, книгу «Монтекристо» которая у Шишина была. «У всех такие книги есть, у Тани тоже», – думал он и мрачно скреб шагами тротуар по ускользающей земле и так же мрачно смотрел вперед на ту, что предстоит пройти до дома «Октябренок», куда Таня ходила на сольфеджио по средам, чуть не каждый день.
– Тоска… – сказала Таня.
– Тоскища… – согласился он и, оглянувшись снова, тут же получил щелбан по лбу. Еще один, еще…
– Всё, десять! – отсчитала Таня. – Я предупреждала! Давай теперь в «найди чего»!
– Давай. А это как?
– А это кто чего-то интересное найдет! – и, наклонившись, камушек нашла, сказала:
– Ноль один в мою!
Он наклонился тоже, поднял гвоздь.
– Один-один!
– Один на два!
– Два-два!
– Три-три…
– Бутылка!
– Кошка!
– Кошка не годится, не в «живое»
– Ааа…
– Резинка!
– Крышка!
– Лампочка!
– Очки!
– Ого…
– Забор!
– Забор на всех, его нельзя найти.
– А если заблудиться? – поинтересовался Шишин.
– Если заблудился, можно, ладно, – согласилась Таня, – девять три.
– Картонка!
– Крышка!
– Ручка от двери!
– Ага…
– Булка!
– Фантик!
– Палка!
– Три копейки…
– Я первая нашла!
– А я второй…
– Семь три!
– Обложка…
– Семь четыре… календарик!
– Ложка!
– Ну, все, пока! – сказала Таня, – я пришла, – и забрала у Шишина портфель.
За ней закрылись двери дома «Октябренок».
Он постоял немного, подождал, подумал, развернулся и…
– Сольфеджио-мольфеджио…
– Шесть-семь!
– Шесть-восемь!
– Девять!
– Десять!
– Двадцать….
– Двадцать – шесть!
– Эгей! Сольфеджио-мольфеджио, видали? Ха-ха-ха! А двадцать девять – шесть вы не хотите в нашу пользу?
– Не хотите? Как хотите, а все же двадцать девять – шесть в мою!
– Здорово, Жижин, что, металлолом сдавать? – спросил Бобрыкин ненавистный, из подъезда выходя навстречу, ногой придерживая дверь.
«Сам ты… металлолом»! – решительно подумал Шишин и, оглянувшись, сжался, вспомнив щелбаны.
– Ну, Волгодон, бывай! – махнул Бобрыкин ненавистный, щелбан один пробил, не зная правил, и пошел, пошел…
«Бобрыкин ненавистный, ненавистный!..» – думал Шишин, по черной лестнице взбираясь, и, доплетясь до своего пролета, оглянулся снова, опасаясь, как бы Бобрыкин ненавистный не пошел за ним.
– Принес? – спросила мать, и, вздрогнув, Шишин обернулся снова.
«Неси теперь назад, чума»! – сказала мать.
Глава 29
Ладно, пусть…
«Ладно, пусть…», – подумал Шишин, что-то вспомнив, и сразу же забыв, подумал снова: ладно, пусть…
Мать в детстве часто Шишина водила в Храм Успенья Богородицы, на горке. В Храме темно и душно было, купола смыкались каменными парусами, потрескивали свечи. Тысячи огней не отдавая света, лизали темноту, как светлячки. На Рождество еловой веткой пахло. На Вход Господень вербой, яблоками – в Спас. На Троицу – березовым листом и летом и дождем прошедшим. Но был еще и страшный запах: снизу, подпола, гнилого дерева, земли и камня ледяного, мертвеца в гробу. Из узкого окна сочился долгий свет, и с купола Евангелисты ангелы с огромными крылами за ним следили, видели насквозь. Старухи с рыбьими глазами, в черных тряпьях, с лицами покойниц, все седые были там, и маленький священник в белом, как колдун, размахивал кадилом, и матери красивое лицо казалось строгим, незнакомым, как Божьей Матери Марии с алтаря.
«Стой смирно, не чертись!», – впивая пальцы в плечи, говорила мать.
Бобрыкин ненавистный как-то раз увидел Шишина, как с матерью выходит он из Храма, и не забыл, а все дразнил дьячком, дразнил и мекал, мелом рисовал на стуле Шишина кресты. И сев не глядя, Шишин долго ходил с крестом по шву, и все смеялись. Все. «Все, кроме Тани», – вспомнил он и, вспомнив, обернулся…
Уткнув лицо в ладони, в парту локотки, смеялась из-под пальцев Таня… «Не оборачивайся никогда…» Часы пробили десять. «Снится», – с облегчением думал он.
И вспомнил, как на Троицу однажды, в светлый праздник, после Храма с матерью они спустились к речке, и солнце золотом крестило воду, мать смеялась, собирая синие цветы, что сыпались по склону, а Шишин палкой золото мешал в воде. Мать не ругала, не сердилась…
– Можно, мама?
– Можно, милый, ноги-то, гляди, не замочи…
Потом она цветы в Евангелие вложила, они засохли, умерли они… Он дальше думал о цветах. «Сирени много будет в мае», – думал, вспоминая, как однажды нашел сирени пятилистик, Тане подарил. Таня на скамейке во дворе читала книгу, он между строчек положил цветок.
– Чего тебе? – спросила, глаз не поднимая.
– Съешь!
– Ты свет загородил мне, отойди!
Цветочек вылетел из строчек, полетел и закружился, вниз упал под морду черную ботинка. Ботинок щелкнул.
– Королева, ты идешь? – спросил ботинок ненавистный, еще раз щелкнув, раздавил цветок.
– Иду, – сказала Таня, захлопнув книгу, встала, и они пошли. Пошли и растворились в свете. Свет слепил. «Всегда, – подумал Шишин, – в мае свет глаза слепит. Как лук мать без воды холодной режет».
За окнами все таяло, все капало, и растворялось. Кап-кап, тук-тук… по подоконнику стучало. «Проснусь, когда замерзнет и погаснет», – подумал и закрыл глаза.
– Давай найдем на стройке клад, в Австралию уедем?
– А это далеко? – поинтересовался он.
– Нет, там, – рукой махнула Таня.
– Мне мать туда ходить не разрешает…
– Не разрешает: не ходи!
В изодранных одеждах, в пятнах бурых, в подтеках грязи, в катушках земли по черной лестнице поднялся Шишин, за собою оставляя черный след, и стал под дверь, в трясущихся руках сжимая шапку…
– Подать? – открыв, спросила мать и наклонилась подстелить газету.
– Что, на пустырь таскался? С этой? – и отвернулась, зашептала «Неотверж…»
«…Приими, неотверж, незримой благости своей, прииди ныне, дай терпенья, дай! Запрети возмущение сердца, как ты сказал: «Аминь глаголю вам, не веем вас». Ибо погасли и погрязли души от недостатка елея в глазах. Помощник! Покровитель, бысть во мне, не дай во гневе оглянуться на дитя свое, дай перед этим досчитать до ста, Аминь»! – сказала мать и, отсчитав до ста, велела:
– Сядь, лихо, берендей! Счищай …
Он сел и стулом заскрипел, скребком счищая глиняные сапоги в газету. Мать отошла, ногтем сцарапала с трельяжа сохлое пятно и из граненого стакана, злая, злющая такая, щелкая зубами, отпила и, стоя к Шишину спиной, ждала. И стул скрипел под ним, и Шишин чувствовал и слышал, как скрипит, скрипит…
– Не скрипь! Не скрипь, не скрипь! Все жилы измотал, мотня! – и бросилась назад. – Дай, идол, дай сюда! – И вырвала из рук сапог, второй, и опустилась на колени, сама счищала грязь и головой трясла…
«…Спасайся на горе, сказал Господь, – сказала мать, – как Лот в Сигор бежащий, от запаленья, от содомского горенья, тленья! Не тело плот твой, Саша, ибо тлен от тлена он, идти ему ко дну, и плоть от плоти червем тело твое подземным возгниет. Душа же вечна. Ей пастырь добрый дан, ты не отбейся, не отринься стада, не ослабли, не возринь ея… А ты глаза-то на чужое растопырил! Нет, Саша, жадного бедней! У жадности глаза с ведро, да места с блюдце, а ты себе наложишь вечно, как на праздник – наешь за упокой. Все обслюнявишь только, что смотреть темно. И не таращься мне! И не реви! Утрись!»
– Я не реву…
– Таращишься! Ревешь! – вытряхивая куртку за порог, сказала мать.
«…Откуда плакати о окаянных дней моих? Где положи начало и конец тому чем нынеше рыдаю? Благоугоден быти даждь глаза открыв на прегрешения мои, чтоб гляди окаянная душа моя всех исповержиться грехов своих, с раскаяньем принеси Богу в покаянья слезы…»
Шишин всхлипнул, по щекам размазывая грязь, и снова стулом заскрипел…
– Уймись, уймись! Уймись! Живешь не покаянный, с глупости скулишь, как черт в одре! О ней ревешь! О ней! Я знаю, зна-а-ю… Маленькая дрянь! Не будет царствия во грехе, Саша. Ни ей не будет, ни тебе. Тебе! что вместо лика Божья целый божий день о ней…
От девы чистой воспришедши, не сотвори себе кумира, Саша! Так сказал Господь: на небе, на земле и под землей не поклоняйся, не служи ему! А ты в одно и то же трижды наступаешь бито, седьмижды грабли по лбу, по спине! И мало, мало! Мало одного… еще подай! Семь щек подставил, дай ему восьмую! Саша, мальчик мой! Семь бед прошел, восьмой беды искать… дурак, дурак… проснись… открой глаза!
– Открой глаза, сказала!!!!
Он посмотрел, моргая сонно, «ладно, пусть» подумал, отвернулся и опять заснул…
Глава 30
Окно
Слетели с ног сандалии и пропали. На трельяже пропал небрежно брошенный берет, и галстука комок. Ключи на тумбе. Ее портфель в углу, его портфель, на вешалке пальто, ее пальто, его пальто… две сменки на полу…
– Фууу… чем у вас так пахнет? Кошка сдохла?
– Нее… у нас нет кошек…
– Жаль! А есть что пожевать?
– Печенье…
– Какое? Это? Нет, не надо, сгоркло! А сахар есть у вас, такой чтобы погрызть, в кусочках? – она на цыпочки вставала, тянулась к полочкам буфета, морща нос. – У нас в кристаллах дома есть, нам тетя Леля с дядей Женей привезли из Туркестана… Еще «В полет» духи…
– Из Туркестана нет. Там, в сахарнице есть. На дне.
– А можно жженый сахар сделать, хочешь? Или карамели в ложке натопить?
– Давай…
– А мама у тебя вернется скоро?
– Не знаю…
– Тогда не надо лучше… Фу… котлеты!
– Да, котлеты, – согласился он.
– Фууууууууууу! Борщ! Прям ненавижу борщ и кислых щей! Перловка? Фу! Перловку ненавижу, мама тоже варит, гадость… Я бульон люблю, блины с икрой, а ты?
Он тоже ненавидел борщ, котлеты, борщ-котлеты, борщ-котлеты… и даже сахара нет никогда, чтобы погрызть… Прошелестев в оранжевых носочках по газетам, Танюша выбежала в коридор и там исчезла… Он пошел за ней.
– Фу… «Красная Москва»! «Признанье»? У мамы тоже есть. Ого!!! «Персидская сирень»??? – и мигом золоченый колпачок, замотанный, чтобы не выдохся, тряпьем, полиэтиленом, опутанный шнурком за горло отвернула, наклонила в лодочку ладонь.
– Прикольненько! Пошли к тебе!
И распахнула дверь, и подошла к окну, раздвинув занавеску, в комнату впустила вечер рыжий, растворилась в нем. Он замер на пороге, заморгал… В лучах пылинки золотые закружились, как сотни медовых янтарных пчел, в оранжевом «Персидская сирень».
– Иди сюда, чего ты там? – велела Таня, два облачка лакричных нарисовав губами на стекле, и рукавом нетерпеливо стерла их. И покачнулась у окна, освобождая место, за нею покачнулись комната и подоконник, шкаф, и стол, и стул, как будто накренилась плоскость пола, мира…: школа, кресты антенн, и дом, и старый двор, забор, и в угол покатился мячик, уткнувшись замер.
Шишин сделал шаг и тут же отступил на шаг, остановившись за спиной ее, чтоб так не пахло близко от волос густых и светлых полем, кленвой осенней, яблоневым садом, летом золотым, корой еловой, листиком у липовой ракушки, сережками ольхи, и кожаным окладом «Оливера Твиста», мороженным за десять в размокшем вафельном стакане, кексом в пудре, пальцами в смоле и одуванчиковым медом. От ослепительной полоски ее крахмального воротничка и узеньких лопаток, крест-накрест стянутых коричневыми крылышками платья на булавке. От плеч ее, от россыпи веснушек, сбегавших с носа по щеке, от теплого дыханья, которое нельзя было поймать и спрятать в узенький карман нелепого пиджачного костюма. От губ, в которых прятался смешок, и глаз, в которых прыгали светлинки; от уголка ресниц и жилки у виска, и завитка, свернувшегося с ухом… Чтобы не щекотало у щеки, не обжигало жаром, пугливым, странным, тайным, внутри не щекотало, не звенело, не прыгало так оглушительно и звонко так-тик-так…
– Что встал???? Иди сюда.
Пришлось идти. Он подошел и, носом прислонясь к стеклу, смотрел… На граблями прочесанном дворе, истаяв, растворился снег.
– Весна … такое в телевизор не покажут…
– А?
– Окно, как телевизор, понимаешь? Понял? Только лучше! Без ерунды, в нем все по-настоящему идет! И облака не как в кино, а что на самом деле… Настоящие, ну, понял? Облака…
Ошеломленный Шишин на настоящие смотрел на настоящем небе облака…
– Ага…
– И небо настоящее, и солнце, и ворона. Вон, смотри – Бобрыкин! Эй, Бобрыкин! Э-ге-ге!!!! Бобрыкин, ты дурак!!!! Э-гей!
Бобрыкин ненавистный замер голову задрав, крутил…
– Мы тут! Мы здесь! Бобрыкин! Фью! Бобрыкин! БОБРЫКИН НЕНАВИСТНЫЙ! Бобр! Печенья хочешь?
– Дураки! – увидев их, кричал в ответ Бобрыкин.
– Сам дурак! – кричали Саня с Таней. – Бобрыкин – БОБР! Бобрыкин – Бобробор!!! Эгей-й!!!!
Бобрыкин ненавистный кулаком им погрозил, пообещав убить потом, когда достанет…
– Воробей!
– Еще один!
– Как настоящий…
– Настоящий!
– Да…
– А то!?
– И этот!
– Да!
– Ага…
– Смотри какая настоящая старушка!
– На Шапокляк похожа…
– Да!
– Вон Тетя Таня…
– Ольга Николаевна… со Светланой Николавной!
– Ну их…
– Вон жирный толстый дядька!
– Вон химоза…
– Тссс… услышит…
– Собака! Эй, собака!
Собака посмотрела и ушла…
- Собака настоящая! Мы тоже…
– Что?
– Настоящие с тобой! Цени момент!
– Ага…
– И если я тебя щаз поцелую, то на самом деле будет…
– А?
– А «а» на завтрак воробьи склевали!
– А…
– Вон мать твоя идет…
– Ага…
– Я, Саш, пойду. Она меня не любит…
– Любит!
– Я знаю, нет…
– Нет, любит…! Любит! То есть… она ведь всех не любит, не одну тебя… Меня она вообще не очень тоже…
– Ты ей не говори тогда, что я была…
– Я? Не скажу…
– Твоя была? – принюхавшись, спросила мать, крутя в руках флакон персидский.
Шишин молча посмотрел на мать. Мать усмехнулась.
– Давай, давай, копай себе могилу. Крестьмя не лягу, идиот упрямый! – и мимо Шишина на кухню сумки понесла.
Глава 31
Март
Весь мир казался елочной игрушкой, шариком волшебным, падал, падал прошлогодний снег… Рожи корча, Шишин к шарику и так, и сяк: то подойдет, то отойдет, то боком, то зажмурясь, посмотрит снова, отвернется, и опять. «Ведь ишь ты! – думал он. – С кавыкин пыж, а комната влезает… и стол, и стенки, и окно, и я, и пол, и дверь, и мать…»
– Ты хоть бы елку разобрал, март на дворе! – сказала мать, войдя, и тоже в шарик заглянула, выпучив глаза, поправила прическу, из шарика на Шишина взглянула с неприязнью, пошевелив губами, и ушла.
«Как рыба проплыла», – подумал он.
Танюша пальцем постучала по стеклу.
– Смотри, я палец ей приставлю, она и приплывет…
– Ого!
– Такая рыба злая! И думает, что палец может схряпать, на! Ну, на! Что, съела? А тут стекло, видал?
– Ага…
– А если б не стекло, то схряпала бы, точно…
– Факт!
– Пиранья наверно…
– Да, акула…
– Они людей едят почище всех акул… я видела в «Мире животных». Я эту рыбу не люблю, на завучиху нашу – посмотри, – похожа!
– Да… А та на Анну Николавну…
– А эта вон вообще на физрука… «Амебы, на козла! По росту расс-с-чи-тайсь!»
– Ага…
– А золотая на – литричку. Здрасте, Ольга Алексанна! Можно вам желанье загадать?
Он подождал, прислушиваясь, не войдет ли снова мать, мать так любила сделать: выйти и влететь, как будто что-нибудь забыла, сама проверить, разбирает Шишин елку или нет…
– Ой, елка у тебя! Как здоровско… – сказала Таня, в комнату входя. – Я тоже не хотела разбирать до следующего года, а мама мне та-а-кой скандал!
– Я третий год уже не разбираю…
– Ух ты! Вот мне бы так… А мать что говорит?
– Чтоб разобрал…
– А ты?
– А я не разбираю.
– А это что? Из ваты налепили? Мы с мамой тоже пупсика обклеили, покрасили в гуашь… У нас такой-же шарик есть… Флажки из «Огонька»? А лампочки горят? А где розетка?
«Розетка там, а лампочки горят», – подумал он, под стол залез, включил в розетку, сел на кровать, смотрел-смотрел, как лампочки горят…
Март таял. Бежал журчливыми ручьями от подъезда, дальше, свернув к троллейбусному кругу. Сбивались в стайки воробьи, и солнышко неверное светило; кляпали сосульки, теплый ветер – ветер странствий дул, и быстро в лужах проносились облака. И утрами багряные вставали зори, а ночи были звездны, холодны… В раздвинутые занавески смотрело ясное мимозовое утро, искорками прыгали в стекле светлинки, в распахнутую форточку врывались хрипы дизельной трубы, брюзжала трансформаторная будка. Из-за будки появился вдруг Бобрыкин ненавистный: насвистывая, на оптовый рынок за продуктами пошел.
Жизнь продолжалась.
Шишин сел к столу, на двери оглянулся, не войдет ли мать, раз в прошлый раз схитрила, не вошла. Мать не входила, Шишин из-за пазухи конверт достал, лист развернул и стал читать…
«Здравствуй мой родной хороший Саня, – Шишину писала Таня. – Вот и март пришел…»
– Сашуня! Завтракать иди! – из кухни прокричала мать и по стене чугунною забила ручкой (мать всегда чугунной ручкой била по стене, чтоб завтракать пришел), он быстро отложил письмо, прикрыв пособием «Как стать успешным», что на Пасху подарила мать, и руки мыть пошел, забыв помыть, вошел на кухню, в дверном проеме замер.
– Елку погасил? – спросила мать.
– Я не включал.
– Не ври, по счетчику слежу. И руки не помыл.
– Помыл… – упрямо стиснув зубы, буркнул Шишин.
– Поскрежещи-поскрежещи! – сказала мать. – Раскрошишь зубы, на пенсию мою бетонную поставят пломбу, молотком вобьют.
– Пусть ставят что хотят…
– Кто хочет, идиот? Кто хочет? – взъярилась мать. Кому беззубый нужен будешь, ей? Твоей? С зубами был не нужен, а беззубый???
Шишин перестал скрипеть.
– Себя обманываешь, не меня, – вздохнула мать, – микробов не обманешь. Все в рот залезут: и стафилококк, и цепень, слизни, трихопады – все! И будут кашу кушать. Кашу и тебя! – и руки за спиной сложив фашистом, чеканя шаг прошла к окну.
– Дождешься у меня!
«Сама дождешься», – думал он и долго мылил руки мылом земляничным, смывая с пальцев цепней и слизней.
«Март неверен, – за завтраком сказала мать, – как эта дрянь твоя: посветит и просвистит. Шапку мне на улице снимать не смей, не смей! Ведь знаю, что снимаешь, зна-а-ю! Боишься, что она увидит. Модник! Как в детстве из-за твари этой с воспаления в бронхит, так и сейчас. Попробуй только мне сними, ты слышал, что тебе сказала?!? – и мать взвилась, и по стене три раза чегуниной постучала.
– Слышал, слышал…
– Просвистит уши, заработаешь отит, оглохнешь. Заберут тебя в больницу, не вылечат как следует: у нас сейчас не лечат, а калечат, только деньги на лекарство, сволочи, дерут. Уколами заколют – идиотом станешь. Идиотом. Хуже, чем сейчас. Никто тебя не пожалеет, я умру, и некому такого идиота будет пожалеть. Твоя тебя не пожалеет, скажет: был ты, Саша, идиотом, им остался. А мы с тобой и так на пенсию мою едва концы с концами сводим, а умру, то пенсию тебе за материнский гроб никто платить не будет, понял?
– Понял, понял...
– Понял-понял он… Сейчас-то с хвост мышиный платят, а потом и вовсе без хвоста. И будешь голубей душить да кошек на обед. До гробовой доски, без матери, и без копейки. Ты поел?
– Поел.
– Так тигли не тяни! Вставай и на оптовку. Живо!
Почему так долги, так невыносимо долги зимы в нашей средней полосе? – писала Таня. – Так кратки, невозможно быстротечны летние деньки, как будто только прилегла, а вот уже будильник, или с перемены на урок звонок… Ты это замечал?
«Ну, замечал», – угрюмо думал Шишин, шагая в направлении оптовки, стараясь не ступить в собачее добро. «Всегда так, – думал он, – что только что сегодня было, а уже вчера…»
Мне кажется несправедливым это, Саня. Тепло от батареи не заменит солнечного света, как не заменит никогда, любимый, Бобрыкин ненавистный мне тебя. Тебя.
Мне кажется, он замышляет что-то, что-то он задумал. Страшное задумал, Саша. Саша! Я боюсь его. Он хочет увезти меня подальше от тебя, от нас... Он раздражен и беспокоен. Карточку завел, считает все какие-то проценты, говорит про ипотеку, про кредит, размен… и ничего не объясняет толком, смотрит волком, и все по телефону с кем-то говорит.
Милый Саня, обещай мне, только стает снег, и чуть земля просохнет, клад найти, что мы с тобой зарыли, и увезти нас с Оленькой в Австралию, как мы договорились. Не дай ему, любимый, возможности опередить тебя. Он только этого и ждет. Я чувствую. Я знаю.
Помни обо мне.
Твоя ТБ.
Он хмуро посмотрел на голубей, столпившихся у мусорного бака, и, наподдав как следует, с отдачей клеклым ненавистным птицам, в раздумьях мрачных дальше зашагал.
Глава 32 Котовский
– Господи помилуй, а луна-то, Саша, скоро в убыль! – всплеснув руками, прошептала мать и от окна пошла к буфету. Согнувшись в три погибели, на колени встала, выдвинула ящик, достав большой и черный кожаный футляр, гробок оселка, помазок с ремнем.
«Не зря всю ночь цирюльня снилась...», – косясь на мать украдкой, думал он, у шеи ощущая зябкий холодок, как будто мать уже в затылок дула, брызгая слюной, наточенной «опаской» кожу щекоча…
Приснилась Шишину цирюльня с длинными столами, на столах, пред зеркалами головы стояли в кадках, в материнских париках, накладках и шиньонах (каких у матери по шкафам много было), и Шишина стояла голова, в собачьей шапке, совсем завешенная волосами, да так что было в зеркале себя не увидать, и скрипнув, распахнулась дверь в стене, и головы все разом обернулись, и только Шишин все не мог свою свернуть, чтоб посмотреть вошедшего...
«Цирюльник…» – зашептали все.
Тот шел, неслышно приближаясь. С ужасом скосив глаза, увидел Шишин руку, лежавшую вдоль свадебного платья, с лезвием, зажатым в кулаке. Он попытался встать, по кухне шаря оловянными глазами, мать зацепила взглядом, бровью поведя, велела строго:
– Сядь, не мельтеши!
– А может, завтра?
– Завтра волки съели, – сказала мать, выкладывая на клеенку страшные предметы: ножницы с загнутыми концами, с тупыми остриями, лесенкой, расческой, бритвенный набор «Нева» в футляре белом «Золингер»…
– Сейчас-сейчас, – пообещала мать…
В окно луна смотрела, круглая как барабан, обтянутая тусклой кожей, с жилками под ней… Ужасная луна. Мать села в уголок, скрестив колени, рукава задрав, плюя на пальцы, правила «опаску», сжимая между фартуком брусок. И отложила, встала, в ванную прошла, вернулась, Шишину протягивая мыла земляничного кусок.
– А ну-ка, Саша, построгай пока...
И Шишин на доске строгал кусок ножом кухонным, вдыхая острый запах, думал: Таней пахнет…
– Остреж! – сказала мать, отталкивая Шишина от дела, с ладони стружки ссыпала в лоток, поставила вариться на плиту…
Запахло стеарином. Ногтями отскребала мать фольгу со смазки, ремнем до блеска доводя ножи, и из-под стола «стрижную» – низкую – достала табуретку, поставила под лампу, за газетой на балкон пошла. Он сел пока, сложив покоем руки, ждал…
Мать, разложив газеты кругом, одной на развороте срезала дыру, рубашкой через голову продела, сухими пальцами под ворот выправляя хрусткий и холодный лист. Он морщился, сводя лопатки, нечаянно моргал и, вздрагивая, думал: Таня… Таня...
– Глаза! – велела мать. – Смотри – наволосит в ослепь! – и ножницами щелкнула за ухом. Он закрыл глаза.
– Оброс как сатана перед чистильной, я под Котовского возьму, чтобы не заблошил…
– Да я не заблошу...
– Не заблошишь? А если заблошишь? – поинтересовалась мать. – И не вертись мне, слышишь? Не вертись! А то сослепу уши скребну…
«Скребнет… точно скребнет», – думал он и, как во сне, не шевелился, в пальцах собирая серенький газетный лоскуток.
Баюкали кухонные часы, окраина микрорайона засыпала, ежились кусты. Мать все скребла за шеей, у скулы скребла, под подбородком, за уши дула, в уши, мыля земляничной пеной, стряхивала на пол, дыша в затылок затхлостью шкафной, перловой кашей, чайным заварным грибом… Он задремал, смирившись…
– Ура кавалеристам первого краснознаменного полка! – из уха заорал Бобрыкин ненавистный. – Тебе идет, Котовский! Танечка, что скажешь?
– Отвяжись…
– Ты только не реви, – шепнула Таня, – Котовский был герой, а он дурак… дурак!
Глава 33
Дураки
«Какие были дураки с тобой мы, Саня! – Шишину писала Таня, – До чего подумать, до чего сказать! «Сто лет тому вперед»! и 76 апрель, и ученик 6 класса «Б» с кефиром, авоська в нагрудном, и «Б» был как у нас шестой, экскурсия в палеонто-о-логический музей…
- Аардоникс, Абелизавр… ну и рожа, поражаюсь! Скажи, он на Бобрыкина похож?
- Ага…
- Бобрыкин, а Бобрыкин?
- Ну чего?
- Ну вылитый Абелизавр!
- Агу… агу… ха-ха! Чего-чего? «Агухацератопс»! Ну и названьице! Здоровый… Алиорам? Такой весь класс сожрет и не заметит! Давай вот этот камушек сопрем? А Бамбираптор на мать твою похож, когда она орет в окошко: Саша! Ужинать иди!!!!!
«Дверь в спальню матери твоей не заперта на ключ, и комната с двумя шкафами… и в зеркале портал, в портале ты да я. А в телефонной будке на углу хозяйственного магазина «Смена» (всего-то две копейки) – Пуск! и «Промежуточная станция» апреля 2000 какой-то год…
Но время нас быстрей перенесло. И мы совсем не так перенестись хотели. Правда, Сашка? Не так и не туда…»
«И это Конотоп? – писала Таня, – а где в летающих такси летают дети? И где автобусы с портальными рулями? Где археолог Рррр, где космолет? Смешно и грустно смотреть на эту звездочку, приколотую к рукаву – подарок капитана Полоскова…
Миелофон – металлофон…
Подумать только, Господи ты Боже, ну какие дураки! Война миров! Фонарика теплоубойные, теплойные? лучи, и «Молния хлестнула, и треножник четко выступил из темноты. Он исчезал и появлялся, в вспышке молний, уже на сотню ярдов ближе» ближе… фотоштатив трехногий, сверху марсианский глаз… «Сын грома» миноносец – пылесос. Врубай! И Бах! И Бац! Бьет пылесос прямой наводкой по штативу, но штатив под грохот канонады захватывает Лондон, обращая в бегство армию землян…
Мы под кровать залезем от штатива, и страшно, страшно нам. Сосед из девятого подъезда на Вертера похож, и мы следим за ним, а он идет за пивом, та-а-а-к подозрительно косясь на нас! Еще бы! Мы-то знаем, кто он…
А он подходит к бочке «КВАС», там, на углу с разливом, и нас с тобой, опять заметив, угощает им.
-Хотите квасу?
«Хотите квасу»? – Да, конечно же, хотим!
Квас ледяной, густой, тяжелый, с пенной шапкой, в огромной кружке, ручка прям такая, что не обхватить. Теперь наверняка он Вертер! И мы с тобой боимся за него, следим опять, чтоб Крыс и Весельчак его из лазера не застрелили. А лазер из складной указки ручки, и наша экспедиция к автобусу с шестью дверьми… Альфа центавра? Марс? Луна? Уран?
А нам Бобрыкин говорит, что оба мы козлы из Конотопа.
А что он понимает? Он дурак! Ты только посмотри на этот кран! Там, в будке машиниста Марсианин, Марсианин, точно! Кто может быть еще, вверху треножника стального, не как фотоштатив, а больше, выше в триста раз! И там над нами, по тросам медленно плывут тележки к башне этой, стучит, дрожит, качается земля… Земляне порабощены! Идет, идет война миров…
И город опустел, на улицах тела погибших, никто не убирает их, но у меня парализатор из розетки, меч световой из палки, у тебя в кармане недоетый гематоген похожий на ириску и из «Кря-кря» шампуня брызгалка, с прицелом ручки, 35 копеек в магазине «Школьник» есть… Храни последние сто грамм воды к решающему бою за планету и прорывайся к школьным туалетам, где есть запас воды…
Пришельцы с Марса… странно, правда, Саша? как ведут себя они… биологичка в лаборантской не печенье, а лягушек в колбах ест… наверняка…
И ищет луч фонарика в подвале нас с тобой. Чудовище, два пристальных и мутных глаза, рот выпускающий слюну, он кровосос, сейчас вот-вот дотянет щупальце до шеи. Не дыши! Но в ноздри пыль, и ты такой: «Апчхи!»
- Апчхи!
- А, вот вы где, придурки! – сказал Бобрыкин, помнишь нам? Но вымрет он, он от ангины или гриппа вымрет! А вдруг…
-Чего?
- Что в Анну Николавну вселился марсианин? Ну, или в мать твою? Чего она такая странная, такая?
-Не знаю…
- Вдруг в тебя?
- А как проверить?
- Нужно палец проколоть булавкой, и если кровь зеленая пойдет, то я клянусь убить тебя, а ты меня клянись!
- Клянусь!
Я ведь зеленкой капнула себе тогда на палец, Сашка, знаешь? пока ты отвернулся…
А ты не смог меня убить…»
Твоя ТБ.
«Бесок сидит, возок стоит», – сказала мать, и в комнату войдя, сверлила спину, но через спину и обложку Уэллса, письмо Танюши не могла увидеть. Шишин обернулся, долго посмотрел на мать. Мать проглотила взгляд, жуя губами, усмехнулась.
- Что читаешь, Саша?
- «Войну миров»
- Война миров не там, а тут! – сказала мать, коленкой пальца постучав висок, и вышла, закопошилась за стеной, шкафной заныла дверцей, как будто в голове его перебирая майки, распашонки, кофты, мотни резинок и дырявые носки, седые шапки, опилочков кульки, плетеные подушки, сухой полыни стебли, чулки, и в них тушенок банки. Фасоль, горох и шпроты, запасы кубиков куриных, и зонтов. Раскладывала в стопки, убирала в черные мешки, в какие дворники метут седых сырых осенних листьев.
Лампада желтым язычком лизала потолок, и мать на кухне чай пила, мягча грибок просфоры в кипяток, и замечтавшись в сумерках сидела за столом, приоткрывая, закрывая табакерку, пустую, с тусклым ободком эмальным, вглядываясь в дно, и ногтем отскребала с крышки копоть, и в рукавах халата деревянных прятала лицо, забыв, что плачет грязью размазывая слезы по щекам.
А день затаял к вечеру, оттеп, и засочился медным, запах духами «ландыш». Отряхивая с веток капли, чертили дворик воробьи, и синим таяли березы в небе.
Шишин вспомнил, как металлофон в портфель засунув по улицам весной они ходили с Таней, прохожие читая мысли, и звякали на ниточках пластинки «глокеншпиль альт», шестнадцать металлических брусков…
Глава 34
Клад
И все-таки весна пришла! И вспыхнули и зашуршали в мужских перчатках целлофанами мимозы, стремительно текли ручьи журчьи, веселый ветер раздувал афиши, объявления срывал, и дети на заборах гадости писали.
Шишин не читал. Мать не велела на заборах гадости читать, и если замечала мать, что на заборах Шишин гадости читает, говорила: «Один дурак напишет, а другой прочтет…» Он не любил, чтоб мать его дурей других держала, и от забора всегда смотрел направо, если шел на рынок, смотрел налево, если с рынка шел.
Как следует острастив голубей, погнавшись за одним, другого не поймав, он шел, смотрел направо, думал, что пока не видит мать, немножко можно и налево подглядеть, что на заборе пишут. Всегда приятно если точно знаешь, что дураки писали, а не ты…
Он оглянулся. Сурово вслед ему смотрели окна, из которых мать могла заметить, что на заборе он читает дурака. «Заметит, что читаю, мне устроит…», – он прошел еще, пока за крышей голубятни старой не скрылись окна, из которых мать могла следить за ним, и с любопытством посмотрев налево, прочитал: «ДУРАК!»
«Сам ты дурак», – подумал он, и дальше с интересом стал читать, что на заборе возразят ему… (и дураки не любят, если в «Дурака» им отвечают «Сам такой»…)
«БОБРЫКИН + ТАНЮША = ЛЮБОВЬ!»
«И правду мать сказала, на заборах пишут дураки, – прочтя, подумал он. – И знал, что дураки, но чтоб такие!» И дальше двинулся кивая...
«КЛАД!» – пройдя еще немного прочитал, и стрелкой указали дураки, куда идти за кладом. Остановился. «Клад...» – подумал.
«Не может, чтобы на заборе, просто так про клад писали. Но если на заборах пишут дураки, то дураки могли и написать, раз дураки, и если умные заборов не читают, то и никто из них не видел до меня про клад…» Сообразив все это, озираясь, Шишин торопливо пошел пунктиром стрелки, повернул налево, до поворота нового дошел, и снова повернул.
Забор по кругу вел, вдоль школьного двора.
На темной половине снег еще не стаял, расчерченное проводами солнце вдавилось в высоту, на ржавой полосе гаражных крыш лежали полосатые матрасы, сухой бурьян торчал из-под земли, как будто им земля была до дна набита, тянуло сыростью и ветошью заснеженных траншей. Клубок магнитофонной ленты шевелился на кусте акаций, гудела трансформаторная будка, гавкнула собака, замурзанный котенок дико глянул вдруг из-за угла котельной, скрылся, из стока капала кирпичная вода, по дряблым лужам плыли облака. Канистры, склянки, баки, банки, битые пластинки, бутылки, радиаторы, аккумуляторы, битье…
«Битье-житье. И-эх…» – подумал он, сутулясь, стараясь не ступать, ступал, в карманах скомкав мерзнущие пальцы. С забора наблюдали черные грачи. Быстрее шел по стрелке Шишин, он почти бежал, и там, где стрелка увела за свалку, скрылся сам, и вылез грязный, в ржавчине, земле и голубиных перьях. Стрелка за угол вела…
– Здорово, Шишкин, заблудился?
– Ты…? – стиснув зубы, Шишин на ненавистного Бобрыкина смотрел, глаза слепило вспыхнувшее солнце… «Бобрыкин ненавистный, ненавистный!» – думал он…
– А компас есть, или определяешься по мху? – поинтересовался ненавистный, усмехаясь.
– Ты…
– Нет, тут и компас видно не поможет, – вздохнул Бобрыкин ненавистный, ненавистный! И, щелкнув каблуками вдоль забора, насвистывая первым к кладу зашагал.
– Ты…, – Шишин прохрипел, вгрызаясь взглядом в гульфик ненавистного плаща, и следом бросился, нагнал врага, окинув диким взглядом, дальше задыхаясь, пробежал.
Песочница качели…
Оленька на карусели…
Таня…
Таня-Таня-Таня…
Окна, солнце, и забор, забор, забор…
У старой голубятни Шишин обернулся.
«Отстал!» – подумал, перевел дыханье, и с облегченьем на стрелку посмотрел. Она кончалась надписью «ДУРАК».
Глава 35
Возьму резинку и убью милиционера
– Резинку дай, сушье перетяну, – сказала мать.
– Какую дать?
– Какую, черную, какую? – и Шишин верхний ящик отодвинул, дал черную резинку, чтоб сушье перетянула мать.
«Возьму резинку, и убью милиционера, – подумал ни к чему, и сразу же подумал снова. – Возьму резинку и убью!»
День трудный подошел к концу.
Так каждый день был труден, полон суеты, нелеп, как будто Бог лепил из пластилина зайца, но надоело, бросил, скомкал, и ушел. Все лица, лица, лица, страшные весь день такие лица, как будто их резинками как мать в сушье стянули.
«Многолиц…» – подумал он.
Застекленели лужи. В окно вползла луна, уткнувшись бледным лбом в трубоворот котельной замерла, оглядывая кухню. Осветила. Пружины калорифера горели, на калорифере топилось молоко. За ним, завернута в газету, «доходила» вязкая хурма.
– Хурма дошла? – поинтересовался он.
– Куда там, Саш, недели нет, как держим…
– А молоко?
– Ожди…
«Ожди, ожди… Ождешь, пока не взвоешь, не свертишься, язык не сунешь в петлю…, – Шишин мрачно посмотрел на мать. – Возьму резинку, и убью милиционера», – опять подумал ни к чему, а так…
– А где-то были грецкие орехи?
– Грецкие орехи? – удивилась мать.
Не помнит даже, что орехи были! Что за день такой? И встал, по кухне заходил…
Возьму резинку, и убью…возьму-убью, возьму-убью, возьму-убью…
– Все бродишь, ходишь, черт на отпевальне. Спиной пошло, стучит… – пожаловалась мать.
– Стучит… – он подошел к окну.
Стучало. По синим закоулкам мирозданья свинцовые скользили облака, на мрачной пустоши небес зажглась заря огней домашних, витрин и вывесок, на потолке качались фонари…
– А нету, мама, колбасы у нас на бородинском хлебе?
– Откуда, Саша, колбаса на бородинском хлебе? – удивилась мать.
И колбасы-то даже нет на бородинском хлебе, что за день такой?
– Сосисок тоже?
– Тоже, – отвечала мать. – Смочи-ка, Саша, марлечку заваром, обвяжи, так голову скрутило… тянет и гудит, гудит… магнитные, наверно, бури…
И перевязывая голову ее, пропахшую кухонной копотью, лучной трухой, он слышал гул и думал, что в голове у матери гудит не буря, а трансформаторная будка во дворе. И в голове его гудела тоже трансформаторная будка, всю жизнь гудела, и теперь гудит…
– Луна ушла… Включить?
– Нет, Саша, нагорит. С дести по счетчику пойдет на убыль, – включишь. Пока свечу зажги.
– Где я найду, темно …
– Там, в нижнем ящике буфета посмотри…
И в темноте свечи коснувшись, выронил на пол, такой холодной страшной показалась Шишину свеча, с которой в нижнем ящике «опаска» и гробок оселка, ножницы с тупым концом и помазок с ремнем… Они сидели в темноте и ждали десяти, когда по счетчику пойдет на убыль, чтоб не нагорело…
– А помнишь, мама, как я кошелек нашел?
– Конечно, Саша, – оживилась мать, и, улыбаясь, вспоминали оба, как было хорошо, когда он кошелек нашел…
– Все тварь твоя, – сказала мать, – ей кошелек отдал… Я знаю, зна-а-ю! Вся жизнь из-за нее быльем дошьем…
Он в темноте потухшими глазами глянул, громче загудела трансформаторная будка в голове… «Возьму резинку, и убью, убью!.. милиционера…» – думал он.
– Ну что, ну что не так сказала? Мне кошелек отдал, стянул потом, и ей… и думаешь не знаю… Зна-ю! Ну, посверкай мне, посверкай… светлей не жди, не станет! – пообещала мать.
Он встал и матери не отвечая, в ванную пошел, на дверь закрылся, выкручивая краны воду лил, и мыля руки мылом земляничным, по локти мыля, мыля рукава, все думал: Таня, Таня…
Таня!
Мать в ванной свет зажгла.
– Одиннадцатый час! – сказала мать, и в дверь ногой пробила. – На шиш намоешь, а на миллион нальешь… Закрой!
Он краны закрутил, и посмотрел в лицо. Лицо из зеркала смотрело тоже.
– Что? – усмехнулся он.
– Возьми резинку и убей… – кривясь, ответило оно.
Глава 36
Пасха
«На святки вечер с самого утра, – писала Таня, – и бродит нечисть по дворам, и прячется в углах тенями, под кроватью… в трубе скребется домовым. И кажется, в окне со свистом подгоняет кучер-бес вьюжье, в воронках света мечется оно, как будто зверь огромный дышит, такое синее, лукавое, лесное, густо…
И в зеркале ночном мерещиться жених, в размашистой шинели… Он военный, он погибнет. Плачу. И мать твоя сквозь губы цедит: «Поплачьте детки о живых, осмеленно потемки… о мертвых плачут небеси», а я тебя гадать зову, по зеркалу что будет, и в комнате завесив окна, мы свечу зажжем, сидим, и жутко в зеркало взглянуть…
И мать твоя в литровых банках несет в авоськах с всенощной застывшую до льда Богоявленскую, святую агасиму… и ложкой чайной соскребая, облизнуть дает…
Заметены дорожки, сад волшебный, сугробы, точно белые медведи там, за занавесками метет и снежит, слепые фонари, теряют друг до друга прохожие следы, и снег хрустит как корочка арбуза, и мы с тобой боимся потеряться там, на дне колодезного леса, и варежки прилипли к рукавам…
Беж-и-и-им…! И мы бежим, как будто гонится за нами вьюга, старуха страшная, с лицом похожим на древесную кору, во мхе, беззубая, с седыми волосами ведьма, вбирая пожелтевшим ртом пургу, нам выдыхает в спины… Уууууу…
И мы заметны, занесены морозом, но… не пойманные ею в дом бежим, румяные, счастливые от счастья, такого счастья, что не вспомню как назвать… И согреваясь щеки щиплются: «Трещат-то щеки, что»? – нас спросит мать твоя: «трещат», ответим, и смеемся сами, и ей смешно, но смех ее сухой, пугает, и тает постепенно радость на губах.
В окошко смотрим на приступке храма. В белом служат, над водосвятной чашей три свечи горят, «во Иордании крещая…»
А мне сегодня снился, Саня, белой скатертью накрыт в гостиной стол, и чистым четвергом помытый дом, и в доме окна чисты, светят, и куличи, и крашенки, и пасхи, изюм, варенья, гречишный, липовый и вересковый мед…
Ты помнишь, мать твоя полянку овсяную растила к пасхе? Даст мешок, лопатку, – за землей пошлет…
И мерзлая под снежной коркой была земля, холодная, промерзшая такая. И варежки потом все в ней, и мама говорит мне: «варежки как будто гроб копали». Твоя насыплет землю в таз, польет, что жижица плывет, и овсяные зерна сеет. На подоконник «к солнышку» поставит в спальне. Долго ждем, когда взойдет? … и в спальню матери твоей на цыпочках заходим. Но долго, далеко…, морозные узоры зима рисует на стекле, все розы, птицы, сказочные замки, кружева, а мы сидим и вырезаем к пасхе из цветной бумаги бумажные цветы. И у тебя такие все кривые, а у меня не сходиться листок к листу, и сколько в пальцах не держи, все разлипается потом без пальцев, особенно когда бархатная бумага…
Еду на пасху мать твоя «брашном» зовет, и почему-то, мне не вкусно есть брашно, и этот тыквенный пирог, и писанки, и пасха…
Дом тих и светел. Куличами пахнет. Яблоко надкушено и недоето.
– Чего ты яблоко не ешь?
– Я не хочу
- Я тоже этих не люблю. Такие кислые, как из столовки мандарины. Я из столовки только джем и булочки люблю, а ты?
– И я.
– А я желе еще люблю, чем джем больше.
–И я.
– Я запеканку ненавижу, а омлет люблю. Мне мама не умеет делать так омлет.
– И мне…
– А я сгущенку только в запеканке соскребаю…
– И я.
– А я однажды положила джем в портфель, чтоб на продленке съесть, и раздавила. Такая размазня потом, учебники… Воще не представляешь!
– Представляю…
– Будешь леденцы?
– Давай…
– Скажи, они на камушки похожи? Этот изумруд, вон тот рубин, а этот как янтарь на брошке. Я иногда возьму у мамы брошку, или бусы, облизну…
– И я…
- Бери рубин!
И медной головой качает маятник на метрономе туда-сюда, туда-сюда, сонату лунную играет Таня – «та-та-та…», он нотную тетрадь листает, а ноты как грачи на проводах сидят, перелетают… Скрипичный знак на проволоку от калорифера похож… И белый день, как белый сон…
– Ну, как?
– Красиво…
– Правда?
– Как в театре…
– та-та-та…
Дом тих и светел, куличами пахнет…, и кажется вот-вот случиться что-то, как на день рожденья, что-то, чему не будет ни начала, ни конца, а будет настоящим, как во сне.
– А хочешь кулича?
– Хочу, а можно?
– Можно. Мне мама говорила есть, чтоб не засох.
– Ого! Изюму сколько…
– Выковыривай, мне мама разрешает
(«Поковыряй-поковыряй мне, Ирод, руки оборву!»)
–Ты сахарную пудру любишь?
– А то! … А есть?
- А то! Навалом! Табуретку дай!
На цыпочки на табуретку, потянулась, подцепила банку…
– Ой…, – сказала Таня. Выскользнула банка и бабах! И облаком волшебным сахарная пудра поднималась к потолку…
– Ого! – сказала Таня…
– Таня, я люблю тебя, – ответил он.
– Христос воскреси, Сашенька, проснись! – войдя сказала мать, и тапками скрипя о половицы, сквозь сон прошла к кровати, наклонившись, за уши схватила, не пускала, ртом сухим оцеловала трижды, дважды и один, как полагается на Прихождение светлое, в Пасхальный праздник. Он морщился, терпел. Не нравилось, что целовала мать и за уши держала, не пускала… Не любил.
– Воистину скажи, – велела и, уши отпустив, ждала, когда «воистину» он скажет. Язык покрылся мхом, разбух и не вертел слова.
– Ну? – повторила мать.
– Воистину …
– Воскреси!
– Воскреси…
– Воистину воскреси, Саша!
– Воистину воскреси, ма.
Она вздохнула, откинув одеяло села на полог в ногах, евангелие открыла на «Пасхальной», принялась читать: «…се бо прииди радость всему миру, Сына Божия, распятого при Понтии Пилате, за нас страдаша – погребен, воскреше в третий день во искупленье нас… И смертью смерть поправ, и сущими во гробе вечный дан живот, от власти ада. И просветимся людие Господней Пасхой от смерти жизнью, от земли в небеса приведи, победную поющие о нас… На третий день воскрес Назаретянин и ушел. Не ужасайтесь, людие – сказал сошед у гроба Ангел, Назаретянина распятого ища. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Он воскрес… Великий праздник, Саша. Вставай, и завтракать иди!
«Никто не воскресает, – пальцами щеки касаясь, где однажды целовала Таня, думал Шишин. – И кошка сдохнет, не воскреснет. Хвост облезет, вся! И будет мертвечиной пахнуть от забора. Услышит дворник – заметет метлой…», – стирая рукавом пижамным мать с лица, и долго мылил щеки мылом земляничным, чтоб пахли щеки Таней, а не ей…
Под школьной лестницей в апреле Шишина поцеловала Таня. Искорки и пыли, самолетики тетрадей, огрызки яблок, мандариновые корки, протертые на форме локотки и свет, и лучики резные… Смешно, щекотно, голова о лестницу белится. Она достала из портфеля кулич, завернутый в газету «Правда», и пополам сломали, ели, на колени крошки осыпались, изюмины большие падали на юбку ей, на фартук падали..., на грязный пол…
– Христос воскрес! – сказала Таня, и поцеловала в щеку, не трижды, а один всего разок. «Светло невыносимо, – думал он, на свет косясь, – а пусто как под школьной лестницей в апреле, когда там нет ее. Когда не загляни…»
На белой скатерти стоял у матери кулич большой, политый сахарной глазурью, обложенный яичками цветными, и воткнутая в центр свеча горела, щелкала прозрачным язычком. Он пальцы послюнил, и огонек, как бабочку поймал и погасил.
Глава 37 Благодатный огонь
«От благодатного огня зажгла…, – сказала мать, свечу держа, рукой прикрыв. – На, Саша, подержи, да не заплюй, смотри, не угаси…» – и чтоб не угасить, дышал, от пламени сворачивая губы, рукой от сквозняка скрывая язычок, пока она тележку со свяченым в дом, крестя порог, ввозила.
«Ну, Сашенька, давай! Господь тебя храни…, – и Шишин с облегченьем неугасимую свечу отдал назад, и копотью на двери крест мать начертила под подковой. – На счастье. «Великою субботой Благодатный огонь из Иерусалима доставили в наш храм…» – и по дому пошла, от Благодатного огня лампады зажигая.
В страстную на четверг, «Долготерпенье» вслух прочтя, мать куличи и «крестовые» булочки месила, и ставила «корпеть» за калорифер, накрыв халатом желтым. Углился халат, и в доме жар стоял опарный, паленый и тряпичный гар.
«Иди-ка потолочь! – и Шишин шел толочь орехи грецкие в высокой ступке, с гвоздичными головками и прянью, которой не любил, чихал… – Рот, Саша, прикрывай, чертей поначихешь!»
До полночи стояли куличи в духовом шкафе, и яйца красились в лучную шелуху. Покрасив, ледяной водой яйца ошпарив, фольгой серебряной и золотой катала крашеные яйца по столу. Писала писанки на белых, кисточку слюня, макая в банку, губами, заточа волос, кресты на яйцах рисовала, шептала «Господи помилуй, Господи, спаси…». И за окном за дверью Шишину казался мир таким, в который только выйди, и не помилует тогда, и не спасет…
– Мария Магдалина, – рассказывала мать, – в ночь Воскресения Христа к Тиберию пришла, чтоб подарить ему куриное яйцо, в знак чуда воскрешенья. «Христос Воскрес, Тиберий!» – сказала Магдалина, ему отдав яйцо не крашенное, как из магазина. «Это невозможно, Магдалина. Скорее это белое яйцо в руках моих окрасится багряным, чем воскреснет ваш Назаретянин» – усмехаясь, Тиберий отвечал. И тотчас, Саша, тотчас, – слышишь? – яйцо в руках его кровавым стало, и в ужасе он выронил его…
– Разбил? – поинтересовался Шишин.
– Да, – сказала мать.
«А так же камень, Саша, означает яйцо, положенный у входа, в ту пещеру, где лежал Спаситель наш распятым. Разбить его, ко Господу прийти…»
В Великий пяток, в пятницу страстную не резала, не мыла, не скоблила мать, и супа не варила, баранки ставила одни на стол с сырой водой Крещенской.
«…Сегодня, на Голгофу взошел Спаситель наш, не время пировать, а в Воскресение напируем, я сырокопченой колбасы в заказ взяла…»
– А можно к Тане?
– Нельзя.
– А можно к Тане?
– Нет, сказала!
– А можно к Тане?
– Да иди, хоть наидись! – махала мать, и Шишин к Тане бутерброды есть ходил.
– Два бутерброда, Саня, или…? Ладно, два. А с сыром, или…? Ладно, с колбасой. Котлеты будешь? Ладно, поняла…
– Ну, выбирай! – сказала мать, и, выбрав золотое, нетерпеливо Шишин посмотрел на мать. Она вздохнула, тоже выбрала яйцо, обыкновенное, вареное на луке, и, выставив его тупым концом, ждала. Он примерялся: любил, чтобы у матери яйцо разбилось, а у него чтобы нет. Но мать обыкновенно побеждала в яйцах, и Шишин поменял яйцо на красное, потом на голубое, зеленое, лиловое… Подумав, поменял назад.
– Судьбу не переклюнешь, Саша, – вздохнула мать, и, тюкнув луковым, разбила золотое в смять.
– Ох, Саша, Господи прости, белок то черный! Запорок… Видно кто-то сглазил нас. А у тебя?
– И у меня…
В углу под образами плюнула и зачадила синяя лампада, запрыгал язычок, затрескал и угас. Крестясь, кряхтя, она полезла масла подливать, но огонек, зажженный, тут же стаял, она зажгла опять, а он угас еще. «На «проскомидию» наверно записали, – предположила мать, – а ну ка выйди, Саша, я проверю…» Он вышел, отойдя недалеко, за угол двери, притаился, ждал, испуганно вжимая плечи, что, проверив скажет …
– Не зажигается. Попробуй, Саша, ты, – и тоже вышла.
Он долго бил по коробку, в дрожащих пальцах тонкие ломая спички, сбрасывал на пол.
– Уймись! Весь коробок переведешь!
Подтиснув ноги, слез и сжался в уголок.
– Когда в заупокойную живого впишут, так бывает, Саша, – сказала мать, и взгляд ее помут и темен стал. – Беда… беда…, – шептала в уши, вздыхая и кряхтя. – Так Нина Алексанна, соседка наша с той еще квартиры, Богу душу отдала. Сноха сжила со свету... Ведьма, дрянь, как это вот твоя! – взглядом указала на пол. – Каждый день ходила, дрянь такая, в Храм! Платок навертит, скажет Нине Алексанне: «Мама, я за здравие подать…» – сама покойницу в «проскомью» впишет…
– И умерла? – поинтересовался Шишин.
– А ты как думал? – усмехнулась мать.
– Понюхай ладан, не тошнит? – и Шишину дала понюхать ладан, нюхала сама, чтобы проверить, не тошнит ли и ее.
– Тошнит… чуть-чуть.
– Вот видишь, видишь!? А может: делают дрянное масло? Сейчас хорошего не делают, не те настали времена. Ну, сядь к столу, перекатаю от греха.
И два нечищеных яйца катала по столу, «выкатывая» сглазы.
«Не приближатеся мя врази тии изнемогша и падоша в дни мои…»
И в сон дневной приснилась Шишину собака черная у храмовых ворот, распятие горящее, с потухшими свечами, и в золотом яйце труха…
Во вторник, на второй седмице, до первой просвети вставала мать, настольную включала в спальне лампу, усопших вписывать в блокнот. И тусклая тянулась полоса от двери материнской до уборной, и от уборной к спальне матери тянулась полоса. Скрипела створка форточки щеколдой ржавой, и полосу ногами Шишин, крадучись, переступал, чтобы услышав, как он до цвети бродит, его в блокнот на проскомидию не записала мать.
И рвался лист на панихиду, на упокоенье, сорокоуст, на постовую, в вечень… И долго мать сидела за столом, пока усопших всех в блокнот не впишет. И в литургию отрывал за каждого усопшего священник от просфоры крошку, и в Даровую чашу опускал. Из верхнего стола мать доставала кошелек на кнопке, мелочью набитый, чтоб за усопших из блокнота, мотаные в тряпья, в валенках с клюками, молились страшные старухи у прихрамовых ворот…
«В невечернем одни во Царствии Его воскреснем, как Он воскрес, так бабушка твоя Тамара, Петр Алексеич, дед твой, Саша, Антонина Алексанна, дядя Женя, Тонечка из Волочка, и три сестры ее, и Гриша – помнишь дядю Гришу, Саша? Господи, прости его, запойный был. Чудной. И Ольгу Николавну, Оленьку, красавицу, жену свою зарезал с пьяных глаз, и ей в невечернем взойти, как нашим всем… Помянем в вере и надежди живота вечнаго преставшего раба Гавриила, Михаила, рабы Татьяны, Анны, бабы Любы, Ольги Николавны…» – перечисляла из блокнота мать, и думал Шишин: «Это ж сколько воскреснет… и в десять рук не сосчитать…»
«И яко щедро упокой, и несть бо человече, иже поживет не согреша, а только грЕшим, грЕшим… а правда еси только у тебя… Аминь» – сказала мать.
Глава 38 Царю Небесный
«Царю Небесный в свышнем мире, во оставленье согрешений, вольных и невольных, приснопамятном рабе Бобрыкине Степане, какого ненавижу, ненавижу, ненавижу, блаженной памяти пристав. Аминь», – и наверху старательно давя на тусклый грифель, восьмиконечный процарапал крест.
«Благословенно царство…» – слыша в спину, в угол, за ящиком свечным записку положил, других поверх, четыре пятака в почтовый ящик Богу кинул, еще один, и не оглядываясь вышел.
Чирикал воробей, грачи газонные хромали, три черных с рыжим однобоких прихрамовых кота сидели на ступенях, звякал о купель на цепь повешенный черпак, и троицей святили небо купола. Алтарница по насыпи песчаной от сторожки шла, неся кулечек, вдруг остановившись, подняла на Шишина чудные детские глаза, испуганно смотрела, лоб крестила, сказала «Господи помилуй…», быстро по ступеням в Храм вошла. Он поднял руку, как учила мать, при выходе благословиться, но распахнулись снова двери, и из них пошли четыре черные монашие старухи, и пальцы сжали крест в кулак, рука не поднялась.
А на площадке детской Бобрыкин ненавистный на качелях Оленьку качал, и волосами светлыми почти прикрыв лицо (а может, не она? Она… она!), скрестив колени, сидела на скамейке Таня, Таня… Таня, Таня… Солнце впилось в шапку, он сдернул, – щебет воробьиный, детский, Танин голос, смех, слились в одно, и зазвонили… зазвонили «радуйся» на куполах, и с клироса на небо полилось «помилуй…».
«Здравствуй, мой хороший, мой любимый Саня», – Шишину писала Таня. «Здравствуй, любимая моя, хорошая Танюша», – думал он, читая.
Силы нет терпеть мне ненавистного Бобрыкина, и хоть бы ты, родной, крысиным ядом что ли отравил его! Узнай, любимый, продают ли, как прежде продавали в магазинах, крысий яд, и если продают, купи его! Бобрыкина отравишь, и будет все, как в детстве мы с тобой мечтали – клад наш отыщем и в Австралию поедем, станем жить.
Теперь же, милый, это ведь не жизнь, а просто мука.
Любимый! Милый, страшно мне. И сны все странные и жуткие такие снятся. И, кажется, Бобрыкин нас с тобой подозревает, следит за мной ревниво, шагу не дает ступить.
Проснусь, бывает, среди ночи, он не спит, все смотрит, смотрит на меня из темноты, да так, как будто задушить задумал. Сон сегодня, Саша, снова мне про клад приснился. Как славно, милый, начинался этот сон… Наш кораблик детства, старый двор, песочница, качели, горка, домик, ветер майский раздувает простыни как паруса… Как хорошо, что мы тогда не знали, к какой пустынной пристани отчалил он. Пристанет он. Каким чужим, каким печальным, остров оказался, о котором мы мечтали! Остров наш. Сокровищ, великанов… несбывшихся надежд. Стивенсон – обманщик, или, может, просто подменил нам карту старый хитрый Флинт? Ты помнишь, Саня? …Однажды, там, неподалеку от города Бристоль, в приморской маленькой таверне «Адмирал Бенбоу» появился постоялец, Билли Бонс… И Черный пес, и нищий Пью, бутылка рому, йо-хо-хо… А доктор Ливси? А сквайр Трелони? Что скажете? Вы знали эту тайну. Тайну острова Сокровищ, самую ужасную из тайн, что стоит только Испаньоле причалить к острову, как Джимми Хокинс в одноглазого пирата, в убийцу тотчас превратится, Ассоль в старуху, карета – в тыкву, дети капитана Гранта в крыс?.. Но мы не знали. Мы с тобой не знали, Саня, и на горизонте детство рисовало облаками острова надежд. Отдать швартовые и всех свистать наверх! Саша, милый, где же наша карта? Она должна быть у тебя, любимый, поищи ее. Найди ее! Давай попробуем еще раз Испаньолу снарядить! (Тушенка, соль и сахар, чай, три банки молока сгущенного, баранки, свечи, спички, фонарик, ножик перочинный, бинокль, мыло, йод, зубные щетки, пара полотенец) – вот и все, любимый. Вот и все… …И вот мне снится, Саша, мы с тобой идем за кладом. Место, где мы клад зарыли, травой высокой поросло, бурьяном, на небе месяц светит, мы ищем, ходим, но найти никак не можем. Вдруг в траве споткнулась я о камень, который мы с тобой над местом нашим для заметки положили – вырос камень. Я знаю, камни не растут, но этот вырос, углом кривым торчал из-под земли, как старая могильная плита. Я об него споткнулась и упала, грязью перепачкав платье и колени. Камень был тяжелый, вместе мы едва-едва отодвинули его. Он откатился, в яму ты фонариком светил, я заглянула – сорочонок мертвый на дне ее лежал. Проснулась с криком, вся дрожу. И вижу – Бобрыкин смотрит на меня из темноты, и так – как будто он подглядывал мой сон… Все чаще я во сне тот камень за забором вижу школьным. И страшно мне, что вырос он. Купи, любимый, яду. Не забудь. Твоя Т. Б. Глава 39 Девятый вал
Казалось, все проспал кирпичный дворик: забор, жестянки козырьков, балконное белье, былье, песочница, качели, горка, лужи, арка – то солнцем вырезанная в стене, то темнотой; и жизнь, и временье проспал, людей и их шаги, и звуки в нем застыли, не теряясь, и запахи, и облака над швом гаражных крыш, и столик домино, скворечник из молочного пакета на ветке липы ветер наклонял. В обугленных стенах пылали окна, стрижиный чвирк носился в голове, трещал, скворчал… Перед закатом, в почтовом ящике наснились крысы, много, клубнем, письма грызли, хвосты высовывая из щелей, пища… Чивирк-чивирк…
И под пижамой шевельнулось вдруг тепло, щекотно – как скворчонок ожил, которого однажды из скворечника достал для Тани, к сердцу прижимая, прятал, и прижимая к сердцу, удавил.
…А помнишь, Саня, осенью за школой вкусно листья пахнут, такие все резные, точно ножницами из цветной бумаги вырезали их. И если вдруг подует ветер, в окно с той стороны дождя – летят и остаются на стекле, как новогодние снежинки, что перед праздником с тобой мы клеили к окну крахмальным клеем. Я помню, помнишь ли?
Я в детстве, знаешь, новый год всегда проспать боялась. Новый год проспать! смешно подумать, разве можно новый год проспать?.. Еще в столовой нашей пахло вкусно, если пирожки давали с яблоком или повидлом, грушевым компотом. Асфальтом тоже вкусно пахнет, когда асфальт после грозы промок дождем. И пертусин. Шиповник, если зацветет, земля, и если косят траву – скошенной травой. От пальцев тоже вкусно пахнет, если в пальцах растереть полынь, тимьян, и пижму, мандариновую корку. Картошкой жареной из форточки у тети Жени. А я не верю, знаешь, Саня, что умерла она. Сегодня я особенно не верю: картошкой жареной так пахло во дворе, что я пришла, нажарила с лучком и салом, как тетя Женя угощала нас. Ну, помнишь? Завернет в кулек газетный: Саня! Таня! – и через форточку дает… Мне захотелось… А помнишь кекс с изюмом, из кулинарии? Вся пудра осыпается на фартук, и белые потом от пудры возле губ усы. И книги пахнут вкусно, но не все, а те, которые бумагой желтой пахнут, как будто тоже из осенних листьев – пахнут и шуршат. А после дворники лопатами сгребают их и жгут, и жалко… жалко все, а может, просто щиплет в слезы дым. И вкусно пахнет дым, когда оранжевые клены горят и превращаются в ничто: без запаха и красок, звуков. В тишину. Слышней она, когда часы на кухне ходят, и подтекает ржавая вода, и что-то радио бубнит в углу… Любимый, милый, мне все снится осень золотая, хотя теперь весна, и с каждым днем теплей, не к холодам, не к вьюгам дуют южные ветра. Проснусь, бывает, и лежу в постели тихо-тихо, слушаю, как колокольным звоном бьет по подоконнику капель, и солнечными зайцами лучи перелетают с подоконника на стены, на подушку, что так и хочется хоть одного из них накрыть ладонью и, спрятав в кулаке, в шкатулку посадить, открыть, когда стемнеет, выпустить как светлячка… Ты помнишь, Саня, как с тобой мы закрывали в банку запах лета, чтоб им дышать зимой? Смешно, любимый, как смешно… Варение из одуванчиков горчит, медовой патоки обманчив цвет янтарный. Как в ракушке морской хранится шум прибоя, так в памяти моей хранится та счастливая пора. Тогда казалось, мир придумал добрый сказочник, волшебник… Шиповники, акации, сирени, яблони, жасмины… И дышишь счастьем, и смеешься им, и каждый новый день – как первый снег. И дух захватывает светом… А оказалось, злой колдун придумал сказку эту, и нет такого средства, чтобы мир расколдовать, как нет идущих против стрелки циферблатов на башенных часах, и нет таких вокзалов, где можно купить билет из настоящего назад. Мне кажется последней каждая весна. Короче лета, дольше, беспросветней зимы. Я за Алисой хотела прыгнуть в кроличью нору, а прыгнула в колодец без воздуха и без воды, без дна. И падаю с открытыми глазами в полной темноте, и не куда-то, милый, в никуда… Мне снилась темная вода, измятая кровать, укрытая овечьей шкурой, в узеньком окне решетка, желтый свет, и тишина, и холод ледяной, и стены, каменные стены, – Саша! – сырые, все какой-то плесенью проеты, и насыпь ржавая земли, заря, и крысы… крысы… крысы… много их… Мне страшно, милый… Есть ли больший страх, чем ждать что он придет, своим ключом откроет дверь и усмехаясь скажет… Он пришел. Прощай. Твоя Т.Б.
– Смотри…, – сказала Таня, – ужас, да? Девятый вал! Они сейчас утонут, видишь?!
– Вижу… А может, кто-то доплывет?
– Кто доплывет? Девятый вал! Смотри, как вон у этого сползают с мачты пальцы… Страшно, да? Скажи. А у того рука торчит, а этот уцепился, и волна…
– Ага…
– Сейчас захлестнет, и все… Ну как?
– Ваще…
– Я часто эту вот картинку представлю… Прямо ужас! И спать ложусь, представлю… жуть… Глаза закрою… Ужас! Накроюсь одеялом… и подумаю: не одеяло, а волна… И нос вот так зажмурю не дышать… И долго так терплю, пока не задохнусь совсем, и – бац! – возьму и одеяло вниз откину! И дышу… И прямо жуть, как круто! Ужас просто!!! Здорово же, да?!
– Ага…
– А у меня еще страшней картинка есть, сейчас! Ну, это тетка голая, ее сатиры похищают. Ты не смотри… ты, кстати, знаешь, как родятся дети? Ужас просто! Я вот никогда не буду так, а ты?
– И я …
– И замуж я не выйду!
– И я не выйду тоже…
– Видишь, этот вон в нее вцепился, этот тоже… Ужас, да?
– Да… капитально…
– А это вот у зеркала – Венера. Скажи уродина?
– Ну… да.
– Такая жирная! Как наша Буракова прямо…
– Пожирней…
– Не, Машка, вылитая Машка! А этот вот – Винченцо Гонзага… Смотри, как выпучил глаза! Не позавидуешь, как будто ногу отдавили. Тоже мне, кардинал – инфант… А вот Христа распяли, видишь? Смотри, как у него из рук проткнулись гвозди… Ужас, да? И ноги тоже. Хорошо, что он потом воскреснет, да?
– Ага…
– Опять жиртресины с сатиром, фуууу… Ну вот она, смотри! Флавицкий… ужас, да?
И Шишин посмотрел, как девушка в красивом красном платье от крыс вскочила на кровать, а крысы лезут из воды и съесть ее хотят.
– Хорошая картина, да?
– Да, чёткая…
– Как настоящая картина…
– Ага…
– Вот это Тараканова княжна… красивая… Её Екатерина посадила в крепость, а потом потоп… И из воды полезли крысы! Видишь, сколько?
– А Тараканова, как ты?
– Ведь здоровско же, да? – сказала Таня.
– А ты княжна?
– А то!
– Ого…
– А бабушка моя в гимназии училась… гимнастерка!
– Ее съедят сейчас?
– Еще бы! В клочья разорвут! Вон сколько их!
– А кто ее спасет?
– Никто!!! Она ка-а-ак завизжит! – и прыгнув на кровать, Танюша в стенку вжалась, завизжала, пальцем Шишину показывая в пол…
Он оглянулся. Постелив газету, мать гипсовые пирожки для крыс лепила на столе.
Глава 40 Люди в синем
– Жить, Саша, стали хорошо… – вздохнув, сказала мать. – Вот крыс и развелось. Батонами в помои носят, паразиты. Жрут, как свиньи, и все гребут, гребут. Все под себя, все мало! Как будто там жирьем за вход берут... Как наг и нищ приходит к миру человек, так и назад пойдет к вратам небесным. Ни с чем пойдет, хоть сколько не копил! Чем больше накопил, тем громче треснет, понял?
– Понял.
– Лопнет. Бери и про запас, и впрок бери, – никто не запрещает. Смоли к заупокойной дрожки. Дорожка то одна. Скупая, Саша, алчная душа мирская – злам начало. Черт человеку брюхо впрок набьет – не выйдет прока. Верблюды только про запас горбами воду копят, на то они верблюды, что горбы. Горбы верблюдам дал Господь, а человеку не давал горба, чтоб не копил добра и не таскал с собой туда-сюда, не прятал под диваном. В столе, как ты, не прятал и в шкафах! Покойница копила тетка Анна в шкафе. Всю жизнь копила, как и ты, – сказала мать. – И много накопила. Много, Саша! Да так, что ножка шкафа подломилась, и удавило тетку шкафом насмерть, понял? В лепешку утягло, вот то и знай! – предупредила мать и указала на окно.
По стеклам струнами стекал весенний дождь…
– Как пред потопом. Придет конец Господнему терпенью, вот увидишь, Саша! Всякой плоти, живи, пред лицом Его, и истребит нас всех! До одного. От беззаконья беззакония плодят, но нету тьмы такой, где скроемся от Высшего суда… На лестнице сейчас такую жирную видала крысу, Саша! Подвал наверно затопило. Все тает – трубы рвет, они и лезут, Господи прости, наверх…
И представляя, как по трубам наверх всё лезут, лезут крысы, он пальцы в рукава втянул, ссутулился, притих…
– И всяко суще истребится, от человека до скота, и будут мертвые во аде, которых дух отнят из внутренностей их, и только праведный спасется. Судья же всем Господь, – сказала мать.
«Все дождь и дождь, а если вдруг не кончится и все затопит, – из памяти пообещала Таня, – на горку во дворе залезем, будем ждать, пока не кончится потоп…».
Он улыбаясь посмотрел на мать и табуреткой заскрипел. Мать, усмехнувшись, встала, о фартук вытирая гипсовые руки, роняя шмотья вязи, к раковине прошла и пальцы закрутила под струей горячей, щеткой выскребая гипсовое тесто из ногтей.
– Иди-ка, к черной лестнице поставь под трубы. Даст Бог, пожрут отравы, гипс в кишках разбухнет, станет комом. Сдохнут. Да сам смотри не съешь… – сказала мать.
На черной лестнице неладно было. Люди незнакомые ходили в комбинезонах синих, мебель чью-то вниз несли. Он не любил, чтобы по лестнице носили мебель люди в синем. Люди так, без мебели на черной лестнице чтоб были, тоже не любил. Вообще, чтоб люди были. «Совсем не надо их, как будто лестниц мало», – думал, скачками поднимаясь вверх от «синих», и замер, к сердцу прижимая таз крысиный, ждал, пока сойдут.
Они сошли.
По лестничной площадке ветер фантики кружил и семечную шелуху и сам кружился в шахте, воя. Дверь распахнулась, засмеялась Таня.
«Таня…», – подумал улыбаясь, он любил, чтоб Таня, вниз шагнул, отпрянул и пустился наутек. За ним неумолимо поднимались люди в синем. Пролет, еще один, скачками, не поднимая головы, но это мало, чтобы не догнали. Не нашли. Еще один, седьмой, восьмой, девятый, споткнулся, накренился таз, вниз по ступеням заскакали гипсовые пирожки.
Чердачная, с решеткой и замком. Шаги. Все ближе, ближе голоса чужие, смехи. Испуганно взметнулось в памяти: «Придут, и за тобой придут, увидишь! Господу молись…»
«Идут… уже идут…», – и прутья дернул, еще раз дернул и еще… еще…
В ушах задребезжало, загремело… Гипсовые пирожки, пролеты лестниц, девять этажей, неумолимые шаги людей чужих, в комбинезонах синих, лифтовая шахта, прорванные трубы, «Господи, помилуй», крысы, крысы, много, много крыс, что вверх за гипсовыми пирожками лезут… Он сел и, таз обняв, закрыл глаза.
– Ну, сколько у тебя? – спросила Таня.
– Один.
– Эх ты! Я говорила, много нужно сделать, как Садако!
– Я много не могу, мне мать не разрешает драть тетради. И альбом для рисования не разрешает тоже драть.
– А у Садако было много, тысяча почти… Ты, Саш, боишься атомной войны?
– Боюсь…
– А Белый дом пойдешь взрывать?
– Не… мать меня убьет…
– А я пойду.
– И я пойду тогда.
– Ты «Дети здравствуйте!» вчера смотрел?
– Мне мать не разрешает телевизор, я глаза испорчу…
– Зря… хороший фильм! Там про Садако. Только девочку зовут Инэко, и дети из Советского союза и другого мира ищут ей волшебную траву, чтобы поправилась от лучевой болезни, когда американцы бомбу сбросили на Хиросиму. Садако дома спряталась под стол, а надо было раскопать блиндаж... убежище! Бомбоубежище! Пойдешь бомбоубежище копать? – спросила Таня.
– Бомбоубежище – пойду…
– И вместе спрячемся, когда рванет! Ну, лезь! – указывая на решетку чердака, велела. – Тут главное, чтоб уши не застряли, понял? Уши не застрянут, и пролезешь весь… Чего, застряли?
– Нет…
– Ты щеки вдуй, и выдохни, давай!
Он выдохнул и, выдохнув, рванулся…
– Есть! – сказала Таня и проскользнула следом. Уши разгорелись. Отряхнув колени, Шишин оглянулся, зажмурился привычно, ожидая щелбана, и разожмурился. Пропала Таня. Облупленный кирпич, хрустящее стекло, скорлупки голубей, и перья их, ступени вверх, ступени вниз, решетка к ним, и пустота.
– Иди сюда! – и распахнула дверь наверх, и ноги сами понесли, по скату крыши.
– Весь мир в кармане! – над миром спичечным раскинув руки, объявила Таня, и ветер мир помчал назад, и дворик, и забор, пустырь, и крыши, арку, облака и небо, ворону, мать, идущую куда-то… Шишин рукавом покрепче прижал карман оторванный к штанам, чтобы карман не оторвался вместе с миром.
По кромке кровельные швы, и домики для птиц, с антеннами под телевизор птичий. «Птицы телевизор тоже смотрят», – говорила Таня. «А воробьи»? «И воробьи, они вороних дети…». Натянутые струны проводов, бензиновые лужи, расплавленная жесть, испарина смолы, и ярче, ярче солнце, графитной черноты карниз, хрустящий пузырьками толь, обрез и солнце. В солнце Таня.
– Теперь кидай! Не вниз кидай, наверх! Вот так!
И показала, как наверх журавликов кидать, не вниз.
Он из кармана свой достал журавлик. Тот был помят, тетрадный лист от скрепок дран, направо свернут нос, крыло налево.
– Сойдет! – она присела, на коленях платья распрямила нос, поправила крыло.
– Давай!
И Шишин замахнулся в небо.
Журавлик пролетел, но сбило, закрутило ветром.
– В штопор… – прошептала Таня.
Шишин вниз смотрел.
Бобрыкин ненавистный наклонился, журавлик поднял, развернул, прочел, и скомкав в лужу бросил, наступил и дальше зашагал.
– За смертью посылать! – сказала мать, из рук приняв крысиный таз пустой, и прислонившись к косяку, на Шишина смотрела хмуро, давко, не любя. Он боком мимо матери протиснулся в проход и боязливо оглянулся. Стихло. Пес завыл в соседской. Шаги не шли, не хлопали, не открывались двери.
– Переезжает кто-то, вот увидишь… – прислушиваясь, прошептала мать и, дверь перекрестив, на три замка закрыла, цепочкой звякнув. – Не дай тебе Господь переезжать…
–Переезжаем! Собирайся! – из памяти сказала Таня.
– Куда? – спросила мать.
– Пусти, переезжаю…
– Через мой труп, – сказала мать.
Чадила синяя лампадка, черный полукруг облизывал на потолке прозрачный огонек, косился, наклонялся, таял, точно кто-то задувал его невидимый и безоглядный, погасал и вспыхивал опять, и было тихо, пусто в доме, как будто в нем никто не жил и не дышал.
Глава 41
Жизель
– Сюр-лез-эпуль… – сказала мать и, обернувшись, в зеркало смотрела из плеча, – ты помнишь, Саша? Адольф Адан… Анри де Сен-Жоржа…
Он не ответил. Тускло коридорная светила лампа, тикали часы, текла вода, и в пол смотрела карими глазами изъеденная нафталином морда мертвого хорька.
Минтранс РФ
054306
ТРОЛЛЕЙБУС
5 рублей
Сер ЦУ 365
Три, ноль, плюс шесть, три пальца на одной руке, плюс два на этой к тем шести, и без мизинца на другой получится девятка. Девять. Четыре, без «большого» в левой, в правой пять… Ура!
– Сейчас же выплюнь, дрянь такая! – Шишин стиснул зубы, зажевал и, проглотив, довольный посмотрел на мать.
– Чумной, – сказала мать и отвернулась, на окно дышала облачками пара, стекло топила, ехали в театр на балет. В Большой театр, на Жизель.
– Балет! – сказала Таня, обматываясь белой занавеской. – Я Жизель, а ты… ну ладно, ты пока лесничий будешь. А потом Альберт. Надень пока что шапку, как Альбертом будешь – снимешь. Я танцую! Встань за шторой, подглядывай, как я танцую, собираю виноград.
И Таня собирала виноград, а Шишин подглядывал за шторой, как лесничий.
– А тут Альберт! – сказала Таня. – Он скачет на коне, скачи!
И Шишин проскакал по комнате к двери.
– Слезай с коня! Альберт, переодетый граф. Ты на колени встань, скажи, что ты в меня влюблен!
Он на колени опустился, молча на Таню посмотрел.
– Ну, ладно! Тут появляется лесничий! Надень обратно шапку, появляйся из двери. Теперь скажи: Альберт с тобой не честен! Он обручен с другой!
– Альберт с тобой не честен.
– Он обручен с другой!
– Он обручен с другой.
– А я тебе не верю, подлый Ганс! – сказала Таня.
- А у тебя еще остался сервелат? – поинтересовался Ганс.
– Да подожди! Тут появляется Альберт и говорит: Прости меня, Жизель, лесничий прав, я обручен с другой.
– Лесничий прав, я обручен с другой.
– Батильда мне невеста!
– Батильда мне невеста.
– Прости меня, Жизель!
– Прости меня…
– Я падаю и умираю от любви!
И Таня на ковер упала, умерла.
– Стемнело, занавески сдвинь! Трагическая музыка! Там-там-та-рам…
Он сдвинул занавески.
– Действие второе! – объявила Таня. – Ночь. Воет ветер, уууууу! На кладбище вильсы – невесты, умершие до свадьбы, пляшут. В подвенечных платьях! К моей могиле Ганс бредет. Бреди!
– А где твоя могила?
– На полу, не видишь?
Он подошел и встал над ней.
– А тут вильсы хватают Ганса и кружат! – она вскочила и закружила Шишина. – Кружат, кружат! Пока не падает на землю бездыханным. Всё! Умер, падай!
Он упал.
– Теперь ты граф Альберт, вставай! Иди к могиле. Шапку! Шапку-то сними!
Он снял.
– Ты все себе простить не можешь, что ты меня предал. Я умерла из-за тебя! Дурацкий вид… Ну, ладно… Тут снова появляются вильсы и хотят закружить тебя до смерти. Но тень Жизели над тобой встает и не дает вильсам убить тебя! Любовь сильнее смерти! Понял?
– Понял…
– Пошли на кухню, сервелат съедим.
– А есть?
– А то! – ответила Жизель.
– А нету сервелата, мама?
– Сервелата? – снимая с плеч горжетку с карими глазами, удивилась мать. – Какого сервелата, Саша? В такой стране… на пенсию мою…
Глава 42 Мело, мело…
– Еж – птица гордая, – сказал Бобрыкин ненавистный. – Пока не пнешь, не полетит! – и, пнув коленом Шишина под зад, вперед к козлу толкнул. И Шишин, отлетев на шаг, побрел к козлу хромая, неохотно, боясь, что снова, как позавчера, подрезана Бобрыкиным проклятым резинка будет шорт, что мать из платья модно сшила с выкройки «Бурда», опасливо придерживая за полоски их. Сопя остановился у козла, подумал и пошел в обход.
– Эхма… – сказал Бобрыкин Тане, – ты видала? Опять я ускорения не рассчитал…
– Отстань ты от меня! – сказала Таня.
– Да я бы рад, мон шер, но только загляну в глаза…
– Сама его убью! – Пообещала Таня.
– Кого? – поинтересовался Шишин.
– Его!
– А… – догадался Шишин.
– Бэ! – сказала Таня. – Всё, пошли! – они пошли на третий, в кабинет литературы.
– Давай ему в портфель подложим крысу? – предложила Таня.
– Давай!
– Или почтовый ящик подожжем?
– Давай…
– Давай ему прикрепим тоже, что дурак?
– Давай…
– На спину. Нет! Лучше в тубзике запрем!
– Давай!
– А в булку таракана?
– Капитально!
– Мешком по голове его, давай? Или учебники зальем кефиром?
– Давай…
– А лучше, я ему записку напишу, что я его в кино зову?
– Давай… Зачем?
– И не приду!
– Давай!
И написали так: «Пойдешь со мной в кино? Т.Т.»
«С тобой хоть в зоопарк, мон шер. С.Б.»
– И не приду! – пообещала Таня и спрятала в кармане фартука записку, чтобы потом, попозже разорвать.
В обед, наевшись каши гречной с ситным, Шишин в комнату свою побрёл, на дверь закрылся, лег и, ноги протянув, с тоской смертельной слушал в полудреме, как прибирает со стола тарелки мать, гремит, ворчит, бубнит, звенит посудой в шкафе, веником метет…
«Метет, метет…» – подумал он…
«Мело, мело, мело… – сказала Таня. – Слетались хлопья на стекло, к оконной раме… Метель лепила на стекле – красиво, да? – кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела…». Она сказала: «Пастернак», и Шишин вспомнил, что пастернак тушила мать на чугуне, с фасолью. Он пастернака не любил, фасоль и брюкву, и даже если посыпают верх моченой клюквой.
– Я пастернака не люблю… – ответил Шишин и руку прислонил к стеклу, где Таня дышит.
– Blizzards were blowing everywhere throughout the land, мон шер ами, – сказал Бобрыкин.
– Иди отсюда, идиот, – сказала Таня.
Мать все мела. Он задремал. Полуденный и жуткий сон, какие часто в разговенье снятся, Шишину приснился. Приснилось, что лежит на дне коробки длинной, из таких, в какие лыжи прячут, с открытой крышкой, неподвижно, сложив покоем руки, с каменным лицом, с открытым левым глазом, и глазом этим, не мигая, смотрит в потолок.
«Мигнешь – умрешь!» – сказал Бобрыкин ненавистный, склоняясь над коробкой, и к носу Шишина поднес кулак и щелкнул. Шишин вздрогнул, заморгал...
Под потолком кружила муха, садилась на нос, лоб, перебирала скрещенные пальцы, расхаживала по щекам и, потирая лапки, на Шишина смотрела равнодушно пустыми мушьими глазами, вверх ногами ползала по потолку. Открыта форточка, и уличные смехи влетали в комнату, качая занавески, и, растворяясь, умолкали по углам. И больше в комнате углов казалось, чем четыре, а все были углы, углы, углы...
Мать в комнату вошла, метя подолом тусклым пыль с ковра, в седой овечьей шали, с большой подушкой белой на руках, и положив ее на стол, к столу спиной присела, сложив крестом ладони на перстнях.
«К кончине положить на стол подушку, Саша», – объяснила мать.
Спине все тяжелее было, Шишин повернулся на бок, на правый повернулся, выдохнул, вздохнул, но не вздохнулось.
– Полегче, Саша?
– Да…
– Ну, скоро отойдешь, – вздохнула мать, – на все Господня воля. Перекрестив, открыла требник, стала вслух читать. И все казалось Шишину, из-за коробки, не мать читает, а ворона, и было жутко, что заупокойной накаркает она беду ему…
«… Христе Иисусе, Господи и Вседержитель, тебе молюсь за сына Александра свояго. Не дай свершиться злу. Как каплями подобно дождевыми, злые, малые все дни его и лета, оскудеют, помалу исчезающее, помилуй Господи, прими раба твого… – читала мать. – Не осуди грехом его на вечные мученья, пощадью милуй яко благий есь, и есть греховен сын мой Александр от рожденья, как всякий в мир приходя есть. Велицей милостью своей его помилуй, и ясно блаже возложи венец от камня честна, зде на земле не будет вечного ему покоя, но увенчай его в небесном царствии своем. Помилуй и спаси… Аминь». Окончив, встала, коробку с Шишиным закрыла и ушла.
Проснувшись, Шишин к матери пошел, спросить, к чему ему коробка снилась.
– Ни к чему, – сказала мать и, требник отложив, смотрела в пол.
– Картонная была коробка…
– Весь день по лестнице коробки носят, переезжают черти, – объяснила мать. – Приснилось то, что видел – сон пустой.
– А если я в коробке? – немного успокоившись, припомнил он.
– В дому торчишь, как гвоздь в зобу, – сказала мать, – и сны такие видишь.
– Что ты по мне епитимию читала, требник, как сейчас, – косясь на мать с опаской, вспомнил Шишин.
– Отвяжись! – сказала мать.
«Живого отпела…» – с тоской подумал он и хмуро, с подозреньем посмотрел на мать.
– Иди, иди, – она с подушки снова требник подняла и, пополам переломив, поверх страниц смотрела так же хмуро, как хмуро Шишин на неё смотрел. – Иди, а ну! Смотри, до смерти зачитаю! – и Шишин в коридор пошел, там ухом прислонясь к двери, стоял и слушал, как переезжают. За дверью тихо было, как в гробу.
«Вот так придешь обратно с хлебом, – думал он, тихонько у двери скобля обивку, – а все возьмут и переедут. Все. Мать тоже переедет, если все. Но если все, тогда и Таня…» – и страшно было на душе у Шишина без Тани, как будто он не мог без Тани на душе.
И в вечер света в доме не зажгут, и окна выбьют, рамы со стекольными зубами к мусорным контейнерам снесут, и стулья, и столы, и радио, и граммофон, пластинки, стопки старых книг, журналов «Юность», «Огонек» и «Знамя»… Тряпьем горелым, осенью, газетным дымом больно станет пахнуть во дворе, скрипеть ночами будут старые качели, и ржавой карусели крылья землю будут задевать, скрести…
И стало страшно Шишину, что так и будет, если он из дома выйдет, и он решил не выходить из дома, на всякий случай, никогда не выходить.
– Кружи быстрей! – смеялась Таня, и в памяти бежал по кругу Шишин, толкая желтое железное крыло, и голова кружилась, оскользались ноги, и спицы карусели старой черной грязью обдавали от земли.
– В Австралию летим! Переезжаем! – кричала Таня. – В Баден-Баден! Прыгай на лету!
Он прыгнул, прыгнул на лету, упал. Крыло ударило по небу, в нем окно открылось. Упали облака на землю, превратились в лужи. В них отразилась черная луна.
«Где это, Баден- Баден?» – думал он.
– Саня, Саша… Саня… миленький, хороший, ты живой?
– Живой, – ответил он. – Где это, Баден-Баден?
– Там, – она сказала.
– Там? – удивился Шишин. – Я хочу с тобой….
Они прошли в окне, держась за руки. «Но этого не может быть, не может быть, не может», – подумал он, и ногти выскребали скрип в двериной коже, а лоб железный барабанил по замку.
– Кремень! Железный лоб! Я прикурю? – спросил из памяти Бобрыкин ненавистный, и чтоб проверить, можно ли из Шишина огня добиться, все чиркал, чиркал, чиркал спичками по лбу.
Он бросился назад. Потом вперед. «Через мой труп» – сказала мать, он взвыл и оттолкнул ее… И бросился и бросился, и бросился опять к окну, их не было уже в окне. «Куда без шапки, ирод?! – кричала в спину мать – «Куда? Куда?..». А как же тот билет счастливый, на который он желанье загадал и съел, не сбылось? Подвело? Ступени, ящики почтовые и двор, забор… забор по кругу. Вот они!
– А вы куда?
– В кино, – сказала Таня.
– А можно с вами? – «Можно с вами, можно, можно с вами…»
– Нет.
– Всю дверь мне исцарапал, всю обивку, паразит проклятый! Руки оборву, – из спальни выходя, сказала мать. – Не знает черт, в какое место культи сунуть. В розетку сунь их, если некуда девать! – и Шишин спрятал руки, отошел, хотя царапины почти не видно было. Почти невидно было. Как внутри.
Мать плюнула, ушла на кухню, шаркая ногами. Он снова к двери подошел, глазок откинул. Но ничего в глазок не видно было, никого.
«Когда переезжают, – думал он, – выкидывают много. Можно что-то интересное у мусорных контейнеров найти для Тани». Но было страшно. Люди в синем не уйти могли, а затаиться где-нибудь. «И ждут», – подумал он.
– Добра-то сколько пошвыряли, паразиты! Саша, только посмотри…
Он к матери пошел на кухню, чтоб посмотреть, чего понашвыряли.
– Сходил бы, посмотрел, не выкинут ли табурет? Нам табуретку нужно, третья без ноги.
– Четвертая есть на балконе, – вспомнил он.
– Есть – есть не просит. Все ты табуретки мне перекалечил, не напасешься табуреток, ну, иди!
Он сдел с крючка собачью шапку, но все не шел, стоял, вертел на пальце стертую подкладку: куда покажет левым ухом шапка, туда, или куда…
– Сороковины ждешь? Дождешься! Табуретку из-под носа вынут. Люди… – объяснила мать и, шапку отобрав, повесила на крюк. – Тепло, чума! – перекрестила спину и подтолкнула Шишина к двери.
Глава 43
Коробка
Вечерело. Проглатывая шумы дальних улиц, сползались тени ко двору, дома втянулись в арки. Вбивая сваи, стучал на пустыре отбойный молоток, и от ударов высоко подпрыгивало небо. В мареве весеннем плавал день, совок в песочнице, ботинок в луже, ворота без качелей, мандариновые корки, окурки, бантики ольхи… У самого подъезда грузовик стоял большой, из тех, в которых навсегда увозят мебель, Шишин осторожно обогнул его.
Хромая, кот придворный по кромке лужу пересек. Одрыгивая лапы, обернулся, мякнул и под грузовик полез. Боясь, что грузовик покатит и кота скатает, он наклонился выманить его, позвал «кыс, кыс…», но кот не вылез, чертом злющим таращился на Шишина из темноты. С балкона мать за Шишиным следила так же мрачно, как подкапотный кот, и черной грязью густо, медленно стекало с колеса.
-Кляп, кляп…
-Кыс-кыс…
-Кляп-кляп…
Он обернулся посмотреть, где Таня, но там, где Таня – не было ее, и пусто, занавеской снятой окно ее смотрело, как со дна.
Картонная закрытая коробка у мусорных контейнеров стояла, было непонятно, есть в ней табуретка или нет.
– Смотри, коробка…
– Вижу…
– Давай ее откроем, вдруг там…
– Что?
– Не знаю. Откроем и узнаем что… – пообещала Таня.
– И никогда не открывай коробок незнакомых! Слышишь? Никогда! Нет дураков таких, чтобы добро тебе коробками к помойкам разносили! Битье да колотье одно, а то и что похуже! – сказала мать. – В такой коробке на Панфилово у нас отрубленную голову нашли, вон там, недалеко, за га-ра-жа-ми…
«За гаражами га-ра-жи…», – подумал в складку и улыбнулся, что подумать вышло в складку у него.
– Сокровища… – предположила Таня…
– Не слушай эту тварь! – сказала мать.
Он наклонился и открыл.
На лезвии зеленого стекла блеснуло солнце, полоснуло, разлилось в закат. Запахивая крылья на груди, прошла хромая старая ворона, пугая сонных голубей. Березовой метлой знакомый дворник гнал по тротуару облачные пыли, и ртутью собирались в прошлогодних листьях катушки дождя. Не таял, плыл, качаясь, долгий день апреля, в котором все было не так, не то, не как всегда….
Там были горы золотые, самоцветы… рубины и сапфиры, янтаря. Рябиновые бусы, китовые усы, ракушки, камушки, кругляшки, чертов палец, якорь от значка… Гитары струны, фантики, кассеты и пластинки… Цепочки, камера велосипедная, веревки и резинки, желуди и шишки, половинка грецкого ореха, носик от сифона, сам сифон, и точно пузырьки от лимонада в спичечной коробке разноцветный бисер… Винтики, катушки, пуговки, кусок смолы янтарной, шурупы, гаечки, наперстки, запонки, крючки…
И проволоки медной моток большой, и письма, письма, письма…
От Саши Шишина…
Для Тани… 5 «Б», 6, 7, 8, 9 «Б», 10… Улица Свободы. 23.
«Тани, Тани, Тани…» – так стучало сердце. Всегда стучало так же, как сейчас. Он взял конверт, вдохнув знакомый запах, к себе прижал и отнял от себя. Отняв прижал опять, на окна покосился. В окнах догорал закат.
Запутавшись в кленовой паутине, качалось солнце, в небе точно лупой выжигая черную дыру, и белым опоясанное нимбом смотрело ярко, жмурило глаза. Глаза слезились, как от лука, когда на кухне луковицу режет мать. Все режет, режет…
Луковые слезы, луковое горе… все не нарежется никак за жизнь, всю жизнь, все по глазам да по глазам…
И все смотрел, смотрел…
«На солнце не смотри мне, понял? Не таращься! Смотрел один такой, ослеп. Совсем ослеп. И ты ослепнешь, будешь никому не нужен. Никому! Сейчас-то никому не нужен, а будешь хуже никому не нужен, чем сейчас»! – пообещала мать.
Садилось солнце…
– Смотри, смотри! Пожар в твоем окне! – сказала Таня.
Балконное окно оранжевым горело, алым, из него на Шишина смотрела догорая мать, губами шевелила, обещала хуже, чем сейчас…
– Сгорит! Скорее побежали! Вызовем пожарную машину! – хватая за рукав, трясла, кричала Таня.
– Нет, пусть сгорит… – ответил он и выдернул рукав.
Садилось солнце.
– Хочешь, я его поймаю?
– Хочу, поймай, – ответил он.
Подставив солнцу лодочкой ладошку, она подождала чуть-чуть и сжала руку, мир погас.
Открыла – вспыхнул. На ладони кусок смолы янтарной у нее лежал.
– Расплавилось… – сказала, улыбаясь.
– Да… – он осторожно солнце взял, боясь обжечься, положил в карман.
«Все потеряли, все»! – достав со дна кусок смолы янтарной, он выронил его, вскочил, схватил коробку, к груди прижал и побежал назад. Там дверь была распахнута, была открыта, люди в синем мимо Шишина буфет несли. Пустой буфет раскрытой дверцей хлопал, будто ветер в черной комнате ходил…
– А, Саня, это ты? – сказала Таня. – А мы переезжаем, видишь? Ты попозже заходи…
– Когда?
«Смотри! – сказал Бобрыкин ненавистный, на асфальте мелом проводя черту, – досюда можно, за нельзя…»
– Когда?
Она молчала.
Ботинок не снимая, грязными ногами люди в синем снова в дом вошли, и мимо Шишина, тесня плечами, кресло пронесли.
– Когда?
Она молчала.
– Здорово, Шишкин! О, знакомая коробка! – в спине сказал Бобрыкин ненавистный. – Ежики лесные! Бумеранг, ей богу. Тебе не тяжело? Давай-ка подмогну! – и, отобрав коробку, прочь понес, забылся…
– Когда?
Она молчала.
– Когда?
Она молчала.
На лестничной площадке кузовок раскрылся, грохнуло, осыпалось и смолкло.
Грохнуло, осыпалось и смолкло в голове.
Ступени вверх вели. И вниз вели.
У мусорной трубы кусок смолы янтарной лежит, не светит и не греет, лампочка погасла. Не горит. Он наступил ногой, и наступил покрепче, чтобы захрустело, и по ступеням вниз пошел, и вверх пошел, и вниз.
Глава 44
Переезжаю
Мать часто открывала дверь входную, чтоб проверить, стоит за нею Шишин или нет.
– Ожди! Газету дам, полы загадишь.
– Пусти. Переезжаю.
– Без тебя не переедут.
– Пусти!
– За торопами волки ходят, – усмехнулась мать.
Но на волков не глянув, ботинок не снимая, Шишин мимо, молча, в комнату свою прошел, на дверь закрылся, собираться стал.
– Засобирались бесы на гумно. Чумной! – из-за двери сказала мать, но не вошла, топча пошла куда-то, дальше, дальше, тише. Включила воду, стихла за водой.
Он огляделся. В комнате осталось все, как было. «Как было до чего»? Но до чего все было, как осталось, трудно было разобраться, угадать; и он ходил, засунув рукава в карманы, ежась, в памяти перебирая все что было, до того, как так остаться, как всегда. И ниже, ниже с каждым шагом опускался потолок. Тяжелый потолок… Ведь сколько этажей над ним, и комнат, шкафов и книжных полок, фортепьян, диванов и буфетов, мусорных ведер… И если бы людей, что в синем мебель носят, попросить, чтоб вынесли все это, то может не такой тяжелый был бы потолок.
«Чем выше жить, тем легче», – думал он, в уме считая, сколько этажей над ним до верха, да еще и крыша, и все это терпи. И все это ходи, и все это живи…
Весенний вечер подоконник наклонил, по синему стеклу скользили тени, откинув занавеску в комнату, прищурив рыжий глаз, еще заглядывало солнце, а сколько времени прошло с тех пор, как стало все не так как было, до того как стало так, никто не знал, никто, и даже мать…
Та по стене половником стучала, полдничать звала. «Переезжаю, некогда, не опоздать бы! – думал с беспокойством. – Грузовик уедет, кота скатает, выйдет дело…Что собирать? Что собирать? Что собирать?»
«Фонарик, мыло, спички, полотенце, сменку, сгущенки банку сухарей, веревку, перочинный нож... – на девять пальцев загибала Таня. – Все запомнил?
«Все»
«А лучше запиши»
«И стол еще возьму», – подумал (без стола никак); все, кто переезжают навсегда, берут столы. Стол записал десятым, и, устав прилег, как мать учила, с лицом открытым, обращенным на восток.
Она вошла, свечу в ногах поставив, села в изголовье.
– Что, Саша, полдничать не шел, не заболел?
– Там посмотри, что я не взял еще.
Мать подошла к столу и, список прочитав, перечитав, нахмурившись, сказала, что нет сгущенки и веревок с мылом тоже.
– Обойдусь.
Откинув покрывало, встал, стол обошел и стал толкать.
– Да что с тобой сегодня, господи помилуй?
– Переезжаю, отойди!
И дальше стол толкал.
– Царю Небесный… – прошептала мать и следом шла, крестила спину. Шишин не любил, когда она крестила в спину, стол отпустил и, обернувшись, тоже мать перекрестил: четыре раза, снова в стол уперся и толкал.
Три матери смотрели из трельяжа, мешали Шишину переезжать.
«Сейчас я вас…», – и с силой стол толкнул. Три матери разбились, стеклянным звоном осыпаясь в уши.
– Ныне укрепи… – четвертая сказала за спиной.
«Ныне укрепи… одна всего осталась, позже разобью…»
Мать следом шла, хромая, причитая, пол мела подолом, назад скакали стены, бумажные высовывая языки гремели ящики, стекло хрустело. На черной лестнице темно и тихо было, по серым кафелям скользила тишина, выл ветер в мусорные трубы, из шахты пахло страшным сном, от мусорной трубы тянуло смрадом.
– Хоть людям, людям, Саша, не позорь… – шептала мать, заламывая руки, нечеловеческие силы вперед толкали стол.
Переезжаю… хватит.
Бодрым шагом вверх Бобрыкин ненавистный поднимался с мусорным ведром…
– Здорово, брат, в Австралию переезжаешь?
– В Австралию, – ответил, улыбаясь, и улыбаясь, стол к Бобрыкину толкнул.
Глава 45
Шаромкати
Мой милый, мой хороший, дай мне руку. В сплетенных пальцах спрячем летнее тепло, в тот день, когда от солнца холодеют губы, и ветер дымный под Вивальди листья кружит. Дверь скрипнет, отворяясь, мы войдем туда, где будет все не так, как будет, по-другому…
«Шаромкати…» – подумал он, боясь взглянуть на окровавленные руки, ладони вытер о полог, и спрятал в них лицо, размазывая губы, и ржавые следы подтерла темнота.
«Шаромкати…»
И копошились тени на полу, углы вязало серым, и тошнотворно пахло в голове прогоркшим маслом, матери тряпьем, варьем, чугунной ржавчиной, капустной тиной…
– Саша! Ужинать иди! – половником стучала в стену мать, в виски стучала, и красный шар луны, как волчий глаз двоился, отражаясь в круге оплывающей свечи. Воск капал на тропарь, забытый матерью на стуле, он руку протянул, и оттолкнул его, и снова руку вытер о полог.
Как по покойнику завесив небо облаками, окно из комнаты смотрело. Он все лежал и слушал пустоту. Она была полна дыханьями и голосами, смехом, сверчковым треском кухонных часов, журчанием бачка, и точно птичий щебет вечный гул ее стоял в ушах.
«Шаромкати…»
– Остынет, Саша!
Он встал и подошел к окну, касаясь пальцами, горячим лбом того, кто за окном стоял. Тот тоже прислонился, задышал неровно, дымные рисуя под губами облачка. С безумием бесстрашия бессмертья носился ветер по двору, расшвыривая галок. Дробила вечер темнота, бесшумно, из небытия выпрыгивали человечки, похожие на шляпки «Буратин», с опаской огибая земляные ямы, очерченные красными флажками, торопливо шли, и исчезали в пустоте.
«Шаромкати…»
Мать застучала громче, громче, громче. Он встал в дверях, качаясь о порог. Сюда-туда, туда-сюда…
– Уймись, – сказала мать, не обернувшись, крышку над кастрюлей подняла. Привычный, кислый запах кваши взорвался в голове. Над образами в паутине прошлогодняя качалась муха.
Тик-так, тик-так, тик-так…
– Уймись – сказала!
– Убью тебя сейчас.
– Убей, – сказала мать.
Он развернулся, вышел. Шкаф открыл в прихожей, обшарил все карманы, висельники долгими рядами стояли черные одежды, платья и плащи, наполненные мертвецами, рассыпаясь в пыль. Сухая, волчья тоска перехватила горло, как будто мать за подбородок вдруг взяла холодными руками, сжала, затрясла, он заскулил. Все ближе, ближе было страшное, казалось за спиной невидимым стоит и ждет. Чего? Кого? «Тебя», – шепнуло в голове.
«Меня…?» Он опустился на колени и ящики поочередно открывал и закрывал, возил туда-сюда, вытаскивал тряпье и складывал рядами.
– Хватит, Саша, хватит… – из кухни выходя, сказала мать. – Пройдет… Поверь, перетерпи…
«Пройдет», «Поверь», «Перетерпи…», «Тик-так, тик-так, тик-так…»
– Сынок… послушай… Меня послушай, я плохого не желаю, не скажу…
Он вздрогнул. Мучительно, не понимая, с ужасом смотрел на мать, она вертела руки, рукава крутила, закутанная в шаль, безумная старуха, по щекам, как ржавчина из кухонного крана, слезы… Слезы мутные текли.
– Ах, бедный, бедный мой хороший… – и, опустившись рядом, тронула по голове…
– Уйди… – хрипя, с отвращеньем сдернул руку. Рука упала на пол, в складки собрала подол.
– Прости тебя Господь, – шепнула мать. – Какой же ты дурак… Любви ему, любви… Какой тебе любви, больная голова? Какой любви? Терпеть должна любовь! Терпеть и ждать, и веровать, и верить! Из горя – в радь. А у тебя же, идол, все наоборот, все наизнань! Все врать назадь!..
А милосердствовать должна любовь, надеяться и только, Саша! И больше ничего. И не завидовать, не мыслить зла. Не поднимать руки, не отбирать чужого, слышишь, слышишь? – и дальше говорила. – А в небесах грохочет, пережди. И после радугу Господь на небе в утешение воздвигнет, Саша, вот и есь любовь. Она и есь. Ты жди. И все покроет, милостив Господь, любовь такая, перетерпится, ты слышишь? Слышишь, Саша, Саша? Маленький ты мой…
Безгрешна, не телесна, быть любовь должна. В ней только отдавать из сердца просит, и все отдай из сердца и прости. И легче о прощенье станет, и Богородице молись, сынок, сыночек… Чтоб радовалася тебя услыши. Что Дева говори: ты радуйся со мной, благословенна в женах, и я с тобой на утешенье, господи ты боже мой, дурак какой! Молись со мной, проси…
Царю Небесный, Утешителю святые, Марии деве присно, душе истины и иже везде сый, и вся исполни, сокровищей благих, и жизнею податей, прииди и вселися в ны, изыди сатаны, очисти мя от всяких страстей, скверны, спаси и сохрани...
-Больно, мама…
«Убей Бобрыкина, убей его, убей…»
Глава 46
Молитва
Здравствуй, мой родной, мой милый мой хороший Саня, – Шишину писала Таня. – Сегодня я во сне видала: птица золотая по небу летела на закат, и в небе синем так светло, так ясно ночь горели звезды! Как росинки на ладонях листьев, изумруды да алмазы, что мы с тобой в траве за голубятней старой искали в детстве, – милый мой хороший, – не нашли.
И сколько же сокровищ разных в небе было, мне взлететь хотелось, я остановилась, все смотрела в небо. Птица превратилась в паруса. Дыхание мое с твоим соединилось. Шаги соединились наши: я была не я, но ты, и ты был мной. Ты был во мне: там, где мое стучало сердце, второе вдруг забилось. Никакие силы, никакие силы, никакие силы не могли нас разлучить с тобою, разлучить с тобой, разъединить нас… не могли… … разъединить нас, значит – пополам разрезать, нас – разрезать нас – разбить, как близнецов сиамских разорвать на части. Значит: завязать глаза, в колодец бросить без дна, бездна, без солнца, без воды. Вот мы с тобой одно. Не рядом ты идешь со мной, но ты во мне. Мы шли, друг друга не касаясь рукавами, потому что. Потому что: как любимый рукавом коснуться можно того, кто есть в тебе? Как будто у меня четыре глаза, и руки четыре, крыла четыре и дыханья, ноги легче стали. В свете неба, в звоне растворились ты да я, но, растворившись, не расстались – ты во мне остался. Стала я, как облако, прозрачна и взлетела. Милый мой хороший, как же мне легко летать, лететь, лететь в полях, морях и реках, в синем-синем небе, в изумрудах росы, в опалах алых маки, янтаря… Да я и ты все это. Все богатство мира, все, что в мире есть все это я да ты. А больше ничего не нужно, ничего. Ни хлеба, ни вина, росу мы пили, и росой мы были, полями были да лесами. Да землей, которую весной укроют травы, а зимою снеги, снегири, как ты меня укроешь, я тебя. Мы высоко летели, не держась за руки, от того что так не крепки пальцы, замки и замки, стены. Не оберегут они от боли, а только если бы одно дыхание с другим сольется, звезда с звездою, лето с летом… Но не сойдется, не сойдется лето с летом и весна с весною, я это знаю, знаю, да забыла, да забыла, да не помню, все забыла, все забыла, я не я была. Ты помнишь, милый, я тебе сказала, что уметь летаю.. Я умею, правда, мой хороший, милый мой, любимый… Там на небе белые цвели сирени, синие ветра, ручьи текли, лились дожди, живой водой озера наполняли. Ленты рек атласных в волосы вплетала, и тебе вплетала, и тебе шептала, о себе шептала, да цветы… Все это было, тобою было, мною, я смеялись… …шиповники качали головами… Помнишь, милый, как стояли мы с тобой на крыше вниз смотрели. И маленькими, крошечными букашами были человечки, человечки – муравьи казались сверху. Каплями по коже ветер с моря! Прыгнуть мне хотелось, прыгнуть – не разбиться, а лететь как птице… на закат. По морю плыть, и пусть качают волны, раствориться в них, и в небе раствориться, в свете раствориться, в солнце… как смотреть меж пальцев, если нету пальцев… Остается только свет…
– А я уметь летаю! Я летать умею! Хочешь, хочешь, научу?
– Хочу…
– Беги!!!!
«Бежать… – подумал он, – бежать…» И отвернувшись от всего, глаза закрыл, и ей навстречу, к ней летело небо, лето, птицы звезды, бульвары, крыши, облака и солнце… Было и погасло, лампочка погасла, копотью лампада рисовала черный круг.
Мне кошка черная на грудь во сне прыг-скок, калачиком свернулась и мурчит, мурлык- мурлык, и когти в одеяло точит, а глаз у кошки этой, Саша нет, как будто выклевали птицы, давит, давит, часы тик-так, она мурлык-мурлык... И страшно, Саша, страшно… не взлететь, не встать, и не открыть глаза.. Родной, хороший, посмотри, как будто лампу погасили в комнате без окон, без дверей… Ты видишь, Саша, свет погас? И я проснулась… Милый, милый! Завтра на рассвете увезти меня Бобрыкин ненавистный хочет от тебя. За мною черный-черный, страшный-страшный грузовик приедет, что у подъезда уже сегодня ждал. И в нем два синих человека, те, что мебель носят, мебель носят, двери открывают, входят и выходят, нам не оставляя, в нас не оставляя никого… И увезут туда, откуда не вернусь я, не увижу, не услышу… тебя, тебя, тебя… Из сердца вырвать, выдрать, выжечь… или… Убей его, любимый, милый мой хороший! Убей Бобрыкина! Убей его, убей!
Дверь распахнулось в спину.
– Опять?.. – спросила мать. – А ну-ка, дай сюда! Смотрю, притих, свернулось лихо тихо…
– Возьми.
– Возьму.
– Возьми.
–Возьму, возьму! Всю жизнь из-за нее бесям в посоль! Из-за нее, из-за нее, проклятой! Дряни этой!
– Замолчи.
– Живым похоронился, Господи помилуй, идиот проклятый… Я молчать не буду…
– Замолчи.
– Скажу! Твоя, да не твоя! Уедут завтра. Уезжают, понял? Понял? Что киваешь? Что ты все киваешь? Что киваешь? Киваешь? Ну, кивай, кивай…
И он кивал, к груди плотнее прижимал листок. А мать кричала. Кричала в голове и комнате кричала, кричала в доме, громко, слишком громко…
– Замолчи…
– Нет на тебе креста! Кивает он! Любовью не прилюбишь! Не прилюбишь, Саша! Дай, сказала, дай сюда! – и руку протянула за письмом.
«Есть крест на мне», – подумал усмехаясь.
Был крест нательный под пижамой у него, а как под кожей был. Чесался шнур за шеей, не достанешь, и серебро нажгло, как будто тысячи крапивниц подлых, паучков, клопов диванных, комаров да блох жило под ним. В шнуре жило крученом, букашек да мурашек, кусанов, что ночью кровь сосут из жил. «Всю высосут по жалам, всю…», – подумал, как по распятью кровь по капле в землю утекала со ступней Христа.
Веревка ожила, и из нее вверх по спине мурашки побежали, вниз побежали… Запрыгали, застрекотали, везде, повсюду… Руку приложив к груди, шнурок нащупал, сжал, зажмурился и дернул. Веревка оборвалась, звякнув, крест упал.
– Заступники святые…
Облегченно откинулся в подушки и довольный посмотрел на мать.
– Отдай письмо… не то…
– Не то, то что?
– Увидишь…
Сел повыше, в пустоту смотрел. В ней замелькали лица храмовых старух и служек, священника, похожего на колдуна, учительницы музыки, и дворника, что задушил ее, кассирши из хозяйственного магазина, что продала Бобрыкину веревку, почтарки, тети Жени, бабы Тани, не бабы Тани, ни почтарки…никого…
– Чур, чур тебя! – крестясь шептала мать. – Потьма, отыми! Все бесы, Саша, от твоих проклятых писем! Дай сказала, д-а-а-й сюда…
И бросилась, вцепилась, вырвала листок. Бумажные осколки хлынули в лицо, как перья белой птицы опускались на пол, медленно чернея от теней. Ударив в стену форточка раскрылась, в комнату ворвался ветер, стукнулся о дверь и, оттолкнув ее, помчался дальше, раскачивая коридорные шкафы.
– Возьмите птиц летящих, горсть земную… – встав на колени, бормотала мать.
Графитной пустотой углы забились, зеленым глазом не мигая смотрели электронные часы, и, шаря рукавами, ползала по полу, ища под пологом, между бумажных трещин упавшего креста.
– Не будет жини ей, проклятой, вот увидишь, Саша! Счастья ей не будет… радости не будет, отмолю…
Он сжал оцепенело на подушке пальцы и кинулся на мать плашмя и сверху, чтобы не успела крест найти и счастья отмолить.
На стуле, под окном лежали сложенные вещи. Он сел, не справившись с второй штаниной, встал, одевшись без штанины, так, и волоча с собой, пополз по полу. Осторожно, точно бабочкины крылья, подбирал бумажные осколки, поднося их к лампе обратно складывал в письмо.
Здравствуй, милая моя, любимая Танюша. Как твои дела? А у меня все хорошо.
Ты приходи сегодня вечером, пожалуйста, к качелям, только если дождь не будет. Помнишь, под дождем с тобой промокли, ты болела долго, в школу не ходила, и не знаю даже, как прожил те дни. Ты, если дождь пойдет, тогда не приходи, а то промочишь ноги, заболеешь и умрешь. А без тебя я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Твой Ш.
Под языком скакала кнопка, было тихо-тихо. «Что кошку слышно, – думал он, – которой нет», свернул письмо в четыре, запечатал, и, положив в карман пижамы, новый лист достал.
Усердно буквы выводя в иной наклон, – круглее «а», прямее «эр», ракушка «д». Заглавной «З» восьмерка, не перепутанная с «Е». Петлички «в», с летящей черточкой поверх «т» маленькая, и не в ряд немножко «с», «и краткое», и…
«Здравствуй…»
Здравствуй, милый мой, родной, хороший Саня, – Шишину в ответ писала Таня. – Тоже у меня все хорошо, вот только видишь, дождь пошел. Но это ничего, любимый, ничего. Пройдет. Я дождь люблю. Смотри, как барабанит он по крышам, сейчас смеется он, а осенью – как плачет. А как пройдет, то в лужах будут плавать лепестки сирени с черемуховым снегом по краям, и можно станет сколько хочешь хлопать в лужах. Летом – белые кругляшки бузины. Как горько носу, если между пальцев полынный серый листик растереть, а в липовых сережках у забора салатовые венчики внутри, а после высохнут на солнце – пылью пахнут, шишками, орехами лесными, кедровыми… Раскусишь – липнут, тают, будто леденцы. Садовый к зубу прилипает вар, а в муравейник сунешь палку, и оближешь – кисло. Спрашиваешь милый, помню ли… Как я могу, как я могла забыть? А из венка за шею вдруг сползет мурашка, и страшно, что укусит, и щекотно, и смешно. А на руке сидит комар голодный, а после точно шарик красный еле поднимается с руки. Чудно… Чудно! Что столько цветиков луговых зверобоев, таволг, колокольчиков, ромашек, что выше пояса стоят – смотри! Я вижу Видишь ли? В траве утонешь, и как плывешь в ней долго-долго, до реки. Что белки прыгают в лесу не рыжие, как белки, худые серые, будто мыши с беличьим хвостом. Ввода такая теплая, как из-под крана, и больно пахнет счастьем от земли. Твоя Т.Б
Дождь кончился.
Тихонько он по черной лестнице спустился, быстро вдоль ящиков прошел почтовых, выскользнул за двери в темноту.
Стояла Таня у стены кирпичной, укрытая цветами. Он подошел, обнял ее за плечи и долго жадными губами влажную душистую родную целовал кору.
Глава 47
Копилка
Я мялку вынимаю
И начинаю мять. Кого не понимаю – Не надо понимать. А то если подумаешь И что-нибудь поймёшь, Не только мялку вытащишь, – А схватишься за нож! ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ
Настанет день, и небо опрокинет синеву на крыши, и купол зачерпнет дома, дворы, людей, все что, и выплеснет, и выплеснет! И там, внизу, вдруг отразиться глубина немыслимого цвета, недостижимой, невозможной высоты.
Рожденный день последнего апреля светлый, чистый, млечный от дождя. Открыта форточка, и воробьиный чвик и голубиный карл, и все прыг-скок, и все бегом, в припрыж, грачьи, ручьи. По рекам тротуаров неслись к канализационным люкам облака, в бензиновых разводах луж сверкали радуги, и мокрые, как шишки, дикие коты кричали «Бряуууу! Бряоооо!» Крестом окна зачеркнутое небо смотрело в комнату, в нем плыли крыши.
Мир перевернулся.
«В картинах тоже, где рисуют море, непонятно, как их вешать, – подумал он. – То небо вверх ногами, то вода. Повесишь на стену, и будешь после по потолку ходить вниз головой, всю жизнь, и знать не зная! Знать, не зная что»? – думал.
– Ромашка нагадала: я умру!
– И мне…
– Я ничего не знаю! Ничего не знаю! Знать не знаю! Не хочу! Не буду знать! Бежим, бежим! Бежим!
– Куда?
–Отсюда до туда! Туда отсюда! Куда-туда оттуда-досюда! Куда хотим!
– Куда хотим, мне мать не пустит…
– Саша! Саша! Саня! Ты ее убил! Убил… убил… убил…
И он забормотал, на голову натягивая одеяло, и в голову войдя, тоскливо створкой скрипнув, покойница мать забормотала: «Храни тебя Господь узнать, сыночек. Не знало да спало, с узнану удавилось. Диаволово искушенье знать. За любопытным сатана придет с ключом от бездны, с кляпом, с цепью в рукаве. Железной цепью. Понял? Понял у меня? Запрет, чтобы не лез, куда не просят! Пойдешь, к двери приложишь ухо, черт с изнанки дверь и распахнет, да так тебя приложит по лбу, что своих забудешь»! – пообещала мать.
«Нет у меня за дверью никаких своих…» – подумал он.
А за окном звенело, тренькало, сверкало… Охапки солнечного света падали и били по стеклу, и били, били, бились. Куда-то все спешило, разлеталось, останавливалось вдруг и начиналось снова…
Все начиналось… Все сначала!
«Все опять…» – подумал он, и неприятен беспорядок был ему всего, что начиналось снова. Беспорядок дня.
Глаза слепило, даже если глаз не открывать, под веками брюзжали пятна, в странные узоры собираясь, и с разноцветным звоном рассыпались в голове.
– Смотри, что у меня! – сказала Таня. – Подзорная труба! Посмотришь и Австралию увидишь. Хочешь, хочешь посмотреть?
– Хочу, – и глаз сощурил, посмотрел в трубу.
Он раньше и не мог себе подумать, чтоб такая красивая Австралия была.
– Крути!
Австралия рассыпалась на тысячи осколков, и снова собралась в стеклянный разноцветный сказочный фонарь.
– Ого…
– А то!
– Что, Шишкин, кенгуру в калейдоскопе ищешь? – спросил Бобрыкин ненавистный, ненавистный! И Шишин вздрогнул, выронил трубу. Внутри разбилось, сухо застучали друг о дружку Австралии разбившейся куски.
Он сел в постели, руками в голову вцепился и потряс, вытряхивая, если что осталось, мусор, как мать вытряхивала из карманов дрянь. «Набьет карманы дрянью, дрянь такая» – вытряхивая из карманов, говорила мать.
Седая пыль взлетела, закружилась. В асфальтовых поддонах улиц испарялись облака, стекло пекло невыносимо. Серая, как моль, царапалась подушка, стеклянные осколки глухо перекатывались в голове.
«Не соберешь теперь…» – и чьи-то руки за уши держали, приподнимали, дергали, трясли…, мотали, точно высохшую тыкву, кошкину копилку, в которой Шишин много, много накопил…
«В Австралию поехать. С Таней»
«В рождественскую ночь, – рассказывала бабушка Тамара, – рядятся и гадают, ворожат, и, между прочим, добывают на распутье дальнем у самого диавола неразмененный рубь…»
И тоже Шишину хотелось на распутье дальнем, у самого диавола такой вот неразменный рубь добыть.
– А где распутье?
– Где только не распутье, все распутье, Саня, – вздохнула бабушка Тамара, из кармана доставая неразменный рубль, – а ты терпи, копи…
И много Шишин натерпел и накопил с тех пор в копилке деревянной, стоявшей прежде на трельяже; в кошке деревянной, с лаковой потрескавшейся мордой, с дыркой в голове и хохломой раскрашенным хвостом.
Он встал, и с ненавистью оторвав от головы чужие руки, отбросив их назад, пошел, шатаясь, к матери спросить, куда она девала все…
Глава 48
Под небом голубым
«Есть город золотой» – сказала Таня.
А если падал снег, то на ресницах у нее не таял, от одуванчиков от этих нос вообще потом не ототрешь! А если так посмотрит: то вот тут тепло. А если не придет сегодня в школу, что мне делать? И он молился, что придет.
А если нет, то пусто выросла капуста. А на портфеле наклейка с Микки Маусом, но только пусть придет, пускай, пожалуйста, если Ты есть, придет…
Кто есть?
«Ну, кто-нибудь да есть…» – подумал он.
«Есть город золотой»
Чернильное пятно на промокашке похоже на нее, когда она сидит вот так, на доску смотрит. Вот нос, вот лоб, а мать купила красные чернила, чтобы ошибки исправлять.
– И сказано, не сотвори себе кумира, Саша! И никакого чтоб изображения ему. Не убивай! Кто же убьет, тот подлежит суду. Небесному суду! Не заюлишь, не поканючишь, понял?
– Понял.
– Не любодействуй, не кради! – сказала мать. – Так: сколько это будет семью семь?
«А тут вот шея и от фартука крыло, – разглядывая кляксу, думал дальше. – А тут: как будто завиток за ухом у нее…»
– Я жду! – сказала мать.
Всего-то повернуть тетрадь с той стороны, там есть в обложке. Но мать заклеила с той стороны бумагой лейкой, как будто знала, что перевернет, и даже на свет ничего не видно будет, ничего.
– Пустая голова, гроша не звякнет.
– Где моя копилка? – вспомнил он.
– Нет твоего, – сказала мать.
– Нет, есть!
– «Твое» сейчас получишь, – пообещала мать.
Играли дети в мячик во дворе.
– Здорово, Шишкин! Ждем! Иди сюда, «собачкой» будешь!
– Не…
– Иди, ну, Саш! – сказала Таня.
– Ну, ладно… – согласился он.
– На, Шарик!
– Фас!
– Ату!
– Ого!
Он отскочил, сжав пустоту в руках, прижал к груди и завертелся, заметался, от одного бросаясь на другого…
– Сюда!
– Ко мне!
– Апорт!
– К ноге!
– Лежать!
– Сидеть!
– На место!
– Рядом!
– Кросс!
– Не больно, Сашка?
– Не…
– Тогда вставай!
– Барьер!
– Цып-цып!
– Кыс-кыс!
– Конфетку будешь, Шарик?
– Да…
– Служить!
Как по убитым, по штанам рыдала мать и мазала коленки йодом, не зеленкой…
– Больно, мама…
– Так тебе и надо, ирод…
– Красиво да? – спросила Таня. – Из «Ассы» песня, ты смотрел?
Но Шишин «Ассу» не смотрел.
– А зря, хороший, интересный, про любовь.
– Мне мать не разрешает про любовь.
– Еще «Романс жестокий» тоже фильм хороший. Там он ее убил.
– Кого?
– Она красивая была.
– Тогда понятно…
«Убий…» – подумал, испугался, слова не узнав, как будто написал его с ошибкой, знал, что с ошибкой, знал, не мог найти. Грыз карандаш, потел, сопел и морщил лоб и нос, и ставил точки, против каждой строчки, как мать учила. «Погрызь мне, руки отобью!»
Дышала за спиной, ждала что скажет, сколько будет семью семь.
Оглянулся. Никого. Никто не дышит.
Сквозняк на кухне форточку пилил, молчало радио, из приоткрытой спальни сочился тусклый свет. Шуршала под ногами старая газета, которую поверх всего стелила мать, чтобы не гадил паразит хорошего паркета, ковров не гадил, в жизнь не гадил ей.
«Всю жизнь изгадил тварью этой, и себе и мне…»
Под листьями хрустел песок, земля сухая, стекло, как будто сотни мурашей, клопов диванных, таракашек он давил шагами. И место от разбитого трельяжа смотрело темно, как дыра в полу.
Там было матерью уже заметено, замыто, терками до скользкого натерто, до пустого, но не застелено газетами еще.
И шорохами, ползаньем каким-то набит высокий шкаф в прихожей. Как будто все прихожие с подарками, с тортами, красными цветами, пришли на день рождения его, но не пустила мать гостей, за «семью семь», и те, так и не расстегнув пальто, рядами долго лет стояли запертые в шкафе, шептались, скрежетали, ждали, ждали, когда ответит Шишин, сколько будет семью семь.
– Иди гулять! – кричала снизу Таня.
«Не пустит, если не отвечу, сколько это. Семью семь…»
Мать все еще спала, накрывшись с головой похожим на шинель колючим одеялом, такая длинная, худая, точно нет, и тихо занавеска шевелилась, на щелочку приоткрывая, закрывая день. На кожаном окладе страшной книги ладанка в петлю шнурком свернулась, косился образок, и душно пахло в комнате испитым чаем, валерьяной, серной кислотой, которой мать чертей в углах травила и клопов.
Он подождал немного, мать не просыпалась.
– Мама…
Мать не откликалась.
– Где моя копилка?
Мать не отвечала.
– Я опоздаю, просыпайся, мама!
– Опаздывают те, которых ждут, кого не ждут, не опоздают. А ты себе не нужен, опоздать, – сказала мать.
Глава последняя
«Удавлюсь!» – подумал Шишин, и за веревкой в хозяйственный пошел.
«Куда собрался?» – не спросила мать, и Шишин долго в коридоре ждал, когда мать выйдет, спросит, куда собрался он, а он ответит: «За веревкой». А мать тогда: «И мыла заодно купи…» и денег даст и на веревку и на мыло, а может быть вернет копилку-кошку, все вернет, но мать не выходила.
Он потоптался, потоптался громче, потоптался, прошел, газетные с пути расшвыривая листья от спальни к кухне, и наоборот, чтобы раздразнилась мать. Но мать не раздразнилась, и опять не вышла. Дверь в спальню приоткрыл, и половицей заскрипел, чтобы вставала. Мать не любила, чтобы половицей Шишин скрипел в дверях ее. Но все не ни гы, ни мы, и Шишин в ванную пошел, и свет включил, и воду лил, и долго мылил руки мылом земляничным, пока все не измылил матери назло. И все измылив, света не гася и кран не закрутя, вернулся к шкафу, покопаться. Но долго не решался дверь открыть, прислушиваясь к шепотам гостей, которые у матери висели в шкафе, на деревянных вешалках с крючками, не раздеваясь, как пришли, давно.
И Шишин тоже там висел, в болоньей желтой курточке на кнопках. С продетой в рукава резинкой, с варежкой одной, но без второй, с билетиком несъеденным несчастным в правом не застегнутом кармане. И бабушки Тамары синее демисезонное пальто, демисезонное на все сезоны. И мать висела в подвенечном платье стиля «Ампир». «Не «Ампир, а ампИр…» – сказала бы мать, но мать молчала.
Пиджак отца, и белый китель, с ромбиком на левой ВПА второго ранга капитан, герой Советского Союза.
Мать все не просыпалась. «Как убили» – подумал, вздрогнул, стараясь вспомнить что-то, что забыл, и вспомнил, что другое мыло называется дегтярным. «Дег-тя-рное…», – подумал, и, подумав, вспомнил, что вспомнил все не то, о чем забыл. «Дегтярным веревку себе намыль и удавись» – сказала мать, но мать молчала.
Ключ повернул и дверь гостям открыл. Нарядные в шкафу стояли гости, много. С тортами и цветами, с подарками пришли… Вошли. Отец, и бабушка Тамара, тетя Таня, тетя Оля, дядя Женя…
Из спальни вышла мать, в своем «Ампире» белом, красивая, красивей может всех, и вкусно вдруг запахло в доме пирогом капустным, холодцом, салатом Оливье и сервелатом. Шишин побежал на кухню, где тетя Оля чистила селедку и голову ему дала, и обсосать скелет.
Упала ложка со стола, и это значит – Таня уже сейчас придет. Он, вытирая руки о пижаму, побежал к двери, но дверь входная выше стала, так, что было невозможно заглянуть в глазок, а открывать, не посмотрев, нельзя, а то зарежут. И Шишин в спальную пошел, за табуретом. Там, на диване сидел отец, второго ранга капитан, и новости смотрел про ЦРУ, угрозу атомного взрыва, холодную войну и Белый дом.
– А ну-ка, брат, пойди сюда! – сказал отец, и Шишин подошел, робея, так далеко и незнакомо, странами морскими пахло от отца.
– Вот, Саша, ножик перочинный, раскладной, из дальних стран привез, дарю! Но спрячь от мамы, ладно? Чтоб не заругала нас с тобой.
– Ага…
– Храни на памяти обо мне, и помни, Саша! Ты тоже вырастешь и капитаном станешь, откроешь Северную землю, и назовешь ее в честь Тани! – пообещал отец.
– Ага, – ответил Шишин, – Таней! А ты еще придешь?
– Не знаю, уезжаю за полярный круг, в Австралию, – сказал отец.
– А это долго? – поинтересовался Шишин.
– Долго, брат, – вздохнул отец. – Но ты запомни, Саня, что я тобой горжусь. Расти хорошим, честным человеком, мать береги и бабушку, теперь ты за меня! – и сразу же исчез, как будто шапку невидимку вместо козырька надел.
Забыв, что нужно посмотреть в глазок, пришла ли Таня, китель Шишин на коленях гладил, жалко было, что ушел отец.
Но снова зазвонили в дверь, и он опять бежал встречать, и, выходя из шкафа, дарили торты и велосипеды гости, коробки с разноцветными карандашами, солдатиков, машину БМВ модель, медведя, гимнастерку, лыжи и коньки.
– Входите! Здрасьте, дядя Толя, Тетя Клава! Тетя Аня, Тетя Галя! Тетя Таня, а Вы мне шоколадку принесли?
– Конечно, Сашенька, какой уже большой! Герой! Держи!
– А можно, мама, сам схожу за Таней?
– Сходи конечно, милый, ну, беги, беги!
И Шишин вышел в коридор, чтоб позвонить за Таню.
«ДзыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыНЬ!» И забежал открыть.
Она вошла. В нарядном платье розовом с бантами и с книгой Диккенса в руке.
– «GREFT EXPECTATIONS» в оригинале! – сказала Таня – Про любовь! Читай!
Но Шишин не любил читать, еще и на английском. «Ты лучше расскажи», –сказал, и Таня рассказала Шишину про Пипа, Мисс Хэвишем, и дочь ее приемную Эстеллу, и как мисс Хэвишем сидела в черной комнате своей, с завешанными зеркалами, в истлевшем подвенечном платье, и говорила дочери Эстелле, чтоб разбивала всем сердца без жалости и без конца…:
– Ну, что же, все за стол? – сказала бабушка Тамара.
– Нет, без отца не сядем, подождем еще, – сказала мать,
– А это долго? – поинтересовался Шишин.
– Долго, Саша, – пообещала мать.
И стали ждать, и ждали, ждали, ждали, так долго ждали, он чуть не заснул.
– Вот, неразменный рубль, Саша, – сказала бабушка Тамара. – Ты положи его в копилку, накопишь много денег, вырастешь большим и будешь, как твой папа, капитан второго ранга Николай Петрович Шишин. Он погиб в бою за родину свою.
– Погиб? – вдруг удивилась мать, как будто раньше этого не знала, и в своем Ампире упала на пол, и кричать, кричать…
– Давай от них в Австралию уедем? – предложила Таня.
– Когда?
– Сейчас!
– Давай, – ответил он.
Лежала кошка в нижнем третьем справа, битком набита денежьем. Надолго хватит. Надолго. На всю жизнь.
Накинув на пижаму белый китель, в портфеле школьном он проверил сахар, соль и спички, компас, перочинный нож, что подарил отец, надел собачью шапку, невидимку шапку положил в карман и вышел, по черной лестнице спустился на пролет и позвонил.
– А, это ты, привет! – сказала Таня.
Он оглянулся с беспокойством, чтоб проверить, он это или нет. Бывало так, что Таня открывала не ему, другие люди тоже приходили к Тане. «Другие люди, люди в синем, а не я». На лестничной площадке пусто было. «Другие опоздали, я успел…»
– Ты собираешься уже?
– Ага, почти что все.
– Тогда идем?
– Куда?
– В Австралию, куда?
–В Австралию? Ага… – зевнула Таня. – Ты заходи попозже, я дособерусь…
– Когда попозже?
– Через полчаса…
«А через полчаса чего? Через чего? – подумал. – Ведь полчаса откуда не возьмись не отсчитаешь? Да и докуда нужно знать, через чего? А он не знал, откуда и до куда. И стало страшно, что недосчитаться можно, выйти раньше, позже, или в середине, чем через полчаса, и вовсе прийти не через эти полчаса, а через те, которые не те.
– Бобрыкина не видел? – заглядывая Шишину через плечо, спросила Таня.
– Вчера убил его. И мать, – и рукавом стирая лоб, как будто слово думал, которое забыл, которое «Дегтярное», – и улыбнулся, зная, что дегтярного не надо... «Никому, – подумал. – Никому»
– Дурак! – сказала Таня. – Иди домой, мне некогда сейчас, я собираюсь.
– А это долго?
– Нет.
– А мы не опоздаем?
– Кто это мы?
Он оглянулся. «Мы» – это я неправильно сказал, «мы» всякие бывают, люди в синем тоже могут сказать, что «мы», Бобрыкин тоже… привяжется и скажет «мы», а этого не надо, этого не надо...»
– Я и ты…
Она молчала.
«Опаздывают те, которых ждут, а ты себе не нужен, опоздать» – покойница сказала мать. Но Шишин вспомнил вдруг, что у него есть деньги, «деньги!» – с облегченьем посмотрел на Таню.
– Есть деньги, много! Можно ничего не собирать, я все тебе в Австралии куплю, – и Шишин звякнул кошкой.
– Деньги? Да, деньги это хорошо, – задумчиво сказала Таня, – гораздо хуже, если денег нет.
– Тогда пойдем сейчас?
– Я не могу сейчас…
– Тебя не отпускает мама?
– Мама умерла. Давно, – и посмотрела пристально и странно, как будто не она.
– Тогда пойдем?
– Я не пойду с тобой.
– А с кем пойдешь?
– С Бобрыкиным. Понятно? Понял?
– Зачем…
– А я люблю его.
– Кого… его?
– Бобрыкина, кого!
– Как это любишь…?
– Так. Люблю, и все.
Он опустил глаза, и вспомнил ни откуда, ни отсюда, вдруг, как выходила Таня из подъезда, в белом платье, – наверно тоже как у матери «Ампир», – и там, на лестничной площадке, возле лифтов шарики висели: много, синие и голубые, надувные, зеленые и красные. Красиво. Шарики, флажки.
Дорожка серпантина, край фаты, в стекле дыру царапал ногтем кто-то, кто-то, но не он. «Уймись!» – сказала мать, и оглушенный, как новорожденный, другой беспомощный калачиком свернулся на полу, у лифтов, сжавшись, вбив в живот колени закричал. Взлетает вверх и вниз и опускается в колени плиссированная юбка, она бежит к нему, и пробегает мимо… сквозь него…
– Прости, – сказала Таня.
– А что ты сделала? – поинтересовался он, она, не отвечая, подошла, прижавшись крепко-крепко, и поцеловала в губы.
– Иди, – сказала ласково и нежно,
– Куда?
Она молчала.
– Куда? – он снова звякнул кошкой.
– Просто уходи. И все.
И стало холодно, и страшно, белым-бело, и на одной высокой бесконечной ноте в ушах звенел звонок дверной, а может школьный на урок, или на перемену, но так, не прерываясь все звонил, звонил, звонил…
«И все… – подумал. – Все». В кармане перочинный нож нащупал и щелкнул кнопкой выдвижной.
И вниз по лестнице пошел, негнущиеся ноги подгибая, придерживая за карман пижамные штаны. Потом рысцой, как будто мог еще успеть куда-то, смешно бежал, попрыгивая по ступенькам. Вдруг кончилось ступеньки, и дыханье и стена, и дверь, и там, где кончилось, он развернулся, опять наверх пошел, и побежал еще спросить у Тани, что сделала она, за что простить…
Споткнулся, и упал, поднялся, на стене оставив ржавые следы, утер о лоб ладони. На новой лестничной площадке выбился из сил, и скрючился кулем, и скреб ногтями рухнувшую землю, но только кафель скреб, как не было земли. И дальше выше, отпихиваясь от себя ногами, устал, приник к стене, и оттолкнул ее, ударил кулаком, еще, еще, ускорив шаг.
И там ее увидел.
Она сидела на ступеньке и ждала.
– А ты взяла зубную щетку, Таня? Сахар соль и спички?
– Взяла, – молчала Таня.
– Тогда пойдем скорей.
– Немножко посидим, устала, – не сказала Таня.
«Ладно, – согласился Шишин. – Посидим»
Был ясный день апреля.
Шишин и Танюша на лестнице сидели рядом, по площадке металась семечная шелуха. «Как черный снег…» – подумал. Голова ее лежала на его коленях, и от волос ее, как в детстве, пахло мылом земляничным. И медленно накручивал на палец стружки, пружинки, вопросительные знаки золотых волос.
А вверх по лестнице с газетой поднимался Бобрыкин ненавистный.
А вниз по лестнице спускалась мать с ведром.
2015.06.12.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


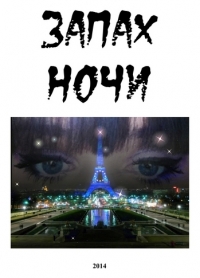

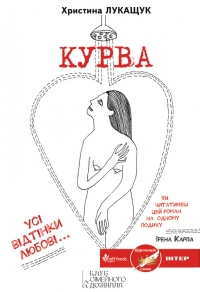




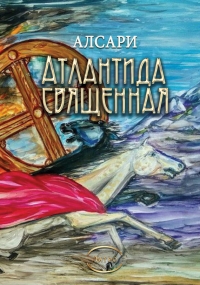

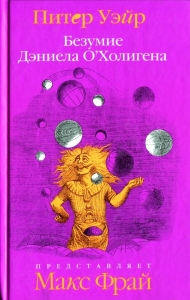
Комментарии к книге «Убить Бобрыкина», Александра Вадимовна Николаенко
Всего 0 комментариев