Юрий Буйда Стален
Оформление серии Алексея Марычева
Автор фото – Никита Буйда
Иллюстрация на переплете Алексея Дурасова
От автора
Хочу поблагодарить всех друзей в социальных сетях, которые в той или иной степени причастны к созданию этой книги.
Прежде всего – Екатерину Ракитину, Сергея Леферта, Николая Андреева, Андрея Теслю, Алексея Алешковского, Дмитрия Ольшанского, Сергея Ключенкова, Леонида Блехера, Сергея Кудряшова, Светлану Бодрову, Сергея Семенова… их много, и всех не счесть, увы.
Социальные сети напоминают поезд дальнего следования. Мы ехали в одном необъятном купе, болтали о том о сем, хотя я больше помалкивал, мотая на ус, записывая, припрятывая, чтобы потом использовать в книге. Иногда цитировал собеседника целиком, иногда собеседник дарил даже не слово – интонацию, без которой текст не двигался. Вот так все и происходило, пока не пришла пора ставить финальную точку.
Как известно, книга написанная и книга прочитанная – разные книги. Свою я завершил – ваша очередь…
Глава 1, в которой говорится о верхней пуговице на рубашке, метамизоле натрия и снижении эксплуатационных расходов на женщин
Мое имя всегда вызывает ухмылки, усмешки и улыбки.
«Стален? Стален! Стален…»
Поэтому всякий раз приходится объяснять, что никакого отношения ни к Сталину, ни к Ленину оно не имеет.
Моя мать не думала ни о том, ни о другом, когда давала мне это имя.
Она была Еленой, Леной, а отец – Станиславом. Поставив имя мужа первым, а свое, как и полагается жене, вторым, она получила СтаЛен – ей понравилось.
Муж сначала обругал ее, потом расхохотался и сказал: «Если Лена и завязывает узел, то развязывать его всегда приходится другим».
Ну а я оказался тем человеком, который всю жизнь развязывает этот узел, объясняя всем и каждому, что означает мое имя на самом деле.
Что еще сказать…
Я угловой жилец и в жизни, и в литературе.
Я не поклонник Достоевского или Набокова, Маркса или Ницше, Моцарта или Стравинского, Сталина или де Голля, Ван Гога или Эль Греко.
Я вообще – не поклонник, я – верующий.
Я спал на лекциях о Шекспире с большим удовольствием, чем на лекциях о диалектическом материализме.
Я считаю правое правым, а левое, как это ни ужасно, – левым.
Я не был и не буду ни диссидентом, ни оппозиционером, ни сторонником власти, ни левым, ни правым, ни либералом, ни консерватором просто потому, что это не мой язык.
Я принимаю жизнь такой, какова она есть, и живу по ее правилам, чтобы жизнь и правила не мешали мне заниматься своим делом.
Я – тот, кто создан для Бога, а не для людей.
Но когда я смотрю на себя в зеркало, мне не нравится то, что я вижу.
В самом деле, есть что-то зловещее в человеке, который одет в рубашку, застегнутую на верхнюю пуговицу, особенно если у этого типа длинная тощая шея, продолговатое лицо и внимательный неподвижный взгляд. Что-то резко-неприязненное, что-то жуткое появляется в его облике, что-то такое, от чего весь цепенеешь и мурашки бегут по спине.
Чувство это возникло у меня в детстве, когда мне было лет семь-восемь.
Помню, я вышел после уроков из школы и остановился в воротах, чтобы пропустить толпу возбужденных мужчин, которые быстро шли по широкому тротуару. В центре этой толпы с невозмутимым видом вышагивал высокий костлявый старик с лысым узким черепом, огромными ушами и гладко выбритым бледным лицом. Он был в рубашке, которая была застегнута под самым кадыком, выдававшимся на тонкой шее.
Когда процессия сворачивала за угол, он вдруг обернулся и посмотрел на меня таким взглядом, что я зажмурился от ужаса.
На следующий день в школе все говорили о старике, который изнасиловал шестилетнюю девочку и был пойман с поличным.
И еще вспоминали, что у него какие-то особенно яркие голубые глаза. «А у честных людей голубых глаз не бывает», – добавляла при этом старуха Бабурина, которая торговала самогоном с куриным пометом и за небольшую плату бралась сглазить любого мужчину и любую женщину по выбору заказчика.
Глаза старика я не запомнил, а вот рубашка, застегнутая на верхнюю пуговицу под кадыком, осталась в памяти навсегда. И теперь каждое утро я вижу в зеркале бритый череп, продолговатое лицо, большие оттопыренные уши, усталый внимательный взгляд и рубашку, застегнутую на верхнюю пуговицу, под кадыком на тощей длинной шее.
Это уже давно стало привычкой – застегивать верхнюю пуговицу рубашки.
Никогда не думал, что доживу до этого. Но так теплее.
Лоб изборожден неглубокими, но отчетливыми морщинами, под глазами мешки, кожа на лице довольно жирная.
Не уродлив – просто в меру некрасив.
Я левша, но пишу чаще правой.
Костяшка правой руки – там, где проксимальный сустав указательного пальца соединяется с пястной костью, – давно деформирована, иногда распухает и краснеет, причиняя боль. А дистальный сустав украшен узелками Гебердена.
Это результат безостановочной писанины. Доходило до того, что подчас не мог удержать в руке карандаш. Мало что изменилось, когда освоил пишущую машинку «Москва»: по ее клавишам приходилось бить с такой силой, что потом еще долго чувствовалось покалывание в пальцах. С переходом на компьютер неприятные симптомы пропали, хотя сустав иногда побаливает «под погоду».
Двадцать шесть лет назад Фрина поразила меня в самое сердце, сказав, что у меня красивые мужские руки. Это было так неожиданно, что я растерялся. Никогда, ни до, ни после того, я не слышал такого комплимента от женщин.
В семь лет мне пришлось надеть очки.
Для родителей это стало трагедией: отец был уверен, что я стану офицером, а мать обвиняла меня в том, что я «плохо стараюсь», а если б старался по-настоящему, то ей не пришлось бы краснеть перед всеми за мое ухудшающееся зрение.
Сейчас у меня очки со стеклами минус девять диоптрий. Оправу выбираю светлую – темная делает меня похожим на Чикатило. Впрочем, в светлой я тоже не айс – напоминаю фермера с картины Гранта Вуда «Американская готика», неколебимого пуританина с плотно сжатыми губами, свинцовым взглядом и вилами в руках. У меня и уши такие же, как у него.
Когда-то я злоупотреблял анальгином, который спасал меня и от головной боли, и от зубной, и от похмелья. Но пятнадцать лет назад все изменилось. После трехдневного поноса и нестерпимых болей в животе меня отвезли на «Скорой» в больницу, где и был поставлен диагноз – острый панкреатит.
Дня через два я пришел в себя. Врач выдал диетические рекомендации на пяти страницах мелким шрифтом, заметив на прощание, что лучшее средство от панкреатита – не анальгин, а голод, холод и покой.
Но когда бессонница становится невыносимой, когда кажется, что жизнь превращается в нескончаемую пожарную тревогу, я принимаю старый добрый анальгин. Так уж устроен мой организм: лучшее снотворное для него – метамизол натрия.
Спустя несколько лет, в августе 2010 года, я снова попал в больницу.
Москва в те дни и ночи изнывала от сорокаградусной жары и утопала в дыму от горящих торфяников. Люди падали на улицах и умирали во сне.
Я никогда не жаловался на сердце, но внезапно мне стало плохо в супермаркете. В бессознательном состоянии меня доставили в больницу, где и выяснилось, что проблема была не в сердце – в сосудах.
После аортокоронарного исследования кардиолог посоветовал готовиться к ангиопластике сосудов сердца, то есть копить деньги: хороший стент, который не зарастет бляшками через два-три года, стоит не меньше 120–150 тысяч рублей, а сколько этих стентов понадобится, никто пока сказать не мог. Плюс госпитализация, операция и реабилитация.
Таких денег у меня, конечно, не было. Их хватало разве что на аспирин, точнее, на ацетилсалициловую кислоту в таблетках, которые мне было велено рассасывать при возникновении внезапной боли в груди.
Чтобы выиграть время и собрать средства на операцию, я отказался от яичницы с беконом, сократил количество потребляемых сигарет с шестидесяти до сорока в день и стал принимать розувастатин, хотя этот препарат и способствует развитию катаракты. Приходится закапывать в глаза тауфон.
Таким образом дома у меня постепенно образовалась аптечка. Я прячу ее от посторонних, и это тот редкий случай, когда я следую примеру отца. Даже за несколько дней до смерти он выгонял всех из комнаты, чтобы принять лекарства в одиночестве. А глотать таблетки в присутствии женщин – это он вообще считал чем-то вроде мужского грехопадения.
Анальгин, мезим, глицин, статины, витамины, тауфон, квинакс, аспирин, антигриппин, артра и терафлекс для суставов, наконец – деприм, помогающий пережить осень и зиму без солнца. В той же коробке я держу и бутылку тыквенного масла, которое употребляю по совету врача, слегка обеспокоенного изменениями моей предстательной железы, о чем женщинам, разумеется, знать необязательно.
Впрочем, говоря о женщинах во множественном числе, я, конечно, преувеличиваю. Их было не так много, а из тех, кто имел со мной дело в последние годы, упоминания заслуживают две – Лотта и Жуся.
Лотта была худенькой, стройной, высокой, безгрудой, большеротой, с точеным носиком и вызывающе красивыми губами, с ослепительной улыбкой, низким голосом, рыжеватыми густыми волосами и глазами цвета дождя, как она сама называла этот голубовато-серый цвет. Одевалась дорого и броско, говорила громко и хрипло, ходила стремительно, уверенно держась на высоких каблуках даже на московских обледеневших тротуарах, машину водила лихо, а когда с туманной улыбкой брала напомаженными губами фильтр сигареты, у мужчин онемевал лоб.
Такой же решительной, ловкой и раскованной была она и в постели.
Москва театральная, литературная, журналистская, галерейная, музыкальная, Москва еврейская и нееврейская, старосоветская и новорусская – казалось, Лотта всех знала, со всеми дружила, со всеми переспала и всех отвергла.
Ее отцом был Яков Аронович Грановский, писатель-универсал, германофил, переводчик Мартина Опица и Ангелуса Силезиуса. Но настоящим его делом были доклады, которые он писал для секретарей ЦК. Кроме того, он сочинял пьесы про колхозную деревню, либретто к операм о сталинских соколах, мемуары за маршалов, создавал фольклор для малых народов, не имевших письменности. Яков Аронович созидал советский мир, да что там, он был воплощением этого мира со всеми его ста народами, а потом устал и уехал в Израиль.
– Сейчас у него домик в Ришон-ле-Ционе и неплохая пенсия, – сказала Лотта. – А сто советских народов разошлись по ста путям…
Лотта всегда слишком много читала, пытаясь успеть за новинками, но у нее не было ни сильного ума, ни разносторонней культуры, чтобы скрыть отсутствие вкуса и чутья, и подчас она не могла отличить оригинального графомана от подлинного художника. Она знала, что Достоевский православный писатель, но никогда не задумывалась, почему он еще и вызов православию.
– Игруев, ты слишком многого хочешь от писателей, от литературы, – сказала как-то она. – Да и к себе предъявляешь такие требования, которые заставляют подозревать, что ты не совсем человек. Ты так долго вглядываешься в реальность, что твоему читателю начинает казаться, будто ты эту реальность деформируешь. Это трудно выдержать, а значит, у тебя никогда не будет так называемого широкого читателя. Поэтому то, что ты пишешь… как ты это называешь?
– Posthumous writings, – сказал я. – Посмертные письма.
– Ну да. По-твоему, если избран, значит, проклят. И этот избыток веры в себя, в свое призвание – он превращает тебя в существо жестокое и безответственное. Безответственное в житейском смысле, конечно. И в этом же смысле ты безрассуден, на тебя нельзя положиться, поскольку ты страдаешь онкологическим эгоизмом… ты слишком свободен от всего и всех… как ты это называешь?
– Libertas defunctorum, – сказал я. – Свобода мертвых.
– Ну да. Отпущенного тебе тепла если на что и хватит, то только на книги, и если придется выбирать между мною и текстом, ты ведь всегда выберешь текст. Боюсь, ты никогда не научишься отбрасывать тень…
Расходились мы и в оценках прежней жизни: Лотта с нежностью вспоминала московскую советскую власть – богатую, мягкую и умную, а та провинциальная советская власть, которую знал я, была бедной, грубой и прямолинейной, хотя и не такой людоедской, как столичная.
Когда дочь Лотты попала в автокатастрофу и оказалась в инвалидном кресле, наши отношения резко изменились. К удивлению всех, кто ее знал, Лотта превратилась в самоотверженную мать и бабушку, и в этой жизни – мы оба это понимали – для меня места не было.
Осталась Жуся – она отличалась от Лотты, как вообще может отличаться Wooman Home Edition от Wooman Professional Edition.
Лотта ничего не знала о Жусе, и наоборот. И обе не знали о других моих женщинах. А я не интересовался мужчинами, без которых Лотта не могла прожить и дня, а Жуся, может, и хотела бы, да то и дело о них «спотыкалася». Она не могла устоять перед черноглазыми южанами и левшами: «Протянет ко мне свою левую руку – и я вся обмираю, как голая перед палачом».
Она была низенькой, белобрысой, курносой, с выдающейся грудью и круглой задницей, надутыми губками и крошечными пухлыми детскими пальчиками на пухлых ручках. Ходила павой, опустив глаза, то и дело краснея, и говорила «сержуся» вместо «сержусь» и «сажуся» вместо «сажусь».
В нашей редакции регулярно проводились заседания политологического клуба. В тот раз на него пригласили русских националистов. После заседания состоялся фуршет. Крепко выпив, русские националисты Кац и Беридзе сняли пиджаки и стали танцевать фрейлехс, вскидывая руки в нацистском приветствии и выкрикивая хором: «Хава нагила! Гитлер хайль!»
Жуся хохотала так, что на нее оглядывались. Но не сердились – ее простоватость была общеизвестна, а ценили ее лишь как станок для секса. Тем же вечером этот станок оценил и я.
Ее муж, бывший офицер, был тяжелым пьяницей, импотентом и ревнивцем. Жуся изменяла ему, но искала она не секса, а любви, искренне надеясь, что очередной мужчина станет ее мужем, отцом ее детей, и проживут они вместе до ста лет, а потом умрут и будут похоронены в одном гробу.
В детстве она прочла историю муромского князя Петра и его жены Февронии и была захвачена ею на всю жизнь.
Прочла она, думаю, популярное переложение житийной повести XVI века, в которой, в частности, подробно говорится о кончине муромских святых.
Когда князь Петр понял, что скоро умрет, он велел позвать к нему жену. Феврония в это время вышивала золотыми нитками воздух – покрывало для храма с ликами святых, а потому попросила мужа подождать, пока она закончит вышивать лицо последнего персонажа. Но князь уже не мог ждать, и тогда Феврония, которой оставалось вышить только ризы у святого, воткнула в покрывало золотую иглу, обмотала вокруг нее нитку, отправилась к мужу, легла рядом с ним и умерла в тот же миг, что и он. Их похоронили по отдельности, но вскоре обнаружилось, что тела лежат рядом в одном гробу, и сколько их ни разлучали, они вновь воссоединялись под одной гробовой крышкой.
Меня в этой истории поражает нитка, обмотанная вокруг иголки, – деталь, оживляющая средневековую агиографию и превращающая ее в мир подлинных страстей, доступный нашему соучастию и состраданию.
Жуся же лучше всего запомнила воссоединение супругов под крышкой гроба и поняла эту историю как руководство к действию, как план жизни, которым делилась с каждым своим мужчиной, пугая его или доводя до смеха.
Если Лотта была гостьей, то Жуся чувствовала себя полноправной хозяйкой моего дома. Она врывалась в мою квартирку и тотчас принималась за дело – подметала, вытирала пыль, мыла полы, варила суп, пришивала пуговицы, стирала шторы и гладила белье.
О, надо было видеть, как она гладила мое белье, с каким глубоким, с каким трепетным чувством она это делала. Стоя у гладильной доски в коротеньком полурасстегнутом ситцевом халатике, который чуть не лопался под напором ее обильного тела, взволнованная, раскрасневшаяся, вспотевшая, с льняным локоном, прилипшим ко лбу, она нежно водила утюгом по ткани, что-то шепча под нос и помогая себе кончиком языка, которым облизывала пересыхающие губки, томно закатывала глазки и тоненько постанывала, и казалось, что она вот-вот не выдержит – сползет на пол и забьется в приступе нейромышечной эйфории…
Мне нравилась ее склонность к безоглядному рабству, но я понимал, что рабовладелец из меня выйдет никудышный.
Отношения наши оборвались внезапно.
Доведенный до отчаяния изменами Жуси, – а она их не очень-то и скрывала, – муж задушил ее золотой ниткой, а потом покончил с собой.
В редакции несколько дней поминали в разговорах эту нитку, гадая, откуда она взялась и что это было на самом деле – гитарная струна, медная проволока или шейная цепь из тех, что носили мелкие бизнесмены в девяностых? Ну и жалели Жусю, конечно: такой станок пропал…
На память о ней остался у меня ее пузырек антигельминтного средства с жидкостью на донышке: Жуся считала, что все несчастья – от глистов.
В обеих женщинах мне нравился их статус – обе были замужем, что снижало расходы на их эксплуатацию.
При моем экзистенциальном равнодушии к жизни в ее внешних прявлениях ни утрата Лотты, ни гибель Жуси не стали событиями драматическими или сколько-нибудь значимыми. Я – это все, что у меня есть. Гоббсовский человек, готовый все отдать ради самосохранения.
Я снова остался один, стараясь сохранять верность тому же правилу, которому следовали дед и отец: «Never complain and never explain» – никогда не жалуйся и не объясняй.
А еще помогает лимон. Этому научил меня отец. Кладешь дольку лимона в рот и прижимаешь языком к небу. Становится легче, хотя и не лучше.
Глава 2, в которой говорится о тесноте жизни, женщине с маленьким мочевым пузырем и воровской поэзии
«Тесно живем, – говорила моя бабушка с горечью. – Дом большой, а живем тесно».
Дед был крупным железнодорожным начальником и вместе с женой занимал просторную четырехкомнатную квартиру, которая, после того как дети разъехались, казалась огромной. И когда бабушка говорила о тесноте, она имела в виду, конечно, не недостаток жилой площади, а соседей – пьяную семейку, которая жила за стеной и вечно буянила, донимая своим ором бабушку, страдавшую мигренями.
Бабушка никогда не жаловалась мужу на пьяниц – боялась, что он, много лет командовавший тысячами заключенных на северных стройках, сотрет в пыль соседей – бывшего милиционера, выгнанного со службы за алкоголизм, и его жены – горбатой продавщицы овощного магазина.
«Дом большой, а живем тесно» – эти слова бабушки я часто потом вспоминал по разным поводам.
Эта теснота, это чудовищное противоречие между громадными просторами России и стесненностью быта – одна из важнейших особенностей русской жизни. О причинах я тут не говорю – о них можно узнать из любого учебника истории для средней школы. Речь идет только о следствиях, о том, что люди веками были вынуждены ютиться в маленьких избах и крошечных квартирках бок о бок с теми, с кем зачастую, может быть, и не хотели жить в такой близости, и это привело к тому, что частному лицу почти не осталось в этой жизни места. Частное лицо вроде и есть, а места для него – нету, разве что во дворце или в камере-одиночке.
В детстве я чувствовал себя нагим и беспомощным, когда сестра толкала меня, мешая рисовать, когда мать заглядывала через мое плечо, пытаясь поймать меня за чтением чего-нибудь неприличного, когда отец пытался расшифровать мой дневник, который я прятал среди других тетрадей в коробке, стоявшей на шкафу, и как же я радовался, что отец никогда не читал «Золотого жука», откуда я позаимствовал немудреный шифр. Ту тетрадь я тогда сжег, но травма была так сильна, что к дневниковым записям я вернулся только через много лет.
Ничего особенного, ничего скоромного в дневнике одиннадцатилетнего подростка не было, но это было мое первое частное дело, на которое покусились чужие. Это был очень болезненный опыт.
Даже сегодня, если кто-то звонит в мою квартиру, будь то подружка, почтальон или бродячий продавец лучшей в мире кухонной посуды, я первым делом прячу бумаги и закрываю нотубук, а уж потом открываю дверь.
У меня уже давно в собственности отдельная квартира, но я так и остался угловым жильцом, боящимся, что в любую минуту его выставят вон. Что ж, люди свыкаются и не с такими ужасами.
Собственная же квартира появилась у меня не так уж и давно, и это, наверное, единственное чудо, которое случилось в моей жизни.
В детстве я, разумеется, никогда не задумывался о том, как люди обзаводятся жильем. Его давали – это знали все. Квартиры были больше или меньше, их давали «по блату» или «в порядке очереди», из-за чего разгорались страсти, мертвым пеплом которых испятнаны сотни страниц советской литературы, иногда неплохой литературы.
Впрочем, меня, сына офицера, эти страсти не касались. Отца всегда и всюду жильем обеспечивали, и чем выше чином он становился, тем больше было наше жилье. Если мне чего и хотелось, то отдельной комнаты, которую не приходилось бы делить с сестрой.
После смерти сестры и распада нашей семьи у меня появилась своя комната, но скрыться от чужих мне так и не удалось.
А потом были годы жизни в чужих квартирах – на Благуше и в Гольяново, в Нагатино и на Соколе, и где я только ни жил, даже в Бескудниках, где снимал двушку в компании парочки кобылистых гуцулок, которые работали официантками в кафе, называли себя «кралями», крали из холодильника мою еду и рылись в моих вещах. Они мечтали стать модными лесбиянками и обсуждали способы отбеливания ануса, но часто приводили домой небритых строителей, пили, пели и неистово трахались с ними всю ночь в соседней комнате, а утром плакали в кухне, жалуясь друг дружке на «этих козлов», которые не брали их замуж. Один из этих козлов спер у меня репринтное издание «Киргегарда и экзистенциальной философии», а другой покинул квартиру в моих зимних ботинках, оставив в прихожей свои рваные кроссовки фирмы Abibas.
Я мечтал о месте, где меня никто не беспокоил бы. Место это не имело четких очертаний: комната со столом и кроватью, кухня, туалет, окно во двор, прочная дверь и надежный замок. Может быть, дом.
Наверное, было бы неплохо поселиться в небольшом доме, стоящем подальше от соседей, но я знал, что представляют собой деревенские «собственные дома», а одна из моих подружек, выросшая в доме на окраине небольшого ярославского городка, рассказывала о низких потолках, гниющих досках, маленьких окнах, темных комнатках, о дощатом туалете во дворе, куда зимой она бегала в галошах на босу ногу, о воде из обледенелого колодца…
Помню, как мы с ней смотрели какой-то американский фильм, действие которого разворачивалось в загородном особняке, и вдруг я заметил, что она то и дело загибает пальцы на левой руке. Оказалось – считала комнаты.
«Четырнадцать комнат! Четырнадцать! Это ж сколько сил надо, чтобы там все полы перемыть! Нет уж, лучше квартира», – со вздохом подвела итог моя практичная подруга.
Ее звали Любой, но она предпочитала, чтобы ее называли Лу.
Мы познакомились у выхода из Ярославского вокзала – Лу только что приехала в Москву и не знала, как управиться с громадным чемоданом, набитым книгами. Я тогда расстался с подружкой, вместе с которой снимал двухкомнатную квартиру неподалеку от Плешки, и предложил незнакомой яснолобой девушке помощь и кров. Надежды на то, что она клюнет на это предложение, не было никакой, но девушка смерила меня взглядом, хмыкнула и согласилась.
Вечером я накормил ее ужином и лег спать в соседней комнате.
Через полчаса Лу залезла ко мне под одеяло и деловито попросила лишить ее девственности.
Я всегда предпочитал доступных женщин любимым – в сгоревшем лесу пожар не страшен, однако ее просьба меня немножко смутила.
Лу была настойчива. В Москву она приехала за новой жизнью: бунт ее не устраивал – ей была нужна революция.
Следующим утром она рассказала об отце, которого ненавидела за то, что тот бросил ее мать.
– Он говорил, что она фригидна, – сказала Лу. – Женский труп – вот как он ее назвал. Труп. Я боялась, что это и моя судьба.
Я был пьян с вечера, а потому болтлив и сентиментален.
– Просто он не любил ее, – сказал я. – Твой отец не любил твою мать, вот и все. Против биологии, конечно, не попрешь, но… знаешь, согласно второму началу термодинамики, теплота сама собой переходит лишь от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой и никогда наоборот. Таков закон физики, закон природы. Из этого следует, что мертвец не может ожить, что Христос не мог воскреснуть. Но Он воскрес, потому был нужен нам, потому что без этого мы не можем жить, без этого мы не люди. Это и есть любовь. Твоя мать была не фригидной, а нелюбимой…
Лу долго смотрела на меня странным взглядом.
– Замысловато, – сказала она после паузы. – Но постараюсь запомнить.
Она поступила на юридический, упорно училась.
На втором курсе я помог ей устроиться в адвокатское бюро знаменитого Гольца.
У нее было много поклонников, но она довольствовалась человеком на двадцать три года старше, руководствуясь соображениями прагматического характера:
– Женщине с маленьким мочевым пузырем не до приключений, ей нужен комфорт, размеренная жизнь с теплым туалетом под боком. И потом, я бы хотела в спокойной обстановке обжиться в роли искушенной женщины, которую не поставят в тупик сексуальные фантазии ее будущего мужа.
Мою кандидатуру в качестве будущего мужа она, разумеется, не рассматривала. Слово «любовь» в наших разговорах не звучало ни разу.
А потом она вышла замуж за бизнесмена, с которым познакомилась у Гольца.
Борис Непара поначалу торговал джинсами, потом компьютерами, затем подался в риелторы, наконец создал со старшим братом Глебом агентство недвижимости «Город мечты».
В те годы, в начале нулевых, в еженедельнике, который я редактировал, регулярно публиковались обзоры рынка московской недвижимости. Она росла в цене, нижняя планка стоимости квадратного метра в новостройках давно превысила тысячу долларов, никого не удивляли и две-три тысячи за метр, и даже пять. Но когда я увидел в тексте одиннадцать тысяч долларов за метр, – а это была моя зарплата за год, – не поверил своим глазам и позвонил автору. Он сказал, что никакой ошибки нет: «Все только начинается».
Владельцы «Города мечты» успели к началу строительного бума, умудрились уцелеть – легкое пулевое ранение и контузия не в счет – и вскоре стали очень богаты.
На свадьбе Лу подвела ко мне Бориса, который знал от нее, что я печатаюсь в «Новом мире» и «Знамени», и хотел со мной познакомиться.
Невысокий, коренастый, курчавый, с густыми усами, в очках с тонкой золотой оправой, он был в смокинге нараспашку, в черных брюках с шелковыми лампасами, в рубашке с двухслойными манжетами, воротником-стойкой и перламутровой планкой, закрывающей пуговицы. Но когда он поднял руку с бокалом, чтобы чокнуться со мной, полы смокинга разошлись, и под ним обнаружились звездно-полосатые подтяжки.
Борис признался, что пишет «художественное произведение» и хотел бы показать рукопись профессионалу.
– Профессионал живет на доходы от своих книг, – сказал я. – А я зарабатываю редактированием чужих.
Но именно в этом качестве я и был ему интересен.
– Разумеется, работа будет хорошо оплачена, – сказала Лу, опустив на лицо белую вуаль, и многозначительно мне улыбнулась.
На следующий день мне позвонили в редакцию «от господина Непары» и попросили принять «художественное произведение».
Через полчаса к входу в редакцию на большой скорости подъехали два огромных черных джипа. Из них вылезли четверо широкоплечих бритоголовых мужчин в черных кожаных плащах и черных очках. Правые руки эти мужчины, похожие как близнецы, держали в карманах. Один из них вручил мне папку для бумаг, после чего все четверо одновременно, как по команде, сделали поворот кругом и парами направились к джипам, шагая в ногу. Черные машины синхронно развернулись на узкой улочке и умчались.
Понимая, что меня ждет, я не отважился открыть папку ни на работе, ни в метро – сделал это дома после ужина.
У меня были причины для неуверенности и медлительности.
В редакции мне приходилось иметь дело со специфическими текстами, посвященными бизнесу, анализу рынка, экономической политике и т. п.
Эти тексты пестрели выражениями вроде «текущие уровни волатильности», «переаллокация в пользу эмитетентов, поддерживаемых новостными триггерами», «индикативная и аттрактивная товарная категория», «интегральная лояльность», «аутсорсинг задач, требующих брейншторминга», а вместо «дюйма» автор запросто мог написать «инч».
Многие авторы в этом смысле напоминали детей, дорвавшихся до новой игрушки – финансовых и экономических терминов, которые почти не встречались в массовой советской журналистике. Они заклинали действительность, пытаясь изменить ее или ту ее часть, в которой мечтали жить.
Задачей редактора делового журнала, помимо всего прочего, была посильная русификация текстов такого рода, и с этим я худо-бедно справлялся. Требования к авторским оригиналам были простыми – тексты должны были иметь начало, середину и конец. Никаких красот, никакого пафоса. Авторы «клепздонили» и «дристали», редакторы – «пидорасили» тексты, причем делали это быстро, «мухой».
В редакции царил дух веселого подросткового цинизма, не щадивший ничего и никого, включая властные элиты, которые назывались «правящими отбросами общества», хотя, конечно же, не на страницах наших изданий.
Вообще же у нас было немало бунтарей вроде Гоши Крицмана: он ненавидел коррупцию и тиранию, был готов в любую минуту идти на штурм Кремля, но когда выходил из редакции на московскую улицу, прятал кипу под шляпой.
Опыт же работы с собственно «художественными произведениями» у меня был скудным.
Одна из моих подружек – тогда ее звали Элей – страсть как хотела стать звездой детектива. Мы обсуждали сюжет, характеры персонажей, вместе работали над диалогами. Но больше всего сил уходило на борьбу со своеобразной избыточностью ее воображения.
Чтобы придать героям индивидуальности, Эля наделяла их то горбом, то лишними пальцами на руках, то склонностью к эпилепсии, а когда дело доходило до убийств, удержать ее было и вовсе невозможно – она с такой страстью калечила людей, била, резала, рвала в клочья и душила, с таким наслаждением живописала лужи крови, трупное окоченение и корчи умирающих от отравления, что все остальное – интрига и характеры – на этом фоне попросту меркло.
Пять с половиной лет она работала патологоанатомом в провинциальной больнице, и иногда казалось, что страницы ее романов пахнут лизолом, фенолом и тиолом.
В выходные дни всклокоченная, босая, с сигаретой в зубах, в мужской рубашке на голое тело, слишком тесной для ее гомерической груди, она без устали колотила по клавиатуре, то и дело сдувая с нее пепел, мычала, рычала, поправляла сползающие с носа очки и прихлебывала из кружки кофе, и была способна настучать 30–40 тысяч знаков за день, чтобы в полночь рухнуть ничком на диван и проспать до обеда, а потом до вечера править текст, распечатанный на принтере и испещренный моими пометками…
Она всегда пренебрегала грамматикой: «Знаки препинания старят» и начинала писать очередной роман, вдохновившись какой-нибудь эффектной фразой и не зная, какой будет следующая.
Над ее рабочим столом я повесил бумажку с цитатой из Саша Гитри, которая очень ее веселила: «Старушка говорит и говорит – до тех пор, пока не найдет что сказать».
В конце концов она добилась своего – суммарный тираж ее книг превысил численность населения России. Эля стала богатой, сменила имя, научилась одеваться так, чтобы не бросался в глаза контраст между ее обильным телом и крошечной головкой, у нее красивый любовник с волосами до плеч, свое кулинарное шоу на телевидении и домик у подножия итальянских Альп.
Второй мой опыт можно назвать экзотическим.
Зарплата в редакции была невелика, и я хватался за любой приработок, чтобы как-то сводить концы с концами.
Однажды Коля Базаров по прозвищу Хан Базар, репортер из отдела преступности, рассказал мне о старом воре, который большую часть жизни провел в тюрьмах, где каждую свободную минуту посвящал творчеству. Вор писал стихи в школьных тетрадках, которые его семья бережно хранила под замком в особом шкафчике как великую ценность. Накануне 75-летия этого человека его жена, пятеро детей, девятеро внуков и семеро правнуков решили сделать старику подарок – издать книгу его стихов. Они искали того, кто способен «поправить стишки» и найти приличную типографию, чтобы напечатать роскошную книгу в ста пятидесяти пронумерованных экземплярах.
– Можно поднять хорошие бабки, – сказал Базар, глядя на меня своими хитрыми ханскими глазками. – Если возьмешься, помогу.
Мы ударили по рукам.
Тем же вечером я взял в библиотеке несколько стиховедческих сочинений, и вскоре мой лексикон пополнился словами «спондей» и «пиррихий», «логаэд» и «антиспаст», «бакхий» и «клаузула». Однако стоило открыть первую воровскую тетрадь из тех, что привез Базар, как стало понятно, что мне понадобится не словарь Квятковского, а кофе, водка и анальгин.
Две недели я пытался превратить этот ворох бездарных подражаний Есенину и Высоцкому, все эти «белые березоньки», «горючие слезки» и «порванные паруса судьбы» в некое подобие стихов, переставляя слова, подбирая рифмы и выстраивая строфы, пока однажды ночью не почувствовал наконец что-то вроде грязного удовлетворения.
Хан Базар отвез меня в шикарный загородный дом, где я передал заказчикам макет книги, отпечатанный на бумаге верже.
Нас попросили подождать в гостиной, куда принесли коньяк, яблоки и шоколадные конфеты.
На стене висел портрет тощего маленького старичка в немодных круглых очках, который глядел на нас с нескрываемым ехидством. Похоже, это и был наш поэт.
Часа через полтора в гостиную вошла женщина лет пятидесяти, крупная, зобастая, в пышном платье, отделанном кружевами. Она протянула мне три толстых дрожащих пальца с острыми черными ногтями, унизанных кольцами и перстнями, и со слезой в голосе пролепетала:
– Как это душевно… и все в столбик…
– В столбик?
– Стихи – они ведь в столбик, да?
Это была старшая дочь ехидного старичка.
В соседней комнате молодой угрюмый мужчина в спортивном костюме выдал нам гонорар – я впервые в жизни держал в руках пачку стодолларовых банкнот в банковской упаковке – и велел расписаться в ведомости, где вместо имен стояли клички – Мангуст, Док, Манила и т. п. Я написал в свободной графе «Пиррихий», поставил дату и подпись.
Хан Базар взял за посредничество всего тысячу баксов:
– Я же только сводничал да шоферил.
Существуй в те годы банк, в который можно было бы без страха положить девять тысяч долларов, воровские деньги проложили бы дорогу к покупке квартиры. Еще три-четыре таких заказа, и я стал бы владельцем какой-нибудь убитой однушки в Капотне с видом на трубы нефтеперерабатывающего завода. Заказов, однако, не было, и деньги вскоре были потрачены на людей и вещи, которые только пополнили каталог моих ошибок.
Впрочем, тогда я всерьез и не задумывался о собственном жилье.
А вот когда в моей жизни возник Борис Непара с его рукописью, появилось предчувствие удачи.
Глава 3, в которой говорится о мечтательном мультимиллионере, отрубленной голове и загадочном мизинце
Утром я без спешки принял душ, заварил кофе и принялся за рукопись.
Повесть начиналась словами «Тугие ветки хлестали меня по лицу» и рассказывала о человеке, который с карабином за плечами и мачете в руках прокладывал путь в тропических джунглях, спеша к месту падения самолета, который несколько часов назад рухнул на остров, затерянный посреди океана.
Герой без устали рубил лианы под крики обезьян и попугаев, вспоминая при этом свою жизнь. Серые города с домами-казармами, пьяницы в канавах, очереди за водкой, бедность, разруха, голод физический и духовный. Хулиганистый подросток, бунтующий юнец, вступающий в борьбу с КГБ и из-за этого попадающий в психушку, молодой богатый мужчина, разочарованный в жизни и путешествующий по миру в поисках приключений.
В финале герой благополучно добирается до места крушения самолета, чтобы, наконец, встретить мечту своей жизни – красавицу Миллу, каким-то чудом выжившую в авиакатастрофе. Он несет ее на руках через джунгли, потом они долго бредут по песку вдоль линии прибоя, держась за руки, а потом стоят обнявшись на палубе яхты, которая держит курс на закат, и только плеск волн, крики чаек и стук сердец нарушают тишину бытия, и так далее…
Похоже, мультимиллионер Борис Непара достиг той стадии, когда люди начинают сожалеть о том, что пропустили что-то важное в жизни, пока гнались за успехом, и начинают задним числом переписывать свои биографии.
Таких людей среди богачей, конечно, немного, и в большинстве случаев их творческие претензии не идут дальше «свидетельств очевидца», часто лживых, но всегда любопытных. Они сколотили состояния в те смутные времена, когда понятия «лицензия» не существовало в русской природе, и пытаются объяснить, почему получилось так, а не иначе. В их откровениях нет ни слова о настоящем, глубинном, палеонтологическом злодействе, но фразы «мы были как все, кто ввязался в эту игру» или «если бы не я, то меня» красноречивы сами по себе.
Впрочем, в повести Бориса Непары вообще не объяснялось, откуда деньги у его разочарованного альтер-эго.
Мне хотелось придать биографии героя реалистичности и хоть как-то пригасить пошлые красивости, к которым так часто тянет цельных, сильных и успешных людей.
Мне показалось, что в юности начинающий бизнесмен Непара пережил что-то вроде экзистенциального потрясения, посмотрев фильм «Возвращение в Голубую лагуну» с Миллой Йовович в одной из главных ролей. А значит, будет настаивать на тропическом острове, авиакатастрофе и влюбленных на борту яхты, плывущей на закат. Что ж, даже эту парфюмерию можно поджечь, если высадить на остров каких-нибудь негодяев, например, наркоторговцев, охотящихся за героином, который был на борту рухнувшего самолета, о чем прекрасная Милла, разумеется, ни сном ни духом.
Но главное – предстояло оживить родителей героя, упомянутых мельком, друзей детства и юности, может быть, рассказать о первой любви, о той атмосфере девяностых, в которой он взрослел, превращаясь из бунтаря-идеалиста в изворотливого дельца, чтобы потом – тут нужен душераздирающий эпизод со смертью близкого человека – разочароваться в деньгах и «отправиться за мечтой». В конце концов, Милла могла быть его первой любовью, которую он почти забыл, но неожиданная встреча на острове раздула тлеющие угольки былой любви и так далее…
За две недели я написал основные эпизоды повести, после чего отослал текст Лу, и уже на следующий день Борис Непара прислал машину, которая отвезла меня в Рыбалово, в его загородный дом.
Был конец июля, вечер пятницы, мы ужинали в просторной столовой, выходившей окнами на большой пруд, обсаженный ивами и вязами. Кофе и коньяк подали на террасу, с которой открывался вид на лесистые холмы, освещенные заходящим солнцем.
Борис был в расстегнутой на груди голубовато-серой поплиновой рубашке. Он курил сигару и томно улыбался в усы. На его жене было легкое бледно-зеленое патье в мелкий цветочек. Она расспрашивала меня о литературной жизни, поглядывая на мужа, ради которого, как я понял, и затеяла этот разговор, и вежливо кивала, когда я, то и дело прихлебывая коньяк, рассуждал о безымянности подлинного величия, о необязательности биографии и фатальном одиночестве художника, которому суждено «цвести уединенно, в пустынном воздухе теряя запах свой», и вообще пытался казаться скорее умным и циничным, чем пьяным и несчастным…
– Сколько вы весите? – спросил вдруг Борис.
– Семьдесят четыре килограмма, – ответил я растерянно.
– При вашем росте маловато, – сказал Борис. – Так от вас скоро только запах и останется.
И расхохотался, довольный своей шуткой.
Лу бросила на меня быстрый взгляд.
Я почувствовал облегчение: пошлось превращает все действительное в разумное, а разумное – в действительное.
Утром после завтрака Борис пригласил меня в кабинет и сразу приступил к делу.
Ему понравилась линия наркоторговцев на острове, с которыми сражается герой, но он не был уверен, что в книге должно быть столько жизни. То есть грязи, тотчас поправился он. Москва начала девяностых с ее очередями за хлебом, ржавыми киосками у Кремля, торгующими водкой и презервативами, Москва с рэкетирами, сумасшедшими, проститутками… и эта история о безработном, согласившемся убить жену приятеля за пять тысяч баксов, а с ним расплатились коробкой сникерсов, которые он окровавленными руками раздавал детям на улице, не понимая, почему от него шарахаются прохожие…
– А вот «озноб девяностых» – хорошее выражение, – сказал он. – Все хотели соблазна и кидались на все, что казалось соблазном… на сникерсы, на идеи, на спирт… воздух горел, и всех бил озноб, вы правы… выиграли те, кто с этим справился… те, кто поверил в необратимость перемен… – Он наморщил лоб. – Точнее, те, кто сумел вырасти. Кто был маленьким, а стал большим. Или даже огромным. А чем крупнее личность, тех охотнее мы отделяем ее от зла… Наполеон, Сталин… понимаете?
Но развивать эту тему он не стал.
После обеда, когда на столе появился коньяк, Борис наконец расслабился, стал рассказывать о детстве, юности.
Как я и предполагал, он был мальчиком из хорошей семьи: отец – известный хирург-нефролог, работавший в Четвертом главном управлении Минздрава, мать – там же стоматологом, оба обслуживали высшее партийное руководство страны. Никакого конфликта с КГБ, никакой психушки – элитная школа, английский и французский, МИФИ, теннис, мелкая спекуляция жевательной резинкой, американскими сигаретами и порножурналами, потом торговал очередью в «Макдоналдс»: занимал место ближе к входу, чтобы продать его замерзшим многодетным парам за три рубля – приличные деньги по тем временам…
Оправдались мои догадки и насчет Миллы Йовович: «Возвращение в Голубую лагуну» он смотрел раз пятнадцать, если не больше.
Но как только речь зашла о том, как мальчик, спекулировавший жевательной резинкой, стал мультимиллионером, язык Бориса изменился: «решали вопросы», «заносили кому надо», «нам повезло», «нас поддержали» – и почти никаких деталей.
Такова особенность русского бизнеса – он владеет речью, но не имеет своего языка.
– Мы были помпейскими кошками, – сказал он. – Вы знаете, что при раскопках Помпеи археологи не нашли ни одного кошачьего трупа? Собак нашли, а кошек – нет. Кошки почувствовали беду и сбежали незадолго до извержени Везувия…
Ближе к вечеру он наконец заговорил о моем гонораре.
– Нам еще предстоит снимать фильм по этой повести, и мы думаем… – Он посмотрел на жену – она кивнула. – Мы думаем привлечь вас в качестве сценариста. Но это следующий этап, а сейчас… Сто тысяч?
У меня перехватило дыхание, но Лу за спиной мужа покачала головой, и я, проглотив ком в горле, с сомнением протянул:
– Ну как вам сказать…
– Хорошо, сто пятьдесят. – Борис хлопнул ладонью по столу. – Не пора ли ужинать, моя сладкая?
Сладкая ответила ему холодной улыбкой.
За ужином Борис так набрался, что нам пришлось вести его в спальню под руки.
Когда он заснул, мы спустились на террасу, чтобы выпить кофе.
Я чувствовал себя триумфатором, которого по Тверской, устланной стодолларовыми купюрами, под восторженные крики толпы и рев ста оркестров везут к Кремлю в золотой повозке, запряженной Миллой Йовович и Брук Шилдс. Никакого менее глупого образа придумать в тот момент я просто не мог – голова кружилась от допаминов и эндорфинов, кипевших в моей крови. Я был в восторге от прекрасного хозяина, прекрасного дома, прекрасного заката и прекрасной Лу, сидевшей напротив и пытавшейся вернуть меня на землю.
Лу говорила о квартире, которую я наконец-то смогу купить, о риелторах и комиссионных, а я смотрел на нее дурак дураком и улыбался. Но когда я попытался залезть ей под юбку, она сделала строгое лицо и сказала шепотом:
– Здесь же всюду камеры, даже в саду.
Камер не было только в хозяйской спальне и примыкавшей к ней ванной – туда мы и отправились.
На цыпочках прошли мимо широкой кровати под балдахином, на которой спал Борис, проскользнули в ванную, Лу сняла платье, легла на пол и прошептала: «Послюнявь меня, милый, пожалуйста».
Через час-полтора мы вышли из ванной, держа туфли в руках, и двинулись было к двери, которая смутно белела в темноте, но тут вдруг Лу замерла посередине спальни, и я чуть не налетел на нее.
Она не сводила глаз с мужа, развалившегося на кровати под балдахином.
Тело его казалось угольно-черным.
Я легонько подтолкнул Лу, но она сжала мою руку и проговорила вполголоса:
– Он не дышит.
Только тогда до меня дошло, что Борис действительно не подавал признаков жизни. Никаких.
Лу отдала мне свои туфли, приблизилась к кровати, склонилась над мужем, а потом вдруг сказала во весь голос:
– Включи свет, пожалуйста.
Я поставил ее туфли на журнальный столик, стоявший у стены, включил свет, обернулся и увидел Бориса, который лежал на спине, облепленный окровавленными простынями. Его голова таращилась на меня с соседней подушки.
На мгновение мне показалось, что все вокруг – молочно-желтый потолок, бежевый ковер на полу, дверцы стенных шкафов, золотистый торшер в углу, белый телефон на прикроватной тумбочке – забрызгано кровью.
Значит, пока мы с Лу занимались любовью, кто-то проник в дом, убил ее мужа и скрылся. Убийство произошло в двух шагах от нас, за стеной, а мы и не заметили.
– Ты что-нибудь слышал? – спросила Лу.
– Слышал, как он храпит, а потом не до того было…
Лу подошла к окну, отодвинула штору, вздохнула.
– Вот и дождь, – сказала она. – Пойдем.
Я схватил ее туфли, и мы побежали вниз.
Лу решительно направилась в кабинет мужа, включила настольную лампу, легко сдвинула вбок секцию книжного шкафа, за которым – я такое видел только в кино – оказался сейф, набрала код, открыла стальную дверь, присела на корточки, вытащила с нижней полки спортивную сумку.
– Здесь наличные, – сказала она. – Но тебе надо уходить прямо сейчас.
Я вспомнил о камерах видеонаблюдения, о четырехметровом заборе с колючей проволокой, – а ближайшие деревья были посажены в пяти метрах от ограды, – об охранниках с собаками, которых я видел в день приезда, но Лу это знала не хуже меня. В ящике письменного стола она нашла ключ от аппаратной, где находился пульт управления видеокамерами, и без промедления бросилась туда – я едва поспевал за нею со спортивной сумкой и ее туфлями в руках.
– Оказывается, мы зря прятались, – сказала она, когда мы оказались в аппаратной. – Эти люди вырубили все камеры.
– Люди?
– Ну не один же человек все это провернул. – Выключила свет в аппаратной. – Поторапливайся.
Мы прошли через кухню на задний двор и побежали под дождем через поле к экскаватору, который стоял метрах в трехстах от дома.
Вокруг машины были расставлены на треногах фонари, которые освещали канаву, тянувшуюся до забора.
– Трубы меняют, – сказала Лу.
Лу подняла сетку, натянутую над канавой, мы наспех поцеловались, я спрыгнул в траншею и, пригнувшись, двинулся вперед по щиколотки в жидкой грязи, на четвереньках прополз под забором, выбрался наверх, вскинул сумку на плечо и зашагал к лесу.
На то, чтобы добраться до дома, у меня ушло часов пять-шесть, и это были мучительные часы.
Промокший, перепуганный, плохо соображающий, я брел по лесу, спотыкаясь о корни деревьев, падал в какие-то ямы, выползал из оврагов, но боялся выйти на дорогу, где меня наверняка могли подстерегать какие-нибудь хмурые мужики с топорами, которые за версту чуют деньги. Я думал о Борисе, который лежал в луже стынущей липкой крови посреди широченной кровати, о том, как объяснить в банке происхождение такой кучи денег, и о Лу, женщине с маленьким мочевым пузырем. Я думал о том, что мог бы жениться на ней, вдове мультимиллионера и законной наследнице его состояния, жить в роскоши и писать без спешки, но тотчас гнал эти мысли вон, понимая, что она ни за что не выйдет за меня, да и мне это не нужно, потому что я и в самом деле не знал, зачем мне это, а просто хотел денег и Лу, и все больше запутывался, запутывался…
Думал, боялся, брел, надеялся, падал, стонал, полз, волоча за собой сумку и не соображая уже, куда иду, куда ползу, пока не наткнулся на сарайчик, стоявший на вершине невысокого холма, и, к счастью, дверь оказалась незапертой, – вошел, сгреб солому в угол, сел, прижав сумку с деньгами спиной к стене, и забылся тяжелым сном…
Спал я, наверное, часа два-три, а когда проснулся и вышел из сарая, дождь уже кончился.
Светало, воздух был прохладным, с веток капало, где-то стрекотала сорока.
Надо было выбираться на дорогу, ловить машину, чтобы добраться до дома, но я весь был в грязи, а в моем бумажнике оказалось всего сто рублей. Зато теперь я не боялся ни ищеек, идущих по моему следу, ни мужиков с топорами, которые ночью мерещились мне за каждым кустом.
Я двинулся вниз, туда, где, как мне казалось, должна быть дорога.
Солнце уже поднялось над верхушками деревьев, когда у обочины остановился грузовичок, за рулем которого сидел веселый морщинистый старик. Глянув на мои брюки, он бросил на сиденье мятую газету. Я сел на газету, открыл початую бутылку, отпил.
– Ты поосторожнее, парень, солнце только встало, – сказал старик, с жутким скрежетом переключая сцепление. – В России три болезни – надрыв, воспаление нутра и опой. Опой – самый опасный…
– А тоска?
– Хандра-то? От нее никуда, она – царица всея Руси! Но ты не сдавайсь, веселись, невеселые сходят с ума!
Старик говорил без умолку, рассказывая о себе. В Афганистане был снайпером в разведке, ранен, контужен, орден Красной Звезды, теперь, при новом президенте, за это пенсию прибавили: «Не только на выпить, но и на закусить хватает». Хорошо зарабатывает доставкой грузов, сыновья в бизнесе, недавно похоронил жену – кивнул на фотографию маленькой круглолицей женщины.
– Глаза красивые, – сказал я на всякий случай.
– Из-за глаз и женился, – сказал старик. – Если бы не ее глаза, не женился б. – Понизил голос. – У нее же мизинца не было – понимаешь? Левого мизинца. Две фаланги отрублены, а третья торчит таким маленьким пенечком. Почему? Кто отрубил? За что? Или просто несчастный случай? Ты, говорит, не спрашивай – все равно не отвечу. Либо женись, либо иди отсюда. Страшно мне стало… но взял… первой ночи боялся, а ничего – чистенькая оказалась… стеснительная…
– Так и не рассказала?
– Про мизинец-то? Не, не рассказала. Троих детей вырастили, а так и не рассказала. Ты подумай, а! Жуть-то какая, а? Она померла, нет ее, в земле догорает, а я до сих пор думаю про ее мизинец. Сколько всего в жизни было, а думаю только об этом мизинце. Почему? За что? Кто ее так? Ночью проснусь и думаю, а что тут придумаешь? Ей было девятнадцать, когда познакомились, а что было до того, не знаю, не рассказывала… с кем жизнь прожил – не знаю… аж мороз по коже… Когда хоронил, туфли с нее снял, чтоб после смерти не бегала за мной, а мизинец этот тут как тут, как заговоренный…
Дорога в это время была пустынной, и через час старик высадил меня у дома возле «Академической», где я тогда снимал квартиру.
Я протянул ему три стодолларовых купюры.
Одну старик вернул, остальные смял в кулаке, разжал пальцы – на ладони ничего не было. Подмигнул, хохотнул и уехал.
Глава 4, в которой говорится о клятве на «Кипарисовом ларце», жареных гусях и эриксонизме
Разбудил меня громкий шум – кто-то изо всей силы колотил в дверь.
На пороге стоял пьяный босой мужчина в трусах, милицейской фуражке и милицейском же кителе с сержантскими погонами, наброшенном на плечи.
– Ну что, сука? – сказал он зловещим тоном, еле ворочая языком. – Давай выкладывай…
Не успел я испугаться, как из двери напротив вылетела толстуха в распахнутом халате. Прикрывая пятерней густую поросль в низу живота, похожую на каракулевую шапку, она схватила мужчину за ухо и потащила за собой, приговаривая: «Вот зараза! Ну зараза!», втолкнула его в квартиру и захлопнула дверь.
Я провел ладонью по лицу – оно было мокрым – и запер дверь.
Этот нелепый и комичный инцидент вызвал у меня приступ ужаса, грубо напомнив, в какую мутную историю я вляпался.
Заварив кофе, я попытался сосредоточиться.
Во-первых, ни капли спиртного, пока вся эта история не закончится.
Во-вторых, в разговоре со следователями – ни намека на особые отношения с Лу.
В-третьих, нужна правдоподобная история о том, почему я ушел среди ночи и как мне удалось покинуть поместье незамеченным.
В-четвертых, ни слова о деньгах…
Тут до меня дошло, что я даже не посчитал деньги, из-за которых так намучился минувшей ночью.
Проверив, хорошо ли заперта входная дверь, вытащил на середину комнаты спортивную сумку, вывалил банкноты на пол и принялся считать.
Когда работа была завершена, я написал на бумажке «210 000» и сжег ее в пепельнице.
Двести десять тысяч долларов – две тысячи сто новеньких стодолларовых банкнот – никогда в жизни я не видал такой кучи денег.
Я спрятал доллары в сумку и торжественно поклялся на томике Иннокентия Анненского во что бы то ни стало уберечь эти деньги от моей собственной глупости и моего собственного легкомыслия, поклялся быть жадным, расчетливым и осторожным.
Клятва на книге – это у меня от отца. Он считал истинной только такую клятву. Причем книгой могли быть хоть «Три мушкетера», хоть справочник садовода.
В Москве тогда уже появились более или менее нормальные банки, хотя кредит был по-прежнему новинкой. Издания, которые выпускала наша редакция, публиковали советы людям, которые хотели взять кредит: вы должны приехать на иностранной машине, в приличном костюме, с дорогим телефоном в руках, чтобы с первого взгляда произвести благоприятное впечатление на банкиров…
Завтра же, решил я, пойду в банк, где числился корпоративным клиентом, и арендую ячейку. Открою депозит тысяч на десять, еще один счет тысяч на пять – вдобавок к тому, с которого получаю зарплату, и арендую ячейку вместимостью сто тысяч долларов. Остальные деньги – в другой банк. Закажу карту «платинум», чтобы лимит ежедневного снятия наличных был побольше.
Оставалось еще придумать историю о происхождении таких сумм: после 11 сентября 2001 года российские банки присоединились к международным соглашениям о борьбе с отмыванием денег и начали придираться к клиентам, которые по старой привычке приходили к ним с чемоданами наличных.
Я жалел о том, что мы с Борисом не успели подписать договор о сотрудничестве, который можно было бы предъявить в банке. Что ж, теперь оставалось надеяться на свою фантазию, а главное – на жадность банкиров.
Утром я позвонил Лу, на всякий случай назвав ее Любовью Александровной, извинился за внезапный уход, поинтересовался здоровьем мужа, но ответа ждать не стал – спросил, не можем ли мы встретиться, чтобы обсудить кое-какие идеи, возникшие у меня при работе над рукописью.
– Значит, вы ничего не знаете, Стален Станиславович, – сказала Лу, тотчас включившись в игру. – Борис погиб, его убили…
– Примите мои соболезнования, Любовь Александровна, – сказал я, старательно выдержав паузу. – Понимаю, как это неуместно сейчас… но мне нужен договор о сотрудничестве, который мы подписали с вашим мужем… банк требует…
– Понимаю… – Лу помолчала. – Не беспокойтесь, я позабочусь об этом и позвоню, как только улажу дела…
Несколько дней все московские газеты писали об отрубленной голове и гадали о причинах убийства Бориса Непары.
Многие считали, что агентство «Город мечты», которое два года назад наряду с риелторской занялось девелоперской деятельностью, «перешло дорогу» каким-то влиятельным игрокам столичного строительного рынка – поговаривали о группе компаний Топорова и Пиля, и Борис Непара стал жертвой подковерной борьбы коррупционеров, бившихся за московские миллиарды.
И всех поражала отрубленная голова – Москва уже поотвыкла от кровавого театра девяностых.
Вскоре меня вызвали в милицию «для беседы».
Всю ночь я ворочался, придумывая за следователей самые каверзные вопросы, и искал на них самые простые и убедительные ответы. Но беседа оказалась короткой и почти формальной. Когда меня спросили, почему охранники не видели, как я покинул территорию поместья Непары, я сказал: «Бухали, наверное». Следователь хмыкнул, попросил расписаться в протоколе, и мы распрощались.
Поначалу я каждый вечер пересчитывал деньги, раскладывая долларовые пачки на полу и мечтая о тех днях, когда куплю квартиру, широкий диван, подушки которого заполнены вязкоэластичной пеной, и наконец высплюсь от души, не оглушая себя ни коньяком, ни таблетками. Но Лу молчала, и вскоре один вид долларовых банкнот стал вызывать у меня раздражение.
Она позвонила, когда я уже потерял надежду.
Мы договорились о встрече в кофейне на Тверской.
Собираясь на эту встречу, я обнаружил в своей сумке, с которой был в Рыбалове, туфли Лу. В суматохе я попросту забыл о них и унес с собой.
Меня трясло, когда я поднимался на второй этаж, в зал для курящих.
Лу сидела за маленьким столиком у окна, на ней было платье в серых и бледно-фиолетовых тонах и шляпка такого же цвета с широкими полями, повязанная по тулье черной лентой.
– Выпьешь чего-нибудь?
– Кофе, – сказал я. – Двойной эспрессо.
– А ты исхудал. – Она погасила сигарету в крошечной пепельнице. – Скоро от тебя и впрямь один запах останется.
– А ты уже не та девочка, которая загибала пальцы, считая комнаты в загородном доме… как назывался тот фильм?
– Мы не одни…
Через столик от нас двое молодых мужчин в темных строгих костюмах и белых рубашках пили чай – они уставились на меня, как только я сел напротив Лу.
Она вынула из сумочки тонкую пластиковую папку, которую я тотчас убрал в свой портфель, и ровным голосом, иногда прикладывая чашку к бледным губам, стала рассказывать о том, что произошло после моего бегства из поместья Непары.
Как я и ожидал, первым делом она позвонила деверю, а уж потом в милицию. Следователю она рассказала только то, что нельзя было не рассказать. Глеб предложил ей пожить у него, «пока все не рассосется», и она согласилась. Сейчас его адвокаты занимаются наследством. Если все сложится удачно, она станет обладательницей большого состояния.
– А дальше? – спросил я.
– Он хочет, чтобы я вышла за него замуж, – ровным голосом сообщила Лу. – Жену запер в психушке, недавно они развелись, их дочь останется с ним. Он считает, что так будет лучше и для бизнеса.
Я кивнул.
– Туфли возьмешь?
– Туфли? – с удивлением переспросила Лу.
– Случайно я прихватил твои туфли… они в сумке…
– Нет, не сейчас. Как-нибудь потом.
– Доброй охоты, Лу.
Она с улыбкой опустила на лицо бледно-фиолетовую вуаль и, чуть наклонив голову, легким шагом направилась к лестнице.
В папке, которую передала мне Лу, оказался договор об оказании услуг компании «Город мечты Медиа», по которому мне причиталось за вычетом подоходного налога 130 500 долларов США или 3 549 600 рублей по курсу Банка России на день подписания договора. К нему прилагался акт о выполнении работы с подписями президента холдинга «Город мечты Групп» Глеба Непары и моей. Где они взяли мою подпись – ума не приложу.
Однако даже эти бумаги не спасали от подозрений человека с зарплатой меньше тысячи долларов в месяц. Теоретически банк мог инициировать проверку происхождения денег. А кроме того, тогда было немало случаев, когда банковские служащие сливали бандитам информацию о клиентах с крупными суммами наличности. Проще всего можно было уйти от проблем, слившись с толпой заемщиков, то есть купить жилье в кредит.
Вместе с риелтором Оксаной – смуглой косоглазой кобылой с мускулистыми ножищами – я около месяца искал подходящую квартиру на рынке вторичного жилья, пока не остановился на трешке за девяносто восемь тысяч долларов в районе между станциями метро «Домодедовская» и «Красногвардейская».
При первоначальном взносе в семьдесят пять тысяч банк дал мне кредит на десять лет под десять с половиной процентов.
Я сразу положил на счет сумму, достаточную для того, чтобы через год, когда истечет запрет на досрочное погашение долга, внести остаток и закрыть кредит.
Дом был построен в 1978 году – и за все эти годы квартира ни разу не ремонтировалась. Бригада молдаван за месяц поменяла полы, окна, двери, отделала туалет и ванную. Все это время строители жили в моей квартире и часами разговаривали по телефону с кишиневской и тираспольской родней – этот счет мне тоже пришлось оплатить.
Вечером позвонила Пупа с очередными замечаниями по рукописи книги, но мне было не до того. Надо было прибраться, вымыть полы хотя бы в той комнате, где я собирался спать на старом диване.
– Вдвоем быстрее, – сказала Пупа. – Заодно обсудим рукопись.
Через час я встретил ее у метро.
В супермаркете мы купили кастрюлю, сковородку, чайник, чашки, бокалы, вилки, ложки, сахар, соль, зубочистки, бумажные салфетки, полотенца, шампунь, мыло, подсолнечное масло, хлеб, мясо, швабру, половую тряпку и черт знает что еще.
– У тебя есть тапочки? – спросила Пупа.
– Тапочки?
– Люди, Игруев, дома ходят в тапочках. И кстати, найдутся ли у тебя штаны какие-нибудь старые, чтоб налезли на мою жопу?
– Вряд ли…
– Тогда – фартук.
Мы купили ей фартук и тапочки в виде котят.
Она быстро и ловко разделала курицу, поставила ее на огонь, сняла платье, под которым ничего не было, надела фартук и взялась за швабру, приказав мне начистить к ужину картошки.
За ужином выпили вина, обсудили ее замечания к рукописи, потом я выдвинул диван на середину комнаты и взялся стелить постель, а Пупа отправилась в ванную.
Утром проснулись от громкой музыки – за стеной кто-то играл на фортепиано.
– Со второго этажа голой жопой на ежа, – пропела в такт музыке Пупа, не открывая глаз. – Второй концерт Рахманинова, первая часть, реприза. Великая русская культура, она всюду, badass mother…
Мы познакомились в начале лета, когда издательство «Две стрелы» решило выпустить сборник моих рассказов и назначило редактором книги Ольгу Пупыреву, которую все звали Пупой.
Она поразила меня с первого взгляда – красивой гладко выбритой головой, крупным безгрудым телом в облегающем платье, неподвижным взглядом, детским лицом и детским голосом, крошечными пальчиками на руках и ногах. Пупа никогда не улыбалась, говорила равнодушным тоном и сразу сказала, что обожает мои рассказы, а потому будет безжалостна.
Мы сидели в кафе, попивая вино и болтая о чем-то.
После третьего бокала я стал рассказывать, как в работе над очередным детективным романом мы с Элей придумывали способы избавления от мертвого тела, но от смеха не смогли пойти дальше слов «он взял обеими руками топор».
– Это не так трудно, – холодно сказала Пупа. – Потребуются метров двадцать толстого полиэтилена, электромясорубка, два-три больших пластиковых ведра, мешки для мусора, стретч-пленка, канистра бензина, бумажные полотенца, большие кусачки, ножовка, два-три хороших ножа-бокскаттера, молоток, широкая стамеска, рабочие перчатки… ну и где-нибудь на природе набрать камней, битых кирпичей, в общем – тяжестей. Дома раздеваешься до трусов – все, что на тебе, все равно придется выбросить. Место в квартире – рядом с туалетом, хорошо освещенное. Застилаешь полиэтиленом это место и туалет, все, кроме унитаза, чтоб ни капли крови мимо. На выбранное место – слой полиэтилена, на него – слой ненужной ветоши, чтоб впитывала, если что потечет, на нее – еще несколько слоев полиэтилена. Из ветоши делаются валики по контуру тела, чтобы получилось углубление. Открыть в доме все окна, все краны, положить тело в углубление на спину. Одежду с тела срезать и в мешок. Сделать разрез от горла до паха, стамеской и молотком отделить ребра от грудины, раскрыть, вырезать органокомплекс и в ведро, что-то потом перемолоть, остальное – в унитаз. Поднять руки и ноги трупа, слить кровь в полость, продавить руками, чтоб вытекло как можно больше. Вычерпать стаканом – в ведро и в унитаз. Затем отпилить голову. Позвоночник удобно рубить при помощи стамески. Срезать все, что можно, и в мясорубку, потом в унитаз. Распилить череп, снять с костей все, что снимается, и в ванну на промывку. Фаланги пальцев можно рубить стамеской или топориком и тоже спускать в унитаз. Наконец останется скелет без кистей рук и ступней. Пилить конечности не по суставу. Кости отмыть, высушить, с камнями и бумажными полотенцами уложить в мешки для мусора, замотать стретч-пленкой, разложить в новые пакеты из супермаркета, как будто это покупки. Потом дома все зачистить, отмыться, сжечь какие-нибудь продукты на сковороде, чтоб воняло, сковороду не мыть. Километров за пятьдесят от города покидать кости в разные водоемы, пакет с инструментом и полиэтиленом – сжечь, машину – в химчистку… – Она облизнула верхнюю губу. – Может, еще по бокалу?
– Конечно, – с трудом выдавил я из себя. – Конечно…
Она была естественна, как собака, грызущая кость. Безо всяких ужимок разделась перед полузнакомым мужчиной догола, потому что так удобнее заниматься уборкой. Безо всяких разговоров легла с полузнакомым мужчиной в постель, потому что было поздно и хотелось секса. Ей были чужды условности, ограничения, табу, усвоенные людьми ради облегчения жизни.
Она была идеальной сожительницей – умелой кухаркой, чистоплотной хозяйкой, внимательной собеседницей, терпеливой и снисходительной самкой, а главное – хорошим редактором, чутким и нетерпимым к фальши, ложному пафосу, сентенциозности, которую она называла честертоновщиной.
– Мне кажется, ты допускаешь ошибку, когда пытаешься каждую фразу в диалоге сделать отточенной, яркой, запоминающейся, – говорила она. – Живая речь умирает под грузом всех этих «жареных гусей» и «лиловых дам».
Я не сразу догадался, что она имела в виду чеховскую фразу «Жареные гуси мастера пахнуть» и строчку из стихотворения Саши Черного «Лиловая жирная дама глядит у воды на закат», но вскоре эти «гуси» и «дамы» стали нашими мемами.
Пупа считала, что слова должны сами бороться за жизнь, и если им недостает стойкости, они должны умереть.
И еще – она сразу приняла мою философию углового жильца, которого с людьми ничто не связывает, кроме повседневных забот да пустой общности, пролегающей через жизнь пропастью, а не мостом, и для которого все, что не годится в литературу, не имеет почти никакой ценности.
– Замысловато сказано, но точно выражено, – сказала Пупа, выслушав мою бессвязную тираду о жизненной философии. – Кстати, твоя героиня теряет пуговицу от лифчика – лифчики с пуговицами исчезли вместе с советской властью…
Она не взяла с собой из прежней жизни ни зубной щетки, ни одежды, ни даже зарядки для телефона – все это нам пришлось покупать уже следующим утром.
Наконец книга вышла в свет, и в первой же рецензии на книгу были помянуты Льюис Кэрролл, Салман Рушди, Лесков, Андрей Платонов и Кустурица: «Это даже не магический реализм. Вспомните картины Фрэнсиса Бэкона, Фернана Леже или Марка Шагала. Простые художественные элементы, собираясь на полотне, не воспроизводят, не описывают реальность, не предоставляют вам возможности посмотреть на картину глазами, сформировать впечатление об изображении. Такая живопись, кажущаяся простой, заставляет вас открыть глаза, пытаясь видеть. Но пока вы смотрите, минует этап анализа вашим сознанием, вашим жизненным опытом, и остается сразу в подсознании, формируя, по большому счету, не образ, но впечатление. Так и Игруев, вводя на протяжении всей книги новых персонажей, загромождая пространство артефактами времён, рисует картину мира. Затем, как опытный эриксонист, якорящий пациента, автор приручает сознание знакомым царским или советским прошлым, знакомым перестроечным или современным настоящим. И, наконец, через генетически родные культурные коды заполняет душу читателя сказками, красками, чувствами, снами, характерами…»
– Эриксонизм? – переспросила Пупа. – Это что-то вроде цыганского гипноза. Критики такие критики…
Второй рецензент заметил, что во всех рассказах Игруева главной движущей силой являются «отчаяние и боль, смутно мерцающие даже в самых, казалось бы, светлых текстах… можно от всей души приветствовать возвращение рассказчика в русскую литературу…»
Третий писал: «Холодно, герметично, кукольно, хотя иногда герои похожи на живых… скатологическая проза Игруева переполнена карамазовщиной, веселящим газом, который грозит разорвать ее целостность, но каким-то чудом она остается живой…»
На презентации книги, устроенной издательством в модном клубе «Графоман», Пупа произвела фурор, когда липучки, которыми платье крепилось к ее телу, вдруг начали одна за другой отставать от кожи.
Она вышла в туалет и исчезла, не сказав мне ни слова.
На звонки она не отвечала – наверное, выбросила телефон, внезапно решив начать новую жизнь. В издательстве сказали, что Пупа уволилась и уехала – то ли в Германию, то ли в Австралию.
Я никогда не забуду ее волшебного инопланетного тела и ледяного ума, а она – она, думаю, вычеркнула меня из памяти, как собака – обглоданную кость.
Глава 5, в которой говорится о черном псе, двенадцати разбойниках и роковой монетке
Из окон моей квартиры открывается вид на Ледовый дворец, куда уже в шесть утра тянутся заспанные мальчишки с клюшками в сопровождении отцов, волокущих огромные сумки с хоккейной амуницией, и на недостроенный Дворец пионеров, где по ночам бомжи грелись у костров, обгладывая кости неосторожных прохожих и попивая стеклоочиститель.
С соседями я старался близко не знакомиться, но здоровался со всеми. В большинстве своем это были пенсионеры, которые весь день сидели у подъезда на лавочке, пересказывая друг дружке сериалы и делясь лекарствами от давления, живота и сглаза. Вечером лавочку занимала компания алкашей – охранников, автомехаников и дорожных рабочих. Они галдели до глубокой ночи.
Справа от подъезда стоит «буханка», которая принадлежит Монетке.
Этот микроавтобус побывал в аду, в самом страшном его месте, но каким-то чудом вырвался оттуда, весь обугленный, ободранный и ржавый, дребезжащий и лязгающий полуоторванными листами железа, весь в дырах и вмятинах, потерявший половину стекол, но сохранивший способность передвигаться на своих четырех.
Во время последней кавказской войны Монетка на этом микроавтобусе отправилась на юг, нашла в госпитале своего жениха Парампупа и привезла его домой. Можно только гадать, чего стоило это приключение девятнадцатилетней женщине. Дыры в бортах автобуса – это пулевые отверстия. Монетка гнала «буханку» через огонь, отдаваясь по пути мужчинам за бензин и еду, чтобы доставить в Москву жениха, который лишился на войне обеих ног, левого глаза и руки.
Однако через полгода Парампуп бросил Монетку. Сказал, что не хочет жениться на шлюхе. И тем же вечером Марыська из соседнего подъезда отнесла его на спине к себе. Монетку жалели, но ведь весь дом знал, что она и впрямь шлюха: ее отец расплачивался по карточным долгам телом дочери, когда ей не было и тринадцати.
Под «буханкой» прячутся бродячие кошки, вокруг шныряют крысы, на колеса мочатся алкаши.
А Монетка – невысокая, плосконосая, с раскосыми скифскими глазами – все ищет счастья то с азербайджанцами, торгующими помидорами на Домодедовском рынке, то с таксистами, приехавшими на заработки из Удмуртии, то с украинскими гастарбайтерами…
Мы с ней соседи, по утрам здороваемся, она стреляет у меня сигареты, я одалживаюсь у нее солью, иногда мы выпиваем по чуть-чуть – Монетка любит поговорить «за жизнь», но только когда нетрезва.
От нее я узнал, что Парампуп рано лишился матери, а потом и отца, жил с мачехой, которая била его чем ни попадя, и ее сожителем, дикообразным стариком, совершенно свихнувшимся на религиозной почве. Он проповедовал безжалостного Христа у супермаркета всю зиму, стоя на бетонных ступенях босиком, и кричал Парампупу, избитому до крови: «Терпи, сволочь, терпи! Наш крест – служить и терпеть. Или ты, сука, думал, что Бог для чего-то другого произвел тебя на свет? В стране моего Отца иначе и быть не может! Не может быть по-другому!»
Однажды старика нашли с проломленной головой в овраге, тянущемся от Ледового дворца до Красногвардейского рынка, но тем утром Парампуп уже отбыл на службу в армию.
Я прикладываю к дверному замку магнитный ключ.
В подъезде сильно пахнет дерьмом. Значит, сосед с девятого этажа снова сливал говно в мусоропровод. Его матери дали десять лет за торговлю наркотиками. Оставшись один, сын годами не платил за квартиру и коммуналку, и в его квартире отключили воду. Парень опорожняется в ванну, а когда она наполняется доверху, по ночам вычерпывает дерьмо ведром и выливает в мусоропровод.
Соседи возмущаются, жалуются в полицию, потом все затихает.
Последнюю сигарету я выкуриваю у окна.
После полуночи движение на Воронежской начинает редеть, гаснуть, все затихает, и тогда появляется пес. Будь он человеком, можно было бы сказать, что у него походка старика, усталого и больного. Он не бежит – плетется, свесив хвост и волоча за собой тяжелую тень. В свете фонарей пес кажется черным. Он садится посреди двора, под моими окнами, и поднимает голову. С высоты пятого этажа я не могу разглядеть его глаза, не могу поймать его взгляд. Кажется, он смотрит на меня. Он не воет, не лает, даже не чешется – просто сидит. Сидит и смотрит на мои окна. Ничейный пес, черный бродяга. Сидит и смотрит. Вокруг него черной лужей растекается его тень. Фонарь мигает, гаснет – пес исчезает, но когда фонарь загорается, – он снова тут как тут, на месте, сидит и смотрит.
Какого черта он приходит сюда каждую ночь? И что ему нужно? Может, он попросту голоден?
Однажды я не выдержал, отрезал кусок колбасы и спустился во двор – но пса там не было. Исчез, растаял, словно дурной сон.
Чужой пес, ничейный, бродяга…
Что же ему нужно в нашем дворе? Он приходит сюда каждую ночь, и всякий раз мне становится не по себе. Дождь ли, снег ли – после полуночи, волоча за собой тяжелую тень, этот черный пес приходит в наш двор, садится под моими окнами и смотрит, смотрит… я не вижу его глаз, но взгляд его невыносим…
Наконец я ложусь спать, пытаюсь уснуть, но сон нейдет. Мысли путаются, начинает болеть сердце. Чертов пес. Чертов пес! Похоже, он болен и слаб. Может быть, он скоро умрет. Заползет в какую-нибудь дыру, в какую-нибудь вонючую нору – и отдаст концы. Содрогнется в последний раз, вытянется, оскалится и замрет с широко открытыми желтыми глазами…
Вздрагиваю и просыпаюсь.
Подхожу к окну и с облегчением вздыхаю: пес жив, сидит на своем месте. Утром он исчезнет. Днем я о нем почти никогда не вспоминаю… а ночью… ночью он, конечно же, придет… притащится во двор, сядет, поднимет голову и замрет, уставившись на мои окна, и мне снова станет не по себе…
Пошел дождь… пес сидит посреди двора… мокрая шкура блестит… чужой, другой, иной… воплощение всего, что пугает меня, а значит, черт возьми, он не только неизбежен, но и, боже мой, необходим… часть моей души… у псов нет души, а у меня есть… чертов пес, черный пес…
Фонарь во дворе мигает, гаснет, загорается…
Пес становится блестящим и желтым, когда фонарь вспыхивает, а когда гаснет, исчезает…
Летом, ровно через год после гибели Бориса Непары, мне пришло приглашение на церемонию бракосочетания господина Глеба Непары и госпожи Любови Нестеровой (Непары). Приглашение было адресовано «господину Сталену Игруеву и его спутнице».
Мысль о том, чтобы пригласить Монетку на свадьбу в качестве спутницы, показалась мне сначала нелепой, потом забавной, наконец – практичной. По дороге домой я мог попасть в неприятности: пьяненький очкарик в метро – любимая добыча милиционеров, а к пьяным с дамой под ручку милиция не пристает.
Монетка согласилась без раздумий, но насторожилась, когда я предложил сгонять в центр, чтобы подобрать подходящую одежду для нее и для меня.
– Это свадьба богатых людей, Лиза, – сказал я. – Очень богатых. Придется блеснуть чешуей.
– Богатых, как в журналах?
Она любила в журналах истории о жизни звезд шоу-бизнеса: роскошные наряды, кабриолеты, дорогие курорты, яхты и пальмы.
– Богаче.
В магазине, увидев цифры на ценниках, она покрутила пальцем у виска, но я закусил удила и заставил ее примерить сначала одно, потом другое платье, пока, наконец, мы не остановились на наряде из плотного алого шелка, отливающего черным. После этого она смирилась с туфлями, сумочкой и дорогим нижним бельем.
– На мне теперь надето больше, чем я сама стою, – сказала она. – Ты жениться на мне решил, что ли?
Утром в день свадьбы я отвез Монетку к Базуке, модному стилисту, дравшему с клиентов несусветные деньги. Но когда я увидел, что он сделал с пегими волосьями Монетки, отвалил еще и щедрые чаевые.
– И ведь не скажешь по тебе, что при деньгах, – сказала Монетка. – Откуда?
– Действительно хочешь знать?
– Ни боже мой! – Она испуганно перекрестилась. – Хочу своей смертью помереть.
Незадолго до обеда в наш узкий извилистый двор, заставленный ржавыми машинами и мусорными контейнерами, между которыми шныряли драные кошки и толстые крысы, медленно въехал черный лимузин и остановился перед кучей строительного хлама, наваленного у стены.
Монетка побледнела – на нас смотрели изо всех окон – и чуть не сверзилась с высоких каблуков, но вовремя взяла меня под руку, выпрямилась, вскинула подбородок и, вызывающе покачивая алыми шелковыми бедрами, прошествовала к машине, у которой нас ждал предупредительный шофер в форменной фуражке.
За минувший год поместье преобразилось. Забор стал гораздо выше, поверху вилась колючая проволока, шлагбаум на въезде сменился шлюзовыми воротами, прибавилось охранников, а камеры видеонаблюдения теперь висели, кажется, на каждом дереве.
Гости, бродившие с бокалами в руках между шатрами, расставленными на лужайке, все как один уставились на Монетку – жены и дочери новых русских начинали привыкать к дорогим, но неброским нарядам, и моя спутница среди них казалась ярким факелом в ночном лесу.
Среди тех, кто сидел за нашим столом, я заметил несколько человек, лица которых были мне знакомы по фотографиям в газетах. Один из них поздравлял молодых, наклонившись к Лу и морщась, когда микрофон начинал фонить.
– Кто это? – спросила Монетка, толкая меня в бок. – Вон тот – кто?
– Нефтяной магнат, – сказал я. – А тот тощий – стальной король. Напротив – угольный барон… а рядом – великий князь всея химических удобрений…
– Че, правда князь? А с виду не скажешь… и все миллионеры?
– Миллиардеры, Лиза. Олигархи.
– Надо же, а так на людей похожи…
Глеб Непара собрал в Рыбалове цвет русского бизнеса – миллиардеров, которые не заработали ни цента на открытом рынке, а были назначены Кремлем. Как ему это удалось – не знаю: после женитьбы на вдове брата его состояние, может быть, и удвоилось, но среди своих гостей он был мелкой сошкой, которая не имела и никогда не будет иметь такого политического веса, как эти короли, бароны и великие князья.
Когда наконец иссякли поздравительные речи, все вышли из шатра на свежий воздух.
Смеркалось, от пруда тянуло свежестью.
Мужчины закурили, хор и оркестр, расположившиеся за пирамидальными тисами, исполняли тихонечко что-то классическое, умиротворяющее.
Монетка плюхнулась в плетеное кресло, вытащила из сумочки сигареты, и к ней тотчас потянулись мужчины с зажигалками. Она с интересом посмотрела на нефтяного магната – он о чем-то спросил ее, между ними тотчас завязался разговор, а я стал протискиваться к Лу, которая болтала с какой-то девушкой азиатской наружности.
– Динара, дочь Глеба, – представила ее мне Лу. – Стален Станиславович Игруев, мой старинный друг. Извини, Дина…
Взяла меня под руку и повела к креслам, расставленным на газоне.
– Он верит в Бога, – сказала она, едва мы опустились в кресла.
– Бывает…
– Не знаю пока, проблема это или нет, но у нас дома полно икон… и вся эта фигня… благотворительность, церкви, молитвы, разговоры о духовности и Царствии Небесном… для бывшего полковника КГБ как-то слишком…
– Что ж, – сказал я, – мир так абсурден, что идея Царствия Небесного просто не могла не возникнуть в голове даже у такого человека, как Глеб Непара…
– Проценты, дивиденды, маржа – к этому легко можно привыкнуть, но я теряюсь, когда говорят о чуде и воле Божией…
– Это еще не беда, – сказал я. – Беда, если он когда-нибудь задумается о смысле жизни: некоторым это не сходит с рук. А эта Динара…
– Хорошая девочка, – сказала Лу. – Ей семнадцать, и единственное ее увлечение – мотоциклы… ты что-то хотел сказать?
– Я не взял с собой твои туфли, извини…
– Какие туфли?
– Помнишь, год назад я случайно прихватил их с собой…
– Год назад… – Она поднялась из кресла. – Как-нибудь потом. Извини, мне надо идти…
Между деревьями загорелись фонари, и лимонно-желтое платье Лу вспыхнуло, когда она вошла в круг света, где ее ждал муж.
А я – я вернулся к Монетке.
Она была счастлива. С нею заигрывали блестящие и богатые мужчины, ей льстили, рассказывали анекдоты, ей несли напитки и сладости, ее шутками восхищались, историю ее поездки на Кавказ за Парампупом слушали с разинутыми ртами, ее роскошное тело олигархи пожирали глазами, забыв о своих быстрорастворимых женах, ее вульгарность была веселой, раскованной и победительной, а когда она предложила спеть, величественный брылястый старик, владевший огромной финансовой империей, снял смокинг и велел «подать музыку».
Принесли аккордеон.
Старик подвернул рукава рубашки, сел на стул подле Монетки и лихо пробежал по клавишам.
И она запела – сначала «Как на кладбище Митрофановском», потом «Однажды я сидела на рояли», затем «У церкви стояла карета», наконец скинула туфли, взобралась на стол и, расставив толстенькие красивые ножки пошире и поддернув повыше подол, раскинула руки в стороны и закричала низким хриплым голосом:
Жили двенадцать разбойников, Жил Кудеяр атаман. Много разбойники пролили Крови честных християн!Наемный хор, перебравшийся поближе к разгулявшейся толпе, грянул:
Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим! Так в Соловках нам рассказывал инок честной Питирим…
Как же прекрасна была Монетка в те минуты! Как великолепна и заразительна! Как играло ее тело и как трогательно дрожала ее шея, беззащитная в своей наготе! С каким глубоким чувством, с какой страстью рассказывала она новым русским разбойникам историю обращения жестокого бандита Кудеяра в кроткого христолюбца, вдруг ушедшего в монастырь замаливать грехи! И с каким воодушевлением и со слезами на глазах вся эта огромная толпа подхватывала финальные строки старинной баллады, которые хор повторил трижды, с каждым разом выговаривая слова все проникновеннее, все торжественнее, все тише:
Господу Богу помолимся, будем ему мы служить! За Кудеяра разбойника будем мы Бога молить!Ее попытались было качать, но тут император всея финансов встал со стула, тряхнул кудлатой головой, крикнул петухом и заиграл на аккордеоне что-то разухабистое, отчаянное, плясовое, и оркестр подхватил, и все мужчины наперебой кинулись приглашать Монетку, и она никому не отказывала, прижималась всем телом к партнеру, хохотала, стреляла глазками, виляла задницей, скакала козой и была на седьмом небе от счастья, и вся эта толпа, словно вдруг забыв о своих миллиардах и дорогих костюмах, бросилась отплясывать с таким азартом, с таким упоением, какое бывает на деревенской свадьбе, когда уже все выпили довольно, чтобы почувствовать себя свободными, но еще недостаточно для драки.
К лимузину нас провожали толпой, мужчины совали Монетке свои визитные карточки, дарили на память зажигалки и портсигары, писали золотыми паркерами и монбланами номера своих телефонов на ее руках, коленках, на ее сумочке, нефтяной магнат нес за нею ее туфли, а она, хохочущая, задыхающаяся от счастья, едва удерживая в руках все эти огромные букеты цветов, только успевала подставлять лоб, щеки, уши и губы для поцелуев, пока не рухнула на заднее сиденье машины и закричала: «Поехали, ямщик! Погоняй!»
А когда лимузин выехал за ворота и между водителем и нами поднялась шторка из непрозрачного стекла, она всем телом повернулась ко мне и спросила:
– За что? Я же тебе нет никто и звать никак, а ты потратил на меня кучу денег. Почему?
– Мне хотелось праздника, и он получился. Конечно, я не ожидал, что ты сведешь всех с ума, но ведь тебе понравилось. Разве нет?
– Чего ты хочешь, Игруев? – Она прерывисто вздохнула. – У меня же нет ничего такого, чтобы… – Она запнулась. – Чего ты хочешь? Почку? Или обе? Больше у меня ничего нет…
Она была все еще взволнована, под ее кожей переливается огонь, глаза в полутьме светились, а когда я протянул к ней руку, она вдруг вся задрожала и бросилась ко мне с такой силой, словно между нами пролегала бездна.
Мы не узнали друг дружку, когда очнулись, и долго лежали на широком сиденье без движения, сплетя руки и ноги и медленно остывая…
– А ведь машина стоит, – прошептала Монетка. – И давно стоит.
– Значит, приехали, – сказал я.
Кое-как одевшись, мы выбрались из лимузина и побрели в темноте к подъезду, взявшись за руки.
Невозмутимый шофер нес за нами цветы и пакеты с подарками.
У лифта Монетка посмотрела на свою руку и со смехом сказала:
– Растаяли…
– Что?
– Все, что они написали на мне, растаяло от пота… номера телефонов, имена – все растаяло…
Кое-как загрузив в лифт цветы и пакеты, я протянул шоферу стодолларовую купюру. Он снял фуражку и с улыбкой поклонился.
Мы ехали наверх, по-прежнему держась за руки и понимая, что нам незачем думать о том, что будет через пять минут, завтра или через двадцать лет, потому что все решено за нас, все решилось там, на заднем сиденье лимузина, но когда лифт остановился и створки двери разошлись, свет вдруг погас, а потом вспыхнул, осветив тело Парампупа, лежавшего на полу в луже мочи и блевотины, полуголого, уродливого, скрючившегося, прижимавшего к боку обрубком левой руки пустую бутылку, и тут я понял, что мир превыше всякого ума действительно существует во всей его неотвратимости и во всем его ужасе…
Монетка с жалобным криком бросилась на колени, попыталась поднять Парампупа, но он был тяжел как труп. Я с натугой поднял бесчувственное тело – Монетка нервно совала ключ в замок – и внес Парампупа в ее квартиру, положил на пол, потом занес цветы и пакеты и – Монетка даже не взглянула на меня – закрыл за собой дверь…
Незадолго до рассвета я проснулся от головной боли, проглотил две таблетки анальгина, запил водкой и снова лег – так удалось дотянуть до утра.
Но потом снова пришлось глотать таблетки и пить водку, и когда в дверь позвонила Монетка, я уже приканчивал бутылку.
Монетка с двумя пакетами в руках прошла в гостиную, обдав меня горячим запахом шампуня «зеленое яблоко», и выложила на диван алое платье, туфли, сумочку, ожерелье, лифчик, пояс с чулками и пакет с кружевными трусиками – все, что было на ней вчера.
– Ага, – сказал я. – Поправиться не хочешь?
Монетка кивнула.
– После вчерашнего, – сказала она, – я чувствую себя дура дурой…
– Зря, – сказал я, разливая водку по стаканам.
– Не знаю, что со мной не так… он же безногий алкаш… да еще безглазый и безрукий… дурость это, конечно, дурость…
– Не переживай, Лиза. Христос ради этой дурости на крест взошел.
– Да ты что несешь, Стален! Он же Христос! А я кто?
– Ты это называешь дуростью, другие называют это любовью. Все дело в словах, Лиза. А платье возьми. Прямо сейчас возьми. И все остальное забери. Оно твое, и тебе оно идет. Ты же видела, как мужики от тебя с ума посходили…
– А что… – Она выпила, тряхнула головой и вытянула перед собой ногу. – Такие ножки на помойке на валяются!
Выпили еще, Монетка сначала поругала меня за то, что я позволяю коту драть обои в прихожей, которые висели лохмотьями, и вообще раскормил скотину, потом сняла халат, надела платье и туфли, протянула мне руку, словно приглашая на танец, я потянул ее к себе, не удержал равновесия, мы свалились на диван, потом я помог ей переодеться, закрыл за нею дверь и лег спать на диване, пахнущем зеленым яблоком, а когда проснулся, понял, что надо идти в магазин за водкой, оделся и вышел, а через день пришел в себя в больничной палате на четырнадцать человек – под капельницей, с погнутой иглой в вене и синяком под глазом.
Не помню, как я оказался в Подмосковье и как попал в эту забытую всеми богами психиатрическую больницу, где зимой спасались от холодной смерти бомжи, ночевавшие под платформами станций пригородных поездов. В страшные морозы они брели по обочинам, падали, вставали, дыша из последних сил, и наконец кое-как добирались до этого двухэтажного здания, и их принимали, потому что им больше некуда было идти.
Кормили здесь кашей на воде, в туалете на полу стояла моча по щиколотки, на втором этаже, в женском отделении, выходили из запоя медсестры, которые делали уколы мужчинам с первого этажа – с ними эти медсестры потом пили и трахались, пациенты по очереди мыли полы, весной сажали картошку на огородах врачей, осенью ее выкапывали и варили в кастрюлях на кирпичах, обмотанных нихромовой спиралью, посылали в поселок за водкой и кефиром гонца – тощего парнишку, пролезавшего через форточку, а потом пели хором, дрались и блевали кефиром…
Наконец меня выписали, вернув документы, пустой бумажник и мобильник.
Я позвонил в редакцию и договорился с начальством, что мой очередной запой будет считаться очередным отпуском.
У подъезда больницы меня ждала продырявленная пулями «буханка», за рулем которой сидела Монетка. Как ей удалось меня разыскать – ума не приложу, а она объяснять не стала.
Когда до Москвы оставалось всего несколько километров, она остановила автобус на обочине, закурила и заговорила, не глядя на меня и то и дело запинаясь:
– Когда мой папаша проигрался вдрызг и не знал, как расплатиться, он расплатился этим. – Ткнула пальцем в грудь. – Вообще-то он был неплохим человеком… умный, веселый, книжки мне вслух читал… – Помолчала. – Я бы простила ему все, но после первого раза, когда я пришла к нему поплакаться, он дал мне рублевую монету и сказал: «На, заработала». Вот этого я ему никогда не прощу. Мужиков могу простить, а монетку – нет. Я в ней дырочку сделала, продела нитку и носила на шее…
– Где он? – спросил я. – Жив?
– Жил с какой-то бабой, а потом его зарезали. Проигрался, полез в драку, его и зарезали. У нас в подъезде собирали деньги на его похороны – я сняла с шеи рубль и отдала. А на похороны не пошла… – Выбросила окурок в окно. – Поехали, что ли…
Мы еще успели в магазин, чтобы купить ей фату в тон платью.
Гости осуждали Монетку за то, что та выходила замуж не в белом платье, а в алом, но все же сходились на том, что и в таком наряде «зараза хороша, очень хороша».
– Заслужил, – сказала она, вручая подарок – платиновый портсигар с многраммой какого-то олигарха. – А зажигалки ихние и все остальное я загнала в ювелирку – как раз на свадьбу хватило. Одну только себе оставила.
Подозреваю, что загнала она и бриллиантовую запонку, оброненную старым банкиром в траву, когда он засучивал рукава, чтобы взяться за аккордеон, но задавать дурацких вопросов не стал.
В загс поехали на мебельном фургоне, чтобы Парампупу в инвалидном кресле было просторно. А застолье устроили в кафе «Эльбрус», которым владел Махмуд Синяя Борода. Пили, пели, плясали, курили у забора, клонившегося над оврагом, и Монетка высоко задирала подол, чтобы достать сигарету из пачки, засунутой под резинку кружевого чулка, и вызывающе щелкала золотой зажигалкой…
Какая-то пьяненькая старушка со срамной бородкой стала выкрикивать пожелание новобрачным: «Чтоб молодому хорошо ссалось, а молодой – сралось!» Ее заставили замолчать криками и свистом, а Монетка объяснила: «Если мужчина больше мочится, у него член хороший будет, а женщина…» Но дальше я не расслышал – в другом конце улицы экскаваторы снова принялись разрушать недостроенный Дом пионеров, пристанище бомжей и бродячих собак, и большие куски битого бетона с грохотом полетели в кузова громадных самосвалов…
Небо потемнело, стало накрапывать, гости бросились под крышу, и я, воспользовавшись суматохой, сбежал со свадьбы.
Вечерело, фонари отражались в лужах, с деревьев медленно падали капли и листья.
Я побрел к «Красногвардейской».
Глава 6, в которой говорится о мечте русского человека, чувстве дома и Белом квадрате
Когда одиночество перестает быть даром, благом и спасением, когда жизнь кажется никчемной, а слова бессмысленными, когда в голове ясно, а в сердце пусто, когда космос распадается, превращаясь в хаос, когда Достоевский бьется под капельницей в психушке, привязанный к кровати, а Толстой с трибуны Государственной думы требует сурового наказания для тех, кто злостно клевещет на правительство и Церковь, когда лиловая жирная дама глядит у воды на закат, когда в темноте тускло мерцают глаза мертвых детей, когда зловонный ад подступает вплотную к границам души, когда с горящих небес на асфальт падают мертвые птицы, когда дома трескаются и рушатся, погребая под обломками женщин и стариков, когда зло вырывается на улицы, топча правых и виноватых, когда умирающая земля превращается в безжизненную пустыню, освещенную последними лучами угасающего солнца, когда не остается ни одного уха, готового слушать, и ни одного глаза, способного видеть, когда ледяной ветер воет над мертвой равниной, качая деревья, которые больше не отбрасывают тени, и засыпая песком человеческие кости – словом, когда мне становится совсем тошно, совсем невмоготу, я ухожу в мир, где всегда светло и тепло, где гармония неколебима и порядок незыблем, где нет ни прошлого, ни будущего, ни горя, ни радости, где бытие подчинено чистому разуму и наполнено бессмертной красотой, где каждый день пересекаются жизни семи миллионов студентов, беременных женщин, убийц, чиновников, пьяниц, инвалидов, баянистов, гомосексуалистов, пенсионеров, дураков и дурочек, русских, евреев и молдаван, танцоров, лейтенантов, курьеров, гениев, слесарей, мечтателей, небритых мужчин, толстух, цыган и поэтов, где воздух полностью обновляется каждые два часа, – я спускаюсь в метро…
Наверное, никакой другой город на свете не обманывает людей так, как Москва. Человек ищет смысла в скоплениях ее безликих домов, выстроившихся вдоль безликих проспектов, и не находит. Он пытается понять ее, бродя в тех районах, где еще сохранились старинные храмы и особняки, помнящие Ивана Грозного и Льва Толстого, но не понимает. Наконец он оказывается у Кремля, и ему кажется, что наконец-то он все нашел и все понял. Вот образ Москвы, вот образ России, вот цель и смысл русского народа – эта самая большая в мире средневековая крепость, эти островерхие башни со звездами и двуглавыми орлами, эти алые стены, эти купола церквей – наша ось, наш оплот, наш центр. Ведь русские – народ центра, которому необязательно быть главным или первым среди других народов, ему важно иметь центр. И поэтому, даже если когда-нибудь падет Кремль, русские первым делом, едва выбравшись из-под обломков истории, построят новый – с башнями и стенами, со звездами, орлами и флагами, потому что без центра они не народ, не тот народ, который тысячу лет, повинуясь воле Господней, стягивал и стягивает сто народов вокруг Кремля.
Но даже Кремль обманывает, даже он не объясняет до конца Москву.
Она так и останется городом идеи и геометрии, если вы не спуститесь в метро.
Именно там, под землей, где у других народов находится ад, вы найдете наш рай, вы найдете мечту, которая светит, греет и живит образ Москвы, образ Третьего Рима, Града Божия, воплощения могущества, святости и красоты. Чтобы убедиться в этом, достаточно одного взгляда на карту Московского метрополитена с его двенадцатью станциями на Кольцевой линии – двенадцатью вратами Града Небесного. И достаточно оказаться на «Комсомольской» или «Киевской», на «Площади Революции» или «Таганской», на «Маяковской» или «Новокузнецкой», на «Театральной» или «Новослободской», достаточно увидеть весь этот мрамор и гранит, всю эту бронзу и сталь, это барокко и этот ампир, эти колоннады и мозаики, аркады и портики, витражи и скульптуры, этот блеск и сияние, чтобы почувствовать себя – нет, не под землей, не в подземелье, но – в иномирье, в особом и безопасном пространстве со своим небосводом, звездами, стихиями и героями, где торжествует Бог, а дьявол взнуздан, где все прощены и никто не проклят…
Воплощенная мечта русского человека, подчиняющая и наполняющая жизнью закон и порядок, идею и геометрию, – вот что такое московское метро…
Путь от «Красногвардейской» до «Павелецкой» занимает двадцать девять минут, полторы-две минуты – переход на Кольцевую линию, еще восемь минут поезд идет до «Комсомольской кольцевой». Эту станцию называют «воротами Москвы» – сюда текут потоки людей с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов – приезжие из Ташкента и Пекина, из Хельсинки и Воркуты, из Мурманска и Таллина, из Владивостока и Адлера…
Люблю упоительную роскошь «Киевской», ее синь и золото, люблю московское барокко «Арбатской», ее красный мрамор и бронзу, «Площадь Революции» с ее пограничными собаками, волшебными петухами и зачитавшимися девушками, «Бауманскую» с ее шоханским порфиром, «Маяковскую» с ее простором, высью и сталью, сочувственно отношусь к станциям хрущевской эпохи с их безыскусной бедностью, с их обезбоженностью, где жизнь предстает в своей экзистенциальной наготе, а человек смиряется с оставленностью и одиночеством, чтобы принять судьбу во всей ее подлинности, но станция «Комсомольская кольцевая» – особый случай. Она – мой дом и мой храм, часть моей жизни, такая же часть меня, как цвет глаз, рост, вес и деформированный проксимальный сустав правого указательного пальца…
Никогда не забуду раннего утра 22 августа 1991 года, когда я сошел с поезда на Казанском вокзале, увернулся от «мамки», бродившей в толпе у перрона и монотонно повторявшей: «Мужчины, девочек берем! Девочек берем! Зрелочки, матурочки со скидкой!», спустился в подземный переход и через несколько минут оказался на станции «Комсомольская кольцевая» Московского метрополитена, еще носившего имя Ленина.
Именно здесь, на перроне этой станции, я впервые в жизни испытал чувство, о котором знал только по книгам, когда герой, усталый и разочарованный, после долгих странствий возвращается под крышу отчего дома, где его ждут привычный порядок вещей, целительный покой и воспоминания, роднящие и примиряющие его с этим миром.
Никогда прежде я ничего подобного не переживал, да и не мог переживать, потому что родного дома у меня не было.
Мой отец служил сначала в городке у подножия Сихотэ-Алиня, потом в Прибалтике, затем в Узбекистане, а по возвращении из Афганистана осел на Урале.
Я вырос среди казенной мебели с номерами, которая доставалась следующим жильцам, когда отца переводили на новое место службы, переходил из школы в школу, не успевая завести друзей, видел тигра в уссурийской тайге, объедался «цеппелинами» в каунасском кафе, впадал в болезненное полусонное состояние во время «саратона» – невыносимой безветренной жары, стоявшей в Ташкенте сорок дней кряду, ночевал в поезде, заметенном снегом в оренбургской степи, сегодня Дальний Восток, завтра – Средняя Азия, послезавтра – Прибалтика, типовые квартиры, типовые дворы, типовые школы, люди, имена которых выветривались из памяти, пока поезд нес нас через всю страну, через бескрайние леса, великие реки, циклопические горы и необозримые степи, за девять тысяч километров от прежней жизни…
Большая родина у меня была – страна площадью двадцать два миллиона четыреста две тысячи двести квадратных километров, шестая часть земной суши с трехсотмиллионным населением, говорившим на ста тридцати двух языках, плавильный котел истории, в котором столетиями бродило, пенилось и кипело наследие русских самодержцев, татарских ханов и немецких князей, а вот своего дома, чувства дома – не было.
Я был пассажиром, человеком на подножке вагона, гостем всюду, а хозяином – нигде.
И вдруг все изменилось.
Голодный, потный и невыспавшийся, я стоял в огромном зале на перроне станции «Комсомольская кольцевая» с тяжелым рюкзаком, набитым одеждой, книгами и тетрадями, с фанерным чемоданчиком в руках, в котором была спрятана пишущая машинка «Москва» с высокой кареткой, я был оглушен и растерян, не понимая, откуда вдруг взялась эта сладкая и горячая радость, разливавшаяся по жилам и кружившая голову, я взирал на пурпур и золото сталинского ампира, на восьмигранные колонны узбекского мрамора, выраставшие из каарлахтинского малиново-красного гранита и возносившиеся к высокому солнечно-желтому потолку, на эти легкие аркады и роскошные люстры, на лепнину и византийские мозаики с изображениями суровых православных воинов и святых, советских маршалов и красноармейцев, и чувствовал себя естественной, неотъемлемой и необходимой частью этой победительной гармонии света и цвета, объемов, масс и образов, гармонии, которая не нарушалась ни воем голубых поездов, поминутно прибывавших к платформам и улетавших в черные тоннели, ни шарканьем ног, ни слитным многоголосьем, ни бурлением многотысячной толпы, ни горьким плачем беженки в черном платке, стоявшей на коленях посреди этого великолепия и благодарившей Бога за то, что Он помог ей целой и невредимой добраться до Москвы, средоточия всех зол и обители спасения…
Я чувствовал необыкновенную радость, словно три дня назад и не похоронил отца, словно и не было тридцати часов в душном вагоне, набитом измученными беженцами, поющими инвалидами, плачущими детьми, цыганами, чемоданами и баулами, словно и не было бессонных ночей в лязгающем тамбуре, провонявшем табачным дымом и мочой, словно и не было мрачных мыслей о будущем…
Наконец-то я дома – вот что я думал, хотя до того ни разу не бывал в Москве.
Наконец-то я дома…
И с той минуты чувство дома навсегда слилось в моей душе с образом станции «Комсомольская кольцевая» – единственного места на земле, где я хотел бы умереть…
Часы показывали 20.32, когда я вышел из поезда на перрон, прислонился к колонне и закрыл глаза. Голова кружилась, ноги дрожали, сердце замирало, я боялся обморока или поноса.
Я не был здесь много лет. Ни на станции метро, ни на Плешке, ни на вокзалах. Даже не проезжал через эту станцию. Ругал себя, пытался преодолеть страх перед «Комсомольской», но все мои попытки пресекала сама судьба – иначе и не скажешь.
Первую попытку предпринял на пару с Лу. В тот день мы катались в метро, я рассказывал ей о «Семеновской», где когда-то стоял пятиметровый памятник «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», о мозаиках на потолке «Новокузнецкой», сделанных по рисункам великого Дейнеки знаменитым Фроловым, который умер от голода в блокадном Ленинграде, потом вышли на «Тверской», перекусили в кафешке, я заговорил о палеонтологии московского метро, об аммонитах и гастроподах в красном мраморе, которым отделан вестибюль «Белорусской кольцевой», Лу слушала меня с улыбкой, потом вдруг тихо сказала: «Поцелуй меня», сердце у меня екнуло, и я сказал, что должен показать ей «Комсомольскую», и Лу взяла меня за руку, чего не делала никогда, но когда мы вошли под своды старого вестибюля «Белорусской», где-то в глубине раздался гулкий хлопок, из эскалаторного тоннеля донесся женский крик, и к турникетам бросились милиционеры…
Это случилось 5 февраля 2001 года, когда под мраморной скамьей на «Белорусской» взорвалась бомба. Жертв не было – тяжелая скамья погасила взрывную волну. Но в метро в тот день мы больше не спускались – до дома добирались на автобусе.
А 25 мая 2005 года в Москве случился блэкаут – аварийное отключение электричества, люди изнывали от духоты в поездах, остановившихся в тоннелях, все ругали Чубайса, девочки с алыми лентами через плечо – в московских школах был последний звонок – млели от жары и жались к родителям, которые пытались поймать такси. В тот день мы с Монеткой не смогли доехать до «Комсомольской», и я вздохнул с облегчением, когда мы вернулись домой.
Часы показывали 20.48, когда я наконец понял, что ни сердечный приступ, ни понос мне не грозят, и двинулся по перрону вдоль колоннады, бормоча себе под нос: «А товарищ Каганович шел в сраженье впереди, а товарищ Каганович был подземный командир…» Этот стишок из детской книги времен строительства метро в Москве я впервые услышал от Фрины.
Вот тут, у этой колонны, мы поцеловались в последний раз – мы оба знали, что жить Фрине осталось недолго. Потом спустились на радиальную линию, доехали до «Охотного Ряда», а когда вышли наверх, Фрине стало плохо, она обмочилась, и мне пришлось тащить ее на себе, а все вокруг шарахались от пьяной вонючей старухи в мокрых чулках, повисшей на молодом парне, и я до сих пор умираю от стыда, вспоминая, как тогда умирал от стыда за нее…
Я всегда жил в тупике, чувствовал себя прижатым к стене, всегда переживал кризис и давно научился черпать энергию в отчаянии. Но сейчас, похоже, стена рухнула, не выдержав соседства с болью, я ее перестоял, и открылся простор, а с ним родился страх. Вот что случилось.
Мне предстояло путешествие в запретную зону, само существование которой мучило годами и делало меня таким, каков я есть: многоликий Протей, меняющий свой образ подобно морю и превращающийся в различных животных, людей и чудовищ. Но теперь я не хотел и не мог растворяться в персонажах, как это было всегда, теперь я должен был говорить от первого лица – писать собственной кровью…
Писатель не вспоминает – он сочиняет воспоминания, балансируя между игрой ума и памятью сердца. Способен ли я выдержать этот баланс, восполнив жизнь и не погрешив против памяти сердца? Способен ли всецело довериться памяти и речи? Способен ли оставаться твердью, отдаваясь потоку?
Я стоял перед выбором, и это был тот еще выбор – между адом и адом…
От «Домодедовской» я пошел дворами.
Накрапывало.
Напротив магазина электроники толпились люди под зонтиками, со свечами и гитарами в руках – они пришли помянуть рокера, убитого ударом ножа в сердце средь бела дня на глазах у прохожих.
Убийцу арестовали через два часа – двадцатилетний парень, раненный в Чечне, сын толстой злобной бабы, приторговывающей самогоном. Бритоголовый, тощий, он работал на автомойке, а в свободное время бродил по улицам, сунув руки в карманы, поминутно сплевывая и что-то мыча, или часами сидел на скамейке у соседнего подъезда, читал «Материализм и эмпириокритицизм», багровея от непосильной умственной работы, а потом напивался и лез в драку. Его били и бросали в кустах за гаражами. Он ненавидел всех – длинноногих девушек в шортах, азербайджанцев на «Мерседесах», геев, бродячих собак – и часто задирал парней с крашеными хаерами, которые устраивали рок-концерты в Ледовом дворце, стоявшем напротив. В новостях сказали, что он – нацист…
Я заварил чай, сел в кухне за компьютер, попытался успокоиться, прежде чем войти в Белый квадрат.
Несколько лет назад я взял кусок белой бумаги, вставил в рамку и повесил на стену. В этом не было никакого вызова Малевичу, у которого, строго-то говоря, «Черный квадрат» был всего-навсего пародией на икону, актом богоборчества, остальное придумали искусствоведы. Мой Белый квадрат может символизировать что угодно – замысел, требующий воплощения, возможность, вызов, бездну и высоту, что-то манящее, мучительное, необходимое и недостижимое – мир превыше всякого ума…
Открыв окно, глотнул чая, закурил, стряхнул пепел в грязный коньячный бокал, склонился над клавиатурой и стал писать: «Афинская гетера Фрина была любовницей Праксителя и позировала ему, когда он ваял статую Афродиты Книдской. За то, что он изобразил богиню обнаженной да еще взял за образец женщину, которая торговала собой, Праксителю могло бы не поздоровиться…»
За стеной кричала Монетка, по щекам моим текли слезы, с протяжным скрежетом открывались врата преисподней, запах крепкого табака смешивался с терпким духом палой листвы, часы били полночь, я сгорал от высокого стыда, вспоминая, как сгорал когда-то от стыда низменного, я был захвачен сладкой и горячей радостью, кипевшей в моей крови и шибавшей в голову, Господь торжествовал, дьявол был взнуздан, все были прощены, и никто не был проклят…
Глава 7, в которой говорится о калокагатии, пенисе глухонемого и чайных ложечках
Афинская гетера Фрина была любовницей Праксителя и позировала ему, когда он ваял статую Афродиты Книдской. За то, что он изобразил богиню обнаженной да еще взял за образец женщину, которая торговала собой, Праксителю могло бы не поздоровиться, но к суду по обвинению в безбожии привлекли натурщицу – Фрину. Обвинителем выступил Евфий, отвергнутый ею поклонник, а защитником – знаменитый оратор Гиперид. Когда Гиперид понял, что слова его не производят на присяжных никакого впечатления, он сдернул с Фрины одежды, чтобы она предстала перед судом обнаженной. После этого присяжные оправдали Фрину, обладавшую идеальной фигурой, поскольку греки той эпохи исповедовали калокагатию, то есть считали, что этика и эстетика, доброе и прекрасное не могут существовать раздельно.
Фрина сохранила красоту до преклонных лет, когда стала любовницей Апеллеса и позировала ему для картины «Афродита, рождающаяся из пены морской». Ее образ впоследствии вдохновлял Боттичелли во время работы над «Рождением Венеры», она появляется на полотнах Тернера, Жана-Леона Жерома, Густава Буланже и Генриха Семирадского. А Камиль Сен-Санс написал о ней оперу.
Впервые это имя я услышал в детстве, когда проводил лето в Новосибирске у бабушки с дедушкой.
Дед часто ездил в Москву по делам. Провожая его как-то в столицу, бабушка язвительно сказала: «Заодно и с Фриной своей повидаешься, Алексей Петрович».
Дед хмыкнул и поцеловал свою маленькую жену в розовую пухлую щечку.
Бабушка преподавала историю искусства в университете – она и рассказала мне об афинской гетере Фрине, а потом показала старую любительскую фотографию, на которой Алексей Петрович – молодой, с квадратными усиками под носом, в белом офицерском кителе – был запечатлен на подмосковной даче с девочкой на коленях, прижимавшей к груди мяч. Это была Анечка Страхова, дочь его наставника и друга, одного из руководителей строительства Московского метрополитена, который погиб в 1939 году.
– Его осудили как врага народа и расстреляли, – сказала бабушка. – В следующий раз Алексей Петрович встретил Анечку только в начале пятидесятых, тогда она уже стала Фриной…
– А кто такая гетера? – спросил я.
– Подруга, – сказала бабушка, не скрывая неудовольствия. – Или спутница.
Похоже, бабушка немножко ревновала мужа к «московской красотке», но он все ее шпильки пропускал мимо ушей. Лишь однажды сказал: «Среди людей красота чаще язва, чем свет».
В следующий раз мы встретились через много лет, когда дед приехал в Кумский Острог на похороны своего старшего сына, моего отца.
Алексей Петрович уже семь лет вдовел, но остался прежним – сухопарым, выбритым до кости и немногословным. Помалкивал всю дорогу до кладбища, не проронил ни слова, когда обитый кумачом гроб опускали в яму, и только кивал, когда друзья его покойного сына говорили о «безвременной смерти» и «замечательном летчике и человеке».
Дед уезжал ночью, времени у нас было много, и мы решили прогуляться по городу.
Городом Кумский Острог стал только после войны, когда неподалеку построили военный аэродром, а на другом берегу Кумы разместили несколько оборонных заводов. От острога, который в XVII веке служил перевалочной базой для продвижения империи в Сибирь, осталось только название, а на том месте, где когда-то стояли стены и башни бревенчатой крепости, двести лет назад выросло большое село – палисадники, железные крашеные крыши, улицы, засыпанные шлаком и кое-где заасфальтированные, свадьбы до драки и похороны всем миром. Самыми примечательными зданиями там были двухэтажная школа, водонапорная башня, кирпичный завод, скотобойня, больница и пересыльная тюрьма.
В сквере у памятника Ленину мы сели на скамейку, и дед, глядя на приземистое здание горкома с толстыми колоннами и советским гербом на фронтоне, заговорил вдруг о Петре Ивановиче Игруеве, своем отце, который в Гражданскую был командиром бронепоезда, потом строил железные дороги, переезжая с места на место, пока не умер от сердечного приступа на глухом сибирском полустанке.
– Всю жизнь бежал, бежал, бежал… – сказал дед. – Всю жизнь мечтал о своем доме. – Достал из кармана и протянул мне ключ. – Это его ключ. От будущего дома. Он никогда с ним не расставался. Ключ есть, а дома не было. Теперь он твой.
Я ждал продолжения истории, ждал подробностей, деталей, но дед, видимо, посчитал, что и этого довольно.
Ключ был небольшой, темный и простой, как нательный крест.
Мне вдруг захотелось обнять деда, но я не решился.
Слишком долго мы не виделись, слишком мало общего между нами было, слишком разными были наши характеры: дед был человеком прямым, я – скрытным и лживым.
На другой стороне площади, за спиной памятника Ленину, стоял единственный в городе ресторан под названием «Центральный» – там мы и поужинали.
Несмотря на воскресенье, народу в ресторане было мало.
За десертом дед наконец задал вопрос, которого я ждал весь день:
– Куда и когда уезжаешь?
Я замешкался с ответом.
– Значит, в Москву?
– В Москву, – с облегчением сказал я.
Никого ближе деда у меня больше не было – ему я и выложил все о своем желании стать писателем. Ну или хотя бы попробовать. В Москве – издательства, журналы, воздух…
– И Фрина, – сказал дед. – В Москве – Фрина. Она поможет.
На вокзале он выдал мне огромные деньги – аж двадцать пять тысяч рублей «на столичные расходы» (а зарабатывал я тогда около трехсот в месяц), письмо к Фрине и сказал:
– Стоять на своем труднее, чем стоять за или против. Держись.
Объявили посадку, мы обнялись, поезд тронулся.
Через два года дед умер, но узнал я об этом случайно, не сразу и так и не побывал на его могиле…
А ключ я повесил на шею и никогда с ним не расставался.
В Кумском Остроге мы прожили почти двадцать лет, и эти годы вместили в себя слишком много потрясений для такой непрочной семьи, как наша.
Первым потрясением стала смерть моей младшей сестры, пухлой девочки с синдромом Дауна, которую все звали Хрюшей.
Она умерла от сердечного приступа, а при вскрытии обнаружилось, что девочка была беременной. Этот факт потряс родителей сильнее, чем ее смерть. Все их попытки узнать имя обидчика закончились ничем.
Смерть Хрюши убила нашу семью.
Мать стала пить. Поговаривали, что она путается с мужчинами.
Если раньше отец выпивал только по выходным, то теперь стал пить даже на службе, игнорируя медкомиссию, которая не осмеливалась отстранять от полетов командира авиаполка.
Друзья надеялись, что командировка в Афганистан вернет его к нормальной жизни, но через полгода отца привезли из Кабула с ранением в голову и тяжелейшей контузией, от которой он не оправился до самой смерти.
Когда отца уволили из армии по состоянию здоровья, мать развелась с ним и исчезла из нашей жизни.
Я был предоставлен себе, и меня не смущала необходимость готовить еду и стирать рубашки – свобода того стоила. Я мог когда угодно уходить из дома и возвращаться хоть под утро.
Впрочем, свобода моя была неограниченной лишь в быту и воображении, во всем остальном, мне казалось, я ничем не отличался от сверстников. Однако в старших классах они уже спали с женщинами, а мой сексуальный опыт исчерпывался неистовой мастурбацией. Все мои пятерки по математике и литературе, все эти трижды прочитанные Достоевский, Свево и Шекспир не шли ни в какое сравнение с возможностью залезть в трусики прекрасной Катеньки Норман, которая трахалась с самыми тупыми парнями, слыхом не слыхавшими про экзистенциализм, а на меня не обращала никакого внимания.
Я не знал, где находится месторождение доступных женщин, и мог только грезить о рае. Мне оставалось восполнять жизнь, досочиняя, дописывая ее.
Лет в пятнадцать я сошелся с одноклассниками, которые не принадлежали к кругу офицерских детей. Это были парни из Слободы – сыновья охранников тюрьмы, рабочих химзавода, скотобойни. Некоторых я знал и раньше, когда возил Хрюшу к бабе Нине, которая в Слободе держала что-то вроде подпольного детского сада.
Для слободских парней я был и остался чужаком, но со временем стал «своим чужаком». Одному из них я помогал подтягивать математику и химию, с двумя другими зимой бегал на лыжах в степи, а всей компании был интересен как поставщик порнушки.
Как-то в библиотеке я обнаружил в томе Мопассана переписанный от руки рассказ «Баня» (тот самый, который приписывается Льву Толстому). Вот в таком духе я и стал сочинять, расширяя круг авторов и совершенствуя стиль.
Слободские свято верили, что очкарик, то есть я, находит эти истории в тайных дебрях загадочного библиотечного мира. Я писал «в духе Достоевского», «в духе Чехова», «в духе Шолохова», добавляя ради правдоподобия описания природы, одежды, второстепенных персонажей, портретные и речевые детали, которые были лишними в порнушке, но убеждали моих читателей в том, что эти истории действительно принадлежат классикам, которые, оказывается, не такие уж и большие любители всякого занудства.
Еще большего успеха я добивался, когда угощал приятелей фрагментами из Себастьяна Перейры или Джона Фальстафа: иностранцы ведь в смысле порно всегда были гораздо продвинутее наших.
Однако какие бы сексуальные изыски я ни выдумывал, мои дружки были твердо убеждены, что все женщины хотят одного – чтобы у мужчины член стоял, как у глухонемого. Остальное – слова, слова, слова.
Вот с таким багажом я и встретил свою первую женщину.
Весной у нашей классной руководительницы Розы Ильдаровны Бурнашевой умер муж. У него остановилось сердце, когда он занимался любовью с буфетчицей из Дома офицеров.
Ученики из ее класса несли венки от школы, а после поминок Бурнашева попросила нас расставить мебель в квартире и помыть посуду.
Сначала нас было пятеро, потом, когда дело дошло до посуды, остались только бугай Ося Левин и я.
Роза Ильдаровна налила нам вина, чтобы работалось веселее, выпила с нами, села на стул в углу кухни, закинув ногу на ногу, и закурила.
Она была крупной женщиной, и как мы с Осей ни поворачивались в тесной кухне, взгляд наш то и дело упирался то в ее могучие гладкие ляжки, то в вырез на огромной груди.
Вымыв посуду, мы снова выпили, и Роза Ильдаровна приказала Осе следовать за ней, а мне – подождать.
Через полчаса Ося вернулся, хлопнул стакан вина, перевел дух и сказал:
– Теперь ты.
Роза Ильдаровна курила у открытого окна в спальне. На ней была полупрозрачная накидка, позволявшая даже в полутьме разглядеть ее крутые ягодицы и высокие мощные ноги.
Я стоял у нее за спиной, понимая, что сейчас произойдет, и весь дрожал.
Наконец она погасила окурок в пепельнице, стоявшей на подоконнике, повернулась ко мне, сбросила движением плеч накидку, с силой провела ладонями по своей груди и бедрам и сказала: «Теперь ты».
От нее пахло тяжелыми горьковатыми духами.
В постели я почувствовал себя человеком, вступившим в единоборство с лошадью – такой огромной показалась мне Роза Ильдаровна. Но оказалось, что лошади умеют быть нежными, чуткими и благодарными.
Под утром мы с Осей вышли из ее квартиры друзьями.
– А ты ей что-нибудь сказал? – спросил вдруг Ося.
– Нет. А что говорить-то?
– А я сказал, что люблю ее. Так и сказал: я тебя люблю.
– А она что?
– Закрыла глаза.
Я онемел от ужаса, смешанного с восторгом.
Каждый день Ося говорил родителям, что переночует у меня, и вечером мы отправлялись в гости к Розе Ильдаровне.
Эта упоительная история длилась два месяца, пока Ося не уехал поступать в военное училище, а я – в медицинский институт.
Через много лет я встретил ее на кладбище, когда хоронили отца.
Роза Ильдаровна была все такой же статной, держалась прямо, и от нее пахло все теми же тяжелыми горьковатыми духами. Твердой поступью она прошла мимо нас с дедом, не поднимая взгляда, и скрылась за пыльными деревьями в той стороне, где была могила ее мужа.
Провожая ее взглядом, я впервые задумался о том, что произошло много лет назад. Связь с взрослой женщиной, которая отдалась мальчишкам в день похорон мужа, казалась мне тогда необыкновенным приключением. Днем в школе я встречал строгую учительницу, которая внушала страх не только детям, но и взрослым, а ночью та же самая строгая учительница беспрекословно повиновалась, когда я приказывал: «Теперь на живот».
Это было чудо.
Мой простодушный друг Ося считал, что Розу Ильдаровну, на наше счастье, обуяла похоть, а я – я боялся даже говорить об этом, чтобы не спугнуть удачу.
Боже, что мы знали тогда об одиночестве? О гордой, умной, волевой и привлекательной женщине, которая молча, без жалоб претерпевала жизнь, изгаженную мужем – бабником и пьяницей? Что мы знали о причинах, которые побудили ее разом изменить свою жизнь и отдать на разграбление двоим безмозглым мальчишкам самое дорогое, что у нее было, – свое тело и свою репутацию? Что, наконец, знали мы о любви, о тайном огне, бушевавшем в душе тридцатисемилетней женщины и искавшем выхода на любых дорогах? Обо всех тех запретах, страхах и предрассудках, которым она всегда подчиняла свою жизнь и которые могли обрушиться на нее всей своей непомерной тяжестью, узнай кто-нибудь в городке о ее тайне? А она ведь ни разу – ни разу – не попросила нас держать язык за зубами, безотчетно доверившись юнцам, как мог довериться только вконец отчаявшийся человек. Была ли она счастлива хотя бы в те минуты, когда после секса лежала рядом с подростком, со слезами на глазах водя пальцем по его животу?
Провожая взглядом Розу Ильдаровну, пришедшую на могилу мужа, я вспоминал те два месяца, когда мы с Осей с упоением делили ее царственное тело, даже не задумываясь о том, что творилось в ее душе, и втягивал ноздрями тяжелый горьковатый запах ее духов, тающий в чистом кладбищенском воздухе…
В медицинском институте я проучился недолго. Весь запас романтического энтузиазма, почерпнутый в книгах и фильмах о врачах, иссяк за два года, и я поступил на факультет журналистики. Но и там продержался недолго.
Помню пожилого доцента, вечно небритого и желчного, который был ушиблен темой заимствований и пародий в литературе. Он проводил параллели между «Бесами» и «Двенадцатью стульями», считая главу «Союз меча и орала» пародией на главу «У наших» в «Бесах», Кису Воробьянинова – пародией на Ставрогина, а письма отца Федора – пародией на письма Достоевского жене.
Призыв в армию мне не грозил, поскольку я был негоден к службе по зрению, поэтому вел я себя развязно – пропускал занятия, валялся на койке в общежитии, таращась в потолок или уткнувшись в книжку. Оживлялся только вечером, когда с занятий возвращалась Лариска, учившаяся на пятом курсе биофака.
Ее мужа-студента забрали в армию, ребенка она отправила к матери в деревню и все свободное время посвящала сексу. Она была бесхитростной давалкой с гибким телом, смугловатой, с яркими глазами, и в общежитии, кажется, не было парня, который не переспал бы с нею хоть раз.
Замок в ее двери был давно сломан, и если Лариске хотелось выспаться, она запиралась на чайную ложечку. Вбила в дверь и дверной косяк петли – в них и засовывала чайную ложечку. Но если надо было открыть дверь, достаточно было навалиться на нее плечом, и ложечка из дешевого алюминиевого сплава с хрустом ломалась пополам. Под кроватью у Лариски стояла трехлитровая банка с алюминиевыми обломками. Сколько таких банок она вынесла на помойку, никто сосчитать не брался.
Я получал стипендию, кое-какие деньги от отца и еще зарплату в качестве санитара в больнице – денег у меня было достаточно, чтобы пригласить Лариску в кафе. Она выделяла меня из толпы кобелей, пожалуй, только потому, что они стеснялись или боялись появляться с нею на людях, а я – нет.
Ее отец умер в тюрьме, куда попал за убийство сыновей, втроем трахавших четырнадцатилетнюю сестру в бане, а мать сошла с ума и бросилась в глубокий колодец, откуда ее не могли достать два дня, и все это время она там стонала, плакала и просила воды.
Лариска смеялась, рассказывая о матери, умиравшей на дне узкого колодца, и передразнивала ее, прикладывая ко рту руки и крича гулким голосом: «Воды! Воды!» После похорон матери девочка попала в семью дяди, который приставал к ней, пока она – тут Лариска опять начинала хохотать – не пырнула его ножом в задницу.
– Что ж тут смешного, Лариска? – сказал я. – Кровосмешение, убийства, безумие, мрак, чувство вины, травма на всю жизнь и все такое, а ты – ты смеешься! Братья убиты, отец и мать умерли – и все, в общем-то, из-за тебя… если бы у нас был возможен фрейдистский роман, ты была бы главной героиней…
– Это ж баня, в бане все так делают… а отец у нас нервный был, болел часто, вот и сорвался…
– Да ведь я не об этом…
Лариска вздохнула.
– У моей бабушки отца убили, моего прадеда, он был священником, и его колхозные активисты топорами зарубили, а его жену, мою прабабушку, изнасиловали на глазах у детей. Потом этих убийц закатали на Колыму, но не за убийство, убийство им простили, конечно, а за какое-то вредительство в колхозе – тогда любой мог стать вредителем. И бабушка с их женами и детьми горе горевала, хлеб делила и чай с сушеной морковкой пила. Детей вместе растили, голод вместе голодали… Отец мой как-то спросил, почему она всех простила, а бабушка и говорит: «Если у нас все зло помнить, придется всем всех убивать». Либо жить, либо помнить – вот тебе и вся Россия, Игруев, – старушечьим нравоучительным тоном сказала она. – А ты все – Достоевский, Фрейд, Сталин, Россия, загадка русской души… – Зашептала, шаря по мне руками: – Давай-ка сюда своего сталина – у меня уже вся россия пожаром горит…
Весной вернулся из армии ее муж. Он напился и часа два таскал голую жену за волосы по коридорам общежития, потом они помирились, защитили свои дипломы и по распределению уехали в деревню на границе с Казахстаном, где у них вскоре родился второй ребенок.
А я подал заявление о переводе на заочное отделение.
В заявлении была указана причина – «по семейным обстоятельствам»: отец перенес сложную нейрохирургическую операцию и нуждался в уходе.
На самом-то деле мне просто все надоело – университет, алюминиевые ложечки, жизнь, казавшаяся бессмысленной и невыносимой…
Глава 8, в которой говорится о красивых бедрах, духовности и русских новаторах
Мать окончила библиотечный техникум, но в библиотеке любила не книги, а чистоту, фикусы и универсальную систему классификации.
Она чувствовала себя одинокой рядом с больными детьми и не находила понимания у мужа, который только смеялся над ее страхами. Мне было жаль ее, но какое ж это было облегчение, когда после развода с отцом она исчезла из нашей жизни: наконец-то я мог спокойно мочиться в туалете, не думая о том, что мать подслушивает за дверью, подозревая, что я занимаюсь онанизмом.
Мать говорила, что я пошел «не в нее». Но уж точно и не в отца.
Он был командиром авиационного полка, летчиком-снайпером, красавцем, веселым выпивохой, любимцем женщин, повелителем судьбы. В центре его мира находились, конечно же, самолеты и летчики, власть и воля, потом друзья и жена, а где-то по дальней орбите, среди мощных мотоциклов и красивых женских ножек, летел я, иногда скрываясь в полутьме этого космоса, но никогда не теряясь в его ледяных просторах. Отец бывал веселым и сердитым, трезвым и пьяным, справедливым и несправедливым, но никогда не забывал, что я принадлежу его миру, а не чуждому и опасному, как считала мать.
После смерти дочери, тяжелого ранения и контузии, после развода с женой, после увольнения из армии по состоянию здоровья его космос рухнул.
Армия была формой и смыслом его жизни, а в новой жизни он был инвалидом, терялся, все его раздражало – необходимость регулярно ходить в сберкассу, чтоб заплатить за квартиру, следить за показаниями электросчетчика, заниматься уборкой квартиры, покупать продукты, гладить белье. Оживал, когда в его жизни появлялись женщины, которые брали на себя заботы о его доме и его эрекции, но вскоре снова впадал в депрессию, начинал кричать по ночам, терял сознание на улице…
Мое возвращение домой совпало с днем рождения отца.
Он был в соломенной шляпе, натянутой до ушей на обритую голову. Потягивая коньяк, он курил одну за другой, стряхивая пепел в чашку, которую ему подносила пышная женщина, сидевшая рядом, и всякий раз церемонно благодарил: «Спасибо, Австралия моей души». Она смущенно улыбалась и краснела, поправляя то прическу, то браслеты на пухлой руке, сползавшие к локтю, то бусы, привлекавшие внимание к содержательному декольте.
Вторая женщина, Жанна, похожая на девочку-подростка, худенькая, рыжеватая, с зеленоватыми красивыми глазами и тонкими губами, хрипло хохотала и ехидно щурилась, поглядывая на меня.
В конце вечера она вдруг попросила проводить ее до дома.
Жанна оказалась ответственным секретарем городской газеты и готова была рекомендовать меня главному редактору: «Но сначала надо посмотреть, на что вы способны».
Мы заговорили о Германе Гессе – она обожала «Игру в бисер», а я «Степного волка», потом Жанна сказала, что Бахтин, конечно, и предположить не мог, что с его помощью Достоевский может быть так эффективно обеззаражен, лишен религиозного, нравственного смысла и сведен, по сути, к набору приемов, к карнавальности, полифонии и прочей чепухе. Еще я узнал, что она давно разведена, сыновья учатся в военных училищах, дома у нее припасен коньяк, а в прихожей, глядя мне в глаза, сказала, что груди у нее острые, маленькие, торчащие в разные стороны, как у истерички, но зато – ткнула пальцем в мою грудь – жопа хоть куда, и она умеет держать себя в чужих руках, но только чур соски не кусать…
Весь следующий день – было воскресенье – мы занимались любовью.
Жанна рассказывала о бывшем муже, с которым прожила всего три года.
Он был политработником, но считал себя художником, спился, едва дослужившись до капитана, был выгнан из армии с позором и исчез из Кумского Острога. По словам Жанны, он был клиническим жидоедом. Считал, что евреи придумали Христа для порабощения простодушных русских людей. На память о нем у Жанны осталась огромная менора, которую ее муж вырезал из дерева. Каждая из семи свечей была увенчана одним из символов – топором, виселицей, золотой монетой, бутылкой водки, кнутом, головой Ленина, голой бабой, при помощи которых злокозненные евреи растлевали, угнетали и убивали русский народ. Голая баба была вылитой Жанной.
Поздно вечером она выставила меня за дверь, велев с утра пораньше явиться в редакцию.
Мы встречались много лет, весь городок знал о наших отношениях, но поскольку за все это время мы ни разу не появлялись вместе ни в кино, ни в ресторане, ни в каком-либо еще общественном месте, считалось, что никакой связи у нас как бы нет.
Первое редакционное задание я выполнил с блеском и провалил с грохотом.
Жанна отправила меня в деревню Семеновку, чтобы я привез оттуда «теплую лирическую зарисовку» об Анне Дерюгиной, которая воспитывала семерых детей.
Ехидно щурясь, Жанна объяснила, что сегодняшняя советская героиня – не космонавт, доярка или секретарь парткома, а мать, жена, хозяйка: «Киндер, кюхе, кирхе по-советски, только вместо кирхе – телевизор или партсобрание. Задача ясна?»
Мы с фотокорреспондентом по имени Ревокат с утра пораньше отправились в Семеновку, встретились с матерью-героиней и ее мужем, поговорили с соседями, директором совхоза, председателем профкома и к вечеру вернулись домой.
Анна Дерюгина мне понравилась. Это была крупная женщина, сохранившая прекрасную фигуру. Простоватая, чистая, улыбчивая, легкая на ногу, с ясными серыми глазами и красивыми губами, она была снова беременна, но успевала ухаживать за детьми, скотиной, огородом да еще выполняла обязанности почтальонки. Ее муж Николай был под стать ей: огромный мужчина в чистой спецовке, один из лучших трактористов в совхозе. Соседи считали Дерюгиных хорошей семьей, но при этом с двумсысленной улыбочкой добавляли: «Только больно шумные, особенно по ночам. Аж дом ходуном ходит».
Николай весело пояснил: «Любим мы поорать, это да».
Его жена – весила она не меньше ста двадцати кило – смутилась и вышла из комнаты, покачивая красивыми широкими бедрами.
На следующее утро я принес в редакцию «теплую лирическую зарисовку» о многодетной семье, умолчав, разумеется, о ночных забавах Дерюгиных.
Машинистка перепечатала текст за полчаса.
Мне потребовалось еще полчаса, чтобы перечитать зарисовку и кое-где ее поправить.
Жанна заменила несколько слов, кивнула и подписала текст в набор.
Корректор вычитала текст в гранках и в полосе.
Главный редактор и дежурный по номеру внимательно прочитали зарисовку в полосе и поставили визу «в печать».
Утром разразился скандал.
Возмущенные читатели звонили в горком партии, главного редактора срочно вызвали к первому секретарю «на ковер», Жанна глотала таблетки, запивая их чем-то темным из чайного стакана, сотрудники газеты в своих кабинетах ждали конца света, а я сидел в скверике напротив редакции, пытался читать «Иностранную литературу» и курил сигарету за сигаретой, уже почти смирившись с тем, что штатной должности в редакции мне не видать, и снова дивился тому, как я мог сморозить такую глупость.
Никто не мог понять, как эта глупость могла дойти до читателя.
Перед публикацией текст читали, кроме меня, пять человек – и никто не заметил этой ошибки, никто. Это нельзя было объяснить ничем, кроме как внезапным помрачением сознания, случившегося у всех, кто был причастен к выходу в свет текста, в котором черным по белому было написано «покачивая красивыми бедрами».
Покачивая красивыми бедрами!
Три слова, три ужасных, три недопустимых слова!
Эти три слова, разошедшиеся по городу и району двенадцатитысячным тиражом, поставили под сомнение репутацию партийной газеты, горкома партии и Совета народных депутатов, от имени которых газета вела разговор с читателями, эти три слова подрывали доверие читателей к партийному слову, к советской печати, ко всем советским китам и слонам, на которых держался советский мир.
Женщина в газетной публикации могла быть умной, стойкой, сильной, заботливой, умелой, опытной или, напротив, – неряшливой, пьяной, равнодушной, ленивой, безответственной, но о том, чтобы она ходила, покачивая красивыми бедрами, не могло быть и речи, потому что не могло быть ни за что. Ни груди, ни глаз, ни бедер, ни ягодиц, ни каких либо других половых признаков у женщины быть не могло.
Покачивая красивыми бедрами…
Разверзлась советская преисподняя, и все ужаснулись, увидев «жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами…»
Наконец появился главный редактор Николай Иванович Головин.
Он издали поманил меня пальцем.
Мы поднялись в его кабинет.
Головин закурил, кивнул, разрешая закурить и мне, и спросил:
– Кто ваш любимый писатель, Игруев?
– Свифт, наверное, – сказал я. – Джонатан Свифт.
– Что ж, только мизантроп мог написать такое о женщине, не задумываясь о последствиях… – Главный вздохнул. – Этой Дерюгиной, вашей героине, теперь в деревне всю жизнь будут поминать ее бедра. Из соседних деревень будут приезжать, чтоб посмотреть, что за бедра у нее такие. Муж ее напился, по улице бегал с топором – грозился вас в лапшу порубить. Еле-еле его милиция успокоила. В общем… – Он ткнул сигарету в пепельницу. – Где ваше заявление?
Я не понял, о чем он спрашивает, потому что заявление о приеме на работу я не писал, а значит, не мог написать и заявление «по собственному».
– Я еще не писал, – растерянно проговорил я.
– Как дурь какую-нибудь, так пожалуйста, а как заявление о приеме на работу, так он не писал! – Придвинул ко мне пачку писчей бумаги, протянул ручку с золотым пером и стал диктовать: – Прошу принять меня на работу в редакцию газеты «Знамя коммунизма» в качестве корреспондента…
Выйдя из его кабинета, я заглянул к Жанне.
– Закрой дверь, – сказала она. – Что?
– Принят корреспондентом с окладом согласно штатному расписанию. Сто двадцать пять рэ в месяц.
Она протянула мне ключ:
– Иди ко мне – скоро буду.
Я пришел к ней домой, сел в кресло и проспал до вечера, скорчившись в неудобной позе.
Проснулся вовремя – Жанна заканчивала готовить ужин.
Всю ночь мы отмечали мое поступление в редакцию.
Жанна рассказывала о Головине, который пообещал секретарям горкома «присматривать за этим парнем», и дефилировала голышом по гостиной со стаканом коньяка на голове, пытаясь изобразить ту самую походку, скандализировавшую целомудренную общественность, и при этом не расплескать напиток.
На следующее утро главный редактор представил меня сотрудникам, собравшимся в его кабинете:
– Итак, перед вами Стален Станиславович Игруев, который сегодня вливается в наш дружный коллектив, покачивая красивыми бедрами…
Это выражение преследовало меня много лет, до самого отъезда в Москву.
Мне хотелось написать великую книгу, и меня раздражали люди, обсуждающие похождения Аллы Пугачевой, спорящие о целебных свойствах пчелиного говна и мечтающие о дешевом мясе. Одномерные люди, плоскостопый юмор, травоядная жизнь. Казалось, на сто, на двести, на тысячу верст вокруг не было ни одного Ивана Карамазова, ни одного Пьера Безухова, даже ни одного, черт бы его взял, Базарова – никого, кто был готов и способен обсуждать жизнь духа, «русскую идею» и будущее России, спорить о Боге, дьяволе и предназначении человека, мечтать о любви и свободе…
– Жизнь духа… – Жанна покачала головой. – К сожалению, тут все просто. За семьдесят лет Россия только в войнах потеряла больше тридцати миллионов человек. Страх перед физическим уничтожением – а он у нас стал генетическим – убивает жизнь духа, вызывает необратимые изменения в душе нации…
– Приятно, конечно, думать, что во всем виновата история…
– А еще твоя близорукость и, прямо скажем, тугоумие, – подхватила Жанна. – Ты плохо видишь, поэтому не сразу можешь понять, кто и что перед тобой, а потом долго решаешь, не ошибся ли ты, боишься, что тебя не поймут, пытаешься выразиться точнее, яснее, короче и зачеркиваешь, зачеркиваешь, зачеркиваешь…
– И получается так, как получается, – мрачно резюмировал я.
– Черт возьми, я уже полчаса лежу перед тобой голая, как яблоко, а ты этого, кажется, даже не замечаешь! А ведь завтра рано вставать…
Неподалеку от горкома партии, на соседней улице, стояло приземистое здание с колоннами, фронтон которого был украшен лепными профилями Пушкина, Толстого и Горького, обрамленными лавровыми венками из гипса. Это была городская библиотека.
Главной ее достопримечательностью была зигзагообразная трещина на потолке вестибюля. Говорили, что она появилась в начале шестидесятых, в тот день, когда на одном из близлежащих полигонов испытали мощный термоядерный заряд, взорванный глубоко под землей.
Мой отец и его друзья-офицеры считали эту историю легендой, но многие старожилы уверяли, что после того взрыва в городе стали рождаться дети, которые не умели плакать.
В будние дни библиотека пустовала, но и по выходным народу здесь бывало немного. Библиотекари вспоминали пятидесятые-шестидесятые годы, когда к их конторкам выстраивались длинные очереди, а в читальных залах было не продохнуть от запаха гуталина и духов «Красная Москва». Сейчас же если и случались очереди, так разве что за фантастикой, которая уносила читателей подальше от вечной «битвы за урожай» и «нерушимого единства партии и народа».
А самым запойным читателем Лема, Азимова, Брэдбери, Стругацких, Кобо Абэ и Саймака был главный редактор газеты «Знамя коммунизма» Николай Иванович Головин, член бюро горкома КПСС и депутат городского Совета народных депутатов.
Дома подвыпивший отец включал телевизор на полную громкость и перекрикивался с Австралией, которая возилась в кухне, а у Жанны я только ночевал. Поэтому читальный зал городской библиотеки стал чем-то вроде моего рабочего кабинета.
Я строчил текст, который утром должен был сдать в редакцию, а Николай Иванович делал выписки из Антонио Грамши, Дьердя Лукача или «Экономическо-философских рукописей 1844 года».
В девять раздавался звонок – библиотека закрывалась.
Однажды, провожая Головина до дома, я заговорил о Свифте, которого принято считать великим человеконенавистником, с чем я был не согласен, считая, что его мизантропия – лишь одно из проявлений его едкой иронии.
Николай Иванович заметил, что мизантропия вообще свойственна всякой глубокой мысли о человеке, и процитировал Альберти: «Есть ли животное более злобное и настолько же ненавидимое всеми остальными, как человек?»
Для меня Альберти был гуманистом и архитектором эпохи Возрождения, упомянутым среди прочих имен в университетском учебнике, а для Николая Ивановича – фигурой трагической, мыслителем, скептически относившимся к попыткам обожествления человека, которые предпринимались его современниками: «По мнению Альберти, мысль о том, что homines hominum causa natos esse – люди сотворены для людей, привела бы в восторг самого дьявола».
Потом он с грустью заговорил о том, что невозможно построить рай на земле, в непреображенном мире, и предположил, что Хрущев руководствовался именно этой пессимистической логикой, когда убирал из программных документов КПСС идею мировой революции и диктатуры пролетариата.
По словам Головина, именно тогда, в конце пятидесятых – начале шестидесятых, стало окончательно ясно, что у Советского Союза не хватит сил, чтобы построить коммунизм во всем мире. А в отдельно взятой стране это невозможно, с горечью резюмировал Николай Иванович. Коммунизм с божественным ликом пал до социализма с человеческим лицом, утверждающим все ту же дьявольскую идею – homines hominum causa natos esse. И заметьте, продолжал Головин, именно тогда, в начале шестидесятых, из литературной фантастики ушло будущее, ушла мечта – остались монстры да фига в кармане. Русские новаторы смирились с правдой простого человека, с правдой обывателя, и что ж, эта правда в самом деле заслуживает уважения: чтобы жить и воспроизводить жизнь изо дня в день, обывателю нужна опора, а революционный порыв, революционный пожар и поток, понятно, опорой служить не могут, да и потока-то давно нет – так, болото, реализм без берегов. Мы должны понять этого самого обывателя в том, в чем он сам себя не понимает, но что осуществляет на практике, воспроизводя условия общественного бытия, а не разрушая их. Обыватель не может смириться с тем, что сущность общественного бытия сводится к некоей объективной силе, складывающейся из произвольных актов людей и безразличной к требованиям ума и сердца простого человека. Обыватель не может смириться с роковой свободой в духе Ницше, он не может смириться с бездомностью…
– Но мы заболтались, – вдруг спохватился Николай Иванович.
Я взглянул на часы – было два часа ночи.
Вернувшись домой, я первым делом записал все, что запомнилось из разговора с Головиным, точнее, из его монолога, и только после этого перевел дух.
Боже ж ты мой, думал я, как же он одинок!
Боже ж ты мой, думал я, как ему, оказывается, хотелось выговориться, поговорить с человеком, который хотя бы понаслышке знает об Альберти, Колюччо Салютати или Пико делла Мирандоле!
Боже ж ты мой, думал я, какая огромная, постоянная и неустанная интеллектуальная работа, эти часы, проведенные над Лениным, Роже Гароди и Михаилом Лифшицем, с которым, как признался Головин, он состоял в переписке!
Боже ж ты мой, состоял в переписке!
А завтра на утренней планерке он потребует срочно составить редакционный план освещения социалистического соревнования трудящихся города и района под девизом «Двадцать седьмому съезду КПСС – двадцать семь ударных недель!»
Боже ж ты мой…
Глава 9, в которой говорится о непорочном зачатии, томной целочке и гилгуле
Главный редактор не участвовал в застольях, которые случались в редакции довольно часто. Но раз в год он сам приглашал сотрудников в ресторан «Центральный», чтобы отметить День советской печати. Гуляли в складчину.
В этот день корректор Марина Гройсман надевала длинное платье с разрезом до «линии любви». Заведующая отделом писем Инга Тарасова являлась без очков, в мини-юбке и туфлях на высоких каблуках. Ответственный секретарь Жанна делала прическу с локонами и красила губы ярчайшей помадой. Заведующая отделом сельского хозяйства Адель Хованская облачалась в облегающее короткое платьице, являя во всей реалистической наглядности геологию обильного женского тела. Заместитель главного редактора Раф Имамов, который гордился тем, что со спины похож на Грегори Пека, был в строгом костюме, с галстуком-бабочкой и платком в тон галстуку, выглядывавшим из нагрудного кармана пиджака.
Мы занимали один из двух отдельных кабинетов, произносили тосты, пили, потом пели, а потом провожали друг друга до дома, и Раф Имамов, конечно же, провожал Марину Гройсман, если ее муж, офицер-ракетчик, отбывал дежурство в подземном бункере, или Ингу Тарасову, которая все ждала, когда же блестящий холостяк сделает ей предложение, или Адель Хованскую, если не удавалось проводить Марину или Ингу…
На свой первый праздник в «Центральном» я пришел в качестве заведующего отделом культуры с окладом сто пятьдесят рублей в месяц. К тому времени я стал в редакции своим, хотя ни с кем, кроме Жанны, по-настоящему не сближался.
В тот вечер за столом в «Центральном» Головин и Имамов спорили о непорочном зачатии. Раф утверждал, что Христос мошенническим образом превратил позор своей матери в торжество добродетели и веры, заставив миллиарды людей в течение двух тысяч лет оправдывать падшую женщину, а Николай Иванович говорил об ущербности биографического метода при анализе идей и идеологий: «Всех вас Фрейд попутал, Раф Нуриханович!» Рафу явно льстило, что его подозревали в знакомстве с трудами Фрейда.
Чтобы не таращиться на грудь Адели Хованской, сидевшей напротив, я пытался сосредоточиться на мясном салате, как вдруг Головин произнес мое имя.
– Игруев, – повторил он, – пойдемте-ка!
Мы направились к второму кабинету, находившемуся на другой стороне зала, и по пути Головин объяснил, в чем дело. В город на похороны матери приехала Ольга Антропова, знаменитая кинозвезда, и у нас появилась возможность взять у нее интервью.
– В юности мы дружили, – сказал Николай Иванович. – Но все зависит от ее настроения…
Ольга Антропова была самой известной уроженкой Кумского Острога.
Когда-то в наших краях разбойничал один из соратников Емельяна Пугачева, в начале двадцатого века через пересыльную тюрьму прошел Сталин, которого этапировали в сибирскую ссылку, в конце сороковых Берия проводил в Доме офицеров секретное совещание, посвященное атомному проекту, но все эти имена и факты меркли в сравнении с тем, что сорок лет назад за рекой, в Слободе, в домике на улице Карла Либкнехта, родилась Ольга Антропова.
В четвертой школе, где она училась, все коридоры, классы, учительская и актовый зал были увешаны ее фотографиями: малышка в белом переднике, милая лупоглазая девочка с огромным бантом на голове, бойкая девушка в кокетливой шляпке, ну и сотни кадров из фильмов, где она играла дерзкую девчонку, вздорную красавицу, обаятельную хабалку…
В кабинете, где ужинала актриса, было темновато и накурено, на диванчике в углу спал какой-то мужчина, укрытый скатертью.
Увидев нас, Антропова хлопнула ладонью по столу и захохотала.
– Коля! – закричала она. – Коля Головин! Любимый Коля…
Похоже, она была сильно пьяна.
– Здравствуй, Оля, – сказал Николай Иванович.
– Коля… – Она мотнула головой и стала разливать водку по хрустальным рюмкам. – Как ты-то узнал, что я здесь? Вот черти, разболтали! Ну что, за встречу?
Мы выпили.
Головин чиркнул спичкой – Антропова прикурила, откинулась на спинку стула, кивнула на меня.
– Сын?
– Сотрудник редакции, – сказал Головин. – Если ты не против, мы хотели бы взять у тебя интервью… несколько слов для газеты…
– Кури, сотрудник, – сказала актриса, подталкивая ко мне пачку американских сигарет. – Так ты, значит, Коля, тут большой начальник?
Николай Иванович с улыбкой пожал плечами.
– А ведь стихи писал… – Антропова подмигнула мне. – Мой первый мужчина. Понимаешь, сотрудник? Я была такой томной целочкой, такой сюсю-мусю, а он меня ррраз – и распечатал! Он тогда на каникулы приехал из Москвы, а я только-только школу окончила… целую неделю не вылезали из постели… он меня с ног до головы облизывал… как же я его любила, сотрудник… как кошка…
Я боялся взглянуть на главного редактора.
Головин прокашлялся и попытался вернуть разговор к интервью.
– Завтра, – сказала актриса. – Пусть он придет ко мне завтра в гостиницу… если не боится, конечно… – Захохотала. – А теперь, сотрудник, брысь отсюда! Нам надо с Колей помурлыкать…
Из кабинета я вышел на цыпочках.
На следующий день я встретился с Антроповой в гостинице «Центральная». Передо мной была другая женщина – свежая, бодрая, веселая. Она пила чай без сахара и щебетала об искусстве кино, нелегкой актерской судьбе и забавных случаях на съемках фильмов. Спросила о семье Головина, вздохнула, узнав, что он вдовец. Прощаясь, вручила конверт, который я должен был передать Николаю Ивановичу.
В редакции я заперся в красном уголке и, пропустив обед, быстро расшифровал интервью, чтобы успеть сдать его в номер, а потом отдал конверт Николаю Ивановичу.
Он вытряхнул на стол фотографию, вздохнул, протянул мне.
– Шестьдесят второй год, – сказал он. – Бромпортрет.
Обнаженная Ольга Антропова сидела вполоборота к объективу, опираясь левой рукой о постель. Небольшая грудь, широкие бедра, узкая талия, челка, взгляд исподлобья. Свет из окна падал слева, правая сторона тела тонула в тени.
Как трогательна была эта безыскусная фотография, как подлинна эта испуганная полуулыбка девочки, еще не свыкшейся с тем, что случилось, но, кажется, уже догадывающейся, что произойдет…
– Я годами мучился, считая, что живу двойной жизнью, – сказал вдруг Головин. – И только недавно понял, что это не так, что никакой двойной жизни не бывает. Мы просто переходим из одной жизни в другую, как из комнаты в комнату, и не испытываем при этом никаких трудностей. Вот в чем ужас – никаких трудностей. Это стократ хуже, чем жить двойной жизнью. В доме Отца моего обителей много… никогда не думал, что так много…
Как и прежде, по вечерам я провожал Головина после библиотеки до дома, но теперь, если разговор наш затягивался, Николай Иванович приглашал меня на чай.
Он жил в горкомовском доме, занимал просторную квартиру, где хватало места и его книгам, и сестре, которая ухаживала за его дочерью, страдавшей умом.
Чтобы поддерживать разговор, мне приходилось читать все больше. Некоторые книги мне давал Николай Иванович. Это были философские и исторические труды, испещренные карандашными пометками, которые отражали духовную работу читателя. Иногда он оставлял замечания на полях, но обычно ограничивался подчеркиваниями. Судя по этим пометкам, Головин пытался проникнуть в тайный смысл трудов Маркса, Плеханова или Ленина, придавая значение каждой запятой, порядку слов в предложениях и тому, что угадывалось между строк. И я не удивился, когда Головин заговорил о гилгуле – теории перевоплощения, при помощи которой каббалисты пытаются объяснить, почему милосердный Бог жестоко наказывает невинных младенцев, лишая их разума в утробе матери…
– Так ведь наш Николай Иванович до дурки дойдет, – сказала Жанна, когда я поделился с нею своими наблюдениями. – А может, и до юдофобии. Обычно антисемиты обожают все еврейское – каббалу, Сефер Йецира, пшат, ремез, сод… на этом запросто можно свихнуться…
– Ганнушкин считал, что все лучшее в мире создано ненормальными: самое прекрасное – нарциссами, самое интересное – шизоидами, самое доброе – людьми депрессивными, а невозможное – психопатами…
– Значит, ты пытаешься занять местечко где-то между шизоидами и нарциссами?
– Я думал, мы говорим о Головине…
– Мы всегда говорим о Головине и никогда о нас!..
Наши отношения давно зашли в тупик. Жанна не хотела афишировать наши отношения – меня это устраивало. Но уже через год она сказала, что мы могли бы пожениться, это упростило бы нашу жизнь, ей надоело прятаться и т. д., и т. п. Я попытался уклониться от этого разговора, но Жанна стояла на своем, и тогда я сказал «нет». Она выкинула мои вещи на лестничную площадку, в редакции не разговаривала со мной и вообще делала вид, что мы не знакомы.
В первый же вечер я отправился за реку, в кафе «Аэлита», с облегчением напился и переспал с Катенькой Норман, девушкой из моих подростковых снов.
Она побывала замужем, развелась, работала официанткой в «Аэлите» и снимала комнатку, перегороженную платяным шкафом, за которым, пока мы трахались, возился в своей кроватке ее трехлетний сын. Утром я сбежал от Катеньки, сгорая от стыда и останавливаясь на каждом углу, чтобы поблевать.
В тот день Раф Имамов праздновал день рождения.
За столом, который накрыли в его просторном кабинете, я оказался рядом с Жанной. Она пила, хохотала и как ни в чем не бывало прижималась ко мне бедром.
Все говорили о несчастном фотокорреспонденте Михаиле Иваныче, солидном мужчине, политработнике, уволенном из армии по инвалидности.
Этот тучный одышливый мужчина в огромных ботинках жил вполпьяна, но снимки сдавал вовремя, перед начальством благоговел и боялся всего – фрондерских разговорчиков, пятнышка на пиджаке, жены, будущего…
Однажды он не выдержал – заперся в фотолаборатории и залаял. Он лаял не переставая полчаса, час – пришлось взламывать дверь. Михаил Иваныч сидел на полу в уголке, прислонившись спиной к стене, и продолжал лаять, не реагируя на уговоры. Позвонили его жене, вызвали «Скорую», которая отвезла несчастного в больницу, где он лаял до вечера, а потом завернулся в одеяло и уснул. Наутро жена отвела его домой – больше мы Михаила Иваныча не видели.
– То же самое будет и с Головиным, помяни мое слово, – прошептала мне на ухо Жанна. – Надо бы проверить, все ли в лаборатории на месте…
Занимаясь в лаборатории сексом, мы уронили на пол фотоувеличитель, потом, когда все разошлись, устроились в красном уголке под портретом Горбачева, а потом трахались в квартире Жанны, наверстывая суточную размолвку.
Мы вернулись друг к другу, словно ничего и не было.
Я был в отчаянии.
Боже мой, Шолохов опубликовал первый том «Тихого Дона», когда ему было двадцать три года, Гете в двадцать четыре прославился «Гецем фон Берлихингеном», Достоевский в двадцать пять поразил читателей «Бедными людьми» – я же проскочил и двадцать три, и двадцать пять, за душой у меня не было ничего, а все силы уходили на то, чтобы строчить репортажи о битве за урожай, выслушивать тихо сходившего с ума главного редактора да трахать истеричку, которая была старше меня на двадцать лет и прятала в аптечке за коробкой с витаминами маточное кольцо номер три и средства от варикоза и геморроя…
Жанна старела, болела и становилась все невыносимее, а я все чаще изменял ей. Я не знал, что делать со своим безмозглым сексуальным влечением, с его необузданной мощью, с этой открытой раной, в которой кровь и гной клокотали подобно раскаленной лаве. Похоть – да, необузданная похоть, жаждущая жизни, – вот что вело меня, вот что толкало меня вперед с такой силой, что я боялся остановиться, чтобы не рухнуть замертво…
Николай Иванович Головин после смерти дочери попал с инфарктом в больницу, а потом написал заявление об освобождении от должности. Он стал директором школы, завел собаку, по воскресеньям поднимался на Петров Камень – холм, с которого открывался вид на степь, тянувшуюся на тысячи километров к югу, до туранских песков и Тянь-шаньских гор, и часами молчал, глядя в безмерную пустынную даль…
Глава 10, в которой говорится о большевистской математике, бесконечной белой лошади и бегстве из Некрополиса
Последнее мое лето в Кумском Остроге выдалось особенно тяжелым.
С утра до вечера дул сухой ветер с юга.
Деревья, запорошенные белесой пылью, казались неживыми.
Окна приходилось мыть каждый день.
Люди изнывали от жары.
На зубах скрипел песок, от запаха горячего асфальта першило в горле.
На горящих артиллерийских складах под городом рвались снаряды – по ночам над Кумским полигоном колыхалось огненное зарево.
В середине июля отец со смущенным видом сказал, что решил жениться на Австралии.
– Если хочешь, можем разменять квартиру, чтобы у тебя была своя…
– Не надо разменивать, – сказал я. – Мне здесь квартира не нужна.
– Значит, уедешь? Куда?
– Пока не решил.
– А давно решил?
– Не знаю. Как-то само собой решилось… накопилось и решилось…
Отец кивнул.
В августе состоялась свадьба.
В тот момент, когда заведующая загсом, объявив отца и Австралию мужем и женой, приказала им поцеловаться, я вдруг понял, что присутствую на похоронах, и быстро ушел.
Изо дня в день, из месяца в месяц я как будто наливался тяжестью, как будто во мне рос плод – жестокий, своенравный младенец, готовый подчинить себе мое будущее… во мне вызревало некое бессвязное, путаное, косноязычное знание, которое было больше, сильнее и умнее меня, и перед этой тяжестью, перед этой мощью нельзя было устоять, а можно и нужно было только подчиниться ей, как Иаков – Ангелу…
Все было как всегда: в горле першило, на зубах скрипело.
Весь день я бесцельно шатался по городу, упиваясь счастливым чувством сиротства, оставленности.
Под мышкой у меня была зажата бутылка водки, завернутая в газету, в нагрудном кармане – шоколадка, плавившаяся в фольге.
В сквере напротив горкома партии, в тени памятника Ленину, испитые мужчины с железными зубами о чем-то спорили, с трудом переводя дух и вытирая лбы носовыми платками.
Среди них выделялся Михаил Дмитриевич Голубев по прозвищу Миша Геббельс, самый активный сторонник перестройки и гласности в Кумском Остроге, любимец мужчин с железными зубами и главный враг номенклатуры. Он писал жалобы в ЦК, обком, горком партии, в Советы народных депутатов, в КГБ, в редакции газет и журналов, с гневом обрушиваясь на «черных людей» – на тех, кто ездит на черных машинах, ест черную икру и отдыхает у Черного моря, забывая о народных нуждах.
Наша редакция получала от него письма почти каждый день. Неделю назад он прислал небольшой трактат, разоблачавший советскую статистику: «После прихода к власти большевиков и установления планового хозяйства новые власти потребовали от руководителей предприятий и ведомств наращивания объемов производства. Но невозможно было выдавать всё более высокие показатели в реальном исчислении, поэтому хитрые люди, заведовавшие статистикой, вынуждены были искать способы пустить начальству пыль в глаза, выдавая завышенные цифры. Сделать это можно было только одним способом – увеличив ряд натуральных чисел за счет введения в него фиктивных членов, представляющих собой подделку настоящих… Я считаю своим долгом поведать читателю о том, как на самом деле выглядит математика. Начнем с первого и главного ее раздела – с арифметики, основу которой составляет ряд натуральных чисел и операции с ними. Напомню официальную – большевистскую! – версию этого ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Эти цифры – подделка. В глаза сразу бросается очевидное сходство между 1 и 7. Это, по сути, одна и та же цифра. А если вспомнить, как похожи друг на друга 7 с перекладинкой и 4, то напрашивается вывод: перед нами одна и та же цифра. Итак, 1 – это 7 и одновременно 4…»
Завидев издали Мишу Геббельса, я поспешил скрыться в переулке.
В тени у проходной двенадцатого завода прыгал одноногий голубь.
Недавно газете позволили публиковать некоторые сведения об этом предприятии, но мы так и не решили, как сообщить читателям, что завод выпустил пробную партию отечественных вибраторов с моторчиками, которые использовались в системах наведения баллистических ракет…
У входа в полуподвал, где находился видеосалон, я остановился, чтобы поглазеть на афишу: «Космический охотник», «Пальцы Брюса», «Тысяча глаз ниндзя», «Красная жара», «Чужой», «Над законом». По слухам, ночью заведение превращалось в стрип-клуб. Попасть сюда мечтали все мальчишки, а все девчонки мечтали работать у шеста.
Переулок вывел меня к гаражам, стоявшим на краю оврага.
Отлогий склон спускался к забору, за которым пролегала железнодорожная линия. Выжженная трава, пыльные кусты, окурки, битое стекло, пустые консервные банки, рваная обувь, кострища…
В поисках тени я забрел в кусты и оказался на полянке, посреди которой на старом одеяле загорали две девушки.
Одна была с головой укрыта полотенцем, другая – толстушка с беспросветными ляжками – лежала навзничь, прикрыв глаза рукой.
Рядом с ними валялась винная бутылка, какие-то огрызки и объедки, желтые лосины, босоножки, джинсовая куртка…
– Леха, – тягучим басовитым голосом сказала толстушка с беспросветными ляжками, не отнимая руки от лица, – Ритка тут подыхает от жары, а ты, сука, где, а?..
– Лехи нет, – сказал я, опускаясь на корточки, как принято при разговоре с детьми и собаками. – Нет Лехи.
– А ты кто? – Толстушка приподнялась на локтях. – Где Леха?
– Стален я. А Лехи нету.
– Он же за вином пошел…
– Нету Лехи. А выпить есть. Как тебя звать?
Я не мог оторвать взгляда от ее полного тугого тела, детского выпуклого живота, рыжих волос, выбивавшихся из трусов. От ее запаха мутилось в голове.
– Закусить нечем. – Толстушка села, скрестив ноги, и запах, исходивший от нее, стал просто невыносимым. – Дара я. Это имя такое – Дара. Дарить, значит. А что значит Стален? Сталин, что ли?
– Ничего не значит…
Я сел рядом с ней в траву, открыл водку, развернул полурасплавленную шоколадку, мы выпили, стали закусывать шоколадом, слизывая его с фольги, потом я обнял ее за плечи. Во время секса она зачем-то держала за руку неподвижную Ритку.
Потом мы снова выпили, и мне стало плохо.
Кое-как добравшись до кустов, я опустился на колени и стал блевать, потом отполз в сторону, рухнул среди засохших фекалий и замер.
Разбудил меня тяжкий протяжный грохот товарного поезда, который тащился по дну оврага. Я выполз из кустов, схватил бутылку, сделал несколько глотков, перевел дух и закурил. После теплой водки стало лучше.
Я курил, сидя на склоне оврага в одних трусах, весь облепленный каким-то мусором, и считал коричневые крыши вагонов. Иногда среди товарных попадались два-три хоппера, а однажды медленно проплыла платформа, посреди которой стояла белая лошадь. Я был не настолько пьян, чтобы ошибиться: это была белая лошадь с длинным хвостом, клянусь Марксом. Она спокойно стояла на платформе, чуть расставив ноги, и задумчиво смотрела на склон оврага, но я не уверен, что она меня заметила. На какое-то мгновение я встревожился, поймав себя на том, что уже полчаса смотрю на белую лошадь, которая давно должна была скрыться вдали, но, снова глотнув водки и протерев глаза, понял, что все в порядке: внизу тянулись коричневые крыши – одна, другая, третья, четвертая, хоппер, пятая…
Наконец мне надоело считать вагоны, и я на подкашивающихся ногах побрел к полянке среди кустов.
Ритка все так же неподвижно лежала на животе, укрытая с головой полотенцем. Голая Дара спала на боку. Я перевернул ее на спину и отпрянул, заметив муху, которая выползла из ее приоткрытого рта. Склонился, прислушался, проверил пульс – Дара не дышала, пульс не прощупывался.
Наскоро одевшись, я приподнял полотенце, которым была укрыта Ритка: ее разможженная голова была густо облеплена мухами. Похоже, ее убили. Мы трахались бок о бок с мертвой девушкой, которую Дара зачем-то держала за руку. А потом, пока я блевал в кустах, спал, пил водку и считал вагоны, умерла и Дара. Жара, алкоголь, секс, ожирение, сердце…
Внизу грохотал товарняк, наверху где-то в гаражах однообразно выла электродрель.
Мглистое белесое солнце клонилось к закату, опускаясь в огненно-дымное облако, которое колыхалось на горизонте: на Кумском полигоне по-прежнему рвались снаряды.
Допив остатки водки, я поднялся к гаражам, разбил бутылку о кирпич, валявшийся в канаве, потряс головой, пытаясь избавиться от образа белой лошади на платформе бесконечного поезда, снова закурил и не торопясь зашагал по улице в сгущающихся душных сумерках, в которые обреченно погружался Некрополис.
В горле першило, на зубах скрипело.
Той ночью отец проснулся, со стоном сел, набрал полные легкие воздуха, с шумом выдохнул – изо рта его вырвался язык синего пламени – и умер.
В ночь после похорон, как и в предыдущие три ночи, я не спал – ждал, когда за мной придет милиция, но так и не дождался и стал собираться в дорогу.
Толстые тетради и старенькая пишущая машинка – это были все мои сокровища.
Тетради и машинку я заблаговременно, еще месяц назад, забрал у Жанны.
День за днем я незаметно выносил из ее квартиры свои вещи, в конце концов оставив в ванной лишь неиспользованные презервативы да зубную щетку.
Австралия аккуратно сложила мое белье, собрала еды в дорогу, перекрестила и поцеловала в лоб.
Я отдал ей свои ключи от дома и талоны – на водку, шампунь, масло и так далее.
Вдова не смогла скрыть радости.
– Если что пойдет не так, возвращайся, – неуверенным голосом сказала она. – Все-таки это твой дом…
Конечно же, я понимал, что в Москве все могло пойти не так, но о возвращении в Кумский Острог не могло быть и речи.
Австралии я не стал этого говорить – обнял, чмокнул в висок и ушел.
Милиционеры на вокзале не обратили на меня внимания.
В Кумском Остроге поезд стоял четыре минуты.
Я боялся, что на вокзал прилетит Жанна, закатит сцену, но обошлось.
Наконец поезд тронулся, и я вышел покурить.
Проводница толкала мужчин, набившихся в тамбур, и веником выметала окурки в открытую дверь.
Толстяк в велюровой шляпе, из-под которой катился пот, рассказывал о двух девчонках, которых несколько дней назад кто-то изнасиловал и убил – одной разможжил голову, а другую, видать, отравил.
– Вон там! – Толстяк тыкал пальцем в сторону гаражей, нависших над оврагом, по дну которого шел наш поезд. – У одной башка разбита, другая голая… совсем народ озверел…
– Озверел… – Огромная проводница поставила веник в угол, закурила. – Кто б меня выебал и убил – только об этом и мечтаю. Сил больше никаких нету…
Никто в тамбуре не засмеялся.
Поезд набирал ход, колеса стучали все чаще, все остервенелее.
Я курил сигарету за сигаретой, чувствуя себя шекспировским Ариэлем, отпущенным на волю.
«Then to the elements be free!»
Итак, в стихию вольную!..
В горле першило, на зубах скрипело…
Глава 11, в которой говорится о пневме и сперме, маленьком уютном кладбище и готтентотской заднице
Как черны и промозглы ноябрьские московские вечера, как грустны и холодны, когда бредешь под дождем дворами, не различая луж, ориентируясь на горящие вдали фонари да на фигуру чернокожей красавицы – «ночью со скидкой». Она бежит впереди на тонких ногах, с трудом удерживаясь на высоких каблучках, а на свету вспыхивает крашеными золотыми волосами, золотыми туфлями и золотой сумочкой, которую прижимает к крутому бедру. Останавливается у подъезда, достает из сумочки бумажку с адресом, звонит в домофон и на ломаном русском спрашивает кого-то… фамилию не разобрать, но ударения она ставит неправильно…
На стене трансформаторной будки черной краской из баллончика размашисто написано: «Никаких философских проблем нет – есть только анфилада лингвистических тупиков, вызванных неспособностью языка отразить истину».
В промокших ботинках вхожу в подъезд, где больше не пахнет говном из мусоропровода: парня с девятого этажа вслед за матерью посадили на десять лет за торговлю наркотиками, квартира его опечатана…
Дом еще не затих. Старуха за стеной с грохотом переставляет какие-то банки, кастрюли, ведра – она может заниматься этим до утра. Верхние жильцы дерутся, а потом мирятся и поют хором. Их соседи по площадке – у них черный джип и дочь-керлингистка – громко разговаривают на лестнице с участковым, требуя унять Нинку Резинку, передравшуюся и перетрахавшуюся во дворе, кажется, со всеми, включая случайных прохожих и дворников-таджиков. Старуха внизу, недавно похоронившая мужа-пьяницу, который любил посрать средь бела дня на детской площадке, смотрит телевизор, включив его на всю громкость и прикрывая восковой ладонью слезящийся глаз. Этажом ниже стонет сорокалетний мужчина, умирающий от рака, стонет все тише, тише – жена наконец дала ему обезболивающего и вышла на лестничную площадку покурить с вдовцом Аркашей, который давно отдал ей ключ от своей квартиры, но Ирина все никак не может решиться – постоит ночью у его двери, вздохнет, вытрет слезы и возвращается к стонущему мужу…
Это не жизнь тлеет – это с астматическим надрывом дышит бессмертная космическая пневма, разящая жареной рыбой, кошачьей мочой, дешевыми духами и керосином из шахты лифта…
По вечерам ко мне забегает Монетка. Это она так говорит: «Забежала на минутку», но иногда просиживает полчаса-час, а то и больше.
Она не жалуется, хотя весь двор знает, что Парампуп целыми днями лежит на диване перед телевизором, жрет чипсы и пьет пиво допьяна. Да и что еще делать инвалиду. Утром и вечером его вывозит на прогулку тетка Кира, выписанная из Тулы: кто-то же должен ухаживать за калекой, пока Монетка зарабатывает на жизнь. Тетка – толстенькая пучеглазая нестарая вдова с гладко зачесанными волосами и в кофте с люрексом – грозится убить Парампупа, если он еще раз схватит ее за задницу, но не убивает, потому что племянница платит ей больше, чем Кира в Туле зарабатывала учительницей в начальной школе.
Монетка залатала «буханку» и теперь занимается доставкой грузов – мебели, сантехники, стройматериалов.
Однажды отвозила мертвеца в Астрахань, который по прибытии на место восстал из гроба: таким способом мужчина решил спрятаться от дружков-бандитов.
В другой раз попалась на перевозке наркотиков, спрятанных в мешках с мукой. Пришлось отдать ментам все деньги, чтобы не загреметь «за соучастие».
Она пьет водку мелкими глотками, курит и с усмешкой рассказывает о своих приключениях. Ее не испугаешь, не из таковских. Ее не сломаешь. Тут Монетка опускает голову, чтобы я не видел ее дрожащих губ. Она хочет ребенка от Парампупа, но боится, что родится урод. А двух уродов она не выдержит.
Мне жаль Монетку. Жаль ту Монетку, которая доставляла мне столько радости, была так нежна и щедра со мной, жаль ту простодушную, раскованную и вульгарную бабенку, которая пела о разбойнике Кудеяре на свадьбе Лу, жаль ту женщину, которая после этого на заднем сиденье лимузина вдруг вся задрожала и бросилась ко мне с такой силой, словно между нами пролегала бездна, жаль, жаль, чертовски жаль, но ей, как сказал поэт, предстояло до конца пройти дорогой зла, которую проложила любовь. Некоторым это не под силу. А я – я мог только наблюдать и сочувствовать.
Мой подарок – алое шелковое платье с черным отливом, дорогое белье и туфли – она держит в бабушкином сундучке, ключ от которого хранится у меня. Она боится все это надевать, чтобы не случилось беды. Но когда напивается, требует у меня ключ. Я выкладываю его на стол. Монетка долго смотрит на него, вздыхает, потом прощается и уходит, оставив ключ на столе…
В конце ноября, месяца через два после свадьбы Монетки и Парампупа, я получил по электронной почте письмо с незнакомого адреса, подписанное Лу:
«Послезавтра я улетаю в Париж, оттуда в Ментону, где у Глеба поместье. Когда вернусь, да и вернусь ли вообще, не знаю. Глеб хочет ребенка, чтобы нас связывало «нечто более существенное, чем чувства», и это не противоречит моим планам. Ну а пока он дал денег, чтобы я купила квартиру для мамы. Неизвестно, захочет ли она переехать в Москву, а точнее, будет ли в силах переехать, но квартиру я купила – рядом с Большой Лубянкой, в районе Сретенского монастыря. Дом начала двадцатого века в стиле модерн – с гулким вестибюлем, витражными окнами, мраморной лестницей и вазами на лестничных площадках.
Я – единственная собственница жилья, что для меня, сам понимаешь, важно.
Хотела бы пригласить тебя туда, но не могу – за мной по-прежнему присматривают.
Я-то думала, что похороню тебя на моем маленьком уютном кладбище и вскоре забуду названия тех сорняков, которые вырастут на твоей могиле, – но выходит иначе. И это странно.
И вот еще одна странность: чем больше я думаю обо всем этом, тем темнее становится образ человека, к которому меня тянет. Может быть, потому и тянет, что я тебя плохо знаю…
Как бы то ни было, мне придется с этим жить, пока выход не обнаружится сам собой. Ну вот, я опять тебя цитирую.
Прощай.
Лу.
P. S. На всякий случай завела почту, которая не привязана к моему компьютеру. Думаю, что это наивная уловка, но Глеб и его псы об этом пока не знают. А может, им наплевать.
P.P.S. И не забудь, что ты должен вернуть мне туфли. Я вспомнила сегодня о них и вдруг обрадовалась, что они у тебя, что ты мне хоть что-то должен».
Похоже, что на какую-то минутку Лу почувствовала себя чужой и одинокой в том бестиарии, в который всегда стремилась.
Я был уверен, что она преодолеет эту слабость, это смятение чувств, благополучно похоронит меня на своем маленьком уютном кладбище, но что-то мешало отделаться от нее шутливым ответом, чтобы закрыть эту дверь навсегда.
Когда-то Лу досталась мне «за так», «сама упала», как все мои женщины – как Роза Ильдаровна, Лариска или Жанна, но всех их я без труда оставил в прошлом, как гиена, которая вечером не помнит, какой падалью утоляла голод утром. А вот между Лу и мною что-то осталось, что-то и впрямь было – нет, не то, что связывает, не то, что соединяет, не то, что заставляет искать близости каждую минуту, а что-то другое, что-то безымянное и неосязаемое, что-то ускользающее, но неотменимое, может быть, какой-то особый воздух, которым нам обоим дышалось одинаково легко, или ночное небо, на котором звезды располагались в порядке, понятном только нам.
Ну а главное – ее желание узнать обо мне побольше, что бы за ним ни стояло, совпало с моим стремлением рассказать о своем детстве, юности и добраться, наконец, до истории Фрины, которая много лет не давала мне покоя. Побывав на «Комсомольской кольцевой», я понял, что не только должен, но и могу это сделать. И не имел ничего против того, чтобы первой читательницей этих записок углового жильца стала Лу.
Тогда, на свадьбе, мы простились второпях – ей нужно было идти к гостям. Между деревьями загорелись фонари, и лимонно-желтое платье Лу вспыхнуло факелом, когда она вошла в круг света, где ее ждал муж. Я зажмурился, вспомнив ту вспышку: этот свет был невыносим…
В поезде, который вез меня в Москву, я думал о том, как сложится моя столичная жизнь, и иногда поеживался от страха. Тридцать лет я жил на всем готовом, пользуясь системой поддержки, которая была придумана не мною – я лишь выбирал места, людей и возможности, казавшиеся наименее обременительными. И в этой советской матрице у меня всегда были жилье, еда, одежда, деньги, работа. Теперь же я ехал в никуда, где меня не ждал никто.
Дед сказал, что какое-то время я, видимо, смогу пожить у Фрины.
Судя по адресу на конверте, Фрина жила в центре Москвы, в одном из тех старых домов, которые сохранились в районе между улицей Герцена и Тверской, еще год назад носившей имя Горького.
«Женщиной с прошлым» называла Фрину бабушка.
Дед говорил, что у нее просторная квартира.
Вот, в общем, и все, что я знал о ней, остальное дописывало мое воображение.
Милая старушка, живущая в просторной квартире неподалеку от Кремля. Занавески на окнах, пожелтевшая лепнина на потолках, журавельник, каланхоэ и хавортия в горшочках, продавленные пружинные диваны, облезлые пуфики, одышливая кудрявая собачка, солнечные пятна на скрипучих крашеных полах, фотографии в тонких овальных рамках, вязанье в корзинке, толстые книги с ломкими пожелтевшими страницами, кружевные салфетки, чай с медом, запахи нафталина и лимонной корки, гладко зачесанные седые волосы, узловатые пальчики, следы былой красоты, очки с круглыми стеклами, большое зеленоватое зеркало, хранящее в своих глубинах образы прошлого…
Такой представлялась мне Фрина, когда я сошел на платформу Казанского вокзала и, вскинув рюкзак на плечо, двинулся в толпе к входу в метро.
С «Комсомольской кольцевой» я перешел на радиальную, вошел в вагон с линкрустовыми стенами, прислонился к двери, через десять минут вышел на станции «Охотный Ряд» и поднялся в город, к «Националю».
В поезде было много разговоров о гигантских крысах и людях-мутантах, живущих в метро, о бандитах и проститутках, заполонивших Москву, но ничего такого я пока не видел, зато на каждом шагу встречались попрошайки на костылях и бродячие собаки. В переходах метро хоть и припахивало мочой, но вообще было довольно чисто и светло. А вот город с первого взгляда показался мне усталым.
Дед отметил дом Фрины на карте Москвы и подробно объяснил, как до него добраться, поэтому плутать мне не пришлось.
Я поднялся по Тверской, свернул в переулок, опять свернул и вскоре опустил футляр с пишущей машинкой на тротуар у двери с круглой ржавой табличкой, на которой с трудом можно было разобрать число 11.
Дом был небольшим, обшарпанным, кривоватым, пыльным, с железной коричневой крышей и двумя печными трубами. Грязные маленькие окошки первого этажа изнутри были закрыты фанерой с надписью «Ремонт», на втором мертвыми складками висели темные шторы.
Похоже, не было тут ни журавельника, ни солнечных пятен на полу, ни старушки в кресле с вязаньем на коленях – только пыль, грязь и немилая старость…
Дверной звонок, впрочем, оказался в порядке, и вскоре я услышал шаги.
Дверь открылась, и на пороге появилась молодая женщина – точеный нос, восточные глаза, красивый рот с темным пушком на верхней губе и чудовищной толщины бедра, плотно обтянутые синей ворсистой юбкой. Казалось, она была сложена из разных существ: внизу – темная безобразная тварь, состоявшая из огромной готтентотской задницы и толстых ног, а верхом на этой твари – светлая всадница с изящным торсом и маленькой грудью.
– Мне нужна Анна Федоровна Страхова, – сказал я. – У меня к ней письмо от Алексея Петровича Игруева, ее друга…
Я протянул всаднице конверт.
Она взглянула на адрес, пожала плечами.
– Ее нет дома.
– А скоро будет?
– Не докладывала.
– Можно я подожду у вас? Я только что с поезда, Москвы не знаю…
– Дверью не хлопать, – сказала она, поворачиваясь ко мне спиной. – Под юбку не заглядывать.
И двинулась по лестнице вверх, превратившись в угольно-черный силуэт на фоне окна, свет из которого бил мне в лицо.
Мы поднялись на второй этаж, прошли через темную прихожую, из которой была видна темная гостиная с блестящим полом, свернули в темный коридор, поднялись по ступенькам и оказались в комнате со скошенным потолком.
– Здесь, – сказала женщина, щелкнув выключателем. – Курить в печку.
Присела перед выступающей из стены кафельной печью, открыла чугунную дверцу и вышла. С минуту постояла за дверью, раздумывая, наверное, запирать меня на ключ или нет, и заскрипела ступеньками – раз, два, три, четыре, пять.
Комната была узкой, длинной и обставленной довольно скупо: диван с подголовниками в виде валиков, придвинутый вплотную к неоштукатуренной кирпичной стене, стол с лампой, два стула и платяной шкаф.
Над диваном висела небольшая гравюра с изображением какой-то чаши, расширявшейся от основания кверху.
Встав коленом на диван, я прочел надпись в нижнем углу гравюры: «La mappa dell inferno».
Значит, это не чаша, а карта воронкообразного ада, как у Данте. Может быть, это иллюстрация к «Комедии». Но на Гюстава Доре не похоже, а других иллюстраторов Данте я не знал.
Я достал из рюкзака толстую тетрадь в красной обложке, закурил и снова обвел взглядом комнату. Здесь можно жить, подумал я. Похоже, эта комната расположена вдали от других жилых помещений, а значит, стук пишущей машинки не будет никому мешать. Отдельная печка – это хорошо: зимой тут будет тепло. Хотя, конечно, я не предполагал, что в московской квартире, да еще в центре города, топят печи. Где же они хранят уголь? Или топят дровами?
В Кумском Остроге еще остались дома с печным отоплением – за рекой, в Слободе. Уголь хранили в сарайчиках, стоявших во дворах. Иногда ветер доносил из-за реки запах едкого дыма. Раз в год в нашей газете выступал инспектор пожарной охраны, напоминавший гражданам правила безопасности при эксплуатации печей, нарушение которых влечет за собой угрозу отравления угарным газом и так далее. Про этого инспектора в городе говорили, что его жизнь испортили родители, назвавшие сына Ариэлем. Этот сильно пьющий мужчина был дальним родственником Николая Ивановича Головина.
Незадолго до отъезда я простился с бывшим главным редактором. Услыхав о том, что я уезжаю, он оживился, заговорил о поиске смысла бытия, который обретается не в конце жизни, а в пути, попутно, о том, что поиск и есть созидание, и в этом смысле космогония ничем не отличается от теологии, потом вдруг оборвал себя, пожал мне руку и побрел по тротуару, не обращая внимания на пса, следовавшего за ним жалкой тенью, а я уселся на склоне оврага, закурил и стал считать вагоны товарного поезда, который тянулся внизу: раз, два, три, четыре, хоппер, пять, шесть, семь, белая лошадь, белая лошадь, белая лошадь, белая лошадь, хоппер, четырнадцать, пока поезд не скрылся в тоннеле, во тьме…
– Игруев, – проговорила мягким низким голосом светлая всадница, оседлавшая безобразную тварь, – помогите же мне, Игруев…
Глава 12, в которой говорится об исторической запятой, жилете Шопенгауэра и самом необычном эротическом переживании в жизни
В те дни, когда ГКЧП пытался отстранить Горбачева от власти и предлагал всем желающим жителям городов бесплатно получить 15 соток земли для садово-огородных работ, когда политическая Москва бушевала, когда в столицу входили таманцы, парашютисты и танки Кантемировской дивизии, а у Белого дома строились баррикады, я в Кумском Остроге занимался похоронами отца – получал справки, оформлял участок на кладбище, договаривался с землекопами и музыкантами…
Когда Австралия сказала, что отец умер, я вошел в спальню, увидел его лежащим лицом к стене и замер. Почему-то мне казалось, что он должен лежать на спине со скрещенными на груди руками, а он лежал на боку, упершись лбом и правой рукой в стену, и от неожиданности я обмер, и слезы сами потекли по щекам.
Австралия задернула шторы и взяла меня за руку, но тут раздался звонок в дверь – приехала «Скорая помощь», и я спустился во двор, обошел наш дом по кругу несколько раз, вернулся домой, взял деньги, талоны на водку и отправился на кладбище, но прежде зашел на почту и дал телеграмму деду.
А потом были похороны, поминки, бесцельное шатание по городу, изнывающему от жары и пыли, зарево над Кумским полигоном, душный вагон, бессонная ночь, запах мочи в тамбуре, смятение, боль, тоска, тоска, тоска…
Все это, да еще это потрясение на станции «Комсомольская кольцевая», так навалилось на меня, что я заснул на диване в комнате с картой ада на стене, а по пробуждении не сразу понял, где нахожусь и кто эта женщина с широкими бедрами, которая меня разбудила.
– Игруев, – повторила она мягким низким голосом, – помогите же мне, Игруев…
– А сколько времени?
– Два часа.
– Ночи?
– Пойдемте же!
От голода у меня кружилась и побаливала голова, я чувствовал запах своего немытого тела, мне хотелось в туалет, мне надо было привести себя в порядок, собраться с мыслями, чтобы произвести хорошее впечатление на Фрину, но было не до того, надо было спешить.
Пять ступенек, пустой коридор, большая пустая комната с диванами, снова пустой коридор.
Всадница токнула дверь, и мы оказались в спальне, освещенной торшером, который стоял в дальнем углу.
В огромном кресле полулежала женщина, ее правая нога покоилась на банкетке. Она помахала мне рукой и сказала веселым голосом:
– Кажется, я сломала ногу.
– Я не врач, я…
– Алина боится прикасаться к немытым ногам, – сказала женщина, глядя на всадницу. – А я не доверяю женщинам.
Опустившись на корточки, я ощупал ногу.
– Смещение сустава совсем небольшое, – сказал я. – Может быть, это подвывих. Но не перелом. Что бы это ни было, связка порвана. Этого не видно, но коллагеновые нити в таких случаях всегда рвутся. Нужен бинт… или какой-нибудь платок… а завтра – к врачу…
– У вас красивые руки, – сказала она. – Красивые мужские руки.
Я с изумлением посмотрел на свои руки, но тут Алина принесла бинт, и я перевязал распухший голеностопный сустав.
– Что у вас с рукой?
– Локоть, – сказала женщина. – Ушибла, когда падала.
Я ощупал распухший локоть и на всякий случай тоже перевязал.
– Спасибо, Алина, – сказала женщина. – А теперь вам придется поухаживать за мной, – сказала она, когда Алина вышла. – Помогите мне добраться до кровати, пожалуйста.
Обняла меня рукой за шею, запрыгала на левой ноге, остановилась схватившись за спинку кровати.
– Откиньте одеяло, – скомандовала она. – Теперь помогите снять юбку. Слева. Пуговицы слева.
Я расстегнул пуговицы и снял с нее юбку, пытаясь убедить себя, что раздеваю труп, хотя мне никогда в жизни не приходилось раздевать труп. Потом она подняла здоровую руку и попросила снять блузку. Повернулась спиной, я расстегнул лифчик, сунул его под подушку. «Это тоже», – сказала она, повернувшись ко мне лицом, и я снял и это, помог ей облачиться в ночную рубашку, уложил, подсунув под больную ногу скатанное в валик полотенце, и укрыл одеялом.
– Вы ужинали? – спросила она. – Несите сюда все из холодильника. И вино! Если вина не обнаружится, предадимся коньяку – он тут не переводится. Кухня налево.
Холодильник был набит едой – буженина, салями, черная и красная икра, сливочное масло, сыр такой и сякой, паштеты в баночках и черт знает что еще.
Я был очень голоден, но мысли мои были заняты не едой – Фриной.
Я вспомнил фотографию деда с девочкой на коленях – это была довоенная фотография. Значит, Фрине под или даже за шестьдесят. Однако тело у нее было гладкое, упругое… меня бросило в жар и дрожь… Я ожидал чего угодно, только не этого. Никакого кокетства, никакого смущения, никаких намеков. Когда я раздевал ее, она с невозмутимым видом поднимала руки, поворачивалась, как в ателье на примерке или на приеме у врача. Словно она была не женщиной, а я и вовсе призраком. Если это игра, то какая? Какую цель она преследовала? Похвастаться телом? Соблазнить? Вот таким мудреным способом? И зачем?
Конечно же, я был чрезвычайно самовлюбленным типом, но не до такой степени, чтобы считать себя неотразимым. Я мог объяснить поведение Фрины только ее возрастом. А единственное, что отличало ее от Розы Ильдаровны или Жанны, было чудом сохранившееся девичье тело. Как у старой ведьмы, дорвавшейся до эликсира молодости. Прекрасное тело. А красота и добро не могут существовать раздельно – так считали современники Праксителя, которые исповедовали калокагатию.
Женщина с идеальным телом невинна.
Вдруг подумалось: да какая разница, сколько ей лет, важно другое – бесплатное жилье, вкусная еда и регулярный секс – вот что сулит мне связь с Фриной. Но эта мыслишка мелькнула и пропала, смытая новой волной жара и дрожи…
Кое-как нарезав хлеб и мясо, я вернулся в спальню, придвинул банкетку к кровати и поставил на нее поднос.
– За ваши синдесмозы, – сказал я, поднимая рюмку. – За высокую регенеративную способность связок вашего голеностопного сустава!
– Ох, – сказала она. – Ничего приятнее в жизни не слыхала, доктор!
– Меня даже доктором-недоучкой нельзя назвать – бросил институт после второго курса… впрочем, факультет журналистики тоже бросил…
– Чтобы стать писателем? Тогда вы должны жалеть, что не видели, как сегодня свергали памятник Дзержинскому на Лубянке…
– Это там вы вывихнули ногу?
– Но досмотрела спектакль до конца. Видели б вы, что творилось с толпой, когда Железный Феликс повис в воздухе… и столько людей… Ростропович, Лариса Богораз, Кронид Любарский… не хватало только Солженицына в сталинском френче… интересно наблюдать за обществом, которое находится в поисках жанра… но это точно не героический эпос и, конечно, не роман… и Христа там не было…
– Христа?
– В белом венчике из роз. Он всегда с йеху, а не с гуигнгнмами, всегда там, где униженные и оскорбленные. Но на Лубянке его не было. Да там и йеху не было – одни благородные гуигнгнмы.
– И все-таки это была революция? Бескровная революция?
– В России бескровное не может быть настоящим. Да и подлинного величия я во всем этом спектакле не увидела…
– И все-таки?
– Нет, конечно. Знак препинания. Историческая запятая.
– Не точка?
– История вообще точек не знает.
– А без шуток?
– Возможно, контрреволюция. Но верх взяли не белые, а жадные. Те, кто имел власть без собственности, захотели исправить эту несправедливость. А красные и белые – их давно нет, здесь – нет… победители уже причисляют себя к белым, но не могут быть белыми дети и внуки генералов КГБ и членов ЦК…
Похоже, ей нравилось быть чуточку циничной и безапелляционной. И сказать по правде, ей это шло.
– Значит, вы любите Блока? В белом венчике из роз…
– Терпеть не могу! Вообразите себе – двадцатый век, паровозы, самолеты, телефоны, радио, железные дороги, пулеметы, восстания масс, войны, и вдруг посреди этого бешеного коловращения встает мертвец с матовым белым лицом и замогильным голосом взвывает: «Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита!» Он, видите ли, жизнь узнает! Да еще и принимает! Представьте только себе эту фигуру в трамвае, битком набитом бухгалтерами, телеграфистками и летчиками! Со щитом!
Она процитировала Блока таким заунывным голосом и так изобразила мертвеца, с меланхоличным видом колотящего по щиту в толпе бухгалтеров и телеграфисток, что я фыркнул с набитым ртом – крошки полетели во все стороны, одна попала Фрине на лицо.
Я обмер, а она вдруг слизнула крошку кончиком языка, подмигнула, и мы оба расхохотались.
– Но не люблю я Блока за другое, – сказала она. – Как-то он написал, что «кровопролитие становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием»…
– Значит, за эстетство не любите? За надмирность?
– Еще! – сказала она, придвигая рюмку ко мне. – Так не жалеете, что проспали историю?
– Льву Толстому не нужно было участвовать в Аустерлицком сражении, чтобы написать «Войну и мир». Стендаль лучше всех рассказал о Ватерлоо, хотя и не участвовал в битве…
– И Лев Толстой, и Стендаль не понаслышке знали, что такое война. И Гаршин, и Бабель…
– А Стивен Крейн не знал.
– Боже, вы читали «Алый знак доблести»? За это надо выпить!
Она заговорила о Толстом, Стендале и Стивене Крейне, которые похоронили литературу о войне, потому что в эпоху массовых армий война перестала быть уделом героев, личностей, и проложили дорогу писателям потерянного поколения, у которых война не вызывала никаких чувств, кроме эсхатологического отчаяния. История перестала быть материалом для индивидуального творчества. В литературе о войне не осталось ни Бога, ни вечности, ни родины, только смерть, пустота и жалкая плоть, парализованная экзистенциальным ужасом. И Вторая мировая ничего не изменила. А возможно, сама тема умерла: ни литературе больше не нужна война, ни войне – литература…
– Вы почти не едите, – сказал я.
– Ничего, – сказала она. – А вы не стесняйтесь, ради бога, ешьте от пуза!
– Да я, в общем, уже…
– Тогда наливайте и рассказывайте о себе. Напугайте меня, удивите, рассмешите, доведите до слез, увлеките за собой в пропасти и на небеса, завладейте моим вниманием, завербуйте меня, черт возьми, это же ваше ремесло!
– Ну… – Я замялся. – Даже не знаю…
– Ну пожалуйста! – Фрина понизила голос и подалась ко мне всем телом, душистым и жарким. – Я хорошая слушательница, поверьте! Лучшая в мире!
Она, конечно, играла, но играла блестяще, я же был сыт, слегка пьян, бесстрашен и воодушевлен близостью ее душистого тела.
– А еще вы можете курить, – сказала она, еще более понизив голос. – Окон здесь нет, но можно открыть вон ту дверочку и смолить сколько влезет…
Я открыл дверцу в стене за спинкой кровати, откупорил вторую бутылку – Фрина кивнула одобрительно – и закурил. Она взяла у меня сигарету, затянулась и вернула, и я тоже затянулся, чтобы почувствовать вкус ее яда, оставшегося на фильтре.
– Вы знаете, что всегда поражало меня в вашем деде? – сказала Фрина. – Он ценил хорошие вещи, но никогда не боялся потерять их. Как-то я посочувствовала ему, узнав, что во время войны он потерял дом – в него попала немецкая бомба, а Алексей Петрович только пожал плечами и сказал: «Какие у латыша вещи? Хер да клещи». И все. Какое-то голубиное отношение к жизни… никаких сожалений о прошлом… в его поколении было немало таких людей, которые жили как будто одним днем, но без страха смотрели в лицо вечности… словно готовы были умереть в любую минуту, как настоящие христиане… но ведь он не был верующим?
– Мы не были близки, – сказал я. – Так сложилось, что мы и знакомиться-то начали всего неделю назад, когда умер мой отец… его сын… а потом дед уехал, и я снова остался один… ну так жизнь сложилась, что я почти всегда был один… грех жаловаться – просто так получилось…
И я стал рассказывать о матери, которая объясняла мою близорукость моральной ущербностью, и об отце, не выдержавшем пустоты жизни, о книгах и мечтах, а потом – вторая бутылка была уже наполовину пуста – без колебаний, легко переступил невидимый порог и стал рассказывать о Розе Ильдаровне, Лариске, Жанне – рассказывать так, словно они давно умерли, а потом и об Анне Дерюгиной, покачивавшей красивыми бедрами, и о Николае Ивановиче Головине, корпевшем над Марксом и Каббалой, чтобы прозреть будущее, о пыльном Некрополисе, изнывавшем от жары, о бесконечной белой лошади на железнодорожной платформе и о станции «Комсомольская кольцевая», где я наконец обрел дом…
– Тщательно выстроенные и строго контролируемые сложноподчиненные предложения с причастными и деепричастными оборотами, – задумчиво проговорила Фрина. – В устной-то речи! Сразу видно одинокого человека, который боится, что его неправильно поймут. Но чувство юмора у вас очень неплохое – без него ваши истории показались бы too much. А вот деталей, может быть, многовато, хотя они зримы, замечательны и врезаются в память. Знаете, Шопенгауэр однажды сфотографировался в жилете, застегнутом не на ту пуговицу, и одной этой детали хватило, чтобы все поняли, что перед ними – философ, человек не от мира сего… интересно, как это выглядит на бумаге… это роман? Повесть? Рассказы?
Я пожал плечами и поднял бутылку – на дне еще оставался коньяк.
– Хорошо, допьем и спать, – сказала Фрина. – Нет-нет, пожалуйста, не уходите! Я не могу оставаться одна…
Это прозвучало так, что я опять растерялся.
– Ложитесь здесь, – сказала Фрина, похлопав по постели рядом с собой. – Пожалуйста.
Ту ночь мы провели в одной постели, но не занимались сексом и даже ни разу не поцеловались. Две бутылки коньяка, разговоры – все это лишило нас сил.
После того как я разделся и залез под одеяло, Фрина выключила свет, сунула руку в мою и затихла. Ее рука поворочалась в моей и замерла, словно зверек, удобно устроившийся в норке на ночлег.
Фрина лежала в нескольких сантиметрах от меня, и левым боком я чувствовал жар ее тела. От нее пахло какими-то духами, и этот слабый запах – от него пощипывало в носу и на глазах выступали слезы – обволакивал меня, проникая в кровь и заставляя сердце биться чаще. Ее рука иногда подрагивала в моей, как будто по ней пробегал ток, передававшийся мне и вызывавший у меня легкое головокружение. Волна за волной, волна за волной… последняя волна жара и дрожи накрыла меня с головой и утащила в глубину – содрогающегося, в слезах, опустошенного и свободного, наконец-то свободного…
Это было, наверное, самое чистое, самое глубокое и самое необычное эротическое переживание в моей жизни.
В полдень мы проснулись лицом друг к другу, по-прежнему держась за руки, и без слов занялись любовью, потом я помог Фрине допрыгать до туалета, а сам опохмелился рюмкой ледяной водки и взялся за приготовление завтрака.
Кофе мы пили в спальне.
Фрина сидела в кресле, устроив больную ногу на банкетке, и весело рассуждала об авторах куртуазных и рыцарских романов, которые о ведьмах и великанах знали больше, чем о китайцах и русских, пердели за столом и трахали немытых фрейлин на подстилке, кишащей вшами, а потом запросто сочиняли романы о чистоте и невинности всех этих Изольд и Николетт и о доблестных воинах, хранящих всю жизнь верность своим возлюбленным. В обоих случаях они ничуть не кривили душой и были совершенно естественны и искренни, веруя в мужчин и женщин, способных провести ночь в одной постели, не коснувшись друг друга только потому, что между ними лежал обнаженный меч…
– Тебе надо в больницу, – сказал я. – Или врача вызвать…
Она поставила чашку на поднос, промокнула губы салфеткой, откинулась на спинку кресла и с улыбкой поманила меня пальчиком.
В тот день мы не пошли в больницу и не вызывали врача на дом.
Глава 13, в которой говорится о грязном удовольствии, цыганской традиции и маленьком железном Ленине с огромной дубиной
Пока у Фрины не поджила нога, мы не выходили на улицу, и за это время я успел вполне освоиться в ее квартире. Точнее, в обеих квартирах, занимавших весь второй этаж кривого дома.
Большая квартира состояла из прихожей, кухни, туалета, ванной, гостиной, двух гостевых комнат и того чулана – я называл его Карцером – с боттичеллиевской картой ада на кирпичной стене, куда меня в первый день отвела светлая всадница Алина. Эта квартира была обставлена скромно, хотя и не бедно.
В большой квартире, как в матрешке, помещалась другая – с маленькой гостиной, спальней, кабинетом, ванной и туалетом. Мебель тут была штучной, ручной работы, а стены украшали подлинники Бакста, Гончаровой, Дега. Бронзовые и серебряные пепельницы, настольные лампы, торшеры, вазы, ковры, китайские ширмы довершали образ богатого уютного гнездышка, в котором обитала Фрина.
Всаднице Алине разрешалось лишь трижды в неделю стирать пыль с мебели, мыть полы да проверять, не оскудели ли в баре запасы французского коньяка, шотландского виски и русской водки. Она же готовила еду и следила за тем, чтобы одежда Фрины была в идеальном порядке, а холодильник – полон.
Было непонятно, откуда берутся все эти деликатесы и напитки, если в московских магазинах было шаром покати, а Фрина служила рядовым редактором в издательстве. В магазине Алина покупала хлеб, молоко, соль, сахар да спички, остальное каким-то чудесным образом обнаруживалось на черной лестнице, куда можно было попасть из кухни.
Но больше всего меня поразил кабинет Фрины, где как-то утром мы уединились, чтобы обсудить мои литературные опыты.
Пока Фрина раскладывала машинописные страницы, сверяясь с записями в большом блокноте, я растерянно бродил вдоль книжных полок, приседал, залезал на стремянку, чтобы подержать в руках прижизненные издания Пушкина или Чехова, полистать Набокова или Газданова, о которых знал только понаслышке… Шестов, Ильин, Флоренский, машинописные экземпляры переводов Клайва Льюиса и Виктора Франкла, подшивки «Современных записок» и бердяевского «Пути»…
– Это добро от тебя никуда не денется, – раздался голос Фрины. – Давай-ка займемся делом.
После первой же нашей ночи я вытащил из рюкзака пухлую рукопись, и в перерывах между едой, сном и сексом Фрина ее внимательно прочла. Прошло больше недели, прежде чем она сказала, что готова изложить «кое-какие соображения».
Мы сели в кресла, стоявшие в углу вокруг маленького столика, на котором дымились чашки с чаем, Фрина закинула ногу на ногу, взъерошила пятерней волосы и начала:
– Прежде всего – никогда не отдавай издателям свои рукописи в красных папках. Красная папка – плохая примета…
От неожиданности я фыркнул.
Фрина погрозила пальцем.
– Теперь по сути, – продолжала она. – Первый и несомненный плюс твоей прозы в том, что ты пишешь чужой кровью, то есть не о себе – о других. Это становится такой редкостью… Ты – настоящий погорелец. Настоящий писатель – всегда погорелец, любящий каждую вещь, каждую трещинку в погибшем доме, а русский дом – всегда дом горящий, погибающий. Важно, что ты понимаешь: хорошая деталь – это не всегда хорошая литература, но вот хорошая литература – это всегда хорошая деталь. Но, на мой вкус, эту прозу неплохо бы обезжирить – многовато эпитетов, сравнений, метафор и прочей красоты. Описания часто избыточны. Вот тут… – Перевернула страницу, ткнула пальцем в текст. – Героиня говорит: «В этом доме старше меня только иконы». Одной этой фразы достаточно, чтобы не развивать тему женской старости, в которой ты все равно ничего пока не понимаешь. Ты пытаешься строить прозу по законам поэтического высказывания, так будь последователен. Йейтсу удалось одной фразой выразить всю суть сегодняшней жизни: «The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity»… – Заметив мое смущение, перевела: – «У лучших нет никаких убеждений, а худшие полны страстной сосредоточенности». – Помолчала. – Эта твоя страсть к цитатам… цитаты, цитаты, тридцать тысяч одних цитат… цитаты – удел полузнаек… Иногда мне кажется, чтобы написать хорошую книгу, надо многого не знать и не понимать. Теперь о главном… – Отпила из чашки. – Правила приличия в литературе губительны, а жанровая чистота – фикция, но у тебя наблюдается явный избыток силы и явное же отсутствие дисциплины. Тебе нельзя доверяться хаосу – утонешь. Жизнь – поток, но автор должен быть твердью. – Она положила руку на рукопись. – Это не роман, Стален. Это два-три десятка новелл, скорее даже – замыслов, связанных между собой иногда искусно, но чаще искусственно. И еще… – Ухмыльнулась. – Знаешь, что такое guilty pleasure?
– Грязное удовольствие, – сказал я. – Или порочное.
– Чувство, которое испытывает человек, дорвавшийся до запретного плода. Именно это чувство будут испытывать редакторы при чтении твоей рукописи…
Я хмуро молчал.
– Принято считать, что русская литература целомудренна. Исключение составляет разве что эротоман Достоевский. Ни у русской, ни у советской литературы нет языка для описания сексуальной жизни. Похоже, ты решил это упущение исправить…
– Это плохо?
– Я говорю о впечатлении, которое твоя проза может произвести на редакторов. Мне-то кажется, что и в этом случае тебя выручает чувство юмора и некоторая отстраненность… то, что французы называют discrétion… сдержанность, невмешательство… этакий холодноватый взгляд ироничного стороннего наблюдателя… Но тебя за это будут ругать – ты должен быть готов. Вообще – ругать будут много, редко – справедливо. Что ж, как говаривал Кокто, ce qu’on te reproche, cultive-le, c’est toi – взращивай то, в чем тебя упрекают: это ты и есть. Ну да ладно, это-то как раз сейчас не важно. Что ты думаешь о моем предложении?
– О каком?
– Разобрать текст на кусочки, избавиться от случайных персонажей… Господи, зачем тебе эти агенты КГБ? Или вот бандиты… это же особая человеческая порода… эти люди нечитаемы… они вообще – для другого… они слишком полно совпадают с обстоятельствами – до утраты всего личного, сокровенного, уникального…
– Черт его знает, – пробормотал я. – Вроде удачно получилось…
– Не вали все на черта – он никогда не додумается до того, что творят люди…
– Надо подумать, – с мрачным видом сказал я. – Перечитать, подумать…
– Договаривай!
– Я думал, что редакторы нужны только неудачникам…
– А тебе и не нужен редактор. Тебе нужна я, мамка и самка. Да и кто тебе еще расскажет, что ты пишешь на самом деле?..
Она сидела в кресле, покачивая ножкой, и смотрела на меня блестящими глазами.
– Договор подпишем кровью? – спросил наконец я, с трудом изобразив усмешку.
– Не льсти мне. На самом деле ты можешь дать мне больше, чем я могу предложить тебе. Я не ошибаюсь – сейчас я не могу позволить себе такой ошибки. – Она встала, и лицо ее вдруг дрогнуло. – Соглашайся, прошу тебя, Стален. Когда еще у тебя будет возможность заниматься только литературой, а не тянуть лямку в какой-нибудь газете… ну и минус эксплуатационные расходы на женщин, еду, крышу…
– Да. – Я с трудом сглотнул. – Да, Фрина.
Разговор наш был прерван телефонным звонком – Фрине надо было ответить.
С рукописью под мышкой я отправился в Карцер и стал бегло перечитывать текст, занимавший около восьмисот машинописных страниц. Выхватывал глазами фрагменты, фразы, слова и с каждой страницей чувствовал себя все более бездарным, самовлюбленным, глупым, пошлым и ничтожным бумагомаракой.
Корчился, чесался, подвывал и чертыхался – с каждой страницей все громче, все отчаяннее, наконец рухнул ничком на диван и замер.
Фрина была во всем права: слишком многословно, слишком много метафор, сравнений, эпитетов, слишком много цитат, слишком надуманны все эти «прокладки» и «мостики», призванные связывать фрагменты текста, слишком карикатурны и одномерны все эти бандиты и агенты КГБ…
Все – чересчур, все – фальшиво, все – не так…
Все, на чем держалось мое «я», зашаталось и грозило вот-вот рухнуть.
После гибели сестры меня довольно долго терзали психологи и психиатры. Мать боялась моего преступного левшизма, считала, что я что-то знаю о смерти Хрюши, и хотела, чтобы врачи добились от меня какой-то «правды». Один из них в конце концов сказал мне: «Я чувствую в вас некоторую особенность, инакость, которая рано или поздно должна проявиться, хотя и не могу сказать, в какой форме. Вас выдают паузы хезитации, все эти беканья и меканья. Когда их слишком много и они лишены смысловой нагрузки, получается имитация спонтанной речи. Вы пытаетесь контролировать себя даже в мелочах, словно боитесь проболтаться, хотя пока бояться вам нечего – тротил в вашей душе только начал накапливаться. Но у вас все впереди».
Не знаю, что подразумевал под инакостью врач, но я его слова понял как признание моей избранности. И если и было во мне что-то твердое, так это сознание собственной гениальности. Именно оно и привело меня в Москву, где я надеялся с ходу поразить издателей своими глубокими, яркими, безупречными текстами.
И вот от этой надежды не осталось ничего.
Твердыня пала, стоило Фрине произнести несколько слов, с улыбочкой покачивая ножкой.
И самое же ужасное было в том, что Фрина угадала мои тайные сомнения и назвала их, и что тут можно было возразить? Рукопись инкурабельна, то есть не поддается лечению. Труп, из которого патологоанатом может вырезать несколько более или менее съедобных органов…
Я еще трепыхался, сопротивляясь из последних сил. Думал о том, что ни у Софокла, ни у Шекспира, ни даже у Достоевского редакторов не было. Эти паразиты появились позднее, когда творцов стали теснить посредники – дирижеры, режиссеры, критики, кураторы – наследники цыганской традиции толкования и обмана и европейской традиции демократии, которая ради всеобщего равенства принижает гениев, чтобы массы бездарей не чувствовали себя отверженными. Впрочем, если на Западе гений приносится в жертву Всем, то на Востоке – Одному. Гений и гениальность обречены всюду, у меня нет будущего…
После ужина я попытался с юмором описать свои мысли и чувства, но Фрина мою иронию не поддержала.
– Будь ты человеком верующим, я сказала бы, что Бог может дать нам все и не меньше. Все, весь мир дольний и горний. Мы для этого и созданы, мы сами слишком велики для себя. Искушения идут вслед за утешениями, чтобы мы не приняли путешествие в Царствие Небесное за возвращение домой. Домой не вернуться. Не вернуться, Стален, поэтому ты и пишешь то, что пишешь, и не можешь не писать. – Подалась ко мне и прошептала: – Ты в ловушке, и это твой выбор. А теперь поплачь, попытайся разжалобить тюремщика…
И небольно укусила меня за нос.
Каждый день я вставал в шесть утра, выпивал три чашки крепчайшего кофе, заваривал четвертую, закуривал и садился за пишущую машинку.
Под пепельницей лежал лист бумаги с набросками, сделанными вечером. На свежую голову эти записи чаще всего казались полной чепухой, вызывавшей недоумение и раздражение, но злость заставляла мозг работать.
Я писал в Карцере, чтобы не мешать Фрине, которая спала до девяти-десяти часов. К этому времени у меня был готов абзац-другой, а то и страница-две текста.
После завтрака мы уходили в кабинет, где я читал написанное вслух.
Раньше я так не делал, но когда попробовал, понял, что это именно то, что нужно: неуклюжие фразы, неточные сравнения, случайные слова, безжизненные диалоги, лишние детали, отсутствие логики – оказывается, все это я слышал лучше, чем видел.
А Фрина была действительно замечательной слушательницей. Позой, выражением лица, взглядом, движением губ и бровей она подыгрывала мне и моим персонажам, оживляя или уничтожая их. Потом мы обсуждали текст, и нередко случалось так, что после этого я уже был не в состоянии продолжать работу. Но исчерканные страницы не выбрасывал.
«Пусть полежит в каком-нибудь темном уголке, – говорила Фрина. – Глядишь – пригодится».
В роли темного уголка выступала красная папка, распухавшая гораздо быстрее, чем синяя – с текстами, имеющими право на жизнь.
Поначалу я думал, что вытащу из рукописи несколько историй и легко доведу их до ума.
Первой была история, которую рассказала Лариска, та самая Лариска, которая запирала дверь на чайную ложечку.
В ее деревне после революции сельсовет решил обобществить женщин старше четырнадцати. Всем мужчинам, однако, хотелось обобществить только вдову Кирееву, женщину молодую, смачную и веселую. Начались ссоры и драки. Оружия в деревне было достаточно, и дело могло принять плохой оборот. Из города прибыл комиссар, человек могучий, но однорукий. У него был мандат и приказ о наведении революционного порядка в деревне. В первый же день он познакомился с веселой вдовой, и они понравились друг другу. Мужики, однако, не собирались сдаваться и толпой набросились на комиссара, надеясь без труда одолеть инвалида. Он отбился, но на том дело не кончилось. Каждый день ему приходилось вступать в драку с деревенскими. Его били толпой, били руками и ногами, плетьми и дубинами, а однажды даже побили большой иконой Николая Чудотворца, взятой из церкви, но всякий раз он вставал, бросался на врагов и побеждал, хотя с каждым разом победа давалась ему все труднее.
Неизвестно, чем кончилась бы эта история, если бы не подоспела депеша из города – телеграмма с грифом «правительственная». По такому случаю у церкви собралась вся деревня. Комиссар вышел к народу, снял шапку и объявил: «Ленин помер, товарищи, блядство закончилось».
В тот же день на площади был похоронен портрет Ильича, обрамленный ризой, которую содрали с иконы Николая Чудотворца. Говорили речи, стреляли в воздух, плакали, потом помянули вождя и разошлись по домам.
Однорукий женился на веселой вдове, и вскоре она родила сына. Мальчика назвали Лениным. В свидетельстве о рождении так и записали – Ленин Просович Жуков.
А на деревенской могиле вождя тем же летом поставили памятник, выкованный местным кузнецом из обломков белогвардейского броневика: маленький Ильич в огромной кепке, широко расставив ноги, грозил шипастой дубиной мировой буржуазии. По решению общего собрания раз в месяц дежурный по Ленину при помощи керосина и напильника очищал памятник от ржавчины.
Чем больше я думал об этой истории, тем меньше она меня устраивала своей одномерностью, отсутствием бликов, которые отбрасывает в нашу действительность огонь, пылающий в самых сокровенных глубинах жизни.
Когда я поделился этой патетической мыслью с Фриной, она тотчас вспомнила о другой истории, которую я записал со слов бабушки. Ее старшего брата во время коллективизации кулаки живьем закопали в землю. Его жена отомстила убийцам, которые не ожидали такой решимости от молодой вдовы. С двумя маузерами в руках она обошла деревню, убивая кулаков и не щадя их семьи, а потом посадила детей на телегу и навсегда покинула родные края.
Все встало на свои места и вспыхнуло ярким светом.
Бесконечный заснеженный простор, мороз, пробирающий землю до метаморфических пород. Люди, роняющие редкие слова, почти не открывая рта. Однорукий гигант, которого закопали живьем и долго притаптывали землю сапогами, заткнув уши черными пальцами, чтобы не слышать жуткого рева, доносившегося из-под земли. Женщин, стреляющая по врагам не жмурясь…
История постепенно становилась рассказом…
Глава 14, в которой говорится о заминированном Госплане, бронзовой Ниночке и честном мужском говне
Когда пальцы онемевали и распухали, когда спина превращалась в надгробную плиту, когда от стука пишущей машинки начинало звенеть в ушах, когда от табачного дыма резь в глазах становилась невыносимой, когда я уже был не в состоянии понять, в какую папку, в красную или синюю, отправлять исписанные страницы, наступала пора «гулять ногу».
Боли уже не беспокоили Фрину, но ей хотелось избавиться от неприятных ощущений в правой ноге, которую, как она говорила, нужно было «хорошенько расходить». После обеда мы «гуляли ногу», с каждой вылазкой забираясь все дальше от дома.
Фрина в те дни одевалась ярко – красные юбки, желтые туфли, белые блузки с синими цветами, крупные алые бусы. Может быть, именно поэтому та осень до сих пор кажется мне теплой, солнечной, хотя на самом деле она была довольно холодной, с ночными заморозками, лишь в начале октября температура ненадолго поднималась выше двадцати.
Поначалу мы не покидали круга, образованного Домом Пашкова, Боровицкой башней, Красной площадью и Большим театром, затем продвинулись с одной стороны до Кропоткинской площади, а с других – до Солянки, Кузнецкого Моста и Страстного бульвара.
Центром этого круга был терем из красного кирпича – недозакрытый музей Ленина.
У входа в музей с утра до позднего вечера толпились старики с железными зубами, спорившие до хрипа о судьбах России, кремлевских тайнах и неопознанных летающих объектах. Здесь играли на гармошках и гитарах, здесь из катушечных магнитофонов неслись песни Высоцкого и «Священная война», здесь торговали пионерскими значками, брошюрами о еврейском происхождении Ленина, астрологическими трактатами и газетами, которые разоблачали мировой масонский заговор и призывали к борьбе за справедливость под православным красным знаменем, здесь бродили старухи с иконами, потретами Сталина и плакатами, на которых было написано: «Руки прочь от Ленина!», «Проснись, распятая Россия!», «Позор дерьмократам!», здесь пили водку, закусывая мелким дачным яблочком, кликушествовали, пели хором, дрались, ссали по углам, смеялись и плакали…
По Тверской – на ней еще росли деревья – мы поднялись к Пушкинской площади. За три рубля я купил очередь ближе к входу в «Макдоналдс», и мы утолили голод «негритянским жоревом», как однажды назвала гамбургеры с картошкой «Независимая газета», и выпили газировки из картонных стаканов.
Наш сосед по столику, пожилой мужчина в вязаной шапочке-петушке, похожий на бассета, запивал пирожок с вишней водой из литровой банки. Поймав мой взгляд, он с грустью сказал:
– Эта вода заряжена Аланом Чумаком. Последний шанс избавиться от рака простаты. Синусу помогло. Синус – это моя собака. У нее был понос. Сколько я ее ни бил, не помогало. А заряженная вода помогла. – Вздохнул. – Или я с ума сошел, как вы думаете? Я ведь кандидат технических наук, спутниками связи занимался…
Попрощавшись с «бассетом», мы вышли на улицу и заговорили о людях в эпоху перемен, утративших правый путь в лесу терновом, как шекспировский Глостер, заплутавший между добром и злом, между сном и явью, и Фрина стала цитировать монолог Кальпурнии из «Юлия Цезаря», которая рассказывает о хаосе в Риме – о мертвецах, покинувших могилы, и привидениях, мечущихся по городским улицам…
Темнело.
Спустившись по Петровке к ЦУМу, мы остановились у табачного киоска.
Продавщица сигарет – сорокалетняя тощая блондинка в шортах и колготках лимонного цвета – сидела рядом со своим киоском на ящике со стаканчиком водки в руке и кричала на пьяненькую пышную подругу, которая торговала самопальными джинсами:
– Ты с ума сошла, Таня! Нельзя сокращать обе части тригонометрического уравнения на функцию, которая содержит неизвестную! Теряешь корни, Таня, теряешь, побойся Бога! Вам чего, молодой человек?
Купив сигарет, свернули за угол, пересекли площадь перед Большим театром и двинулись в сторону Тверской.
Проходя мимо темной громады Госплана, Фрина вдруг остановилась и сказала:
– В сорок первом это здание заминировали, чтобы не досталось немцам, если они войдут в Москву, а потом об этом забыли. Просто – забыли. В начале восьмидесятых, во время ремонта, электрики наткнулись на провода, которые тянулись непонятно куда, и Госплан разминировали. Только подумай: сорок лет тысячи людей занимались здесь строительством экономики будущего, даже не подозревая, что сидят на огромной бомбе из прошлого…
– Сильный образ, – сказал я. – И комичный.
– Скорее – деталь… в широком смысле слова…
И мы заговорили о роли детали в литературе.
Фрина вспомнила «Макбета» и стук в ворота, я – о шагающем по берегу моря гомеровском Аполлоне, гнев которого передается звоном стрел в его колчане, о Жюльене Сореле, который стреляет в мадам де Реналь лишь после того, как та набрасывает на голову накидку, превращаясь в незнакомку. Сошлись на том, что скупость Чехова нам ближе, чем хвастоватая расточительность Бунина, свернули под арку, стараясь держаться подальше от спящих вдоль стены бомжей, и тут до меня дошло, чем же сильнее всего пахнет Москва. Она пахла бензином и асфальтом, мочой и перегаром, потом и псиной, прогорклым маслом и карамелью, нафталином и фекалиями, но сильнее всего – затхлостью. Так пахло в Кумском Остроге, так пахло, наверное, по всей стране от Балтики до Чукотки. Этот запах перестал преследовать меня только в середине нулевых…
На следующий день синоптики пообещали почти небывалую для октября жару, и утром Фрина надела коротенькую шелковую юбочку, которая легко волновалась вокруг ее ног, казавшихся особенно стройными.
Она хотела показать мне дом на Ильинке, где в августе 1931 года родился Метрострой и где работал ее отец, и мы уже поднялись Историческим проездом к строившемуся Казанскому собору, как вдруг Фрина остановилась, прижалась ко мне и томно промурлыкала:
– Одно из самых нежных и тонких женских эротических переживаний – это когда шелковая юбочка в ветреный теплый день ласкает голые ягодицы и бедра…
Отстранилась, повернулась на каблуках и танцующей походкой двинулась по Никольской, и ее шелковая юбочка тотчас ожила, взлетая и волнуясь при каждом шаге и вызывая у меня мучительный восторг…
Я догнал ее, взял за руку – ее пальцы были ледяными.
Вдоль вечной очереди за лучшим в мире мороженым, которое продавалось за ГУМом, на углу проезда Сапунова, ходил мужчина в грязной джинсовой куртке, предлагавший за сто рублей телефонный аппарат с советским гербом из разграбленного здания ЦК КПСС, но люди только пожимали плечами и отворачивались.
Через минуту мы свернули в Богоявленский переулок и спустились в метро.
В тот день я впервые оказался на станции «Площадь Революции», и именно тогда в моем сознании сложился ее образ, который и сегодня остается неизменным: сумрачное великолепие цвета венозной крови с проблесками золота. Краски, конечно, сильно сгущены, но и гладкий белый потолок, и светлые мраморы – жемчужный агамзалу, серо-голубой уфалей, желто-розовый биюк-янкой – были бессильны перед темным габбро, красной шрошей и черным армянским камнем с золотыми прожилками. В архивольтах массивных арок, отделявших зал от перронов, тускло мерцали семьдесят шесть бронзовых скульптур – солдаты и матросы, пионеры и физкультурники. Приглушенным драматическим аккордом, погружающим человека в багровую полутьму, в глубине которой горят глаза чудовищ, открылась мне любимая станция Сталина с ее магическими девушками, солдатами и собаками…
– О господи, – сказала Фрина, выслушав меня, – или у тебя что-то со зрением, или уж очень специфическое воображение… Никакого отчетливо-красного здесь нет – скорее коричневый с красноватым оттенком… да и станция в целом белая… может быть, с желтизной… здесь, конечно, темновато, поскольку светильники повесили так, чтобы лучше были видны скульптуры, но мне кажется, что вагнеровского пафоса тут и в помине нет и не было…
Она потянула меня за руку на перрон.
Мы прошли мимо стахановца с отбойным молотком, инженера с шестеренкой, птичницы с петухом, который приносит несчастья влюбленным, мимо хлебороба, физкультурника и остановились перед скульптурой сидящей девушки с книгой.
– Это Ниночка, моя подружка, – сказала Фрина. – Она не была красавицей, но у нее была идеальная фигура. Позировала Манизеру, а потом, когда ее отца – он был метростроевцем – расстреляли как врага народа, мы часто приходили сюда с цветами в день его рождения. Другого памятника у нас не было…
– У нас?
– Мой папа проходил по тому же делу, что и ее отец… – Фрина помолчала. – Ниночка всю жизнь работала редактором в литературном журнале… скромная зарплата, чужие тексты, одиночество, страх… а сейчас влюбленные трогают на счастье ее бронзовую туфельку… – Встрепенулась. – Наш поезд!
Я стоял у окна вагона, не сводя взгляда с бронзовой Ниночки, к ногам которой живая Ниночка из года в год приносила три гвоздики.
Еще минуту назад станция «Площадь Революции» была штукой, ding an sich, таким же произведением искусства, как пирамида Хеопса или дюшановский унитаз, и вдруг в этом ледяном великолепии гранита, мрамора и бронзы, где-то в укромной глубине сбивчиво, торопливо, тихо забилось маленькое человеческое сердечко, и все согрелось, ожило, и все это – и красный мрамор, и черный гранит, и бессмертная бронза, и птичница с волшебным петухом-злодеем, и собака, и солдат с ружьем – стало теплым, близким, нечужим и вошло в мою жизнь, оставшись в ней навсегда…
Наконец настал день, когда Фрина взяла у меня синюю папку, отобрала семь завершенных рассказов и отнесла в журнал.
Дня через три-четыре ей позвонили из редакции – пять рассказов были приняты к публикации и поставлены в план февральского номера.
– Это лучше, чем я ожидала, – сказала Фрина. – Теперь надо позаботиться о читателях. У нынешних критиков яд некачественный, но читатели среди них встречаются неплохие…
– Охмурять я не умею…
– И не надо. Пиши и пиши, пока есть такая возможность.
То, что она называла возможностью, на самом деле было осуществленной мечтой любого писателя.
Можно завидовать книгам Достоевского, но не его жизни в горящем доме, заставлявшей его спешить, мучаясь нехваткой денег и времени.
Я с упоением занимался только тем, чем мне хотелось заниматься, ел вкусную еду, пил хорошее вино, курил вирджинский табак, много читал, почти каждый день открывая новые имена вроде Сведенборга, Селина или Шестова, и делил постель с божественной женщиной, которая в первую же ночь сказала, что в любви не бывает грязных желаний. Лампочки в этом доме не перегорали, из кранов круглые сутки текла горячая вода, и мои рубашки были всегда отглажены.
Я был счастлив, свободен, как удачливый вор или как человек, летящий в пропасть, и моему счастью ничто не мешало, даже стеклянные ботинки.
Во время вечерних прогулок нас сопровождал молодой мужчина в темной куртке и начищенных до блеска ботинках – они сверкали в свете фонарей, словно были отлиты из стекла. Я обратил на него внимание, когда, проходя мимо нас, он чуть придержал шаг и смерил меня взглядом. Лицо у него было приятное, но невыразительное. Мне показалось, что я его уже видел, и не раз, видел его и эти стеклянные ботинки, но не мог вспомнить, когда и где это было…
Фрина не обращала внимания на мужчину в стеклянных ботинках. Возможно, думал я, она знает о слежке и мирится с нею по каким-то причинам. Кто-то ведь обеспечивает ее вкусной едой, богатой одеждой, книгами, напитками, сигаретами, и непохоже, чтобы она за это платила. Что это за таинственные покровители? Кто они? Почему выбрали ее? За какие заслуги? Но спрашивать Фрину об этом я не решался.
Наступили холода, и Фрина «открыла салон», то есть теперь почти каждый вечер в ее доме устраивалось застолье для гостей. Фрукты, закуски, вино, коньяк, чай и разговоры. Хозяйка одевалась скромно, превращаясь из шаловливой девушки в шелковой юбочке в умудренную опытом женщину, внимательную и сдержанную, много повидавшую и знающую цену жизни.
Это была пестрая компания: известный экономист в костюме-тройке, с загадочным видом куривший сигару; дивной красоты пожилая монахиня с тонким румянцем на узком фарфоровом лице; циничный алкоголик из газеты «Советский цирк», бывший велоэквилибрист, переквалифицировавшийся в публициста; кладбищенский поп-самогонщик, умный и язвительный; старик со строгим лицом – диссидент, сидевший при Сталине, Хрущеве, Брежневе и Андропове; люди, тайно праздновавшие при советской власти кто 5 марта – смерть Сталина, кто – память святителей Хрисанфа и Дарьи, небесных покровителей дома Романовых…
Объединяло их одно – желание понравиться Фрине.
Они рассказывали о своей жизни, о встречах с известными персонами, о своих чувствах и мыслях, пытаясь заинтересовать собеседницу, которая могла бы помочь в написании книги да еще и пробить ее в издательстве или толстом журнале.
Застольные разговоры были, как говорят в театре, прогоном, репетицией, после которой Фрина решала, интересен ей собеседник в качестве будущего автора или нет. Хватало двух-трех часов застольных разговоров, чтобы понять: этот человек тянет на яркую, но короткую новеллу, этот – увы, на публицистическую статью, а вот из этого явно выйдет автор захватывающих мемуаров.
Низко над столом висел оранжевый абажур с бахромой, в чашках тонко позвякивали серебряные ложечки, в рюмках золотился коньяк, алел ликер, высокий широкоплечий мужчина – седой ежик, тщательно пробритые брыли, орлиный нос – склонялся под абажуром, подаваясь к Фрине, чтобы в третий раз произнести внушительным негромким голосом: «Свинья!»
Старик рассказывал о казематах Владивостокской крепости, где он, курсант военно-морского училища, ждал своего последнего часа: «Я был семьдесят вторым в расстрельном списке. Вечером пустили в расход семьдесят первого, а наутро нам вдруг объявили, что арестован враг народа Ежов, который сфабриковал все наши дела, и товарищ Берия всех нас освободил… и мы все – а оставалось нас в каземате сорок семь человек – обосрались от радости… обосрались в буквальном смысле… запах честного мужского говна до сих пор ассоциируется у меня со свободой…»
Весной тридцать девятого ему вручили офицерский кортик и направили в Севастополь.
– Когда я увидел это море, этих женщин в белых платьях на набережной, этих осликов в соломенных шляпах, я понял, что это – навсегда… – Адмирал пригубил коньяк, свел седые брови на переносье. – И вдруг эта свинья отдает Крым Украине! Конечно, в Союзе это не имело большого значения, но послевкусие было гадким…
Тридцать с лишним лет он служил на Черноморском флоте, воевал, стал лауреатом Государственной премии СССР «по закрытой тематике», но самым памятным событием в его жизни была встреча с Хрущевым.
Адмирал хорошо помнил вспыльчивого премьера, бумаги, которые тот швырнул в лицо военным, помнил растерянных мужчин в дорогих пальто, ползавших на карачках по пирсу и собиравших секретные документы, и прием в честь высокого гостя на флагманском корабле от имени командующего флотом…
– Я – чумазый воронежский слесаренок из нищей семьи мастеровых, вырос под паровозом, по комсомольской путевке попал на флот, где меня научили блюсти чистоту, говорить по-английски и пользоваться кувертом. Флотский офицер – это же кованый гвоздь бытия! А тут передо мной за столом – глава великой державы, который хряпает водку рюмка за рюмкой, хватает квашеную капусту щепотью, чавкает, рыгает и вытирает руки о скатерть! О скатерть! Свинья… Только свинья может отдать русский Крым Украине, как будто это щепоть квашенины!..
– Повесть, – оценила Фрина адмирала, когда тот ушел, – автобиографическая повесть небольшого объема. Детство, отрочество, юность, казематы, война, никаких глубин и высот… с такой статью он, наверное, был любимцем женщин… но вот уперся в Крым и ничего слышать не хочет…
– Первая любовь, – сказал я. – Из расстрельного списка да в рай земной…
– Крым, наверное, вообще – первая любовь России, но я-то думала о книге…
Тогда я был настоящим провинциалом, никогда не видевшим живьем ни диссидентов, ни монахинь, ни велоэквилибристов, и слушал этих людей разинув рот.
Я упивался размышлениями вслух немолодых экономистов, считавших, что в России незачем изобретать велосипед – достаточно скопировать и внедрить готовые западные модели, чтобы невидимая рука рынка привела нас к лучшей жизни. Западная модель развития была воспринята этими людьми как религиозное учение, тайное знание, позволяющее уничтожать любое знание противников.
У них был рецепт достижения всеобщего счастья – нужно было сделать население нищим, чтобы обесценить рабочую силу, и наши не очень хорошие товары получили бы конкурентоспособность благодаря дешевизне, сконцентрировать ресурсы в руках немногих, чтобы эти немногие могли конкурировать на международном рынке, уничтожить профсоюзы…
– А если начнутся дикие протесты, появятся радикалы?
– А что, у нас нет пулеметов?
Они шутили о новом Светлом граде на Капитолийском холме, иронически называли себя «лакеями небожителей», идеалистами, для которых ценности их общества находятся за пределами их общества, но всякий раз завершали эти шутки фразой: «Иного не дано».
Только что я был свободным человеком, как вдруг меня снова пытались лишить всякого выбора…
Я вспомнил о них через десять лет, когда моя подруга, оставшаяся в девяностых сиротой и прошедшая через ад, как-то сказала: «Понимаю, что такова природа истории, но страшно тяжело не знать, не иметь этого в непосредственном опыте, сознавать, что все, что тогда определило твою жизнь, произошло за тысячи километров от тебя, без твоего участия, согласия, одобрения, даже без понимания. Знать, какую цену ты заплатил, и не знать, за что, – страшнее этого, наверное, нет ничего в жизни…»
Глава 15, в которой говорится о русском трикстере, опасной кукле и загадочном старике с необыкновенно длинными пальцами
9 декабря, в понедельник, раздался звонок, который изменил нашу жизнь.
День этот запомнился потому, что накануне, 8 декабря 1991 года, Борис Ельцин, Геннадий Бурбулис от имени России, Станислав Шушкевич, Вячеслав Кебич от имени Белоруссии, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от имени Украины подписали соглашение о ликвидации СССР.
Это произошло на хуторе Вискули в Беловежской Пуще, недалеко от границы с Польшей, куда, как писали потом в газетах, заговорщики могли сбежать, если бы Горбачев приказал их арестовать за государственную измену.
Об этом у Фрины говорили мало.
Советский Союз к тому времени фактически перестал существовать, поэтому Беловежское соглашение казалось пустой формальностью, еще одной констатацией существующего и постоянно меняющегося положения вещей. А многие радовались унижению ненавистного Горбачева: «Завалили Мишку в Беловежской Пуще».
Помню, тем вечером за столом в гостиной Иван Семенов-Горский, старый диссидент, сидевший при Сталине, Хрущеве, Брежневе и Андропове, сказал примерно следующее:
– Пока Союз был Третьим Римом, на поверхности не было никаких национализмов и сепаратизмов, но как только мы стали превращаться в Лациум, появилось множество Самниумов. Все хотят освободиться от всех. Вот прогоним Горбачева, вот прогоним коммунистов, вот прогоним русских, вот еще кого-нибудь прогоним – и все наладится. Мы читаем Гиббона, Моммзена, Ключевского, Маркса, Троцкого, Бердяева, Федотова, Оруэлла, Замятина и черт знает кого еще, чтобы понять, что нас ждет, откуда все это берется, и не понимаем. А на самом деле все просто. И наши националисты, и наши коммунисты, и наши демократы-либералы – все мечтают о преображении мира посредством чуда. Русский человек склонен к варварскому идеализму – он убежден, что мир лежит во зле, и никакие реформы не помогут победить Антихриста, только Христос в силах избавить нас от его власти и радикально изменить нашу жизнь. Мы не признаем никаких законов, кроме Божьих, никакого суда, кроме Страшного. Мы жаждем чуда, только чуда! Этим религиозным спиртом пропитаны все наши духовные стремления и животные порывы. Прогоним сегодняшнего Антихриста – коммунистов, и все встанет на свои места, сам собой образуется рай на земле, вечное блаженство и все такое… вот потому мы всегда жили и будем жить в обнимку с Антихристом… – Старик усмехнулся. – Впрочем, не привыкать стать. Жизнь в обнимку с Антихристом превратила русского человека в нигилиста, плута, озорника, пройдоху. Наш Иванушка-дурачок давно понял, что у него нет шансов против вавилонской силищи, а потому ловчит, выкручивается, обманывает, прикидывается идиотом, и все с одной целью – чтобы выжить. А жизнь научила никому и ничему не верить и воспринимать эту чудовищную действительность как сон. Не случайно же и в русской литературе тема сна и безумия представлена как ни в какой другой. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Гаршин, Сологуб, Белый, Чехов, Булгаков… Русского человека зовут в светлое будущее, на подвиг, говорят ему о ценностях гуманизма и демократии, и наш Иванушка-дурачок на все согласен, но про себя думает: ведь опять обманут, суки рваные, как всегда обманывали. И делает по-своему. Кланяется, корчит умильные рожи, клянется в преданности, целует господские сапоги, а поступает – по-своему. Это не рабская природа, а инстинкт самосохранения, который научил нас манипулировать реальностью, приспосабливать все и вся для своих нужд – даже ценности и идеи – и не ввязываться в чужие игры… русский народный человек слыхом не слыхали о Гиббоне или Оруэлле, но зато отлично разбирается в повадках злокозненных бесов. Он не задумывается о том, кто прав, а кто нет, его интересует ответ только на один вопрос: кто опаснее?
– Трикстер, – сказала задумчиво Фрина. – Что-то мне подсказывает, что наш плут не пойдет проливать кровь за СССР…
– Выходит, Розанов прав, когда говорит о дурной повторяемости русской истории? – спросил я.
– Дурная повторяемость – это образ, а не факт, литература, а не история, да и Розанов – поэт, а не историк. Не такая уж и повторяемость, не такая уж и дурная… – Старик положил руку на мое плечо и с усмешкой добавил: – А вообще, сынок, Россия – форма вечности, смирись…
Утром в кухню быстрым шагом вошла Алина. Такой возбужденной я видел ее впервые. Кивнув мне, она склонилась к Фрине, что-то прошептала, Фрина сжала губы, и обе тотчас выбежали. Я слышал, как Фрина разговаривала с кем-то по телефону, а потом хлопнула входная дверь.
С горячим кофейником в руках я отправился в Карцер, где и торчал до полудня, пытаясь перенести на бумагу сон, привидевшийся мне в вагоне поезда, который нес меня из Кумского Острога в Москву.
В том сне видел отца, который прошел по дорожке к дому – на нем была белая летняя рубашка – и остановился под открытым окном. Я протянул ему яблоко, он взял, подбросил, поймал, надкусил, сказал: «Кисловато», подмигнул и скрылся за углом. Я проснулся, чувствуя вкус кислого яблока во рту…
Ничего особенного в этой истории не было, но у меня сердце сжималось, когда я думал об этом. Было в этом сновидении что-то бесхитростное и бездонное, как в великой музыке, но я никак не мог поймать ноту, интонацию, а из-за этого пропадал и смысл истории, который надо было выразить словами, и эти неслучайные слова мне не давались…
Допив остывший кофе, почувствовал голод и отправился на поиски съестного.
Обычно утром и в полдень в кухне торчала Алина, а вечерами она иногда и ужинала с нами, но сейчас ни Алины, ни Фрины не было. Они исчезли, ничего мне не сказав, даже записочки не оставили.
В холодильнике было полно еды, но я решил перекусить в городе, а заодно и размяться.
У входа на станцию «Охотный Ряд» я съел у ларька несколько горячих пирожков и выпил пива.
Если я чего и боялся, так это расстройства кишечника из-за уличной еды: туалет поблизости я знал только один – «кремлевский», между Никольской и Арсенальной башнями, но туда всегда стояли огромные очереди, а платных тогда еще, кажется, не было.
Однако ничего страшного не случилось, и я, обрадованный, спустился в метро, перешел на «Площадь Революции», кивнул бронзовой Ниночке и сел в поезд.
Через полчаса вышел на «Щелковской».
Было холодно, серо, сбоку от входа в метро двое раскрасневшихся мужиков в солдатских майках азартно рубили топорами на асфальте багровую свиную тушу, облепленную газетами. За ними угрюмо наблюдали десятка полтора покупателей.
Рослые сытые наперсточники зазывали клиентов, выглядывая поверх толпы милиционеров и постукивая стаканчиками по складным столам.
Между ржавыми ларьками курили на корточках проститутки с посиневшими от холода красивыми коленками, кутавшиеся в крашеные перья.
Какой-то парень с опухшим лицом спросил меня: «Одним будешь?»
У нас в Кумском Остроге алкголики обычно в таких случаях спрашивали: «Третьим будешь?»
Я отказался, потрясенный его запахом – изо рта у парня разило трупной гнилью, и бегом вернулся в метро.
Напротив в вагоне устроился немолодой мужчина в берете, который был приклеен к его лысине пластырем. Он поднял синие фильтры над очками, развернул толстую книгу с черепом и эсэсовскими рунами на обложке и углубился в чтение.
На «Электрозаводской» он вышел – я успел разглядеть имя автора на обложке толстой книги, выведенное острым готическим шрифтом: «Франц Кафка».
Весь день я катался в метро, пересаживаясь с линии на линию. Бродил по лабиринтам «Киевской», глазел на потолочные мозаики «Новокузнецкой», дремал на «Театральной», толкался в толпе, таращился на попрошаек, бросал деньги маленькой скрипачке, наблюдал за карманниками, выходил на улицу, чтобы покурить, снова возвращался в теплое чрево подземелья, и только вечером вернулся домой…
Поднимаясь по лестнице, чувствовал себя таким усталым, что мне уже было все равно, почему Фрина исчезла без объяснений, оставив меня в одиночестве.
Но когда я толкнул входную дверь и увидел Фрину, в голове у меня будто что-то взорвалось: такой я ее еще ни разу не видел.
На ней было облегающее темно-алое платье с довольно глубоким декольте, бриллиантовое колье, серьги с каплевидными подвесками и туфли на очень высоких каблуках. Волосы она покрасила, превратившись в брюнетку, и пахло от нее чем-то тонко-сладким и головокружительно терпким…
Освещенное яркими лампами лицо ее казалось чужим – так тщательно оно было обработано: брови выровнены, глаза подведены, губы напомажены, а персиковая кожа, кажется, еще и отполирована. Глаза сверкали, словно она закапала в них атропин, как это делали перед танцульками мои провинциальные сверстницы.
Она стояла посреди прихожей, чуть расставив ноги и уперев руки в бока.
Более красивой и опасной куклы я в жизни не видал.
– Я волновалась, – быстро проговорила она задыхающимся низким голосом. – Ждала звонка, но ты так и не позвонил…
– Но я… а ты-то…
– Боже! – Она вдруг хлопнула себя ладонью по лбу. – Да ты ведь не знаешь номера моего телефона! Не знаешь?
– Ну да, – сказал я, – откуда б?
И мы захохотали.
В прихожую заглянула Алина – ее преображение поразило меня, кажется, даже сильнее, чем новый образ Фрины. На Алине была длинная юбка, что-то вроде короткого бархатного черного пиджака с широкими плечами, белая шелковая блузка с вырезом, в нежной глубине которого мерцал красный камень.
– Что у нас сегодня? – спросил я. – Да выкладывайте же, ведьмы!
Но не успели они ответить, как внизу щелкнул дверной замок и раздался скрип.
Ступеньки обеих лестниц, белой и черной, никогда не издавали звуков, а сейчас они громко скрипели.
Этот скрип был размеренным, в такт шагам, и он медленно поднимался к нам.
– Да кто там – Кощей Бессмертный? – давясь смехом, шепотом спросил я. – Или Баба-яга?
Алина усмехнулась, Фрина погрозила пальцем.
Первым вошел рослый старик в темном ратиновом пальто, какие носили высокопоставленные партийные функционеры, и в фетровой шляпе, которую он придерживал узкой рукой в перчатке, а за ним – доктор Лифельд в клетчатой ворсистой кепке.
Борис Лифельд был кем-то вроде лейб-врача Фрины. Облаченный всегда в серый костюм-тройку, при галстучке, с красивым платком в нагрудном кармане, круглоголовый, с брюшком, толстогубый, невозмутимый, он появлялся у нас часто и сразу проходил в кухню, чтобы перекусить, и с таким удовольствием, с такими веселыми ужимками, причмокиваниями и стонами выпивал рюмку холодной водки, а потом поглощал огромные бутерброды с бужениной, вяленым мясом или лососиной, что у меня слюнки текли и лицо невольно расплывалось в улыбке.
Но сейчас он был серьезен, держась позади старика в почтительном полупоклоне.
– Анна Федоровна… – Старик снял шляпу и наклонил узкую голову с огромными ушами. – Алина…
– Здравствуйте, Казимир Андреевич, – сказала Фрина, не трогаясь с места.
– Позвольте, Казимир Андреевич… – Лифа взял у старика шляпу. – И это…
Старик ловким движением плеч сбросил пальто на руки Лифе, провел ладонью по лысине и вышел на середину прихожей.
Гологоловый, широкоплечий, двухметрового роста, с огромным носом, выбритый до кости, как выражался мой дед, он внимательно посмотрел на меня и протянул руку с невероятно длинными пальцами.
– Пиль, – сказал он, крепко пожимая мою руку и обнажая в улыбке острые желтые зубы. – Казимир Андреевич Пиль.
– Игруев, – сказал я.
– Стален Станиславович Игруев, – сказала Фрина, – мой друг, писатель.
– Друг… вы должны дорожить такой подругой, – сказал Пиль, по-прежнему улыбаясь. – Анна Федоровна – настоящее чудо человеческой природы, дорогой Стален Станиславович. Monstruo de la naturaleza, если вы понимаете, о чем я…
Фрина отступила в сторону, пропуская старика в гостиную, и прошептала:
– Быстро переодевайся и за стол!
Пиль широким шагом прошел в гостиную, и суставы его не скрипели. Тогда откуда же взялся этот жутковатый звук, поднимавшийся по черной лестнице? Чертовщина какая-то! Или мы все стали жертвами слуховой галлюцинации? Тряхнув головой, я бросился в Карцер.
За три с лишним месяца Фрина полностью меня переодела.
В Кумском Остроге за моим гардеробом следила Жанна. У нее были надежные связи в торговле военной, государственной и кооперативной, поэтому я был одет, как считалось, хорошо: югославская обувь, румынские перчатки, американские джинсы с watch pocket… рубашки, куртки, трусы, носки – все было лучшего качества, все было made in Ne Nasha.
Фрина, казалось, не обращала внимания на мои поношенные ботинки и куртку с обтерханными обшлагами, однако в первый же день, когда я вышел из душевой, на кушетке меня ждали новые трусы, носки, рубашка и туфли. Вещи были сделаны просто, добротно и сидели на мне идеально.
На этот раз Фрина приготовила для меня темно-синий костюм со светло-серым жилетом и галстуком в тонкую полоску. Мне показалось, что в этом одеянии я стал похож на оксбриджского студента-старшекурсника из состоятельной семьи.
Пригладив редеющие волосы, я вступил в ярко освещенную гостиную в тот момент, когда Лифа разливал по рюмкам водку. Фрина глазами указала мне место рядом с Алиной.
– За ваши, Стален Станиславович, успехи на литературном поприще, – проговорил Пиль, поднимая рюмку и церемонно наклоняя голову. – Качество книги – это вопрос поцелованности, но поверьте, поцелуй Анны Федоровны стоит не меньше…
Я попытался улыбнуться, а Фрина осталась невозмутимой.
Выпив, Пиль отправил в рот ложку черной икры, затем кусочек сливочного масла и дольку свежего огурца.
Пил и ел он с удовольствием, пофыркивая в нос, а если собирался заговорить, прикладывал к уголку рта салфетку артистическим жестом.
– Мы тут с Казимиром Андреевичем слегка подискутировали о духе нынешнего времени, – сказал Лифа, обращаясь ко мне. – Я считаю, что наступает время без идеологий, как говорится, чтоб земля отдохнула. Если проводить аналогии, то это время можно сравнить с эпохой беспредметной живописи, которая помогла очистить живописный язык… а Казимир Андреевич не согласен…
– И Казимир Андреевич прав, – сказала вдруг Алина.
Все с удивлением уставились на нее, а Алина продолжала:
– Полная безыдейность – а она действительно надвигается – почти равнозначна отказу от человеческой природы. Во всяком случае, отказу от европейской идеи человека. То есть от веры в то, что жизнь должна быть устроена разумно и справедливо. Оден своеобразно выразил это в вопросе про Гитлера и Сталина: «Why was I sure they were wrong?» Сохранение и развитие европейского проекта неотделимо от «дурного всевластия идеологий», как называет это наш дорогой Лифа. Боюсь, что безыдейность как раз вполне благополучно уживается с идеологией, потому что принимает идеологическое представление об идее. Вскоре после войны Ян Паточка написал замечательный текст «Идеология и жизнь в идее», в котором провел различие между жизнью в идее и идеологией. Жизнь в идее – это нахождение внутри идеи, то, что человек может сказать самому себе, а идеология – это, по его мнению, овеществление идеи, увиденной как будто извне, то есть то, что можно сказать другому. Позднее Паточка выдвинул концепцию «негативного платонизма», предполагающую продолжение европейского метафизического проекта с учетом опыта всевластия идеологий. Он считал, что в его основе – сократовская «забота о душе». В негативном платонизме идеи воспринимаются как бесконечные задачи с постоянно обновляющимся смыслом, увиденные только изнутри, никогда как объект или формула. Мне кажется, что пустыня ширится вокруг партии, Церкви, литературы вообще пропорционально их нежеланию жить в идее, их стремлению все свести к идеологии. Сегодняшний мир – такой, как есть – дело их рук, и они ответственны за его состояние. И эта ответственность должна выражаться не в объективированном, формульном слове, обращенном к другим, а в попытке обнаружить для себя потерянный миром смысл. Для себя. И мир сможет это воспринять каким-то непрямым образом, как уже воплощенную реальность…
– Да, – сказал Пиль, прикладывая к губам салфетку, – пока партия горела внутренним огнем, пока большевики сами в этом огне сгорали, мы были непобедимой силой… мы были настоящими пастырями бытия…
– А потом стали господами всего сущего и принялись сжигать других, – сказала Алина бесстрастным тоном.
– ГУЛАГ и массовые расстрелы – это гнев праведников, – сказал Пиль. – Последняя вспышка гнева… но вывод-то из всего того, что вы сказали, дорогая Алина, прост: смерть идеологий – это смерть человеческой природы… ну а если опять вернуться к нам, то большевики заслуживают исторического снисхождения хотя бы потому, что осмелились взять на себя грех власти… – Помолчал. – Ну и, конечно, проблема в том, что революционный дух, революционные идеи не наследуются. Наверное, такого наследования просто не может быть в природе… но ведь тогда казалось, что и сама природа будет изменена…
Как ни удивила меня светлая всадница, превратившаяся вдруг из молчаливой и меланхоличной особы в интеллектуалку, все мои мысли были заняты гологоловым стариком со странной фамилией.
Ни один из гостей, приходивших в последнее время в этот дом, не вызывал такого переполоха, как этот Пиль. Судя по ратиновому пальто, по манере держаться и некоторым обмолвкам, он был высокопоставленным функционером. Но у нас бывали и адмиралы, и генералы, и разведчики-нелегалы, и известные артисты, и академики, и люди, когда-то близкие к Сталину и Брежневу, и всех их Фрина встречала одинаково любезно, без волнения, а Алина помалкивала за столом, иногда с трудом удерживаясь от зевоты. А тут это загадочное молчание, эти чудеса переодевания, этот наэлектризованный воздух…
– Интересный у вас перстень, Казимир Андреевич, – сказал я. – Что это за камень такой?
– Это не камень, мой дорогой друг, – неторопливо и с удовольствием ответил Пиль, выпустив дым через ноздри и приятно чмокнув. – Это кость. Кость Сталина. Кусочек берцовой кости. Мне показалось забавным и полезным иметь при себе такой артефакт. Можно даже сказать, что я всегда был подвержен католической страсти к мелким священным вещицам…
И широко улыбнулся, показав острые желтые зубы.
– Прекрасно, – сказала Фрина, вставая. – У нас с Казимиром Андреевичем важное дело… – Заметив мое движение, свела брови на переносье. – Помоги, пожалуйста, Алине убрать тут все… спокойной ночи…
И взяв под руку старика, вышла из гостиной, высоко держа голову и громко стуча каблуками по паркету. Доктор Лифельд бросился за ними.
Глава 16, в которой говорится о глаголе «тетрадь», розовых зубах и подмене Воплощения Обожествлением
Стиснув зубы, я снял пиджак и принялся за работу.
Убравшись в гостиной и молча перемыв посуду, мы выключили верхний свет в кухне и сели за стол у торшера, чтобы выпить на сон грядущий.
– Я постелю тебе у тебя, – сказала Алина. – Вино? Коньяк?
– Что происходит, а? – с возмущением и обидой спросил я. – Кто он такой, черт возьми, этот Пиль? Это его настоящая фамилия? Пиль! Так ведь когда-то помещики на охоте собак науськивали: «Пиль, Молния! Пиль, Разбой! Взять!» Пиль – взять. По-французски это, кажется, хватать, грабить…
– Могущественный человек, – ответила Алина, разливая коньяк по чайным стаканам. – Больше я ничего не знаю. И эта встреча чрезвычайно важна для нее.
– А между ними – что? Они…
– Нет, – спокойно и твердо сказала Алина. – Это не то, что ты подумал.
– У меня, конечно, ни морали, ни убеждений – одни нервы, но…
Алина мягко улыбнулась.
– Потерпи.
Я закурил, не спрашивая разрешения.
Алина молча открыла форточку.
– Ему ее не одолеть, – сказала она. – Вот что ты должен понимать. Она умнее и сильнее, чем всем кажется. И хватит об этом…
– Ты говоришь загадками…
– Лучше расскажи, как ты начал писать. Я не спрашиваю, почему ты решил стать писателем, потому что это понятно: «услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Но когда ты начал писать? То есть именно сочинять то, что ты сочиняешь, а не просто… ну ты понимаешь…
– Похоже, ты читала то, что я сочиняю…
– Прости, это получилось нечаянно.
Я хотел спросить небрежным тоном: «Ну и как тебе?», но она опередила меня:
– Всякий раз, начиная твой новый рассказ, чувствую себя так, словно на костылях перебегаю железнодорожный переезд с мигающим сигналом. Шансов, что поезд меня не собьет насмерть, очень мало, но не бежать нельзя.
У меня все похолодело внутри.
Боже мой, подумал я.
Боже мой, подумал я с дрожью.
Боже мой, думал я, весь вибрируя, словно сам бог литературы сказал мне невыразительным голосом Алины: «Годен».
Но не бежать нельзя.
И до сих пор я считаю, что это лучший отзыв о моих рассказах.
– Так когда ты начал?
– Наверное, когда решил, что слово «тетрадь» – глагол… лет в пять или шесть среди подарков на мой день рождения оказалась ученическая тетрадь. Я не знал, что это такое, не знал, как это называется, хотя и видел, что в этих штуках взрослые пишут. Так бывает – не знал слова. Или слово знал, а значения не знал. Ну вот знал слово «марля», оно мне так понравилось, что я все хорошее называл марлей… собаку марлей называл, мармелад… Ну, в общем, спросил у матери, что это, и она ответила: «Тетрадь». Я воспринял это существительное как глагол в повелительном наклонении… сядь на место, гладь кота, тетрадь слова…
– И стал тетрадить… давай-ка я тебе постелю…
Пока она стелила в Карцере постель, я курил, сидя на корточках в углу перед печкой.
– Вообще-то, – сказал я, – началось все, наверное, не с тетради. С фразы, которую я однажды написал на маленьком листке бумаги. Это была простая фраза: «Я не виноват». Но она была неполна, и я дописал: «В этом». Получилось так: «Я не виноват в этом». Однако это было вранье, и тогда я зачеркнул фразу и написал иначе: «Я виноват в этом». Но и это была не вся правда, поэтому я зачеркнул и эту фразу… надо было объяснить, написать предысторию появления этой фразы… ну не предысторию, а что-то вроде… ты понимаешь… так и пошло… и до сих пор пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю… пытаюсь приблизиться к этой чертовой правде, но в последний миг нервы не выдерживают… в общем, то виляю и прячусь, как Шекспир, то прибегаю к речи простой и точной, как Данте…
– А за этой фразой «я не виноват в этом» стояло что-то реальное и личное?
– Что-то стояло…
– Ну как хочешь, – сказала Алина. – Выключи свет, пожалуйста.
Выключив свет, я сел на край дивана.
В темноте слышались шорохи, пахло потом, тьма двигалась, и из тьмы, запахов и звуков рождалось нагое тело, становясь все больше и ближе, обдавая меня терпким запахом тяжелых духов.
Я коснулся рукой живота Алины, которая подошла вплотную.
– Подвинься, – прошептала она.
Обида на Фрину, алкоголь, темнота, доступность – перечень причин для секса с Алиной был коротким, но вполне достаточным.
Когда она подняла и развела в стороны гигантские бедра, ее суставы громко заскрипели, словно весла в ржавых уключинах.
Все стало вязким, мутным, неопределенным, недосказанным, двусмысленным, мучительным.
По утрам я пытался работать, но дело шло плохо. Чтение тоже перестало радовать: Набоков казался жеманным, Берберова – поверхностной и глупой, Мережковский – претенциозным, Бунин – истеричным…
Пиль бывал у нас почти каждый день.
Я старался не встречаться с ним за обедом, а ужинал в Карцере.
Казалось, ткань жизни рвалась, расползалась, вокруг меня ширилась пустота, и я не мог с этим ничего поделать. А может быть, и не хотел. Все чаще ловил себя на том, что мне интересно, чем завершится эта история, и только это аморальное любопытство – любопытство безмозглых чудовищ – заставляло меня принимать по утрам душ и чистить зубы.
22 декабря, когда в Грузии началось вооруженное восстание во главе с кинокритиком Джабой Иоселиани и скульптором-модернистом Тенгизом Китовани, которые вскоре свергли шекспироведа Звиада Гамсахурдия, президента республики, я проснулся с твердым намерением раз и навсегда покончить с «этой мутью».
Сбрил рыжие клочья, отросшие на щеках и подбородке, подстриг ногти, сбрызнулся одеколоном, надел твидовый пиджак и вышел в гостиную.
– Добрый вечер, друг мой, – сказал Казимир Андреевич, привставая и приветливо кивая, – кажется, период творческого затворничества завершился. Смею надеяться, результативно…
Фрина вздохнула с облегчением, Алина тотчас поставила передо мной тарелку, Лифа наполнил мою рюмку, и я предложил тост за этот гостеприимный дом, где прошлое встречается с будущим, где все прощены и никто не проклят и где, наконец, так замечательно готовят заливное из говяжьего языка…
Пиль поднял бровь, сдержанно улыбнулся, выпил и стал рассказывать о подмосковных дачах высшей номенклатуры:
– Столы, стулья, с потолка свисали лампочки без абажуров – скромно, строго, по-спартански… Но после смерти Сталина и Берии все изменилось: появились роскошные кожаные диваны, ковры, хрустальные люстры… началось расточительство и обжорство – настоящее обуржуазивание и омещанивание… дух уходил – оставались только идеи…
Я поднял рюмку.
– За дух, который пересиливает любые идеи!
– С удовольствием выпью с вами, – сказал Пиль вкрадчивым тоном, – но у вас, Стален Станиславович, рюмка пустая, а это, видите ли, плохая примета…
И осклабился.
Прощаясь, Пиль пригласил меня на прогулку:
– Завтра мы хотели бы съездить в Загорск…
– В Сергиев Посад, – поправила его Фрина. – В Троицу.
– С удовольствием, – сказал я. – Знаете, меня ведь крестили, но мне никогда не было близко все это христианское бабство, женское ожидание мужа, жениха и все связанные с этим чувства. А учение о Воплощении вообще разрушает христианство. Бог не может и не должен воплощаться ни в человека, ни в медузу, ни в число, потому что Бог – это весь мир, а не подчиненная, ограниченная и бессильная часть его. Ведь Он всемогущ, всезнающ и вездесущ… Христос сам уничтожил христианство, простив блудницу и призвав к прощению врагов: так и возникла относительность морали, релятивизм, вседозволенность, самоубийственный гуманизм, рабское преклонение перед свободой, фашизм наконец. Христианство подписало себе смертный приговор, как только смирилось с существованием других религий. А тут еще экуменизм…
– Интересно, – вежливо сказал Пиль. – Признаться, не ожидал встретить атеиста в лице творческого человека…
– Но я не атеист, скорее агностик…
– И замечательно! – сказал он, протягивая руку. – Значит, до завтра.
На душе стало гадко, словно я сморозил глупость.
Тем вечером Алина тихо постояла перед запертой дверью в Карцер и ушла, а утром я слышал, как дышала за дверью Фрина, но лежал не шелохнувшись, с улыбкой глядя в потолок.
Я чувствовал себя легким, веселым, злым, ничейным.
Иногда полнота счастья неотличима от полноты мерзости.
На следующий день, когда мы гуляли по Сергиевой лавре, я спросил его, как он поступал, когда надо было голосовать за решение, которое ему не нравилось:
– Бывало же такое, что внутренне вы были против, но приходилось голосовать за…
– Бывало, – ответил он. – В таком случае я голосовал левой рукой.
– Ого! – От неожиданности я захохотал. – Просто здорово!
– Врете ведь, Пиль, – сказала Фрина с ленивой усмешкой.
– Скорее – интересничаю, – возразил он с невозмутимым видом. – Разумеется, Стален Станиславович, голосовал я всегда правой рукой, причем без колебаний и раздумий.
Сейчас, четверть века спустя, я думаю, что оба его ответа, лживый и правдивый, говорят о гомо советикус – в том числе о шестидесятниках-семидесятниках – больше, чем многие научные исследования о той эпохе.
– А вон где-то там, – сказала Фрина, показывая рукой на старинное двухэтажное здание, от которого нас отделяла ограда, – похоронен мой дед. Он был профессором Духовной академии… преподавал естественно-научную апологетику, дружил с Флоренским, ходил в обносках, жалованье раздавал нищим и пьяницам… и похоронили его в самом скромном гробу… а в восемнадцатом кладбище уничтожили… папа говорил, что у деда были розовые зубы…
– Это резорцин-формальдегидная паста, которую использовали при пломбировании зубов, – сказал Пиль. – Эта паста окрашивала зубы в розовый цвет.
На обратном пути мы обсуждали статьи Георгия Федотова о специфике русского понимания свободы, а потом зашла речь о западном и русском христианстве.
– Мне кажется, – сказал Пиль, – американцы в большей степени остались верны духу христианства, чем русские. Американец считает, что надо измениться самому, чтобы изменить систему, а мы предпочитаем изменить систему, лишь бы не меняться…
– Вы, конечно, утрируете, Казимир Андреевич, – сказал я.
– Скорее – пытаюсь быть доходчивым, – мягко возразил он. – Излагать ясно, точно, сжато – разве это не первая заповедь беллетриста?
Еще из того вечера запомнился разговор о Сталине – такие разговоры тогда возникали часто без повода и почти на каждом шагу.
– Достоинства и недостатки Сталина – это достоинства и недостатки двадцатого века, полученные в наследство от века девятнадцатого, – сказал Пиль. – Об этом довольно точно сказано у Элиота: «Подмена Воплощения Обожествлением, идеей о том, что, реализуя заложенные в нем возможности, человек сам становится Богом, с неизбежностью ведет от преклонения перед героями к преклонению перед диктатурой». Впрочем, это скорее про общество, про дух времени, чем про самого Сталина. А так-то, конечно, он был типичным интеллигентом того времени, пораженным язвой справедливости… из тех семинаристов, о которых старец Варсонофий Оптинский писал: «Революция в России произошла из семинарии. Семинаристу странно, непонятно пойти в церковь одному, встать в сторонке, поплакать, умилиться, ему это дико. С гимназистом такая вещь возможна, но не с семинаристом. Буква убивает». Сталин лучше многих понимал букву, а дух времени чувствовал лучше всех… мне кажется, его дух и дух времени были одной природы…
После нескольких встреч я попытался собрать черты и речи гологолового в целостный образ, но безуспешно. Он не был многоликим Протеем – он был юродивым, нечитабельным персонажем, как шут, бес или животное.
Гологоловый играл, играл, играл и не собирался останавливаться.
Похоже, игра была не первой или второй его натурой, а единственной.
Все как было, так и осталось вязким, мутным, неопределенным, недосказанным, двусмысленным, мучительным, потому что я не понимал главного – зачем Пилю Фрина, а ей – он? Что их связывало? И какую, черт возьми, роль в этой таинственной истории играл доктор Лифельд? Всякий раз, когда Фрина и Пиль уединялись, чтобы заняться «важным делом», третьим в их компании был Лифа.
А уединялись они все чаще, иногда даже не выходили к ужину.
Глава 17, в которой говорится о слесарном молотке, восьмикилограммовой гантеле и несвоевременном расстройстве кишечника
Сегодня я просматривал в интернет-архивах газеты четвертьвековой давности, пытаясь вспомнить, когда же, в какой именно день умер Пиль.
Похоже, это случилось 2 февраля 1992 года, в воскресенье.
Именно в тот день во время дебатов в Верховном Совете Егора Гайдара назвали политэкономом из кулинарного техникума. А еще газеты писали о визите Ельцина в США, где была подписана декларация об окончании холодной войны; об одиннадцати тысячах российских рабочих, которые получили официальное право стать гастарбайтерами в Германии; о войне в Нагорном Карабахе и Югославии; о возможности отмены хрущевского указа 1954 года о передаче Крыма Украине; о бегстве российских немцев из России; о московском искусствоведе, который в пять утра покупал молоко в магазине, чтобы через час продать его на рынке втрое дороже; о стремительной люмпенизации населения…
В моей памяти, однако, остался только долгий пустой день, проведенный в Карцере за пишущей машинкой.
Я перечитывал старые рассказы, обдумывал сюжеты новых, долго спал после обеда, пил чай в одиночестве, листал подшивку то ли «New-Yorker», то ли «Times Literary Supplement» за шестьдесят какой-то год, безуспешно пытался насладиться сигарой, обнаруженной в ящике кухонного стола, рано лег в постель, был разбужен Алиной, потом мы долго лежали в сладком тупом оцепенении, пока в дверь не постучал Лифа…
Он был в белой рубашке с закатанными рукавами, забрызганной чем-то черным.
Наскоро одевшись, мы прошли за ним в спальню Фрины.
Лифа отодвинул створку ширмы, пригнулся и шагнул в открытую дверь, о которой я и не подозревал.
Мы последовали за ним – вниз по лестнице, закручивавшейся влево, и оказались в огромной комнате, посреди которой на полу лежал голый Пиль. Скомканная простыня прикрывала его пах.
Я не мог отвести взгляда от его необыкновенно длинных пальцев на ногах и круглых желтых пяток.
Лифа присел на корточки и расправил простыню так, чтобы она скрывала все тело.
И только тогда я взглянул на Фрину.
Она сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и курила, стряхивая пепел на ковер и глядя сквозь нас.
На столике рядом с креслом поблескивали какие-то ампулы, шприцы, пузырьки, пинцет, валялись клочья ваты, бинты, желтые резиновые трубки…
Я опустил взгляд и вздрогнул – на полу сбоку от кресла лежал молоток.
Это был обыкновенный слесарный молоток – с захватанной деревянной рукояткой и небольшим массивным бойком. Такие молотки были, наверное, почти в каждой семье. Такой был у отца, загонявшего в бетон гвозди, чтобы повесить на стену репродукцию «Трех богатырей», переезжавшую с Дальнего Востока в Прибалтику, из Ташкента в Кумский Острог. В последние годы она висела в родительской спальне, и именно под ней отец и умер…
Но сейчас обычный молоток – этот молоток показался мне неуместным в роскошных покоях, как опасное и уродливое насекомое среди драгоценностей.
– Стален! – услышал я голос Алины. – Ты меня слышишь, Стален?
– Слышу, – сказал я, едва ворочая пересохшим языком. – Слышу, конечно…
Студентом-медиком я успел насмотреться на трупы в моргах, но вид голого Пиля шибанул по мозгам.
– Ты сейчас быстро оденешься и уйдешь, – продолжала Алина. – Придется погулять до утра… может, больше… мелочь есть? Позвони из автомата часов в восемь-девять… – Она наклонилась к Лифе, который что-то прошептал ей на ухо. – Да, и еще. Ты должен вынести отсюда кое-что… вынести и выбросить… но не в наш мусорный контейнер, лучше – утопить в реке… ну где-нибудь у Большого Каменного моста – это рядом… только не бросай с моста – опусти в прорубь, что ли… сейчас найдем какой-нибудь чемодан…
– Рюкзак, – сказала Фрина обыденным тоном, не меняя позы. – Если кто-нибудь увидит, как он бросает в воду чемодан, это вызовет подозрение… да и на улице с чемоданом среди ночи – тоже подозрительно… у нас ведь был рюкзак?
– Сейчас принесу, – сказала Алина.
– Постойте-ка, – сказал Лифа. – А там есть спуски к воде?
– Есть там спуски? – спросила Фрина, глядя на Алину.
– Кажется, на Кремлевской набережной нет, – сказала Алина.
– А на другом берегу?
– Не помню… – Алина повернулась ко мне. – Придумай что-нибудь…
– Номер, – сказала Фрина. – Он же не знает номера моего телефона! И положите в рюкзак какую-нибудь тяжесть, чтобы наверняка утонул!
Быстро поднявшись в Карцер, я оделся потеплее, взял карту Москвы, деньги, часть купюр сунул за голенища сапог, перелил коньяк из бутылки во фляжку, прихватил две пачки сигарет и бросился вниз.
Доктор Лифельд помог мне надеть рюкзак, в который положили восьмикилограммовую гантелю, Алина сунула бумажку с номером телефона, открыла дверь, посторонилась, и я, наклонив голову, словно перед прыжком в воду, вышел во двор, напугав крыс, которые возились в мусорном контейнере…
Сверившись с картой Москвы, я бросился к станции «Кропоткинская», чтобы от нее спуститься к набережной, добраться до Крымского моста и попасть в парк Горького, где можно было без проблем выбросить рюкзак в воду. В конце сентября мы гуляли там с Фриной – вспомнилось, что поверхность реки лежала почти вровень с парковой набережной.
Редкие фонари, тускло освещенные витрины магазинов, бомбила на ржавой «копейке», прохожий в пальто с поднятым воротником – ночная Москва тех лет была городом черным, пустынным, неуютным.
Я не знал, что у меня в рюкзаке, кроме восьмикилограммовой гантели, не знал, как это связано со смертью Пиля и связано ли. Возможно, Фрине хотелось избавить меня от встречи с милицией, а остальное было для отвода глаз, чтобы я думал, будто в рюкзаке действительно что-то важное. Но, может быть, там и впрямь какие-то вещи, которые могли бы навести милицию на след… на какой след, черт возьми?
Я вспомнил длинное костлявое тело на ковре, полуприкрытое простыней, круглые желтые пятки, необыкновенно длинные пальцы – и поежился.
А этот слесарный молоток – как он оказался в той комнате?
Я мысленно взвесил молоток в руке, и меня захлестнула волна ужаса.
Господи, неужели они его убили? Они – это кто? Фрина? Алина? Лифа? Почему? Или, может, все-таки его смерть была естественной, но скончался он не там? Как муж Розы Ильдаровны, который умер в постели любовницы, опозорив жену на весь город…
Кропоткинская набережная была пустынна.
Москва-река была покрыта битым льдом.
Впереди показался Крымский мост.
Я остановился у парапета, поднял воротник куртки, отхлебнул из фляжки, закурил, сунул руки в карманы и не торопясь двинулся к мосту.
От волнения и коньяка на мосту у меня скрутило кишки.
Спустившись на берег, прибавил ходу, чтобы поскорее добраться до ближайших кустов. Вокруг не было ни души. Сняв рюкзак, расстегнул брюки, достал носовой платок, присел, зажмурился от острой боли в животе, которая, впрочем, через минуту прошла. Вытер носовым платком пот со лба, потом этим же платком подтерся, застегнулся, протянул руку к рюкзаку – рюкзака не было. Чиркнул спичкой, полез в кусты, обошел все кругом, набрал в сапоги снега, но рюкзака не обнаружил.
Никого и ничего.
Мне доверили важное дело, причем простое дело, а я его провалил. Надо было всего-то навсего утопить это дурацкий рюкзак в реке, не вызвав подозрений у прохожих и милиции, и я с этим не справился. Рюкзак находился в метре от меня, когда я тужился в кустах. Ни звука шагов, ни треска веток, ничего – я не слышал ничего подозрительного. А рюкзак исчез. Исчез сам собой. Вот так я и скажу Фрине, когда вернусь домой: «Рюкзак исчез сам собой». Потом соберу манатки и уйду из ее дома не оглядываясь, как последний мудак, как человек, который подвел женщину в трудную минуту и не может ничего сказать в свое оправдание.
Господи, да лучше б я обосрался в прямом смысле слова, а не в переносном.
Вот он был тут, этот чертов рюкзак, а через несколько минут – его уже нет.
Мистика.
Что там, черт возьми, в этом рюкзаке было? Документы? Шприцы и грязные бинты? Молоток?
Молоток! Молоток…
При мысли о молотке меня прошиб горячий пот.
Я снова зажег спичку и полез в кусты.
Шаг за шагом обследовал заросли, проваливаясь в снег, чиркая спичками, вытирая пот, опускаясь иногда на четвереньки, исходил там все вдоль и поперек, пока не осталось ни одного пятачка земли, где не осталось бы моего следа.
Рюкзака не было.
Исчез.
Пропал вместе с тайной и восьмикилограммовой гантелей.
Я вышел на берег, допил коньяк и посмотрел вверх – надо мною во всю необъятную ширь русского ночного неба клубился и дрожал мрак, в глубинах которого тускло мерцал зловещий багровый огонь.
Мирооставленность – вот что я почувствовал тогда.
Я был брошен миром на обочине жизни, в пустыне, на берегу черной реки, покрытой серым битым льдом, на грязном снегу, возле кустов, где остывало мое говно.
Опустошенный, смиренный, озябший, я поплелся к мосту.
Свернув с Волхонки на улицу Фрунзе, я услышал шаги. Точнее, шаги я слышал и раньше, но только на Фрунзе до меня дошло, что меня снова пасут стеклянные ботинки. И когда я это понял, мне вдруг стало легче. Может быть, не все так плохо, как я думал? Может быть, со смертью Пиля разобрался кто надо, признал ее естественной и закрыл тему? Может быть, и на исчезновение рюкзака уже всем плевать? Ведь если бы все было иначе, стеклянные ботинки не следовали бы за мной, словно этой ночью ничего не произошло…
Я придержал шаг – меня обогнал молодой мужчина в темной куртке и начищенных до блеска ботинках, да, тот самый, хотя лицо его я никак не мог запомнить. Хотелось догнать его, попросить огонька, поблагодарить за службу, спросить, как пройти на Тверскую, признаться в любви к Боратынскому, пожать руку, обнять, вдохнуть запах его «Шипра», что угодно, лишь бы услышать его голос – голос живого человека, само существование которого свидетельствовало о неизменности моей жизни, но он исчез в темноте, и я побрел к Моховой…
Улица Маркса и Энгельса, Станиславского, Станкевича, Неждановой, Белинского, Семашко, Нижний Кисловский переулок, Средний Кисловский, Собиновский, Калашный, Янышева – кажется, я обошел той ночью все улочки и переулки между Манежной и Пушкинской, пока, наконец, не осмелился позвонить Фрине.
Трубку взяла Алина.
– Все в порядке, – сказала она, едва услышав мой голос. – Ждем.
Фрина сидела в том же кресле, лицо ее напоминало маску. Она была в свитере и джинсах, курила, на столике перед ней стояли чашки, окружавшие кофейник.
В комнате не было ничего, что напоминало бы о теле, которое несколько часов назад лежало посреди этой комнаты.
– Выпить хочешь? – спросила она.
– Кофе, – сказал я. – Без сахара.
Опустившись в кресло напротив, я глотнул кофе и стал рассказывать о рюкзаке. Рассказал все, не утаив ни одной постыдной детали, даже о стеклянных ботинках рассказал, даже о том, как обосрался, рассказал…
– Все хорошо, – сказала она без всякого выражения в голосе. – Ты сделал все, что мог. У тебя есть вопросы – задавай. Теперь я готова ответить.
– Молоток, – сказал я, опустив глаза и поднося чашку к губам. – Я хочу знать про молоток…
– Казимир Пиль – это человек, который убил моего отца, – ответила Фрина. – На допросе он бил его молотком, пока папа не умер. Это было пятьдесят три года назад. – Вздохнула. – На самом деле это, конечно, не ответ. Не весь ответ. Но чтобы рассказать все, понадобится много времени…
– Хорошо, – сказал я, снова прикладываясь к чашке, – я весь внимание…
Сделал третий глоток и заснул.
Глава 18, в которой говорится о советском фаланстере, тур пар ля терр и садовом домике
На следующий день мы отправились в Кирпичи.
Смерть Пиля, волнение, вызванное потерей рюкзака, холод, усталость – за ночь я прошагал по московским набережным, улицам и переулкам километров двадцать – лишили меня сил. А черный кофе без сахара не взбодрил – доконал. Я уснул в кресле с чашкой в руке. И так крепко спал, что ничего не чувствовал, когда меня волокли вверх по лестнице, чтобы уложить в Карцере.
Наконец Фрина не выдержала, вытащила меня из постели, заставила проглотить кофе и усадила в такси.
– Это очень важно для меня, – сказала она. – Познакомишься с моими друзьями, а потом я расскажу все-все-все… пора рассказать…
Когда такси остановилось перед двухэтажным бараком из красного кирпича, я почувствовал себя отдохнувшим и голодным.
Позеленевшие шиферные крыши, маленькие окна с белыми занавесками и цветочными горшками на подоконниках, дворы с бельем на веревках, поленницами дров и дощатыми туалетами за сараями, бродячие собаки, пьяненькие мужики в ватниках, женщины в резиновых сапогах, выцветшие флаги у проходной фабрики, выпускающей колючую проволоку для тюрем, армии и сельского хозяйства…
Жизнь здесь словно остановилась, и эта жизнь была хорошо мне знакома.
Люди в Кирпичах, конечно же, очищали ковры соком квашеной капусты и хранили нейлоновые колготки в морозилках, протирали «Тройным одеколоном» головки магнитофонов, бережно стирали полиэтиленовые пакеты, чистили уши при помощи спички с навернутой на нее ватой, коллекционировали полезные советы из отрывных календарей, оставляли горелое масло на сковороде, чтобы использовать его еще раз, понемножку воровали с заводов и хвалили Сталина за строгость к ворам, при насморке капали ребенку в нос грудное молоко, пели под гитару, гриф которой украшали пышным бантом, называли детей Анжеликами и Денисами, рассказывали анекдоты про Штирлица и Чапаева, завивали горе веревочкой, доедали, донашивали, доживали, по вечерам заводили будильники…
Мы стояли перед длинным двухэтажным домом с двумя крылечками, над которыми нависали шиферные козырьки.
В таком же доме напротив в открытом настежь окне появилась женщина лет пятидесяти, гладко причесанная, в байковом халате. Посмотрев внимательно на нас, она вдруг закричала истошным голосом:
– Убивают! Помогите, убивают! Убиваааааают!..
Лицо ее, однако, оставалось при этом спокойным.
– Это Нинка-дурочка, – сказала Фрина. – Всю зиму так кричит. Иногда – часами. Осенью начинает – и до весны. Летом ей получше…
Значит, вот где жили подруги Фрины. В казарме с сортиром за сараем. В советском фаланстере из красного кирпича под сенью фабричной трубы. С соседями вроде Нинки-дурочки, мужчин в ватниках и матерей-одиночек.
Теперь я понял, почему перед поездкой Фрина так тщательно выбирала одежду – она не должна была бросаться в глаза.
Мы поднялись в прихожую, темную, тесную, пропахшую нафталином, вареной картошкой и керосином, Фрина постучала кулаком в обитую войлоком дверь, из-за которой раздался зычный старушечий голос:
– Входи, не бойся!
В углу маленькой комнаты с низким потолком высилась огромная копна одежды – халат на халат, пальто на пальто, еще какие-то тряпки, поверх обмотанные пуховыми платками и шарфами и перевязанные посередине бельевой веревкой, а венчала эту копну голова в платке и вязаной шапке, из-под которой торчали седые патлы.
Лицо старухи казалось вылепленным из серой глины, хранившей следы рук могучего и нетерпеливого мастера, который бросил дело на полпути, но успел выразить все, что хотел: и необузданную мощь, и неукротимую волю, и ненасытную алчность этой явно незаурядной женщины, чья звериная красота угадывалась вопреки всем наслоениям времени, наносам, трещинам и морщинам…
– Хахалек, – сказала старуха, глядя на меня глазками, с трудом различимыми среди пятен и складок ее лица. – Да еще и молоденький…
– Здравствуй, Кара, – сказала Фрина. – Это Стален, а это – Кармен, Кара…
Один из рукавов одного из пальто зашевелился, и из него выползли пальцы с короткими плоскими ногтями.
– Ну здравствуй, Стален, – сказала Кара. – И ты, Анна, здравствуй.
Я поставил тяжелые сумки с продуктами на пол и осторожно пожал кончики ее пальцев.
– Небось думаешь, хахалек, что я тут тебе фантасмагория на хер? Живой труп на хер? – пророкотала Кара. – А вот так умеешь?
Не успел я ответить, как гора тряпья зашевелилась, содрогнулась, в мгновение ока выросла почти до потолка и вышла на толстых ногах на середину комнатки. Не сводя с меня взгляда, подняла руки, сомкнув кончики пальцев над головой, поднялась на цыпочки и сделала оборот вокруг собственной оси, стоя на одной ноге и очертив другой полный круг. Взметнувшиеся полы халатов, пальто, мотающиеся концы платков и шарфов придали и без того необычному зрелищу какой-то уж совсем фантастический характер.
– Знаешь, хахалек, что самое важное при исполнении тур пар ля терр? – грозно вопросила старуха. – Голова. Она должна быть крепкой и тренированной, чтобы подавлять сигнал, идущий при пируэте от внутреннего уха к мозгу, и таким образом предотвращать головокружение…
Я развел руками и поклонился.
Фрина с интересом наблюдала за нами.
– Вольно на хер! – скомандовала Кара, возвращаясь на прежнее место.
Прежним местом было низкое кресло, собранное из каких-то обломков и объедков, которые были скреплены проволочками и веревочками. Это сооружение хрустнуло, заскрипело, затрещало под тяжестью и затихло со стоном облегчения.
– Ева окарауливает своих питомиц, скоро придет, – сказала старуха. – А пока, хахалек, налей-ка разгонную! Да разденьтесь вы, наконец, или так и будете в своих польтах тут маячить?
– Ева? – шепотом спросил я, принимая у Фрины пальто.
– Ее дочь – Эвридика. Мы зовем ее Евой.
Откупорив бутылку армянского, я наполнил доверху вместительную рюмку, которую Кара хранила в одном из карманов, во множестве украшавших ее тряпье, поднес зажженную спичку к ее папироске и спросил, зачем ее дочь окарауливает питомиц.
– Из-за Маринки. – Старуха аппетитно чмокнула, выпустив клуб дыма. – Маринка Завершнева на хер устроила тут у нас бордель. Телефонный бордель. Ей звонят заказчики – она посылает клиенту шалаву. Все девчонки записались в бляди – модно. Евины ученицы туда же. Вот она и пытается спасти их души от падения… падение наивных страшнее, чем падение невинных… – Усмехнулась. – Нынче все девочки опять стали добычей и жертвами, а мальчики – охотниками и героями. Соль обуяла апостолов, и они отпали от Господа на хер. Вот что сейчас происходит, хахалек: соль обуяла народец наш, и он отпал от своего же образа. Торопимся, бежим, спешим, пытаемся ухватить все и сразу, а ведь поспешишь – беду догонишь! – Подняла рюмку. – Ну-кася!
Я снова налил ей коньяку.
Мне все больше нравилась эта старуха, и даже ее сентенциозность не вызывала протеста, может быть, благодаря мощному рокочущему голосу, насмешливой интонации, тому, наконец, что Кара как будто не принимала всерьез ни свои слова, ни саму себя, ни эту жизнь со всеми ее невзгодами.
Начинало темнеть, когда пришла Ева – невысокая, худенькая, с некрашеными волосами и извиняющейся улыбкой на узком лице.
За столом она оказалась рядом с Фриной, и только тогда я обратил внимание на их сходство. Что-то в выражении лица, в движениях рук, в улыбке – что-то едва уловимое – у них было общим, хотя Ева, не скрывавшая своего возраста, казалась старухой в сравнении с подругой.
До полуночи мы вчетвером сидели в маленькой прокуренной комнатке, пили коньяк, закусывали швейцарским сыром и рижскими шпротами, Ева несколько раз останавливала мать, которая порывалась показать мне гроб, построенный для нее «самим Федуловым» и хранившийся в сарае рядом с картошкой, костылями и старой обувью, а я рассказывал о Кумском Остроге, об Анне Дерюгиной и ее роковых бедрах, о Головине, пытавшемся отыскать тайнопись в трудах Маркса и Ленина, о несчастном редакционном фотографе, лаявшем в лаборатории, и о Мише Геббельсе, разоблачавшем большевистскую математику…
Я был в ударе. Здесь, в этой убогой полутемной комнатке, в клубах табачного дыма, под оранжевым абажуром с бахромой, я вдруг почувствовал себя свободным. Под ржание Кары, под коньяк, под шпроты я избавлялся от всего этого – от Пиля, от рюкзака с восьмикилограммовой гантелей, от стеклянных ботинок, от тяжести лжи и злобы, от всех тех мучений, которые терзали меня с того дня, как в нашем доме появился гологоловый, и я упивался этой свободой, с лихорадочным наслаждением сплетая одну историю с другой, весь дрожа и отдаваясь потоку речи, повелевая слушательницами, превращавшимися в моих руках в воск, и по их глазам, выражению лиц, жестам, блеску глаз чувствовал, что они – со мной, что они принадлежат мне со всеми их потрохами в той же мере, в какой я принадлежал им со всеми моими потрохами, и любил себя, парящего и поющего, и обожал Фрину, Кару, Еву, обожал эти чертовы Кирпичи, и боялся остановиться, чтобы не упасть…
– Таким я тебя еще не видела, – прошептала Фрина, когда мы вышли во двор. – Цицеронил ты вдохновенно…
– Да я таким еще никогда и не бывал, – сказал я. – И никогда столько не пивал…
Ночь мы провели в летнем домике, стоявшем на задах огорода.
Это была жалкая постройка из горбыля, с толевой крышей, маленьким окошком, с широким дощатым топчаном, заваленным каким-то тряпьем.
Хозяйки уговаривали нас остаться в доме, лечь на полу, в тесноте да не в обиде, зато тепло, но Фрина уперлась, и тогда Ева притащила керосиновую лампу, термос с чаем, кучу лоскутных одеял и два старых пальто.
Я перевел взгляд на Фрину, курившую у окна, и понял, что при взгляде на эту простыню и подушки она подумала то же, что и я: мы не спали вместе уже давным-давно… мы еще близки или уже чужие?
– А теперь, – сказала Фрина, опускаясь рядом со мной на топчан, – я должна рассказать все, как обещала. Здесь нас никто не подслушает. Но сначала погаси лампу, пожалуйста. Не могу говорить при свете…
Я потушил лампу.
В комнатке пахло табаком, керосином и едва ощутимо – духами Фрины.
– Иногда через чужой стыд переступить труднее, чем через свой, – сказала она. – Я много лет хотела начать свой рассказ с этих слов…
Глава 19, в которой говорится об алом кабошоне, капитане Цвяге и десяти роковых выстрелах
«Моя мать была красавицей, и ничего больше она делать не умела» – такими словами начала Фрина свой рассказ.
Фрине было три года, когда умерла бабушка – ресторанная певица, которая рассказывала всем о своем блестящем прошлом – театры, балы, светская жизнь – и своем блестящем любовнике, князе Цимлянском, настоящем отце ее дочери Ольги. С каждым годом воспоминания становились все ярче, светская жизнь все причудливее, а князь со временем превратился во внебрачного сына императора Александра Третьего.
Дочь упивалась этими историями – никаких других радостей и не было в жалком домишке на Якиманке, где мать снимала комнатку у хромой старухи.
Ольге повезло: в шестнадцать она вышла за военного инженера Страхова, который занимал важные посты в Наркомате путей сообщения, а потом стал одним из руководителей Метростроя в генеральском чине.
В приданое от матери она получила только ночную рубашку с надписью Dieu le veut, вышитой красным шелком вокруг круглого отверстия там, где у женщин сходятся ноги.
Огромная квартира, автомобиль у подъезда, прислуга, своя портниха, а когда родилась дочь Анна, – опытная нянька.
Ольге оставалось только блистать.
В доме Страховых бывали известные писатели, художники, актеры, чекисты, инженеры, летчики, военные, крупные чиновники, и все, разумеется, восхищались красотой хозяйки, ухаживали за ней, подносили дорогие подарки.
Сам Дейнека писал ее портрет, сам Николадзе лепил ее бюст, хотя обе работы остались незавершенными: не было в Ольге ни глубины, ни страсти, которые оправдывали бы ее красоту в глазах высоколетящих богов искусства.
Красота эта была ее даром, судьбой, долгом и профессией.
И когда ее мужа арестовали, Ольга была потрясена не тем, что стала сначала женой врага народа, а потом вдовой, не тем, что лишилась огромной квартиры, прислуги, автомобиля, портнихи, друзей, ресторанов, театров, дорогих подарков, – нет, сильнее всего она была потрясена тем, что в глазах друзей и знакомых она перестала быть красавицей.
Она стала женщиной, не умеющей ничего.
У нее не было родственников, у нее не стало друзей, перед нею разом закрылись все двери.
И тогда на помощь пришла Янина, Нанни, как звала ее Анна.
Поначалу она служила нянькой, а когда дочь Страховых подросла, Янину назначили на роль столпа и ограды семейства, всевидящего ока и всемогущей руки, как выражался хозяин. В новом договоре она значилась «помощницей по хозяйству».
Она следила за чистотой в доме и качеством пищи, за хозяйским гардеробом и столовым серебром, была наставницей девочки и наперсницей ее матери, никогда не унывала и не улыбалась. Опрятная, аккуратная, в нужный момент она всегда оказывалась под рукой, глядя на хозяев глубоко посаженными глазами и отвечая замогильным голосом на любую просьбу: «Сей момент!»
Она прожила в семье Страховых десять лет, однако любви так и не добилась. Да и не добивалась. Но именно она спасла Ольгу и ее дочь, когда те попали в беду. Как только стало известно об аресте Страхова, Нанни приказала Ольге собрать столовое серебро, деньги, драгоценности, надеть что получше и перебираться на Палашевку – в Южинский переулок, где Нанни жила одна в двухкомнатной квартире с собственной кухней.
Ольга пыталась было возражать, пролепетав, что арест мужа – это, конечно, ошибка, завтра все выяснится, и Федор Иванович вернется домой.
Нанни сказала: «Дело ведет Пиль», но и после этого Ольга не унялась. Она смутно помнила этого Пиля – высокий, бритоголовый, галантный.
Тогда Нанни взяла Анну за руку и сказала: «Догоняй».
Только тогда Ольга поняла, что случившееся – непоправимо, и бросилась собираться.
Тем вечером они трижды возвращались в квартиру Страховых, чтобы забрать как можно больше одежды, подушек, одеял и мебельной мелочовки, которую можно было утащить на себе: стулья, торшер, две настольные лампы, патефон…
Последним было зеркало в рост, висевшее в прихожей. Его завернули в суконное одеяло и две простыни, перевязали веревками и вдвоем кое-как доперли до Палашевки. Десятилетняя Фрина несла коробку с обувью и шкатулку с кленовым листом на крышке, стараясь не отставать от матери и Нанни, которые с трудом тащили огромное зеркало, выбирая переулки потемнее.
Ольге повезло – ее не тронули, хотя могли бы закатать в лагеря как члена семьи репрессированного. Может быть, кто-нибудь из чекистов, даривших ей цветы, вспомнил о ней да и махнул рукой: «Эта дурочка? Сама сдохнет…»
Наверное, она и погибла бы, не окажись рядом Нанни.
Нанни устроила дочь Ольги в другую школу – пусть и дальше от центра, пусть и плоше, зато спокойнее.
Нанни надежно спрятала деньги, драгоценности и лучшие вещи Ольги.
Нанни готовила еду, стирала белье, гладила и шила, следила за тем, чтобы Анна вовремя делала уроки, а у Ольги всегда были ее любимые сигареты и духи.
Нанни познакомила Ольгу со своей сестрой Брониславой, Славой, которая работала в чекистском спецраспределителе и владела информацией о квартирах, временно пустовавших ввиду ареста их хозяев.
Ольга поздно вставала, лениво пила чай и курила, слушала патефон, потом лениво обедала, а вечером отправлялась по адресу, где ее ждали Слава и мужчина. Или мужчины. Возвращалась поздно, иной раз под утро. Мужчины расплачивались деньгами, вещами или продуктами – дело процветало.
Как Нанни удалось убедить Ольгу стать проституткой – об этом можно только гадать. Может, и убеждать не пришлось: Ольга привыкла доверять Нанни и во всем на нее полагаться. Доверие это было формой безответственности: муж отвечал за идеи и деньги, Нанни – за моральные устои, поведение в обществе, самой Ольге ничего не оставалось, и она жила вполчувства и вполума, чувствуя себя свободной и счастливой.
Нанни просила Ольгу только об одном – быть осторожнее, «не высовываться», хотя что она под этим подразумевала, сказать трудно. Может, она боялась, что Ольга влюбится. Или в ее жизни появится черный человек, который уведет ее от Нанни.
Она знала, чего боялась.
В жизни Ольги действительно появился такой человек, хотя случилось это не скоро, когда уже вовсю шла война.
Непонятно, как этот человек попал в число избранных, допущенных к телу Ольги. В этот круг входили высокопоставленные военные, чекисты и чиновники, а этот человек хоть и носил шинель со шпалами в петлицах, был среди них чужаком.
Грек был дезертиром и вором, главарем банды, грабившей богатых москвичей, которые по разным причинам не эвакуировались из города.
Возможно, Слава познакомилась с Греком, когда тот пытался сбыть краденое. Видать, он произвел на нее сильное впечатление, раз она решила познакомить его с Ольгой, хотя наверняка понимала, что Нанни этого не одобрит.
Незадолго до смерти Ольга попыталась рассказать дочери об этом человеке, изменившем ее жизнь, но получилось это у нее плохо. Она не могла переступить через язык, запрещавший прибегать к прямой речи, и потому в памяти Фрины осталась невнятная история о прекрасном герое, который спас красавицу от дракона и подарил ей «вечную любовь и вот это колечко». Колечко было украшено сердцем из мелких бриллиантов, в котором был заключен алый искристый кабошон. Ольга носила его на цепочке вместо нательного крестика.
История эта, впрочем, оказалась недолгой.
Может быть, Грек был пьян или действительно влюблен, – как бы то ни было, он утратил осторожность. Однажды ночью – в Москве во время осадного положения с полуночи до пяти утра действовал комендантский час – он решил проводить Ольгу до дома. Их остановил патруль. Бумаги Ольги, выправленные сестрой Нанни, были в порядке, а Грек мог показать только фальшивое удостоверение офицера НКВД. Нервы у него не выдержали, он выстрелил в начальника патруля, схватил Ольгу за руку и бросился в ближайший переулок. Путь им преградил легковой автомобиль, из которого выпрыгнул высокий старик в шинели с генеральскими звездами на петлицах. Он ударил Грека палкой по голове, втолкнул Ольгу в машину, предъявил патрульным документы, хлопнул дверцей и велел шоферу ехать в Троицкое.
Ополоумевшая от страха Ольга помнила только заснеженный лес, через который мчалась машина, высокую папаху старика, двухэтажный деревянный дом за высокой оградой, комнату с широким диваном, на который ее уложили, и только утром, когда ее позвали к столу, она вспомнила о дочери, оставшейся в Москве. Старик тотчас приказал доставить девочку в Троицкое. Ее вызвали с урока и отвезли к матери.
Нанни так и не поняла, куда запропастились Ольга и Анна, а Слава не стала рассказывать о Греке. Утешением Нанни стали драгоценности, меха и дорогая одежда Ольги, а также огромное зеркало, занявшее в ее спальне место в простенке.
– Что-то я, кажется, замерзать стала, – сказала Фрина. – Укрой меня чем-нибудь, пожалуйста…
Я зажег лампу.
Она забралась на топчан, я снял с нее ботинки, из которых волнующе пахло ее теплой ножкой, набросил на нее пальто с шерстяным капюшоном и одеяло.
– Может, чаю? – Я отвинтил крышку термоса. – О, да он с коньяком! Горячий…
– Замечательно, – сказала Фрина, принимая из моих рук граненый стакан с чаем, который я обернул носовым платком. – Ты не устал?
– Нет, – сказал я, пристраиваясь рядом с нею. – Значит, с Нанни ты больше не встречалась?
– Не встречалась. Она, конечно, была жуткой бабой – безжалостной, холодной, расчетливой, жадной… но мне-то она ничего плохого не сделала… не успела сделать… – Помолчала. – Матери было не до меня – Нанни в те годы и была моей матерью, но кто знает, какие у нее были планы насчет моего будущего и что со мной сталось бы, не появись генерал Драгунов…
– Тот самый Драгунов? Комдив Драгунов?
– Ну да, герой Гражданской, легенда…
Легендарный красный конник, герой Уральского похода, на исходе Гражданской войны, в Крыму, он был тяжело ранен в голову и практически не служил больше в строевых частях. Преподавал, инспектировал, хотя это ему было не по нраву. Вспыльчивый, дерзкий и неудержимый, он вдрызг разругался с Троцким, который обвинял его в «партизанщине» и «анархизме», не поладил с Ворошиловым.
Почти все свободное время он посвящал даче. Перестроил по своему вкусу дом, разбил сад, выращивал розы, гнал самогон, держал лошадей, подолгу гулял и любил попариться в бане в компании красивой толстой бабы.
Незадолго до войны генерал упал с лошади во время прогулки, и с той поры жизнь его превратилась в ад. Его мучили головные боли, вспышки ярости случались все чаще – не спасали ни лютая баня с толстой красивой бабой, ни стрельба по бутылкам, ни даже домашняя водка. Иногда он, в кальсонах и расстегнутой шинели, с шашкой наголо уходил босиком по снегу «бить немца», но походы его заканчивались у въезда в дачный поселок, где генерала останавливали караульные.
Ольге повезло – она встретила Драгунова, когда он возвращался из госпиталя и его внутренний барометр показывал «ясно». Ее спас случай: если бы генерал поехал привычным маршрутом, он не столкнулся бы с Ольгой и Греком.
Драгунову было, впрочем, не до нее: ему нравились женщины, «которых двумя пальцами не задушишь». И такая женщина у него была.
Трудно было поверить, что еще не так давно Кармен Скворцовская – Кара – была балериной. Рослая, плечистая, темнобровая, грудастая, она сохранила разве что легкость походки да воспоминания о тех временах, когда ее Черному лебедю стоя аплодировал Большой театр. После этого были два неудачных замужества, тяжелые роды, арест третьего мужа, попытка самоубийства, лишний вес – все больше лишнего веса.
Кара стала самоотверженной нянькой и идеальной любовницей генерала, благодарной ему за то, что он спас ее и ее дочь Эвридику от нищеты. Она взяла на себя все заботы по хозяйству, хотя за верховенство в доме ей пришлось вступить в нешуточную войну с его обитателями.
За годы полузатворнической жизни вокруг генерала сложился узкий круг приближенных, которых он называл «челядью». Капитан Цвяга, сержант Кирза, ефрейтор Тройкин отвечали за безопасность генерала, порядок в доме, доставку провизии, следили за лошадьми и помогали хозяину в работах по саду, а баба Сватья занималась стряпней, выгонкой водки и поставками толстых красивых женщин.
Цвяга – маленький, с острым носиком и сжатыми в гузку губами, был образцом аккуратности – всегда в тщательно выглаженном френчике, в начищенных до блеска высоких сапогах на кривых тонких ножках. Он был почтителен с генералом и готов был в лепешку расшибиться, чтобы исполнить любое желание начальника, но стоило генералу впасть в очередной загул, стоило его разуму помутиться, как Цвяга превращался в наглого вора. Он крал у хозяина деньги, таскал его еду и насиловал его толстых красивых женщин, пока генерал бродил босиком по лесу с шашкой наголо.
Сержант Кирза, высокий веселый шофер, и маленький толстый ефрейтор Тройкин, способный дрыхнуть сутками в конюшне, в такие дни с утра до вечера резались в карты, обжирались, пили самогон и кувыркались с разбитными бабенками, которые служили на дачах поварихами, прачками и поломойками.
Кара пригрозила мужчинам отправкой на фронт – в ответ они попытались ее изнасиловать, но были жестоко избиты: бывшая балерина не расставалась с кастетом.
А вот совладать с бабой Сватьей оказалось труднее.
Эта рябая плосконосая женщина, состоявшая из огромной груди и огромной задницы, родила генералу сына. Умственно неполноценный косоглазый пятилетний ребенок со спутанными волосами целыми днями бродил по дому и саду в длинной грязной рубашке, грыз соленый огурец и кричал. Он никогда не умолкал. Ныл, нюнил, хныкал, скулил, выл, стонал, рюмил, ревел, хлюпал, заходился криком, орал – и так с утра до вечера, не выпуская изо рта обгрызенного огурца, справляя нужду где придется – в постели или гостиной, среди грядок с петрушкой или в бане. Затихал он только на коленях у матери, остальных и близко не подпускал – кусался, пускал в ход ноги и когти, плевался и визжал, заходясь яростью до пузырей и пены на губах, до посинения и обморока.
Генерал терпеливо сносил все выходки Амурчика – мать называла его Амуром Ивановичем – и не позволял никому даже словом обижать мальчика.
Однажды Кара обмокнула огурец в смесь меда и водки и дала Амурчику – ему понравилось. Он молча обсосал огурец и потребовал еще. Через час он уснул. И с той поры ходил за Карой хвостом, слушаясь ее беспрекословно. После этого баба Сватья смирилась с тем, что балерина – главная в доме.
Зимой генерал катал Фрину, Еву и пьяненького Амурчика в санях, летом учил девочек плавать в лесном озере, а потом все вместе отправлялись в автомобиле на железнодорожную станцию за мороженым и крем-содой. Счастливый Амурчик сидел между девочками на сложенной вчетверо простынке, пил ледяной лимонад из горлышка, икал, рыгал, мычал и мочился в штаны…
Иногда Ольга вскакивала среди ночи и подолгу стояла у окна, всматриваясь в темноту и с силой прижимая к груди ладонь, чтобы сердце не выдавало ее громким стуком. Зло было рядом – она это чувствовала…
– Ты не за себя бойся, – сказала Кара, когда Ольга поделилась с нею своими страхами. – За девчонок бойся…
Девчонки превратились в красивых девушек, стройных, спелых и непуганых. Цвяга тоненько постанывал в кустах, когда они раздевались на берегу лесного озера, и кусал губы до крови, чтобы не разрыдаться. По ночам он снимал сапоги, поднимался по лестнице, ложился на пол под дверью спальни и втягивал ноздрями запах, который источали два юных жарких тела…
Ева и Фрина смеялись, когда Кара просила их быть поосторожнее.
Возраст такой – возраст безмозглого бессмертия и могущества.
Им нравилось нравиться.
Им нравилось волнение, которое их красота вызывает у мужчин.
Им нравилось волноваться.
Им казалось, что зло бессильно перед их чистотой, перед их мятным зубным порошком и замляничным мылом, перед их сияющей кожей, белыми носочками и глубоким знанием тригонометрии, наконец – перед их будущим.
И еще они думали, что зло – это что-то огромное, черное, страшное, очевидное, а не маленькое, жалкое и смешное, как Цвяга.
Катастрофа произошла весной сорок пятого, когда радио и газеты каждый день сообщали о боях в Берлине и в наэлектризованном воздухе пахло победой.
В тот майский день Кара уехала в Москву за генералом, которого выписали из госпиталя, где он провел почти два месяца.
Все это время Цвяга, Кирза и Тройкин пили почти без просыху, забавлялись с поварихами, прачками и поломойками с соседних дач, но днем они худо-бедно помогали Каре и Ольге в саду, вскапывали грядки и кормили лошадей. Раз в неделю Кара с Кирзой уезжала в Москву – проведать генерала, и в ее отсутствие не случалось ничего чрезвычайного.
Тот день стал исключением.
Накануне отмечали день рождения ефрейтора Тройкина и, конечно, набрались до чертиков, а потом вся компания долго отсыпалась и опохмелялась…
Кто знает, что там у них случилось, но когда Ева и Фрина вернулись с концерта, они нашли Ольгу в саду на коленях перед голым Амурчиком. Уродца рвало кровью, грудь его была сплошной синяк. Ольга была в панике – мальчишка умирал.
Ева бросилась к телефону, однако он, как назло, не работал, и тогда девушки решили бежать за помощью в караульную избу.
Они вылетели во двор и вдруг замерли.
Такого они еще никогда не видели.
Капитан Цвяга стоял посреди двора. Он был пьян и гол. На голове у него была фуражка с лаковым козырьком, а в руке – кухонный нож, и было непонятно, что страшнее – его длинный лиловый член, болтавшийся между тонкими кривыми волосатыми ножками, его безумная улыбка, шибающий тяжкий запах его сладкого пота или кухонный нож, который он сжимал в руке, большой нож, которым баба Сватья скребла полы и столы, нож с зазубренным лезвием, огромный и ржавый, похожий на какое-то омерзительное насекомое.
Чистота, мятный зубной порошок, земляничное мыло, белые носочки, сияющая кожа, тригонометрия, будущее – все рухнуло, исчезло, уступив животному ужасу, первобытному страху перед омерзительным ржавым насекомым, перед тупым безумием похоти, и девушки бросились наутек – в дом, под крышу, в укрытие, наверх, за дверь…
Фрина взлетела наверх первой, ворвалась в комнату и закрыла дверь перед носом у Евы. Закрыла, залезла под кровать и замерла. Она не слышала голоса Евы – только дыхание. Потом сдавленный крик. Потом сопение Цвяги. Его покряхтыванье. Скрип половиц за дверью. Всхлип. Потом потеряла сознание.
Так и не дождавшись девушек, Ольга вынесла Амурчика к колодцу – там он и умер. Она села рядом с ним и впала в полубессознательное состояние. Она не слышала, как автомобиль с Карой и генералом въехал во двор, не видела никого и не могла говорить.
Фрина очнулась от стука в дверь, помогла Каре уложить Еву на кровать, села рядом, взяла подругу за руку.
Через час они услышали первый выстрел.
Генерал был спокоен и тверд, когда прострелил Ольге сердце. Вторым выстрелом разнес голову ефрейтора Тройкина, третьим убил бабу Сватью, четвертым – двадцатилетнюю прачку, которая пыталась вылезти в окно, пятым – Ингуса, черного пса, попавшегося на глаза, шестым – Кирзу, прятавшегося за автомобилем, потом вытащил капитана Цвягу из кладовки и обезглавил ударом текинской шашки, после чего двинулся к дому…
Кара вывела девушек через черный ход, бросилась к забору, выбила две узкие доски, втолкнула в дыру девушек и полезла следом, когда седьмая пуля ударила ее в плечо.
Соседи с удивлением смотрели на растрепанных женщин, бежавших к дому, но когда хозяин – огромный мужчина с изрытым оспинами лицом – увидел шагающего через луг генерала с маузером в одной руке и окровавленной шашкой в другой, он взял винтовку из рук подоспевшего караульного и выстрелил.
После первой пули в грудь генерал пошатнулся, после второй, попавшей в сердце, остановился, после третьей – в лоб – рухнул столбом в траву.
Женщин отвели в дом, вызвали врача.
Через час рябой хозяин дома вошел в комнату, склонился над Фриной, дрожавшей под одеялом на узком диване, положил руку с короткими пальцами на ее лоб и сказал:
– В таких случаях принято говорить: все позади, и это правда, но я скажу больше: все впереди. У вас – все впереди. Как вас звать?
– Аня, – прошептала девушка. – Анна.
– Топоров, – представился он. – Лев Дмитриевич Топоров. Позвольте мне стать вашим будущим, Анна…
Глава 20, в которой говорится о зеленой коричневой двери, доблестном Амадисе Гальском и морковном хвостике
– Он и стал моим будущим, – сказала Фрина, дыша мне в лицо. – Хотя тогда мне было не до того. Думала о двери, которую я захлопнула перед Евой. Почему-то казалось, что она была зеленой, хотя в генеральском доме не было ни одной зеленой двери. Все они были светло-коричневыми. Но та дверь до сих пор кажется мне зеленой… – Помолчала. – Не понимаю, почему я захлопнула ту дверь. Разум тут ни при чем – это было какое-то… это было какое-то животное движение… в общем, теперь ты понимаешь, что меня связывает с Евой и Карой… они эту дверь никогда не вспоминали вслух… а я – я не могу забыть… Кара однажды сказала об истории с генералом, что это ее вина, ее стыд, но это ничего не меняет… иногда граница между своим стыдом и чужим исчезает… и если человеческое хоть чуть-чуть уступает животному, то получается не чуть-чуть, а сдача со всеми потрохами…
Я молчал.
– Спасибо Топорову – он помог Еве устроиться. Позвонил в пединститут, и вскоре она стала студенткой иняза… если б не он, кто знает, как повернулась бы ее жизнь… а уж моя и подавно…
Я ждал.
– Той ночью я впервые в жизни не могла уснуть, – сказала Фрина. – Пыталась взять себя в руки и понять, что же произошло и как жить дальше…
Страх – вот что беспокоило ее больше всего. Она дважды оказалась во власти страха и не смогла совладать с собой. Сначала ее захлестнул ужас при виде голого Цвяги, который со сладкой улыбкой шел к ней через двор, сжимая в руке ржавый кухонный нож, и этот ужас мгновенно превратил ее в животное, способное только бежать, искать спасения, укрытия, забыв обо всем человеческом – о Еве, перед которой она захлопнула эту чертову дверь, оставив подругу один на один с голым похотливым зверем. Ужас не отпускал ее – каждая ее клеточка была ужасом. Маленький гадкий ублюдок с его длинным лиловым членом, с его сладенькой улыбочкой, человечек, вызывавший у нее только брезгливость, оказался самым страшным существом на свете, страшнее Гитлера и учительницы танцев, которая била девушек офицерским стеком по ягодицам. Цвяга, боже мой, ничтожный Цвяга превратил ее в жалкую безмоглую тварь, готовую на все, чтобы только не стать следующей жертвой. Ей хотелось, чтобы зверь насытился Евой, чтобы ему стало не до нее, не до Фрины. А когда проснулся стыд, нахлынула новая волна ужаса – при виде генерала, направлявшегося к летнему домику с маузером в одной руке и окровавленной шашкой в другой. Она бежала через луг к соседскому дому, ослепнув и оглохнув, и вдруг споткнулась и упала в траву, а потом приподнялась и увидела, как генерал падает наземь – прямой, весь в крови, и поползла, мыча и подвывая, а в следующий раз ей стало стыдно, когда обнаружилось, что она обмочилась…
И вот теперь она лежала на диване в доме Топорова, перебирая события этого проклятого дня и понимая, что он никогда не завершится, что отныне она обречена снова и снова возвращаться в комнату с зеленой дверью, в высокую траву, по которой она ползла на четвереньках, мочась в трусы и содрогаясь от ужаса…
Этот день навсегда станет ее тюрьмой – так она думала тогда.
Пожизненное заключение – вот с чем она не могла смириться в свои семнадцать.
Незавершенность случившегося, длящийся и неостановимый ужас – вот что ее мучило.
Она должна выкупить себя у судьбы.
Она должна сделать все это сама.
Надо было с чего-то начинать, и она решила начать с генеральского дома, где остались ее вещи – одежда, книги, дневник… дневник не должен был попасть в чужие руки, пусть там ничего такого и не было… что там еще? Материна шкатулка, да, шкатулка с кленовым листом на крышке. Ольга хранила в ней свои побрякушки и прятала ее в нижнем ящике шкафа, под бельем. Значит, одежда, книги, дневник, шкатулка – надо же было с чего-то начинать…
Еще не рассвело, когда она промчалась через луг, скользнула через дыру в заборе и, держась под деревьями, пробралась к дому. Она старалась не смотреть в ту сторону, где несколько часов назад лежали трупы матери, Амурчика, капитана Цвяги, бабы Сватьи, сержанта Кирзы и ефрейтора Тройкина. Трупы увезли, но следы, ей казалось, остались – черные пятна на темной земле, пропитанные ужасом.
Войдя в дом, она на цыпочках прокралась под лестницу и минут десять сидела на корточках, вслушиваясь в темноту. Тишина. Сняла туфли, поднялась по лестнице, в комнате матери опустилась на четвереньки, выдвинула ящик, в котором хранилась шкатулка, и замерла, когда сильная рука схватила ее за волосы.
Все произошло в полной темноте. Она не видела лица мужчины, который заставил ее лечь на спину, а его голос услышала, когда он прохрипел: «Животом! Прижмись животом!», и покорно прижалась животом к нему, а потом он ушел, и она долго лежала на полу, мягкая и пустая. Наконец очнулась, оделась, собрала вещи, вернулась в дом Топорова и легла под одеяло.
Вот и искупление, вяло думала она. Ей не пришлось совершать подвиги, чтобы искупить вину. Вспомнила фразу из какой-то книги: «Страх парализовал ее». Нет, не парализовал. Она была послушной тварью. Она неспособна управлять собой, своим телом и своей душой, своей судьбой, наконец. Этот мужчина был послан ей, чтобы она смирилась, и, похоже, выбора у нее не осталось…
После завтрака она попросила Топорова о разговоре с глазу на глаз и рассказала о зеленой двери и о том, что произошло ночью в доме Драгунова.
– Это хороший ход, Анна, – задумчиво проговорил он. – Такие тайны принято называть грязными, но они связывают нас с прошлым. Преодолей их – и исчезнешь, перестанешь быть личностью. Вы сильный человек. И умный. – Помолчал. – Я знаю о вашем отце… у вас нет дома, нет семьи, а будущее, как говорится, туманно…
– Вчера вы сказали, что готовы стать моим будущим…
Он кивнул.
– Готов, если вы готовы.
Надеюсь, под будущим мы оба подразумеваем одно и то же.
Посмотрим, на что вы способны…
Значит, у вас нет плана?
Но это и есть будущее – когда нет плана. – Топоров улыбнулся. – Что ж, в университет по понятным причинам вас не примут, но мы что-нибудь придумаем. А пока поживете у нас, если вы не против…
В июне она получила аттестат зрелости и поступила на литературно-редакторский факультет полиграфического института.
У Топоровых Фрина прожила три года, и это были, как ей казалось, лучшие годы ее жизни.
Вместе с мужиковатой Василисой, дочерью Топорова от первого брака, ходила по грибы и варила варенье.
Дочь от второго брака, Лиля, колоннообразная бука с колоннообразными ногами, учила ее испанскому, и они вместе переводили «Амадиса Гальского» и «Внутренний замок» святой Терезы Авильской.
Десятилетнего сына Топорова от Марианны, которого все называли Виктором Львовичем, научила свистеть без помощи пальцев.
Любовница Топорова – вылитая Марлен Дитрих – играла в теннис только с нею.
И за все это она должна была и была благодарна Кармен.
Ранение в плечо оказалось неопасным, и вскоре Кара вернулась в Троицкое.
Уже через несколько дней все знали, кто в доме главный, кто правит кухней, выдает деньги на карманные расходы и следит за чистотой белья.
Топоров вздохнул с облегчением: он не находил общего языка с женой, а она не находила общего языка с Марлен Дитрих, отличавшейся только умением белозубо смеяться, играть в теннис и так поворачиваться на тонком каблуке, чтобы все ее долгое тело красиво волновалось всеми оттенками желтого или голубого шелка.
Ева на первом же курсе вышла замуж за молодого профессора и перестала бывать в Троицком, где при одном взгляде на крышу генеральского дома за забором лицо у нее становилось некрасивым. Поэтому большую часть времени Кара уделяла «другой дочери», как иногда она называла Фрину.
Кара была крупной, горластой и бурной бабой, готовой стоять за своих до конца и способной своей любовью ненароком покалечить любимых.
Для Фрины она стала наставницей, всерьез взявшейся за тело и душу девушки. Кара учила Фрину «правильно носить грудь и задницу», всегда выглядеть так, словно на ней туфли с высокими каблуками и бриллиантовое колье на шее, и никогда не надевать лиловое: «Оно тебя старит».
Кара готовила Фрину к выходу в свет, который и состоялся в ночь на Новый, 1946 год.
В облегающем платье из грогрона, в неглубоком вырезе которого мерцал алый кабошон, в туфлях на невысоком каблуке и с перчатками в руках она вступила в зал, где собрались гости Топорова. По совету Кары она держалась чуть сбоку и на полшага позади семьи хозяина, не отрицая близости, но сохраняя свободу.
В центре внимания была Марианна. Облаченная в роскошное бордовое платье с золотыми вставками, в шляпке-таблетке, с муфтой, с сигаретой в мундштуке, она встречала у входа в зал гостей, которые, вежливо улыбнувшись Василисе – она была в пиджаке и прямой юбке – и колонноподобной Лиле, сверху донизу украшенной мелкими рюшами, хлопали по плечу Виктора Львовича, который поминутно поправлял узел своего взрослого галстука, и направлялись к столам.
Фрина с особой остротой чувствовала и дурманящий аромат пышной елки в углу зала, и запах парадных маршальских мундиров, сшитых из кастора цвета морской волны, и душное дыхание дамских мехов, и глаза ее блестели от слитного сияния золотых звезд, драгоценностей, лаковых лысин, хрусталя, форменных пуговиц, и сердце замирало, когда она ловила на себе внимательные взгляды этих мужчин, воплощавших аморальную мощь эпохи, нечеловеческую власть и еще недавно посылавших на смерть миллионы…
Эти запахи, этот свет, эти токи неощутимо проникали в ее душу, пленяя и меняя ее, и к концу этого праздника преображения и освобождения ей даже показалось, что все левое в ней стало правым, а правое – левым.
Между танцами и тостами Топоров познакомил ее с молодым мужчиной, у которого были грубоватые, резкие черты лица и глаза разного цвета.
Лев Дмитриевич свободно владел немецким и худо-бедно французским, но французский Пабло был еще хуже.
Узнав, что она пытается переводить «Амадиса Гальского», испанец расхохотался: «Это все равно что в гуще битвы шлифовать сонет о любви!»
Топоров и товарищ Пабло обсуждали борьбу басков с франкистским режимом, Фрина переводила, а потом испанец пригласил ее на танец, назвав именем возлюбленной Амадиса Гальского – Орианы.
Роман Дона Амадиса и Орианы длился почти полгода.
Он был нежным и страстным, но любовь к родине была для него важнее любви к женщине. Пабло говорил об отсталых странах, практикующих отсталые виды зла, и странах, в которых культура зла поднялась на небывалую высоту, превратившись в бесплодную культуру терпимости; о том, что в революционной борьбе духовные стремления часто так же ужасны, как и животные порывы; о России, которая впервые в своей истории благодаря Ленину и большевикам стала Домом Мирового Духа; о людях, которых порождает любовь, но растят смертные грехи…
Фрина переводила для него Франкла – Дон Амадис выписывал в свою тетрадь: «В отличие от животных, инстинкты не диктуют человеку, что ему нужно. И в отличие от человека вчерашнего дня, традиции не диктуют сегодняшнему человеку, что ему должно. Не зная ни того, что ему нужно, ни того, что он должен, человек, похоже, утратил ясное представление о том, чего же он хочет. В итоге он либо хочет того же, чего и другие (конформизм), либо делает то, что другие хотят от него (тоталитаризм)».
– Франкл, несомненно, говорит о поиске смысла в обезбоженном мире, но при этом не упоминает Бога…
– Франкл – не Достоевский, – сказал Дон Амадис.
– Похоже, Достоевского ты недолюбливаешь…
– Он злой волшебник, который претворяет историческое в личное и обезоруживает людей, пытающихся бороться за достойные условия существования, против конформизма и тоталитаризма. Даже Толстой в этом смысле человечнее…
Иногда к ним присоединялся Топоров, который за стаканом вина готов был к разговорам на самые щекотливые темы. Он спокойно выслушивал Дона Амадиса, который называл Ленина пастырем бытия, а Сталина – господином сущего, считая, что советские люди давно превратились из борцов за идеалы в пользователей собственных жизней, и цитировал Мольтке: «Говорят, что наши сражения выиграли школьные учителя. Но простое знание не возвышает человека до той степени, когда он готов отдать жизнь за идею, за выполненный долг, за честь отечества… Нет, битвы выиграл не учитель, а воспитатель – государство, которое воспитывает нацию». Наклонялся вперед и с улыбкой добавлял: «Среди испанских анархистов было слишком много учителей, сражавшихся за идеалы, потому они и проиграли генералиссимусу, который ясно видел цель и понимал, что на грешной этой земле, в непреображенном мире Царство Божие невозможно, а вот канализация и кусок хлеба – вполне. Россия же – поток ужасающей силы, и только государство может быть в этом хаосе твердью».
В середине лета Дон Амадис навсегда исчез из ее жизни, вернувшись, как догадывалась Фрина, в ряды борцов с испанским тоталитаризмом.
Следующей весной по просьбе Топорова она сопровождала моложавого красавца Николая Сольца, который выезжал на два месяца с «деликатной миссией» в Париж, а по возвращении, наскоро сдав сессию в институте, отправилась в Нью-Йорк в качестве помощницы неутомимого воина Сергея Смолинского…
После американской поездки Топоров предложил ей прокатиться «в одно место», и уже через час его машина остановилась в переулке между улицами Горького и Герцена у небольшого кривоватого домика с двумя печными трубами над железной крышей и круглой ржавой табличкой на двери, на которой с трудом можно было разобрать число 11. Немытые маленькие окошки первого этажа изнутри были закрыты фанерой с надписью «Ремонт».
Лев Дмитриевич протянул ей связку ключей, и Фрина без колебаний взяла ее, взвесила в руке, безошибочно нашла ключ от нижней двери и шагнула в полутьму, поставив ногу на первую ступеньку лестницы.
– Ни о чем не беспокойтесь, – сказал Топоров, подхватывая ее под локоть. – Здесь есть все, что пожелаете.
Когда она служила ему в качестве посредницы в разговорах с самыми необычными людьми, он не просил ее хранить эти разговоры в тайне – это подразумевалось само собой. Само собой подразумевалось, что она не будет вести и хранить никаких дневников или даже рабочих записей. Их отношения строились на полном доверии и взаимопонимании. Точно так же и теперь, когда она взяла связку ключей от дома, оба понимали, что происходит, но вслух об этом говорить не стали.
Не было произнесено ни слова о ее отце, которого на допросе убили слесарным молотком, ни о матери, отдававшейся пьяным чекистам по разграбленным квартирам на простынях, еще хранивших тепло чужих тел, а потом погибшей от руки безумного генерала Драгунова, ни слова о зеленой двери, которая на самом деле была коричневой, и ни слова о той ночи, когда она прижималась своим детским животом к брюху насильника, ни о страхе, который вполне может быть иногда голосом любви и жизни, ни о la force des choses – силе вещей, силе обстоятельств, которая ни на минуту не позволяет забыть о том, что свобода выбора и свобода подчинения представляют одинаковую угрозу для человеческой природы…
Выражение «выбор пути» еще в юности поражало ее своей двусмысленностью, пока она не поняла, что выбор пути, который делает человек, и выбор человека, который делает путь, это, в сущности, один и тот же выбор, превращающий человека в существо двойственное, обладающее природой и ангельской, и дьявольской, всегда способное вознестись к высотам жизни и всегда готовое пасть ниже мерзких тварей. А потому вся жизнь человека, даже если он всего-навсего простой потребитель собственного тела, сводится к неустанной борьбе за свое «я», каким бы оно ни было, к борьбе за ту золотую искорку исключительности, за тот морковный хвостик, который придает хоть какой-то смысл его существованию, к той борьбе, в которой не бывает ни побед, ни поражений и которая почти всегда сводится к тому, чтобы не забыть завести будильник перед сном…
Вот этот морковный хвостик Фрина и выговорила у Топорова. Выговорила зеленую дверь, выговорила возможность хотя бы время от времени встречаться с Евой и Карой. Это была жалкая попытка выкупить себя у судьбы, ничтожная малость, настоящий морковный хвостик, но для нее это была важная малость, которая, как ей казалось, позволяла ей чувствовать себя хоть в чем-то неподвластной Топорову.
– Что ж, – сказал Лев Дмитриевич, – вы разумная женщина, Анна Федоровна, и мне еще ни разу не приходилось пожалеть о дружбе с вами. Только помните, что нет в мире более опасного чувства, чем чувство вины: если оно калечит, то это непоправимо…
В тот день Анна Федоровна Страхова стала Фриной, хозяйкой уютного дома в центре Москвы, где и прожила более четырех десятилетий.
Наверху, на втором этаже, она принимала обычных гостей – писателей, переводчиков, для которых Анна Федоровна была прекрасным редактором, коллегой, красавицей и умницей. Работала в своем уютном кабинете, слушала Перселла, занималась переводами Бультмана, Франкла и Банхоффера «для себя». Раз-другой в неделю бывала в издательстве, где получала скромную зарплату.
Время от времени по просьбе Топорова принимала гостей иного рода, спускаясь вниз по потайной лестнице в роскошный будуар, где играла роль любовницы – когда покорной простушки, когда «тупой доски», а когда и умелой шлюхи, позволяющей мужчинам все то, чего никогда не позволяли им жены.
Это были особые люди, которых по каким-то своим соображениям выбирал Топоров, и всякий раз эти люди находили во Фрине именно то, чего им больше всего хотелось.
Протеизм ее был естественным и поразительным.
А когда выяснилось, что в пятьдесят два года ее организм функционирует так же, как в девятнадцать, Лев Дмитриевич попросил Фрину «показаться» в секретном институте.
Фрина не принимала никаких лекарственных средств, не придерживалась никаких диетических ограничений – она просто не старела. Части и системы ее организма вообще не были подвержены естественной деградации, кожа сияла, суставы и сосуды были чисты, мозг и нервная система работали безукоризненно.
Врачи назвали ее «чудом природы».
Monstruo de la naturaleza.
Профессор Д. говорил об уникальной наследственности, особенностях антагонистической плейотропии и свободных радикалах, а Фрина думала о морковкином хвостике. Наверное, это было глупо, но она считала, что если и существует естественная причина ее неумирающей молодости, то заключается она только в морковкином хвостике, в том единственном, что держало ее на поверхности жизни, не позволяя взлететь в небеса, но и спасая от падения в смрадную бездну.
После смерти Марианны надобность в услугах Кары отпала. Топоров помог ей с квартирой и работой. Вскоре Кара встретила своего Борю, скромного портного, и поселилась в Кирпичах. Туда же с детьми от двух неудачных браков перебралась и Ева.
Фрина бывала в Кирпичах не так уж и часто. Если позволяли обстоятельства, праздновала с Карой и Евой 7 Ноября и 1 Мая, Рождество и Пасху, весной помогала сажать картошку, а осенью эту картошку убирать. Приезжала, разумеется, с подарками: продукты, коньяк, американские сигареты для Кары, книги для Евы и ее старшей дочери. Приезжала, разумеется, всегда одна.
Вечером накрывали стол, выпивали, пели «Ой да не вечер», но никогда не вспоминали о зеленой двери, которая на самом деле была коричневой.
Морковкин хвостик – этого было довольно, чтобы не умирать прежде смерти.
– Я не сплю, – сказал я. – Хочешь чаю?
– Хочу, – сказала она. – Ты настоящий прозаик. Вот поэты – они обычно очень болтливы… – Взяла кружку, отхлебнула. – Остыл…
– У нас есть коньяк…
Она залпом выпила тепловатый чай и подставила кружку, которую я наполнил коньяком.
– Что-то я увязла в воспоминаниях… пора, наверное, рассказать о Пиле…
– О молотке, – сказал я. – О молотке, черт бы его побрал…
– Нет, я его не убивала. Ни я, ни Алина, ни Лифа. – Помолчала. – Хотели… хотела… но он умер сам… сердце… и нет, я не охотилась на него… Он сам хотел сближения… я же была подстилкой из спецраспределителя, как черная икра или балык для членов ЦК… и похоже, ему очень хотелось этого балыка… но Лев Дмитриевич прекрасно знал о его роли в смерти отца и держал Пиля на дистанции… разрешил только недавно – это было для меня полной неожиданностью… – Снова сделала паузу. – Он был жаден до женского и очень хотел до меня добраться… до дочери человека, которого убил слесарным молотком… столько лет прошло, а он не унимался… похоже, его тоже мучила незавершенность истории… – Перевела дух. – И когда я узнала, что он к нам придет, подумала об этом самом молотке… это не тот молоток – такой же… Но он оказался слишком слаб, этот Пиль, и никакие ухищрения Лифы не помогали… это бесило старика до слез… а когда он увидел молоток, схватился за сердце… – Вздохнула. – Поздновато мы встретились… хотя не знаю… месть – это когда человек бросается за своим врагом в ад, а я – я ждала… ждала, когда разрешат, и растерялась, увидев впервые Пиля живьем… но его больше нет, и умер он, глядя на молоток… наверное, и этого достаточно…
В голосе ее прозвучало то ли сожаление, то ли облегчение.
– Ну а я? Почему я?
– Странно, что ты только сейчас задаешь этот вопрос… – Она залпом допила коньяк. – А ты – потому что я тебя выдумала, намечтала, как ни смешно это звучит. Твой дед – он столько рассказывал о тебе… показывал твои фотографии… а в последнем письме написал, что ты обязательно попытаешься сделать что-нибудь неподъемное, и если рядом не будет человека, готового тебя поддержать, наломаешь дров или сломаешься… и все в таком духе… почему ты молчишь?
– Если ты ляжешь поближе, – сказал я, – на бок, вот так, то мы согреемся и еще сможем поспать. Мы же никуда не торопимся?
Она прижалась ко мне, протяжно вздохнула и замерла.
От ее дыхания мое левое ухо быстро согрелось.
Глава 21, в которой говорится о трехцветном позоре, распутной Моне Лизе и ненадежном рассказчике
Мы проспали до позднего вечера и в Москву вернулись за полночь.
Грязные, вонючие, полупьяные, мы думали только о том, чтобы добраться до горячей воды и теплой постели, но не успели лечь, как раздался телефонный звонок из редакции толстого журнала, где были опубликованы мои рассказы…
– Номер вышел, тираж в редакции, – сказала Фрина. – Надо ехать.
Быстро приняв душ и выпив кофе, мы спустились в метро и поехали к Савеловскому вокзалу, откуда пешком добрались до редакции – ее вестибюль был украшен лепными медальонами с портретами классиков советской литературы.
В бухгалтерии на втором этаже я получил гонорар – три с половиной тысячи рублей, на которые тогда можно было купить, скажем, новые штаны, внизу взял двадцать экземпляров журнала, мы пешком добрались до Белорусского вокзала и поймали такси, которое минут за десять домчало нас до дома.
– А где Алина? – спросил я, когда мы поднялись наверх.
– Это наш праздник, – сказала Фрина. – И сколько он продлится, решать только нам…
Вечером Фрина надела облегающее платье, лаковые туфли, а меня облачила в смокинг и галстук-бабочку – и мы закатили пир на всю ночь.
Много пили, много ели, по требованию Фрины я «с выражением» читал лучшие отрывки из опубликованных рассказов, потом она в костюме Марики Рёкк – пышная юбка с разрезом спереди, кружевные панталоны и чулки на длинных резинках – танцевала на столе, давя каблуками фарфор и хрусталь, потом спустились потайной лестницей вниз и занялись любовью на огромной кровати под балдахином, и делали это с таким неистовством, что балдахин обрушился, разбив мне спину до крови, и Фрина слизывала эту кровь языком, урча и причмокивая, а когда утром я открыл глаза, то увидел спящую женщину с окровавленными губами, чистую и совершенную, которая тихонечко посапывала рядом, прижавшись щекой к моему плечу, и вдруг подумал, что, может быть, и не возраст вынудил ее броситься ко мне, что, быть может, и я – не удачливый проходимец, получивший незаслуженную награду, что, быть может, это и есть любовь, и похолодел от счастья…
С трудом повернувшись на другой бок, я опустил руку на книгу, лежавшую на столике у изголовья, – это был «Saint-Just et la force des choses» Альбера Оливье, – и поклялся, что никогда не стану расспрашивать Фрину о мужчинах, с которыми она делила постель в этой тайной комнате.
И только тогда обнаружил на своем мизинце перстень.
Кажется, Фрина подарила его мне, когда скинула наряд Марики Рекк, после чего мы отправились вниз по потайной лестнице. Мне было не до того – меня трясло от возбуждения. И вот сейчас я мог рассмотреть ее подарок. Это был перстень Пиля с костью Сталина. С кусочком берцовой кости Сталина.
Я вытянул перед собой левую руку, и на какое-то мгновение она показалась мне мерзким животным, вгрызающимся в меня, пожирающим мое плечо, чтобы добраться до внутренностей, до сердца, и содрогнулся…
Во второй половине мая мы были приглашены в Троицкое.
Топоров прислал за нами огромный «Мерседес», который ждал у ресторана «Националь».
Шофер – мужчина средних лет с дореволюционной бородкой – бросил нашу сумку с одеждой в багажник, кивнул на флаги, трепыхавшиеся на фасаде гостиницы «Москва», и сказал с усмешкой:
– Над нами трехцветным позором колышется нищенский флаг?
Фрина вежливо улыбнулась, а я попытался вспомнить автора этих строк – Георгий Иванов? Адамович? Ну не Набоков же! Но так и не вспомнил.
Тверская ранним утром была пустынна, редкие «Жигули» и «Москвичи» старались держаться подальше от нашего «Мерседеса», чтобы случайно не зацепить роскошную машину. Поскольку мы ехали без охраны, водители понимали, что «мерин» принадлежит бандитам, которые за малейшую царапину поставят виновника на счетчик или искалечат на месте.
Перед башней «Гидропроекта», стоявшей на развилке Ленинградки и Волоколамки, наш водитель свернул направо, и вскоре мы уже мчались на север по Дмитровскому шоссе.
– Мы там поживем недельку, может, две, – сказала Фрина. – Лев Дмитриевич взялся за мемуары, попросил о помощи. Там просторно и довольно многолюдно. Василиса и Лиля давно живут там безвылазно, Виктор Львович бывает наездами… дети, внуки… познакомишься и с семейным Распутиным – как же без него… Свои называют его Братом Глаголом… носит странные одеяния, напоминающие сутану… необыкновенные люди должны носить необыкновенную одежду, говорит он…
– Глагол?
– Великий демагог и путаник, считающий себя то ли экстрасенсом, то ли проповедником… обладает каким-то невероятным влиянием и на хозяйку, да и на многих других… Он приходится дальним родственником Льву Дмитриевичу… приехал то ли из Касимова, то ли из Спас-Клепиков, сразу стал своим в семье…
– А почему Глагол-то?
– Он считает, что советская власть в ее спокойные времена сделала жизнь многомерной, многослойной, приучив обращать внимание на оттенки и скрытые смыслы, на намеки и детали, то есть на богатство существительных и прилагательных. А сейчас картина изменилась, и жизнь сводится к одним глаголам, к битве глаголов, которые сталкиваются, крушат, смешиваются, срастаются, возносятся и падают… а зовут его Алексеем Петровичем Глаголевым, свои – Алешей, Алешенькой…
– Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь называл Распутина Гришенькой…
– А он и не Распутин, – сказал шофер, не поворачивая головы. – Шарлатан. Начитанный шарлатан. Приехали, господа.
По узкой дороге, сплошь обсаженной деревьями, мы подъехали к высоким решетчатым воротам, которые медленно разошлись перед нами и так же медленно и без скрипа закрылись, когда «Мерседес» миновал будку охраны.
– Все еще спят, наверное, – сказала Фрина.
– Кроме тех, кто не спит, – сказал шофер. – Вам отвели Красный домик, дамы и господа.
С главной дороги, которая вела к дому с колоннами, мы свернули в аллею и через минуту остановились у двухэтажного коттеджа из красного кирпича, с крышей из плоской черепицы, блестевшей на солнце.
Коттедж оказался довольно просторным, теплым, с камином, рабочим кабинетом, кухонькой и застекленной террасой, с которой открывался вид на дом с колоннами, стоявший на другом берегу пруда.
Кофе мы пили на террасе, устроившись в уютных креслах у окна и приоткрыв дверь, чтобы можно было курить.
– Настоящее поместье, – сказал я. – Даже предположить не мог, что такое у нас возможно. Какую же должность он занимал, чтобы позволить себе такое? Если бы он был секретарем ЦК или членом Политбюро, я его знал бы. КГБ?
– Не знаю, – просто ответила Фрина. – Знаю только, что он занимался деликатными делами и был, а может, и остался очень влиятельным человеком. Воевал в Китае, Испании, часто бывал за границей, даже в тех странах, с которыми у Союза не было официальных отношений… богатая биография…
– И сейчас он решил все рассказать в мемуарах? Всю правду?
– Вряд ли…
– Но сейчас многие это делают. Видимо, боятся, что правда рано или поздно все равно всплывет, так уж лучше самому рассказать…
– Не думаю. Мемуарист вообще unreliable narrator – ненадежный рассказчик вроде Тристрама Шенди или набоковского Германа Карловича… а что касается Льва Дмитриевича Топорова, то уж он-то найдет способ, чтобы устранить правду, если она его не устраивает… и никакие документы не помогут – фальшивок в архивах не меньше, чем подлинников… Может, пойдем? – Она кивнула на дом с колоннами. – Пока свидетели не набежали…
Мы вышли из аллеи на главную дорогу и не торопясь направились к дому, выкрашенному в белое и желтое.
Справа за прудом тянулись зеленые газоны, упиравшиеся в лесок.
– А где стоял дом Драгунова? – спросил я. – Там?
– Правее и дальше. Там сейчас конюшни. Другие конюшни. От прежнего дома и следа не осталось. Даже старого колодца не осталось.
Я пожалел о том, что вспомнил о Драгунове, но Фрина встряхнулась, подхватила меня под руку и буквально потащила к дому с колоннами.
– Прибавь-ка шагу! Хочу в одиночестве насладиться выражением твоего лица!
Так никого и не встретив, мы быстро поднялись по гранитным широким ступеням, прошли через полутемный вестибюль, Фрина распахнула передо мной высокую дверь, я переступил порог – сзади щелкнул выключатель – и замер.
Огромный зал имел овальную форму, но я сразу понял, где оказался: на станции метро «Комсомольская кольцевая». Пурпур и золото сталинского ампира, восьмигранные колонны из узбекского мрамора, пол, выложенный малиново-красным гранитом, высокие солнечно-желтые потолки, легкие аркады и роскошные люстры, лепнина, мозаики с православными воинами и святыми, советскими маршалами и красноармейцами. И все та же победительная гармония света и цвета, объемов, масс и образов, гармония, которая не нарушалась ни одним звуком и потому казалась мертвой…
– Но зачем? – спросил я. – Зачем, черт возьми?
– Хозяин – барин, – сказала Фрина. – Никогда еще, кажется, не видела тебя таким взволнованным…
– Здравствуйте, друзья, – раздался за нашими спинами голос. – Стален Станиславович? – Огромный мужчина с оспинами на лице, одетый в домашнюю куртку из пестрого шелка, протянул мне руку. – Рад видеть.
– Игруев, – пробормотал я.
– Вы завтракали? Прошу!
Завтрак подали на террасу.
После кофе хозяин предложил мне сигарету из серебряного портсигара.
Табак оказался очень крепким.
– Кубинский, – сказал хозяин. – Можно курить как сигару – не затягиваясь.
– Мы со Сталеном Станиславовичем только что говорили о ненадежном рассказчике, имея в виду прежде всего авторов мемуаров, – сказала Фрина.
– А чем мемуарист отличается от романиста? – Топоров выдвинул хрустальную пепельницу на середину стола. – Разве что качеством страха. Мемуарист испытывает страх перед людьми, которых может обидеть, романист – только страх Божий. Впрочем, искусство и искусственность – одного корня, остальное – вопрос меры и веры, таланта и вкуса. Ну и наконец, мемуарист просто имеет право вспоминать как ему вспоминается…
– Пренебрегая правдой?
– Мне вспоминается легенда о визире, который заподозрил свою жену в измене с неким музыкантом. Однажды визирь неожиданно нагрянул в покои жены и потребовал, чтобы она открыла всё что открывается. Особенно он заинтересовался одним сундуком. Спросил у жены, не в этом ли сундуке спрятался любовник? Жена поклялась, что это не так, но открывать сундук отказалась наотрез. «Ладно, – сказал визирь, – я тебе верю. Поэтому мы не станем открывать этот сундук, а просто выбросим его в море». Так и сделали. Музыканта с тех пор больше не видели. Но так и осталось неизвестным, убежал ли он, услышав об угрозе, или действительно прятался в том сундуке и лежит на дне моря… вот и вышло, как у Шекспира, – simple truth suppressed – правда просто исчезла…
– Метафора советской жизни, – сказал я.
Топоров усмехнулся.
– Способ, позволяющий любому обществу сохранять самоуважение.
От него веяло силой, уверенностью и спокойствием.
– Мы хотели бы немного поработать, если вы не против, Стален Станиславович, – сказал он.
– Да, – сказал я, – конечно.
Пруд был окружен дорожкой, сделанной из метровых узких досок, скрепленных по бокам и в середине прочным тонким канатом. От этой дорожки в глубину поместья отходили другие, засыпанные мелкой галькой и обсаженные боярышником.
Солнце поднималось все выше, и в теплом воздухе все ощутимее становился запах влажного ила, чубушника, луговой мяты и аира, росшего кое-где в пруду.
Минут через двадцать, пройдя краем леска, я вышел к конюшням.
Там, где когда-то, видимо, находились генеральские сады и огород, теперь в просторном загоне выгуливали лошадей.
На краю лужайки, напротив конюшен и ближе к зарослям отцветающей черемухи, над травой возвышался небольшой серый крест. Никаких надписей на кресте не было, но похоже, его установили там, где сорок семь лет назад случилась «драгуновская трагедия», как я это про себя называл.
Я ругал себя за бестактность, за то, что напомнил Фрине о доме Драгунова, воображая, что она чувствует, бывая в Троицком, где все напоминало о зеленой двери, о голом обезумевшем капитане Цвяге, об окровавленной матери, о генерале, шагающем через луг с маузером в одной руке и шашкой – в другой…
На обратном пути мне встретилась девочка лет шестнадцати, бежавшая по дорожке навстречу. На ней были босоножки и сарафан, широкий и очень короткий. Она была ослепительно красива, с изумрудными глазами, волосами цвета спелой пшеницы и белой кожей, покрасневшей на плечах и лбу.
– Монахова Лиза, – представилась она, присев с улыбкой в книксене. – А по-простому – Мона Лиза. Я – Матрешина внучка, а вы, наверное, тот писатель со смешной фамилией, которого привезла Анна Федоровна?
– Игруев, – сказал я, пожимая ее тонкие пальчики и пытаясь сообразить, кто такая Матреша. – Куда ж вы так спешите, Мона Лиза?
– За опасными приключениями, – ответила она. – Куда ж еще может спешить такая прелесть, как я?
И побежала вверх, к леску.
Обедали мы снова втроем, Топоров был оживлен, рассказывая о своих лошадях, а Фрина между делом шепотом ответила на мой вопрос о Матреше: «Нынешняя жена хозяина».
До ужина я валялся на тахте, читал «Историю О», которая меня скорее раздражала, чем увлекала, курил, спал, пил кофе, в общем, блаженствовал, уже без всякой страсти думая о Драгунове, Топорове, о Моне Лизе, ее покрасневших от солнца плечиках и выражении лица, когда она говорила об опасных приключениях… что-то дьявольское в нем было, в этом выражении, холодное и дьявольское, может быть, и наигранное, но почему-то казалось, что это не игра, но лень было углубляться, лень было вообще думать…
За ужином Фрина рассказывала о Матреше, которая была лет на пятнадцать-двадцать моложе мужа, полуболела множеством полуболезней, подозревая у себя то рак, то диабет, то еще какую-нибудь страсть, принимала множество таблеток, которые продавались без рецепта, ходила с палочкой и обожала свою внучку…
– Что-то в ней не так, в этой Лизе, – сказал я.
– Красавиц не жалко, – сказала Фрина, – а красоту – жаль…
Мы вышли на террасу, когда к ней подъехал кабриолет, из которого выпрыгнул высокий молодой мужчина лет двадцати пяти – тридцати, рослый и скульптурно красивый.
– Анна Федоровна! – воскликнул он, широко раскидывая руки. – Обожаемая!
Фрина подставила щеку для поцелуя.
– Барин у себя? – спросил он, пожимая мне руку и не глядя на меня. – Звал – опять небось ругать будет…
– Кажется, в кабинете…
Широко улыбнувшись, он небрежно поклонился нам, взлетел по ступенькам и скрылся за дверью.
– Август, сын Льва Дмитриевича, – сказала Фрина, беря меня под руку. – Приемный. Сын официальной любовницы – Нинели. Настоящая хозяйка большого дома… ну и красавица, конечно, и дружит с Матрешей…
– Господи, – сказал я, – сколько ж ему лет? Барину нашему – сколько?
– За девяносто, – сказала Фрина. – Но, как видишь, он еще далек от того, чтобы считать его ресурс исчерпанным. А ведь как попрохладнело, а!
Едва мы вошли в Красный дом, как раздался телефонный звонок: Топоров освободился и хотел бы немного поработать с мемуарами.
– Вряд ли это надолго, – сказала Фрина. – Если пойдешь гулять, надень свитер – он в моем шкафу на нижней полке.
Я выкурил на террасе сигарету, потягивая вино и любуясь первыми красками заката на поверхности пруда, вокруг которого зажглись фонари – такие же матовые шары, как и те, что были расставлены вдоль дорожек и желтели вдали за деревьями.
Было около десяти, солнце еще не село, когда я, надев свитер, отправился знакомым маршрутом на прогулку.
Под козырьком конюшни горели лампы, забранные решетками, в денниках пофыркивали и ворочались лошади, а над серым крестом без надписей тускло тлела электрическая свеча, которую днем я не заметил.
Назад я решил идти через лесок, ориентируясь на свет фонарей, которые были расставлены вокруг коттеджей.
Огибая дом с обширной застекленной террасой, я придержал шаг, вдруг услышав громкий шепот, и остановился под деревом, чтобы не напугать тех, кого мог хорошо разглядеть в свете большой лампы, стоявшей в углу на столе.
Это были внучка Матреши и какой-то мужчина.
Голая Мона Лиза стояла на коленях перед мужчиной, лицо которого лишь угадывалось в тени, – можно было легко догадаться, чем они занимались.
Стараясь ступать как можно тише, я вернулся к конюшням, а оттуда другой дорогой спустился к Красному домику.
Под утро я проснулся от болезненной эрекции, завершившейся бурным семяизвержением, чего со мной не было уже, наверное, лет десять-двенадцать.
Я был мокрым от пота, пальцы дрожали, я был ошеломлен, когда понял, что это все из-за Моны Лизы – из-за этой чертовой Моны Лизы, с которой мы в моем сне буйно совокуплялись…
Русские революционеры не вели дневников. Полицейское преследование, провокаторы, шпионы, предатели, жизнь под чужими именами, тюрьмы, ссылки, бездомность – в такой обстановке дневники были опасны, попади они в чужие руки. А потом, когда они пришли к власти, было не до того: войны, строительство нового мира, внутрипартийная борьба, репрессии.
Старые большевики, со временем взявшиеся за мемуары, полагались скорее на свою память, чем на документы, в которых, говоря между прочим, могли обнаружиться и нежелательные факты их сотрудничества с Охранным отделением, например, или пребывания в эсеровских рядах.
Они писали мемуары, выступая в роли победителей, а потому могли позволить себе любую ложь.
Лев Топоров участвовал в революционном движении с четырнадцати лет, пережил Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и овладел искусством молчания в совершенстве. Однако в своих мемуарах он с небывалой откровенностью – по моим тогдашним представлениям – рассказывал про ограбления банков, казни предателей, убийства невинных, о Гражданской войне, массовых расстрелах мирного населения, после которых он так запил, что был вынужден лечиться у психиатра…
– Мы же все тогда были ницшеанцами, – сказал он как-то за завтраком. – Милосердие казалось позором. Когда закончилась Гражданская, наступило похмелье… Троцкий маялся депрессией… а я так и вовсе скатывался в какую-то смрадную яму… пил, буйствовал, за женой – она была внучатой племянницей Тургенева – гонялся по дому с саблей, хотел зарубить… все портреты Тургенева, а их у нас висело десятка полтора, расстрелял из револьвера… места себе на находил, а когда нашел, все как рукой сняло…
– И что же вы нашли, Лев Дмитриевич? – осторожно поинтересовался я.
– Место, – сказал он с улыбкой. – Настоящее место, Стален Станиславович…
Я сразу вспомнил Пиля с его уклончивостью и улыбнулся в ответ, понимая, что на некоторые вопросы Топоров физиологически не способен ответить.
– У меня складывается впечатление, – сказал я после завтрака Фрине, – что он как будто намеренно живописует все эти ужасы. Отрубленные пальцы, кровища, женщины, которым они набивали прямую кишку порохом, а потом поджигали… Он вроде бы человек со вкусом и должен понимать, что это перебор… отвлекающий маневр? Бьет по нервам, чтобы отвлечь внимание от каких-то фактов своей биографии? Не думаю, что это такой уж продуктивный прием…
– Когда мы впервые заговорили о мемуарах, – сказала Фрина, – он вскипел: «Мне не в чем оправдываться!» Понимаешь? – Сделала паузу. – Например, он не хочет говорить о своем еврейском происхождении. Топоров – это ведь транформация фамилии выкреста. Многим евреям при крещении давали фамилию Христофоров. Христофоров со временем стал Христопоровым, а потом и Топоровым…
Я пожал плечами.
– А остальное я тебе потом покажу…
– Еще один отрубленный палец?
– Увидишь… поедем в Кирпичи, и увидишь…
– И вот что интересно, – сказал я. – Люди, воспитанные в царской России, все эти адвокаты, офицеры, профессора, журналисты, священники, учившиеся в старых университетах, поклонники Толстого, Фета и Чайковского, без видимых терзаний стали палачами, безжалостными людоедами, а их дети и внуки, выросшие в новой среде, в советских университетах, все это спустили на тормозах, а потом и вовсе прикрыли проект СССР. Ирония истории…
– Или la force des choses, – сказала Фрина. – Но если ты про Льва Дмитриевича, то он в университете не учился, уже после Гражданской окончил военную академию, потом еще одну в Германии… человек необыкновенного упорства: при огромной занятости выучил немецкий, английский, французский и, кажется, даже китайский…
– Слушай, если он был революционером, большевиком с дооктябрьским стажем, занимал какие-то важные должности при коммунистах, что ж с ним случилось, а? Со всеми этими людьми – что с ними случилось? Когда у партии не осталось других лозунгов, кроме повышения благосостояния народа, дети и внуки этих пламенных революционеров стали этим народом. Это понятно. Поколение циников и лицемеров. Но он-то! Он же принадлежит к поколению убежденных людей! И вдруг – это поместье, вся эта роскошь…
– Наверное, в какой-то момент он понял, что человек всю жизнь сражается только с одним противником – с неумолимым временем. Прости за пафос, но только ему, времени, мы и бросаем вызов по-настоящему. Если бросаем. В какой-то момент, думаю, это понял и Лев Дмитриевич. – Она помолчала. – Речь идет о наследстве, то есть о преодолении времени. Как он мог остаться? Что мог оставить детям, внукам, правнукам? Имя? Он был человеком-тенью, его мало кто знал. Могущество? Однако власть, могущество у нас не передавались по наследству. Разве что связи, но в эпоху перемен это не очень надежное наследство. А вот если соединить могущество с деньгами, то этот союз может жить вечно. Или хотя бы много-много лет… пришло его время, и он этим воспользовался…
– Победили не белые, а жадные, – вспомнил я ее слова.
– Что ж поделать, история всегда на стороне жадных…
Глава 22, в которой говорится о зачеркнутом Христе, сладостном небытии секса и преступной леворукости
Рано утром на террасу, опираясь на палочку, выбредала Матреша, закутанная в пуховую шаль. Она садилась за столик в углу, где светило солнце, и долго пила чай, макая в него кусочки сахара. Согревшись, гуляла вокруг пруда, то и дело присаживаясь на скамейки, которые были расставлены на берегу через каждые пятьдесят метров. Обедала в обществе Нинели, следившей за тем, чтобы Матреша не перебарщивала с таблетками. Оживала к вечеру. За ужином выпивала рюмку ликера, немножко играла на пианино, вспоминала, как за нею ухаживал Смоктуновский, и удалялась на прогулку под руку с Братом Глаголом, который по вечерам надевал облегающее платье с двумя рядами мелких серебряных пуговиц от воротника-стойки до самого низа…
Иногда с нею ужинали Василиса, оставшаяся безмужней, бездетной и превратившаяся к старости в мужчину с седыми усиками, и Лилия, не утратившая ни страсти к чтению, ни своей колоннообразности.
Лиля благодаря отцу наконец-то побывала в своей обожаемой Испании, откуда вернулась разочарованной: «Эта хваленая Саграда Фамилиа – иллюстрация к метаморфозам истории: сила вырождается в красоту, потом начинается невроз, часто – невроз своеобразия. Церковь и вера становятся церковью и верой одного человека, несомненно талантливого. К Церкви, к вере это уже не имеет отношения. Сказочное великолепие, в котором нет места для Бога, красота без красоты Христа… Мне кажется, сегодняшний храм веры должен быть специально неказистым, кривым, худым и горбатым, темным и холодным, чтобы «чувству прекрасного» не было в нем места ни пяди. Достоевский написал: «Красота Христа мир спасет», а потом Христа зачеркнул, понадеявшись, видимо, на догадливость людей. Ошибся: все зачеркнули Христа, а красотой стало то, что я чувствую, то есть что угодно, ничто. Что ж, мертвое в искусстве рождается гораздо чаще, чем мы думаем…»
Ей было за сорок, когда она страстно влюбилась, а после мучительного разрыва и тяжелых родов пережила глубокий духовный кризис и крестилась. Не расставалась с четками, хотя и стеснялась доставать их из сумочки на людях. Ее утешением были вера и двадцатилетний сын – ангел Ванечка, наделенный божественной телесной красотой, слабым здоровьем и умом пятилетнего ребенка.
Лиля хмурилась всякий раз, когда рядом с ее обожаемым Ванечкой оказывалась Мона Лиза. А девочка, казалось, преследовала ангела. Где бы он ни появлялся, она тотчас возникала поблизости. Подавала ему чай, касалась невзначай его руки, заглядывала в глаза, улыбалась только ему и была счастлива, если Ванечка обращал на нее внимание. Она выманивала его из дома, стоявшего в глубине леса, и они гуляли, держась за руки, или сидели на лавочке в зарослях чубушника, или плавали в пруду. Лилия была убеждена, что «эта мерзавка совратит и погубит Ванечку», но сдерживала себя, чтоб не обижать Матрешу.
– Да ведь красивая парочка, – говорила простодушная Василиса. – Жаль, что Ванечка – дурак, дети б у них были сплошь херувимчики…
Изредка в Троицкое приезжал Виктор Львович – рослый, мощный, бритый наголо, с тонкими губами и близко посаженными глазами. С ним была вторая жена Лера – маленькая красивая женщина с тонкой талией и «формами», весь день проводившая на теннисном корте, и приятель – высокий, худощавый, широкоплечий, длинноносый, с невероятно длинными пальцами на руках, как у Пиля.
– А это и есть Пиль, – сказала Фрина. – Казимир Пиль-самый-младший. То есть самый младший из сыновей Пиля.
– Похожи на бандитов, – сказал я.
– Они не бандиты, – сказала Фрина. – Они из тех, кто считает, что караются не преступления, а промахи.
Лера осталась в Троицком, и Фрина каждый день играла с ней в теннис, если не была занята мемуарами Топорова-старшего.
Я почти весь день был предоставлен себе, читал, спал и бредил Моной Лизой.
Неотвязные мысли о зеленоглазой девочке и непреодолимое влечение к ней – вот как можно описать мое тогдашнее состояние.
Оставаясь один, я вспоминал о том вечере, когда застукал Мону Лизу и Брата Глагола на полутемной террасе, перебирал и смаковал детали, мне хотелось схватить ее, смять, скомкать, сломать, сожрать и стонал, стонал: ужасно стыдно было перед Фриной, но поделать с собой ничего не мог, это было безумие, мысли о Лизе были неудержимы, как понос…
После завтрака я в одиночестве долго курил на террасе, листая газеты.
Началась гражданская война в Таджикистане, крымский парламент провозгласил независимость от Украины, армяне взяли Шушу и заняли Лачинский коридор, в Азербайджане свергли президента, грузины на Зарской дороге расстреляли осетинских беженцев – женщин и детей, хорваты прорвали блокаду Дубровника, Ельцин и Хасбулатов вели борьбу не на жизнь, а на смерть, которая не могла завершиться ни перемирием, ни миром, а я думал о Моне Лизе, об этой грязной сучке, о ее сладком теле, о ее ангельском голосе, потом, закурив новую сигарету, отправлялся бродить по поместью, надеясь встретить Лизу, может быть, перекинуться с нею хотя бы парой слов, чтобы услышать ее голос, коснуться ее руки, схватить, подержать за щекой, пока ее тело не растает в моем пылающем рту…
В тот теплый дождливый вечер, когда Фрина после ужина скрылась в кабинете Топорова, я решил напиться. Выключил свет на террасе, распахнул дверь в темноту, закурил, но не успел поднести стакан к губам, как в дверном проеме показалась знакомая фигура.
– Какой дождь, – сказала Мона Лиза, – я вся промокла…
Она шагнула ко мне, снимая через голову платье, под которым ничего не было, прошла мимо, маня пальчиком, и скрылась за дверью, я вскочил, выбежал в гостиную, но ее там уже не было – прошла под окном, уже одетая, с улыбкой покачивая головой, и исчезла, а я так и стоял посреди гостиной, оглушенный, растерянный и униженный…
Утром, когда я листал газеты на террасе большого дома, она прошла мимо, даже не взглянув на меня, и я понял, что пропал – пропал с потрохами, что надо бежать вон из этого дома, и помчался в Красный дом, чтобы собрать вещи и исчезнуть, но на полдороге меня окликнула Лера:
– Стален! Скорее сюда! Скорее же, Стален!
Я бросился к кустам лимонника, которыми были обсажены теннисные корты, и увидел Фрину – она лежала на спине у сетки и смущенно улыбалась.
– Упала, как дура, – сказала она. – Ничего страшного.
На следующий день я узнал, что Мону Лизу отправили в Италию, и вздохнул с облегчением.
Фрину отвезли в больницу на обследование, но тем же вечером она вернулась: ушиб, ничего серьезного. Однако ей велено было полежать несколько дней в постели, и эти дни стали счастливейшими в нашей жизни.
После обеда спали, потом пили чай, иногда я читал вслух – либо что-то из нового своего, либо «Историю О», перевод которой Фрина взялась редактировать по просьбе старого друга, занявшегося издательским бизнесом.
– Никак не могу проникнуться этой книгой, – признался я. – Никак не могу заставить себя сопереживать умственно неразвитой героине с садомазохистскими наклонностями, этой ее зоологической влюбленности в мерзавца… кажется, она самым естественным образом отказывается от себя, чтобы стать никем, ничем, вещью и с упоением раствориться в сладостном небытии секса… наверное, это самое странное любовное послание, какое мне приходилось читать…
– Меня тронул эпизод ее выбора, – задумчиво проговорила Фрина. – Когда О. должна сделать окончательный выбор и сказать: я твоя, я ваша, я готова принадлежать любому, кому прикажете, и сделаю это по доброй воле…
– Недолго же она колебалась…
– Она выбрала неизбежное как необходимое… в жизни это случается не так уж и редко…
– Угу, – промямлил я, вдруг сообразив, что Фрина говорит о себе, и тотчас отругав себя за тупость и бестактность.
– А ты, оказывается, левша – я только сейчас это поняла… и раньше замечала, что ты слишком хорошо для правши владеешь левой, но сейчас ты левша в чистом виде…
Я вытянул перед собой левую руку – она почти не дрожала.
– Я не левша. Я стал левшой. Врачи сказали, что это, наверное, единственный случай в истории, когда человек, родившийся правшой, стал левшой. Левшизм – это же явление антропологическое, но в моем случае – психологическое… психическое… это случилось после смерти сестры… когда мать впервые увидела, как я ем левой, она ударила меня по руке ложкой и расплакалась… она считала мой левшизм чем-то вроде грехопадения…
– А твой отец?
– Он сказал, что, случись с ним такое, он, конечно же, отрубил бы себе левую руку топором, но люди живут и с одной рукой…
Фрина взяла мою левую руку и подула на нее, как дуют на горячее.
По вечерам, когда становилось темно, я помогал Фрине дойти до пруда, раздевал и на руках вносил в воду. Она плавала, держась за мою руку, а потом усталая прижималась ко мне, и мы долго лежали в теплой воде, глядя в небо, прислушиваясь к рокоту отдаленной грозы и едва шевеля ногами, почти бесплотные, почти бесполые, почти бессмертные…
Глава 23, в которой говорится о трех каплях йода на стакан воды, постыдном героизме и гнилых немецких нитках
Как только Фрина вернулась из больницы в Троицкое, Лев Дмитриевич приказал, Нинель распорядилась – и мы были обеспечены всем необходимым.
Множество людей в серых брюках и серых куртках с тонким красным кантом обслуживали огромное поместье – ухаживали за деревьями и дорожками, подстригали газоны, следили за чистотой в домах и исправностью автомобилей, меняли и стирали постельное белье, чинили электропроводку и канализацию, готовили еду для хозяев и гостей, охраняли их покой.
Эти безмолвные люди были незаметны и вездесущи. Жили они в западной части поместья, за оранжереей и теплицами, в маленьких домиках на две семьи. Только Нинель знала их всех в лицо и почти всех по именам.
Рядом с Матрешей неотлучно находилась Баба Нина – пожилая крепкая женщина в маленьких очочках. Она помогала хозяйке принимать ванну, вручную стирала ее белье, составляла ее меню, делила с ней ликер, читала на ночь неразменного «Обломова» и добывала народные лекарственные средства, которые, впрочем, прежде чем отдать Матреше, обязательно показывала Нинели.
Баба Нина среди прислуги занимала такое же особое место, как и Иван Никитич Скромный, сухощавый язвительный старик по прозвищу Третья Рука, хотя он предпочитал считать себя неусыпной совестью хозяина, воплощенной укоризной.
Подавая Топорову свиную отбивную, Иван Никитич язвительно возвещал: «Ваш холестерин, Лев Дмитрич!» А поднося спичку к сигаре, непременно говорил: «Отведайте рака легких, Лев Дмитрич!»
У него всегда наготове было несколько пар очков для Топорова, чистые носовые платки, спички, маленькая фляжка с коньяком, кубинские сигареты, паркеровская ручка для подписей, карандаш для записей и пузырек с йодом.
– Говорят, Сталин не доверял врачам и от всех болезней лечился йодом, – сказала Фрина. – Стакан воды с тремя каплями йода. Этому научил его какой-то фельдшер, кажется, коновал. Правда это или нет, не знаю, но каждое утро Иван Никитич ставит перед хозяином стакан с тремя каплями йода и не уходит, пока не убедится, что Лев Дмитриевич выпил чудодейственное сталинское средство. Верный слуга, который последует за господином на плаху и войдет в рай рабов с собственной головой под мышкой и пузырьком йода в кармане – для хозяина. Таких нынче не фабрикуют. Если дела у Льва Дмитриевича пошатнутся, он может поштучно распродать прислугу – заработает кучу денег…
– Патриархальный рай. Единение рабов и хозяев, мир, покой и благорастворение воздухов…
– Лев Дмитриевич из тех людей, – сказала Фрина, – которые убеждены, что Россия одним боком граничит с Богом, другим – с адом, а потому порядок в ней важнее прогресса.
– Это наше прошлое или будущее?
Фрина усмехнулась.
Михаил Сергеевич Мингалев, молодой врач, который навещал ее по утрам, не принадлежал к прислуге. Жил он где-то неподалеку, приезжал в поместье через десять минут после вызова на «Ягуаре», был холоден, сдержан и благоухал дорогим парфюмом. К нам он являлся в сопровождении хозяина.
Пока доктор осматривал Фрину, мы выкуривали по сигарете за столиком у террасы.
Я не знал, о чем разговаривать со стариком, предоставляя инициативу ему.
– Почему литература, писательство? – спросил он однажды. – Понимаю, что профессия выбрала вас, но почему вы откликнулись? Вас привлекает роль героя?
– Героя?
– Иногда складывается впечатление, что художники, писатели, музыканты только тем и занимаются, что «борются», «противостоят», «ломают стереотипы», «свергают с пьедестала», «гибнут в неравной борьбе»…
– Мне кажется, что в этой героизации есть что-то жалкое… словно всем этим людям за себя стыдно…
– То есть, по-вашему, профессия как профессия?
– Ну да, – сказал я, – как у сантехника, починяющего унитазы, или у Бога, заставляющего солнце каждое утро вставать на востоке, а вечером – садиться где надо. Мне близка мысль Камю, который писал, что художник служит не тем, кто делает историю, а только тем, кто историю претерпевает… какой же тут героизм? Скорее – святость…
– Лихо. – Топоров усмехнулся. – Наверное, вы правы. Никто не хочет думать. Очень много говорят и думают о мысли, но не мыслят…
– Вы о тех, кто причисляет художников к борцам?
– И о них тоже. Но больше о тех, кто сейчас бросился писать о политике…
Я ждал продолжения.
– Политика, Стален Станиславович, – сказал Топоров, тщательно давя окурок в пепельнице, – она самым кошмарным образом не соответствует всему тому, что о ней думают или чем ее считают все эти мыслители, потому что она – воплощенная практика, ничего больше. В этом и ее преимущество, и ее трагедия… а политики давно перестали быть врачами, превратившись в фармацевтов…
Но развить свою мысль Топоров не успел – в дверях появился доктор Мингалев.
По вечерам Топоров приходил по делу – с рукописью мемуаров, и тогда компанию мне составлял Брат Глагол.
Голос у него был завораживающим. Он говорил быстро, с паузами в нужных местах, то бубнил, то вдруг срывался на крик, то переходил на шепот, как какой-нибудь третьесортный актеришка, но все это ничуть не мешало слушателю, почти сразу подпадавшему под чары этого шарлатана. Может быть, потому, что даже о чепухе он говорил с такой страстью, будто речь шла о чем-то чрезвычайно важном, глубоко пережитом и выношенном. Да и горящие глаза – это тоже про него. Он не сводил взгляда с собеседника, пытаясь его загипнотизировать, и вообще было в его облике, в его телодвижениях что-то такое, что проникало в меня помимо слов, привлекало, притягивало, как медведя – тухлятина.
Ну и потом, не так уж часто я встречал людей, готовых часами говорить не о ценах на мясо, пьянстве Ельцина или райской жизни на Западе, а о Боге и дьяволе, о судьбе и тайнах бытия. Наверное, я был для него легкой добычей.
Нигилизм всех сортов и оттенков продавался тогда на каждом углу, и меня в самом деле интересовало, во что же верит этот странный тип.
Но когда он заговорил о темном Христе, о Христе-во-тьме, я насторожился.
– Мне казалось, что христианство – это свет, ясность, – сказал я. – Ну и вообще, бог, дивный лишь во мраке, мне не мил. Это, кажется, у Еврипида…
– Христианство мертво, – сказал он. – Оно еле-еле тащится, сгибаясь под тяжестью скарба духовного и материального, накопленного за два тысячелетия, с которым оно не хочет и не может расстаться. Оно живет ритуалами. Оно напоминает человека, кричащего что-то, цепляясь за льдину, которая стремительно несется к ревущему водопаду, но его никто не слышит. С этим христианством умер этот Христос, их Христос. Но мой – не умер, Он готов к воскресению, Он бродит и поднимается, как тесто в квашне, и я чую его запах. Но пока Он сам – тьма. Тьма больная, исстрадавшаяся, может быть, страшная, но живая, готовая до предела сгуститься, сжаться и вспыхнуть новыми звездами, и тогда из этой тьмы выйдет новый Христос, воскресший, может быть, уродливый, кривой, горбатый, на костылях, воняющий дерьмом, и именно за ним потекут люди, жаждущие обновления, света, истины – жизни. Они верят такому Христу – грязному, неумному и на костылях, пьяненькому, с папироской, прилипшей к нижней губе, Христу, который воспламенит историю и заставит ее лететь и петь…
– У нас в таких случаях история обычно поет «Отречемся от старого мира». В первый раз это привело в ГУЛАГ. Боюсь, Россия вряд ли может еще раз позволить себе спасать народы, жертвуя людьми…
– Не надо бояться, – сказал он почти шепотом, наливая себе вина. – Иногда я вижу озеро… оно находится глубоко-глубоко под землей, и чтобы добраться до него, требуются почти нечеловеческое терпение, мужество и любовь… озеро крови глубоко под землей… оно тихо кипит, и ужас, которым от него веет, пугает до судорог… там вся кровь невинных… вся кровь истории… только немногие отваживаются спуститься в земные бездны, чтобы пройти кривыми путями к этому страшному озеру, к его берегам, погруженным во мрак… лишь где-то в вышине тускло млеет адский багрянец… эти люди опускаются на колени, они пьют кровь, набираясь сил для небывалого… Чингис-хан, Ленин, Иисус Христос…
– Сталин, – подсказал я.
Он кивнул.
– Ельцин?
Брат Глагол покачал головой.
– Его безыдейный национализм возможен только потому, что русский бог решил отдохнуть, и зачахнет без почвы…
– Значит, на смену ему придет идейный национализм? Русский? И никакой демократии?
– Ну какая демократия в России? – Брат Глагол улыбнулся. – Мы ведь тысячу лет считали и считаем, что власть от Бога, так какое, к черту, значение имеют все эти выборы, процедуры, представители народа – депутаты и прочая, и прочая?
– Но для этого русский народ должен собраться, а у меня складывается впечатление, что люди сегодня скорее россыпью, чем кучкой…
– А они всегда такие. Были, есть и будут. Клюшников сто пятьдесят лет назад написал, что Россию населяет сброд, связанный гнилыми немецкими нитками да затянутый сенатским узелком, и с тех пор ничего не изменилось. Мы ведь народ набатный. Ударят в набат – мы народ, а нет так и нет. Народ, прячущийся от начальства и как будто несуществующий, неразличимый во тьме, да и сам он – тьма… и из этой тьмы и родится новый Христос…
– Скажите, Алексей, вы хорошо знаете Льва Дмитриевича?
Он принял мою попытку сменить тему без удивления и раздражения.
– Мне хочется понять, – продолжал я, – какое место в вашей картине мира занимают такие люди, как Топоров… он для меня – человек-тайна, то есть тьма…
– Он очень одинок, – сказал Брат Глагол. – Король Лир. – И с усмешкой добавил: – А я при нем шут.
– Я ж тебе говорила: он путаник, – сказала Фрина, когда я передал ей свои впечатления от разговора с Братом Глаголом. – Но насчет Льва Дмитриевича он, пожалуй, не ошибается…
Глава 24, в которой говорится об ушибленном колене, ограблении и естественном апокалиптизме
Вскоре доктор Мингалев разрешил Фрине гулять, постепенно наращивая физические нагрузки.
По утрам мы бродили по дорожкам, забираясь в самые глухие уголки поместья, потом купались. Утром Фрина надевала белый купальник с оборками, после обеда – алый, вызывающий, а поздно вечером мы плавали голышом.
На исходе третьей недели Фрина опять упала.
Это случилось во время вечерней прогулки, когда мы поднимались к лесу по дорожке. Фрина подвернула ногу и упала на колено. И надо ж такому случиться, что именно в этом месте среди мелкой гальки оказался булыжник.
Я на руках отнес ее в коттедж.
Колено распухло.
Вызвали врача, он наложил повязку и велел ехать в больницу.
– Утром, – сказала Фрина.
– Андрей Михайлович вас отвезет, – сказал Топоров.
Речь шла о том самом водителе с дореволюционной бородкой, которого хозяин обычно посылал за самыми дорогими гостями и который цитировал Адамовича.
Утром Фрине стало хуже.
За завтраком, откусив хлеба, она схватилась за щеку, потом сунула два пальца в рот и достала зуб. Это был коренной зуб.
– Такое бывает при пародонтозе, – сказал я. – Ты давно была у стоматолога?
– У меня никогда ничего подобного не было, – с отчаянием сказала она. – Никогда!
Машина ждала нас у подъезда.
– Вас встретит Алина, – сказал Топоров. – Она договорилась с больницей.
Всю дорогу Фрина молчала, прижимаясь ко мне.
Машина мчалась.
Скорости я не боялся – страшнее были цифры на спидометре, на который я старался не смотреть.
Мы свернули под арку, и я издали увидел машину «Скорой помощи», которая стояла у нашего дома с мигающими огнями.
Рядом со «Скорой» курила Алина в распахнутом плаще.
Вдвоем с шофером мы с трудом извлекли из машины Фрину – ноги ее не слушались – и на руках отнесли к «Скорой», уложили на носилки.
– Останься, – сказала Алина, когда я сказал, что поеду с Фриной. – Сходи вниз, потом позвони Льву Дмитриевичу. – Протянула связку ключей. – Ты понял? Сначала вниз, потом – Льву Дмитриевичу.
В ее голосе слышалась тревога.
– Останься дома, – сказала Фрина, не открывая глаз. – Пожалуйста, Стален…
– Конечно…
«Скорая» с включенной мигалкой скрылась за поворотом.
Ничего необычного наверху я не обнаружил.
На столе в кухне стояла открытая бутылка вина, рядом валялась пробка.
В Карцере тоже не было ничего странного.
Я заглянул в ящик стола, где хранилась моя заначка – пять тысяч долларов, завернутые в газету. Поскольку я почти не тратил деньги, выданные мне дедом на московские расходы, Фрина посоветовала обратить их в валюту, что я и сделал. Заначка была на месте.
В спальне Фрины я отодвинул ширму, отпер потайную дверь, спустился в зал, щелкнул выключателем и вот тут сразу понял, чем была так встревожена Алина.
Роскошные покои были разгромлены.
Пушистые ковры усыпаны осколками китайских ваз и хрусталя, кожаная мебель изрезана в клочья, картины Серебряковой и Дейнеки изодраны.
Эти картины меня особенно поразили – они стоили огромных денег, но вместо того чтобы украсть, погромщики порезали холсты.
Кровать под балдахином порубили топором, матрас вспороли…
Рядом с кроватью валялась книга Альбера Оливье «Сен-Жюст и сила обстоятельств» – та самая, на которой я поклялся, что никогда не стану расспрашивать Фрину о ее прежних мужчинах…
Простенок между окнами, обычно прикрытый блеклым гобеленом, зиял огромной дырой до пола. Похоже, тут был сейф или что-то вроде тайника.
Возможно, преступников интересовало именно содержимое этого сейфа, а погром – так, для отвода глаз…
С Сен-Жюстом в руках я поднялся наверх, позвонил Топорову и в немногих словах рассказал ему о том, что случилось.
– Никуда не уходите, пожалуйста, – сказал Лев Дмитриевич. – Сейчас приедем. И не беспокойтесь: ключ у меня есть.
В этом я и не сомневался.
В ожидании Топорова съел бутерброд, сварил кофе и открыл книгу, испещренную пометками, которые были сделаны рукой Фрины.
Альбер Оливье размышлял о непреодолимой мощи истории, о силе обстоятельств, которая привела на гильотину Сен-Жюста и его соратников, вдохновителей революции, ради которой они отправили на гильотину множество людей.
«Этой книге не хватает эпиграфа, – сказал я однажды. – Благими намерениями вымощена дорога в ад. Или: начинали за здравие – кончили за упокой».
«Ну что тут скажешь? – Фрина развела руками. – История длится и творит небывалое – других функций у нее нет. Человек может влиять на историю в той же степени, в какой она – на человека, не больше».
«А идеи?»
«Мне кажется, идея человека с идеей в двадцатом веке дискредитирована окончательно…»
Она то и дело возвращалась к переводу этой книги, но так и не взялась за него по-настоящему.
Не успел я допить вторую чашку кофе, как на лестнице раздались шаги.
Как я и ожидал, Топоров приехал не один – его сопровождали несколько мужчин, которые тотчас принялись за дело.
– Не похоже, чтоб это были люди с улицы, – сказал я.
Топоров промолчал.
Потом один из мужчин – он назвался Николаем Владимировичем – часа полтора расспрашивал меня о моих знакомых, о привычках, о гостях, которые бывали в доме. Я обстоятельно отвечал на его вопросы, умолчав, однако, о Пиле.
Вечером из больницы вернулась Алина.
По ее словам, врачи ничего не понимали: организм Фрины, никогда не дававший сбоев, вдруг пошел вразнос – рухнула иммунная система, забарахлили почки, сердце, печень, воспалились суставы…
Топоров задумчиво кивал.
– Прогноз неясен, – сказала Алина, – но врачи обещают, что через месяц-два поставят ее на ноги. Может быть, ей надо отдохнуть у моря… какой-нибудь курорт, санаторий…
– Да, – сказал Топоров, – разумеется.
За окнами совсем стемнело, когда он и его команда уехали.
– Может, мне остаться? – спросила Алина. – Ты не против?
– Нет, конечно, – сказал я.
Если бы это сделала Алина, подумал вдруг я, она не стала бы резать Дейнеку, но мысль эта показалась настолько дикой, что я замотал головой с такой силой, что ударился виском об угол шкафчика, висевшего над столом.
– Иди-ка ты спать, – сказала Алина, протягивая мне ватку, смоченную йодом, – а то к утру от тебя одни щепки останутся…
В Карцере я не раздеваясь рухнул на диван, прижимая ватку к виску, но не успел погрузиться в сон, как пришла Алина, благоухающая шампунем.
– Как ты? – спросила она, шурша ночной рубашкой.
– А что на самом деле говорят врачи?
– Она умирает, – ответила Алина. – Никаких надежд. Никаких…
Каждое утро мы с Алиной спускались на станцию метро «Охотный Ряд», доезжали до «Библиотеки имени Ленина», переходили на станцию «Александровский сад», ехали до «Кутузовской», пешком добирались до пересечения Кутузовского проспекта с Минской улицей, откуда было рукой подать до больницы, где лежала Фрина.
Она встречала нас в кресле с улыбкой, но вскоре перебиралась на кровать – сил не было даже сидеть.
Мы делали вид, что не замечаем ни ее дрожащих пальцев, ни морщин на шее, которую она старательно кутала шарфом.
Говорила она осевшим, хрипловатым голосом, быстро утомлялась. Однажды захотела прогуляться по коридору, долго нашаривала ногой тапку, сделала несколько шагов и повисла на моей руке.
Однако к концу июля она стала чувствовать себя намного лучше. Мы даже спускались во двор, гуляли в роще, где Фрина взяла у меня сигарету, затянулась и с улыбкой сказала: «Ну вот и ничего».
15 августа ее выписали из больницы – эту дату я запомнил потому, что утренние газеты сообщили о случившемся днем раньше вторжении грузинских войск в Абхазию.
Врачи только вздохнули, когда речь зашла о долгосрочном прогнозе, но в один голос заявили, что ни о каких поездках на курорт, к морю не может быть и речи.
Топоров прислал машину, и все тот же Михаил Андреевич отвез нас домой.
Почти весь день Фрина спала, а вечером Алина приготовила праздничный ужин. Мы пили за ее здоровье и уплетали за обе щеки, а Фрина ограничилась маленьким омлетом и глотком бургундского, присланного Топоровым.
Вскоре после ужина она приняла снотворное и уже через десять минут спала мертвым сном.
Двери в ее спальню и в Карцер мы оставили открытыми.
Утром она ответила на мой поцелуй.
Наклоняясь к ней, я почувствовал странный, незнакомый, неприятный запах, исходивший от ее тела, и сердце мое сжалось от жалости.
После завтрака мы прогулялись по Тверской, посидели на бульваре и не торопясь вернулись домой.
Фрина так устала, что позволила себя раздеть.
Теперь она носила очки, зубные протезы и компрессионные чулки, иногда у нее из носа шла кровь. На ее ночном столике теснились пузырьки и баночки с аптечными наклейками, а еще всякие средства для ухода за кожей рук и лица. После обеда она принимала небольшую дозу снотворного, вечером – двойную.
Доктор Лифельд снова стал постоянным нашим гостем.
Обычно он приходил вечером и оставался на ужин, много ел и пил, но выглядел усталым.
Лифа переживал трудные времена: жена ушла к другому и втянула его в судебную тяжбу из-за раздела имущества, а дети, которых доктор всегда баловал и любил, встали на ее сторону…
– Король Лир, – сказал я, вспомнив о Брате Глаголе, который называл королем Лиром Льва Дмитриевича Топорова.
Лифа оживился.
– Незадолго до всех этих событий я перечитывал как раз эту пьесу и увидел ее новыми глазами. Ведь она о том, что бездна только и ждет, чтобы открыться нам при каждом шаге. В этом мире возможно все, и любой поступок может привести к бесконечному ряду последствий совершенно непредсказуемых и несоизмеримых с тем, что их вызвало. Король Лир – это человек, который не в состоянии предвидеть последствия своих поступков. Он не знает, что делает, впадая в страх перед безумием, а из этого страха рождается и само безумие. Эту безграничную открытость чему угодно при полной неспособности понять смысл собственных действий я бы назвал естественным апокалиптизмом…
И он поник, размышляя, видимо, об апокалиптизме гражданского законодательства вообще и Кодекса о браке и семье Российской Федерации в частности.
Фрина мало-помалу оживала.
Вскоре мы стали выходить на улицу после завтрака и перед ужином.
На прогулках днем нас сопровождала Алина, державшаяся поодаль, вечером – стеклянные ботинки.
В ноябре Фрина подобрала на улице старую болонку и, как мы ни отговаривали, оставила у себя, назвав Бланш.
Алина отмыла собаку, кое-как остригла и отвела к ветеринару, который обнаружил у Бланш множество болезней.
Собака с трудом ходила, скорее ползала, была прожорлива и ворчлива, но обожала Фрину до того, что мочилась на пол, едва завидев хозяйку. А вот на Алину она только рычала, хотя та ее кормила и выгуливала.
Изредка заезжал Топоров. Выпивал рюмку коньяку, шутил, но выглядел неважно.
Его люди завершили расследование нападения на дом Фрины, тщательно просеяв ее связи, перебрав всех друзей, знакомых и полузнакомых людей, но так и не нашли виновников преступления.
– Я давно привык не радоваться победам и не огорчаться проигрышам, – сказал он, – но отсутствие результата в этом деле меня угнетает… Боюсь, как бы безнаказанность не побудила их повторить попытку…
– Вы думаете, они сюда вернутся?
В ответ Топоров лишь вздохнул.
Мы решили не беспокоить Фрину и не стали рассказывать ей ни о разгроме нижней квартиры, ни о провале расследования.
С каждым днем наши прогулки становились продолжительнее, в середине декабря Фрина после ужина выслушала от начала до конца и с видимым удовольствием главу из «Женщины в белом», а в канун Нового года попросила пригласить к ней парикмахера – известного среди женщин Шалву Нодия по прозвищу Шалава, великого мастера дамских причесок, меланхоличного толстяка с пальцами, которые изгибались во всех направлениях, словно в них не было костей.
К новогоднему столу Фрина вышла в скромном черно-сером платье, с кабошоном на груди и в туфлях на беспощадно высоком каблуке.
Лев Дмитриевич подарил ей бриллиантовое колье – камни в три ряда с подвеской – и попросил примерить. Фрина отдала кабошон Алине, которая сразу его надела, я помог застегнуть колье. Оно было замечательным и, конечно же, безумно дорогим, но впечатление было смазано передачей кабошона Алине.
Было в этой сцене, во взглядах, которыми обменялись женщины, что-то демонстративное, что-то непристойное, бесстыжее…
Фрина трогательным голосом исполнила старинную французскую песенку о сапожниках, прачках, благородных господах и дамах, танцующих на Авиньонском мосту, и дыхание у нее ни разу не сбилось.
В полночь под бой кремлевских курантов мы подняли бокалы с шампанским, и через полчаса Топоров уехал.
Глава 25, в которой говорится о богоданной слабости, маленькой страшной подушке и танцовщице Дега
В конце января Кара праздновала день рождения, и мы отправились в Кирпичи, набив сумки продуктами, спиртным, сигаретами и таблетками.
Кара по-прежнему много курила, порыкивала, отпускала грубоватые шуточки, но на этот раз была одета празднично – в просторный серый балахон с красной тонкой вышивкой у ворота и лаковые туфли без каблука. Рыхлую шею она украсила тонкой ниткой жемчуга, пальцы – двумя кольцами: одно, с крупным бриллиантом, называлось «генеральским», поскольку было подарено Драгуновым, другое, с александритом, – «Бориным», в память о муже.
Ева как будто помолодела, надев платье в талию и подведя глаза, но в таком виде, как ни странно, стала меньше походить на Фрину.
В разгар праздника я шепотом спросил у Фрины, что же такое она хотела показать мне в Кирпичах, когда мы говорили о прошлом Топорова и его тайнах.
– То, что когда-то попало ко мне на сохранение, – ответила она. – Потерпи.
Голос ее показался мне странным.
– Ты как себя чувствуешь? – спросил я. – Может, выйдем на улицу, подышим?
– Голова немножко кружится, – пролепетала она. – Не надо было коньяк пить…
Она накинула шубу на плечи, и мы вышли на крыльцо.
– Дай затянуться, – попросила она, протягивая руку к моей сигарете. – Да все в порядке…
С наслаждением глубоко затянулась, вернула мне сигарету, вдруг пошатнулась и полетела со ступенек – я едва успел ее подхватить.
Водителю, которого Ева уговорила отвезти нас в Москву, я дал сто долларов и не пожалел об этом: без его помощи я не затащил бы Фрину на второй этаж.
Доктор Лифельд уже ждал нас. Он тотчас сделал Фрине укол и выгнал нас из спальни.
– Она умирает, – сказала Алина. – Умирает…
И впервые я увидел на ее глазах слезы.
Фрина наотрез отказалась ложиться в больницу, и после напряженных переговоров с коллегами и Топоровым Лифа разрешил ей остаться дома.
В ночь на 2 февраля она умерла.
Все это время Лифа не отходил от нее. Он поселился в ее кабинете, вставал к ней среди ночи, уговаривал Фрину потерпеть, обещал, что к весне она выздоровеет, и плакал в кухне, запихивая в рот бутерброд с семгой, и пил не пьянея, и снова возвращался в спальню, где пахло кислой рвотой, мочой, фекалиями, спиртом…
Ни Алина, ни я не ожидали от него такой самоотверженности, которая, впрочем, хорошо оплачивалась.
Иногда Фрина часами лежала неподвижно, глядя в потолок, иногда спала, иногда ее рвало, иногда она билась в припадке – до пены на губах – и затихала только после укола…
Утром 1 февраля меня разбудил растерянный и напуганный Лифа:
– Она хочет гулять!
Фрина сидела на краю кровати, пытаясь натянуть чулок. Губы ее были сжаты в ниточку, брови сведены на переносье – каждое движение давалось ей с трудом.
Алина помогла ей одеться, но от трости Фрина отказалась.
На улице, глотнув холодного воздуха, она покачнулась, но устояла.
Мы двинулись к Тверской. С каждым шагом движения Фрины становились увереннее. Когда мы оказались у метро, она сказала: «Сама» и без моей помощи спустилась по лестнице.
В вагоне я попросил какого-то седого хиппи с косичками уступить ей место.
– Следующая – станция «Красные Ворота», – объявил мужский голос.
Мужской голос включается в поездах, идущих в центр, к свету и гармонии, женский зовет нас на окраины, во тьму и хаос.
Когда я сказал это Фрине, она впервые за утро улыбнулась.
«Комсомольская кольцевая» встретила нас шарканьем тысяч ног, воем поездов, улетающих в тоннели, криками на ста языках, красным гранитом, гранеными колоннами узбекского мрамора, возносящимися к солнечному потолку, мерцающими мозаиками, надмирной гармонией, сулящей вечный покой…
Фрина с наслаждением вдыхала воздух, пропитанный запахами керосина, креозота, человеческих тел, мочой из переходов, где вдоль стен стояли попрошайки – с шапками на полу, гитарами, гармошками и собаками, выставив напоказ обрубки ног и язвы на коже, как средневековые солдаты, вернувшиеся домой из похода со славой, но без денег…
– Мне надо сказать тебе кое-что, – сказала Фрина. – Потерпи…
Ей приходилось каждую минуту повышать голос, чтобы перекричать вой поездов, улетающих в тоннель, и в конце концов я привлек ее к себе, обнял – ее губы касались моего уха.
– Я соврала тебе, когда сказала, что твой дед написал что-то важное, на самом деле он просто попросил приютить тебя на какое-то время. Все было иначе, не так… Года три или четыре назад Топоров отпустил меня на волю. Но что такое воля, я не знала. Я никогда не чувствовала себя рабыней – я была свободна. Служила в издательстве, встречалась с авторами, бывала в театрах, на выставках. Это была очень насыщенная и обеспеченная жизнь… миллионы женщин, и не только советских, могли бы мне позавидовать, а что у меня не было ни мужа, ни детей, – это ведь еще не самая высокая плата за такую жизнь. Я объездила полмира и никогда не спрашивала, кто оплачивает мои счета… Но если Лев Дмитриевич просил встретиться с кем-нибудь, я не могла отказаться. Это случалось не каждый день, не каждую неделю, а иногда я была свободна месяцами. А потом появлялся мужчина… разные это были люди… мне нужно было подстраиваться под каждого, так что пришлось сыграть немало ролей в этом невероятном спектакле, который тянулся десятилетиями… об этой игре знали немногие… Лев Дмитриевич доверял мне, я – ему… я могла в любой миг отказаться от контракта, но эта мысль мне и в голову не приходила… и вдруг я получила свободу – и растерялась… у меня было место во Вселенной, и внезапно я оказалась без места… как летучая звезда… сорвалась и полетела, но куда? И кем я стану? Шестьдесят лет не менялась, а теперь должна была измениться, превратиться – в кого, во что? Я ведь никогда себе не позволяла – и не могла себе позволить – влюбляться, выбирать мужчину по своему вкусу и нести ответственность за свой выбор… я испугалась… в моем возрасте любая ошибка могла бы стоить слишком дорого… я опять совру, если скажу, что вокруг меня не было никого, кто мог бы сравниться с тобой… но когда я начинала о них думать, передо мною такие бездны разверзались, что я впадала в панику… а времени оставалось все меньше…
– И тут появился я…
– И тут появился ты. Молодой провинциал, решивший начать новую жизнь. Я поняла, что ты – то, что мне нужно… я ведь тоже пыталась начать новую жизнь… с тобой можно было попробовать… с тобой почему-то не страшно было попробовать… хотя нет, страх был… больше всего я боялась, что твои рукописи окажутся графоманской стряпней, но когда начала их читать, испытала облегчение… Боже, как я обрадовалась!.. А потом – потом я втянулась в твои рассказы, втянулась в тебя, втянулась в нашу жизнь – и влюбилась… когда я это поняла, остальное стало неважно… – Она облизнула пересохшие губы. – Ну да, конечно, я знала про Алину, но это было действительно неважно, потому что я была свободна, наконец свободна… казалось, я знала про свободу все, но одно дело знать, что язык прилипает к мерзлому железу, другое – лизнуть железо при минус двадцати… оказалось, что я даже не представляла, что это такое на самом деле – свобода… теперь, кажется, знаю: это – слабость, богоданная слабость, которая обещает спасение… теперь остается только расплатиться за везение…
Ей становилось хуже с каждой минутой. Переход на станцию «Комсомольская радиальная» занял у нас, наверное, не меньше получаса. Фрина висла на моей руке, то и дело останавливалась, чтобы перевести дух, а когда мы вышли наверх, упала и обмочилась, и мне пришлось тащить ее на себе, и прохожие шарахались от нас, и я до сих пор умираю от стыда, вспоминая, как тогда умирал от стыда за нее…
Алина сделала ей укол, и Фрина затихла до вечера.
Кое-как перекусив, я лег в Карцере, прижал языком к небу дольку лимона и провалился в тяжелый сон, как в горячий пластилин.
Разбудила меня Алина.
– Ей совсем плохо!
Фрина лежала на полу в своей спальне, ее рвало, все лицо было в крови.
– Звони Лифе, – сказал я.
Фрина подняла голову и замычала.
Я подхватил ее на руки, испачкавшись кровью и блевотиной, и уложил в постель. Она дрожала, просила пить.
В последнее время ей давали только минеральную воду, и я бросился в кухню за бутылкой, не сразу нашел открывалку, потерял тапку, уронил бутылку, наступил босой ногой на осколок стекла, кое-как обмотал ступню полотенцем, открыл другую бутылку, отшвырнул Бланш, которая вдруг вылезла из-под кровати и попыталась укусить меня, протянул Фрине стакан, она дернулась – вода пролилась на одеяло…
– Стален, – с трудом выговорила она, шаря в воздухе руками, – помоги мне…
– Конечно, – сказал я, – я здесь, здесь…
– Не хочу так умирать, нет, не так… помоги…
– Конечно, – растерянно пролепетал я, боясь спросить, что же она имеет в виду. – Сейчас приедет Лифа, ты погоди, сейчас…
– Лифа не придет, – сказала за моей спиной Алина. – У него дома проблемы – жена пыталась отравиться…
– Вызывай бригаду из больницы! Или городскую «Скорую»!
– Лев Дмитриевич городскую не велел…
– Кого угодно!
– Стален… – Фрина прижалась щекой к маленькой подушке, застонала. – Ну пожалуйста…
Я приподнял ее, обнял – подушка почти закрыла ее лицо – и забормотал:
– Сейчас, сейчас, погоди минуточку, сейчас…
– Крепче, – прошептала она, – сильнее…
– Алина! – крикнул я, обернувшись к дверному проему и сжимая Фрину в объятиях как можно сильнее. – Да что же это такое, черт возьми!
Фрина вздрогнула и затихла.
Я обернулся.
Лицо ее было закрыто подушкой.
– Господи, – пробормотал я.
– Господи, – сказала Алина, подходя ближе, – господи…
Она взяла подушку и отшатнулась – лицо Фрины было перекошено страшной гримасой, рот казался черным провалом.
Откуда-то из-за кровати появилась болонка. Она ползла на брюхе и повизгивала.
– Отойди, – сказала Алина, не повышая голоса.
Я шагнул в сторону.
Алина подняла с пола болонку, нахмурилась, что-то сделала руками – собака хрюкнула – и засунула животное в полиэтиленовый пакет, который достала из кармана.
– Вынеси, пожалуйста…
Собака еще дрожала, когда я спускался во двор и шел к мусорному баку.
Вернувшись домой, я сел на край дивана в Карцере и замер. Я не был уверен, что это я убил Фрину, нет, – я был убийцей. Слышал, как Алина кому-то звонила, ходила из комнаты в комнату, открывала входную дверь, с кем-то разговаривала, слышал шум воды в туалете, потом в ванной, все слышал, но не мог пошевелиться, не мог головы поднять, когда в Карцер вошла Алина.
– Что с ногой? – спросила она.
– Бутылка, – сказал я. – Наступил на стекло.
Она присела на корточки, сняла с моей ноги окровавленное полотенце, вышла, погремела чем-то в кухне, вернулась с тазом, наполненным теплой водой, промыла рану, наложила тампон, забинтовала.
– Дать снотворного? Или коньяку?
– Лучше таблетку. Лучше две.
Через три дня мы похоронили Фрину в Кирпичах.
Лифа написал в справке, что Фрина умерла от острой сердечной недостаточности, и присовокупил десяток других заболеваний.
За это Алина отдала ему на всякий случай маленькую танцовщицу Дега, висевшую в спальне Фрины.
Людей на кладбище было немного.
Топоров арендовал кафе, где мы ее помянули.
Во время поминок Лев Дмитриевич вдруг нахмурился, увидев на моем левом мизинце перстень с костью Сталина, но промолчал.
Через десять дней мы с Алиной подали заявление в загс.
Глава 26, в которой говорится о взволнованных патологоанатомах, намыленных богинях и молодом коногоне
Рано утром я стоял в прихожей, прижимая к груди ботинок, и растерянно таращился на свое отражение в зеркале.
Я полез в кладовку за обувью и обнаружил, что мои ботинки сожрала моль.
Оба ботинка – почти новые дорогие ботинки – остались без меховой подкладки.
Сунув руку в ботинок, я выгреб горсть трухи, потом еще одну, и вдруг почувствовал, что в душе моей что-то переворачивается, и отчаяние – чистое детское отчаяние космического масштаба – охватило меня…
Моль, Боже мой!
Гусеница, Боже мой!
Гусеница моли обрушила мой мир!
Ну не горько ли?
Ну не глупо ли?
Ну не смешно ли?
Вдруг все сошлось – простуда, тоска, холод, страх, одиночество, дырявый носок, обтерханные рукава куртки, выход книг во Франции, Норвегии, Испании, Венгрии и Италии, застопорившаяся книга, которая, как и прежние, тоже никому не нужна, боль в левом колене, близящаяся слепота, неизбежная нищета, соседка сверху, изо дня в день разучивающая сонату ми минор Шуберта, – все, все это волею безмозглого чешуекрылого насекомого сошлось в одной точке, в комок, болезненно пульсировавший в груди, который медленно остывал, оставляя по себе только разрушения и пустоту…
Я стоял перед зеркалом в прихожей с ботинком, прижатым к груди, и мне было зябко, больно и смешно…
Другие ботинки не годились для восемнадцатиградусного мороза, а мне надо было ехать в центр, на Пушкинскую площадь, чтобы встретиться у памятника с Люсьеной Даниэль-Бек, приехавшей ради этого аж из Сибири.
Мы познакомились в фейсбуке, где Люсьена выступала под ником Top Totty.
Сначала эта «горячая штучка» молча лайкала мои рассказы, которые я иногда публиковал в социальных сетях, потом попросила уточнить датировку одного из них, потом написала в личку, что защитила кандидатскую и пишет докторскую по моим книгам, наконец попросила о встрече.
Я представил себе немолодую восточную женщину из провинции, склонную к экзальтации, судя по ее пристрастию к прилагательным в превосходной степени и по юзерпику, на котором была изображена инфернальная красотка в черном латексе с автоматом Калашникова в руках, и стал врать и вилять, ссылаясь то на нездоровье, то на занятость.
Тогда она прислала одну из своих статей, опубликованную в университетском сборнике.
Вообще-то я с настороженностью отношусь к статьям филологов, один из которых написал: «Стален Игруев обладает знаниями и мудростью всемирной библиотеки и сверх того пониманием божественных порядков мироустройства». Но в статье Люсьены не было ни ссылок на Бахтина, ни цитат из Фуко и Лакана, ни апелляции к постмодернизу, да и вообще никакой дребедени.
Теперь же Люсьене хотелось написать мою биографию, насытив ее фактами «из первых рук».
Поволынив еще полгода, я сдался – послал ей адрес своей электронной почты и номер мобильного телефона.
Три дня назад она позвонила – голос в трубке был обнадеживающе молодым – и предложила встретиться у памятника Пушкину.
И вот – восемнадцать градусов ниже нуля, ломота во всем теле, резь в глазах, наконец ботинки, сожранные молью…
Лучшее, что я мог предложить, – встретиться у меня. Легкий ужин, чай, разговоры, а потом я провожу ее до метро…
Позвонив Люсьене, я пригласил ее в гости – она согласилась с радостью.
Был субботний вечер, тысячи машин медленно ползли по узким улочкам, устремляясь к «золотому поясу», который охватывал Москву огромными магазинами, и тысячи людей по раскисшим от соли тротуарам спешили в торгово-рзвлекательные центры по соседству, чтобы посмотреть кино, съесть бутерброд, купить резиновые сапоги или мясо, обувь или водку, золотую цепочку, шампунь от перхоти или просто погулять по этажам торгового центра, потягивая лимонад из картонного стаканчика, глазея на витрины и слушая песенку «Лучше женской писи эль двести Мицубиси»…
Мне казалось, что свою читательницу узнаю сразу, но никак не ожидал, что это будет маленькая пышка с копной темных волос на голове, с огромным ярким ртом, в распахнутой короткой шубке, мини-юбке и в туфлях на шпильках. В одной руке у нее была тяжелая хозяйственная сумка, в другой – трость, на которую она опиралась при ходьбе.
По дороге она сообщила, что несказанно рада возможности познакомиться со мной поближе, что училась в Москве, что ее муж – бывший муж – давно перебрался из Сибири в Турцию, что у нее двенадцатилетний сын, что ее мать торгует китайскими шмотками, а она ей помогает, потому что за преподавательскую зарплату даже лошадь дорогу не перейдет, что скоро она станет самым молодым в университете доктором филологических наук, что в ее сумке – набор лечебных средств, которые поднимут меня из гроба, что ногу она сломала четыре месяца назад, но до сих пор приходится пользоваться этой дурацкой тростью…
В прихожей я помог ей снять шубку.
Она поставила трость в угол, сняла свитер, оставшись в полупрозрачной рубашке, потуже затянула кожаный ремень на тонкой талии, отчего ее грудь и задница стали еще больше, и с улыбкой сказала:
– А еще у меня аномально длинный язык… в физиологическом смысле, конечно…
Слегка оглушенный ее болтовней, я пригласил Люсьену к столу.
Пока я расставлял тарелки и бокалы, Люсьена доставала из сумки бутылки.
– Эта на кедровых орешках. Эта на ста травах. Эта на бруснике. А эта я не знаю на чем, но говорят, что после нее улетают в Шамбалу…
Ела и пила она не жеманясь, иногда помогая себе маленькими пальцами, а когда насытилась, подняла тост за великих рассказчиков.
– А кого вы считаете великими? – спросил я.
– Ну уж нет, – сказала Люсьена, выкладывая на стол диктофон. – Это и есть мой первый вопрос.
Мы закурили, и я сказал, что великих рассказчиков больше, чем великих рассказов, поэтому я назову пять или десять лучших на мой вкус.
– Десять, – сказала Люсьена.
– «Локарнская нищенка» Клейста, «Студент» Чехова, «В чаще» Акутагавы, «Золотой жук» Эдгара По, «Уэйкфилд» Натаниеля Готорна – это неизменная пятерка. И еще «Река» Фланнери О’Коннор, «Уош» Фолкнера, «Дурочка» Бунина, «Превращение» Кафки, «Третий сын» Андрея Платонова…
– А Набоков? Юрий Казаков? Хемингуэй? Сэлинджер? И непонятно, почему нет ни одного основоположника жанра – ни Боккаччо, ни Банделло, ни Сервантеса с «Лиценциатом Видриерой» – это же в вашем вкусе…
– Обычаю рассказывать истории – в больнице, в тюрьме или у костра на привале – столько же лет, сколько и человечеству, и этот обычай никогда не умрет, но мы говорим о жанре. Он родился вместе с газетами и журналами, а поскольку они скоро исчезнут, то я, возможно, последний или один из последних рассказчиков…
– Но если вы говорите о наступлении интернета, то он как раз и подразумевает короткие тексты…
– На днях в фейсбуке я обсуждал с Сергеем Солоухом…
Она кивнула: знаю такого.
– Так вот, мы обсуждали судьбу рассказа, и Солоух заметил: «Ждать уже нечего. Смерть самой парадигмы творчества и чтения как усилия, как испытания, как обретения уже дышит Чейном-Стоксом. И мы тут просто собрание взволнованных патологоанатомов…»
– В своих интервью вы говорите почти то же самое, только другими словами и не так категорично. Вы говорите, что эпоха индивидуализма и психологизма в культуре завершилась, а что нас ждет – непонятно, может быть, новый коллективизм, новое средневековье, новые темные века…
– В жизни человека, как и в истории вообще, яркие события подчас далеко отстоят друг от друга, а промежутки, паузы заполнены «ничем», как в фильмах Антониони, но в этих паузах всегда что-то зреет, зарождается что-то новое, они – обещание, а не чистая пустота…
– То есть вы пессимистически оцениваете перспективы литературы? И что делать перед лицом этого «ничто»?
– Стоять на своем, – сказал я. – И дристать очередной рассказик…
– Дристать… – Она растерялась. – Вы что же, в грош не ставите свое творчество?
– Свое место в небесной иерархии я знаю, а в земной – нет никто и звать никак. Свеча, забытая ворами в подвале.
– Но это не ответ на мой вопрос!
– Иногда готовность претерпевать историю плодотворнее, чем стремление к ее изменению…
– И к этому сводится вся ваша новая эсхатология?
– Ну да. Остается одно – делать то, что умеешь, не поддаваясь обстоятельствам и не задумываясь о будущем – его у литературы все равно нет. Уж у рассказа – точно нет. Вот основание подлинной свободы. Когда нет ни прошлого, ни будущего, волей-неволей живешь настоящим, ничего не откладывая на потом…
– Не этим ли объясняется насыщенный эротизм ваших рассказов?
– Мы пытаемся примириться с тем фактом, что мир лежит во зле, а потому выискиваем в жизни следы Эроса, чтоб было что любить.
Я был в ударе – водка, болезнь, близость этой возбужденной женщины с ее огромным алчным ртом и пышной грудью, которой она наваливалась на стол, когда подавалась ко мне, делали свое дело: я говорил и говорил, стараясь быть остроумным и оригинальным, чтобы произвести впечатление на гостью…
– Оскар Уайльд как-то сказал: «Раскрыть людям себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство»…
– К этому стремился Оскар Уайльд, которому так и не удалось этого достигнуть…
– Как бы то ни было, некоторые считают, что вы слишком много внимания уделяете форме. Так пишут люди, которые в погоне за словом забывают о смысле, об ответственности писателя перед обществом…
– Писатель отвечает перед языком, а не перед обществом. Вяземский написал как-то: «Язык есть исповедь народа». То есть речь идет о самом сокровенном, из чего миллионы людей тысячу лет собирали, варили, выпекали, строили, ковали, писали Россию, ее образ, русский дух… попытайтесь только вообразить, Люсьена, масштаб этой ответственности, перед которой любая другая гроша ломаного не стоит…
– Зовите меня Люсей, – сказала она. – У вас есть горячая вода?
От неожиданности я растерялся.
– Я остановилась в общежитии, – сказала Люся, – а там вчера отключили горячую воду… авария какая-то…
– Свежие полотенца – в шкафчике… под зеркалом в ванной…
Проводив ее взглядом, я вдруг понял, как давно у меня не было женщины.
Через минуту за дверью ванной раздался ее голос:
– Стален Станиславович, без вашей помощи я не справлюсь!
Я помог ей забраться в ванну, разделся, включил душ.
– Намыль меня, – сказала она. – Начни с этой богини…
И приподняла рукой левую грудь.
Редакция выпустила последний в том году номер журнала в середине декабря, поэтому у меня образовалось почти три свободных недели. Я откладывал деньги, чтобы слетать в Индонезию или Таиланд, но болезнь и появление Люсьены заставили забыть о пляжах Бали и Пхукета. А она по телефону взяла отпуск за свой счет «для углубленной работы над диссертацией».
Поначалу мы пытались контролировать объемы алкоголя, потом махнули рукой. С утра до вечера пили, разговаривали под диктофон и трахались, изредка прерываясь, чтобы выбраться в магазин за новой порцией выпивки и закуски.
Когда после обеда я спал, она за моим большим компьютером занималась расшифровкой диктофонных записей. Вечером уточняла непонятные места, и мы снова пускались в бесконечную болтовню.
– А убеждения у углового жильца есть? Или только нервы? – спросила Люсьена. – Ты не левый и не правый, ты не консерватор и не либерал – так кто же ты?
– С большой-большой натяжкой меня можно считать традиционалистом либерального толка. Но это скорее склонность, чем убеждение. Жалею иногда, что не могу быть консерватором – консервировать у нас нечего, кроме кильки и огурцов. А вообще, выражаясь словами Антонио Грамши, я пессимист разума, оптимист действия…
Я рассказывал Люсьене о Розе Ильдаровне и Лариске, о Жанне и Монетке, но умолчал о Фрине и Лу, о Моне Лизе и Алине, а на ее вопросы о семье отвечал очень скупо, часто – лживо.
– Так я никогда не напишу полноценной биографии, – сердилась Люсьена. – Не может же она состоять из рассудизмов, пробелов и вранья! Ты трус, мошенник и плут, Игруев!
Я уже отчетливо понимал, что из затеи с биографией ничего не выйдет, и не скрывал этого от Люсьены. Она хмурилась.
Незадолго до Нового года я проснулся среди ночи от ужаса, весь дрожа, и позвал Люсьену:
– Найди в интернете телефон врача, который выводит из запоя на дому. Это стоит тысяч пять-шесть. Возьми карточку. – Я продиктовал пин-код. – Сними десять на всякий случай… банкомат в магазине за углом…
– Сейчас четыре часа ночи…
– Они работают круглосуточно.
Врач поставил капельницу, объяснил Люсьене, какие лекарства надо купить, и попросил ее дождаться моего пробуждения: «Мало ли что…»
Проснулся я поздно вечером.
Люсьены не было.
В углу прихожей стояла забытая Люсьеной трость, на комоде под ключами меня ждала записка:
«Ты прав: книга не получится. Сейчас и я понимаю, что идея биографии была ложной: ты – самоед, который пожирает себя в полном одиночестве и не нуждается ни в сотрапезниках, ни в свидетелях.
P. S. Взяла у тебя немного денег – надеюсь, я честно их заработала.
P.P.S. Мой самолет вылетает в 23.00 из Домодедова. Буду рада, если приедешь проститься».
Я заглянул в телефон: Люсьена сняла десять тысяч, потом расплатилась карточкой в аптеке, а затем сняла еще сто тысяч. «Доступный остаток 8890,23» – гласило банковское уведомление. Что ж, заработала она неплохо и, в общем, честно.
До метро быстрым шагом через дворы – минут десять, от «Домодедовской» до «Павелецкой» – двадцать две минуты, дорога от «Павелецкой» до Домодедова на аэроэкспрессе займет полчаса, то есть я успевал проститься с Люсьеной.
Энергии моей, однако, хватило только до «Павелецкой». Я устал, проголодался, понял, что не знаю, о чем мы будем разговаривать и как удержаться от вопроса про сто тысяч моих, черт возьми, рублей. Рядовая московская проститутка, если брать ее на два часа в день, обошлась бы максимум в тридцать-тридцать пять тысяч за две недели. А тут – сто тысяч! Да еще восемь сотен за аэроэкспресс туда и обратно. Плюс кофе в аэропорту – сотни три-четыре. И разговор ни о чем, увязающий в тягостных паузах. А потом еще долгий путь назад, домой, где меня ждал только пустой холодильник…
Подошел поезд, следующий до станции «Алма-Атинская», я вскочил в вагон и с облегчением откинулся на спинку дивана.
За последние двадцать лет лица в метро изменились: исчезли одышливые мужчины с пухлыми портфелями, все реже встречаются московские евреи, итээровцы, работяги, все больше юных менеджеров в дешевых костюмчиках, шалых девушек с рюкзачками, молодых провинциалок в поисках счастья, старушек в поисках дешевизны, бизнесменов, обсуждающих по телефону не вчерашний футбол или «как хорошо посидели», а поставки алюминиевых окон или ставки по кредиту…
На «Автозаводской» в вагон вошел молодой молдаванин с аккордеоном, и когда поезд вынырнул из тоннеля и помчался к мосту, он красивым голосом запел:
Гудки тревожно загудели, Народ бежит густой толпой. А молодого коногона Несут с разбитой головой…Сначала ему подпела молодая компания с пивом в руках, потом подхватили две пьяненькие бабенки за пятьдесят, потом еще кто-то, и вот уже весь вагон – московские евреи, итээровцы, работяги, юные менеджеры, девушки в поисках счастья, старушки в поисках дешевизны и бизнесмены – подхватил, запел во всю мочь, во весь надрыв, а поезд стучал по мосту над рекой, покрытой битым льдом, вдоль набережной полыхали огни, над трубами вдали стояли столбы белого пара, русские звезды светили ярко, лиловые, дикие и страшные в своей красоте, и когда поезд уже начал втягиваться в тоннель, посреди вагона вдруг поднялась во весь рост старуха в квадратном пальто, раскинула руки и рыдающим высоким голосом закричала:
Прощай, Маруся плитовая, И ты, братишка стволовой, Тебя я больше не увижу, Лежу с разбитой головой…И на какое-то мгновение мне показалось, что эта песня никогда не кончится, что она так и будет звучать, кричать и плакать до надрыва, пока грохочущий поезд с безумным машинистом не сорвется с железного своего пути, чтобы проломить стены, с воем вылететь на простор, а потом, охваченный алым сиянием, унесется в бескрайние заснеженные поля, затеряется в огромных, как тоска, черных лесах, раскинувшихся от океана до океана, запропадет, исчезнет, сгинет навсегда в русской вечности, и при этой мысли, пронзившей меня ледяной иглой, стало и хорошо, и пьяно, и бессмертно…
Глава 27, в которой говорится о человеке с молотком, высоком искусстве подчинения и зеркале из прошлого
Вскоре Люсьена прислала письмо, в котором делилась соображениями об особенностях нарратива в моих поздних рассказах и как бы между прочим просила прислать файл, оставленный в моем компьютере: «Это расшифровки наших разговоров. Обидно терять двухнедельную работу».
Файл назывался без затей – Razgovor. На первых страницах текста участники разговора Л. и С. обсуждали судьбы рассказа, пытаясь придерживаться хоть какой-то логики, а потом шли разрозненные куски – об интеллигенции и либерализме, о Чечне и Кумском Остроге, о Розе Ильдаровне и Лариске, о Головине и Ольге Антроповой, о жеманности языка, объединяющей Набокова и Солженицына…
На предпоследней странице приводилась известная цитата из Чехова: «Надо, чтобы за дверью каждого счастливого, довольного человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда-болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как и он не видит и не слышит других. Но человечка с молоточком нет, счастливый так и живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер в спину, и все обстоит благополучно».
Ниже следовала фраза: «Человек с молоточком стал человеком с молотком».
Помню, в тот день мы говорили о возвращении моды девяностых – пальто оверсайз, широких штанов, платьев-комбинаций, кожанов три четверти, бейсболок с плоским козырьком, потом об осени 93-го и трупах на Дружинниковской улице, о силе обстоятельств и свободе выбора, о двадцатом веке с его тошнотворным гуманитаризмом, экзистенциалистской клоунадой, пустопорожним новым романом и прочими экспериментами на уровне века посредственностей, о том, как часто идеал свободы подавляет свободу личности, о Мефистофеле XXI века, соблазняющем нынешнего героя правом избранного решать проблемы обезличенного мира, об оппозиции и чеховском человеке с молоточком…
Про человека с молоточком вспомнила Люсьена.
– А потом, – сказал я, – у человека с молоточком подрос сын – человек с молотком…
Мы сидели голышом друг напротив друга.
Люсьена уперлась пятками в мои колени и пошевелила пальчиками.
Я извлек из папки газеты.
– Здесь опубликовано интервью с человеком, который живет в Лондоне и призывает к свержению кремлевской тирании. Он финансирует два оппозиционных сайта и газету в России. Вот он, на этом снимке…
– Настоящий альфа-самец, – лениво сказала Люсьена.
– А вот другое интервью с этим же самцом. Он рассказывает о своем несчастном отце, который в конце сороковых стал жертвой сталинских репрессий. Отцу повезло – не расстреляли, как его шефа Абакумова, а дали пятнадцать лет лагерей. Незадолго до войны он вел дело метростроевцев, которых обвиняли во всех смертных грехах, начиная со шпионажа в пользу Японии. Допросы он вел с пристрастием. В качестве последнего аргумента обычно использовал молоток. Обычный слесарный молоток, которым он дробил костяшки пальцев, плющил гениталии и вообще не стеснялся. Я знаю точно, что одного из подследственных он забил молотком насмерть. Но никто не поставил это ему в вину ни тогда, ни потом. Главным был не он, главных расстреляли на Левашовской пустоши под Питером, а он отбыл срок в лагерях, вернулся и вскоре опять нашел дело по душе. В девяносто пятом его посмертно вчистую реабилитировали по последнему делу, а про молоток и не вспомнили. Возможно, не осталось ни свидетелей, ни доказательств. Simple truth suppressed, как это назвал Шекспир. Правды просто не стало. Его сын, вот этот альфа-самец и светоч свободы, тоже замешан в убийстве, а может, и в двух. Я это точно знаю, но доказать не смогу. Сейчас он владеет акциями в двенадцати офшорных компаниях, счетами в английских, немецких и швейцарских банках, виллой на озере Комо, недвижимостью на Кипре, Сардинии и во Франции… кажется, Генри Форд сказал, что может дать отчет обо всех своих миллионах, кроме первого. Этот самец из тех новых русских, которые не смогут дать отчет ни о первом, ни о последнем своем миллионе. Что же касается его новообретенных оппозиционных убеждений… это тот случай, про который Фрейд сказал: «Verlust der Scham führt zur Verblödung» – потеря стыда ведет к одурению. Человек снимает штаны и ходит по улицам голышом, но сходит с ума не тогда, когда снимает штаны, а когда начинает ходить по улицам голышом…
– А почему ты называешь человека с молотком сыном чеховского человека с молоточком? Не слишком ли сильно?
– Прадед этого альфа-самца был нищим сельским священником, дед – деревенским учителем, поклонником Некрасова и Чернышевского, типичным чеховским персонажем…
– Ну не станешь же ты утверждать, что Чехов повинен в октябре семнадцатого и в Большом Терроре?
– Нет, конечно. Но человек с молотком – родной сын человека с молоточком.
Я закрыл файл, уничтожил его и написал Люсьене, что мой старенький компьютер, увы, каза болду, не оставив никаких следов ее файла.
Переписка наша, однако, не прервалась: Люсьена – интересная собеседница и волевая женщина, не отступавшая от своего решения «оседлать перспективное имя».
Благодаря Люсьене, растормошившей меня, я вернулся к рукописи, которая остановилась на смерти Фрины.
Отпевали Фрину в маленькой церкви, стоявшей на окраине поселка с тех времен, когда здесь не было ни казарм, ни фабрики, выпускавшей колючую проволоку, а жители двух деревенек занимались изготовлением красного кирпича кустарным способом.
Фрина лежала в маленьком гробу, укрытая до подбородка ковром из белых роз. Священник читал молитвы, женщины время от времени крестились, я не сводил взгляда со лба Фрины, который ярко блестел, словно смазанный жиром, Топоров стоял рядом со мной, опираясь на трость, и губы его едва заметно шевелились. Похоже, он беззвучно повторял за священником слова молитвы.
Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси: жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста…
Алина не спускала с меня глаз дома, на кладбище и в кафе, которое Топоров снял для поминок.
Подавая на стол, хозяин и его дочь всякий раз почтительно кланялись Топорову, сразу признав его за главного.
Кара пила и курила с мрачным видом, Ева то и дело подносила к носу скатанный в комочек платок, Нинель шепотом уговаривала Топорова «не пить насухую», а я думал о том, что, может быть, уже завтра утром мне придется покинуть уютный кривой домик, забыть о черной икре, добротной одежде, беззаботной жизни, и хотел поговорить об этом с Топоровым, но так и не решился…
– Наш дом всегда для вас открыт, – сказал Топоров на прощание, переводя взгляд с меня на Алину, и было непонятно, для кого открыт его дом – для меня, для нее или для нас обоих.
Домой нас отвез все тот же шофер с дореволюционной бородкой.
В машине Алина положила руку на мое колено, я откинулся на спину и закрыл глаза.
Дома мы молча легли спать.
Все эти дни я пытался подобрать слова, чтобы описать то, что произошло в ночь смерти Фрины.
Фраза «я убил ее» казалась мне неточной. Гораздо ближе к истине было выражение «я ускорил ее смерть», хотя и она требовала обстоятельства образа действия, например, «нечаянно», «невольно».
«Я нечаянно ускорил ее смерть».
Конечно же, никакого умысла у меня не было и в помине, я был напуган, растерян, взвинчен, действовал импульсивно, с панической поспешностью, едва успевая реагировать на ее хаотические порывы. В те минуты я превратился в существо бессознательное, лишь откликающееся на внешние раздражители, и не отдавал себе отчета в том, что делал, пытаясь облегчить ее страдания. Именно поэтому я не обратил внимания на эту чертову подушку, которая за долю секунды изменила положение, закрыв нос и рот Фрины, а когда Фрина забилась, пытаясь сбросить меня, освободиться от подушки, я только крепче прижал ее к себе, ускорив таким образом ее смерть.
Не знаю, сколько ей оставалось жить, может, минуту, может, две, а может, всего секунду, однако я украл у нее эту секунду, сам того не желая, и отныне до конца жизни обречен на чувство вины, хотя, видит бог, моей вины в этом не было ни на морковный хвостик, но и этой малости достаточно, чтобы мучиться, корчиться и сгорать во всех огнях опустевшего ада, с ужасом глядя на свою бугрящуюся, волдырящуюся свою плоть, смердящую и брызжущую гноем…
Безусловно, Алина понимала, что я ускорил смерть Фрины нечаянно, и не осуждала меня – скорее сочувствовала.
Лифа написал заключение, которое никто не ставил под сомнение, дело закрыто.
Но в том-то и дело, что всю правду – пусть и без малой малости – знали только мы, я и Алина, и только мы знали, понимали, что эта малость, которая стоила меньше морковкина хвостика, – от нее некуда было спрятаться, и мы оба понимали, что эта ничтожная малость стоит человеческой жизни, ни на минуту не позволяя забывать о ней и отдаваясь болью в моей левой ступне, которую я порезал стеклом в ночь смерти Фрины.
И когда после похорон Фрины, вернувшись домой, Алина спросила, возьму ли я ее в жены, мне и в голову не пришло ответить: «Нет».
Свобода выбора есть высокое искусство подчинения.
…– Один из способов присвоения мужчины – его переодевание, – сказала Алина. – Хочу познакомить тебя с синьорой Чинизелли. Она из знаменитой цирковой семьи, была воздушной гимнасткой, а сейчас у нее кайзеровские усы, костыли и ортопноэ, поэтому спит она стоя, хотя при этом у нее тридцатилетний любовник…
Синьора жила на Палашевке, в старом доме с высокими окнами и широкой лестницей, по которой мы поднялись на третий этаж.
Хозяйка встретила нас в облаке из полупрозрачных накидок.
Шлепая туфлями без задников и величественно опираясь на трость с костяным набалдашником, она провела нас в большую комнату с зеркалом, пропахшую нафталином и заставленную коробками до потолка.
– Молодой человек будет прекрасно себя чувствовать в этом… – Синьора ткнула тростью в одну из коробок. – И в этом. А обувь тут…
Она опустилась в просторное кресло, закурила и взмахнула тростью.
– Не стесняйтесь, мой друг!
Пока я примерял замшевые пиджаки и куртки, синьора рассказывала о тех временах, когда ей с мужем и детьми приходилось ютиться в двух комнатках, где было тесно, «как у Данте». Но в середине пятидесятых им удалось присоединить к своей квартирке соседнюю, которую занимала одинокая старуха, служившая, кажется, в КГБ и – тут синьора понизила голос до драматического шепота – отвечавшая за поставки женщин для чекистов, а заодно торговавшая вещами, изъятыми у арестованных.
– Она жила с сестрой, и обе умерли в один день. Сколько ж нам пришлось потратить обаяния и денег, чтобы заполучить эти чертовы квадратные метры! После смерти Сталина чиновники превратились в людоедов…
– А как звали эту старуху? – спросил я, застегивая пуговицы очередного пиджака.
– Сестра звала ее Яниной… полька, наверное… или еврейка… в ЧК было много евреев…
– Янина, – повторил я. – И это ее зеркало?
– Единственная ее вещь, которую я решила не выбрасывать. Знали б вы, сколько здесь было хлама…
– Что-то не так? – спросила Алина.
– Все в порядке, – сказал я, снимая куртку. – В самый раз.
Синьора удовлетворенно кивнула.
– У молодого человека хороший вкус.
Домой мы возвращались с двумя тяжелыми сумками, набитыми одеждой и обувью. Алина подбирала для меня рубашки, пиджаки и ботинки, стараясь, чтобы ее выбор радикально отличался от выбора Фрины. Спор женщин, живой и мертвой, меня забавлял, но не занимал: я думал о зеркале.
Это было то самое зеркало, которое Нанни и мать Фрины вынесли из квартиры опального Страхова, чтобы оно не досталось алчным чекистам. Зеркало, завернутое в суконное одеяло и перевязанное веревками, которое женщины тащили по пустынным ночным улицам, а за ними бежала десятилетняя Фрина. Зеркало, перед которым Фрина причесывалась и одевалась, когда собиралась в школу. И вот полвека спустя я примерял перед этим зеркалом пиджаки…
– Что-то не так? – снова спросила Алина, когда мы вернулись домой. – Ты как будто оглоушенный какой-то…
– Да просто думаю о том, как оно все сложится… наша жизнь и все такое…
– Лев Дмитриевич сказал, что ничего не изменится. Мы будем здесь жить как прежде… Понятно, что это не может продолжаться вечно, но так далеко я не могу заглянуть… не пропадем… как говорится, дал Бог зайку – даст и лужайку…
Глава 28, в которой говорится об умной полутени, золотом ключике и пожаре в центре Москвы
Сегодня трудно объяснить, почему я так легко смирился с мыслью о женитьбе на Алине. Я почти ничего не знал о ней. Не знал о ее прошлом, о том, кто ее родители, где она работает, какую роль играет в жизни Фрины, и так далее.
Умная, красивая, уродливая, сдержанная, умеющая держать язык за зубами, она была полутенью, знающей свое место, но всегда готовой занять другое.
Меня не насторожило ее близкое знакомство с Пилем, который назвал ее по имени, хотя виделись они, как мне тогда показалось, впервые. Топоров обращался к ней как к старой знакомой, и этот факт я тоже принял как должное. Стоило Фрине включиться в игру с Пилем, которая была мне непонятна и вызывала ревность, раздражение и растерянность, как Алина оказалась в моей постели. Фрина знала об этом, но как будто не придавала значения моей измене. И эта сцена за новогодним столом, когда Фрина передала Алине кабошон, чтобы примерить подарок Топорова… Алина не убрала кабошон в шкатулку, а надела его, словно символ власти, который давал ей право на меня. Ну так мне тогда показалось…
Неужели чувство вины перед Фриной лишило меня воли? Или все дело только в привычке к комфорту, к насиженному месту и проторенной женщине?
Ответа у меня не было тогда, нет и сейчас.
Тем утром Алина отправилась к синьоре Чинизелли за свадебным платьем.
Почти каждый день мы обсуждали это платье. Алина сразу отказалась от белого: «Я в нем буду стопушечным линкором на всех парусах!» Потом отвергла розовое и лимонно-желтое, кружева, банты и рюши. Время поджимало, портниха, приглашенная синьорой, нервничала, боясь не успеть к сроку. Наконец Алина остановилась на двух платьях – алом с темным отливом и черном с золотом.
Оставшись один, я сел за пишущую машинку, чтобы заняться историей учителя Полуэктова, но вспомнил его соседа – старика, про которого в Слободе говорили, будто он служил в расстрельной команде у чекистов: поскольку у него был темный опыт убийства безоружных людей, его звали к больным, умирающим и новорожденным, чтобы он наложил на них страшную свою колдовскую руку…
Питался он хлебом и картошкой, ходил в обносках, но после смерти у него нашли золотой ключ, который был вшит под кожей на груди, изуродованной страшным шрамом. Почему он там оказался? От чего был этот ключ? За дверью, которую открывал ключ из чистого золота, хранились либо несметные сокровища, либо страшные тайны – ничего другого жители Слободы придумать не могли.
Золотой ключ был такого же размера, как и тот, что отдал мне дед. Ключ от будущего дома, который прадеду так и не удалось построить. Я попытался представить этот дом мечты, но уснул, не добравшись до крыши…
Проснулся я на диване от холода.
На часах было девять.
Алины не было.
Полистал телефонный справочник, валявшийся в прихожей под зеркалом, но номера синьоры Чинизелли не нашел.
Возможно, Алина все еще терзается выбором свадебного платья, а может, по пути зашла к родителям. Но и их телефона я не знал.
В Карцере было так накурено, что я не сразу почувствовал запах дыма. А когда почувствовал, поначалу не придал этому значения. Как это уже бывало, запах мог просочиться со двора, где то и дело загорался мусор в контейнерах, или с улицы – недавно по соседству сгорела фура с мороженой курятиной, и вонища – горелый жир и кости – чувствовалась в округе еще недели две-три.
Но запах усиливался, и я, наконец, вылез из-под одеяла, открыл дверь, и в Карцер ворвались клубы дыма.
Я бросился в гостиную, по пути щелкая выключателями, но лампочки не загорались, а в спальне из-за дыма ничего не было видно – только ровные огненные щели в полу, и сразу стало понятно, что внизу, в замурованном помещении, бушует пожар, рвущийся наверх и с треском пожирающий все на своем пути… пол ходил ходуном, дыбился и вот-вот должен был обрушиться в геенну…
У меня было всего несколько минут, чтобы одеться, схватить деньги, документы, побросать в рюкзак записные тетради и папки с рукописями, подхватить пишущую машинку и слететь кубарем по лестнице, оставляя за собой нарастающий жар, треск, гул и ужас…
Оказавшись на улице, я огляделся: вокруг никого не было. Надо было кричать во всю глотку, но мне вдруг стало неловко, как только я представил себя – заполошно мечущегося между тротуарами и вопящего: «Пожар!» Стыдно, смешно, нелепо. Но тут из окон первого этажа ударили языки пламени, из-под крыши повалил дым – и я заголосил во всю мочь:
– Пожар! Пожар!..
Побежал в сторону Тверской, метрах в пятидесяти от арки повернул назад, к дому, над которым вдруг вырос столб дымного пламени, и замер на месте, закрываясь рукавом от жара и чувствуя, как скручиваются и воняют волоски на моей руке…
Кто-то, видимо, позвонил по 01 – приехали пожарные машины, и через две-три минуты на дом обрушились струи воды, и в тот же миг дом вспыхнул весь, от крыши до фундамента, превратившись в сияющий золотой скелет, а потом окутался дымом и паром.
– Деревянные перекрытия, – сказал кто-то за моей спиной. – Еще полчаса – и все…
Я обернулся.
Это был тот самый молодой мужчина в стеклянных ботинках, который изо дня в день сопровождал меня и Фрину на прогулках по городу.
– Никуда не уходите, пожалуйста, – сказал он. – И держитесь от огня подальше.
Из окон соседних домов выглядывали люди, на тротуарах стояли зеваки, подъехали еще две пожарные машины.
Дом догорал.
С рюкзаком на плече и пишущей машинкой в руке я толкался в толпе, пытаясь отыскать Алину, но безуспешно.
Ко мне подошел шофер с дореволюционной бородкой, любитель Адамовича.
– Поехали?
«Мерседес» ждал у входа в ресторан «Националь».
Глава 29, в которой говорится о замурованном младенце, мшелоимстве и благородных гуигнгнмах
В Троицком меня поселили в маленьком уютном домике среди сосен, неподалеку от конюшен: Красный флигель, в котором когда-то мы жили, похоже, был занят. А может, Топоров сознательно выбрал для меня другое жилище, ничем не напоминающее о Фрине.
Впрочем, в первые дни, оглушенный и потерянный, я, кажется, вообще ни о чем не думал и ничего не чувствовал.
Я смотрел, но не видел, слушал, но не слышал, думал, но не понимал.
Я не понимал, куда могла запропаститься Алина. И кто поджег дом? Сгорели ли оригиналы картин? Вознаградит ли меня Бог творческой удачей, славой и деньгами за перенесенные страдания? Будет ли мое новое жилье хуже прежнего? Чем я стану заниматься, когда все уляжется? Как остановить нервный тик и постуральный тремор рук? Что я ел на завтрак? Сколько будет семью девять?..
Дня через три в Троицкое приехал следователь.
От него я узнал, что пожар был следствием злоумышленного поджога, что в стене за печкой, занимавшей угол Карцера, обнаружен скелет ребенка двух-трех лет, что родители Алины подали в милицию заявление о пропаже дочери и уже побывали в Лианозовском трупохранилище, куда из всех московских моргов направляются неопознанные и невостребованные трупы…
И без перехода добавил:
– Гражданка Чинизелли просит забрать платья вашей невесты – они оплачены, но не востребованы…
– Значит, Алина у нее не появлялась?
Он кивнул.
– А ребенок в стене… когда он был замурован?
– Экспертиза еще не завершена, – ответил следователь. – Кажется, давно.
Я подписал протокол, в котором чаще всего встречались выражения «не знаю», «не видел», «не слышал», и следователь уехал.
Этот ребенок, замурованный в стене, не шел у меня из головы.
Дом был построен в середине XIX века, после 1917-го сменил множество хозяев, и поди узнай, кто из них и по какой причине похоронил ребенка в стене. Знала ли об этом Фрина? Не ее ли это ребенок? А если не ее, то чей? И почему похоронен тайно? Чего еще я не знал о Фрине? Что она прятала в доме, в том сейфе внизу, который грабители взломали? Играла ли она в этом спектакле какую-то тайную роль, о которой, быть может, не догадывался всесильный и всеведущий Топоров?
Тем же вечером я задал этот вопрос хозяину Троицкого.
– О ребенке мне вчера рассказали, – сказал он. – Понятия не имею, кто он и почему его похоронили таким образом… Думаю, следует дождаться результатов экспертизы. Возможно, будет получен ответ о времени захоронения, и тогда станет ясно, причастна она к этому или нет… и потом, если это ее ребенок… но нет, прятать ребенка три года в том доме – это невозможно… за нею, сами понимаете, присматривали… она всегда была на виду…
– То есть, она ни при чем?
Он пожал плечами.
– Иногда мне казалось, что я знаю о ней не больше, чем ложка – о вкусе супа… а она была так совершенна, что казалась не человеком, а чем-то… какой-то богиней… из тех, что могли вознести человека до небес и через мгновение убить безо всякой жалости…
– Убить?
– Однажды она позвонила среди ночи: умер ее гость. Человек пожилой, проблемы с сердцем, скончался от приступа. Бывает. Но меня поразило, как она тогда держалась… холодно, отчужденно… как будто смотрела на происходящее откуда-то сверху, с небес… человек может понять и пожалеть сверхчеловека, сверхчеловек человека – никогда…
– У меня ни разу не возникало такого ощущения…
– Да и у меня оно возникло лишь на минуту. Я доверял ей безоговорочно, и она никогда меня не подводила… Анна Федоровна была очень смелым человеком: не всякому по силам из года в год выступать в роли нежелательного свидетеля… но вы должны понимать, что она не играла и не могла играть главной роли в моей жизни. Более того, свою роль она играла не на сцене, а за кулисами… и даже за кулисами ее роль была не главной…
– Лев Дмитриевич, мы оба понимаем, что сейчас речь не о ней, а о людях, которые сначала ограбили дом, а потом подожгли. Конечно, это может быть связано с какими-то ее тайнами… но принадлежали ли эти тайны ей? Вы знали о сейфе?
– Возможно, его встроили в стену при возведении здания…
– И вы даже предположить не можете, что в нем было, кто эти люди и почему они вернулись?
Он покачал головой.
– Поверить не могу, что она жила двойной жизнью, о которой вы ничего не знали…
– Может быть, этого и не было. А что знали о ней вы?
Я стал вслух вспоминать то, что рассказывала Фрина: отец, обвиненный в шпионаже и убитый слесарным молотком, Нанни и ее сестра, мать, отдававшаяся чекистам на арестованных квартирах, генерал Драгунов, Кара, Цвяга и Ева, зеленая дверь, которая на самом деле была коричневой, новогодняя ночь 1946-го, платье из грогрона, Амадис Гальский, первая поездка в Париж, вторая, третья… а потом появился Пиль, и снова возник слесарный молоток…
– Многие из тех, кто присутствовал на совещании в Совмине, на том самом, когда был арестован Берия, вспоминали о его зеленом бархатном портфеле. В нем были то ли документы, то ли оружие. Но такого портфеля у Берии никогда не было. Боюсь, что и слесарного молотка Пиля – тоже… впрочем, это уже неважно…
На минуту в кабинете повисло молчание.
– Она умерла, – проговорил наконец с грустью Топоров, – а сияние осталось. Поздно уже, пожалуй, простите…
На большом листе бумаги я написал «Жизнь в поместье текла своим чередом, размеренно и неторопливо» и повесил над рабочим столом. Эта фраза могла принадлежать какому-нибудь русскому или английскому писателю XIX века. Действовала она на меня умиротворяюще, как и сама атмосфера Троицкого, где жизнь текла своим чередом, размеренно и неторопливо, поскольку ничего другого делать она не умела.
Топоров все чаще погружался в себя, не откликаясь, не вступая в разговоры. Сидел в углу террасы, накинув пальто на плечи, смотрел на пруд и выходил из забытья, только когда сигарета догорала до пальцев.
После ужина у Матреши собирался все тот же «близкий круг».
Лилия разливала чай и ликер, а потом устраивалась в широком кресле рука в руку с ангелом Ванечкой.
Баба Нина вязала, посматривая поверх очков на хозяйку, которая по-прежнему жаловалась на свои полуболезни, пила ликер из крошечной рюмочки и рассказывала о единороге, приходившем в ее сны каждую ночь.
Нинель за маленьким столиком раскладывала пасьянс, время от времени проверяя кончиками прекрасных пальцев, не растрепалась ли ее прическа.
Рядом с Матрешей усаживался Брат Глагол в своем экзотическом облачении, украшенном множеством серебряных пуговок. Он вытягивал ноги до середины комнаты, закидывал руки за голову и замирал, уставившись в потолок.
Похоже, он наконец нашел свой путь, открыв для себя Юлиуса Эволу, Рене Генона, Алена де Бенуа, Мёллера ван ден Брука, и мог часами говорить о расе и нации, органическом государстве, «новом фашизме» и примордиальной традиции.
– Россия должна пережить свой фашизм, – сказал он как-то вечером, провожая меня до дома. – Только это позволит нам обновить свое наследство, отвердеть, перестать быть народом-ребенком, вечным ребенком. Апостол написал: «Буква убивает – дух животворит», исчерпав одной фразой всю историю России и ее народа, который не любит всего окончательного, договоренного, определенного, названного, а потому живет не по закону, а по совести… хотя на самом деле нет ни народа, ни совести, а есть только Кремль и палка, которая объединяет зараженных мшелоимством людей в некое подобие народа…
– Мшелоимство?
– Мшель – это вещь в древнерусском языке. Мшелоимство – это стремление к обладанию вещами. Советская власть сама сделала все для того, чтобы лишить людей истории, заменив ее нищенским магазином. Вот и все наше наследство, если не говорить о всеобщей грамотности, фабриках и космических кораблях. Наследство, за которое не то что умирать – сражаться стыдно… и на интеллигенцию никакой надежды – она давно деградировала, ее родовая интеллектуальная трусость стремительно перерастает в мировоззренческую панику…
Изредка к Матреше забегал Август, сын Нинели. Он теперь постоянно жил в Троицком, пропадал где-то целыми днями, а по вечерам пьянствовал в обществе Брата Глагола и женщин.
Мона Лиза вернулась из Италии. Увидев Ванечку, вспыхнула, бросилась к нему, и мальчик обнял ее неловко и бережно, как если бы обнимал опасное животное.
На меня Мона Лиза даже не взглянула, и это меня не огорчило.
В конце мая умерла Василиса.
Все обитатели поместья отправились в Спасскую церковь, построенную Топоровым рядом с Троицким, на лесистом холме.
Василиса, всю жизнь носившая мужские пиджаки и брюки, лежала в гробу в белом платье и белом платочке. В морге ей сбрили усы и накрасили губы, и она стала похожа на куклу с сердитым детским лицом.
Когда гроб опустили в яму, выглянуло солнце, и от неожиданности все заулыбались – кто смущенно, кто с облегчением…
Раза два-три в месяц я ездил в Москву, бывал в редакциях журналов, где свел знакомство с литераторами.
Выпивали, болтали о политике, но по-настоящему оживлялись, когда речь заходила о деньгах. Писатели уже не могли прожить на гонорары и доходы от книг, да и книги, принятые к печати, часто не выходили из-за развала издательств.
Выкручивались кто как мог.
Многие челночили, торговали сигаретами или сникерсами на Луже, где не было споров о ГУЛАГе и Сталине, где за неосторожное слово могли разбить голову гирей, где обсуждали не Бунюэля или Пазолини, но «Кровавый спорт» или «Крепкий орешек», а чаще говорили о том, кого и где убили, сколько стоит крыша у «солнцевских», почем можно взять пятилетнюю «бэху» или сколько раз за ночь можешь кончить…
В конце августа Виктор Львович как бы между делом поинтересовался моими планами, и я понял, что пришла пора прощаться с Троицким.
– У отца в конце ноября обследование в клинике, – сказал Топоров-младший. – Сами видите, ему все хуже. Возможно, потребуется пересадка сердца. Матреша и Нинель хотят быть рядом с ним. Лилия мечтает поехать в Испанию на несколько месяцев. Персонал мы рассчитаем, да многим из них давно пора на пенсию. А вы…
– Подыскал место в одной редакции, – соврал я без колебаний. – Хочу снять поблизости квартирку.
Он кивнул.
В середине сентября Лев Дмитриевич Топоров объявил об отъезде из Троицкого и попросил о встрече.
Рядом с чашкой на его столе лежала книга Фукуямы, заложенная почтовым конвертом.
– И как вам, Лев Дмитриевич, конец истории? Фантастика? – спросил я, чтобы не молчать.
– Принимать завершение какого-то этапа истории за конец истории вообще – по меньшей мере непродуктивно…
– Либерализм победил, противников не осталось…
– Проблема, мне кажется, в том, что прекрасные гуигнгнмы пытаются навязать всему миру некие общечеловеческие ценности, которые на самом деле являются ценностями самих гуигнгнмов, и унифицировать жизнь, лишив ее будущего. Прагматизм и мессианство – сильнейшие ресурсы гуигнгнмов, но чувство неисчерпаемости этих ресурсов таит огромную опасность для благородной расы…
– И что потом? Поворот влево?
– Ну левые и без того всюду у власти – и в Европе, и в Америке. Точнее, это люди, которые довели левые идеи до абсурда. Вся эта борьба за права меньшинств, пренебрежение к большинству, уничтожение всех и всяческих границ, ревизия всех традиций, отказ от политического в политике…
– Значит, нам еще предстоит поворот вправо?
– Не знаю. Но пищеварительный сок – плохая замена крови…
Старик выглядел вовсе не таким больным, как говорил Виктор Львович, и это меня даже порадовало.
– Виктор сказал, что вы хотите покинуть нас…
– Рано или поздно это должно было случиться, – сказал я. – Я ведь тут мало-помалу теряю ощущение времени…
Он кивнул.
– С интересом буду следить за вашим творчеством… даже оттуда…
И с улыбкой поднял палец к небу.
Скромный нахмурился, но промолчал.
Я встал, чтобы откланяться.
– Минутку, – сказал Лев Дмитриевич, придвигая ко мне книгу Фукуямы. – Вы должны это взять.
– Но я читал, Лев Дмитриевич…
– Это…
В конверте, которым была заложена книга, были деньги.
Топоров с улыбкой протянул мне руку.
Мне показалось, что я пожимаю руку скале, облаку или историческому материализму.
Глава 30, в которой рассказывается о черных воронах, необъяснимых убийствах и воплях дьявольских
21 сентября 1993 года по телевидению выступил президент Ельцин, который фактически распустил Верховный Совет, Съезд народных депутатов и объявил, что 11–12 декабря состоятся выборы в Государственную думу.
В тот же день его соперник – Председатель Президиума Верховного Совета Хасбулатов назвал действия президента государственным переворотом, а вечером Президиум Верховного Совета отстранил Ельцина от власти, возложив обязанности президента на Руцкого.
– Ну вот и посмотрим, – сказал Брат Глагол, не скрывая зевоты, – кто кого: Верховный главнокомандующий – бунтовщика или чеченский интриган – русского медведя…
Он целыми днями сидел у телевизора и пил, а вечером к нему присоединялся Август с шлюхами.
Самым странным было участие в этих попойках ангела Ванечки. Было непонятно, что его привлекало – выпивка или женщины. А может, было еще что-то: однажды я видел, как Август обнял Ванечку, сжав рукой его ягодицы, и поцеловал его взасос, и ангел принял это как должное.
Но мне 21 сентября запомнилось не столько началом открытой войны Ельцина и Хасбулатова, сколько нашествием ворон.
Хотя Троицкое находилось далеко от Москвы, здесь было довольно много серых ворон, городских, хитрых. Залетавшие из окрестных лесов черные вороны были малочисленны и держались особняком, не вступая ни в союзы, ни в драки с серыми.
И вот вдруг утром 21 сентября все переменилось.
Из леса, окружавшего со всех сторон Троицкое, ни с того ни с сего хлынули сотни, тысячи черных ворон, при появлении которых серые тотчас исчезли. Черные вороны обсели все деревья, крыши, карнизы и фонарные столбы. Они бродили в траве, рылись в песке на берегу пруда, сидели на дорожках и проводах, наполняя воздух отрывистыми хриплыми криками. Перед закатом вороны перебрались с луга на деревья и крыши, а утром разбудили меня многоголосым карканьем.
Охранники подстрелили несколько птиц и повесили черные трупики на шестах, но Виктор Львович приказал прекратить пальбу и не пугать женщин дохлятиной, и вскоре вороны вернулись на луг, дорожки и берег пруда.
Погода, впрочем, была довольно холодной, обитатели Троицкого сидели по домам и не обращали внимания на птиц.
А вот меня вороны раздражали.
Я пытался работать, вычеркивал прилагательные, вписывал другие, рубил предложения, увязавшие в деепричастных и причастных оборотах, комкал страницу за страницей, пил кофе чашку за чашкой, дурел от табачного дыма, а тут еще эти чертовы вороны, которые с утра до вечера орали, всюду гадили и норовили пробраться в дом, когда я открывал окно, чтобы проветрить комнату…
Что бы я ни делал, куда бы я ни пошел, всюду были вороны, изо дня в день – вороны, даже в голове были только вороны, чтоб им сдохнуть…
Я шатался по поместью руки в брюки, жуя фильтр сигареты, и думал о беде, которая погромыхивала где-то вдали, как гроза, медленно подползающая к дому, чтобы в какой-то миг обрушиться на крыши и деревья тяжелым ливнем, хотя, казалось, никаких ясных признаков приближающейся опасности и не было.
Матреша по-прежнему жаловалась на свои полуболезни и пила ликер, Баба Нина вязала, Нинель раскладывала пасьянс, Лев Дмитриевич по утрам выпивал стакан воды с тремя каплями йода, Лилия шлифовала переводы с испанского, Мона Лиза с утра до вечера не расставалась с Ванечкой, украдкой целуя его холодные пальчики, Брат Глагол пил и смотрел телевизор, а потом в обществе Августа и ангела Ванечки трахал минетчиц с Плешки…
Я чувствовал себя персонажем романа, рождающегося на моих глазах, но не понимал ни замысла книги, ни мотивов, которыми руководствовались действующие лица, не улавливал связей и не слышал тока подземных вод…
И даже когда я уяснил, что важной сюжетной коллизией романа стал конфликт между Топоровым-старшим и его приемным сыном Августом, суть этого конфликта оставалась для меня тайной, и не было поблизости никого, кто мог бы эту тайну мне открыть. При этом Нинель, мать Августа, сохраняла безмятежное спокойствие, словно никакого конфликта и не было…
Другая коллизия была связана с беременностью Моны Лизы, все более очевидной и вызывавшей у Виктора Львовича тоже очевидную, хотя и непонятную мне злобу. Что его так расстраивало? Может, причину следовало искать в отце будущего ребенка? Кто он? Брат Глагол? Но по возвращении из Италии Мона Лиза держалась от бывшего любовника подальше, да и он к ней не приближался. Неужели дурачок Ванечка?..
А я – случайно ли я оказался в этом романе? И какая роль мне отведена? А мерцающая Фрина с ее тайнами, недомолвками, с ее сейфом, с этим ребенком, замурованным в стене? Что за люди охотились за ее тайнами? Кто их послал? Почему ее организм так внезапно отказал? Какова роль Топорова в этой истории?..
Чем упорнее искал я ответы на эти вопросы, тем больше убеждался, что в песнях ангельских нет ни одной ноты, которой не было бы в воплях дьявольских…
В начале октября я позвонил Булгарину, заведующему отделом газеты, в которой дважды напечатали мои рассказы, и он сказал, что готов взять меня в штат обозревателем. Булгарин предупредил, что зарплата будет скудной. Меня это не беспокоило: собственные сбережения и конверт Топорова с пятью тысячами долларов сильно облегчали задачу устройства в новой жизни.
Мы договорились встретиться на следующий день в редакции.
С облегчением вздохнув, я положил трубку на рычаг, надел куртку, вышел из дома, но не успел закурить, как снова превратился в персонаж романа, причем мне пришлось без всякой подготовки выступать в роли, которой я боялся больше всего, – это была роль нежелательного свидетеля.
Сначала я услышал голоса за кустами лимонника, которые росли по обеим сторонам дорожки, посыпанной гравием. Слов было не разобрать, но в голосах звучала такая злоба, что я замер на месте и поостерегся чиркать зажигалкой, чтобы не привлекать к себе внимания. Потом заговорила женщина – это была Мона Лиза. Голос ее был тих и сбивчив.
– Хватит морочить мне голову, – отчетливо произнес мужчина.
Это был голос Виктора Львовича.
Он что-то добавил, но я не расслышал.
Заскрипел гравий.
Я подался назад, к елям, откуда был хорошо виден поворот дорожки, ведущей вправо.
Трое мужчин и Мона Лиза сошли с гравия и зашагали по траве вниз, к кустам, окружавшим пруд. В одном из мужчин я узнал Пиля-младшего. Он держал Мону Лизу за руку, словно ребенка на прогулке. Когда процессия достигла кустов, Мона Лиза вдруг рванулась в сторону, но Пиль удержал ее, а те двое, что шли сзади, схватили девушку под локти, поволокли, и вся компания скрылась в ивовых зарослях.
Я напряженно ждал, не сводя взгляда с кустов, но не слышал ничего, кроме вороньей возни в ветвях деревьев да тихой-тихой музыки, доносившейся из дома, который занимала Лилия. Кажется, это был Шуберт. Лилия любила Шуберта.
Минут через десять из кустов вышел Пиль. Он выбрался на дорожку, потопал ногами, словно стряхивая с ботинок песок, и скорым шагом двинулся к соснам, среди которых стоял дом Виктора Львовича.
Его спутники не появились ни через десять минут, ни через полчаса.
Ни они, ни Мона Лиза.
Что там произошло? Они убили ее? Утопили? Или просто отвели в дом и сдали на руки Матреше?
От напряжения у меня разболелась голова.
Вернувшись в свой домик, я запер входную дверь на ключ и цепочку, проверил окна и поднялся в спальню.
Эти голоса за кустами, поникшая Мона Лиза с белым шарфом на шее, резко выделявшимся в темноте, ее внезапная попытка вырваться из рук Пиля, тишина, молчание… и эти вороны – эти чертовы вороны…
Что же я видел? Что произошло?
А главное – хотелось ли мне знать, что произошло?
Я лег спать, твердо решив уехать в Москву как можно раньше, но не успел закрыть глаза, как в той стороне, где стоял дом с колоннами, раздался крик.
Кричала женщина.
Быстро одевшись, я спустился во двор, прислушался – женщина все еще кричала – и побежал через луг.
Через несколько шагов остановился, присел в тени куста.
Снизу по дорожке поднимался Август. Он был без одежды и держал в правой руке что-то черное. Когда он оказался под фонарем, я понял, что в руке у него был пистолет. Август шагал широко, но не спешил и не оборачивался. Через минуту он скрылся за деревьями, и я, выждав еще немного, снова двинулся к дому с колоннами, но уже медленно, то и дело оглядываясь и прислушиваясь.
На террасе никого не было – крики доносились из глубины дома.
Миновав темную прихожую, я свернул направо и через открытую дверь кабинета увидел Топорова-старшего, который сидел за письменным столом, уронив голову на руки. Под руками расплывалось черное пятно.
В дальнем углу кабинета, освещенного торшером и настольной лампой, Иван Никитич Скромный, Третья Рука, торопливо рассовывал что-то по карманам. Не замечая меня, он подошел к хозяину, двумя пальцами взял со стола ручку с золотым пером, обтер ее о рукав и тоже сунул в карман.
Сзади послышались шаги, и я подался в темноту, но Нинель успела схватить меня за рукав.
– Август, – прошептала она. – Где Август?
– Пошел туда. – Я махнул рукой в сторону сосновой рощи. – Голый…
– Скорее!..
Нинель потянула меня за собой – я не стал сопротивляться.
– Что случилось? – спросил я, когда мы ступили на дорожку, ведущую к коттеджам. – Лиза пропала, теперь Август…
– Да плевать на Лизу! – Нинель прибавила шагу. – Почему голый? Август – почему голый?
– Откуда ж мне знать… это он стрелял в Льва Дмитриевича? Почему?
Нинель промолчала.
Она решительно толкнула дверь, первой вошла на террасу дома, который занимал Брат Глагол, и щелкнула выключателем. На столе стояли бутылки, пепельницы, тарелки с остатками еды. В углу на узком диване спала женщина, закутавшаяся в одеяло.
В спальне наверху никого не было.
Нинель отвела штору, и спальню залил колеблющийся свет.
– Пожар, – сказала она. – Где-то горит…
– Это конюшня, – сказал я.
Нинель бросилась к лестнице.
Из дверей и окон конюшни валил дым, из-под крыши выбивались языки огня.
По огромному лугу носились лошади и трое голых мужчин – Август, Брат Глагол и Ванечка. Они кривлялись и хохотали, подпрыгивали и падали. Похоже, они были сильно пьяны. При этом им как-то удавалось не попадать под копыта лошадей.
Нинель рванулась было к сыну – я с трудом удержал ее, потащил к деревьям.
– Да что вы, черт, делаете, – зашипела она. – Отпустите же!..
Споткнулась, упала, я помог ей подняться, втащил в кусты.
– Вон там, – сказал я, показывая рукой на другую сторону луга. – Тихо!
Она увидела мужчин, выходивших на луг, и замерла, узнав Виктора Львовича и Пиля-младшего. В руках у мужчин были автоматы.
Пиль остановился, расставил широко ноги, вскинул автомат, выстрелил – ближайшая к нему лошадь полетела наземь, перевернулась через голову, замерла.
Брат Глагол бросился к конюшне, но его догнала пуля.
Следующая пуля швырнула наземь Ванечку.
Август выстрелил наугад из пистолета, пригнулся, побежал на четвереньках, упал, пополз, замер.
Схватив Нинель за руку, я потащил ее за собой.
Остановились мы только у моего дома.
Нинель тяжело дышала, то и дело поднося ко рту платок, потом опустилась на колени – ее вырвало.
– Мне пора, – сказал я. – Уходите, возвращайтесь в дом, дождитесь милиции… или кто там приедет… в общем, до свидания, прощайте, все-все-все, мне пора…
Оставив ее на коленях среди сосен, я ворвался в дом, уложил в рюкзак тетради, надел теплую куртку, рассовал по карманам деньги, документы, сигареты, вылез через кухонное окно и по большой дуге двинулся к домам прислуги. Там была дырка в заборе. Охранники о ней знали, но смотрели на это нарушение сквозь пальцы. Только через эту дырку я и мог покинуть поместье, не привлекая внимания.
Всю ночь я болтался по платформе железнодорожной станции, наблюдая за беженцами в тюбетейках и полосатых халатах, которые развешивали одеяла на перилах, курили, сидя на корточках и пуская сигарету по кругу, а потом собрали одеяла и скрылись в лесу, откуда тянуло запахом еды.
Я по-прежнему не понимал, почему Август стрелял в отчима. Быть может, Лев Дмитриевич узнал об оргиях пасынка, о его гомосексуализме и решил лишить наследства? Но об этом он наверняка знал и раньше…
В Москву я прибыл первой электричкой. В толпе, пахнущей перегаром и одеколоном, дождался открытия метро, доехал до «Лубянки», поднялся по Мясницкой до Главпочты, возле которой уже прохаживались покупатели ваучеров, часа два гулял по Чистым прудам, встретил у входа в редакцию Булгарина, написал заявление о приеме на работу, после чего, оставив вещи и деньги в редакции, мы занялись поиском недорогой квартиры для меня, просматривая газетные объявления, потом взяли такси и поехали к Киевскому вокзалу, потом Булгарин исчез, а я в одиночестве бродил по темным улицам, пил водку, чтоб согреться, потом очнулся в темном закутке среди ржавых гаражей, у стены, ослепленный ярким светом, с болью в голове, голый, дрожащий, насмерть перепуганный, увидел шагах в пяти от себя двоих солдат в касках, с автоматами, и понял, что вот сейчас все закончится, вот сейчас эти парни прикончат меня, как собаку, услышал чей-то голос и почувствовал, как по ляжкам ползет говно, горячее, щиплющее…
– Скока у него спичек, а? – подал голос низенький солдат.
– Пять, – сказал дылда. – Или шесть.
– Да он конь, что ли?
– А ты возьми да померь.
– Эй, ты, скока у тебя спичек?
Не успел я ответить, как из-за спин солдат вышел офицер, который направил свет фонарика мне в лицо.
– Игруев Стален Станиславович? – спросил он, помахивая моим паспортом. – Ну и хули ты тут делаешь, Стален Станиславович, а? Почему голый, а? В очках, а голый – почему, а?
Я молчал.
– Иди, – сказал офицер, протягивая мне паспорт. – Бегом отсюда на хер, ну! Не туда! – Показал рукой. – Туда!
Подхватив с земли штаны и куртку, я бросился бежать – голый, обосравшийся, боящийся пули в спину, ничего не соображающий, шмыгнул в проулок, трусами вытерся, натянул одежду, проверил бумажник, через десять минут наткнулся на киоск, купил водки, выпил, закурил и пошел на подгибающихся ногах, через дыру в ограде пролез на кладбище, забился в кусты между могилами, натянул куртку на голову и заснул, содрогаясь от радости…
Глава 31, в которой говорится о горящем Русском Доме, длине мужского полового члена и низколетящих богах современности
Недавно я получил письмо от Люсьены, посвященное «лихим девяностым»:
«Я перерыла сотни газетных подшивок, облазила весь интернет, но так и не смогла установить, когда же возникло выражение «лихие девяностые». Проще понять, почему оно прижилось в массовом сознании. Думаю, причина кроется в двусмысленности прилагательного «лихой». В толковом словаре Даля слово «лихой» тянет за собой шлейф синонимов с положительным значением – молодецкий, хватский, бойкий, проворный, щегольской, удалой, ухорский, смелый и решительный, а вот синонимов с отрицательным значением меньше – злой, злобный, мстительный и лукавый.
Точно так же по-разному читается и строчка из Георгия Иванова «невероятно до смешного: был целый мир – и нет его». В девяностых моя мама часто вспоминала эту строчку и плакала. Но ведь тот мир не исчез. Он перестал быть целостным, он сильно изменился, но пережил все, преобразился, в основном перестал быть советским и живет. В твоем рассказе «Зимний вечер» доктор говорит: «Мир рушится – жизнь продолжается, мы так тысячу лет живем, привыкли».
Я хорошо помню вторую половину девяностых и не хотела бы возвращения тех времен, но часто обращаюсь памятью к тому молодецкому, бойкому, смелому и решительному, ко всему тому, что противостояло всему злому и лукавому.
Девяностые ассоциируются у меня с хаосом, а еще с домом, охваченным огнем. Одни бежали из этого дома, другие гибли в огне, третьи тушили пожар, разгребали головешки и устраивали новую жизнь, возвращая мир к целостности.
Ты как-то говорил, что своеобразие Достоевского обусловлено тем, что он чувствовал себя жильцом горящего дома, у которого нет времени на глупости – успеть бы самое необходимое сделать, самое важное выкрикнуть.
Не этим ли обусловлено своеобразие русского человека, живущего в тысячелетнем горящем доме?
Именно этот синдром горящего дома и обострился в девяностых.
Может быть, именно такие испытания и побуждают русского человека жить как бы поверх делений на красных и белых, палачей и жертв, левых и правых, потому что история рассекает нас только с одной целью – чтобы объединить в жизни, какой бы она ни была…»
В ответном письме я процитировал Эдипа, который, установив наконец, что это именно он виноват в бедствиях, обрушившихся на его город и его семью, лишает себя зрения: «Глаз никто не поражал мне – сам глаза я поразил». Эти слова, писал я, можно было бы начертать над входом в тот самый горящий дом, о котором писала Люсьена, но жильцы этого дома, разумеется, ни за что не согласятся с Софоклом: чтобы снять с себя ответственность за зло, люди готовы на любое преступление. Народу всегда нужен злодей, чтобы как-то уживаться со своей недостаточностью, и в роли этого злодея сгодятся и царь Николай, и Сталин, и Горбачев, и Ельцин, и Путин, и евреи, и американцы, и марсиане. Но, конечно же, надо быть бессердечной тварью, чтобы забыть о тех огромных жертвах, о миллионах невинных людей, которые в девяностых потеряли жизни или души…
Той октябрьской ночью девяносто третьего, когда я, голый и обосравшийся, стоял под дулами автоматов, произошло настоящее чудо.
По случаю я попал в ту часть города, которая была оцеплена войсками, блокировавшими здание Верховного Совета, где засели сторонники Хасбулатова и Руцкого, и мог запросто поймать пулю снайпера или быть убитым «при попытке оказать сопротивление». В те дни солдаты и милиционеры нередко стреляли по своим, приняв их за мятежников, а прохожие в районе Красной Пресни считались «подозрительными лицами». Меня могли убить, но отпустили, даже не пнув сапогом.
Добравшись до Ваганьковского кладбища, я спрятался в каком-то закутке между могилами, выспался, а потом отправился в редакцию, выбирая кружные пути.
Булгарин был в восторге от моего рассказа.
– А про какие спички тебя солдаты спрашивали?
– А вы в детстве разве не меряли пенисы спичками?
– Немедленно садись за машинку, – приказал Булгарин, – и ваяй репортаж с того света! И про спички не забудь! Это сколько ж в сантиметрах будет?
– Длина спички – сорок два миллиметра, – хмуро сказал я.
– Так у тебя, значит…
– Ничего не значит.
Через два часа репортаж был готов.
Булгарин прочел текст и с хохотом подписал его в печать.
Текст нашел читателей еще до выхода газеты в свет.
Вскоре в наш кабинет стали заглядывать сотрудники, чтобы посмотреть на человека, который стоял голым перед солдатами, обсуждавшими длину его члена.
Сначала забежала дама из корректуры, потом дежурный редактор, потом повалили сотрудники секретариата, журналисты, референты, охранники, какие-то хихикающие девочки, какой-то огромный парень с гармонью, и все хохотали, хлопали меня по плечу, пили за мои спички, а парень с гармонью рвал меха и орал во всю глотку: «Ви из душ гезеле, ви из ди штиб? Ви из душ мейделе, вемен хоб либ?»
Вечеринка продолжалась допоздна, потом вывалили всей толпой на улицу, кто-то пошел к метро, кто-то стал ловить такси, а потом я проснулся на ковре в чужой квартире, дрожа от холода, в темноте, с больной головой и пересохшим горлом…
Перевернувшись на бок и подтянув колени к животу, попытался вспомнить, как попал в эту квартиру, но не вспомнил.
Нащупал ключ прадеда на груди, пошарил вокруг, нашел очки, вздохнул с облегчением.
Осталось отыскать куртку с бумажником и туалет.
По стенам комнаты проплыли пятна от автомобильных фар, и я увидел высокую дверь справа, а слева – широкий диван, на котором кто-то спал, закутавшись с головой в одеяло.
На четвереньках подполз к двери, выглянул в коридор.
Слева брезжил свет, видимо, от уличного фонаря.
Я на цыпочках двинулся туда и оказался в кухне. Включил крошечную настольную лампу, стоявшую на широком подоконнике за холодильником.
На столе, застеленном клеенкой, стояли две граненые бутылки водки «Распутин», рядом с ними лежал блок сигарет. Вспомнил, как покупал водку и сигареты в киоске. Отвинтил пробку, сделал несколько глотков, сел под открытой форточкой на стул, закурил, обмяк.
Жив. Снова жив.
В коридоре послышались тихие шаги, и на пороге возникла маленькая фигура, завернутая в одеяло.
– Привет, – сказал я. – Хочешь выпить?
– Три часа ночи, Игруев, – сказала девушка, садясь у стола на табуретку. – Ты хоть что-нибудь помнишь?
Я налил водки в стаканы, мы чокнулись, выпили.
Лицо девушки – большие глаза, красивые брови, капризный рот – показалось знакомым, но имени ее я вспомнить не мог.
– Ты обещал дать автограф, – сказала она, доставая откуда-то из-под стола номер толстого журнала. – Теперь не отвертишься. – Протянула мне ручку. – Ириске от автора. Можешь добавить какую-нибудь отсебятину. И дату не забудь.
Подборка моих рассказов в журнале была заложена бумажкой.
Я написал «Ириске от автора», поставил дату и расписался, пытаясь вспомнить, как мы познакомились, но не смог.
– Может, поспишь еще?
– А твои родители…
– Это теткина квартира, но живу тут только я.
– Извини, что так вышло…
– Все нормально.
Мы вернулись в комнату.
Ириска включила торшер.
– Если дашь одеяло, я могу в соседней комнате… или на полу…
– Соседняя заперта – там теткино имущество. Диван тут один, придется потерпеть. Ты хоть помнишь, что подарил мне цветы? – Она кивнула на вазу с цветами, стоявшую на столе. – Вот так всю жизнь стремишься к независимости, а тебе вдруг бац – и дарят цветы…
Она сняла с себя одеяло, оставшись в трусиках и футболке, под которой едва выступали острые соски, и набросила его на меня, когда я лег, раздевшись до трусов. Выключила торшер, перелезла через мои ноги, легла спиной ко мне у стены, на которой висел ковер с огурцами.
Я повернулся на бок, положил руку на ее бедро.
Ириска хихикнула.
– Так сколько у тебя спичек, Игруев?
– Да ну на хер, – сказал я. – Дались вам всем эти спички…
– Но я не против, чтобы ты меня осквернил. У тебя был когда-нибудь секс с еврейкой?
– А ты еврейка?
– Естессно.
Утром я приехал в редакцию выспавшимся, чистым и бодрым.
Телефон звонил каждые пять-семь минут, и я отвечал всем, кого интересовало самочувствие журналиста, которому пришлось под дулами автоматов рассказывать солдатам о размерах его детородного органа. Другие спрашивали, чему учит читателей этот репортаж, не стыдно ли автору рассказывать о своем члене и не еврей ли я…
В общем, публикация имела огромный успех.
Между звонками мы с Булгариным готовили статьи в номер.
Впрочем, вместо статей у нас были тексты.
Наследие тоталитаризма – жанровая иерархия – было отвергнуто во всех московских редакциях. Текстом называлось все – заметка, статья, эссе, очерк, корреспонденция, репортаж, интервью, подпись к фотографии, отчет с круглого стола или пресс-конференции. Жанры распадались, смешивались, возникали, как сама тогдашняя жизнь, и низколетящие боги современности равнодушно благословляли этот кипящий поток…
Тираж у нашей газеты был невелик, но среди московских интеллигентов она пользовалась большой популярностью.
Мы публиковали либералов и консерваторов, гайдаровцев и бабуринцев, красных и белых, центристов и анархистов, православных, католиков, мусульман и адептов Белого Братства. Профессор геологии утверждал, что христианство зародилось на Алтае, заведующий кафедрой ботаники сравнивал достоинства немецкого и американского автоматического оружия, филолог-германист призывал короновать и возвести на российский престол Солженицына, врач-психиатр докапывался до русских корней Сократа и Платона, бывший комсомольский функционер делился тайнами узбекской проституции, микробиолог рассуждал о чуде на пути в Дамаск, астрофизик живописал историю колчаковского золота…
Многие писали о том, что Россия может стать хорошим местом для жизни, только если превратится в страну маленькую, протестантсткую, без кириллицы и русских.
Тексты пестрели словами и выражениями вроде «эта страна», «менталитет», «совок», «коммуняки», «тусовка», «иномарка», «грант», «ельцинизм», «баксы» и «деревянные»…
Между делом мы с Булгариным выпили «по писярику», а вечером, после сдачи номера в печать, в наш кабинет повалили авторы.
Был гонорарный день, и многие, получив деньги, заглядывали к нам, чтобы поблагодарить за публикацию. Благодарность обычно выражалась в литрах.
Тем вечером нам предстояло пережить благодарность профессора Дипакадемии, лидера христианско-социалистического движения и попа-расстриги, произносившего невразумительные, но вдохновенные тосты вроде: «Чтоб выше и гуще!» или «Чтоб еже не иже!»
Не успел расстрига произнести третий тост, как в кабинет заглянула Ириска.
– Надо поговорить.
Мы спустились во двор.
– Льзя ли мне предложить тебе кров и пищу, Игруев? – спросила она.
– Льзя, конечно. Но у нас гости…
– Естессно. Но я предлагаю выпить дома. У меня дома. И вообще, ты мог бы у меня пожить, если хочешь. Денег я с тебя не возьму – отработаешь спичками…
Я рассмеялся.
– Послушай, Игруев, – сказала она. – Про спички – это была неудачная шутка, извини, остальное – серьезно. С Булгариным ты за два-три месяца сопьешься, будешь ночевать в редакции на полу, потом переберешься в переход на Плешке и больше никогда ничего не напишешь. А тебе надо писать. Много писать. Мне очень нравится все, что ты пишешь. Очень. Ты чудотворец всего, что празднично. Настоящий, без дураков. И еще ты яровитый мужчина. Понятно, что я не призовая женщина…
– А без юродства?
– Ну ладно. Скажешь что-нибудь или так?
– А что тут говорить? Подожди пять минут, окей?
– Естессно.
Через пять минут с рюкзаком на спине я шагал рядом с Ириской к «Тургеневской».
Она держала меня за руку и то хмурилась, то улыбалась.
На эскалаторе Ириска вдруг положила руку на мое плечо и сказала:
– Еврейки – лучшие музы русских писателей, Игруев. Ты не пожалеешь.
Глава 32, в которой говорится о керигматическом богословии, великом писателе воды русской и либеральной парфюмерии
В шестнадцать Ириска вышла замуж. Он был энигматической личностью с мощными античными ногами. Биолог, диссидент. Но через два года они развелись.
– Видишь ли, он вроде пауков Cyrtophora citricola, которым не все равно, какая самка их съест после совокупления, – они предпочитают скармливать себя молодым и девственным паучихам. А я к тому времени была уже паучихой потрепанной…
Она поглядывала на меня как-то виновато, боязливо, а чаще при разговоре со мной отводила взгляд, смотрела вбок и говорила быстро, небрежно, едва разжимая губы, словно не хотела придавать своим словам да и самому факту своего существования какого б то ни было значения.
– Я звала его Опунцием, – продолжала она. – Язвительный, властный, безжалостный и блядовитый – страсть. Ради него я переводила Бультмана… это такой протестантский теолог…
– Угу, керигматическое богословие, демифологизация и все такое…
– Вот уж не подумала бы, что ты слышал о Бультмане…
– Захватывающее чтение, но послевкусие гадчайшее. Правда Христа у него сводится к прямолинейному и плоскому социальному действию, а чудо Христа опускается. Ну да, как может нынешний человек, пользующийся электрическим утюгом, верить в хождение по водам… но без чуда нет ни Христа, ни христианства… радости нет – только утюг…
– Ты говоришь прям как спикер Московской патриархии. Для православных имя Бультмана – как красная тряпка для быка. Но как тебе в руки попал этот отравленный плод безбожного богословия?
– При случае расскажу…
Это был первый вечер нашей совместной жизни.
После ужина мы пили водку из крошечных рюмок, Ириска нервничала, я был снисходителен и благодушен.
– Если хочешь, – сказала она, глядя вбок, – можешь рассказать что-нибудь о себе. Только если хочешь, естессно…
– Чудотворец всего, что празднично, яровитый мужчина – ты сама все обо мне рассказала. Но если серьезно, то мне хотелось бы, чтобы моя биография без остатка растворилась в том, что я пишу. Как сахар в чае.
– Когда человек понимает, что мир не существует, пока он не описан, не рассказан? И почему он решает взяться за это дело?
– Потому что похоть и вседозволенность, – сказал я. – Можно понимать искусство, чувствовать язык, смаковать красоту, но если нет похоти, ничего не получится. Грубое чувственное влечение, желание обладать миром, женщиной, закатом, мыслью, образом… ну и ощущение вседозволенности, конечно… можно все, абсолютно все, насколько хватит сил…
– А как ты думаешь, тот факт, что ты левша, как-то связан с твоим призванием?
– Ну конечно! Левша – он же еврей, гомосексуалист и карлик со СПИДом в одном лице…
– Я просто спросила…
– Ну ген LRRTM1, который играет ключевую роль в распределении функций различных частей мозга, в том числе в формировании речи и эмоций, отвечает еще и за леворукость и может увеличивать риск шизофрении. А шизофрения у левшей протекает часто с акцентированием и усилением эмоциональных нарушений, психопатоподобным поведением. Недаром же Платон называл творчество бредом. И потом, известно, что большая часть преступлений совершается правой рукой, но самые мерзкие – левой. Так что некоторая предрасположенность к творчеству, как видишь, у меня была…
– Да ну тебя!
– Кстати о творчестве: надо бы пишущую машинку купить. Могу и рукой, но на машинке получается нагляднее.
– А почему не компьютер?
– Не думал об этом…
В ближайшую субботу мы купили мой первый компьютер – 486-й, отдав за него больше тысячи долларов. Ириска настояла на том, чтобы это был ее подарок. Она с счастливым лицом тащила домой коробку с системным блоком, а я – тяжеленный четырнадцатидюймовый монитор.
Тем же вечером я впервые в жизни сел за клавиатуру компьютера и увидел, как на экране возникают буквы: «О спичках. Рассказ. Посвящается И.».
– Ну блин, – сказала Ириска растерянно, увидев посвящение, – теперь мне придется соответствовать…
Через неделю или две после моего прихода в редакцию Булгарину позвонил его однокашник по университету, работавший в архиве на Пироговке. Он просил срочно прислать кого-нибудь в ГАРФ, куда только что из президентского архива привезли огромную кучу невиданных документов. Булгарин был пьян и уже не мог никуда ехать – на Пироговку отправился я.
В тесных и душных маленьких помещениях архива документы в желтых кожаных папках высились стопками на столах и лежали навалом на полу. Однокашник Булгарина спросил, историк ли я, а потом махнул рукой: «Вы грамотный человек – разберетесь».
Через день я напечатал в газете выдержки из документов о депортации крымских татар с комментариями историков. Эта публикация имела успех. Тема «белых пятен» истории была тогда модной.
Вскоре я завел знакомства в других архивах и даже стал известен в узком кругу тех, кто продавал и покупал оригиналы архивных документов. Немецкий журнал был готов выложить сто марок за каждый лист подлинников документов о депортации немцев из Поволжья и Калининградской области, итальянцев интересовали судьбы военнопленных из восьмой армии (ARMIR), американцы искали следы своих летчиков, пропавших во время и после войны на территории СССР, французский историк просил «уточнить судьбы» некоторых солдат и офицеров из полка Роже Лабона, разбитого в 1941-м на Бородинском поле, и так далее, и тому подобное.
На этом можно было, как тогда выражались, наварить хорошие бабки, но гены отца-офицера и природная трусоватость, к счастью, брали во мне верх.
Помню, в военном архиве мне показали переписку немецкого военного коменданта и крестьянок одной из русских деревень, датированную 1942 годом. Письма на русском с переводом на немецкий и немецкие письма в русском переводе были собраны в папке с грифом «секретно». Женщины жаловались коменданту на немецких солдат, которые не обращают внимания на деревенских баб, комендант оправдывался, объясняя, что германским солдатам запрещено на оккупированных территориях вступать в связь с женщинами.
Когда я попросил у архивистов разрешения на публикацию этой переписки, они замахали руками: «Да ты что! Миллионы людей гибли на фронтах, страдали в тылу, а у этих шалав на уме были только мужики! Все мы, конечно, люди, но такая публикация стала бы покушением на образ народа-победителя».
Архивы тогда вовсю открывались, но при этом, как ни странно, оставались строго засекреченными многие материалы, связанные, например, с биографиями видных большевистских деятелей вроде Дзержинского, Фрунзе, Чичерина или Крупской. Недаром тогдашние карикатуристы писали слово «гласность» без гласных – ГЛСНСТ.
Но главное – у меня с той поры всегда был повод увильнуть от пьянства с Булгариным, сославшись на дела в архиве.
28 июня 1883 года, за два месяца до своей смерти, Тургенев написал Толстому письмо, в котором умолял великого Льва вернуться к литературной деятельности: «Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе…» Толстой, который не любил ложного пафоса, язвил: «Земли! Почему не воды?»
Ирискины друзья называли великим писателем воды русской Солженицына, который «слишком много наврал в «Архипелаге…» и «слишком сильно был склонен к поддержанию демобилизующих, деструктивных мифов об особой судьбе и священной миссии России и русского народа», хотя при этом отдавали должное Бороде за его борьбу с коммунизмом и советской властью. Его возвращение на родину в конце мая 1994 года они встретили шуточками о солнце, приходящем с востока, о секретаре эмигрантского ЦК, который инспектировал Россию, выслушивая жалобы и обращения граждан по пути из Владивостока в Москву, и о неизбежности симфонии Солжа, Кремля и Церкви.
Они были недовольны Ельциным, который позволил фашисту Жириновскому и ЛДПР получить на выборах в Государственную думу больше голосов, чем либералы-гайдаровцы, и вспоминали слова Юрия Карякина: «Россия, ты одурела!» Ругали Ельцина и за то, что не довел до необходимого финала процесс над КПСС, амнистировал и членов ГКЧП, и участников октябрьского мятежа 1993 года.
Тут, впрочем, единомыслия не было. Бородатый Саша Комм, историк по образованию, напоминал товарищам, что точно так же были вынуждены поступить и первые Романовы, которые руководствовались принципом «Не мстить и не требовать возврата» в отношении сторонников Лжедмитрия, чтобы объединить и возродить Россию.
Сашу недолюбливали за «державность» и «пафос».
Он же только посмеивался над «вечными борцами, оставшимися не у дел». Скрепя сердце, ему прощали насмешки: как ни крути, это он отсидел в мордовских лагерях по политическим статьям три срока, это его во Владимирской тюрьме били надзиратели, приговаривая: «Помни, сука, на чьей шконке валяешься! На шконке Василия Сталина, сука!»
Собирались вместе они все чаще по печальному поводу – чтобы проститься с очередным отъезжантом. Бывшие диссиденты один за другим уезжали навсегда в США, Францию, Израиль или по еврейской визе в Германию.
Попивая вино, они вспоминали отца Александра Меня, которого называли Аликом, посмеивались над Зоей Колокольниковой, гордившейся тем, что следившие за нею чекисты преклонялись перед ее красотой и тайком дарили цветы, перебирали имена стукачей, вяло поругивали шестидесятников – «неотпетых мертвецов» и угрюмо помалкивали, когда Саша Комм «садился на любимого конька», утверждая, что диссиденты, привыкшие апеллировать к общественному мнению Запада, так и не захотели найти возможность для завоевания русского общества, а потому и оказались в вакууме…
Леонид Збарский вспоминал, как пытался баллотироваться в Думу по одномандатному округу и выступал перед избирателями в провинции:
– Я им рассказываю о своей программе, а они спрашивают, уж не еврей ли я? Фамилия, мол, странная… а на мою программу – плевать…
Саша Комм вспоминал расхожую шутку того времени:
– Народ у нас хороший, а вот электорат – говно.
Смеялись невесело.
Хотя несколько человек из этой компании были моими авторами, публиковались в нашей газете, я для них был прежде всего дружком Ириски, а уж потом писателем и журналистом. Какой-никакой значимости в их глазах придавал мне разве что тот факт, что два моих рассказа были опубликованы в сборнике современной русской прозы, только что вышедшем в Лондоне.
– Переводить тебя нелегко, – сказал Збарский. – Кто переводчик? Чэндлер?
– Джеймс Бригг, – отвечала Ириска. – Бедолага несколько недель бился над переводом слова «запил»…
Все оживились, щеголяя прекрасным английским и предлагая возможные варианты перевода – hit the bottle, go on a bender, drinking binge, fall off the wagon, заспорили о понимании запоя в английской и русской культурах…
– Ну и как они тебе? – спросила Ириска, когда мы после проводов очередного отъезжанта возвращались домой. – Понятно, что они не Хайдеггеры, а читатели Хайдеггера…
– Люди замечательные, без дураков, но почти все страдают синдромом Чаадаева…
– Жертвуют Россией реальной ради идеальной?
– Я слишком плохо знаю их, чтобы оценивать. Да и не мои это персонажи, и их язык – не мой…
– Под языком ты разумеешь идеи, естессно?
– Часто возникает впечатление, в нашей истории всегда рулили либеральные идеи, либеральная цензура, либеральное сообщество. Но кто сегодня перечитывает Стасюлевича, Михайловского, Пыпина, Благосветова, Лаврова? Да даже Белинского с Чернышевским? Кто сегодня помнит о «Грядущем хаме» и самом Мережковском? Да тьфу! А мракобесы – Гоголь, Достоевский, Тютчев, Константин Леонтьев – они с каждым годом сияют все ярче. Я уж не говорю о Розанове – всеобщий любимец, нет статьи без цитаты из «Листьев»! Настоящее остается в памяти, в культуре, становится ее костью, сердцем и духом, а либерализм в России – он какой-то чужой, вечно сиюминутный, что ли… не дух, а духи, парфюмерия…
– Папа с тобой согласился бы. Он еврей, естессно, но всю жизнь занимается реставрацией русской иконы… такой русофил, что хоть святых выноси… а мама – настоящая жидовка, хозяйка бет егудит… обожаю их до слез… но когда встречаюсь с папой, переживаю приступ русофобии, а с мамой становлюсь жидоедкой… наверное, это что-то детское, подростковое… но ничего не могу с собой поделать…
– Пройдет…
– Естессно…
30 декабря 1994 года Ириска погибла.
В холодильнике было пусто, и утром мы отправились в магазин.
Я быстро оделся, взял хозяйственную сумку, запер дверь, пропустил Ириску вперед, она спустилась тремя ступеньками ниже, обернулась, поправила волосы и упала, поползла по лестнице, замерла, юбка задралась, обнажив белое бедро, обхваченное до середины черным чулком, вторая и третья пули ударили выше моей головы, осыпав меня штукатуркой, я упал рядом с Ириской, больно ударившись о ступеньку, обхватил ее, потащил вверх, потом, придерживая тело одной рукой, нервно выдергивал из кармана связку ключей, застрявшую в подкладке, оставил дверь открытой, уложил Ириску на ковре, среди книг, бумажек с записями и жухлых цветочных лепестков, бросился к телефону…
Стреляли в соседнем доме. Квартирная ссора переросла в перестрелку, палили куда глаза глядят, три шальные пули попали в окно, тянувшееся по стене дома сверху донизу, одна пробила сердце Ириски – она умерла почти сразу.
Когда тело увезли, я взял Ирискину записную книжку, позвонил сначала ее отцу, потом матери, принял двойную дозу снотворного и проспал двадцать два часа.
Новый год встречал в одиночестве.
Били куранты, люди пили шампанское, в Грозном пятнадцатитысячная группировка федеральных войск истекала кровью, сражаясь с чеченскими сепаратистами, я сидел с чашкой жидкого чая на диване, прижав к животу пропахшую Ириской подушку, и читал Августина: «…я плохо жил с собой, смертью был я себе…»
Глава 33, в которой говорится о горящем «Рояле», значениях слова shagger и черных риелторах
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, я обнаружил рядом с собой голую бабу в замшевых сапогах до колен. Она лежала ничком, громко храпя и широко раскинув ноги. Ее позвоночник тонул в глубокой ложбине, которая начиналась между лопатками, спускалась вниз и делила пышную задницу надвое. Вдруг перевернувшись на спину, она явила взору огромные груди и просторный лобок, покрытый слипшимися от пота и спермы волосами. Из складки на животе торчало серебряное кольцо, выдававшее местонахождения пупка. Пахло от нее умопомрачительно – потом, чесноком, нафталином и перегаром.
Как звали эту бабу в замшевых сапогах, я не знал.
Не знал, кто хозяин квартиры, в которой я проснулся, когда и куда мне сегодня идти, чтобы заработать или занять денег, и что будет завтра.
Сейчас же мне надо было опохмелиться и привести себя в порядок.
На столе в кухне теснились пустые бутылки из-под водки, в холодильнике стояла непочатая литровая емкость «Рояля».
Кто знает, какой в ней спирт – гидролизный или пиролизный.
Обычно мы с Булгариным проверяли пригодность «Рояля», поджигая его: если спирт вспыхивал синим пламенем, пили смело, если зеленым, пили только бессмертные.
Но я воспользовался другим способом проверки спирта на пригодность.
В стенном шкафчике нашелся пузырек с марганцовкой.
Я открыл бутылку, бросил в нее несколько кристалликов.
Если в бутылке метанол, появятся пузырьки газа. Но пузырьков не было.
Принюхался – пахло уксусом. Значит, этанол.
Налил полстакана, добавил воды, разогнав скопившихся в раковине тараканов, выпил залпом, вылизал тарелку, на которой вечером лежала селедка с луком, рыгнул, передернулся, закурил, сел на пол, закрыл глаза.
Разбудил меня пейджер. Сообщение гласило: «Сегодня в четыре будут деньги».
Ни имени, ни адреса, ни номера телефона.
Попытался вспомнить, кому отдавал в последнее время тексты.
Толстые журналы отпадали – сотрудники их не пользовались пейджинговой связью. Оставались четыре или пять ежедневных газет и три еженедельника, с которыми я чаще всего сотрудничал. Значит, придется звонить по семи-восьми адресам, чтобы понять, куда идти.
Открыл бумажник – на метро хватало.
Прислушался: кто-то принимал душ.
Оделся, проверил портфель – бумаги на месте – и, схватив с вешалки куртку, выскочил из квартиры.
Прохожие подсказали, как добраться до ближайшей станции метро – ею оказалась «Бабушкинская», у черта на куличках, – и побежал по тротуару, шлепая рваными ботинками по московской зимней слякоти…
После смерти Ириски я воистину уподобился человеку безрассудному.
Вскоре после Нового года мне удалось задешево снять комнату рядом с редакцией – в Кривоколенном переулке.
Хозяйка запущенной квартиры откликалась на имя Эмма Иосифовна, называла себя оперной певицей, дома носила туфли на высоких каблуках и шляпку с широкими полями и перьями, беспрестанно смолила дешевые сигареты и обожала Бальзака, которого читала в подлиннике, а по вечерам напивалась и с надрывом исполняла арию Княгини из «Русалки» или Марфы из «Хованщины»…
В редакциях толстых журналов меня уже встречали как своего: «Опять рассказы? Замечательно. Но нет ли чего посерьезнее? Повести, например?»
Поначалу я кипятился, приводя в пример Чехова, который за всю жизнь так и не написал ни одного романа: «Кто знает, может, наше время, как и конец девятнадцатого века, останется в истории литературы только рассказами». Но вскоре понял, что это бессмысленно: людям хочется поселиться надолго в романе, а не скакать из рассказа в рассказ, как с одной съемной квартиры на другую.
Денег хватало и на оплату квартиры, и на еду, и на развлечения, а о будущем я и не думал. Точнее, только о нем и думал, как и все тогда, но это будущее называлось завтрашним днем и заканчивалось на границе послезавтрашнего.
В проводах отъезжантов я больше не участвовал, хотя и сохранил связь с некоторыми диссидентами. Они по-прежнему публиковались в нашей газете, но многие были как будто растеряны.
Чеченская война разделила их. Одни выступали за право народа Чечни-Ичкерии на суверенитет, на выход из состава России, призывали русских солдат сдаваться в плен, не выполнять преступные приказы командиров, оправдывали сепаратистов, которые отрезали головы пленным, «потому что у чеченцев нет другого способа достучаться до мирового общественного мнения», другие угрюмо молчали.
Те и другие вдруг поняли, что стена, отделявшая правозащитников от народа в советские времена, никуда не делась, но если раньше этот самый народ тихо сочувствовал диссидентам, то сейчас этот же народ их презирал и ненавидел.
– Ошибка общая в том, что мы считаем, будто стали новыми людьми, тогда как попросту живем в новое время, – говорил Саша Комм.
Сашу «печалила», как он говорил, готовность диссидентов оправдывать любые действия власти, огорчала нравственная глухота его друзей:
– Збарский чуть не каждый день напоминает о том, что Екатерина Великая заставляла крестьян сажать картошку из-под палки, жестоко подавляя картофельные бунты. А теперь, мол, никто и представить себе не может жизни без картошечки. Мол, в России надо насаждать демократию, как Екатерина – картошку… Понятно, что политика – вовсе не искусство возможного, а искусство заставлять людей делать то, что им не нравится. Но защита прав человека – не политика, и мы не вправе предпочитать униженное меньшинство униженному большинству… бессердечие наше нас же и погубит… живем как будто в безвоздушном пространстве, как будто у нас нет ни Бога, ни родителей, ни жен, ни детей, ни любви и сострадания… или я становлюсь сентиментальным?
– Напиши об этом, Саша, – сказал Булгарин. – Про то, что в СССР Бога не было, но все жили, как будто Он был. Сейчас все как будто верят в Бога, но живут, как будто Его нет…
Примерно через месяц текст Саши Комма оказался на столе у Булгарина.
Он не смог принести статью сам – попросил друга.
Как только я увидел эти мощные античные ноги, этот римский профиль, эту бородку – маленький полумесяц, подчеркивающий волевой подбородок, я сразу понял, что передо мной Опунций.
Он принес два текста. Один принадлежал Саше Комму, другой – ему, и он просил опубликовать их рядом, в одном номере.
Что-то в выражении моего лица насторожило Булгарина. Он предложил Опунцию сесть, кинул на мой стол его текст, а сам взялся за Сашин.
Я закурил и стал читать.
«Александр Солженицын написал «Ту весну», и я думаю, что это единственно значимое в «Архипелаге…». Когда я впервые прочел его, сразу почувствовал: в этой главе фронтовой офицер кидается в пропасть без страховки.
Благословенны не победы в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны – народу. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы – и обычно ее добиваются. Полтавская победа была несчастьем для России: она потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы – и новых, и новых войн. Полтавское поражение было спасительно для шведов: потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе. Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над Наполеоном, что упускаем: именно благодаря ей освобождение крестьян не произошло на полстолетия раньше; именно благодаря ей укрепившийся трон разбил декабристов. А Крымская война, а японская, а германская – все приносили нам свободы и революции. А тупым переползом жирного короткого пальца Великий Стратег переправил через Керченский пролив в декабре 41-го года – бессмысленно, для одного эффектного новогоднего сообщения – сто двадцать тысяч наших ребят – едва ли не столько, сколько было всего русских под Бородином – и всех без боя отдал немцам. И все-таки почему-то не он – изменник, а – они.
Что русские против нас вправду есть и что они бьются круче всяких эсэсовцев, мы отведали вскоре. В июле 1943 года под Орлом взвод русских в немецкой форме защищал, например, Собакинские Выселки. Они бились с таким отчаянием, будто эти Выселки построили сами.
Эта война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским.
И вот они тоже потянулись заявить о себе, о своем грозном опыте; что они – тоже частицы России и хотят влиять на ее будущее, а не быть игрушкой чужих ошибок. Слово «власовец» у нас звучит подобно слову «нечистоты», кажется мы оскверняем рот одним только этим звучанием и поэтому никто не дерзнет вымолвить двух-трех фраз с подлежащим «власовец». Но так не пишется история. Сейчас, четверть века спустя, когда большинство их погибло в лагерях, а уцелевшие доживают на Крайнем Севере, я хотел страницами этими напомнить, что для мировой истории это явление довольно небывалое: чтобы несколько сот тысяч молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати подняли оружие на свое Отечество в союзе со злейшим его врагом. Что, может, задуматься надо: кто ж больше виноват – эта молодежь или седое Отечество? Что биологическим предательством этого не объяснить, а должны быть причины общественные…»
Далее автор писал, что народ должен отвечать за своих властителей, и если русский народ смирился с тем, что делали большевики, что делал Сталин, он должен быть наказан, чтобы осознать себя народом, обществом со своими правами, на которые власть не вправе покушаться. Этот народ, по мысли Опунция, из страха перед Сталиным победил фашизм, тем самым сохранив у власти преступный режим коммунистов. Этот народ смирился с рабством, а значит, у него не может быть будущего, если он не признает себя виновным, не покается перед цивилизованным человечеством. Должна быть наказана и Русская православная церковь, которая не стала оплотом сопротивления, не призвала свои чада к сопротивлению даже после того, как десятки тысяч ее священнослужителей и миллионы ее прихожан были унижены или убиты. А поскольку ни сам народ, ни сама Церковь этого, как уже понятно, ни за что не сделают, остается одно – насилие. И то, что происходит в сегодняшней России, весь этот развал, распад и несчастья, все это можно назвать целительной карой за исторические грехи, призванной очистить народ от тысячелетней грязи рабства. В противном случае он навсегда останется изгоем, пестующим свою богоизбранность, особый путь и прочую «литературу»…
Я молча передал текст Булгарину, он кинул мне статью Саши Комма.
Но я был не в состоянии читать ее.
Меня трясло.
Мелко трясло.
Я курил сигарету за сигаретой, но дрожь только усиливалась.
– Что ж, – сказал Булгарин, сдвигая очки на лоб, – мы это напечатаем. Но хотелось бы понять, чем вас восхищает подвиг этих защитников Собакинских Выселок? За что, по-вашему, дрались эти власовцы? Это просто вопрос.
– Например, за свободу, – вежливо ответил Опунций, – за возможность влиять на историю…
– В сегодняшнем понимании – да, – сказал Булгарин, – а в той жизни? Тогда – за что? Они стойко сражались, задержав продвижение Красной армии как раз в то время, когда в Освенциме достраивали цыганский лагерь и семейный еврейский, печи и газовые камеры работали вовсю. И если бы этот доблестный взвод власовцев, которые круче эсэсовцев, не задержал красноармейцев пусть на минуту, может быть, красноармейцам потом удалось спасти хотя бы одного еврея или цыгана сверх тех, кого потом спасли. Хотя бы еще один остался жив…
Я с удивлением слушал Булгарина, который говорил твердо и ясно, хотя, как обычно в это время, был уже пьян.
– Недавно в архивах, – вступил я, еле сдерживаясь, – рассекретили данные переписи населения СССР тридцать седьмого года. 44 процента населения страны старше 15 лет признали себя христианами, 42 процента – православными. Разграблены или разрушены почти все храмы, ликвидированы монастыри и семинарии, убиты десятки тысяч священников, монахов и активных прихожан. В этой ситуации назвать себя христианином было не просто опасно, а смертельно опасно. И вот в тридцать седьмом 44 процента из 162 миллионов жителей СССР, то есть 72 миллиона человек, объявляют себя христианами… это вам о чем-нибудь говорит?
– Вы спорите с Солженицыным или со мной? – Опунций смотрел на нас с состраданием. – Пафос моей статьи можно, в общем, свести к тому, что мы сегодня переживаем редкий в истории момент, когда неизбежное сливается с необходимым, когда появилась редчайшая возможность навсегда изменить судьбу нации… когда, наконец, у немногих активных людей в руках оказались вожжи истории, чтобы вытащить миллионы обывателей из болота, заставить их отвечать за каждый свой шаг и поступки кумиров, с которыми обыватели себя отождествляют…
– И снова заплатить за это миллионами жизней, – сказал я. – Жизнями несчастных стариков, которые этого не заслужили просто потому, что… или, по-вашему, не вписались в рынок, не покаялись, так пусть сдохнут?
– Вы, кажется, имели какое-то отношение к Ирине, моей бывшей жене, – проговорил Опунций, глядя на меня с вежливой улыбкой. – Муж? Бойфренд? Или просто shagger? Кем вы ей приходились? Простите, хотел бы просто уточнить…
На свою беду я знал, что shagger переводится как «ебарь», «ходок», «секс-гигант», «хахаль», и меня перекосило. Его превосходство, его вежливость, его едва скрытое презрение, мое волнение, сбивчивость, раздражение, его античные ноги и римский профиль, мое отчаяние и ревность, головная боль, испуганный взгляд Булгарина – все разом сошлось, слилось и взорвалось, и я бросился на Опунция, опрокинул стул, стукнулся коленкой обо что-то острое, взвыл и ударил изо всей силы его по лицу, а когда он вскочил, ударил еще раз, но слабее, зато он ответил страшным ударом в лицо, и я с разбитыми очками и расквашенным носом, из которого хлестнула кровь, полетел боком в угол между столом Булгарина и стеной, упал и потерял сознание…
Когда я пришел в себя, Опунция в кабинете не было.
Надо мной стояли Булгарин, главный редактор, начальник охраны и еще какие-то люди.
Все молчали.
Я кое-как поднялся и плюхнулся на стул.
– Иди-ка ты домой, – сказал главный. – Всем спасибо, все свободны.
И ушел, за ним остальные.
– Ты в порядке? – спросил Булгарин, разливая водку по стаканам.
Я потрогал кончиками пальцем нос, губы – все было в крови.
– Ну… – Булгарин поднял стакан. – Будем.
На первом попавшемся под руку листе бумаги я написал заявление об увольнении, Булгарин расписался внизу.
Мне было ужасно стыдно за все, что я наговорил, но не за то, что я сделал.
«Переизбрание Бориса Ельцина на пост Президента России отнюдь не отменяет расширение НАТО на восток», – заявила представитель США в ООН Мадлен Олбрайт 19 августа 1996 года.
– Понимаешь, старик, – говорил Стас, – отказ президент Ельцина ратифицировать СНВ-2 и согласиться с расширением НАТО на восток – это переломный момент в российско-американских отношениях. С точки зрения американцев, Россия уже с конца 1994 года вела себя неправильно. Ельцин уже тогда в глазах американцев стал русским империалистом. Нас списали. Но кто это у нас заметил? Никто. Нас не слышат и не слушают…
Под «нами» Стас подразумевал журналистов-международников.
Еще недавно они были суперзвездами советской журналистики, их узнавали в лицо, их книги были нарасхват, но в девяностых все изменилось. Кого интересовало то, что происходило в США или Англии, если под Ярыш-Марды гибли русские парни из 245-го мотострелкового полка, попавшие в засаду? Все обсуждали убийство Джохара Дудаева, письмо тринадцати олигархов, Хасавюртовское соглашение, взрыв на «Тульской», опалу Паши Мерседеса, позицию ОБСЕ, которая признала честными сначала фальсифицированные выборы Президента России, а потом выборы в Чечне, проводившиеся под контролем вооруженных мятежников…
Со Стасом я познакомился в предвыборном штабе, где мы занимались подготовкой материалов, агитировавших за действующего президента.
У входа висел портрет Ельцина, а на стене в комнате отдыха – огромный лист бумаги с лозунгами, которые мы сочиняли на досуге под кофе и виски: «Голосуйте за Эйнштейна: будет относительно неплохо! Голосуйте за Карла Гаусса: самый нормальный кандидат! Голосуйте за Герца: никаких колебаний! Голосуйте за Бойля и Мариотта: за расширение ваших прав! Голосуйте за Стивена Хокинга: никаких дыр в бюджете! Голосуйте за П. Кюри и М. Кюри: мы излучаем доверие! Голосуйте за Рентгена: за прозрачность всех структур! Голосуйте за Ферми: все преобразования будут ускорены! Голосуйте за Шредингера. Или – нет. Водолазы за Гей-Люссака!»
Эта избирательная кампания позволила мне пополнить запас долларов, который почти истощился в последнее время: постоянного места я не нашел, а за архивные материалы платили не очень.
Еще раз удалось заработать, когда Булгарин позвал на халтуру – выпускать журнал «Меха и драгоценности».
Издавала его роскошная блондинка лет сорока, которой муж подарил кучу денег, чтобы она могла наконец осуществить свою мечту.
Блондинка собирала нас раз в неделю в каком-нибудь ресторане, где за обедом или ужином мы обсуждали план очередного номера.
На ее деньги мы обзавелись ноутбуками, хлестали стаканами тридцатилетний коньяк и раскатывали на такси.
Через полгода муж блондинки решил проверить, как расходуются его деньги, и нам пришлось бежать, прихватив все, что можно было унести в руках.
Булгарин стырил рисунок Кандинского, висевший в кабинете блондинки, и мы потратили несколько недель, чтобы продать его на черном рынке. При этом выяснилось, что рисунок был украден из какого-то провинциального музея.
На руках у меня оказалось около шести тысяч долларов, из которых полторы я отдал авансом за квартиру. На злоключения оставалось четыре с половиной тысячи баксов, то есть почти двадцать тысяч рублей (средний житель России тогда зарабатывал полторы тысячи рублей в месяц). Бутылка водки стоила двадцать пять рублей – дешевле, чем стограммовая баночка растворимого кофе, а шотландский виски в подземном переходе на Лубянке – пятьдесят два. С такими деньгами многое можно было себе позволить, и я не стал терять времени даром.
Что ж, тогда я на собственном опыте убедился в правоте Кокто, который как-то заметил: «L’homme seul est toujours en mauvaise compagnie» – оставшись один, человек всегда попадает в дурную компанию.
Впрочем, иногда я всплывал на поверхность, чтобы пообщаться с хозяйкой, поскольку ее планы могли повлиять на мою жизнь.
Эмма Иосифовна давно пыталась продать квартиру, но боялась продешевить. Она хотела три тысячи долларов за квадратный метр. В августе 1998-го это казалось причудой, но не сумасшествием, как уже в следующем году, когда цены на старое жилье в центре Москвы упали почти вдвое. На вырученные деньги она хотела приобрести две трешки. Риелторы уговаривали ее снизить цену хотя бы до двух с половиной тысяч, но Эмма не сдавалась. Она подозревала риелторов в сговоре, нечестности и прочих грехах и искала того, кто продал бы ее метры как надо.
Я пугал ее черными риелторами, которые убивали одиноких москвичей, чтобы завладеть их квартирами, или обстряпывали дело так, чтобы бедолаги взамен своего жилья в Токмаковом переулке получили сарай в Луховицах.
Но старуха только усмехалась.
Риелторы менялись, менялись и их манеры. Если прежние после долгих уговоров уходили, махнув рукой, то новые терпели все выходки пьяненькой старухи, обещая ей райские кущи и златые горы. Эмма говорила, что это умные, деликатные и порядочные люди, а я видел только взгляды, которыми они обменивались за ее спиной…
Наконец старуха согласилась на сделку, подписала документы, и как-то сентябрьским утром в ее квартиру пришли стриженные наголо парни во главе с молодой остроносой женщиной, которая заглянула в мою комнату, увидела окурки и бутылки на полу, двух голых девок, спавших в обнимку рядом со мной, и сказала: «Этого – напоследок».
В первую очередь парни принялись разбирать и выносить мебель из гостиной, спальни и кухни, затем стали таскать книги и тряпки.
Вечером я спустился в магазин, купил водки, первый глоток сделал еще на улице, второй в лифте, третий в прихожей, где стоял мой рюкзак с вещами, попытался оттолкнуть остроносую, которая сказала, что мне пора и честь знать, закричал, что отец у меня генерал и начальник московской милиции, он их всех на портянки порвет, но тут двое парней молча набросились на меня, сбили с ног, поволоколи, я ударился головой об угол и отключился…
Глава 34, в которой говорится о том, что в неисчерпаемом богатстве Божьего «да» человек волен выбирать свои «нет»
В этой главе я мог бы рассказать о том, как прожил шестнадцать месяцев в поселке Красное Счастье, расположенном «далеко от асфальта» – в двухстах пятидесяти километрах от Москвы.
О маленьком бандитском государстве, какие тогда тысячами возникали от Балтики до Тихого океана и были связаны скорее общностью крови и духа, чем законами и товарными потоками, о людях тьмы, привыкавших полагаться только на себя.
О Тимуре и его команде – банде во главе с бывшим офицером, потерявшим в Афганистане глаз, а на Кавказе – семью, который долго думал, что делать с московским журналистом и очкариком, попавшим в Красное Счастье случайно, попутно, и наконец велел пристроить меня «как-нибудь необидно».
О толстушке Нане, помощнице Тимура, отвечавшей за жильцов, которая била правой, как лошадь левой, о том, как она назначила меня своим милым, но я так ни разу и не увидел ее голышом, потому что она не разрешала включать свет в спальне.
О хранившейся у Наны пачке справок о смерти с печатями, подписями врачей и одинаковым диагнозом «острая сердечная недостаточность», в которые оставалось только вписать имя жильца.
О жителях, боготворивших Тимура, который обеспечивал их дешевой колбасой, печеным хлебом, консервами, крупой и автобусом, когда надо было съездить в больницу или в церковь.
О жильцах – жертвах черных риелторов, этих падших людях, живших в дерьме, спившихся, всеми забытых, никому не нужных и получавших животное удовольствие от того, что кому-то еще хуже, чем им.
О кафе «Алые паруса», державшемся только благодаря бандитам, и его хозяйке Тундре, которой после смерти Наны – она умерла от острой сердечной недостаточности – я брил ноги.
О непристойной провинности, за которую Тимур отрубил мне мизинец, позволив, однако, взять палец на память.
О бесконечных дождях, мокрых ботинках, ведрах с углем для кухонной плиты, мерзлых свиных тушах, водке, оставшейся от бандитов и слитой дрожащими руками в заветную бутылку, о репродукции Крамского на стене, морской раковине на телевизоре, покрытом кружевной салфеткой, о запахе прогорклого сала от горячей сковороды, об отчаянии и стыде, о боязни лишиться привычной отвратительной еды, привычной толстой бабы и привычного алкоголя, о том, наконец, как на следующее утро после знакомства, едва очнувшись, мы с Фриной потянулись друг к другу, а потом, после секса, она вдруг с улыбкой посмотрела сквозь меня безумным взглядом и пролепетала какое-то детское колдовское слово, божественную бессмыслицу, что-то вроде «хсамлобадумли», но гораздо длиннее, гораздо красивее, гораздо нежнее, и эта серебристо-хрустальная глоссолалия струилась, переливалась и не кончалась во рту, и я слизывал этот волшебный звук с ее набухших губ, а он все не заканчивался, не заканчивался, и о том, как, вспомнив об этом, я заплакал…
О раннем утре 31 декабря, когда нагрянувшие в поселок бандиты в лыжных масках за полчаса убили всех – Тимура и его команду, Тундру и еще троих жителей Красного Счастья, а потом исчезли, и о том, как жильцы и жители ринулись в дом Тимура, чтобы опустошить три его холодильника, выпить все спиртное и утащить все мало-мальски ценное, включая обои с золотыми цветами, содранные со стен гостиной, и хрустального лебедя в натуральную величину, стоявшего в углу спальни на столике, и жрали, пили и грабили, спотыкаясь о трупы, и о том, как и жильцы, и жители набросились на меня, чужака, и мне пришлось спасаться бегством…
О том, как я прятался в «Алых парусах», где трупы лежали вдоль стен, кое-как укрытые скатертями, пил водку и дрожал от холода, а потом напялил на себя брезентовые штаны, белый халат, женскую мехову шапку, пальто, добрался до леса, упал, очнулся, в следующий раз пришел в себя на мосту, под которым медленно тянулись вагоны, полувагоны, хопперы, платформы, цистерны, щебень, бревна, белые лошади, и я не раздумывая влез на перила, зажмурился и прыгнул во тьму, ударился, покатился, схватился за что-то, вжался в щебень, замер…
Когда поезд остановился, я спустился по лесенке и бросился бежать.
В бабской меховой шапке, брезентовых рваных штанах, в чужом пальто поверх грязного халата, с мизинцем, завернутым в презерватив, в разбитых очках я вернулся в Москву на велосипеде, украденном в Южном Бутове, к утру добрался до Плешки, забился в нишу между киосками в подземном переходе, лег на кусок картона, подтянул ноги к груди, закрыл голову локтем и уснул…
В тот день в Большом театре праздновали наступление нового, 2000 года. Кресла все вынесли и вместо них поставили столы. Билеты стоили тысячу долларов в амфитеатре, пять тысяч – в партере.
Полутораметровые осетры, жареные поросята, французское шампанское рекой, черная икра в десятилитровых серебряных корытах – чтобы есть ложкой. На сцене танцевала божественная Лопаткина, а с балконов раздавался звон хрусталя и гости густо пропускали матерком, заглушая оркестр. В двенадцать часов зажегся экран, на котором появился Борис Ельцин, и прозвучало знаменитое: «Я устал. Я ухожу». Гости словно потухли.
Зал мгновенно протрезвел.
Возле сцены именинником ходил довольный Борис Березовский, которого окружила беспокойная толпа. На лицах был написан только один вопрос: «Что же теперь будет?» Никто даже предположить не мог, что за новая драма начинается вот прямо сейчас, в этот самый момент. Беспокойный, на скорую руку слепленный мир нового русского капитализма, наивный, по-детски жестокий, юный и поэтому ненасытный, должен был рассыпаться в прах. Многим уже чудились тяжелые шаги Командора, который за последующие десять лет увел в ад добрую половину гостей того странного праздника.
Так вспоминал об этом дне мой друг Сергей Ключенков.
А я тем вечером спал в переходе под Комсомольской площадью – на меня ссали собаки, плевали бомжи, с презрением поглядывали шлюхи – и был счастлив…
Обо всем этом я мог бы написать подробно, но в какой-то момент вдруг понял, что читателю довольно и того, о чем я упомянул вскользь.
Глава 35, в которой говорится о невротической оппозиционности, нежных лицах и тайне великого Космати
Тысячи людей, тысячи комнат, бесконечные коридоры, застоявшиеся запахи кухонь, окурок за зеркалом в первой терапии, лифт с брошенной каталкой, курилка, на стене которой кто-то написал масляной краской: «Господи, дай мне пирацетам, чтобы изменить то, что надо изменить! И дай мне феназепам, чтобы принять то, что я не могу изменить!» Двери многих палат открыты, и оттуда доносятся стоны и всхлипы, храп и кашель, а то вдруг кто-нибудь вскинется и заговорит во сне, забормочет на странном жалобном языке, звуки которого вызывают щемящую боль в сердце… звякнет металл о стекло, скрипнет кровать, и снова тишина воцаряется в огромном здании, уходящем бетонными корнями в те времена, когда на этом месте хоронили безымянных бродяг и казнили детей…
Избежать госпитализации мне не удалось.
Сердце болело все чаще и все сильнее, накатывал страх, подступала тошнота.
Анализ крови напугал врача, поставившего предварительный диагноз «инфаркт», и меня на «Скорой» с мигалкой и включенной сиреной доставили прямиком в реанимацию. Там, впрочем, установили, что миокард в относительном порядке, и перевели во вторую терапию, рекомендовав стентирование коронарных артерий.
Это был попадос, как говорил мой друг Хан Базар.
Я попался.
У меня были две возможности – дождаться очереди на бесплатную операцию или взять кредит, например, под залог квартиры. Попытался выпросить у издателя аванс под будущую книгу, но он предложил всего сто тысяч, а это не покрывало затрат на установку стентов.
В больницу я попал в пятницу, а в понедельник позвонил главному редактору журнала, чтобы предупредить о невыходе на работу.
– И сколько стоит вся эта хрень? – спросил он.
– Тысяч пятьсот-шестьсот, не считая реабилитации.
– Да не вопрос, – сказал он. – Это же в рублях, надеюсь?
Уже через полчаса мне позвонила Катя Ивлева, которая в нашем издательском доме отвечала за страховки, и сказала, что редакция оплатит операцию, и в тот же день меня перевели в палату с кондиционером, душем, туалетом и видом на облетающий больничный парк.
Вторая койка в палате пустовала.
Вечером ко мне ворвалась разъяренная Монетка, как-то преодолевшая посты охраны, наорала: «Почему не позвонил?» и вывалила на стол пакет с едой, планшет, спортивный костюм, домашние тапочки, туалетную бумагу, ложки-вилки-тарелки, сигареты, теплые носки и нижнее белье.
– Переодевайся, – приказала она. – А грязное заберу в стирку. И поскорее – у меня дела еще…
Выглядела она усталой.
Я проводил ее до шлагбаума.
– Слушай, – сказала вдруг она, – неужели мать тебя никогда не искала?
– Ничего об этом не знаю…
– А ты ее?
– Почему тебя вдруг это заинтересовало?
– Странный ты… а если останешься один? Совсем один? Неужели тебе никогда не хотелось… неужели тебе никогда не было жаль…
– Да с чего такие вопросы, Лиза?
Монетка вдруг перекрестила меня и всхлипнула.
– Ну что ты… завтра операция, потом денек подержат в реанимации, и в четверг мы с тобой встретимся…
– Дай Бог…
Но думала она о чем-то другом.
Села в машину и так газанула, что из-под задних колес полетела мокрая листва.
Операция прошла без осложнений, после реанимации я позвонил Монетке, но она не ответила.
Вернувшись в свою палату, я обнаружил на соседней койке седого мужчину с ухоженной бородкой и веселыми глазами.
– Аристарх Девушкин, – сказал он, поднимая руку, как школьник на уроке. – А ваше лицо мне знакомо… ну конечно! – вскричал он, когда я представился. – Такое имя не каждый день встретишь. Я же у вас в газете печатался году, наверное, в девяносто пятом или шестом! Жду шунтирования после третьего инфаркта…
Наверное, я свихнулся бы от его страсти к разговорам, но Аристарх Девушкин обладал таким волшебным голосом, что его можно было слушать бесконечно, даже если бы он говорил о брачной жизни императорских пингвинов или княжеских печатях пятнадцатого века. Иногда я вставлял реплики, но больше молчал.
– Двадцать лет прошло… как все изменилось… Москва, Россия, люди… Помните рекламу девяностых? Хей-хей, паренек, отправляйся на ларек… совок, коммуняки, дерьмократы – кто сейчас употребляет эти слова, Боже мой? Красные директора, демократические генералы, лаборанты-реформаторы во власти – где они? Нету. Как Фома хуем сдул… а сейчас то же самое происходит с чекистами… Ко мне полгода назад племянница приехала из Оренбурга, мечтает покорить Москву… Буду, говорит, повышать свой социальный статус, заводить знакомства с людьми высокого социального уровня, поддерживать и монетизировать знакомства и деловые связи, строить сильный персональный бренд… Бренд! Побывали с ней в хорошей компании, старые барды пели, шутили, и вдруг я понял, что Оля не понимает их намеков, всех этих аллюзий – политических, литературных… может, и слава богу? Новое поколение предпочитает прямую речь, а не фигу в кармане… они такие непривычные… смесь рейгановских яппи со сталинскими физкультурниками, все помешаны на спорте, здоровом образе жизни… религия обязательного позитива и бесконечный праздник – праздник курортный, ресторанный, инстаграмный, который непонятно как сочетается с реальной жизнью… плати и радуйся, плати и празднуй – вот вам вся нынешняя молодая Россия… лучше бунт, чем будни… странный бунт… я ведь тоже был бунтарем, как мне казалось… таким типичным революционным эпилептиком, но устал от всего этого, от невротической оппозиционности, от этих вечных дрязг… наши либералы – это такое замкнутое и обособленное сообщество, ходят строем и гордятся своим единством, как коммунисты какие-нибудь или фашисты… они воспевают девяностые, не вспоминая о страшной цене тех реформ, как патриоты, воспевающие тридцатые годы и считающие жертвы ГУЛАГа приемлемой ценой за рывок в будущее… устал я от тех и этих, устал от всего этого… захотелось домой… я, конечно, типичный ренегат, разочарованный в российской версии либерализма… ренегат и оппортунист… вообще, к сожалению, у нас очень низка культура оппортунизма – это беда России… но у меня иное… особый случай… странные вещи иногда происходят в голове… вот, скажем, если всех людей Земли собрать и утопить в Байкале, то уровень озера поднимется всего на сантиметр… вообразите себе… цивилизация, книги, Пракситель, Шекспир, Гагарин, Гитлер, двигатель внутреннего сгорания – все утонет, все погибнет, а уровень Байкала поднимется всего на сантиметр… глупости, конечно, а меня это потрясло… вы же знаете, что такое метанойя? Покаяние, переосмысление опыта, перемена ума. После первого инфаркта я словно вырвался из душной квартирки на волю… и, простите, крестился… хочется думать, что я стал ближе к себе, перестал быть потребителем собственной жизни… правда, в загробную жизнь так и не смог поверить… в загробную жизнь в христианском смысле, то есть в обыденное бессмертие… наверное, это-то и превращает мою жизнь в ад: никакой надежды, никакой… вот ужас, вот настоящая трагедия нового типа, которая не снилась ни грекам с их верой в высшие силы, ни христианам, почивавшим на вере в бессмертие и потому не боявшимся смерти… А я – боюсь, боюсь до обмирания сердца… цепляюсь… а за что цепляюсь? Вечности нет – за что цепляться? У меня не осталось никого, кроме Оли… она троюродная племянница, понимаете? Но она такая наивная, такая иная… но главное, конечно, – я освободился… как я раньше мучился, читая про всех этих тиранов, кровопийц, лагеря, жертвы… было чувство какого-то личного бессилия… а теперь – нет, теперь я думаю просто: мы их всех пережили и переживем. Они, конечно, останутся в нашей крови, но мы их переживем, всех этих иванов грозных и сталинов. В России это очень важно. Мы их всех переживем и передадим жизнь дальше… я пережил самый большой ужас в жизни… понимаете, встреча с Богом всегда повергает человека в трепет и ужас, это нормальная человеческая реакция. Апостолы упали ниц перед преобразившимся Христом. Товия, встретив ангела Рафаэля, пал на землю, потому что был в страхе. Даниил говорил: «Вострепетал дух мой во мне, в теле моем, и видения головы моей смутили меня». Захария, встретив ангела в храме, испугался. Это все потому, что в жизни обычного человека Бог играет не очень важную роль. Как правило, о Нем вспоминают, когда страшно… А вот Оля – она ничего не боится… она хочет диван… то есть чтобы диван стоял посреди комнаты, как в сериалах… вы смотрите сериалы? Там все сидят на диване. Диван стоит посередине большой комнаты или в кафе, и на нем сидят друзья… они все время смеются и сидят на диване… у нас две комнаты, самая большая – восемнадцать метров, в ней еще книжный шкаф, комод… если диван поставить посередине, перед телевизором, то комната исчезнет… не повернуться… сзади и спереди можно пройти только боком… когда к ней приходят друзья, я ухожу в кухню… они учатся в академии дизайна… они не хотят быть, они хотят иметь – иметь машины, дома на Лазурке, айфоны, кеды на зеленой подошве… дизайнеры, дизайнеры, тридцать тысяч одних дизайнеров… и все хотят работать в «Газпроме»… неужели в «Газпроме» нужно столько дизайнеров? По утрам мы пьем смузи… это такой кисель… Боже, я все о себе, а вы-то – что вы? Зима тревоги вашей позади? Помните «Ричарда Третьего»? Now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun of York…
Он даже ночью не мог успокоиться, ворочался, что-то бормотал, вскрикивал, стонал…
Когда я вернулся из реанимации, его не оказалось в палате.
На мой вопрос об Аристархе медсестра ответила вздохом.
Коронарное стентирование – транслюминальная баллонная ангиопластика – давно стало довольно заурядной операцией.
Врачи, получившие подтверждение моей платежеспособности, излучали оптимизм и каждые пять минут спрашивали, не холодно ли мне.
Планом операции предполагалась установка четырех стентов, но обошлись двумя, что облегчило счет за операцию минимум на четверть миллиона.
В реанимации я надеялся вволю почитать – в планшете было сотни три книг, но не получилось: вдруг запрыгало давление, и меня стали пичкать седативами.
Я слонялся по коридорам с холтером на поясе. Каждый день на третьем этаже встречал девочку лет семи-восьми, которая сидела в широкой нише у окна с видом на парк, положив худые руки на подлокотники инвалидного кресла.
– Ее готовят к операции на сердце, – сказала медсестра. – Врожденный порок… может не выжить…
– А что у нее? Даун?
– Да просто дурочка, – с мягкой улыбкой сказала медсестра. – Олигофрения у нее…
Я сел на диван у стены, рядом с которым стояло кресло, взял девочку за руку. Пальцы ее были на удивление длинными, теплыми, лунки ногтевых лож розовыми, пульс ровный, хорошо наполненный, хотя и немного частил.
– Как тебя зовут?
Девочка повернулась ко мне, улыбнулась, но промолчала.
Она была некрасива, но черты ее лица, взгляд из-под полуопущенных век были такими мягкими, такими нежными, что сердце у меня забилось чаще, чем у нее. Было в ее этом взгляде, в этой нежности ее угловатого лица что-то такое, что объединяло эту маленькую девочку и с Розой Ильдаровной, когда она успокаивалась после секса и задумчиво водила пальцем по моему животу, и с Фриной, когда она просыпалась и смотрела на меня с тающей полуулыбкой, и с Алиной, и с Ириской, и с Лу, и с Монеткой – с женщинами, которых я не мог забыть…
Я попытался высвободить руку, но девочка не отпускала, и я остался с нею.
За окном с веток падали последние листья, деревья стояли темные и блестящие, было тихо, и я задремал, держа девочку за руку и чувствуя слабенькое биение ее сердца, а когда открыл глаза, она сказала негромко: «Пи», и я сразу понял, что это значит «спи», и снова закрыл глаза. Холтер бесшумно фиксировал колебания электрических полей, образующихся при работе моего сердца, где-то в кухне двигали тяжелые кастрюли и беззлобно переругивались, я дремал, девочка безучастно смотрела в окно, и так мы и сидели, погруженные в полудрему, пока медсестра не вынула руку девочки из моей и сказала: «Поехали обедать, милая…»
На следующий день ей сделали операцию и увезли в реанимационную палату.
Ее образ остался незавершенным, потому что я так и не узнал ее имени.
Зима тревоги нашей была в самом разгаре, когда я вернулся в Москву в бабской меховой шапке, широких брезентовых штанах, рваных ботинках, в чужом пальто поверх грязного халата, небритый, с кровью и землей под ногтями, с мизинцем в презервативе и разбитых очках.
Проснувшись в подземном переходе на Плешке, грязный, вонючий, обоссанный бродячими псами, я попросил докурить у бомжа, пившего пиво рядом со мной, и с замирающим сердцем поднялся по лестнице к свету.
Меня трясло, в голове мутилось, болели все суставы, подташнивало, правое стекло в очках рассыпалось, едва я попытался его протереть.
Был первый день 2000 года, суббота, градусник на стене вокзала показывал пять ниже нуля, доллар в обменнике покупали по 28 рублей, людей на площади было немного, таксисты возле Ярославского и Ленинградского вокзалов курили в ожидании седоков, проститутки и бомжи под стеной Казанского завтракали с газетки, расстеленной на земле, мелко жевали и чокались бутылками.
По случаю праздника все редакции были закрыты, адреса Булгарина я не знал, и у меня не было в Москве никого, к кому я мог бы заявиться в таком виде, чтобы воспользоваться душем и переодеться.
В карманах пальто я нашел две патронные гильзы и скомканный грязный носовой платок, в штанах – горсть тыквенных семечек, зато в халате обнаружилось настоящее сокровище – деньги в конверте.
Этот халат висел в кухне «Алых парусов» на случай появления каких-нибудь проверяющих, например, врачей санэпидслужбы, которым и предназначался этот конверт с пятьюстами долларами. Тимур не скупился – за это его все и любили. А я в тот момент желал ему легкой жизни в бандитском раю – с фартом, «Мерседесами», девками, чистой водкой, золотыми цепями и малиновым пиджаком.
Мне снова повезло.
После обеда открылся большой магазин возле Казанского вокзала, и я, поменяв баксы на рубли, купил трусы, носки, футболку, свитер, ботинки, кусок мыла, полотенце и пуховик с капюшоном, отороченным искусственным мехом.
В подземном переходе приобрел очки.
В вокзальном туалете увидел себя в зеркале – нос поцарапан, губа разбита, глаза воспалены. Вымылся с ног до головы, побрился, оделся во все новое, купил в киоске бутылку шампанского, коробку конфет, взял такси и отправился в Кирпичи.
Я никогда не забывал о Каре и Еве, однако мне и в голову не приходило заявиться к ним в одиночку, без Фрины. Но теперь выбор у меня был узок: либо профукать деньги, снимая случайное жилье, либо перекантоваться в Кирпичах, пока не откроются редакции газет и журналов.
Кирпичи изменились мало. На всех углах стояли киоски, торговавшие водкой, хлебом и детскими игрушками, да на фабричной конторе появились вывески арендаторов – «Сауна», «Массажный салон», «Студия красоты», «Все для вас». Это «Все для вас» тогда висело на тысячах ларьков и магазинов по всей России. В остальном же все было как прежде – фаланстеры из красного кирпича, маленькие окна с белыми занавесками, дворы с бельем на веревках, поленницами дров и дощатыми туалетами за сараями, печной дым над позеленевшими шиферными крышами…
Когда я вышел из такси, в доме напротив в открытом окне появилась женщина, которая закричала истошным голосом: «Убивают! Помогите, убивают! Убиваааааают!..» При этом лицо ее оставалось спокойным. Нинка-дурочка, вспомнил я с радостью. Та самая Нинка-дурочка, которая кричала с осени до весны и затихала летом, как объяснила Фрина, когда мы приехали сюда впервые.
Дверь открыла Ева – все такая же худенькая, с некрашеными волосами и извиняющейся улыбкой на узком лице.
– Стален, – сказала она, – боже мой…
И обняла меня, прижавшись маленькой головой к моему животу.
В комнате, тесной и темной, стояло то самое кресло – любимое кресло Кары, собранное из обломков и объедков, которые были скреплены проволочками и веревочками. Больше ничто не напоминало о старухе, поразившей меня при первой встрече исполнением тур пар ля терр. Похоже, в сарае рядом с картошкой, костылями и старой обувью освободилось место, где когда-то стоял гроб, построенный для Кары «самим Федуловым».
– Надо бы выбросить этот милый труп, – сказала Ева, глядя на кресло, – да рука не подымается…
– Давно?
– В позапрошлом году похоронили…
Она быстро порезала хлеб, колбасу, открыла шпроты, поставила на стол початую бутылку водки, тарелки с вареной картошкой, солеными огурцами и грибами, и мы помянули Кару и Фрину.
Рассказывая ей о своей жизни после Фрины, я удивлялся, как легко можно пропускать события, казавшиеся когда-то важными, страшными, поворотными. Пожар в кривом домике, исчезновение Алины накануне свадьбы, жизнь в Троицком, смерть Топорова-старшего – обо всем этом я поведал Еве почти скороговоркой, да она и не настаивала на подробностях. А вот покаянная повесть о глупом алкоголике, попавшем в рабство, вызвала у нее слезы на глазах.
– Оставайтесь, – сказала она. – Переночуете – места хватит…
– Да я могу в садовом домике…
– Нету домика, сгорел, – сказала Ева. – Осталась только фотография…
На нерезком черно-белом снимке была запечатлена картина – портрет обнаженной Фрины, сидящей на стуле вполоборота к зрителю. Чем-то – челкой, взглядом исподлобья, сонной полуулыбкой – она напоминала юную Ольгу Антропову с той фотографии, которую много лет назад актриса через меня передала Николаю Ивановичу Головину. И этот свет, падающий слева и оставляющий в глубокой тени правую сторону тела…
– Фотография осталась, а картина сгорела, – сказала Ева. – Мы прятали ее в садовом домике… берегли, да не уберегли…
– Она как-то говорила, что покажет мне что-то в Кирпичах, но не успела… что-то, связанное с Топоровым… какая-то тайна?
– Эта картина и была тайной, – сказала Ева. – Она принадлежала Топорову. Поверх нее и был написан ее портрет… «Афинские ночи» – так назывался оригинал…
Автор полотна неизвестен, да это и не важно: художником он был явно не из первоклассных. Озабочен он был скорее достоверностью, чем выразительностью изображения. На картине были запечатлены участники оргии, среди которых, помимо Топорова-старшего, хорошо узнаваемы люди, занявшие впоследствии кабинеты в Кремле и на Старой площади. Характер оргии вполне очевиден, но художник помещает на стене еще и гей-икону – «Святого Себастьяна» Гвидо Рени.
Трудно понять, почему Лев Дмитриевич столько лет хранил это полотно, когда мог бы в любую минуту его уничтожить. Может быть, это была его страховка на случай разногласий с товарищами по оргии, достигшими высоких постов в КПСС и государственной власти…
Фрина не рассказывала, при каких обстоятельствах в конце пятидесятых к ней попала эта картина. Уничтожить ее она не могла. Много лет искала способ избавиться от нее. В начале семидесятых познакомилась с Константином Космати, нонконформистом, принадлежавшим к второй волне русского авангарда. Его работы выставлялись по всему миру, но в тридцать пять лет он уехал в глухую костромскую деревню, где через два года его зарезала пьяная любовница. Он не интересовался политикой, и лица участников «Афинских ночей» ему ничего не говорили. Он и предложил записать оригинал, то есть написать портрет Фрины поверх старого изображения. После этого Фрина привезла картину в Кирпичи.
– Боже мой, – сказал я, – да эта тайна давно выдохлась, язык ее мертв, и сегодня она не стоит и морковкина хвоста! Конечно, Топоров-младший еще жив, у него дети, внуки, и возможно, им было бы неприятно, появись эта картина на свет… но, черт возьми, это же не улика… это даже не фотография, а всего-навсего маловысокохудожественное произведение… а вот портрет работы Космати – жаль…
Ева протянула мне черно-белое фото.
– Теперь только мы знаем язык, на котором говорит этот снимок…
Она постелила мне на узеньком диване в гостиной.
Не спалось.
Когда в Красном Счастье я думал об отце, сестре, матери, Фрине, Алине, Топоровых, Ириске, они казались чуть ли не вымышленными персонажами, как будто я перебирал героев своих рассказов, которые проживали сочиненную мною жизнь. Если что и объединяло меня с ними и их жизнями, так это мертвый мизинец. Ну и кольцо с костью Сталина, конечно. Стоило взять в руку этот чертов палец с кольцом, как по спине пробегала дрожь и сердце отзывалось невыдуманной болью. Все оживали, всё оживало… улыбка Фрины, мраморное бедро Алины, запах гари, тучи ворон над Троицким, белый шарф Моны Лизы, мертвые лошади, голый дурачок Ванечка, падающий в траву, грохочущий под мостом железнодорожный состав, бесконечная белая лошадь, пухлая девчонка, у которой изо рта вдруг выползла муха, голая Жанна со стаканом коньяка на голове, Роза Ильдаровна, водящая пальцем по моему животу, мертвая Хрюша, толстая намыленная нога Наны, рыжий пес, выскакивающий из темноты, отец с синим пламенем, вылетающим изо рта…
Ночью я так потел, что утром простыни можно было выжимать.
Глава 36, в которой говорится о крови и сперме, Путине Освободителе и матримониальных проблемах миллиардеров
Девяностые уходили… они еще пугали, стреляли, взрывали, убивали, грабили, насиловали, орали дурным голосом, пили из горла и харкали кровью, но уходили, отступали, тонули, оставляя после себя «аллеи славы» на провинциальных кладбищах, вдоль которых стояли огромные памятники, изображавшие в полный рост вчерашних героев из черного мрамора, их автомобили из черного мрамора, их пистолеты из черного мрамора и граненые стаканы из черного мрамора, накрытые краюшкой хлеба из черного мрамора…
Воздух менялся.
Воля мало-помалу превращалась в свободу, «деревянные» – в деньги, бунтари – в налогоплательщиков, на смену людям-гироскопам, руководствовавшимся собственными принципами, пришли люди-радары, подстраивающиеся под мнения друзей или властей, появлялись гипермаркеты, вытеснявшие магазинчики «Все для вас», дилемма «быть или иметь» решалась в пользу обладания, водка мало-помалу уступала вину, автомеханики из Тулы и Магнитогорска хлынули в Турцию и Египет, в кредитных отделах банков выстраивались очереди, разгорался строительный бум, на смену бандитам пришли чиновники…
Едва обжившись в новой съемной квартире у станции метро «Алтуфьево», я отправился на поиски работы.
Спившийся Булгарин ничем помочь не мог – его самого едва терпели в газете, в других редакциях архивами занимались новые люди, не желавшие делиться с конкурентами. Если где мне и были по-настоящему рады, так в толстых журналах, где готовы были публиковать мои рассказы, но прожить на эти гонорары было невозможно.
В конце весны я познакомился с Грегором Замзой – так все звали Гришу Протопопова, заведующего отделом культуры в одной из новых газет. Он и впрямь был похож на жука – торчащие усы, очки в черной квадратной оправе и согнутые в локтях и разведенные в строны руки.
– Пишут все, – сказал он, – не все умеют читать.
На следующий день я приехал к Грегору в редакцию, он усадил меня за свой компьютер и попросил отредактировать текст.
Это была рецензия на роман, популярный в Европе, а у нас только что переведенный: «Об этой книге было написано и посвящено много трудов… В романе страх употребляется вкупе с такими эмоциями, как изумление… Герой присвоил себе право… Под властью голосов он прокладывает топор сквозь череп героини… В итоге проведенного анализа можно выделить основные выводы…»
– И что с этим нужно сделать? – спросил я, пытаясь скрыть растерянность.
– Отпидорасить, – сказал Грегор.
– А степень редакторской свободы?
– В данном случае – абсолютная. У тебя не больше двух часов.
Через два часа я предъявил ему короткую рецензию на Дэвида Буна, известного у нас автора черных детективов, который начинал, однако, с романов в жанре хоррор. Его книга «Три луны, три солнца» о вражде двух аристократических семей, одержимых демонами, признана классикой жанра, и теперь русский читатель может с ним познакомиться, невзирая на усилия переводчиков.
– Годится, – сказал Грегор.
– А автор не психанет? Имя-то его стоит…
– Имя нашей газеты важнее имени какого-то сраного автора. Пиши заявление.
Я написал заявление с просьбой о приеме на работу.
В тот же день главный редактор издательского дома поставил на моем заявлении резолюцию, состоящую из одного слова: «Да!»
Тогда я думал, что перекантуюсь тут год-другой, пока не подыщу место получше, и подам заявление по собственному, на котором главный редактор, как это было принято, поставит резолюцию «Смерть предателям!»
Но предателем я так и не стал.
Я застал закат романтической эпохи издательского дома.
Когда-то, на исходе советской власти, этот дом создавался группой молодых людей, общность которых напоминала семейную. Но в этой семье не было ни отца-хозяина, ни строгой матери – только дети, братья и сестры, выходцы из семей партийной и советской номенклатуры. Они с иронией называли себя «мальчиками и девочками из хороших семей». Завистники называли их затею «бунтом отличников».
Их предшественники из круга «золотой молодежи» фарцевали, заигрывали с диссидентами, ходили нацистскими маршами или пытались угонять самолеты, а эти люди создали сначала газету, а потом и журналы, которые были не «важным средством коммунистического воспитания», а бизнесом. В сущности, они формировали русский бизнес и его язык. Их читателями были люди богатые и те, кто хотел разбогатеть, поэтому газета и журналы долго не знали проблем с рекламой швейцарских часов, немецких лимузинов и апартаментов на бульваре Османн.
Сотрудники газеты летали на выходные в Прагу, Берлин и Париж, покупали недвижимость в Испании и на Гоа, болели за «Манчестер Юнайтед» и знали Нью-Йорк лучше, чем Москву. Они были вхожи в Кремль и Белый дом, запанибрата с министрами и на «ты» с олигархами, они прочли все обо всем на всех языках ангельских и человеческих и лучше всех понимали, что происходит и как должно быть, они были молодым и дерзким меньшинством, одолевшим ветхое большинство, они были избранниками, светочами, пророками…
Главным их врагом был пафос. Когда в самом начале карьеры я не вычеркнул из текста выражение «бездушное государство», меня не оштрафовали на пятьдесят долларов только потому, что я был новеньким. А когда внезапно умер сорокалетний Грегор Замза, все его друзья подчеркивали в некрологах, что он никогда не носил галстука – это было бы слишком пафосно. Антипафос стал их пафосом.
Пафосу противостояли ирония, юмор, цинизм во всех его проявлениях вплоть до глумления – таков был стиль новой русской журналистики.
Но воздух менялся, крупные игроки рынка – главный адресат наших изданий – мало-помалу начали понимать, что главный бизнес в России – это власть. Тиражи и реклама покатились вниз. Новую журналистику стала накрывать жизнь, где молились на товарно-денежные отношения, а жили по законам крови и спермы…
Как писал Дмитрий Тренин, Россия и русские «оказались впервые за всю историю в ситуации, когда мы можем планировать наше будущее не как важная часть или центр какой-то интегративной схемы, а как национальное государство… Не нужно отказываться от части суверенитета в пользу других стран и институтов ради интеграции в западное сообщество. У нас бы все равно это не получилось, поскольку мы не умеем подчиняться другим. Как национальное государство с глобальной контактностью мы в XXI веке сможем добиться большего, чем нам удавалось в XIX – во времена империи, или в XX – при Советском Союзе».
Западнические мечты и интеграционные надежды наших звезд рушились, хотя на самом деле это умирала наивность девяностых…
…Я и здесь устроился в привычной роли углового жильца, стараясь ни с кем особенно не сближаться. И это мне удалось без каких-либо усилий. В отличие от всех других редакций, наследовавших советский дух, здесь не было ни партий, ни фракций, ни обособленных групп, которые занимались бы интригами и втягивали в свои дела новичков. Если кто-то хотел жить «сам по себе», его не трогали.
У меня сложились хорошие отношения с коллегами по журналу, которые оказались моими читателями и поэтому закрывали глаза на мои закидоны, и дружеские – с Базаром.
Этот огромный бритоголовый парень в очках с тонкой оправой пытался, как он выражался, сохранять старомодную советскую интеллигентность.
Познакомились мы в кафе «Коколат», вывеска которого была видна из окон редакции. Наши журналисты были завсегдатаями этого заведения, где в девяностых барные стойки представляли собой аквариумы, в которых плавали обнаженные девушки, а на втором этаже собирались грузинские бандиты – Хан Базар хорошо знал эту публику.
Выпив, он рассказал о тех временах, когда работал в избирательном штабе одного кавказского политика, отвечая за связи с бандитской общественностью, без которой в тех местах невозможно «делать дела» и «решать вопросы».
– По штабу болтались поддатые люди с прозрачными полиэтиленовыми пакетами в руках, набитыми баксами в банковской упаковке… никогда больше такого не видел… Зато после этого я купил «мерина», квартиру на Соколе и дом на Новой Риге…
Когда-то он был следователем в милиции, писал диссертацию «о некоторых особенностях правоприменительной практики», потом стал журналистом, резко изменив жизнь: «Тогда было трудно оставаться ментом, не превращаясь в бандита».
Его отношение к нашим хозяевам и новой жизни было обусловлено советской интеллигентностью и милициейским прошлым.
– Когда «Националь» закрыли на реконструкцию, было решено опубликовать короткие воспоминания тех, кто был связан с этим легендарным местом. Их оказалось очень много – редакторы газет и журналов, звезды журналистики и шоу-бизнеса, политики, крупные чиновники… они с упоением вспоминали, как торговали из-под полы импортными шмотками, скупали валюту у иностранцев, спекулировали, как бегали от милиции, как их хватали и тащили в кутузку… я никого не осуждаю… времена были такие, а сейчас другие… но для меня они остались жуликами, которым ничто раньше не мешало нарушать закон и ничто не помешает нарушить его сегодня…
– Однако при этом ты публикуешь в их газете только то, что тебе нравится, и получаешь за это нехилые бабосы…
– И получаю удовольствие, какого не получил бы больше нигде. Говорю же: я никого не осуждаю, но советское и ментовское – это я и есть…
– И голосуешь за Путина?
– Видишь ли, он не хорош и не плох – он тот, кто сегодня нужен. Нашим друзьям-либералам, кажется, проще назначить Путина причиной всех бед, чем бороться за избирателей, за тот самый народ, который по конституции является источником власти… ну как может человек с высокоразвитым интеллектом и чувством юмора всерьез говорить о народе и конституции? Это ж пафос! Да и бороться за избирателя – это очень трудно, потому что никогда еще русский обыватель не жил так свободно, как в путинской России. Экзальтированные люди тыкают иголками в куклу Путина и говорят, что он – мерзавец и тиран, растоптал идеалы девяностых, а свобода на баррикадах Белого дома обернулась преследованиями инакомыслящих. Но это всего лишь искривления памяти. Личная свобода для обывателя – это возможность жить автономно, не замечать существования начальников и вообще о них не думать. Власть может делать что угодно – имитировать выборы, менять герб и гимн, конституцию, гнобить несогласных. Это все не имеет ни малейшего значения для простого человека. Настоящую ценность имеет только личная свобода. А это совсем другое. Личная свобода – это безопасность. Это возможность накормить, одеть, выучить детей. Личная свобода – это когда ты можешь каждый год ездить с друзьями на рыбалку в Астрахань, а с семьей – в Египет или Турцию. Свобода – это двести сортов колбасы в деревенском магазине и любые книжки. Это – сто телевизионных каналов и торговые центры в любом Мухосранске. В 1991 году бывшие советские люди про личную свободу ничего не успели понять. На смену КПСС в Россию пришли Царь-Голод и Царь-Страх с бесчисленными армиями уличных бандитов. Путин стал для российского обывателя подлинным Освободителем, новым Александром Вторым. Мы получили все, о чем мечтали поколения русских людей от Пушкина до Бродского. А что касается голосования… старик, да я вовсе не за Путина – я против новых революций в России… Ведь всякая революция у нас устроена таким образом, что у нее есть только один безусловный победитель. Это третьеразрядный чиновник, бандит, военный низкого чина, бывший крестьянин, которого достала деревня, ну или мелкий служащий – сравнительно молодой, не очень культурный, зато очень напористый человек, который откровенно томится в скучном и медленном порядке старого государства… зато когда начальство уходит, приходит он, и уж он-то дает прикурить… Интеллигенция в революции, напротив того, всегда в проигравших. Поначалу она торжествует, пытается импортировать на свободное место разные передовые идеи, но потом ей неизменно указывают на дверь, и еще хорошо, если это дверь, за которой отставка или эмиграция. Чаще же – тюрьма, а то и пуля. Тихий русский народ – не та его активная грубая малая часть, что производит из себя чиновников и бандитов, а негромкое бедное большинство, – проигрывает еще больше. Только при зрелом Путине это большинство получило хоть что-то существенное взамен поздней советской власти…
Базар участвовал в подготовке текста для нашего журнала, посвященного новому этапу в жизни русских миллиардеров, которые, успокоившись и осмотревшись, стали разводиться с женами и делить нажитое – дома, детей, заводы, акции, собак и картины.
В статье упоминались имена Бориса Березовского, Алексея Мордашова, Романа Абрамовича, Владислава Доронина, Дмитрия Рыболовлева и Глеба Непары, но в окончательном варианте имени Непары не осталось.
– Беда у мужика – зачем об этом писать? – сказал Базар. – Жена и дочь попали в аварию, дочь погибла, жена оказалась в больнице, а потом пропала… в общем, не до иронии…
– Что значит – жена пропала?
– Лежала в больнице где-то во Франции, а потом ничего не известно. Может, умерла…
– А ведь только благодаря ей Глеб Непара и стал миллиардером…
– Ты ее знал?
Я кивнул, но рассказывать не стал.
Дочь Глеба Непары я видел на свадьбе мельком – довольно красивая девочка с азиатскими чертами лица. Динара. Лу тогда сказала, что единственное увлечение Динары – мотоциклы. Мы разговаривали с Лу, а потом она ушла. Ее лимонно-желтое платье вспыхнуло, когда она вошла в круг света, где ее ждал муж…
Лу пропала…
Может быть, умерла.
А может, и нет.
Я никогда не забывал ее.
Не то чтобы я каждый день перебирал в памяти события нашей жизни, но все, что писалось, посылал ей на тот секретный электронный адрес, который она сообщила мне накануне отъезда во Францию. Ждал ответа, но она ни разу не откликнулась. Поначалу это меня нервировало, потом привык. Она ж ничего мне не обещала. И отвечать – не обещала. И не отвечала. Теперь ясно – почему. Пропала. Может быть, умерла…
Вспомнился тот февральский день, когда мы катались в метро, я рассказывал ей о «Семеновской», о памятнике «Сталин и Геля», о мозаиках на потолке «Новокузнецкой», вышли на «Тверской», перекусили в кафешке, я заговорил об аммонитах и гастроподах в красном мраморе, которым отделан вестибюль «Белорусской кольцевой», и Лу вдруг тихо сказала: «Поцелуй меня», и сердце у меня екнуло, а потом, на улице, она взяла меня за руку, чего не делала никогда…
В тот день случился взрыв на «Белорусской», и мне так и не удалось показать Лу «Комсомольскую кольцевую», образ которой сливался у меня с образами родного дома и Фрины…
Глава 37, в которой говорится о светлой цитоплазме, обидчивых калеках и девяти жизнях царя Одиссея
Скачки давления оказались не единственной проблемой.
Поднялась температура, усилились боли в почках, в моче появилась кровь.
Анализы крови с каждым днем становились все более специфическими, а УЗИ, урография, МРТ, биопсия убедили докторов, что их подозрения небеспочвенны.
Наконец ко мне в палату явился молодой толстяк, представившийся Ильей Николаевичем, который принялся расспрашивать о самочувствии до госпитализации.
– Проведенные исследования, – сказал Илья Николаевич доверительным тоном, – заставляют предполагать новообразование, которое пока ограничено почкой и не проникло через ее капсулу…
– Гипернефрома, – сказал я. – Карцинома почки…
– Папиллярный почечно-клеточный рак, – подтвердил врач. – Мелкоклеточный, со светлой цитоплазмой, что уже хорошо – снижается риск метастазов… может быть, вам показана нефрэктомия, но…
– Но моя страховка не покрывает лечения рака, – сказал я. – Это я знаю.
– Вы должны также знать, что на этой стадии благоприятный прогноз достигает девяноста процентов…
Когда Илья Николаевич исчез, я подошел к зеркалу, висевшему над умывальником, протер его рукавом и попытался понять, что выражает мое лицо – страх или облегчение.
Просить денег у редакции я не мог. Да, наверное, и не дали бы.
Монетка, конечно же, сначала накричит на меня, потом расплачется, а потом скажет, что надежда умирает последней и так далее.
У меня дрожали пальцы – все девять.
Мой век не может завершиться вот так, здесь и сейчас. Я еще не пережил все метаморфозы, отпущенные мне кем бы то ни было. Мне еще нужно много чего написать. На ранней стадии рак почки излечим. Может быть, все закончится удалением почки, и я доживу до глубокой старости. Можно продать квартиру и уехать к морю. Сменить имя, стать другим, обмануть смерть. Надо выбросить аптечку, чтобы после моей смерти никто не узнал о ее содержимом. И, разумеется, уничтожить дневники. Уровень Байкала не поднимется и на миллиметр, когда я умру. Хрюша выглядела взрослой, у нее была большая грудь. Мальчишки провожали ее взглядами. Все хотели ее трахнуть. Лечили сердце, а умру от почки. Все умрет. И руки. При первой встрече Фрина поразила меня, сказав, что у меня красивые мужские руки. Они тоже умрут, эти руки. В нашей семье никто не умирал от рака – я буду первым. Когда Брюхо Китаев, сосед учителя Полуэктова, узнал, что у него саркома, он накрыл стол во дворе, и все пили за его здоровье, но к пище никто не прикасался, боясь заразиться раком. Со временем мне дадут инвалидность, но ведь это гроши. Жил как все и умру как все. В больничной палате, набитой стонущими раздраженными стариками, с грязной кружкой на тумбочке, оглушенный морфием, в луже кровавой мочи. Надо навестить бронзовую Ниночку на станции «Площадь Революции». Она не была красавицей, но у нее была идеальная фигура. Хрюшу все хотели трахнуть. Ее женская грудь, ее пышная задница, ее глупая податливость не давали покоя братьям Севрюгиным – Вовке и Мишке, Северу и Югу. Они были такими классными, такими сильными и ловкими, они так красиво курили, как никто в Слободе. Все мальчишки были от них без ума. Но они смотрели на мелкоту насмешливо. На всех, кроме меня. Меня они выделяли. Мне они подавали руку. Я пожимал руку Севера, потом руку Юга, чувствуя себя героем среди героев. Наверное, в глубине души я и тогда понимал, что они выделяли меня ради Хрюши, ради ее сисек и жопы. А когда я сказал Северу, что Хрюше плохо, Юг сплюнул через губу и сказал: «Нам-то что?» Она ж была жалкой дурочкой, нечеловеком. После удаления почки появляются метахронные метастазы. Надо бросить курить. Брюхо Китаев сказал: «Умер Сталин – я бросил курить. Убрали Хрущева – я бросил курить. Умер Брежнев – я бросил курить. А теперь умру и я, и некому будет бросить курить». От страха он поглупел. Я тоже одурел от страха, когда понял, что случилось. Родители не простят мне этого, нет, не простят. Я взял ее за руку и повел к реке, к тонному месту. Там был омут, где каждое лето кто-нибудь да тонул. Она бежала рядом, заглядывая мне в лицо и спотыкаясь. Смотри под ноги, говорил я, смотри под ноги, Хрюша. На краю обрыва я велел ей встать спиной ко мне. Она встала спиной ко мне, но когда я толкнул ее, обернулась. Полетела вниз, глядя на меня. И я бросился за ней – туда, в черную воду, схватил за край платья, ушел в глубину, выбрался, потащил за собой, выволок на берег, лег рядом и заплакал. Она сплевывала воду, тяжело дышала и гладила меня по голове, а я рыдал, бился на глинистом берегу, стонал и рычал. Я на дне, я печальный обломок, надо мной зеленеет вода. При диссеминированных злокачественных опухолях почки костные метастазы возникают в 30–70 процентах случаев. Кольцо с костью Сталина, надетое на иссохший мизинец, сгорит в печи крематория вместе со мной. Раковые больные горят желтым огнем – результат химиотерапии. Останки бросят в ров, и Дракула, плача и стеная, отпоет меня, проводит в жизнь вечную. Я взял Хрюшу за руку и повел домой. Ничего не рассказывай родителям. Маме не говори, ладно? Но сил не было. Пусть говорит, пусть расскажет, и пусть случится то, что должно случиться. Never complain and never explain. У нашего подъезда Хрюша отпустила мою руку, села на скамейку, привалилась к стене и закрыла глаза. Остановилось сердце. Я сел в кухне за стол и написал карандашом на маленьком листке бумаги: «Я не виноват». Потом дописал: «В этом». Получилось: «Я не виноват в этом». Но это была неправда. Зачеркнув фразу, я написал другую: «Я виноват в этом». Но и это была не вся правда, поэтому я зачеркнул и эту фразу. И тут вдруг сообразил, что пишу левой рукой. Вытянув перед собой левую руку, я с ужасом посмотрел на это чудовище, извивавшееся, вгрызавшееся в меня, становившееся частью меня, мною, и сполз со стула…
Через два дня меня выписали из больницы, выдав на руки толстенный пакет с результатами анализов.
– Не откладывайте визит к врачу, – сказал на прощание Илья Николаевич. – Начнете лечение, втянетесь – станет легче. Ваше спасение в том, чтобы все сделать наоборот, то есть превратить трагедию в рутину…
В огромном вестибюле я сразу заметил ту самую девочку с необыкновенно длинными пальцами и нежным лицом, которая сидела в инвалидном кресле у окна, выходящего в парк.
Увидев меня, она оживилась.
– Привет, – сказал я, опускаясь перед ней на корточки. – В прошлый раз ты мне так и не сказала, как тебя зовут…
– Ина… – Говорила она с трудом. – Рина…
– Так Ина или Рина?
Я взял ее за руку, и она крепко сжала мои пальцы.
– Фрина, – произнес женский голос за моей спиной. – Фрина Пиль – так ее зовут.
Я поднялся, не выпуская руку девочки, и повернулся на голос.
Передо мной стояла невысокая пожилая женщина в мешковатом пальто, со шляпкой и папкой для бумаг в руках, яснолобая, сероглазая и настороженная. Провинциалка, которая побаивается чужих, но не прочь поболтать с хорошим человеком.
– Редкая фамилия, – сказал я. – И имя редкое…
– Да какое это имя! – со вздохом сказала женщина. – Собачья кличка, а не имя. Пиль – это фамилия ее отца… – Она кивнула на девочку. – Он и назвал ее Фриной. Это у них что-то семейное, у этих Пилей, что-то связано у них с этим именем…
– Кажется, мы с вашей дочерью были знакомы. Ее ведь Любой зовут? Любовь Непара? Или Любовь Пиль? Слышал, она попала в аварию…
– Непара она – по первому мужу… вся ее жизнь – авария…
– А что случилось?
– Руку ей отрезали. – Подняла левую руку. – По локоть. Но она у меня упрямая, устроилась на работу, хорошо получает…
– Давно вы в Москве?
– Да лет семь уж как, восьмой пошел…
– И как вам?
– Да ничего. Места возле нас хорошие, каждый день ходим гулять на пруды…
– На Чистые пруды?
– На Борисовские…
– Моя фамилия Игруев. А как вас зовут?
– Екатерина Ивановна…
– Екатерина Ивановна, не могли бы вы передать Любе номер моего телефона? – Я протянул ей визитку. – Может, она захочет позвонить…
– Без очков не разберу, как вас зовут…
– Стален Игруев. Тоже странное имя…
– Да уж… – Взглянула на часы, висевшие на стене. – Пора нам… – Надела шляпку, поправила с извиняющейся улыбкой. – Никак не могу привыкнуть к столичным нарядам…
Посадив их в такси, я зашагал к метро.
Вероятность этой встречи была исчезающе малой, но вероятность и возможность – не одно и то же. Нас свела сила обстоятельств, та самая la force des choses, которая часто действует вопреки нашим надеждам и желаниям, лишая историю мистического характера.
Я был потрясен, обрадован, растерян.
Судя по тому, что рассказала Екатерина Ивановна, Лу лишилась руки, мужа, денег и роскошной квартиры на Сретенке. Каким-то образом познакомилась с Пилем, может быть, со старшим – Казимиром Казимировичем, но возможно, что с одним из его сыновей. Родила слабоумную дочь.
Лу стала другой, но насколько?
И что я знал о ней?
А она обо мне?
Я всегда считал, что настоящая любовь зиждется только на знании, без которого невозможно доверие. Чем больше мужчина и женщина знают друг о друге, тем сильнее и глубже их чувство. Впрочем, эта наивная вера с годами претерпела изменения. Если я кого и любил когда-либо, так это Фрину. Но чем больше я узнавал о ней, тем меньше ее знал. Я даже не понимал, красива ли она. Иногда казалось, что внешне она была довольно заурядной женщиной. Но когда я вспоминал, как она шла по Никольской в маленькой шелковой юбочке, взлетавшей вокруг ее стройных ног при каждом шаге, я понимал, что ничего красивее в жизни не видел…
Как ни странно, это не мешало любить ее сильнее с каждым годом, хотя в этой любви давно не было ничего чувственного и ничего разумного, не было ничего, кроме света, не обещающего ничего, кроме спасения…
В основе союза с Лу лежал циничный по своей природе прагматизм. Она принимала мою философию углового жильца, который не претендует на чужую собственность, и не оглядывалась на меня, когда строила свою жизнь. Иногда, впрочем, в наших отношениях возникали едва заметные щелочки, через которые вдруг пробивался другой свет – свет подлинных чувств, которые мы сознательно прятали друг от друга. Но что обещает этот свет?
Мы оба стали неполноценными людьми, а калеки мнительны и обидчивы…
Если мы встретимся, нам придется начинать все сызнова.
Готовы ли мы к этому?
Способны ли мы восполнить жизнь?
Стареющий мужчина, больной раком, однорукая женщина со слабоумной дочерью – о каком будущем мы можем мечтать, на что надеяться?
Что движет мною – жалость, благоговение и стыд? Или безмозглый страх перед одинокой смертью в больничной палате, набитой стонущими раздраженными стариками, с грязной кружкой на тумбочке, в луже кровавой мочи?..
Да и с чего, наконец, я решил, что Лу вернется ко мне?
Сбитый с толку, возбужденный, раздраженный, я обрадовался, когда объявили мою остановку, выскочил на перрон и с наслаждением вдохнул запахи иномирья. Я взирал на пурпур и золото сталинского ампира, на восьмигранные колонны узбекского мрамора, выраставшие из каарлахтинского малиново-красного гранита и возносившиеся к высокому солнечно-желтому потолку, на легкие аркады и роскошные люстры, на лепнину и византийские мозаики, я чувствовал себя естественной, неотъемлемой и необходимой частью этой гармонии света и цвета, объемов, масс и образов, но не понимал, чего я хочу на самом деле – чуда или абсурда, чего боюсь больше всего – новой жизни или того, что ее у меня не будет…
Мирча Элиаде в беседе с Клодом-Анри Роке сказал: «В каждом из нас есть что-то от Одиссея, когда мы ищем самих себя, надеемся дойти до цели и тогда уж точно вновь обрести родину, свой очаг, снова найти себя. Но, как в лабиринте, в каждых скитаниях существует риск заблудиться. Если же тебе удается выйти из лабиринта, добраться до своего очага, тогда ты становишься другим».
Однако у Гомера Одиссей, добравшийся до родного дома, перебивший врагов и воссоединившийся с семьей, не стал другим. Да и странствия его на этом не завершились. Изгнанный с Итаки за убийство женихов Пенелопы, он прожил девять жизней, побывав мужем, отцом, военачальником, строителем храмов и городов, умер, воскрес и снова умер…
Подлинную же свободу от себя он обрел только после смерти.
Платон в десятой книге «Государства» рассказывает о душах в загробном мире, которые выбирают новые судьбы, и замечает при этом: «Большей частью выбор соответствовал привычкам предшествовавшей жизни». И только душа Одиссея поступила иначе: «Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека, далекого от дел; наконец она насилу нашла ее, где-то валявшуюся: все ведь ею пренебрегли, но душа Одиссея, чуть ее увидела, сразу же избрала себе».
Вот только тогда лживый и многоликий герой стал другим, наполнив новым смыслом имя Никто, которым он назвался в одной из предыдущих жизней.
В сущности, этот великий рассказчик осуществил потаенную мечту любого создателя, стремящегося без остатка раствориться в создании.
Мучительно сознавать, что я обречен стремиться к этой цели, хотя знаю, что никогда ее не достигну.
Но моя белая лошадь тянется, тянется и тянет меня за собой, и будь в моем активном лексиконе слово «счастье», я сказал бы, что счастлив.
Однако – все по порядку.
По возвращении из больницы я обнаружил свою квартиру сгоревшей.
При пожаре погибла Монетка.
Ее тетка Кира, выписанная из Тулы, чтобы ухаживать за Парампупом, в конце концов нашла с ним общий язык и в отсутствие Монетки трахалась с подопечным так, что ее вопли и стоны были слышны во дворе. После этого выходила на балкон покурить, а заодно порадовать инвалида-колясочника, жившего в доме напротив и наблюдавшего в бинокль за ее свесившимися через перила грудями. Каждую неделю он посылал Кире письмо с предложением руки, сердца и квартиры, но ответа не получал.
Монетка была занята с утра до вечера добыванием денег и иногда не бывала дома неделями. Когда узнала об измене мужа, приобрела в кредит джип, повесив долги на Киру и Парампупа, которые были рады, что так легко отделались.
В тот день Монетка вернулась домой поздно.
Парампуп спал на полу в луже мочи, а тетка, как потом выяснилось, наконец откликнулась на зов инвалида-колясочника и ушла к нему «с концами».
Монетка убила мужа, при помощи слесарного молотка превратив его голову в кровавое месиво, достала из бабушкиного сундучка мой подарок – алое шелковое платье с черным отливом, белье и туфли, в которых была на свадьбе Лу, и скрылась в моей квартире. Пожар возник от непотушенной сигареты. Содержание алкоголя в ее крови превышало два промилле, то есть она была пьяна вдрабадан.
Я не пошел на ее похороны, чтобы чужие не видели моего лица.
Кухня, прихожая и гостиная выгорели почти полностью, спальня и кабинет пострадали меньше. Компьютер, к счастью, уцелел.
Узнав, что я сам когда-то дал Монетке ключ от своей квартиры, страховая компания отказала мне в выплате возмещения.
Мне удалось наскрести денег на ремонт кухни, а спал я в кабинете на диване.
Окно в гостиной заколотил фанерой.
Дня через два-три привык к запаху гари.
Когда позвонила Лу, я пригласил ее в Царицынский парк – денег на кафе у меня попросту не было, а позвать к себе, разумеется, не мог.
Мы долго гуляли по аллеям под черными мокрыми деревьями, Лу держалась скованно, о себе рассказывала неохотно, но тот вечер мы закончили в ее постели. Ее тело источало незнакомый запах. Секс получился неуклюжим, почти постыдным, а когда я попытался напомнить о нашей первой встрече и о туфлях, которые должен был вернуть ей много лет назад, она сказала, что очень устала. Утром она поцеловала меня на прощание, извинившись «за вчерашнее», но я понял, что все мои надежды были напрасными, и удалил ее номер из телефона.
Спустя несколько дней мы столкнулись в супермаркете. Оказалось, что Лу живет по соседству, на углу Воронежской и Ясеневой. На этот раз она была оживлена, взяла меня за руку, настояла, чтобы я показал свою квартиру, посочувствовала, попросила открыть вино, которое купила в супермаркете, стала вспоминать, как я переписывал повесть ее первого мужа, влюбленного в Миллу Йовович, а завершился вечер в кабинете на узком диване. Наши тела опередили нас.
С той поры я живу у Лу.
Я переехал к ней со своим компьютером и ее туфлями – теми самыми туфлями, которые я случайно прихватил в ту ночь, когда убили ее первого мужа.
Лу молча примерила туфли – они пришлись впору – и растерянно улыбнулась.
Мне казалось, я сильно изменилась, а вот и нет, – сказала она. – Сколько ж лет ты их берег?
Я пожал плечами.
Близость наша мало-помалу становится крепче и глубже, но Лу все еще прячется от меня, когда надевает или снимает протез. Ну а я не рассказываю и, наверное, никогда не расскажу ей, как потерял мизинец.
Мне нравится, когда она обнимает меня одной рукой, а к ее новому запаху я почти привык.
Мы подумываем о браке, хотя, как и прежде, не говорим о любви.
Иногда она заводит речь о ребенке, но я не уверен в доброкачественности моей спермы.
Екатерина Ивановна подарила мне цепочку с крестиком, которую Лу шутя называет золотой ниткой Петра и Февронии.
В будние дни Фриной занимается бабушка, а по выходным с девочкой гуляем мы. На обратном пути заходим в кафе, чтобы выпить кофе, а Фрине покупаем мороженое с фисташками.
Мы вместе съездили в Кирпичи на похороны Евы и побывали на могиле Фрины.
В день рождения Фрины мы отправляемся на станцию «Площадь Революции», чтобы положить цветы у ног бронзовой Ниночки – девушки с книгой.
Отремонтировав мою квартиру, мы стали ее сдавать за пятьдесят тысяч в месяц – неплохо при нынешней конъюнктуре на рынке московской аренды жилья.
Благодаря этим деньгам операцию по удалению почки мне сделали в приличной клинике.
Привычки мои неизменны: застегиваю рубашку на верхнюю пуговицу, прикуриваю от спички, читаю лежа, храню черновики в красной папке, готовые тексты – в синей, днем пью зеленый чай, ключ от дома мечты ношу на груди, золотую нить Петра и Февронии – на шее, кольцо с костью Сталина – на мертвом мизинце, здороваюсь правой рукой, ласкаю женщину – левой, ничего не объясняю и никогда не жалуюсь, неустанно изживаю биографию, стремлюсь к божественному бесчувствию, но пока слишком слаб, чтобы стать никем и ничем…
Когда привычки перестают помогать, я режу лимон.
Этому научил меня отец: «Берешь дольку лимона в рот и прижимаешь языком к небу. Будет немного легче, хотя и не лучше».
Становится легче…




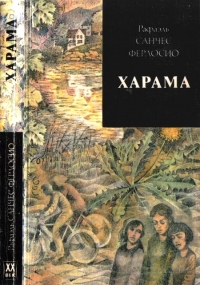


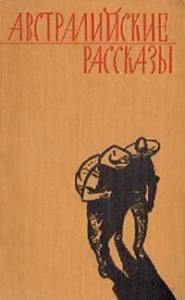
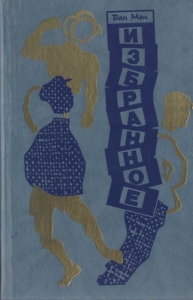

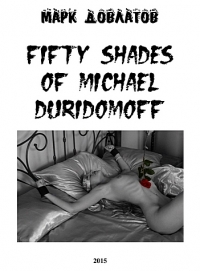
Комментарии к книге «Стален», Юрий Васильевич Буйда
Всего 0 комментариев