Ирина Муравьева САДЫ НЕБЕСНЫХ КОРНЕЙ
© Муравьева И., 2017
© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2017
* * *
В романе нет ничего случайного. Всё то, что может показаться орфографическими, пунктуационными, грамматическими, речевыми, фактическими, стилистическими ошибками, таковым не является.
Это намеренные особенности данного текста.
Ирина МуравьёваГлава 1 Похищение
Никто не уверен в том, что мать Леонардо была итальянкой. Напротив. Семьдесят процентов специалистов склоняются к тому, что она была родом из Азербайджана, но с русскими корнями. А в Италию попала исключительно потому, что сдалась в плен. Многие тогда сдавались в плен, поскольку иного выхода не было. В Италии ее сразу же переименовали в Катерину, хотя настоящим именем невольницы было простое, но звучное ближневосточное имя: Зара. Точнее, Захра. А если совсем уже точно, то вот как: Захра Кехкамал аль Кигиз. По отцу. У маленькой Зары так, как и у всех, был в жизни отец. Суровый и складный, с солидным лицом. В семье его звали Кемалом, но в метрике записано так: Кехкамал. А Кигиз был Зариным дедом, но умер в младенчестве, никто его толком не помнит. Отец Кехкамал обладал обилием жен и детей. И вот вам загадка: как это случилось, что дочка такого отца — и богатого, и в меру приветливого, и делового — вдруг стала рабыней? Мне кажется, в этом во всем виновата служанка Нахраби. Веселая, толстая и косоглазая, она заморочила голову даже Кемалу Кигизу. А он любил дочь. Он очень любил. Среди быстроногих детишек в гареме она выделялась особенной нежностью.
Наевшись поутру лепешек, Нахраби будила ленивую Зару и шла, болтая без умолку, в город на рынок. А там, пока Зара, расширив зрачки, стонала от вида браслетов и тканей, Нахраби, чертовка, из-под покрывала мигала торговцам косыми глазами. Хотела устроить на старости лет себе тоже личную жизнь. А рынок — ведь это же ад. Среди криков, среди пряных запахов, гнили, кувшинов с кумысом и просто кувшинов, которые выставлены на продажу, среди опахал, овощей, слегка окровавленных туш убиенных ягнят и козлят, серебрящейся рыбы — короче, всего, чем питаются люди, во что наряжаются, чем украшают жилища, забыв, что туда не возьмешь ни миски, ни чашки, ни пухлой подушки, так вот: среди рынка — нахально, открыто — гуляют и старые, и молодые враги человечества бесы. Прижавшись слюнявой бородкой к затылку какой-нибудь домохозяйки, вливают ей в мозг свои гадкие речи, и женщину, не испытавшую счастья, склоняют они на грехи и предательства. Вернется она в свою саклю, и станет ей, бедной, казаться, что лучше мерзавку Аиду самой отравить, чем вечно терпеть, как хозяин и муж, отец дочерей ее и сыновей, нафабрив усы, отправляется вечером «проведать вдову и помочь ей с хозяйством».
Моя, впрочем, версия очень проста: увидел какой-нибудь работорговец смущенную Зару с косой, перевитой атласною лентою и пересыпанной блестящими камешками, да смекнул, что надо хватать, пока кто-то другой ее не заметил средь шумной торговли. Все произошло за секунду: нагнувшись с седла, он сорвал покрывало с ее белокурой склоненной головки, продел свои жадные руки под мышки ее тонких рук, и испуганный люд увидел, как девушку, словно лозу, покрытую всю виноградом, сломало, мелькнули босые ступни, кусок шеи, раскрытые губы, и лошадь сначала взвилась, вздула светлую пыль, но тут же исчезла, как будто растаяла в пронизанном золотом воздухе.
Вот так началось ее рабство. Сначала, конечно, был Константинополь. Захра закрывалась платком, рукавами — но разве такое лицо можно спрятать? Оно же светилось, как плод золотистый, мерцало, как жемчуг мерцает сквозь воду. Сидела, вся сжавшись, ждала своей участи. Сейчас нам почти невозможно представить: на рабовладельческом рынке, в повозке, заплаканная, после долгих, бессонных, безлунных ночей, под недремлющим оком какого-то грязного работорговца сидела та женщина, чей хрупкий облик, как нас уверяют работники разных известных музеев и частных коллекций, он запечатлел на полотнах! Уму просто непостижимо. И сердцу.
Много было на нее желающих, очень много. И даже то, что девушка мусульманка, никого не останавливало. Народ-то вокруг переменчивый. Был, скажем, сперва иудей, а потом вдруг стал православный. Или наоборот. А все оттого, что нет в сердце людском серьезного чувства. И я даже больше скажу: и вера-то мало в ком есть. Ее, как всегда, подменили на споры. Разборки пошли: «А, так ты иудей? Куда же ты с носом своим иудейским пришел в православный наш храм? Помолиться? А ты в синагогу иди и молись! Сперва революцию тут совершили, распяли Христа, а теперь помолиться?» Не меньше упреков с другой стороны: «Ты, значит, крестился? Так ты теперь выкрест. А выкрест по-нашему значит прохвост».
Ах, люди вы, люди! Да вы оглянитесь вокруг! Что видите? Дерево. Куда оно тянется? К облаку, к небу. И вы бы подняли глаза, да повыше. И стойте тихонько, смотрите на небо, на белое облако. Не торопитесь.
Стремящихся приобрести нашу Зару скопилось у этой повозки штук десять. А может, и больше, всех не сосчитаешь. Но работорговец гнусавил одно: «пятьсот золотых». Это даже сейчас огромные деньги, а в те времена можно было купить за них кучу девушек, а уж мальчишек — такое количество, что не прокормишь. Скажу вам, что эта цена превышала и цену на финских подростков. Они были редкостью, роскошью, чудом. И чтобы достать их, пускались на хитрости. А если кому повезет и на рынке появится белое-белое, с глазами прозрачнее льда существо — то тут начинались такие торги! Могли и шестьсот золотых попросить. И это за мальчика! А уж за девочку — пускай кривоногую, с красными пятками, но чтобы была белобрысой, бесцветной, безбровой, а если откроешь ей рот, то чтобы и небо ее было белым, — за девочку-финку, латышку, эстонку давали по тысяче и не жалели. Да, странные вкусы и странное время. Конечно, скажи этот работорговец, что Зару он может отдать за четыреста, схватили бы тотчас, но он заартачился: пятьсот золотых, ни копейки, ни меньше. А как унижали ее! Выводили на красный истертый ковер, говорили: «А ну подними покрывало, малышка!» Она поднимала. «Шальвары сними!» Снимала шальвары, стояла в одном прозрачном халате, горела от ужаса. И как появился старик, не заметила. А он к ней и близко-то не подошел. Не щупал, не мял, даже груди не тронул. Отдал все пятьсот и кивнул головой: «Ведите на лодку!» Потом обернулся: «Накройся, девица!» Тогда она, как говорят, села прямо в базарную пыль и лишилась сознания.
Пришла в себя на каравелле. Вокруг одна синева, темно-синие волны. На ней покрывало, прилипшее к телу, и рядом тот самый старик. Ест Зару глазами, руками не трогает.
В манускрипте «Сады небесных корней», датирующемся серединой шестнадцатого века и только недавно обнаруженном в одной из пещер под Миланом, описан такой разговор.
— Как тебя зовут, девица? — потресканным от пережитого басом спросил он.
— Меня зовут Зарою.
Беседа их шла на арабском.
— Никто и не вспомнит о том, что ты в муках дала ему жизнь, — объяснил ей старик. — А ну, улыбнись мне.
Она улыбнулась.
— Да! — Он почесал свою левую бровь. — Везде будет эта улыбка. Что делать! Пускай их гадают, на то они люди! Но ты будешь долго рожать его, долго!
— Как долго? — спросила испуганно Зара.
— Дня два или три. Меньше не получается.
— На то, значит, воля Аллаха. Что делать. — И Зара опять улыбнулась.
— Ты видишь, какое здесь бурное море? Судьба его будет похожей на море.
— Так в море ведь тонут! — шепнула она.
— Кто тонет, красавица, кто выплывает… Чем больше душа, тем труднее. Запомни.
И, словно обугленной, легкой ладонью коснулся ее головы.
Глава 2 Добрая прихожанка
Деревня была небольшой, не более двадцати домов. Холмы, покрытые виноградником, извилистая река. В центре деревни — белая, как голубь, прошлым летом заново отстроенная церковь. У деревянной Мадонны — детское лицо с выпуклыми полуприкрытыми веками, уголки рта опущены. Скорбь застыла в небесных чертах Ее, и женщины под черными покрывалами тусклыми огоньками свечей освещали полуприкрытые веки, тонкие, удлиненные пальцы с чуть приподнятыми кончиками и не давали свечам своим погаснуть ни днем и ни ночью.
Катерина, о которой в деревне знали только то, что привезена она была из далекого Константинополя на невольничьей лодке — причем остальные семеро невольников умерли в дороге, а она чудом выжила, хотя долго болела, лежа на соломе в прохладном, пахнущем зерном амбаре, и ее навещал настоятель ближнего монастыря отец Антонио, который проникся к ней жалостью и, не ожидая, что девушка поправится, окрестил ее, так что с разворошенной соломы поднялась она уже христианкой, — эта худая и скромная Катерина приходила в церковь по вечерам после работы. Жила она в доме хозяина, про которого в правдивом источнике «Сады небесных корней» почти ничего не сказано. Злые языки утверждали, что он перекупил ее по дешевке, потому что никому не нужна была больная и умирающая работница. Он не только перекупил ее (опять-таки если верить слухам!), он дал ей свободу, и она жила у него в доме на том вон высоком холме, где тень виноградников кажется синей, как все остальные свободные девушки. Не бедствовала, не нуждалась. Болтали, кстати, в деревне, что золотоволосая и черноглазая Катерина потеряла свою девственность еще на лодке, поскольку странствие по открытому морю продолжалось много дней и ночей, а никаких других удовольствий, кроме любовных, в те времена не было. Морские условия, скудная пища, ни радио, ни телевизора. То, что она была светловолосой при своих черных, с поволокой, глазах, запомнили все, и в «Садах небесных корней» сказано: «закрывая лицо светлыми волосами, смотрела сквозь них она, как на рассвете пылал этот бархатный красный берет, как он становился все дальше, все меньше и вскоре исчез окончательно».
Возникает подозрение, что матерью Зары была православная русская женщина, курносая, широкоскулая, с веснушками на переносице и светло-пшеничного цвета косой. К тому моменту, когда дочку его по нерадивости болтливой Нахраби украли прямо с рынка, все жены Кемала весьма были живы и очень здоровы. Одной только не было: матери Зары. Вполне может быть, что какая-то дикая, ревнивая до отвращенья наложница зарезала эту чудесную женщину, за день или два до того подарившую Кемалу Кигизу младенца. Наверное, так все и было: прокралась дикарка-наложница в спальню, где мать, улыбаясь лукавой улыбкой, качала дитя, и кинжалом убила ее прямо в сердце. Когда же ворвался туда с диким ревом Кемал, то она, православная, с пшеничного цвета косой, умирая, его осветила на память все той же спокойной, немного лукавой улыбкой. Затем и скончалась, испачкав своею невинною кровью турецкий ковер. Все это, конечно, догадки, навеянные одной широко знаменитой поэмой, — но кто мне ответит, откуда у дочки такие волнистые светлые волосы?
Итак, Катерина (отныне мы будем ее называть только так!) жила в большом доме, поместье, точнее, и принадлежал он тому человеку, чье имя теперь никому не известно. В «Садах небесных корней» о нем не сказано ни слова. Может, он спас ее просто из жалости, из жалости дал ей свободу, а вскоре всмотрелся да и возжелал? Через месяц после выздоровления она пришла в церковь, где все так и ахнули. Светлые, струящиеся по плечам волосы были перехвачены атласной лентой, и сквозь бледно-серого цвета накидку просвечивал каждый ее волосок, и виден был тонкий пробор, словно след, оставленный птицей, прорезавшей воздух лучистым крылом. По обычаю времени на Катерине было два платья: нижнее, белое, шелковое, присборенное у плечей и обшитое по подолу мелкими жемчужинами, и верхнее — темно-голубое с коричневыми бархатными полосами на груди. Свисали, к тому же, жемчужные серьги почти до ключиц. Она с тихим достоинством поклонилась собравшимся и прямо подошла к скорбной Богоматери, опустилась на колени и, закрыв глаза, о чем-то долго молила Ее, не меняя своей склоненной позы и ничего вокруг не замечая. Когда служба подошла к концу, Катерина рванулась, чуть было не опрокинув на своем пути пожилую, всеми уважаемую матрону, которая, если поверить источникам, приходится бабкой, а может, прабабкой покойной Терезы, всемирно известной беззубой святой, почившей лет десять назад где-то в Индии. Она оттолкнула матрону и тут же сокрылась за бархатной шторкой.
— Дитя мое, — тихо сказал ей поникший отец Бенджамено, который в то время служил настоятелем. — Мне трудно поверить тому, что рассказы твои соответствуют жизни.
— Все правда, — вздохнула она. — Нет пути мне в Небесное Царство. Слаба моя плоть.
— Тогда расскажи еще раз, Катерина, какое видение было тебе на лодке невольников. Как выглядел призрак?
— Отец мой! — она возмутилась с горячностью. — Зачем вы его называете призраком? Ведь он говорил громким голосом, он ведь отер мои слезы! И руку я помню, и перстень на пальце.
Священник опять помрачнел.
— А перстень был черным, дитя? Ты не помнишь?
— Все помню! Из темного золота, с камнем, огромным и черным, как ночь.
— Плохие дела, — он поник удрученно. — Известия, им приносимые, часто сбываются в будущем. Какого же сына предрек он тебе?
— Сперва он сказал, что меня все забудут. Потом, что я буду рожать его в муках. И что-то еще про улыбку… Не помню.
— Улыбка твоя удивляет людей. — Священник вздохнул. — В ней много лукавства, но много и грусти. Взгляни, как вокруг улыбаются люди: открыто и весело. А ты даже губ своих не размыкаешь. Тревожат ли мысли тебя, Катерина, о вере, в которой взрастили тебя?
— О вере моей? Нет, она умерла, как умерло имя, какое мне дали. Другое тревожит меня… И так страшно, отец мой!
— Тогда говори до конца.
Если бы кто-то увидел в эту минуту лицо настоятеля, то он бы поразился произошедшей в нем перемене: отец Бенджамено Витторио стал похожим на старуху — любопытную, болтливую старуху, которая в воскресный полдень открывает ставни своего дома и с жадностью вслушивается во все, о чем говорят прохожие на улице, благо окна ее находятся на первом этаже и жимолость, обвившая их своими белыми цветочками, ничуть не мешает.
— Все-все говорить?
— Да, все-все, до конца.
Мне, к сожалению, приходится опять сделать некоторое отступление, и я его сделаю. Не потому, что обладаю вздорным характером, толкающим на то, чтобы перепархивать с предмета на предмет, как какая-нибудь птица, а потому, что всякий разговор, если вести его непредвзято, заставит искать, где ты сам, а может быть, твой собеседник вдруг сбился и сделал крутой поворот, как ручей, который, пылая на солнце, наткнется, бывало, на камень подводный и тут же утратит все краски свои, и тут же, холодный, журчать перестанет. Вот так и сейчас с Катерининой исповедью. Вцепился священник в такие подробности, которые сану его неприличны. К тому же старик. На это я вам возражу, что старик-то еще молодому даст жару. Пока молодой будет морщить свой лоб, румяный старик побежит куда надо и там все, что надо, обделает живо. Но главное вовсе не в возрасте. В чем? В обете безбрачия, вот в чем. У нас, например, хоть в Москве, хоть во Пскове, священник — женатый всегда человек. Вот я наблюдала: стоит, скажем, матушка и прячет животик под теплою шалью. Муж вон проповедует, благословляет, а ей вспоминается, что было ночью на ихней перине, и сердце колотится: «Сейчас службу кончит, обедать пойдем, огурчиков я засолила, капустки… А там скоро спать… Ох он мне и задаст! Ведь я говорю ему, я ведь толкую: „Игнаша! Спугнешь нам ребеночка! Тише!“ Уж больно охоч до меня, ненасытный!»
Не то в католичестве. Возобраняется служителю церкви земная услада. Поэтому многие часто впадают в грехи так, как Волга в Каспийское море. То мальчика бросятся вдруг целовать, воспользовавшись темнотой и безлюдием, а то молодую вдову так затискают, что только дивиться приходится людям тому, что рожает она, безутешная, спустя целый год после мужниной смерти.
Теперь про отца Бенджамена Витторио. Он мальчиков не целовал и не гладил. Не трогал руками ни жен и ни вдов. Короче, безбрачие было нелегким для плоти его, но желанным душе. И лишь одного он не смог победить: того любопытства, которое жгло как огонь. На всякие тайны постели супружеской, уж не заикаясь и о несупружеской, отец Бенджамено бросался как ястреб и требовал полной с собой откровенности.
Вот и сейчас, вслушиваясь во влажный от слез голос Катерины, он почувствовал сладостный холодок, побежавший вдоль его старого позвоночника, и навострил уши.
— Как часто ложится с тобой он, дитя?
— Четыре раз за день и столько же за ночь.
— Имеет ли ключ он от спальни твоей?
— Я не запираю на ключ своей спальни.
— Ты разве все на положеньи служанки?
— Ах, что вы, отец мой! Какой там служанки? Вы видели жемчуг на мне? И мантилью?
— Мантилью я видел и жемчуг заметил. Но мы не об этом с тобой говорим. Зачем ты сбиваешь меня, Катерина? Итак, он приходит и сразу ложится?
— Да нет. Не ложится, а сразу бросается.
— Бросается? И?
— И срывает с меня сорочку и чепчик.
— И чепчик срывает? А чепчик зачем?
— Не знаю, отец мой, он не объясняет. Срывает мой чепчик, бросает все на пол.
Слюною наполнился рот Бенджамено.
— И ты остаешься ничем не прикрытой и наедине с посторонним мужчиной?
— Да, я остаюсь с ним, и он начинает любить меня.
— Опомнись, дитя! Разве речь о любви? О мерз-ком и богопротивном соитии!
— Я знаю, отец.
Она разрыдалась. И вынула из своих хрупких ушей жемчужные серьги.
— Примите, отец мой, на помощь сироткам…
— Отдашь Константину, — отрывисто молвил отец Бенджамено. — Теперь Константин у нас ведает всею хозяйственной частью. Итак, Катерина. Пока он безжалостно, гнусно и низко тебя оскорбляет, что делаешь ты? Зовешь ли на помощь? Клянешь ли? Кусаешь его в подбородок? Царапаешь щеки?
— Нет, нет.
— Что же делаешь ты?
— Я тоже его обнимаю, отец.
Священник притих. Прошло минут шесть. Потом он опомнился и зашептал:
— Anima Christ sanctifica me Corpus Christi salve me Sanquies Christi inebria me Aqua lateris Christi lave me Passio Christi confata me O bone lesu exaudi me…[1] Душа Христа, освяти меня Тело Христа, спаси меня Кровь Христа, опьяни меня Святая Вода, омой меня Страсти Христа, укрепите меня О милосердный Иисус, освободи меня…— Мне страшно, отец. Все молитвы бессильны… — опять повторила она.
— Молитвы бессильны?! Я мог бы проклясть тебя! Да! И Господь простил бы мне это проклятье! Поскольку в душе ты осталась в своей прежней вере! В своей богохульной и богопротивной языческой вере! И я бы мог даже тебя отлучить от Святой Нашей Церкви. Как знаешь кого отлучали? Не знаешь? А я ведь могу и сказать!
Он высморкался и опять зашептал, но тихо, почти даже и неразборчиво.
Закончилось мирно. То ли отец Бенджамено Витторио часто сталкивался с подобными безобразиями, то ли светлый небесный ангел стерег его гнев и изрядно смягчал в душе его ярость, чтобы не кипела она с такой силой и, вроде цунами, на головы бедных его прихожан не падала бы, превращая их, робких, в бесформенные и дрожащие тушки. К тому же и Змей, совративший Адама и мраморно-белую голую Еву, так и не уполз никуда, и любому, кто всматривается в густую листву, мерещится в ней, в этой яркой листве, его окровавленный, скользкий язык. Да кто разберет! Короче, расстались они полюбовно, и он со слезами внутри старых глаз опять отпустил ей грехи.
Встряхнув волосами и вмиг ощутив, что серьги уже не мешают, не клонят к земле, Катерина волнистой походкой пошла прямо к берегу, усыпанному полевыми цветами, и там затянула старинную песню:
Расцветали яблони и гру-у-ши! Па-а-а-плыли туманы над рекой! Выхади-и-ла на берег Катюша, На высо-о-кый берег на крутой!Первую строчку этой песни она пропела по-итальянски: Fiaritura mela a pera, но тут же почувствовала, что благозвучие ее новой родины сразу погубит таинственность смысла да и бесшабашность, неведомую чужестранцам, и сразу вернулась к тому языку, которым поют ледяные просторы, где бабы босыми идут за водою и в сани впрягают послушных медведей.
Глава 3 Побег
В тот же вечер состоялся разговор между Катериной и человеком, о котором никто ничего не знает. Ну хоть бы какое-то имя! Ни имени нет, ни фамилии нет, ни возраста, ни описания внешности.
— Роди мне ребенка, — сказал он, задумчиво уставясь глазами в огонь. — Уже бы давно понесла. Все пустая!
Катерина, сидящая в легкой лиловой рубашке на красной подушке, слегка усмехнулась.
— Когда-нибудь я за усмешку твою зарежу тебя или выброшу в реку, — сказал он. — Я сына хочу, Катерина.
— А мне говорили, что наша округа полна твоих деток. Ведь ты, говорят, не привык пропускать ни женщин, ни девушек. Даже старух — и тех ты насилуешь.
— Я не насилую! — Он хрипнул, взмахнув рукавом, до локтя обшитым куницей. — Приходят и сами подол задирают. Старухи жадны, похотливы, завистливы.
— И ты станешь старым. — Она усмехнулась. — Седым, редкозубым, весь сгорбишься. Ночью намочишь кровать…
— Молчи, Катерина! Я знаю, что ты ходила к Инессе и пьешь ее зелья. Я-то, дурак, удивлялся, в чем дело? Давно бы должна понести! Так вот же разгадка: волшебные травки! Я влез в твой сундук, дорогая, и вытряс оттуда все эти колючки! Сегодня уж я постараюсь, и завтра ты, золотко, встанешь брюхатой. Сейчас еду в Падую. Буду к полуночи.
Оставшись одна в своей комнате, Катерина упала на затканное розовыми шелковыми тюльпанами покрывало и застыла. Каждую ночь к ней приходил один и тот же сон: беременная, она сидит, привалившись спиной к стене. Все тело болит, а внизу живота как будто ворочаются жернова. Вокруг стоят люди. Они говорят, что нужно раздвинуть как следует ноги, иначе она не родит. Катерина не слушает их и все крепче и крепче сжимает колени.
— Не надо! — бормочет она и руками обхватывает свой огромный живот. — Останься во мне!
Вдруг боль ослепляет ее, и головка ребенка, горячая, словно огонь, вся в крови, проталкивается наружу. В эту секунду Катерина просыпалась от страха. Инесса, горбунья, с глазами столь яркими, как будто бы в каждом зажгли по светильнику, сказала, что сон этот значит одно: родится, наверное, мальчик, которого насильно отнимут у матери.
— Смотри! — говорила Инесса. — Не вздумай рожать от хозяина! Он кормит тебя, это я понимаю, и бархат тебе покупает, и серьги, но дети рождаются не от подарков. Их Бог посылает. Вот, пей мой отвар, и сгниет его семя в твоем женском лоне, а после, смешавшись с нечистою месячной кровью, уйдет.
…Она лежала на покрывале, затканном тюльпанами, и думала, что же ей делать сейчас. Потом поднялась, увидала в окошке, что вечер уже наступил — серебрятся соцветия звезд, — подсчитала в уме часы до его возвращенья из Падуи (а их оказалось не-много!) и тут же решила бежать. Побросала в платок свои украшения, самые ценные, включая рубиновую застежку и нитку холодного белого жемчуга, два платья, мантилью от зимнего холода, потом башмаки из сатина для танцев, потом темно-красные туфли из кожи с подставками, чтобы по грязи не хлюпать, задула свечу и была такова.
Придирчивому читателю уже сейчас понятно, что многие моменты жизни мусульманской девушки Захры Кемал Кигиз, получившей при крещении имя Катерина, я просто-напросто опускаю. И не потому, что не умею складно, с захватывающими подробностями рассказать о том, что испытала она, когда ее кто-то чужой (к тому же мужчина!) схватил, как клещами, и перепоясал ее гибким телом седло скакуна, о том, как стонала она в темноте невольничьей ночи, взывая к Аллаху, о том, как ее волокли по песку к большой каравелле, которая, вяло покачиваясь на зеленых волнах, ждала новой партии женщин-рабынь из Константинополя. Тогда же она потеряла то главное, что есть украшение девушки: честь. Какой-то невольник, не зная различия меж злом и добром, повалил ее, стукнув затылком о лавку, задрал ей подол, но только испачкала кровь ее девичья мерзавцу весь пах, как она, изогнувшись, плевком (столь увесистым, что даже странно, откуда так много слюны набралось во рту, пересохшем от жажды?) попала ему в переносицу. Унизила этим поступком насильника, но чести — увы — не вернула, конечно: ее украшение главное мягко спустилось на темное дно и досталось какой-то акуле, охочей до крови. Да, чуть не забыла! Еще был невольничий рынок, где ей заглядывали прямо в рот и считали молочные и не молочные зубы. В конце концов, все это вдруг завершилось холодным амбаром, где сено немного подгнило от влаги и где наша бедная Зара металась в поту и горячке неведомо сколько. Туда и явился однажды под утро богатый плантатор. А как же иначе назвать мне того, о ком даже в книге «Корней» нет ни слова? Конечно, плантатор, поскольку имел он холмы виноградников, реку, где рыбы водилось столь много, что ей, этой рыбе, и места в воде не хватало, поэтому налимы и щуки, уставши толкаться, стремились как можно быстрее покончить с такой унизительной жизнью и сами, глотнув напоследок родимой водички, ловились в большие рыбацкие сети. К тому же имел он луга заливные и несколько горных альпийских лугов, где верный пастух его в войлочной шапке играл на свирели и нежные овцы водили овечьи свои хороводы. Богат он был, этот — увы! — безымянный. И в Падуе что-то имел: то ли лавку свою ювелирную, то ли пошивочный цех зимней женской одежды. Но хватит об этом. В деньгах разве дело, когда к юной женщине в темный амбар приходит приличный вполне человек, снимает берет и кладет ее руку на свой лысый череп? А после всю ту же безвольную руку кладет на свой шерстью заросший кадык? Отнюдь не в деньгах тогда дело. Отнюдь.
Сначала она была столь благодарна, что не помышляла о сопротивлении. Сидела у ног его и целовала пропахшие мехом корявые пальцы. Он даже не трогал ее поначалу. Потом пригласил к ней врача. Этот врач, с повадками мыши, с большими ноздрями, в узорчатых бархатных туфлях, как будто он не медицине отдал свою жизнь, а танцам и всяким пустейшим занятиям, сказал, что не может ручаться за то, что женщину не заразили на лодке.
— Какой же болезнью? — спросил его тот, чье имя не знает никто.
— Я советую сначала пустить ей как следует кровь, — с гримасками, втягивая ноздрями томительный запах клубники и яблонь, плывущий из сада сквозь пестрые окна, ответил целитель. — Затем я прошу позволения, сударь, на то, чтобы мне осмотреть изнутри ее детородные органы, сударь. — Зрачки его сразу расширились, словно он что-то увидел, пока говорил.
— С условием, лекарь. Я буду присутствовать на вашем осмотре.
— Конечно, конечно! — Врач шаркнул узорчатыми башмаками. — И если желаете, можете даже воспользоваться моей линзою, сударь.
— Вы располагаете линзой?
Врач громко икнул от волнения.
— Да! Привез из Саксонии. Располагаю. Высокого качества горный хрусталь. Оправленный в золото. Дивная штучка!
Катерина слышала весь этот разговор, но ее итальянского языка еще не хватило на то, чтобы понять каждое слово. Она заливалась слезами стыда, пока врач терзал ее смуглый живот, простукивал нежную гибкую спину и приподнимал ее груди, как, скажем, какой-нибудь наш подмосковный грибник, насупившись, приподнимает ладонью еловые лапы и шарит в них палкой. Из кожаной сумки врача извлекли какие-то щипчики, скальпель, ланцет (все средневековое, низкого качества!), потом чистый, белый кусок полотна, потом еще-что в зеленой бутылке.
— Ложись, Катерина, — сказал ей хозяин. — Я верую в Бога, но не сомневаюсь, что наша отечественная медицина способствует лишь продвиженью добра. И люди, которые только молитвой готовы лечиться от разных болезней, весьма ошибаются. Дичь. Темнота.
Врач, нервно хихикнув, раздвинул ей ноги, и оба вонзились зрачками в то нежное, в то золотое с малиновым в своей глубине, лишь слегка приоткрытой.
— Поскольку вы, сударь, я вижу, согласны, — вдруг шумно забрызгав слюной, шепнул врач, — на произведенье осмотра organa femina externa, а также femina interna, прошу вас: закройте и окна, и двери. Боюсь до безумия.
— Боитесь святой нашей церкви?
— Боюсь. — И врач быстрым, скользким, мышиным движением набросил кусок плотной ткани на нежное и золотое с малиновым. — Огня я боюсь, на котором живыми сжигают нас, грешных.
— Не бойтесь. Я не донесу. Ведь я о себе беспокоюсь, почтеннейший. Ведь это, в конце концов, я собираюсь вложить свой единственный меч в эти ножны. Как там на латыни? Не помните, друже?
— Mitte gladium in vaginam, — волнуясь, ответил ученый. — Вложу меч в ножны.
— Вот именно: mitte gladium! Mitte! Не Федька-пастух, не Чиполо-дворецкий, а именно я собираюсь доверить ничтожнейшей девке здоровье и жизнь! Валяйте, осматривайте и не бойтесь!
Собрав тонкие, растрескавшиеся от волнения губы в подсохший бутон, врач немедленно облил себе руки водой из бутылки, и вместо пьянящего запаха роз по комнате сразу разлился тяжелый, как будто нарочно отравленный запах.
— Чем это, почтеннейший, вы поливаете сейчас свои руки? — Патрон, побледнев, вынул шпагу, оперся тяжелым бедром на ее рукоятку.
— Ах это? — И врач засмеялся. — Наука! Защита от гадов и от паразитов. Serpetium, сударь, кругом et serpetium, гады, насекомые!
— Какие же гады вам так докучают? — спросил с любопытством хозяин. — И чем вы их травите, если не шуткасекрет?
Тут врач, на секунду забывши про женщину, приблизил свой сморщенный рот к темно-красному, горящему уху патрона.
— Вы не представляете, что происходит! Ведь труп, простой труп, не достать, понимаете? Один ученик мой, дотошливый юноша, он так говорил: «Какой же я врач, если я не держал в руках даже толстой кишки?» Я предупреждал его, я умолял: «Стогнацио, друг мой, есть верные способы поставить диагноз. Моча, например: темно-желтая, белая. Бывает зеленой, бывает коричневой. При всякой болезни меняет свой цвет». А он, безрассудный, украл где-то труп. Бродяги бездомного, старого нищего. Возился всю ночь, до уретры дошел! А утром донос! И забрали. Потом увезли и сожгли на костре. Я лично не видел, но мне говорили. Мальчишка, сопляк! Но я плакал навзрыд. Ведь так быстротечно сгореть!
«Напрасно старается! Ишь, провокатор! — поду-мал патрон. — Меня хрен поймаешь!»
И плечи приподнял вполне равнодушно.
— Как? Из-за кишки? Опрометчиво. Глупо. Молился бы лучше, чем ночь напролет копаться в прогнивших останках бездельника!
Врач понял, какую ошибку он сделал, и тут же расплылся в дрожащей улыбке.
— О да! Как вы правы! Я предупреждал. Молитва, молитва и снова молитва! Однако за дело!
Он быстро встряхнул рукавами, и пальцы его, изогнувшись, как черви, раздвинули нежное и золотое настолько, что все волоски расступились и перед глазами раскрылся цветок.
Хозяин стал бледным.
— Все чисто! — сказал быстро доктор. — Снаружи здорова.
— Вы дальше смотрите. — Патрон захрипел и вновь ухватился за шпагу.
— Помилуйте! Я и смотрю, ибо женщина содержит в себе столько нежных лазеек, такие глубокие впадины, столько, помилуйте, сока, что все виноградники, когда их плоды соберут одним разом и выжмут в бездонную бочку, — и то не сравнятся с одной грешной женщиной!
— Вы, это, потише с поэзией, сударь… При чем виноград здесь? Какие там бочки?
Но лекарь нащупал внутри Катерины такое, что весь залоснился.
— Ну вот. Il nostro uterio! Nostrous uterius! Матка! Сокровище, в коем все происки дьявола смиряются перед Господнею волей!
— Не понял, однако… — опять прохрипел угрюмый хозяин той женщины, чья покорная и сокровенная плоть сейчас на глазах его вся обнажилась, и звук ее стал звуком талой воды, когда по ней хлюпают громким ботинком.
— Uterius вашей избранницы, сударь, — само совершенство! — с торжественным видом сказал странный лекарь. — Я должен заметить: одна из ста тысяч, нет, ста миллионов, а может, и больше, роскошнейших женщин, невиданных женщин имеет такую прекрасную матку! Вы, сударь, счастливчик, любимец фортуны! И тот, кто созреет в сей матке, кто будет сосать эту грудь, это млеко, — тот будет не просто еще одним смертным…
Глаза его вдруг закатились, он выдернул судорожно из Катерины всю влажную, как в перламутре, ладонь.
— Больная здорова, — сказал он убито. — Вы можете жить с ней и не опасаться.
— И если я буду иметь с нею сына…
— То он вас не разочарует, сеньор!
— Не будет кривым или, скажем, горбатым…
— Кривым? Не смешите меня! В такой матке? В такой la… la bella… прекраснейшей матке? Она же как яблоко, сударь, как яблоко!
— Да что это вы все про фрукты, про фрукты… — скрывая неловкость, прошамкал патрон. — Возьмите, однако. Вот вам за осмотр.
И вынул монету из чистого золота. Тогда докторам так платили.
Глава 4 Встреча
Катерина сплюнула в пыль виноградную косточку и, задохнувшись, остановилась. Теперь нужно прятаться. Он ведь хотел, чтобы зачала она нынешней ночью, и выбросил травы. Однако зачать и терпеть девять месяцев, как он будет гладить живот ее теплый своею корявой мужицкой ладонью, а после родить и увидеть, что мальчик, который ей снится сейчас, не похож на светлого ангела, а повторяет отца своего — те же губы, и нос, и даже его подбородок раздвоенный, — она не хотела. Была своевольной настолько, что часто и смерти совсем не боялась. Все лучше, чем эта постылая жизнь.
— Пускай на меня нападут кабаны, — сказала она, глядя в небо. — Пускай! Распорет меня своим рогом кабан, и сразу я освобожусь от того, кто каждую ночь хуже самого дикого из всех кабанов меня тоже терзает. Хотя и не рогом, но вроде того.
Послышался топот копыт. Катерина метнулась с дороги в кусты. Это он. Вернулся из Падуи, ищет ее. Сейчас будет ей выворачивать руки, ругаться такими словами, которыми ругаются только торговцы на рынке.
Вздымая копытами пыль, появилась облитая светом луны, словно призрак, с откинутой вбок светлой гривою лошадь. В седле летел всадник, совсем незнакомый. Заметив испуганную Катерину, он остановился, и светлая грива упала на спину его быстрой лошади снопом серебристого звездного света. Теперь к вам вопрос, дорогие читатели. Вы думаете, что так часто бывают в простой нашей жизни те самые встречи? Да нет, ошибаетесь. Только однажды. И нить, так сказать, рвется тоже однажды. Я песню-то точно не помню, но помню, что там это сказано очень правдиво. А люди себе не призна́ются в этом, поэтому каждый старик с бородавкой, мясистой от старости, каждая бабка с двумя волосками над верхней губой уверены, что в ихнем будущем много еще разных встреч и дорожных романов. От этого бабки и деды летают в седых небесах на больших самолетах, пускаются даже в морские круизы, где все наряжаются к ланчам и ужинам, сверкая часами и бижутерией. А вдруг?! Ведь дорога! Ее даже Гоголь, известный писатель, так ловко воспел. Да что вы, родные? Куда вы, хорошие? Тихонечко надо, легонечко надо, а там и кроватка, и супчик с грибами, и Машенька-внучка придет навестить в своей этой красненькой, мягонькой шапочке… Была уже встреча. Конечно, была. Но, кажется, выпала, как из высокого гнезда выпадает задумчивый птенчик. Ау, моя встреча! Ты где, моя радость?
Вернемся, однако, к внезапному всаднику. Заметив, что женщина прекрасного телосложения, гибкая, как стебель кувшинки, старательно прячет лицо под платок и хочет бежать, он спрыгнул с седла.
— Ты посто-о-о-й! — и вдруг засмеялся. — Постой, красавица моя! Я ведь не убийца, не вор, не разбойник. Чего ты боишься?
— А кто тебя знает там, кто ты? — спросила она грубовато от страха.
— Я — Пьеро да Винчи.
Вдруг яркая молния сильно и страшно прорезала небо, и в щели сверкнуло лицо или что-то, похожее на человечье лицо: такое же смертное, бледное, тонкое, с тоскою во взгляде.
— Ты видел? — спросила, дрожа, Катерина.
— Я видел, — ответил он, тоже дрожа. — Позволь, я тебя обниму, ты замерзла.
Она вдруг прильнула к нему, словно только того и ждала, чтобы он попросил. И замерли оба.
«Я не отпущу его! — вот что подумала тогда Катерина. — Я этого не отпущу ни за что!»
— Пойдем в виноградник, — сказал он развязно, скрывая смущенье. — Сейчас может хлынуть, гроза собирается.
— Не будет грозы. — Катерина взглянула опять в небеса. — Вот уже развиднелось, и звезды вернулись.
В шатре, образованном плотным сращеньем ветвей и плодов, густо пахнущем спелым тугим виноградом, они и уселись.
— Как звать тебя, милая?
— Что тебе имя? — Она отвернулась.
— Да, верно, — сказал он. — По имени разве поймешь, что за женщина, с которой ты пережидаешь грозу в чужом винограднике?
Она заразительно расхохоталась. Я как-то забыла сказать: Катерина была хохотушкой и в доме отца все время смеялась, играя в горелки, качаясь в саду на высоких качелях, дразня кур в курятнике «ку-ка-а-ре-е ку-у-у!» или обучая сестер и братишек арабской грамматике.
— Ой, как ты смеешься! — воскликнул он искренно. — Вы, девушки, словно боитесь смеяться. Как будто у вас зубы сгнили во рту. А ты так смеешься! Сидел бы да слушал.
«Он даже не хочет в лицо посмотреть! — Она вдруг обиделась. — Что он? Монах?»
И вмиг перестала смеяться, вздохнула.
— Ах, Пьеро, мне душно! — сказала она. — Сейчас задохнусь и помру, вот увидишь!
— Тогда я помру с тобой вместе, красавица. — И он снял платок с ее светлых волос.
О как она нежно, лукаво, загадочно ему улыбнулась!
— Послушай, — сказала она, улыбаясь. — Неловко сидеть, ноги-то затекли. Давай лучше ляжем с тобой, поболтаем.
— Какая ты умная, смелая! — И он задохнулся. — С тобой так легко!
«Он что, так и будет лежать? — Катерина слегка закусила губу. — Ишь какой! Ни поцеловать, ни раздеть, ни потискать!»
И бархатный свой локоток подложила под голову.
«Она — prostituta, продажная женщина! — поду-мал он быстро. — Отец меня предупреждал, что в деревне одни prostitutы!»
— Откуда ты взялся? — спросила она.
— Скачу из Флоренции в свое родовое имение Винчи. Венчание завтра и свадьба.
— Чья свадьба?
— Моя. — Он опять задохнулся. — Женюсь я.
— Ах женишься! — И Катерина вскочила. — Ну так убирайся отсюда! Он женится!
Горячие крови две, русская кровь и азербайджанская, в ней закипели, она оттолкнула его и, царапая лицо о шершавые листья, рванулась прочь от несвободного парня.
— Куда? — Он тоже вскочил, как безумный, схватил ее за руку и опрокинул на влажную землю. — Я не отпущу!
— Ах ты не отпустишь? Так я закричу!
— Кричи. — Он зажал ее рот поцелуем. — Кри…
Стало тихо. Внутри винограда дышало и билось огромное что-то. Наверное, ангел, упавший с небес, запутался в этом земном урожае и, весь уже сладкий и пьяный от сока, пытался взлететь и вернуться на небо.
Они были шумной волной. Опускаясь и снова вздымаясь, она клокотала обилием мелких, соленых существ: рыб, крабов, медуз, — и осколками острых, разбитых ракушек, и громким дыханьем русалок, глядящих, как смертные люди, бесстыдно толкаясь, бесстыдно хватая друг друга во тьме за спину и ниже, где должен быть хвост, не помнят о смерти и не понимают, что каждый умрет в одиночку и с болью.
Слегка розоватое небо раскрылось над спящими. Лицо Катерины светилось. А Пьеро как будто бы вдруг возмужал в эту ночь и даже обуглился, как от удара прерывистой молнии может обуглиться большое и сильное дерево. Он первым проснулся. Увидел ее, и все задрожало внутри.
«Что мне делать? Уйти потихоньку, пока она спит? А где я потом разыщу ее? Но отец не позволит, чтоб не было свадьбы. И я не могу изменить Альбиере. Она ведь сказала мне, что примет яд, попробуй я только разок изменить ей! Несчастье мне с этими бабами, пытка! Не зря Феррагамо шутил, что спокойнее любиться с мужчиной!»
Но тут Катерина открыла глаза. Вы видели небо, почти уже черное, но сохранившее во глубине закатные отблески? Видели это сквозящее золото? Или не видели? Она на него посмотрела, и все. И он тут же лег с нею рядом и снова ее крепко обнял. И снова волна сильных тел поднялась и снова опала. И вновь поднялась, вся пронзенная светом. Я знаю, что это второе — сквозь сон — соитие их, когда солнце дрожало в тугом винограде, и листьях его, и в крепких ветвях, нежно-красных, и где-то, вдали, тоже розовый весь, еще неуверенный в силе петух пытался запеть, я знаю, что сын их зачат был тогда, в утро.
Вы спросите, может быть:
— А почему?
И я вам отвечу:
— А вы посмотрите на все, что он сделал, на все, что оставил он вам, чадам праха и праздным обломкам ленивых отцов! Полотна его разглядите как следует. Вы видите свет? Неужели не видите?
— Мне нужно спешить, — прошептала она, — сейчас сюда люди придут, ненаглядный.
— О Господи! Мне тоже нужно спешить! — воскликнул он. — Свадьба! Я чуть не забыл!
Из глаз ее хлынули слезы.
— Не плачь! Я быстро женюсь и вернусь к тебе сразу!
— Ребенок ты, Пьеро, — сказала она. — Какой ты ребенок еще, прости Господи! Жена тебя будет держать при себе, булавками к юбке пришпилит!
— А я, — придумал он быстро, — а я навру ей, что мне на охоту пора, и смотаюсь!
— Охоту?! Она скажет: «Миленький мой! И я на охоту! Я не помешаю! Зато, когда мы с тобой, сердце, вернемся, я вышью подушку тебе „Муж да Винчи с женой на охоте. А также с собаками“. Хи-хи-хи-хи-хи!»
Она так смешно это изобразила, таким отвратительным, приторным писком воспроизвела ему голос невесты, которой к тому же ни разу не видела, что он сразу остановился как вкопанный.
— Нет, я от тебя не уйду, Катерина. Ты чудо какое-то. В жизни не видел я равных тебе. Вот клянусь: никогда!
— Послушай! — сказала она. — Я все знаю. Я знаю, какая у нас будет жизнь. Ты женишься, Пьеро, покинешь меня, но каждую ночь в своих снах, милый Пьеро, ты будешь садиться на лошадь, и в дождь, и в снег, и в буран с ураганом ты будешь нестись что есть сил в виноградник, ты будешь скакать, опустив капюшон, и только луна, освещая дорогу, поможет тебе. Больше некому, Пьеро. А я буду ждать тебя здесь, ненаглядный. Не спрашивай, как я сюда доберусь. Ползком, если буду старухой. А если ослепну, сынок наш, надеюсь, меня приведет.
— Откуда сынок? Чей сынок, Катерина? — Он сразу стал красным и жалким.
— Смешной человек! Наш сынок, ненаглядный. Он будет у нас. Я уже это чувствую. А ты не робей. Если хочешь жениться — женись на здоровье. Я справлюсь, не бойся.
— Да как же? Одна, без поддержки…
— Иди, я сказала! И поторопись.
Она поднялась во весь рост и застыла. Набросила мятый платок на лицо и выпростала из своих одеяний лишь руку, движеньем которой, столь властным, что Пьеро весь сжался, ему приказала, чтобы он покинул ее. Он ушел. И лошадь, вся влажная от длинных капель упавшей росы, заржала бархатисто, когда он вскочил на седло и почувствовал, что то возбужденье, которое вызвала во всем существе его светловолосая, чудесная женщина, не утихает и будет мешать ему в бешеной скачке.
Оставшись одна, Катерина объела тяжелую гроздь винограда, утерлась и заторопилась в селенье. В ее голове вырос план.
Сейчас я оставлю мою героиню, вернусь в опустевшую спальню ее, куда ровно в полночь вошел, в черной шляпе, стуча каблуками, патрон. Не подозревая о бегстве любимой, он очень решительно сдернул камзол, уверенный в том, что красавица спит, свернувшись клубочком на пышной кровати.
Его настроение было прекрасным. Дела пошли в гору. Приказчики в Падуе, испуганные, что неделю назад он выпорол их на конюшне, следили, чтобы вся пушнина была на учете и чтобы никто ни кусочка не срезал с собольего личика или хвоста. Народ был трусливый, но жадный. К тому же простые и грубые девки с большими носами, с руками, которыми они убирали навоз и стирали рубашки на речке, вдруг все полюбили на праздник рядиться в меха. Пошла у них мода на желтую белку, на белую крысу, на серого волка, и в праздник вся площадь пестрела, как будто в лесу на поляне устроили пир для диких животных. (Один чужестранец в своем дневнике записал: «Итальянки в любую погоду одеты в меха. Наводит на мысль, что тела их не держат тепла так, как наши. Весьма подозрительно».) Конечно, всем тем, кто работал в цеху и был, так сказать, «при мехах», не терпелось какую-нибудь лысоватую шкурку спереть да продать, а приказчики, думая, что самолюбивый патрон не заметит, набивши карманы отменной пушниной, слегка только приподнимали ладони, когда проходили контроль в проходной. Однако когда он все это заметил, вредителям очень и очень досталось. Приказчики, менеджеры и бухгалтеры вообще не могли три недели сидеть, а только стояли, как чурки, и выли. Теперь на учете был каждый крысиный обгрызанный хвостик, а серым бобрам, куницам да норкам в момент поступления в цех пришивали специальную бирку и только под бирками их мыли, сушили и шкурки снимали.
Итак, безымянный наш скинул камзол и прыгнул в кровать. Но кровать отпугнула его пустотой: Катерины в ней не было. Он бросился в кухню, где, тоже пустые, стояли котлы, свисали на крючьях копченые зайцы и пахло различными свежими сдобами. И там ее не было. Он заметался. В саду шумел ветер, как будто пытался вдуть в уши его волосатые новость: «Сбежала твоя Катерина, ищи!»
Тогда он пинком разбудил своих слуг, и все поскакали на поиски. Факелы дрожали во тьме и кровавым огнем лизали и землю, и черное небо. Один из его верных слуг напевал старинную песню, которую я сама пою часто, но не до конца. В ней есть вот такие слова:
И шел я скво-о-озь бурю-ю-ю, Шел скво-о-озь небо-о-о, Чтобы те-е-ебя-я отыскать на земле-е-е!— Убью, если не замолчишь! — Безымянный наотмашь ударил певца. — Пой эту!
O sole-e-e-e! O sole mio-o-o-o!И вскоре весь маленький, красно-лиловый от факелов взвод затянул:
O-o-o! So-o-o-le-e! O sole-e mio-o!Искали всю ночь. Никого не нашли.
— Синьор мой, — сказал ему карлик Фердуно. — Позвольте мне выразить мнение…
— Ну? — отрывисто молвил патрон. — Выражай!
— Синьор мой, она к вам сама приползет. Не стоит округу смешить. Ведь поутру последняя шавка, последняя тварь заметит, как вы, о синьор мой, без шляпы, весь всклоченный — я извиняюсь, конечно, — не евши, не пивши, забыв обо всем, пытаетесь тщетно найти эту суку, которая, может быть, в этот момент валяется с кем-то в проточной канаве! Где ваша брезгливость, синьор, ваша гордость?
— Ты поговори мне еще, пес плюгавый! — вскричал, не сдержавшись, патрон. — Ужо не тебе бы про гордость-то тявкать!
Всегда вот большой человек норовит обидеть какого-нибудь небольшого. Фердуно и правда охоч был до тех, которым до пояса не доставал, и на великанш тратил жуткие деньги. Он знал старым сердцем своим — знал, конечно! — что даже и речь не идет о любви, но стоило только ему примоститься на женском, горячем, большом, как гора, изгибистом теле, рассудок мутился, он плакал, кричал, он зубами впивался в высокие груди, елозил по бедрам, стремился руками залезть в те места, куда, бедный, не доставал другим образом, и как только очередная любовница его покидала, припрятав монетку, он долго лежал на растерзанном ложе, лаская в душе своей воспоминанья об этих счастливых продажных минутах.
И все же слова о проточной канаве имели какое-то действие. Хозяин задумался, скрипнул зубами.
— А что, если впрямь я смешон и нелеп? — сверкнуло в его голове. — Эта девка в лицо мое плюнула, обворовала меня, сперла жемчуг, два платья, которые я ей купил, а может, еще что, я утром проверю, и я на глазах у ничтожных людей, действительно и не по-ужинав даже, ищу ее ночью, как будто она священная чаша Грааля, не меньше!
И он повернул свою лошадь назад. И все лошадей вслед за ним повернули.
Дома ему стало невмоготу. Ее беспорядочно разбросанные по комнате вещи, туфелька с золотой пряжкой, которую она оборонила в ту секунду, когда вечером, после объяснения с ним, бросилась на затканное шелковыми тюльпанами покрывало, да и само это покрывало, хранящее запах ее молодого тела, слегка сходный с запахом свежей травы, колготки ее, вышиванье с иголкой, воткнутой как раз в сердцевину той розы, какую она вышивала все лето, пытаясь найти тот единственно верный багровый оттенок, чтобы эта роза была еще ярче, чем те, что в саду, — о, все вокруг, все — даже ручка дверная и зеркало в раме — полно было ею, и именно это засилье ее, власть этой лукавой улыбки и глаз, немного печальных, загадочных, странных, сводило с ума, а вернее сказать, подталкивало чуть ли даже не к смерти.
Ах, как он напился в то утро! Сапожник так не напивается. И пропотевший от быстрой работы иголкой портняжка, который обычно сильнее сапожника, так не напивается. А он напился. Размякший и пьяный, упал у камина, затылком в золу, и пригрелся, затих. Теплом золотого веселого солнца окрасились стены. Сверкала громада пузатых бутылок, и предков портреты глядели на пьяного с тоскою и страхом: кончается род. Увы, деградация и вырожденье! Казалось бы, разве до песни такому? Раздавленному в червяка человеку? Представьте себе, что до песни. До нежной, стыдящейся собственной нежности песни. И он тихо пел «Sole mio», однако в том русском его переводе, в котором певала она, вышивая:
Солнышка мо-я-я-я! Солнышка лесно-е-е-е! Где, в каких края-я-я-я-х, Встретимся с то-бо-о-о-ю?Глава 5 Свадьба
Ни для кого не секрет, что черноглазые женщины намного смелее, да и безрассуднее, чем голубоглазые. Мои, вот, глаза — голубые, как небо. Поэтому я никуда и не лезу. Зачем? С голубыми глазами вся жизнь моя — тихая, скромная. Проснулась, пошла за водой. В хлеву прибралась, подоила корову, а там уже полдень: обедать пора. Придет муж с покоса: «Давай, накрывай!» Еда вся домашняя, свежая, сытная. Детишки по лавкам: головки кудрявые. Сама их стригу, сама мою по праздникам. Им лишь бы медку с калачом да сметанки. А если поганка свекровь обозлится и мужу накаркает, что я все утро в окошко глядела, соседа ждала, так я придушу ее, ведьму, легонечко.
— Мамаша, — спрошу, — тебе жить надоело?
Она на попятный:
— Дак я ить шутю!
(Я так пошутю тебе, что не проснешься.)
А у черноглазых на всякую мелочь — такое бесстрашие, как у шпионов, которых забросили на парашютах во вражеский тыл. Куда теперь денешься, если твой лайнер домой улетел? Они и рискуют, сверкая глазищами. Вот и Катерина решила, что нужно явиться на свадьбу в селение Винчи. А там — будь что будет! Плетьми ли забьют, или в речке утопят, а то в монастырь под далекий Владимир, накрывши до пят клобуком, увезут — на все Божья воля.
Пришла она в это селенье под вечер. Венчанье уже состоялось. В богатом именье шумели, галдели высокие гости. Отец Альбиеры, красивый, сухой, с седыми висками, гордился, как выдал последнюю дочку: за сына помещика и уроженца богатой Флоренции. Стол был необъятен, слуг не сосчитать. Уже кто-то на пол свалился, весь в рвоте, уже чья-то женушка возобралась на бедного рыцаря и расстегнула на нем все доспехи. Не знаю зачем. Эпоха такая была: Возрождение, никто никого никогда не стеснялся. Вскользнула красавица наша в огромную, распаренную, хуже бани турецкой, дворцовую кухню. Тяжелые запахи кур и свиней, которых коптили все утро (собаки уж так нализались и крови, и жира, что еле брехали), огромных зажаренных рыб с головами и рыб безголовых, но нафаршированных, и перепелиных желудков в томате, и замаринованных их птичьих язычков, и черных угрей с чесноком и лимоном ударили в ноздри, напомнили прошлое: ведь и у нее, Катерины, недавно была вот такая же славная кухня! Но здесь-то шла свадьба, и все суетились, толкались, ругались, а многие, будучи пьяными, слабыми, уже не справлялись с простейшей работой. Тогда в суете этой, в неразберихе она подхватила корзину с орехами и мягко вплыла в переполненный зал, похоже на то, как вплывают на сцену плясуньи из всеми любимой «Березки». И сразу — к нему с этой полной корзиной! А он сидит, трезвый, усталый, молчит. И рядом жена, молодая, прелестная, с высокой прической, но видно, что ей неловко и стыдно. Она то головку ему на плечо, то ручку на шею, то бархатной ножкой нажмет на колено его под столом, он — как неживой, даже не усмехнется. Тут сваха Исикия встала, шатаясь, и, руки сложив красным рупором, крикнула:
— А ну, молодые, вино-то горчит!
И все подхватили:
— Горчит! Ох, горчит!
Они поднялись. Положили на плечи друг другу холодные бледные пальцы. Уста их раскрылись, готовые слиться. Все замерли. У Катерины корзина с орехами сразу упала, и грохот, похожий на то, как грохочут слетевшие камни в Уральских горах, впитал в себя мертвенный звук поцелуя.
— Вот руки кривые! — сказала с досадой какая-то женщина в белом берете. — Таких не к столу брать, а только в коровник!
Но Пьеро, скосивший глаза от жены, которая всем своим милым лицом уже прижималась к лицу его, вздрогнул: она, Катерина, была в этой зале. Стояла, румяная, незащищенная, струились по круглым плечам ее волосы, те самые волосы, чей слегка пряный, слегка травянистый и ягодный вкус он чувствовал ночью, когда они спали на влажной земле, обнимая друг друга. И так же, как утром, она посмотрела лукавым, печальным, загадочным взглядом.
Кажется, все, что изложено с многочисленными отступлениями, поправками, противоречиями и неточностями в первой части рукописного памятника «Сады небесных корней», обнаруженного в одной из пещер под Миланом, попавшего в жадные руки искусствоведов и все же осевшего после усилий на этом столе, я перевела на родной мне язык, проверила факты. Не скрою, что это тяжелый, да, очень тяжелый был труд — многолетний, отвлекший меня от писательских будней, с лихвой окупавших лет двадцать назад безбедное существованье мое. Однако и выбора не было. Лучше смириться с нуждой, но работать для Вечности. Говорю я это вот к чему: вторая и третья части спасенного мною от коррупции рукописного памятника пережили пожар, случившийся несколько месяцев назад в доме, полученном мной по наследству и оказавшемся, к сожалению, совершенно не пригодным для жилья. Не вдаваясь в подробности, я могу сказать только то, что в одной из труб этого старого и почти развалившегося дома загорелась сажа, пламя охватило сначала спальню, потом гостиную и, наконец, овальный зал, где я и расположила перевезенную из прежней квартиры библиотеку. Вернувшись вечером, я убедилась, что благодаря усилиям соседей все почти книги были спасены и серьезно поврежденными оказались только вторая и третья части уникальной пещерной находки. Задача таким образом усложнилась: мне нужно не только восстановить обугленное, но и усилием собственного воображения заполнить те уничтоженные куски текста, которые не поддаются восстановлению.
Читатель простит мне все шероховатости.
Глава 6 Отец и сын
Носила легко. И сама удивлялась: живот был большим, а сынок неспокойным. Ночами особенно. Она ничего не боялась: ни мелкие волки, ни лисы, живущие в овраге за домом, ее не пугали. Она тосковала по Пьеро. Отец же его приходил к ней частенько. Подолгу сидел у нее, разговаривал. Хотел расколоть ее душу, разгрызть, как орех. Она ничего не скрывала. К тому же теперь ее жизнь и жизнь сына, который был должен родиться вот-вот, зависели от старика. Это он купил ей заброшенный дом у оврага и нанял двух слуг. Она догадывалась, что он знает все. Но планов его она не понимала, поэтому и волновалась все время.
Она иногда замечала, что статный да Винчи глядит на нее с мучительной, неподобающей страстью, и часто ловила вдруг быстрый, бесстыдный блеск черных зрачков, обведенных кольцом, подчас почти розовым от возбужденья. Но он себе не позволял ни намека.
Однажды, в конце марта, из Флоренции явился вдруг Пьеро, солидный нотариус. Совсем молодой еще, но просвещенный.
— Соскучился я, — сказал он печально. — Не клеится жизнь. А ты изменилась: высокая, толстая. Но мне все равно. Хочешь — дальше толстей.
— А я не толстею. Я плод твой ношу. — И ноздри раздула.
Он вяло кивнул.
— Вот я и сказал, что толстеешь от этого. Но только на свете нет женщины лучше. Ты приворожила меня, Катерина.
Они обнялись, и она, задыхаясь, подула на свечку.
Отец же пришел как всегда: ровно в полдень, с деньгами на жизнь.
— Послушай, — сказал ему жестко отец. — Кого ты оставил в конторе?
— Там брат Альбиеры, он мне помогает.
— Ты хочешь, наверное, чтобы все мы — и будущий сын твой — лишились того, что я накопил неустанным трудом?
— Нет, этого я не хочу, — сказал Пьеро.
— Тогда не таскайся сюда, а работай!
— Но ей совсем скоро рожать, — сказал сын.
— Старайся, чтобы Альбиера твоя, в конце концов, тоже припухла, как все замужние женщины. Зачем она ходит с пустым животом?
— Не знаю, отец.
— Не стараешься, сын.
— Стараюсь, отец! Но когда я ложусь, мне словно всю кровь заменяют на воду…
Отец на него посмотрел очень зорко.
— Ты больше не должен являться сюда. Когда Катерина родит, ты получишь письмо от меня.
— Я увижу сына?
— Увидишь, но только не сразу. Пускай он слегка подрастет, а потом приедешь, его заберешь во Флоренцию.
И тут Катерина, с ее животом, вскочила и кинулась к ним в чем была.
— Никто его не заберет у меня! — вскричала она по-арабски. — Никто!
Они побледнели, а Пьеро схватился рукою за свой подбородок.
— Ну вот. Так и знал, — молвил старший да Винчи. — Однако мне кажется, ты не арабка.
— С Кавказа я, — тихо сказала она.
— Черкешенка? — он удивился. — Из Грозного? Я слышал, что город уже восстановлен. Надыр постарался.
— Нет, я не черкешенка. — Она чуть не плюнула на пол. — Черкесы — народ нам чужой, неприятный.
— А, эти межнациональные распри! — вздохнул он устало. — Вот кажется: Богом забытые земли! Кто знает какой-то Кавказ, ну скажите? Что там? Поголовная необразованность и детская смертность. А что там еще? А я вам скажу, что еще: войны, войны… Но что они делят? Овец своих? Женщин? Я слышал, что женщины их отличаются чудовищною волосатостью. Правда?
Она обнажила почти до локтя свою золотистую крепкую руку.
— Где волосы? — тихо спросила она. — Найди хоть один.
— Так ты исключение. — Он вздохнул снова. — Я был женат трижды, и все мои жены страдали от сильной своей волосатости. Конечно, когда это кудри в прическе, то очень красиво, но ноги, живот! Разденешь, бывало, — эх, чисто зверюга! И чувство мое не держалось к ним долго.
Он вяло зевнул.
— Что ты, Пьеро, молчишь?
— Зачем ты смеешься над нами, отец?
— А что же мне, плакать? Ты, сын, в утро свадьбы своей повстречался с какой-то девицей. Девица, конечно, тебя совратила. Потом ты явился, чтобы обвенчаться с законной невестой. Девица меж тем стала нагло ловить тебя, простодушного юношу, всюду. Проникла на свадьбу. Тут я растерялся. Отдал тебе бизнес: контору, клиентов. И дом во Флоренции. А сам живу скромно, на хлебе с водой. Вино позволяю себе только в праздники. Зато содержу здесь твою эту женщину, поскольку в утробе ее мой внучок. Он будет носить наше имя: да Винчи. Ах, чуть не забыл! У тебя есть фамилия?
— А то! — Катерина немного зарделась. — Фамилия есть. Абдуллаева я.
— Какая же это фамилия, Господи!
— Отец, перестань! — попросил его Пьеро.
— Да что «перестань»! Перестану когда-нибудь. Пробьет и мой час. Но поскольку вы оба беспечны, бездумны, одним озабочены: валяться в кровати, задрав ноги кверху, крича, как ослы, от животных восторгов, — я вам заявляю сейчас мою волю. Во-первых, придется расстаться вам, милые. Родины пройдут хорошо: Варенуха еще и тебя принимала, сынок. Она знает дело не хуже, чем лекарь. Пять лет внук мой будет при мне и при матери. Потом он уедет с тобой во Флоренцию. И там ты, сынок, его выведешь в люди. Поскольку, скорее всего, к тому времени меня в этом мире, по счастью, не будет.
— А где же вы будете? — И Катерина, пылая лицом и раздавшейся грудью, взмахнула рукой. — В раю и без вас обойдутся, мне кажется!
Старик помолчал.
— Ох уж этот мне Данте! Испортил народ! Ведь читать-то никто его и не читал. Длинно, нудно. За год не осилишь. А люди боятся. Поверили, что он там был и вернулся. Обманщик. Поэт, одним словом! А скоро, глядишь, и поставят обманщику памятник.
— Не верю я вам, — прошептала она. — Дитя не отдам. Через труп мой отымете.
Взяла Пьеро за руку и положила его пятерню на свой круглый живот.
— Толкается, слышишь?
И оба родителя, счастливо смеясь, стали слушать, как сильно толкается сын их внутри своей матери.
— Ногой, что ли, пнул? — уточнил он.
— А чем же?
— Да полно ребячиться вам! — возмутился сердитый да Винчи. — Даю вам пятнадцать минут попрощаться, и чтобы ты больше сюда не являлся! Иначе наследства лишу, а в контору вернусь прямо завтра! И делай что хочешь. Привел, понимаешь, арабку в семью!
— Я вам не арабка. — Она усмехнулась. — Наш род-то почище, чем ваш. Скота у нас больше. Дороги пошире.
— Ну вот и пасла бы свой скот! — Он, сутулясь, шагнул за порог, стукнул дверью. — Я жду.
Их прощание сохранилось на страницах рукописи. И я привожу его полностью.
«Катерина смотрела прямо перед собой остановившимися глазами.
— Предашь ты меня. — Она всхлипнула тихо.
Но он перебил:
— Ты не знаешь отца. Раз он пригрозил…
— Ах, пустое, пустое! — Она отмахнулась. — На то мы и люди: друг дружке грозить. Другого пугнем, самим легче становится…
— Но я, Катерина, клянусь: никогда… — Он что-то промолвить хотел, но осекся.
Она тяжело подтянулась всем телом, нотариуса обхватила за шею — да так, что огромная шляпа из меха с зеленым велюром упала с затылка — и прямо в глаза прошептала отрывисто:
— Ты помнишь, как сказано про петуха?
— Какого еще петуха?
— Как какого? Ведь Он сказал так: „В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня“. И с нами вот так же случится, мой милый. Ведь люди всегда предают самых близких.
— Но только не я! Катерина, не я! — воскликнул он пылко.
Но снова она усмехнулась той самой, никем еще не превзойденной усмешкой».
Теперь мне придется продолжить самой.
О чем-то она попросила его, и он согласился.
— Конечно! — сказал он, целуя ее. — Конечно, исполню. Какие проблемы?
После его ухода Катерина, оставив все, как было, неубранным, накинула на голову длинный, почти все ее располневшее тело спрятавший платок и, нарочно сгорбившись, чтобы не быть узнанной, заторопилась к Инессе мелкими, заросшими первой травою дорогами.
Глава 7 Монахиня
Никто, ни один на свете человек, не знает того, что произошло в низком, со скошенным потолком и расписными ставнями домике Инессы. Известно только то, что плачущая горько и одновременно благодарно Катерина вышла на крылечко и без сил опустилась на нижнюю ступеньку, прикрывая черным платком распухшее от слез лицо. Следом за ней выпрыгнула маленькая, острогорбая, с седыми волосами и пронзительно синими, не знающими старости глазами Инесса и протянула ей мешочек, остро, но приятно благоухающий сухими травами.
— Как схватки начнутся, так сразу заваривай, — негромко сказала Инесса. — Родится здоровый, родится красивый, не бойся. И ты не помрешь. Проси Богородицу, плачь и проси.
— Скажи мне, Инесса, ведь вот говорили, что сжечь тебя нужно и пепел развеять. А я тебя всем своим сердцем люблю.
— Да что тебе люди! — пропела Инесса. — Мешки с требухой да с костями, и все. Не верь мужикам, Катерина, они хуже баб. Кидаются, псы, в нашу женскую мякоть, грызут да урчат. А после отвалятся, все позабудут. Вот сын твой родится на радость тебе, его береги… Я знаю, что он не из этой породы.
— Боюсь я, Инесса. Отнимут его.
— А спрячешь как следует, так не отнимут. Детей прятать надо и в мир не пускать. Там все — гниль одна. Толстокожие боровы и те благородней людей. Не сравнить!
— А где же мне спрятать его? Все открыто.
— Ищи себе место.
— Так, кроме утробы моей, нету места. Я вот иногда, как закрою глаза, так вижу его, и тебя, и себя в каком-нибудь тихом, затерянном гроте… И так хорошо нам втроем, так спокойно! И смерть не страшна.
— Да где ты здесь грот-то найдешь, Катерина? А смерти не надо бояться. Что смерть? Она нас и спрячет.
— Смерть спрячет? Куда?
— Ну, плоть нашу грешную в землю опустят, и станет она тоже прахом земным. А души вернутся к Нему, Катерина. Чего там бояться? Пугливы уж больно.
Глаза ее вдруг почернели.
— А мы все бежим от нее, все спасаемся! Зовем докторов, деньги платим бездельникам. Как будто хоть час отторгуем себе! Вот так же и я. Сердцем все понимаю, а тоже ведь ушки держу на макушке. Хотела зимой вон в Севилью податься. Хорошее место, продукты дешевые. А после узнала, что всех ведьм в Севилье пожгли до единой. Собрали на площади и говорят: «Пособие будет вам, хлебные карточки, а в третьем квартале квартиры получите». Они как давай бесноваться от счастья! А их на костер и пожгли всех, дурех. Одна Хромоножка Лизетта осталась. Она их и выдала, стерва косая. Теперь ни о чем не прошу, лишь бы жить. Бездомная беженка, сколько мне нужно…
Катерина спрятала мешочек с травами в рукав и, чувствуя нарастающую тяжесть в низу живота, отправилась домой. Дружба с Инессой многому научила ее. Она была одной из немногих, кто знал грустную, однако весьма поучительную историю горбуньи.
Происходившая из весьма обеспеченного семейства маленькая красавица Инесса, будучи восьми лет от роду, перенесла тяжелую болезнь, в результате которой впала в непрерывный глубокий сон. Ни врачи, ни молитвы не помогали. Мать ее, исплакавшая все глаза от вида крепко спящей и ни на что не реагирующей дочери, в конце концов стала сама чахнуть, таять, да и умерла, приклонившись седою своей головою к кроватке ребенка. Отец, сразу заново помолодевший, поспешно женился, родил себе кучу детей, смазливых и смуглых, а к спящей красавице приставил прислужницу, женщину строгую и благочестивую. Началось с того, что эта самая прислужница стала замечать по ночам, что доверенное ей дитя тихо откидывает полог, тихо подымается с кровати и, не раскрывая глаз, осторожно ходит по комнате, бормоча что-то и изредка вскрикивая. Вслушавшись в то, что произносила спящая, прислужница, на беду оказавшаяся грамотной, записала ее слова и на исповеди показала листочки исписанной бумаги своему духовнику.
Духовник так и остолбенел, прочитав следующее: «Если бы Ты был во мне, во мне должна была бы быть такая радость, что я не вынесла бы ее, оставаясь в живых». Или вот такое, например, признание: «Если мне уготован ад, то лучше скорее погрузи меня в эту бездну, но только не оставляй вниманьем Своим». И, наконец, последнее, отчего святой отец едва не лишился рассудка: «Видела я страшные раны Твои, и не телесными глазами я видела их, а чувствовала внутри собственного сердца, и когда душа моя приблизилась к этим ранам, губы ее прикоснулись к ним, и омылась она вся Твоей кровью…»
Испуганный священнослужитель явился в указанный прислужницей дом и долго смотрел на спящего ребенка, длинные ресницы которого отбрасывали голубоватую тень на нежно-фарфоровые щеки, а маленькие, худенькие, как лапки у птенчика, руки были молитвенно сложены на кружевной сорочке. Отец Инессы присутствовал тут же, тщетно пытаясь придать раскормленному и радостному лицу своему духовное выражение.
— Дон Карлос, — промолвил священник. — В вашем достопочтенном жилище находится ангел. Ребенок не просто так спит. Она пребывает в Господе Боге нашем, который, заботясь о ней, неустанно душе ее шлет откровенья Свои.
— Ах, так я и знал! — воскликнул дон Карлос. — Вы мне не поверите, но после свадьбы моей с ее матерью я сразу понял, что это дитя, которое вскоре родится у нас, и будет подобием… Проще сказать, подобием чистого, так сказать, ангела…
И тут он запнулся, поскольку священник сурово взглянул на него.
— Любезный, я вас не просил объяснять духовному сану, что здесь происходит. Забудьте, что этот ребенок — вам дочь. Отдайте ее в монастырь.
— В монастырь! — воскликнул дон Карлос. — Как так в монастырь? Она же не ходит!
— А это неважно, — отрезал священник. — Народ распустился, и вера шатается. А мы явим чудо. Вот эту вот девочку. Поскольку на то, что оно совершилось, была Божья Воля.
— «Оно» — это кто? Извиняюсь, конечно… — Отец растерялся и весь пропотел удушливым потом.
— «Оно» — это чудо. Да вы промокнитесь. Возьмите салфетку, попейте воды. Что с вами, любезный?
— Так вы, что ли, вместе с кроватью возьмете?
— Возьмем и с кроватью. Приставим к ней слуг. Народ допускать будем строго по праздникам. Не всех. Только не согрешивших в теченье трех месяцев. И этим проложим пути к исправлению.
— Прекрасная мысль! Бесподобная мысль! Вот так, значит, всех постепенно исправим… А то ведь одни развлеченья, корриды… А платья какие пошли! Все наружу! — Дон Карлос с размаху обтерся манжетой.
На следующее утро кровать со спящей Инессой была перевезена в помещение монастыря, и сразу же начались непредвиденные события. Во-первых, Инесса проснулась. Она не проснулась до конца, но стала шептать, не раскрывая синих глаз своих, настаивая с горечью на том, что душа ее возвращается в тело и нет больше сил воспротивиться этому. Потом она села на скромной кровати, себя самою обхватила за плечи и горько расплакалась, глаз не раскрывши. Сама настоятельница, женщина с большими оранжевыми веснушками и густыми волосами, еле-еле помещавшимися под монашеским колпаком, прибежала из своей кельи, тяжело ступая на пятки и распространяя вокруг себя запах недавно выпитого ею свежего пива.
— Что здесь происходит с ребенком? — спросила она.
Испуганные послушницы ответили, что девочка плачет, не переставая, и жалуется, что душе ее бедной пора возвращаться в ненужное тело.
— Оно, может, даже и лучше, — подумав, ответила настоятельница. — И пусть возвращается. А то нам паломники эти здесь все разнесут.
Она грубовато погладила Инессу по голове и велела послушницам накормить ее хотя бы даже и силой. Инесса слегка разомкнула ресницы, поела похлебки с горохом и тыквой, умяла кусок пирога с дикой грушей и снова уснула, но только не прежним, мистическим сном, а детским, простым и спокойным. С этой минуты закончилось то странное состояние, в котором она пребывала без малого семь лет. Очень хрупкая девушка с пепельной косой, аккуратно закрученной на затылке, решила навсегда остаться в стенах монастыря и всецело посвятить себя Богу. Нельзя не признать, что душа ее, хотя и вернувшаяся в тело, продолжала страстно стремиться к Христу, которого она иногда по-прежнему видела во сне. Она знала, что никого из живых людей не сможет полюбить той восторженной, всю ее прожигающей любовью, которая есть любовь к Божьему Сыну, принявшему смерть на кресте. Нравы монастыря приводили ее в ужас. Вместо того чтобы смиренно молиться и ограничивать себя во всех мирских желаниях, послушницы опаздывали на утреннюю службу, заводили у себя в кельях маленьких собачек, а одна из них — очень высокого происхождения девица, поступившая в монастырь исключительно для того, чтобы досадить семье, — завела капризную обезьянку, похожую на нее саму до такой степени, что их иногда принимали за сестер.
Но это-то все полбеды. Настоящая беда заключалась в том, что монахини не только не избегали мужчин, под видом которых проклятые бесы стремились столкнуть их в пучину греха, но очень, напротив, искали возможности с проклятыми бесами где-нибудь встретиться. Случались, конечно, ужасные вещи. К примеру, беременность. Это несчастье всегда прерывалось кровавейшим образом. В густых плотных сумерках — лишь погружались во дрему поля и леса — появлялась в прихожей засушенная, с сизым, грубым лицом, весьма неприятная женщина. В сумке ее что-то звякало жалостно.
Настоятельница всегда сама встречала ее в этой прихожей, гневно горя глазами, вела за собой в келью, где простоволосая, в грубой сорочке, ждала наказания грешница. Дверь плотно притворялась, всем остальным было велено стоять на коленях и просить Господа за невинно убиваемую душу. Молились громко, чтобы заглушить резкие вскрики и мычание, доносящиеся из-за закрытой двери, а через полчаса выходила, пряча глаза, палачиха с окровавленными пальцами, и мать-настоятельница сама поливала ей из кувшина на эти кровавые пальцы.
За стенами монастыря был глубокий черный ров, заросший крапивой. Там, как говорили, водились и змеи, укусы которых смертельны. И там же валялись куски сгнивших ножек, куски сгнивших ручек, головки с пустыми глазницами. Деточки, невинные души, бессмертные ангелы…
О дальнейшей судьбе монахини весьма подробно сказано в «Садах небесных корней», так что я с большим облегчением возвращаюсь к скромной роли рядовой переписчицы.
«Старик Иннокентий Пизанский, капеллан, известный своим изумлявшим современников голосом, в котором сочетались мужское и женское начала, так что он мог с легкостью переходить от бархатного сопрано Марии Каллас к раскатистому басу Лючано Паваротти, скончался в ночь перед Рождеством. Стоял адский холод: три градуса ниже нуля — и ангелы сразу закутали душу своим серебрящимся пухом, которым богаты их крылья, помчались с ней вместе к Престолу Всевышнего.
Грустно прошли праздничные дни в стенах той скромной обители, в которой коротала свои дни Инесса. Бывало, придет Иннокентий Пизанский, седой старичок неказистый, к заутрене, расставит монахинь по росту и голосу, и тут начинался хорал за хоралом, хорал за хоралом! За окнами птицы смолкали от зависти. И вот: схоронили, поплакали вдосталь, хотя настоятельница и бранила: мол, он теперь там, где ему быть положено. Жил чисто, поэтому умер внезапно, нисколько не мучился, не испугался, а нам с вами все предстоит, и слезами не многого, девы, добьетесь, учтите.
Отстояв, как положено, все службы — утреннюю, в два часа утра, дневную — в шесть часов утра и вечернюю — в восемь часов вечера, тоскующие монахини пытались развеселить себя как могли. На радость девушкам выпал густой и сухой снег, так красиво вспыхивающий под лучами солнца, что трудно было удержаться от изумления при виде его красоты. Живущий в каморке при бане Андрюха, в обязанности которого входило к тому же привозить в монастырь бочки с водой из хрустальной чистоты незамерзающего источника, за час справил розвальни, выложил их хрустящей соломой, рогожкой прикрыл и, крикнув по-польски: „Цож, дывчины, кочмэ! (Ну, девки, поехали!)“, уселся на крепкие сани и съехал с горы, хохоча так задорно, что горы ответили эхом. Сперва нерешительно, а вскоре и смело монахини одна за другой подходили к саням, усаживались на приятно покалывающую их голые ноги солому и, ахая, катились по снегу, как будто они совсем не невесты Христовы, а дети, к тому же крестьянские дети, простецкие.
И тут появился мужчина. Сперва он был темным предметом в густом сверкающем снеге. Никто — среди смеха, веселья и оханья — его не заметил. Но вскоре предмет этот ожил. Тогда они и разглядели, что это — мужчина, весьма молодой, интересный собою, хотя чересчур горбоносый на строгий монашеский вкус. Ему не понравилось то, что монахини катаются в санках с лохматым Андрюхой, и он очень сухо спросил на латыни, где можно застать в этот час настоятельницу. Переглянувшись, они вытолкнули вперед хрупкую Инессу, которая в совершенстве владела многими языками, включая латынь. Случилось же это так необъяснимо, что и пересказывать даже неловко. Проспав восемь лет, как мы знаем, дитя проснулось не только девицею взрослой, но крупным ученым-лингвистом, который любой из земных языков знал так, будто это язык его матери.
— Et quiescit (Она отдыхает), — сказала Инесса.
— Могу я увидеть ее? — спросил он язвительно на диалекте испанских моравов.
Но тут уж в беседу включились все сразу, и словно прорвался слой толстого льда: монахини, перебивая друг друга, взялись объяснять, что и как, но при этом еще умудрялись и глазки состроить.
— Рассердится матушка, если разбудят! Они, если их разбудить, всегда злые. А после добреют. Как пива попьют да и вслух почитают святую молитву, так просто добрей, чем они, не бывает.
— Что вы говорите? — вскричала Инесса. — Они всегда добрые! Сон же им нужен, поскольку во сне люди к Богу стремятся, и Он к ним во снах даже может явиться.
— Ах, да вы не слушайте эту сестру! — монахини вспыхнули в негодовании. — Сама восемь лет проспала, лежебока, теперь всех готова в кровать уложить!
Горбоносый путник, до бровей занесенный снегом, с интересом посмотрел на худенькую Инессу и опять перешел на латынь, явно стремясь к тому, чтобы остальные не поняли их разговора.
— Давно вы в обители?
— Нет, я недавно.
— А что это вы столько спали, сестра? Одна или с кем?
Наивная девушка, и не поняв намека, скабрезного и неприличного, ответила с пылкою детской открытостью:
— Одна, разумеется! Матушка умерли. А батюшка сразу женились. Господь меня в сон погрузил.
— Интере-е-есно, — сказал он задумчиво.
— А вы, извиняюсь, откуда идете? — спросила она.
— Сначала монахом был в монастыре, а после скитался по свету. Учился. Я врач, хотя курса еще не закончил. Особую склонность питаю к различным химическим опытам. Вы не пугайтесь! Наука такая есть. И простирает она свои руки к делам человеческим. У вас капеллан здесь скончался, я слышал?
— Скончался, — она погрустнела.
— Сказали мне в монастыре, чтобы я себя предложил вам сюда в музыканты. Играю свободно на всех инструментах. Пою, но немного, сорвал себе связки. Холодного пива попил после бани.
— Мы тоже пьем пиво, — сказала она. — На завтрак у нас полагается пиво и хлебец ржаной. Мы сами печем. И мед сами делаем. Здесь хорошо. Хотя сестры все-таки очень скучают.
— А вы? — И он впился глазами в Инессу.
— Ах, что вы! Как можно скучать? Ведь молитва должна заменять собой все! Я ночью, бывает, проснусь от тревоги, окошко скорей отворю, чтобы ангелы меня в темноте разглядели, и сразу молиться! Молюсь и молюсь. И так хорошо на душе, так отрадно!»
На этом слове, к моему огорчению, сведения о жизни Инессы в манускрипте обрываются, поэтому я закончу рассказ таким образом, который представляется мне наиболее логичным.
Горбоносый врач, не закончивший курса ни в одном университете, однако утверждавший, что брал уроки химии и медицины у самого Хьюго Луко, который умел производить операции на теле, предварительно усыпив больного с помощью так называемой «снотворной губки», секрета которой он никому не выдавал и только перед самой смертью признался, что в составе усыпляющих средств главную роль играла обыкновенная лесная ежевика, — так вот: горбоносый этот врач, получивши должность капеллана, действительно поселился в монастыре, но не там, разумеется, где жили монахини, а вместе с Андрюхой, в каморке Андрюхиной, где было всегда так натоплено сильно, что даже паук, угнездившийся в бане, заполз как-то раз и, не выдержав жару, свалился и умер. Туда и дорога.
Слова синеглазой румяной монахини о том, что она открывает окошко, желая быть сразу замеченной ангелами, ему так понравились, что после святок он тихо залез к ней в окошко и живо в объятиях сжал ее так, что девушка чуть было не померла. Поначалу она, как водится, приняла его за дьявола и хотела прогнать с помощью крестного знаменья, но вскоре узнала врача и толкнула так сильно в ключицу, как только смогла. Напрасно! Он взялся ее целовать, и монахиня, которая не представляла себе, что кто-нибудь, с запахом пота, похожим на запах сгоревшего хлеба, вдруг станет ее целовать прямо в губы, вдруг вся обессилела и присмирела. И ведь до чего же бывают коварны проклятые бесы! Не зря настоятельница велела, чтоб спали все вместе и не раздевались! Они все и спали на досках в огромной холодной прихожей, в пальто и ботинках. Поскольку им всем она не доверяла. А этой доверила. Вот и пожалуйста.
Катерина с первых дней привыкла во всем советоваться с Инессой, чувствуя, что та, женщина немолодая, испытавшая в жизни и нужду, и немыслимое богатство (о чем пойдет речь!), говорит с ней как с ровней и словно глядит в ее душу.
— Ты добрая, чистая, горя хлебнула, — шептала Инесса. — Тебя выбрал Бог. И сына тебе Он пошлет не такого, какого другим посылает. Ты жди.
Задушевные их беседы обычно происходили вечерами в маленьком, слегка покосившемся домике Инессы, и начались они вскоре после того, как Катерина поселилась у меховщика.
— Скажи мне, Инесса, — немного смущаясь и глядя, как ловкие руки подруги раскатывают бело-снежное тесто, просила ее Катерина. — Он ведь соблазнил тебя, этот доктор, а ты на него зла не держишь. Ведь так?
— За что же мне зло на него вдруг держать? За то, что он, бедный, меня возжелал? Так ведь я сама вся томилась. Мы, женщины, — животные, раненные в живот.
— Ох, что ты, Инесса! В какой там живот?
— Один живот, милочка! А вот ты ответь: любовь эту подлую как узнают?
— Не знаю я как.
— По щели, и все.
— Какой-такой щели?
— Которая вдоль.
— Чего она вдоль?
— Всего тела, милочек.
Многие слова Инессы звучали загадочно, но самой загадочной была та часть ее жизни, которая началась после монастыря. Тут сама Инесса начинала как-то елозить, проглатывать слова и не на все вопросы отвечала. Если верить ее рассказу, то горбоносый врачеватель еще раз одиннадцать влез к ней в окошко, открытое не для того, чтобы ангелы ее разглядели в густой темноте. И вдруг он исчез. Дойдя до этого момента, Инесса всякий раз начинала злобно плакать и даже слегка скрежетала зубами. По ее версии выходило, что он исчез только потому, что мать-настоятельница начала косо посматривать на согрешившую монахиню и вскоре могла наказать по всей строгости.
— А что же они могли сделать с тобой?
— Схватили бы, голую, дали бы плетку. Потом на бревно, на мороз. И сиди. А как начнет колокол бить, так ты плеткой себя и стегай по спине. Да крепко стегай, чтоб рубцы оставались!
— И сколько стегать?
— Ну, уж это как скажут. Одна настоятельница и решает. А чаще всего у самой этой грешницы как будто рассудок мутится. Стегает она и кричит от восторга.
— Кричит? Что кричит?
— Никогда не поверишь! «Не больно! Не больно! Сильнее хочу!» Хохочет при этом и рожи всем строит.
Катерина осеняла себя размашистым крестом. Казалось, что у нее нет ни сил, ни охоты расспрашивать дальше, но молчание продолжалось недолго:
— Так он потому и сбежал? Спас тебя?
Тут Инесса отводила глаза и так яростно начинала месить свое тесто, словно это была жирная спина неизвестного врага, который наконец-то оказался у нее в руках. При этом она говорила негромко и как-то нарочно рассказ замедляла.
— Я через три дня сама сбежала. И так объясняю тебе, Катерина: если женщину один раз на плотскую любовь соблазнить — один всего раз, — она этим ядом на всю жизнь отравлена. И кровь в ее теле отравлена. Уж лучше такую совсем умертвить! Сбежала я, до мужиков дорвалась!
— Не стыдно ли было тебе? Ты — монахиня! Ведь это же грех!
— Грех, конечно. А я ведь вся грешная. Вот ты ко мне ластишься, милочка, льнешь, а хоть бы спросила: «Инесса, за что тебя ведьмой считают?»
— Какая ты ведьма!
— А кто меня знает? Люблю черноту. И ночь почернее, и черную воду. Зачем я все это люблю? Кто мне скажет? А знаешь ли ты, Катерина: однажды пришли к Богу ангелы, и среди ангелов пришел сатана?
— И что? — Катерина всплеснула руками.
— А то, что спросил тогда Бог сатану, заметил ли он на земле человека, Иовом зовут, непорочного вовсе, а главное, богобоязненного? И так отвечал сатана: «Разве даром так богобоязнен Иов?» Поняла?
— И что потом было?
— А стал сатана насылать на Иова беду за бедой. Все погибло. Стада его, дети его, рухнул дом. А он не отрекся от Господа Бога.
— Но ты здесь, Инесса, при чем?
— А при том. Когда погрузилась я в неизъяснимое, заснула по воле Господней, так мне же одно удовольствие было свои сновиденья глядеть, восхищаться! И в монастыре тоже весело было молиться да кротостью радовать Господа! А как час соблазна настал да как плоть во мне загорелась, так бросила я и молитвы свои, и всю благость позабыла! Попала я, глупая, с жадным нутром, в конце концов, в город Венецию. Бывала ты там?
— Никогда не была.
— Вот так и держись! Обходи стороной! Я, если узнаю, что нету ее, водой затопило проклятые площади, дворцы ее мерзкие, мостики эти, я только тогда и вздохну с облегчением!
— Да чем же Венеция так виновата?
— А тем, что полна она блудом, как чаша на праздник полна виноградом. И как налетают на гроздья воробышки, один за другим, и клюют, и дерутся, так и человеки во блуде своем все ищут, где слаще, про Бога не помнят. Нет дома без блуда в проклятой Венеции, семьи ни одной нет без прелюбодейства! А девушки ихние! Только стемнеет, вуаль на лицо, а сама — за ворота!
— Скажи мне, Инесса, откуда в тебе такие глубокие знания жизни? Про что ни спрошу — у тебя есть ответ…
— Так это теперь. Когда горб на мне вырос и щеки ввалились. А раньше, пока не сбежала, так разве такой я была, как теперь?
Монахиня вся передернулась, словно ей вспомнилось что-то ужасное, стыдное.
— Откудова ты убежала, Инесса? Из монастыря или уж из Венеции?
— Да я отовсюду сбегала, милочек, — вздохнула Инесса. — Пока не огрела судьба по башке. А то ведь все гладила да все ласкала. А тут, понимаешь, другой поворот! Ну, первый раз, значит, из монастыря. Одна на всем свете. Без крова, без денег. Вернуться к отцу не хотела. Куда? Они уж отвыкли, детей полон дом. Зашла по дороге в какой-то трактир. Хозяйка как глазом стрельнет на меня! «Откуда ты, дева?» Ну, я солгала. Сказала, что осиротела, скитаюсь. Она руки вытерла белым передником и спрашивает, не голодна ли я часом. «Конечно, — шепчу, — голодна». Смотрю, подает мне кусок пирога, потом соскоблила остатки рагу с какой-то тарелки. Я сразу все съела. «Пойдем, — говорит, — я помою тебя. Да платье тебе подарю, от дочки умершей осталось». Велела раздеться совсем догола и всю осмотрела. «Да ты, — говорит, — аппетитная курочка». И правда, несет мне хорошее платье. Зеленое с синим. «Надень, — говорит. — И волосы спрячь под косынку. К нам вечером гости заедут. Смотри, веди себя так, чтобы всем им понравиться». Приехало трое господ. Один — волосатый, как черт в преисподней, до глаз весь зарос, другой — жирный, розовый, как поросенок, а третий — весь сладкий, кудрявый, слюнявый. «Эге, — говорят, — ну, спасибо, Севилья. Не зря, — говорят, — позвала!» Стали есть. Ягненка зажарили им. Этот, третий, схватил меня и посадил на колени. «Давай, — говорит, — вместе кушать, красавица. Бери из тарелки моей, пей вино! Потом потанцуем с тобой», — говорит. Сижу ни жива ни мертва. Поели и кинули жребий. Я сразу-то не поняла, что за жребий. А это они на меня, Катерина. Кому со мной первому в спальню идти. И выпало, что волосатому. Дружки ему вслед говорят: «Ты там не возись слишком долго, приятель. Раз-два — и готово! А то время позднее, спать всем охота». Заржал волосатый, как конь на конюшне. Схватил меня за руку. «Не прикасайся, — кричу. — Я ведь дева, монахиня!» Какая я дева-то после всего? Втолкнул меня в спальню и стал раздевать. Раздел догола, бросил на пол: «Лежи!» Сам сел мне на грудь и сует прямо в губы свой корень заросший. «Давай!» — говорит. А дальше не помню, что было. Очнулась: лежу на какой-то траве, вся холодная, покрыта росой. Видно, ангелы Божии всю ночь на меня лили горькие слезы.
— Как ты на траве очутилась?
— Не знаю. Наверное, снова я так же заснула, как в детстве, без памяти. Конечно, они напугались. Одели меня да и сразу свезли подальше, за речку. И бросили там. Помру так помру, а они ни при чем. Но я поднялась и пошла. Что рассказывать! Дошла, наконец, до Венеции. Увидел меня знаменитый художник. Богатый! За каждый рисуночек деньги платили, такие большие, что год проживешь, еще и останется. Взял меня в дом, где жили такие же девки, как я. Он всех содержал, спал со всеми подряд, а то вдруг возьмет сразу двух, сам лежит, закрывши глаза, а девки ласкают, целуют, щекочут.
— И ты с ним жила?
— Ну а как же не жить? Он нас одевал, как принцесс. Бывало, с утра говорит нам: садитесь к окну, грудь наружу, а ноги спустите на улицу.
— Это зачем?
— А мода пошла на такую любовь, где только мужчины. Они и целуются, и обнимаются, и ходят впритирку, и все остальное.
— О Господи Боже!
— Тогда и велели продажным всем девкам мужчин соблазнять. Поедешь в гондоле, так голую грудь не смей прикрывать, пусть глядит кто захочет, а юбки свои подымай до колен, показывай все, что под юбками прячешь. А уж как душились! Кареты душили! Да и лошадей заодно. Выльют прямо бутылку духов в лошадиную гриву, так запах такой шел, что не продохнуть!
Инесса всплеснула руками и плюнула с ожесточеньем. Слюна, упавши на каменный пол, стала розовой от яркой полоски заката в окне.
— Потом я ушла от художника. Выбрала себе двух студентов из знатных семейств. У каждого было по несколько женщин. Привыкла к тому, что меня все хотят. Не брезговала ни собой, ни другими. А думала только о плотском. И если меня пару дней не касался какой-то мужчина, я словно дурела. Одни марципаны с цукатами кушала. А как только ноги раздвину, так сразу какой-то покой наступал. И весело мне становилось, ох! Весело!
— И сколько же лет ты жила так, Инесса?
— Пятнадцать, не меньше.
— И не увядала?
— А деньги на что? Два раза в неделю — молочные ванны, египетские золотые повязки… Да много чего. Денег я не жалела.
Не глава, но небольшое пояснение, необходимое для того, чтобы поставить точку над i
В «Садах небесных корней» прямо сказано, что Катерина свела дружбу с Инессой через пару недель после того, как очутилась в Италии. Горбунья очень внимательно присматривалась к светловолосой чужестранке, которая подолгу стояла на коленях перед скорбной Богоматерью, и, в конце концов, сама заговорила с ней. Она и предложила Катерине травы, которые помогли юной женщине так и не забеременеть от ее сожителя, того безымянного меховщика, который любил Катерину упрямой и, можно сказать, почти скотской любовью. Безудержная нежность охватывала Инессу всякий раз, когда она встречалась с Катериной. Это была почти материнская нежность, поскольку зачатки материнского чувства таятся в любой, даже самой невзрачной, завистливой, жадной, а то даже глупой, и даже продажной, и суетной женщине. Пускай ей самой никогда не родить, но чрево ее словно бы наполняется, меняется поступь, улыбка, глаза: всегда были серыми, ан — голубые.
Узнав, что Катерина сбежала и скрывается неизвестно где, Инесса начала тревожиться, не спать ночами, наконец, не выдержала и через какое-то время послала Катерине почтового голубя. Белоснежный голубь долго кружил над виноградниками, вдоль и поперек исколесил всю реку, заглядывал розовыми глазами в высокие окна домов и на исходе четвертой недели нашел Катерину. Прочитав крошечную записочку, вынутую из его клюва, Катерина расплакалась.
«Милочек! — писала Инесса. — Скучаю без вас. Нету сил. Был давеча снег, только быстро растаял. Везде ручейки, скоро солнышко выглянет. Но даже и солнышку, даже и птичкам не справиться с грустью моей и тоскою».
Надо заметить, однако, что Инесса, обладая многими замечательными качествами, обладала и большим литературным талантом. Ей было совсем нетрудно перевернуть душу человека и вызвать в глазах его жгучие слезы одним только словом. Катерина, дитя волевого красавца отца и матери, страстной славянки, вспомнила то добро, которое она видела от Инессы, пока жила с меховщиком, и ахнула громко от собственной черствости. Всхлипывая, она с ладони покормила голубя крошками недавно выпеченного хлеба. Он быстро потерся пушистым лицом о шелковый локоть ее и взглядом спросил, что ему передать заждавшейся, нетерпеливой Инессе.
— Сейчас напишу, подожди.
Конечно, ей было бы проще ответить на это письмо по-арабски, но вежливая Катерина, наморщив высокий свой лоб, написала Инессе: «Arrivera il giorno dopo domani» (Приду послезавтра — итал.). Пушистый посланец раскрыл свои крылья, как будто хотел заключить Катерину в объятия дружбы и нежной любви, сжал в клюве листочек и, вспыхнув крылом под розовым солнцем, взлетел прямо в небо и скрылся из глаз. Одевшись попроще, Катерина спрятала в глубокий карман темной юбки монету, взяла с собой флягу с водой, помолилась и, перекрестившись, отправилась в путь. Ей было страшновато идти обратно в те места, где жил ее прежний любовник, но признательность к Инессе пересиливала страх, и, кроме того, ей не терпелось сообщить колдунье великую новость. Ни на секунду не сомневалась моя героиня в том, что ее беременность есть новость великая, и радость, что скоро родит она сына, была, может быть, отголоском той радости, которую в сердце питала Мария, молоденькая боязливая девушка, узнав, что она станет матерью Бога.
В манускрипте, найденном в пещере и, к счастью, попавшем в мои руки, сказано об этом весьма витиевато:
«Ознакомившись с жизнью многострадальной, но стойкой матери его Катерины, мы склоняемся к тому, чтобы смиренно вспомнить те слова, которыми открывается чтение Псалтыри, ибо за этими словами проглядываем ту правду, которая ускользнет от внимания многочисленных бытописателей».
Не относя себя к числу так называемых «бытописателей», поскольку мои интересы духовны всегда, я рискну повторить чудесный пассаж, восхитивший меня еще в раннем детстве:
«И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он ни делает, успеет».
Ошибемся ли мы, предположив, что Катерина, чья интуиция была намного выше, чем у любой средней женщины, с самого первого дня беременности почувствовала, что дитя, которое в ней созревает, не будет ни славным торговцем, ни пекарем, и ни дровосеком, и ни рыболовом, но будет алмазом, сверкнувшим во тьме человеческой копоти?
Глава 8, многое объясняющая Голубь
Придирчивый читатель уже, вероятно, заметил, что мое повествование несколько покачивается во времени и в пространстве, как та самая каравелла, на которой привезли Катерину из Константинополя, покачивалась на волнах у причала. Происходит это потому, что вся наша жизнь не линейна, тем более — не целенаправленна, и если всмотреться в нее повнимательней, так станет заметно, как то возвращается судьба к человеку, а то забегает вперед, а бывает, что, словно опомнившись, ползет торопливо в далекое прошлое и там ищет соков себе и свои же пытается выпутать тонкие корни из мерзлой, давно затвердевшей земли. К тому же рожает кого-то на радость и тут же зачем-то хоронит поспешно того, кого только вчера родила, и снова качается то в темноте, а то в ослепительном блеске созвездий. То влево, то вправо, то низко к земле, то вверх, высоко, и закон ей не писан. Все это прекрасно заметил поэт в одном своем стихотворении.
Но есть и еще одна, менее философская причина, по которой именно так строится мое повествование. Я чувствую себя по рукам и ногам повязанной с тем манускриптом, который достался мне по́том и кровью, за ним и слежу я, как лагерный пес следит за своим заключенным. Старинная рукопись эта составлена из разных кусков и отрывков, и многие погибли во время пожара. Вчера ровно в полночь я вдруг догадалась, что в манускрипте описывается не одно посещение Инессы Катериною, а два. Причем первое произошло осенью, а второе в начале апреля, почти накануне рождения сына. И, стало быть, рукопись и не заметила истекших полгода, и я вместе с нею. Сперва в ней описано то, что случилось, когда Пьеро вдруг появился в деревне и ночь всю провел с Катериной, заметив, что та пополнела. А после того, как отец их застукал и Пьеро уехал обратно, она, растерянная, поспешила к Инессе. И та ей опять же дала свои травки, сказав, что ребенок родится здоровым. Однако кусок, где рассказано вкратце о жизни отца Леонардо, женатого на девушке из рода древних Беррини, пропущен в том месте, где должен был быть, но вставлен туда, где совсем неуместен. Вы видите сами, насколько мне трудно? Совсем я запуталась: сколько же раз она посещала Инессу? Два раза? А может быть, три? Короче, сейчас я решила не мучиться, и раз я иду по следам древней рукописи, которую не проверяли ни разу и дат в ней никто даже не уточнял, то пусть и в моем этом тексте останется покачиванье на волнах каравеллы, тем более это движение очень похоже на всю нашу жизнь.
P. S. Многие, наверное, начнут негодовать, что, заполучив бесценный документ, я не обратилась сразу же в Институт какой-нибудь Археологии или в Гарвардский Научный Центр по охране исторических памятников, попросив распутать все узлы и привести в порядок отсутствующие факты. На это отвечу. Во-первых, не стоит меня укорять. Не вы же нашли эту рукопись, правда? Не вы ободрали все руки и ноги, пока продирались сквозь дебри пещеры? А кроме того, если я сообщила бы, что располагаю такой драгоценностью, кто даст мне гарантию, что государство не станет вдруг претендовать на нее? А вот уж к кому я всегда недоверчива, так это, простите меня, к государству.
Итак, она отправилась в путь, готовая на то, чтобы переночевать в чьем-нибудь густом винограднике, поскольку горький опыт научил ее не останавливаться ни в гостиницах, ни на постоялых дворах, где может случиться такое, что даже во сне не приснится. Солнце только что поднялось на свое небесное место, и вся осветилась земля: и растения, и каждая тварь в пожелтевшей траве, и каждая рыба в глухом водоеме, который глухим только кажется, ибо и он до глубин прогревается солнцем. Не прошла она и ста шагов, как навстречу ей попался старик, вяло погоняющий палкой грустноглазого осла. На осла была навьючена корзина с желтыми, зелеными и красными овощами, которые казались выточенными из камня, настолько круглы были и совершенны.
— Здорово, молодка, — сказал ей старик.
— Здорово, — сказала она, чуть смутившись.
— К ведунье идешь? — И старик ястребиным внимательным глазом взглянул на нее из-под войлочной шляпы.
— Тебе что за дело? — вспылила она с восточной горячностью.
— Да путь-то не близок, — заметил старик.
— А то я не знаю!
— Ты не горячись. Садись на осла моего — и вперед. Доедешь до завтра.
Она так и вспыхнула.
— А ты как же, дедушка?
— Кто тебе дедушка? — спросил он сердито. — Нашлась тоже внучка!
Она поняла, что шутить с ним не стоит.
— А как я осла-то тебе возвращу?
— Осел меня сам, когда надо, отыщет. Давай, залезай на осла, Катерина.
— Ты даже и имя мое уже знаешь?
— Ефремушка, — мягко промолвил старик, погладив осла по затылку. — Il mio oro (мой золотой). Свези эту девочку знаешь куда? — И он прошептал что-то в ухо покорного зверя. — Садись, Катерина. Не трать драгоценного времени, слышишь? Дни стали короче, а ночи длиннее.
И вдруг она вспомнила! Море, закат. Огромная туча над самой кормою, гремящая цепь на обоих запястьях, натертых до крови.
— Постой! Это ты?
— Это я. — И он скорчил смешную гримасу. — А ты не узнала? Проведать пришел. Взглянуть, как и что. Дитя твое мы бережем, Катерина. Такого второго на свете не будет.
Поставив корзину с плодами на землю, он долго смотрел, как она удалялась: высокая, статная, светловолосая, сидящая, как королева на троне, на этом потертом, скрипящем седле.
«Пусть, — думала Катерина, в последний раз оглянувшись на странного старика, — пусть даже я не понимаю всего, но главное я сердцем знаю: мой сын зачат от любимого. И значит, что этот любимый сейчас не где-то там ходит-гуляет, а он ведь тоже во мне. Да иначе-то как? Пусть даже он и обвенчался с глазастой, нисколько мне не интересной особой. И зря она так завернула на темечке свои эти рыжие косы, что стала похожа и в профиль, и в фас на овцу!»
Горечь, однако, не покидала ее, поскольку Катерина была не только умна, но подозрительна, вспыльчива, горяча и так могла грызть себя, что даже белка, грызущая крепкий орех с той усидчивостью, с которой животное, проголодавшись, грызет и орехи, и корни, и кости, — так вот: даже белка орех не грызет так остервенело, как наша красавица саму себя грызла. Ах, ревность намного страшнее любви. Сначала лизнет — вроде и не почувствуешь, потом вдруг набросится и как давай трепать тебя всеми своими зубами! И, главное, не отпускает. Ты просишь, хрипишь, выкуп в нос ей суешь — напрасно, напрасно. Уж если попался… Она и умрет тоже вместе с тобой, и ляжете кротко в одну с ней могилку.
«По примеру Инессы, — говорится в манускрипте, — Катерина послала голубя во Флоренцию, в дом молодого, недавно приступившего к своим обязанностям нотариуса. Голубь застал новобрачную чету в постели, когда Пьеро, только что освободившись из объятий супруги, отвернулся от нее, и огорченные, бессвязные обрывки мыслей заполнили его голову, как поднявшееся тесто заполняет собою деревянный чан, в который его поместили.
„Отчего так случилось, — думал Пьеро, — что мне не нужны эти робкие ласки? Вот я принимаю в ладони свои прелестную грудь Альбиеры, и что? Она же, как шелк и как атлас, на ощупь! Но мне наплевать! Отчего это так? А у Катерины тяжелые груди, как будто отлитые в жаркой плавильне, и волосы в самом низу живота — густые и цветом как чистое золото! Возьмешь, разведешь их по разные стороны, а там — словно астры, горячие, мокрые! Да, пусть она нищая, пусть хоть бродяга, но только она мне нужна была в жены, а все остальные совсем ни к чему!“
В эту минуту белоснежный голубь стукнул клювом в окно, только что ярко, до ослепительного блеска, вымытого служанкой. (Весьма состоятельные люди могли позволить себе такое баловство, как высокие, с витражами, окна. Не думайте, кстати, что их занавешивали. Зачем красоту закрывать?)
Пьеро хотел отогнать голубя, который — не дай Бог — разбил бы окно, но голубь взглянул на него и насупился. Тут молодой нотариус заметил, что из сизого с золотистым пятном клюва торчит кусочек бумаги. Он воровски оглянулся на спящую Альбиеру, которая выпростала из-под шелкового одеяла крошечную, как у младенца, ногу, и сделал голубю знак, чтобы тот перелетел на третий этаж, где у нотариуса располагался его кабинет, заваленный книгами и документами. Голубь понятливо кивнул и, взмахнув крыльями, взмыл вверх, но тут Альбиера высунула вторую ногу, еще, может, даже изящней, чем первая, и широко открыла светлые, удлиненные к вискам глаза.
— Buona cara mattina, — застенчиво произнесла она бархатистым со сна голоском. — Доброе утро, миленький.
— Buona, buona! — рассеянно отозвался муж, с досадой взглянув на нее.
— Мой дорогой господин куда-то торопится? — продолжала она, нечуткая, как все выросшие в богатстве, избалованные люди. — У него нет секунды для своей лисички?
— Альбиера! — Пьеро впервые повысил голос. — Нельзя думать только о себе! Кроме этого ежедневного кувырканья в постели, я должен позаботиться о том, чтобы обеспечить семью!
Глаза новобрачной застлало слезами, и цвет их стал красным, как кровь.
— Я знаю, что ты никогда не любил меня! — Она изо всей силы стукнула кулачком по взбитой по-душке. — Отправь меня к папе и маме обратно, отдай в монастырь, но нельзя же так мучить!
— Dio per questo! Господи, за что! — проскрежетал зубами Пьеро, но природная мягкость души и прекрасное образование, полученное за границей, не позволили ему плюнуть на все и броситься на третий этаж, где голубь, наверное, ждал терпеливо. Он вернулся обратно к Альбиере, встал на колени возле пышного супружеского ложа и поцеловал младенчески маленькую ножку.
— Скажи, что ты любишь меня, — Альбиера все шмыгала носом.
— А то! Обожаю! — уныло ответил он ей.
— Ой, не врешь ли? — Она заблестела глазами. — А как вот насчет доказать?
— Что? Опять доказать? Работа-то как же?
— Il lavoro non en lupo. Работа не волк, — объяснила она.
И он подчинился. Да, он подчинился. Поскольку всегда, во всех цивилизациях — и даже в Башкирии, даже в Перу — мужчины страшатся скандалов и слез.
Когда, наконец, Пьеро освободился из плена ее крепких ручек и ножек, то голубя не было. Ни на каком из трех этажей его дома. Нигде. Тогда он решил от тоски прогуляться и вышел на площадь Синьории. Вот тут на плечо его и опустилась ученая птица».
Но дальше опять обгорело, и я сама продолжаю. А если бы голубь сей не долетел? Положим, пришла бы гроза, закрутила его в небесах да и бросила наземь, на плиты какой-нибудь площади, а? Но он долетел. И, мягко журча всей утробой своей, раскрыл острый клюв, чтобы Пьеро мог вынуть кусочек бумаги. Дождался, пока тот прочтет, побледнеет, зальется слезами, смахнет эти слезы, чтобы не заметили их шалопаи, гулявшие рядом, и, лишь убедившись, что выполнил миссию, взмыл в небеса и там растворился.
Пьеро сжал записочку в кулаке, насквозь пропотевшем от сильных волнений, и начал продумывать, что ему делать. Катерина написала всего несколько слов, но сила любви отворила ему еще один глаз, уже третий по счету, и он разглядел этим глазом слова, которых в короткой записочке не было. «Люблю, жду, надеюсь, — писала она. — Найди меня, сердце. Я здесь». Он понял, что «здесь» — это город, в котором родился он сам, и что властный да Винчи, родитель его, приютил Катерину. Однако он знал, что родитель его, когда ему лгут или что-то скрывают, способен на гнев не всегда справедливый.
И здесь, во Флоренции, было препятствие: жена Альбиера. Если он только заикнется, что ему необходимо отлучиться по делам, она немедленно сообщит, что едет вместе с ним и нисколько не помешает. Среди его друзей не было ни одного верного в брачном союзе человека. У каждого где-то скрывалась одна, а то даже две полюбовницы сразу, и это весьма украшало их жизнь, она становилась какой-то взволнованной, слегка словно бы розоватой и даже согретой в те дни, когда шел сильный дождь и слуги подкладывали под перины горячие камни. Но его друзья не знали истинной любви и только желали срывать с древа жизни плоды наслаждений. Их женщины тоже рожали детей, потом отдавали их нянькам в деревни, потом даже и забывали о них, боясь пропустить поднесенную чашу, в которой плескалась сладчайшая ложь о том, что нет долга, нет веры, нет чести, а есть только миг между прошлым и будущим.
— Лисичка моя, — сказал Пьеро да Винчи, когда в черном бархате неба сверкнула Венера. — Я должен поведать тебе одну тайну.
— Ах Господи! Так не тяни же! — Жена его сжала молитвенно руки и вся передернулась от любопытства.
— Тут дело такое… Ты помнишь, как в городе ходили упорные слухи о том, что Труфания, гнуснейшая из отравительниц, вроде бы совсем даже не сожжена, а укрылась в Палерно в одной из обителей?
— Ах, помню, конечно! Я помню, мамаша шепталась с папашей, когда они думали, что я заснула… А я…
— Да, именно так все и было, лисичка. Об этом шептались, но всем было страшно. За слухи могли посадить и казнить. Теперь вроде все стало проще. Труфанию вчера обнаружили в монастыре. Мужском, как ни странно. И знаешь ли как? Одно величайшее изобретение!
— Какое?
Тут Пьеро склонился и в ухо супруги, слегка покраснев, прошептал пару слов. Глаза ее сузились, как у китайца.
— Ах, стыд! Но ты точно ли знаешь, любимый, что так все и было?
— Точней не бывает. Представь себе: стул. В сиденье глубокая прорезь. И сам кардинал, дорогая моя, стоит на коленях и шарит рукой!
Вот как описал это изобретение один из монахов в Тосканской обители:
«Беда человечества в том, что даже и без наличия какой бы то ни было для себя выгоды, а с риском для собственной жизни люди пускаются на всевозможные обманы и авантюры, хотя ангелы, плачущие горькими слезами над нашими поступками, приходят, пытаясь открыть им глаза. „Зачем, — удивляемся мы, — нужно было одной странной женщине, имя которой еще не разгадано, дьявольской хитростью проникнуть под видом мужским в Ватикан и стать там самим папой римским? Попала она в сеть собственными ногами и стала ходить по тенетам. Не будучи девственницей, эта женщина сумела сокрыть свое чрево, в котором зрел плод, зародившийся в ней еще до того, как она стала папой. А через девять месяцев во время знаменитого шествия в честь рождения младенца Иисуса упала она, то есть папа, на площади и вдруг разродилась ребенком, чей пол так и не успели понять до конца, поскольку толпа в своем остервенении забила камнями и мать, и дитя. И вот с этих пор проверяли всех пап. И создан был стул, в сиденье которого прорезали дырку. Рука проникала туда из-под низу и — страшно сказать — грубо щупала органы“».
— Давно уже подозревали, давно, — шептал между тем хитрый Пьеро да Винчи. — Но ведьм очень трудно поймать. Как ловко скрывалась Труфания эта! И только недавно решение приняли: проверить на стуле. Сама понимаешь…
— И ты, значит, должен присутствовать при…
— Да, радость моя. При закрытом судилище. Смотри только не проболтайся случайно! Мне это и жизни самой может стоить! Нотариус нынче и жнец, и игрец. Заверить-то нужно ведь но-та-ри-аль-но! И если решится все в пользу костра, то это решение нужно сокрыть! Поскольку…
Тут Пьеро немного запутался, однако жена сама сообразила.
— Да что же тут мне объяснять! Нашел дурочку! Конечно, когда объявили лет десять назад, что ее больше нет, а сами упрятали в монастыре, так это ж они подорвали устои самой государственности! Глупый народ совсем разболтается: верить — не верить? Как верить, когда наверху вечно врут?
— Ты умница, лисонька, — муж просиял. — Однако пора и поспать. Завтра утром я рано отправлюсь, часов в шесть, не позже.
— Когда ты вернешься?
— Когда я вернусь? Ну, это сейчас очень трудно сказать. Во-первых, дорога. Дорога не близкая. Ну, да и вообще… Я не знаю когда. Неделю, наверное, займет…
— Как мне больно! — Глаза ее порозовели. — Мужчины совсем не испытывают той боли, что женщины! Ну ни на капельку! Скажи, как ты будешь скучать?
— Как? Беззззмерно!
— Нет, ты докажи! Я не верю словам!
И Пьеро в восторге, что завтра же вечером он будет лежать с Катериной, которая ему написала «Найди меня, сердце», как мог, доказал Альбиере, жене, что значит мужская любовь и привязанность.
Глава 9 Счастливая ночка
Анонимный автор, посвятивший матери Леонардо да Винчи сердцевину огромного труда своего «Сады небесных корней», был хорошо осведомлен о том, что происходило вокруг еще не появившегося на свет младенца. А происходили (как это обычно!) пожары, потери и войны. Никто из нас словно и не понимает, за что это все, и весьма удивляется, когда и его самого настигает пожарами, войнами или потерями. Пророки же, жившие в те времена, когда еще был робкий страх наказания (хотя это и не мешало грешить), пытались сказать по велению Господа ту правду, которую люди не видели, не слышали и, зарывая себя под толщей грехов, в темноте удивлялись, за что это им: беды, войны, потери? Пророков трясло, как деревья трясет, и трепет, который они испытали, когда сквозь их горла шло слово Господне, случайно попавший ко мне манускрипт связал напрямую с судьбою художника:
«Сын Катерины не был сыном Бога, поэтому и не смеем мы возвеличивать его больше, чем простого смертного. Но вряд ли ошибемся мы, предположив, что в оставленных им полотнах божественного намного больше, чем человеческого. Стало быть, и через его сердце прошел тот огонь, который проходил через сердца пророков, вызывая в них особый трепет, похожий на трепет природы. Когда говорят: „Всего лишь двенадцать полотен закончил. У Рубенса их были тысячи. Странно?“ „Нисколько“. Ведь он же сказал: „Dove lo spirito non parta artista mano non c'e arte“. (Где дух не водит рукой художника, там нет искусства.) И если его оставлял этот трепет, тогда он работу бросал».
Я отдаю себе отчет, что читателю, привыкшему к мемуарам или к захватывающим пиратским приключениям, трудно в одночасье переключиться на ту высокую духовность, которую в составе моего романа предлагает ему рукопись «Сады небесных корней». Поэтому я изо всех сил свожу эту духовность к минимуму и, понимая, что такое литературный рынок, концентрируюсь на приключениях жизни.
Пьеро ловко обманул свою простодушную жену, поскольку кровавых костров инквизиции боялись во сне, наяву, а особо чувствительные и несчастные люди боялись их даже в минуту кончины, когда уже целая жизнь позади. Обманутая Альбиера никому не стала бы рассказывать, зачем ее мужа позвали в Палермо. Не испытывая ни малейших угрызений совести, он поцеловал ее, спящую сладким сном счастливой женщины, и утром отправился в путь. Заря занялась. На полях запестрели косынки работниц, и синие птицы носились по небу с такой быстротою, как будто тревога снедала их души. Лошадь его бежала ровным галопом, и, прислушиваясь к неистовому стуку своего влюбленного сердца, молодой нотариус напевал популярную в те дни песню:
Гори, гори, моя звезда, звезда любви приве-е-етная, ты у меня-я одна заве-е-етная, другой не бу-у-удет никогда-а-а! Звезда любви-и-и! Звезда волше-е-ебная! Звезда моих минувших дней! Ты будешь вечно неизме-е-енная В душе-е-е измученной мое-е-ей!Понимал ли он в то ясное утро, что самые прекрасные дети появляются на свет только от большой любви и только большая любовь — неизменная и светит им с первой секунды во тьме раздавшегося материнского лона? Наверное, не понимал и не думал об этих высоких и сложных материях, а думал о теле своей Катерины, таком не похожем на тело жены, и чувствовал вкус ее влажного рта, и запах волос, и звук сильного голоса, когда она властно сказала ему: «Теперь уходи, ненаглядный. Увидимся».
«В конце концов, — думал да Винчи, — она ведь мне все отдала. Свою молодость, свою красоту и возможность устроить нормальную личную жизнь. Я в ответе за то, что с ней будет. И это не значит, что я вырываю кусок хлеба с медом из уст Альбиеры. Она никогда ничего не узнает».
Он рассуждал так же, как рассуждают все мужчины, и он ошибался, как ошибаются все мужчины, не понимая, что, сидючи сразу на двух, скажем, стульях, ты так же рискуешь упасть и разбиться, как если бы влез ты на иву плакучую и стал бы качаться над быстрым ручьем. Чихнешь, например, ненароком, сорвешься, да и понесет тебя, неукротимого, потоком, который то даст тебе в челюсть, то ребра пропорет замшелой корягой.
Но Пьеро да Винчи об этом не думал. Смущало его то, что завтра, наверное, придется увидеться с грозным родителем. Он тщетно пытался понять, для чего отец приютил у себя Катерину.
Переночевал он в маленькой гостинице, где чудесно пахло жареным луком, который хозяйка, хорошенькая вдова с вишневыми глазками в длинных ресницах, как раз только что разложила на блюде, где был нарисован петух с черным клювом, такой же, как тот, что гулял по двору. Стуча деревянными подметками и поскрипывая шнуровкой, вдова, держа в одной маленькой и смуглой руке свечу из свиного жира (воск был очень дорог!), лихо побежала вверх по крутой винтовой лестнице, оглядываясь на торопящегося за ней столичного постояльца и быстро помаргивая ресницами, длиннее, чем перья у дамского веера.
— Перину вчера поменяли, — сказала хозяйка грудным душным шепотом. — Теперь не перина, а чистое облако! Вот как упадете в нее, так заснете. Ей-Богу, не вру. Даже шляпы не сымете!
Луна, сморщившись наподобье старухи, смотрела, как стройный нотариус, живо притиснув к себе молодую вдову, уже жадно ищет своими губами ее шелковистый заманчивый рот.
— Ах, стыд-то какой! — захлебнулась луна и скрылась, не медля, за ближнюю тучу.
Много раз вспоминал Пьеро да Винчи эту минуту. Если бы до виноградника, до золотых волос Катерины, до ее груди с выпуклыми, красными, как кровь, сосками, до того, как она объявила, что у них непременно родится сын и они никогда не расстанутся, — если бы до всего этого кто-нибудь сказал бы нотариусу, что он, чья веселая сила мужская так славилась в Пизе, Флоренции, Падуе, Палермо, Венеции, Риме и даже в неброском местечке Ладисполи (поскольку он ездил туда за контрактом!), сказал бы ему этот кто-то, что ночью, оставшись один на один с милой женщиной, ресницы которой цеплялись за ноздри мужчины во время объятий, он вздрогнет, как будто ударенный громом, и так оттолкнет от себя эту женщину, что даже свеча в ее пальцах погаснет.
— Иди к себе вниз. Ничего не хочу. — И чтобы не видеть того, как она закрыла руками лицо и порывисто захлопнула дверь за собой, отвернулся, прижался к окну и шепнул еле слышно: — О mia signora! Моя госпожа!
Упал на недавно набитую пухом, пропахшую птичьим пометом перину и стал созерцать Катерину, явившуюся ему, как живая, в той самой мантилье, в которой была она с ним в винограднике. И вдруг она стала другой: он заметил морщинку у глаза, и треснувший ноготь, и, главное, тело, весьма располневшее, с уже выступавшим вперед животом. Дитя будет крупным. Срок — только три месяца, а мать уже вся изменилась, раздулась, как парус морской, переполненный ветром.
Тем же вечером состоялся разговор между Катериной, в самом деле сильно пополневшей, с заметно выпирающей из-под тесного платья грудью, и немолодым господином да Винчи.
— Итак, Катерина, — сказал он, волнуясь и все же прекрасно владея собой, — я верю тому, что твой этот ребенок — мой внук, и поэтому решил помогать и ему, и тебе.
— Я благодарю вас, — сказала она, поправив свой бледно-зеленый платок, так шедший к ее волосам и глазам.
Он крякнул с досадой:
— Подумай сама, Катерина, что значит «я благодарю вас»? Ну что?
— Меня еще в детстве учили тому, что в сердце своем носим мы благодарность. А все остальное — пустые слова.
— Допустим, — сказал он, уже успокоившись. — У вас, у арабов, свои представления. Вы — хитрые люди.
Она промолчала.
— Как видишь, я многое знаю, — сказал он. — О многом догадываюсь.
— А что мне с того? Я ведь и не скрываю.
— Мне нравится, что ты бесстрашна, упряма. Мне нравится, что ты красива лицом. И даже тот факт, что мой сын в утро свадьбы забыл, что он женится, встретив тебя, мне тоже понравился.
— Я не понимаю всех этих намеков, — сказала она, закусив край платка. — Скажите мне прямо, чего вы хотите.
— Чего я хочу? — Он покрылся испариной и, взяв ее за руку, вытер свой лоб. Она покраснела, но не удивилась. — Пока в тебе будущий внук мой, голубка, я даже под пыткой тебе не открою, чего я хочу.
И вздрогнул всем телом. Она тоже вздрогнула. Взглянула в лицо его, ставшее белым, как пена морская, и вмиг догадалась.
— Не будет вам этого.
— Ишь ты! Чего?
— А вот: ничего вам не будет, и хватит.
— Ты, может, подумала, что я хотел взять в дом тебя на положенье жены? Поскольку я вдов, и богат, и к тому же вполне одинок после смерти супруги? Да ты фантазерка, как я погляжу!
— А может быть, вы дали волю фантазиям?
— Умна. И речиста. А мне что с того? Мне женщин хватает. И девок хватает. — Он снова схватил ее руку. — Ты слышишь? Тут свадьбы по три, по четыре за месяц, и после венчания я их беру! Всех этих невинных овечек, дрожащих, как перышки птичьи, я всех их беру! На целую ночь, возвращаю наутро! А мужу подбрасываю то деньжонок, то белой муки, то горчичного масла! И всем хорошо, а мне лучше всего!
— Да неинтересны мне ваши дела, — сказала она и сверкнула глазами. — Горчичного масла мне тоже не нужно, на нем только в этой глуши и готовят!
— Ты мне обещала напечь пахлавы, — сказал он негромко. — Ведь ты обещала?
— Я вам напеку пахлавы. Но ведь мы-то не о пахлаве говорим. Или как?
Он с шумом раздвинул колени.
— Садись. Не бойся меня. Обещаю, не трону.
— Ваш внук, — пригрозила она. — Сами знаете. Дотронетесь, я не завидую вам.
— Садись. — Рот его пересох.
Она опустилась, расправила юбки.
— Тяжелая ты, — сказал он и уткнулся лицом в ее волосы. — Какая-то сила в тебе, Катерина, хотя ты вот вроде и нежная, сладкая…
— Ну хватит. — Она покраснела сильнее. — Я слово дала, что его не увижу. И вы дайте слово…
— Сынка моего? А если он ночью в окно твое стукнет? Прогонишь его? Сторожей позовешь?
— Не знаю. И врать не хочу.
— А я знаю! — Он резко вскочил. Она тоже вскочила. — Я знаю, что впустишь, обманешь меня!
Она застонала, как раненый зверь.
— Когда меня продали в Константинополе, я дурой была, молодой, несмышленой. Не знала, на что все мы, люди, способны. На всякую подлость, на низость, на ложь… Теперь-то я знаю. Хлебнула как следует! Но только ничем меня не запугать. Рожу и уйду ото всех, не найдете…
— А чем кормить будешь?
— Нас Бог с ним прокормит. Земля велика…
— Ты будто монашка сейчас говоришь, — заметил он тихо. — А ты не монашка. Жила с моим сыном. И с меховщиком. А с кем ты еще, Катерина, жила?
— Типун на язык вам! Ни с кем не жила!
— Ну ладно. Пойду. — Он понурился, словно она победила его. — Уже поздно. Не бойся меня. Я сдержу свое слово. Но если замечу, что сын мой здесь крутится…
Она промолчала. Он за подбородок приподнял лицо ее.
— Ну, улыбнись. Никто так, как ты, больше не улыбается.
— Мой сын будет так улыбаться. Увидите. — Она улыбнулась слегка. — Все увидят…
А он все смотрел, все не мог оторваться от этих ее чуть изогнутых губ, которые словно боялись открыться, подобно цветку, берегущему сладость своей сердцевины и цвет ее тайный.
Проводив немолодого да Винчи, Катерина опустилась на колени перед маленькой иконой, на которой Богородица держала младенца Христа. Лицо у Нее было кроткое и задумчивое, сосредоченное только на том, что ожидает Его, и нисколько не помнящее о самой себе. Странная мысль пришла в голову Катерине. Она вспомнила один из апокрифов, который утверждает, что после смерти Христа и Его воскресения у Марии и Иосифа были еще дети, но представить себе Богородицу, любящую других детей после того, как Его убили здесь и Он, воскреснув, вернулся к Отцу, она не сумела.
Та молитва, которой ее когда-то, в самом начале их дружбы, научила Инесса и которую Катерина почти не вспоминала с тех пор, пришла к ней сама:
Святая Мария, Матерь Божия, храни во мне сердце ребенка, чистое и прозрачное, как родниковая вода. Даруй мне простое сердце, что не замыкается в себе, смакуя свои печали, сердце, великодушное в приношении, склонное к состраданию, сердце, верное и щедрое, которое не забывает добра, и не касается зла, и не таит обиду.И тут постучали в окно. Она хотела вскочить и не могла: так ослабели ноги. Хотела сказать, что не заперто, но голос застрял в ее горле. Тогда тяжело, словно раненый зверь, она подползла к самой двери и грудью ее растворила. Отец ее сына, кудрявый и потный — так гнал он коня всю дорогу, — лохматый, без шляпы, потерянной где-то, стоял и смотрел на нее. Она обхватила колени его, припала к ним и зарыдала беззвучно. И он, растерявшись, упал рядом с нею.
Та страшная сила желания, которая Пьеро да Винчи гнала вчера из Флоренции, куда-то пропала, и вместо нее в груди стало странно тепло, даже жарко. Потом что-то стиснуло горло, и он не смог проглотить даже сгусток слюны, соленой, почти как рассол, приготовленный на кухне для перцев и для огурцов. Дышали, обнявшись, так громко, как будто сбежали минуту назад от разбойников. Она — его потом мужским, волосами, а он — ее грудью, горячей и влажной, ее запрокинутой шеей с полоской от тесных и только что порванных бус.
Краткое описание этого первого после долгой разлуки свидания сохранилось в рукописном памятнике:
«Они, не размыкая рук, опустились на кровать, которая была слишком коротка для Пьеро, потому что отец его рассчитывал, что спать на этой кровати будет одна Катерина. Они даже и не целовали друг друга, потому что поцелуи казались слишком пустыми и легкими по сравнению с той любовью, которая соединила их. Им не нужно было говорить, потому что тогда каждый из них доверял другому больше, чем самому себе. Пьеро осторожно расшнуровал простое домашнее платье Катерины и обнажил ее драгоценное тело, сложив свои обе руки на горячем, уже выпиравшем ее животе. В телесном их соединении не было животной той страсти, которую оба запомнили по винограднику. Теперь даже скорость привычных толчков и сила их проникновений друг в друга была неотъемлемой частью достоинства, а также того благородства, с которым они относились друг к другу».
Вчитайтесь. Речь ведь не о страсти и даже (что мне удивительно!) не о любви. Речь о благородстве, с которым мужчина берет свою женщину, и благородстве ему отвечающей женщины.
(А в нашей деревне совсем все не так. У нас это просто: вот баба, и вот в этой бабе мужик. Пружины скрипят, в небе звезды мигают. Потом посмеялись слегка и заснули. Проснувшись, уже не смеялись. Толкая друг дружку на кухне задами, яичницу съели, и начался день. А как пролетит девять месяцев, баба, крича благим матом и всеми словами ругая того мужика, будет, тужась, рожать неизвестного пола младенца. Родит и увидит, какого он пола. А муж, если девка, немного посердится, а если пацан, будет пир на весь мир. Вот так у нас все. Говорю же вам: просто.)
«Любовь их была поначалу настолько бескорыстной, что, когда проснулись они далеко за полдень, ни он, ни она не высказали друг другу никаких упреков и не задали ни одного вопроса, отвечая на который человек мог бы подернуться краской стыда или неловкости», —
так прокомментировано в манускрипте.
Хотя я полностью доверяю каждому слову драгоценной рукописи, мне все же не верится, что Катерина совсем не спросила о том, как ему живется с законной женой. Да и он был должен задать ей хоть пару вопросов, касающихся поведенья родителя, характер которого знал хорошо.
Скорее всего, разговор был таким:
— Отец твой хотел, чтобы я ему пахлавы напекла, — негромко сказала она.
— Он зайдет? — спросил ее Пьеро. — Он часто заходит?
— Вчера только был. Теперь, видно, завтра по-явится.
— Так, значит, мне нужно уехать сегодня?
Она обвилась вокруг стана его, как хмель вокруг дерева.
— Не уезжай!
— Нельзя, чтобы он здесь увидел меня.
— Стыдишься? — спросила она.
— Я? Стыжусь? Помилуй, да я ведь рискую карье-рой, своей репутацией, всем… — И осекся.
— Где шляпа твоя? — спросила она еле слышно. — И плащ?
— Так я же без шляпы… Слетела, наверное… А плащ? Ты сама плащ мой давеча спрятала…
— Так вот: надевай его и убирайся. — Она вдруг зажмурилась. — И чтобы я больше…
— Прости! Катерина! Доколе стрела не пронзит моей печени…
Она так и ахнула:
— Что за стрела?
— Так сказано в притчах царя Соломона. «Доколе стрела не пронзит моей печени…»
— Какого царя?
— Соломона, любимая.
Она отмахнулась.
— Болтун был, наверное. А ты повторяешь! Своим умом думай.
— Как скажешь. — Он свесил кудрявую голову. — Я снова приеду к тебе, Катерина. Ты впустишь меня?
— Как птичка, летишь прямо в сети, мой сладкий, — вздохнула она. — Как же мне не впустить? Дитенок родится и спросит: «Где папка?» Так что я ему расскажу, ты не знаешь? Что папка танкистом был, в танке сгорел?
«Ее восточная кровь сказывалась во всем. Она была вспыльчива, и сын унаследовал эту вспыльчивость, отчего временами совершенно не мог выносить людского общества за мелкую его суетность и тщеславие. Но было в ней и прелестное восточное лукавство, которое она только изредка пускала в ход, имея дело с мужчинами, от которых, к великому сожалению своему, зависела до последнего вздоха. Это лукавство сказывалось в том, что когда Катерина не знала ответа на поставленный вопрос, она умела так ловко обойти этот ответ, что спрашивающий полностью забывал о своем вопросе. Это же лукавство передалось и великому сыну ее, который изящно избегал общества женщин, справедливо подозревая их нечистую — за редким исключением — природу. Однако он сумел прожить жизнь так, что ни одна из женщин, которых он избежал, не затаила на него обиду и, хотя никому не удалось мягкостью уст своих овладеть им, ни одна не поняла, что пошло не так и почему он опять оказался на свободе. Мы еще вынуждены будем сказать о любимом ученике его, которого маэстро Леонардо шутливо называл „Демоном“, но в данном случае…»
На этом месте написанное опять обрывается, и несколько полностью сожженных и превращенных в пепел страниц следуют за приведенным выше отрывком. Придется мне смириться с этими вынужденными пробелами и вернуться в дом Катерины, которая, подозревая, что встречи отца с сыном не избежать, месила теперь пахлаву: старик должен был подобреть от заботы.
В темно-зеленом платье с бархатными коричневыми оборками на широкой юбке, простоволосая и располневшая, блистая своими влажными черными глазами, что выдавало ее воспаленное состояние после проведенной с Пьеро ночи, Катерина, напоив возлюбленного молоком строптивой козы Розалинды, готовила сладкое сдобное тесто, а он все смотрел на нее, он все медлил и все не хотел уезжать.
— Продуктов-то много, да все не такие, — шепнула она и, слегка потянувшись, подставила волосы для поцелуя. — Ой, ты весь в муке! На-ка шарф, оботрись. Ты вот погляди: где мне взять кардамону? У батюшки у моего, на Кавказе, мешки с кардамоном. Бери — не хочу! А здесь? И мука не такая, как надо. Мелка больно да шелковиста не в меру. Замес не получится, тесто рассыплется.
— Да плюнь ты на этот замес, дорогая! Давай полежим перед дальней дорогой!
«Ему бы все только лежать да лежать! — сверкнуло в ее голове. — Нет, миленький, ты поскучаешь сперва, слезами кровавыми щеки умоешь от лютой тоски, и доколе… как там? Стрела не пронзит твоей, миленький, печени, доколе стрела ничего не прон-зит, ты, мой драгоценный, меня не забудешь, ты, мой ненаглядный, сюда приползешь, а эта твоя половина рогатая пускай идет к ведьмам и просит: „Голубушки! Откройте мне правду: где муж мой сейчас?“»
Она чуть не прыснула: живо представила себе Альбиеру на черном болоте и парочку ведьм у костра, пожирающих зажаренных до синевы лягушат.
— Орехов еще натолочь, тогда можно чуть-чуть полежать, — вслух сказала она, и он побелел, как мука, от волнения. — Ты, милый, понять меня должен. Ведь дело-то не в пахлаве, а в заботе. Ты в городе, ты далеко, ты женат. А он здесь, под боком, и очень старается. Я тоже уважить должна старика, он сладкое любит.
— Какой он старик! Посмотри мне в глаза!
Она посмотрела:
— Ну что? Успокоился?
— Нет, я во Флоренции долго не выдержу! Я снова приеду!
Тут, мне кажется, и произошла путаница в рукописном памятнике. Скорее всего, неизвестный автор, проделав колоссальный труд по собиранию, хранению и обработке материала, справедливо полагая при этом, что время — понятие относительное, да и вообще никто не знает, что это такое, слил, так сказать, в одну реку два потока. Он соединил первое свидание Пьеро с Катериной со вторым во времени, но разъединил их по всем остальным обстоятельствам. Получается, что и я, неотступно идущая за ним, вынуждена оставить в тексте оба свидания хотя бы потому, что в первом из них красочно изложена встреча отца и сына да Винчи и пролит некоторый дополнительный свет на происхождение Катерины. Как бы то ни было, получается, что Катерина, чувствуя необходимость в совете Инессы, отправилась к ней не один раз, а дважды.
Глава 10 Черная смерть
Путь ее в тот день был весьма изнурительным. Осел Ефремушка, подаренный ей стариком, изо всех сил сопротивлялся тому, чтобы беременная пользовалась его услугами, и, как только Катерина, ласково приговаривая по-арабски: «Хороший Ефрем, ай, чудесный Ефрем!», пыталась оседлать непокорное животное, начинал безобразно трясти головой и дергать копытами. Приходилось идти пешком, поминутно останавливаясь и делая пару глотков разогретой воды из потрепанной кожаной фляги.
Переночевала Катерина в захудалой гостинице, где толстый и мрачный хозяин чуть было ей не отказал, испугавшись, что роды начнутся сейчас и что крики разгонят его постояльцев. Тогда она быстро вложила монетку в его волосатую руку, и, вспомнив, что нет никаких постояльцев, толстяк, усы у которого чуть шевелились от пламени свечки, повел ее в комнату, соседнюю с хлевом, где в этот момент находилось шестнадцать животных. Число это образовалось недавно: три белых свиньи разрешились от бремени за час до прихода туда Катерины, и боров, отец их детей, красноглазый, встревоженный тем, что семья разрослась, как раз пересчитывал нежно-жемчужных, еще даже не разлепивших ресницы, горячих и хрюкающих новорожденных. Дышали животные шумно, обильно — отсюда и жар, словно топится печка.
Поддерживая драгоценное чрево, в котором беспечно плескался сыночек, она прилегла на кровать, а мантилью, перчатки и верхнее платье сняла. Уснуть, к сожалению, не удалось. В хлев вошел хозяин, которого она тотчас же узнала по его немного гнусавому голосу, и кто-то еще, только кто, непонятно: мужик или просто басистая баба.
— Всего-то три дня, как косить начала. Конечно, все трупы сожгли до единого. Там ведьма живет, вот она и наслала, — сказал этот голос.
— Жена у меня от чумы померла. И двое ребят, — отозвался хозяин. — Еще мы тогда в Пизе жили все вместе. Дом был. Две рабочие постройки, два поля. Одно — кукурузное. Кажный початок — вот, больше руки до локтя, я не вру!
— А помнишь ты, сколько они помирали?
— Жена за два дня окочурилась. Детки — еще того меньше.
— Да, быстро!
— И я тебе вот что скажу. Они на себя перед смертью совсем не похожими были. Глаза у жены стали больше арбуза, на самый лоб вылезли. Корежило бедную, вся содрогалась. Слова выкликала такие, что я вспоминать их боюсь. Язык был огромный, раздутый. Ох, Господи, Воля Твоя на всех на нас, грешных!
— А что выкликала она, ты запомнил?
— Нагнись, я шепну. «Дай единорога, дай единорога! И я его ко борозде привяжу!» Вот это она выкликала, я помню.
— Какого же единорога?
— Откуда я знаю? Потом возопила: «Смерть входит в чертоги мои! Входит смерть! Навоз так лежит на полях, как ляжем мы все! И некому будет убрать! Навозом все ляжем, навозом, навозом!»
— Досталось тебе…
— Слышал ты, что люди об этой чуме говорят?
— А что говорят?
— Говорят-то все разное. Одни помнят, что вроде запах какой-то разлился везде. Очень сладостный запах, как будто из рая. А кто говорит, что забросило бурей чудовище дохлое. Вроде кита. Смердел этот кит, говорят, ужас как! Сперва на Флоренцию дух его шел, все ставни закрыли, дышать было нечем.
— Ты должен своих постояльцев расспрашивать, откуда пришли. И нюхай внимательно ихние вещи. И как только что унюхнешь: розы райские, а может, напротив, смерденье какое, ты сразу беги доносить.
— Так пусто сегодня. Никто не ночует, одна только женщина…
— Откуда пришла? Не из Сан-Джиминьяно?
— Она на сносях. На ногах еле держится. Живот больше, чем у кобылы. Боюсь, испортит постель мне, скорей бы ушла!
— Ты завтра ее расспроси, не ленись.
В «Садах небесных корней» крайне таинственно сказано о черной смерти, как именовали в те далекие времена страшное заболевание, унесшее свыше шестидесяти миллионов жизней.
«Мучились в корчах и беспамятстве, бормотали странные речи, отнюдь не похожие на бред, а, скорее, на какие-то неясные пророчества. Многие видели гневное лицо Господа в предсмертных своих видениях и обращались к Нему, однако, не досказав начатого, умирали с пеной на сизых и растрескавшихся губах. Вот с какими словами испустила дух жена венецианского купца, торгующего драгоценными тканями и пряностями: „Утроба моя! Утроба моя! Скорблю во глубине сердца моего, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы…“ Не странно ли, что слова эти были исторгнуты из опавшей, как старое тесто, груди всем известной развратницы, не прожившей ни дня своей лживой жизни без того, чтобы не изменить мужу и не опозорить своим блудом его благородную седину? Наивные умы полагают, что чума была занесена в Европу моряками из Индии, торговцами из Гонконга, пилигримами с Дальнего Востока — разным людом и сбродом, шастающим из одной стороны света в другую по своим ничтожным людским надобностям. Но это не так. Черная смерть пришла к нам задолго до дальних и ближних востоков, задолго до злого гонконга, задолго до тех, кто хотел торговать и пересекал на плотах океаны. А было все так: недалеко от Мекки разверзлась небесная твердь, и три дня хлестала оттуда горячая кровь, смешавшись со змеями. Потом вырос огненный смерч. Вот это и было для всех, кто мог видеть, для всех, кто мог слышать, зловещим и праведным предупреждением. А после того и пошла смерть по свету».
Поскольку я и сама убеждена, что война, например, равно как и любая революция, равно как и любая эпидемия, не имеет своею причиною ни затрещавшую по всем швам экономику, ни взбаламученные низы, которые ничего не могут, ни зажравшиеся верхи, которые ничего не хотят, ни голод деревни, ни пьянство рабочих, ни климат, который совсем обе-зумел, ни дикий прирост грызунов — ничего! Какие же это причины, подумайте? Причина же: в людях, в их смертных грехах. Об этом и сказано в Библии: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!»[2]
Вот так и с чумой. Говорят: грызуны. Еще говорят: моряки и торговцы. А я уверяю вас, что все они: торговцы, и суслики вместе с мышами — всего лишь приманки для слухов и сплетен. Сначала-то дождь шел кровавый со змеями. И смерч стоял огненный. Кровь да огонь. И все это видели. Но постарались, как свойственно людям, скорее забыть.
Подслушавшая разговор хозяина с неизвестным Катерина мигом поднялась с кровати, заплела заново косы, надела свои башмаки и мантилью. А после застыла у самых дверей и принялась думать. Она догадалась, что ведьма, которая, по мненью людей, навела на Флоренцию болезнь и смерть, могла быть Инессой, живущей в селении Сан-Джаминьяно.
— Что делать? — Она, не мигая, смотрела в кромешную темноту. — Убьют ведь ее! А ребенок мой как же? Я разве дойду!
Она понимала, что нужно спешить обратно домой, где суровый да Винчи пришлет повитуху, как он обещал, поскольку того гляди роды начнутся. Она ощущала живот свой, как море, которое тихо, но грозно волнуется, поскольку внутри себя чувствует шторм, и ждет лишь какого-то знака, знаменья, чтобы прорвалась его сила и выдула до самых небес закипевшие волны.
— Но это же Бог мне велит к ней бежать! Ведь двое-то эти не зря говорили! А только затем, чтобы я их услышала!
И тьма расползлась, и мелькнуло внутри слегка что-то белое и золотистое.
— Да, знаю! — она зашептала, и слезы, в которых не страх был, а освобожденье от мелочных мыслей и собственных выгод, застлали глаза. — Все я сделаю, Господи!
И море, грозящее штормом, накрыла большими ладонями.
— Рождаемся мы на страданье души, не только на плотскую радость, и этим похожи на искры, из гущи огня летящие вверх. Дитя мое лучше меня понимает, что выбора нет у нас. Значит — пойдем.
Скажите мне те, кто, читая сейчас чудесную книгу, весь переполняется духовным исканьем и жаждой добра, ответьте мне те, кто очки протирает специальною тряпочкой, чтобы ни слова в ней не пропустить, — все скажите: пошли бы вы (к тому же еще на сносях!) в чумою захваченный город? А я вам скажу: ни один не пошел бы. И я бы сама ни за что не пошла. Поскольку у всех у нас есть здравый смысл. И выбор. И даже свобода его. Но только на искры, летящие в небо из гущи огня, мы, увы, не похожи.
В шесть утра Катерина постучалась в низенькое окошко дома Инессы. Никто не ответил ей. Улица, упирающаяся одним концом в белую церковь, где денно и нощно шла служба о здравии, а другим сбегающая к реке, где было запрещено рыболовство после того, как сын дровосека выудил неводом мертвую женщину, у которой вместо ног был красный, облепленный пьявками хвост, казалась застывшей, покинутой жителями.
«Куда она могла уйти в такую рань? — испуганно подумала Катерина, без сил опустившись на знакомое крылечко. — И спросить-то не у кого!»
Прошло минут десять, и из церкви вышел пугающего вида человек, в котором Катерина по его одеянию немедленно распознала чумного доктора. Распространяя вокруг себя удушливый запах чеснока, поскольку врачи, имеющие дело со смертельным недугом, не переставая жевали чеснок, и хотя считалось, что, если заложить сухие травы в клюв, похожий на птичий, которым венчались кожаные маски, надетые на их лица, запах чеснока должен ослабнуть, он, наоборот, становился только противней. Широкими подскакивающими шагами доктор приблизился к Катерине и поклонился ей.
— Уж не Инессу ли ждет здесь будущая мамаша? — спросил он, с трудом проталкивая слова сквозь плотный свой кожаный клюв.
— Инессу, — она напряглась.
— Чума у них тут началась. Вы наслышаны? Я сам-то из Киева. Не удается и месяца дома пожить без волнений. То там эпидемия вспыхнет, то тут. Приходится бегать, как мышь, зарабатывать. А что заработаешь на обреченных? Они говорят: вас костюм защищает. Ха-ха! Защищает он, как же! Коллеги мои мрут как мухи. Остапка, чудесный был врач, схоронили. Вернее, на свалку свезли и сожгли. Малюток оставил, всех не сосчитаешь. Я маску-то эту почти не снимаю, она у меня ко щекам приросла.
И тут же, смеясь хриплым лающим смехом, закашлявшись, сдернул ее. Катерина тихонечко ойкнула. Лицо незнакомца ее испугало не меньше, чем маска. Сожженная кожа стягивала в бесформенный комок то, что уцелело в огне: ввалившийся нос, кусок подбородка, часть правого уха. Глаза в красных сморщенных веках смотрели, однако, весьма проницательно.
— Семейные распри. — И он улыбнулся, желтея разрушенными зубами. — Жена ревновала. А я люблю баб. Пришел поздно ночью домой. Весь в помаде. Жена моя — р-р-р-аз! — и в меня кислотой! Ревнивая женщина, я же сказал.
Она промолчала. Что скажешь на это?
— Гляжу, не жалеть ли меня собираетесь? — И доктор нахохлился. — Рано, голубушка. Тогда и пошла настоящая жизнь, как эта дуреха свой нрав показала! Да, только тогда и пошла!
— Да ведь больно…
— Нисколько не больно. Зато я теперь всемогущ. Теперь я — почти Господь Бог.
Он быстро хихикнул, при этом дотронувшись до гладкой руки ее скользкой ладонью.
— Не будь вы такой слишком сильно беременной, лежали бы вы подо мной, драгоценная, сладчайшей любви предаваясь. И весь этот гвалт с черной смертью, поверьте, забыли бы сразу. О, я не шучу.
— Вы что позволяете, сударь? Какая я вам…
— А какая вы мне? — И он засмеялся еще тошнотворнее. — Смотрите, что я вам сейчас покажу.
Достал из кармана бутылку с какой-то бесцветной, однако пугающей жидкостью.
— А это видали?
Она побледнела, живот отодвинула.
— Что это?
— Как что? Кислота. — И он равнодушно зевнул. — Ведь я объяснил вам, что я всемогущ. Представьте теперь: подымаю я масочку — вот так же, как давеча с вами, — и дивчина, которой мне хочется юбку задрать, пугается так же, как вы испугалися. И хочет бежать. Али падает в обморок. А я ей: «Эй, дивчина! Шо ты? Кудой? Ты ж мнэ подобаешься! (Ты же мне нравишься. — укр.) Давай поихграэмо! (Давай поиграем!) А вона тикае! (А она убегает)».
Мерзавец, понятно, вовсю издевался. Для этого стал почему-то использовать родной украинский язык.
— Тогда я, голубушка, — по-итальянски сказал он, — беру, значит, эту бутылочку, она у меня здесь, в кармане, да и удивляюся: «Хочешь, милашка, такое же личико? Это нетрудно». Милашечка в слезы. И тут же ложится. Еще и подол на себе задирает. Какую хочу, ту имею. Вот так вот. Живу как король.
Она усмехнулась. Спросила спокойно:
— Вот вы про Инессу сказали. А где она?
— Откуда мне знать? — Он опять надел маску. — Иду вчера вечером в церковь молиться. И вижу: какая-то женщина, странная, вся в белом, лицо под вуалью. Закутана. Стучится к Инессе. Выходит Инесса. Ну, эту я знаю давно, к сожалению. Прислужница дьявола и лесбиянка. Вы что побледнели? Она — лесбиянка! Не вы же! И речь не о вас. Выходит Инесса с каким-то кульком. Берет эту белую женщину за руку и — фьють! Испарились. Как будто их не было! Я думаю, смерть приходила за ней.
— Как смерть? Вы сказали ведь: женщина!
— А смерть кто, по-вашему? Марья-царевна? Я с ней каждый день раз по сорок встречаюсь. Бывает, скелетом прикинется, знаете? Смотреть неприятно: коса эта, череп… Но чаще влетает таким нежным ангелом, что расцеловал бы, даю слово чести! Возиться с больными, однако, не любит. Спешит всегда очень. Везде ее ждут.
Катерина открыла рот, однако задать свой вопрос не успела. Двери церкви растворились, вышли два старика, облаченные в черные плащи с поднятыми воротниками, подкатили к ступенькам телегу, и двое других стариков в таких же тяжелых и черных плащах взялись выносить из прихода умерших. Телега за пару минут переполнилась. Умершим не всем даже места хватило. За борт переваливались руки, ноги, лохматые волосы, мятые юбки. Черные старики деловито подтыкали под тела холстину, утрамбовывали трупы, чтобы вместилось как можно больше, потом приказали вознице, который был, судя по внешности, родом из Кении или Марокко:
— Ну, трогай, родимый!
Телега отъехала. Худющие лошади так грациозно, с таким пониманием дела задвигались, как будто бы раньше служили в балете.
— На свалку поехали. — Доктор зевнул. — А там подожгут. Смраду будет, скажу вам!
Приблизил свой клюв к ее сжатым губам.
— Да что это с вами? Какая вы бледная! Покушать бы надо. Покушать и выпить. Какое винцо вам приятнее? Красное?
— Я не голодна, — прошептала она.
— Вот так прям поверю! На площади люди гуляют. Таких поросят подають на обид, що пальци оближеш! Як нэ харчуватися? (Как же без питания? — укр.)
— Мне страшно.
— И шо вам так страшно? Не як страшный черт, як його малюють!
Веселая, громкая, сильная песня достигла их слуха. Запели на площади. Хор был, может быть, и нестройным, но крепким:
Каким ты был, таки-и-им оста-а-ался, орел степной, каза-а-ак лихой! Зачем, зачем ты снова повстреча-а-ался, зачем нарушил мой поко-о-ой! Свою судьбу-у-у с твоей судьбою пускай связать я не могла-а! Но я жила-а-а, жила-а-а одним тобо-о-ою, я всю войну-у-у тебя ждала-а-а!— О Дева Мария! — И тут Катерина едва не упала. — Да что это там? Они обезумели, верно?
— Ничуть они не обезумели. — Доктор мотнул своим клювом. — Вот мода пошла! Чуть что: «обезумели»! Выпили хлопцы. И дивчинам дали хлебнуть. Ну, расслабились. Теперь веселятся.
— Да как веселятся? Не стыдно ли им?
— А людям — запомните, крошка моя! — почти никогда и нисколько не стыдно. Считается, что очень нужно стыдиться. Зарезал старушку — ах, стыдно, ах стыдно! Девчонку снасиловал — ах, умираю! Ну а разорил и по миру пустил — пустяк ведь! И то угрызаются! Нежные! А я вам скажу, дорогая моя, что все это поза. Сплошной Голливуд. Христос за нас всех постыдился, и ладно.
Он перекрестился, чуть скрипнув перчаткой.
— Я не возражаю раз в год попоститься. Здоровью полезно. И в церковь хожу. Нечасто: я занят. Пока был женат, так жена моя бедная взяла за привычку на каждую Пасху таскать меня в Рим. Я не спорил: пусть Рим. Отличное место, красивые женщины. Но это ведь не помешало жене плеснуть мне в лицо кислотой. Вы следите? Что это за мина у вас, извиняюсь?
— Вы мне отвратительны. — И Катерина вдруг вздрогнула.
— Так я и знал! «Отвратительны»! Ребенка бы хоть своего постыдились!
— Ребенок еще не родился.
— Невежда! Ребенок все видит, и слышит, и чувствует с минуты зачатья!
— Откуда вы знаете?
— Откуда я знаю? Душа-то ведь в нем. Она же, как пчелка, забьется в бутончик и ждет, пока этот бутончик раскроется.
Ей вдруг захотелось спросить, не боится он собственной смерти, а если боится, зачем хорохорится?
— Хотите спросить, не боюсь ли я смерти? — Он словно бы разворошил ее мысли и вытащил этот вопрос. — Пойдемте на площадь, увидите сами.
И нагло схватил ее под руку скользкой, противно воняющей черной перчаткой.
Площадь, вымощенная булыжником, пестрела празднично разодетым народом. На столах, накрытых белыми и яхонтового цвета шерстяными тканями, стояли бутылки с разноцветными винами, бокалы, стаканы и чарки, украшенные перламутром. На скамьях, грубо и наспех сколоченных для того, чтобы поместилось на них как можно больше людей, сидели почти что вплотную. Из домов выволакивали блюда с жареной дичью, овощами, фруктами и разными сортами свежеприготовленного мяса.
— Коров всех зарезали вместе с ягнятами, — шепнул чумной доктор. — Раз нам помирать, так зачем же коровы, подумайте сами! Теперь овец режут. А кур того проще: живыми бросают в очаг, да и все. Вы любите, душка, куриные грудки?
— Нет, я не хочу, чтобы он это видел, — сказала себе Катерина, прикрывши мантильей живот. — Не хочу!
От пестрой толпы отделился мужчина. Над красным наморщенным лбом, словно облако, стояли седые кудрявые волосы. Он был сильно пьян и настроен воинственно.
— Луиза и Бьянка, идите сюда! — прикрикнул он громко.
— Ну, вот и пошли развлечения! — Доктор слегка даже взвизгнул. — Глядите, глядите!
И обнял ее очень смело за талию. Она отшатнулась.
— Сейчас будет весело! — Он и не смутился. — Вот этот вот дядя три дня как жену схоронил. А женился всего только месяц назад. Обожал! Увидел ее на каком-то там празднике. Ей было лет шесть. В красном платьице крошка. Башку ему, бедному, как своротило. И стал ее ждать. Сперва навещал крошку в детском саду, работал затейником на ихних елках, потом физкультурником в школу устроился. А как ей пятнадцать исполнилось, так он свадьбу и справил. Весь город гулял! И вот померла. Сжечь не дал. Сам, лично, и похоронил. Пролежал на бедной могилке два дня и две ночи. Ну, думали, все, этот кончен. Finita! А он пришел вечером в новом берете и пахнет духами. И сразу забрал троих девок к себе. Провел с ними ночь. Две уже заболели, а третья хохочет, не может уняться. «Такой, — говорит, — господин развеселый! Всю ночь нас смешил, анекдоты рассказывал!» Глядите, глядите! Опять набрал шлюх!
Катерина со страхом перевела глаза на седого человека, который, облапив Луизу и Бьянку, смеясь и рыча, что-то им говорил.
— Рассудок его помутился от горя, — сказала она еле слышно.
— Согласен, согласен! — воскликнул, визгливо хихикая, доктор. — Да, этот рехнулся. Я не возражаю. Хотя… Все на свете — игра!
— Нельзя, чтобы он это видел! Что делать? Куда мне бежать? Где мне спрятать его?
— От жизни не спрячешься, — философически заметил ее оппонент. — Пусть глядит.
— Ну что? Споем, девочки? — громко спросил седой сумасшедший. — Какую хотите?
— Ах, нашу! — сказала, кривляясь, Луиза. — Про то, как в саду отцвели хризантемы!
— Опять эти сладкие сопли? — И Бьянка сурово насупилась. — Лучше военную!
— Ни ту, ни другую! — Седой оттолкнул одетых в шелка, размалеванных шлюх. — Мою будем петь! Всем молчать! Застрелю! — И вытащил из кобуры пистолет.
Народ присмирел. Ели молча, стараясь замять назревавший ненужный скандал. Седой встал на стол и раздвинул ногами бутылки и блюда. Потом он запел.
В моем манускрипте рассказано так:
«Голос его отдаленно напоминал шаляпинский, особенностью которого, по мнению одних, была особая „мясистость“ в габаритах басовитой тесситуры, а по мнению других, именно верхняя тесситура позволяла певцу и национальному гению достичь особой, никем не превзойденной проникновенности. Разумеется, в пении помутившегося рассудком горожанина не было той гибкости и способности умело избегать пустоту звучания, которой славился покинувший красную Родину русский певец, но сами слова его гимна были непревзойденными по своему накалу».
Далее я считаю целесообразным с некоторыми, к моему сожалению, пропусками в прожженных страницах привести этот никому не известный, заслуживающий, однако, серьезного внимания специалистов текст:
Когда могущая Зима, Как бодрый вождь, ведет сама На нас косматые дружины Своих морозов и снегов, — Навстречу ей трещат камины, И весел зимний жар пиров. Царица грозная, Чума, Теперь идет на нас сама И льстится жатвою богатой; И к нам в окошко день и ночь Стучит могильною лопатой… Что делать нам? и чем помочь? Как от проказницы Зимы, Запремся также от Чумы! Зажжем огни, нальем бокалы, Утопим весело умы И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы. Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы. Все, все (не читабельно) Для (не читабельно) таит — Неизъяснимы наслажденья, Бессмертья, может быть, (не читабельно) И счастлив тот, кто средь (не читабельно) Их обретать и ведать мог. Итак, — хвала тебе, Чума, Нам не страшна могилы тьма(дальше и до самого конца не читабельно)
Допев, он спрыгнул со стола и, не обращая на собравшихся никакого внимания, сел на землю, обхватил седую голову большими руками, на каждом пальце которых было по два и даже по три драгоценных кольца, и закачался из стороны в сторону.
— Опять подступило, — сказал добродушно какой-то растрепанный малый. — Сейчас он увидит ее. Точно так, как вчера.
— Вчера? Что же было вчера, mio caro amico? — обрадовался разговорчивый доктор.
— Жену он увидел. Она…
Вдруг парень схватился за горло.
— Ой, ой! — И он захлебнулся во рвоте. — Ой, я умираю!
Лицо его покрылось крупным потом, глаза выкатились наружу, лиловые жилы надулись на нежной ребяческой шее.
И тут Катерина решилась. Дернув за гриву Ефремушку и подобрав подол своего зеленого, с коричневыми оборками, платья, которое, почти не снимая, носила все время беременности, она растолкала людей, ей мешавших, и бросилась прочь.
Она убегала из этого города, где, всю перерезав скотину и дичь, несчастные жители в остервенении вином заливали свой страх перед смертью, где черный возница, сверкая белками, весь день измерял расстоянье от храма до свалки умерших, и денно и нощно шла служба во храме, и денно и нощно молились, просили и падали ниц, на жалкие лица свои, обреченные, не зная, что поздно, уже не поможет, поскольку прошел дождь кровавый со змеями, прибило чудовище смрадное к берегу, грехов накопилось на суше и в море так много, что Божье терпение кончилось.
Глава 11 Благополучное разрешение
Дорога была почти пустой, изредка только обгоняли Катерину повозки, нагруженные бесполезным добром: коврами, посудой и прочею дрянью. Сидевшие на сундуках и коврах боялись того, что придется отчалить в неведомый мир, столь пронизанный светом, что каждый простой волосок человеческий в нем так же прозрачен, как нить паутины. Ответьте мне, нужно ли так уж бояться того, что придется предстать перед Светом? Сама вам отвечу: да, нужно! А как же? Ведь, может быть, ты здесь, на этой земле, сирот обокрал или же соблазнил чужую жену и склонил ее, дурочку, к бесстыдному прелюбодейству? А может быть, брата убил за наследство? А может быть, мать оскорбил дурным словом? Тогда ведь действительно страшно, голубчик. Ведь там, на Свету-то, не скроешь, не спрячешь. Припомнят и этих сирот малолетних, и эту жену, чьи колени ты, милый, раздвинул своей похотливой ладонью, и брата в крови, как ягненка, которого вот только что освежевали на Пасху, и мать, опрокинувшуюся от горя, — да разве всего перечислить? К чему? Теперь-то уже ничего не поможет. Записан ты в Мертвую Книгу, но, чтобы еще подышать здесь, поесть земляники, родить с женой двойню, смешную, кудрявую, — беги, если сможешь! Беги от чумы! Авось не догонит тебя эта гадина, авось остановит ее ураган или… вот я слышала, что в другом городе живет один праведник, а потому чуме в этот город дорога заказана. Охваченные паникой забывали, что если кому суждено помереть, то тот и помрет: поначалу подкатит горячая резь в середину нутра, раздуется до безобразья язык, и тело повалится наземь, как чучело, которое смел неожиданный ветер. Потом вылезают в подмышках наросты, по виду как сгнившие райские яблочки.
Катерина догадывалась, что бегством из Флоренции пытаются спастись в основном состоятельные господа, уверенные, что деньги помогут им даже сейчас, но, видя, как рядом с дорогой, в поросших апрельской травою канавах вповалку лежат, в кружевах и парче, с открытыми ртами, те самые люди, которые ни разу и не усомнились, что жизнь им дана для одних наслаждений, она словно бы прозревала душою.
«Ведь сказано же, — вспоминала она, — что завтрешним днем не хвались никогда, поскольку не знаешь, что может родить для тебя этот день. А как же мы все забываем об этом? Мы думаем: вот я хочу, например, открыть здесь большую пекарню с трактиром, или, например, я хочу, чтобы сын стал знатным нотариусом, как отец, да много чего я хочу! А на все Божья Воля. И главное — помнить об этом. Не дай Бог, чтобы посещали меня дурные желания, грешные помыслы! Ведь вот я желала же зла Альбиере? Еще как желала! Возьму ее фотку и тычу иголкой, и тычу, покуда сама не устану! А что, если завтра помрет Альбиера? Или заболеет какой-то болезнью?»
Она широко растворила глаза, не веря им: ярко-зеленый, взбегал по холму виноградник.
— Неужто? — И остановилась. — Тот самый…
Вот, кстати, что я сумела прочесть об этом винограднике в старом документе. Отрывок совсем небольшой, но важный для нашей истории.
«Всем путешествующим известно, что холмы, окружающие Флоренцию и остальные, меньшие по размеру и не столь важные города, покрыты виноградниками. Если бы люди умели летать, они, без сомнения, поднявшись на определенную высоту, получили бы несказанную радость от вида густейших посадок, каждый год награждавших тружеников села своим урожаем. Однако один из этих виноградников представляет для истории человечества особый интерес, ибо величайший из людей был не только зачат в этом земном раю, но и впервые увидел там свет солнца».
Катерина сама не понимала, как она снова попала именно в то место, где они впервые встретились с Пьеро. Ей казалось, что с точки зрения маршрута это невозможно. Потом она догадалась, что умный Ефрем специально нашел ту дорогу, на которой почти не было беженцев и, стало быть, возможность заразиться была не столь велика. Левая развилка ее, на которую Катерину вывел ушастый упрямец, вела к знакомому винограднику.
— Сейчас лягу там и посплю. Будь что будет, — решила она. — Не могу идти больше.
Пугаясь того, что сильней и сильней как будто тяжелые, твердые волны толкаются в бедра ее, причиняя тягучую боль, она одолела подъем и вошла в прохладные сени.
Весна была в самом разгаре. Причудливо скроенные молодые листья наивно шептали друг другу, что скоро, прозрачные, с терпкими косточками, сладчайшие и золотые, как солнце, начнут созревать виноградные гроздья, а девы, чьи глазки похожи на ягоды, придут собирать их в большие корзины.
Прислушиваясь к голосам этих листьев, она прилегла на прогретую землю. Боль стала спокойнее, тише.
— Бог даст, и дойду, — прошептала она. — Уж больно одной неуютно в дороге…
Ей вспомнилось, как болтали когда-то отцовские жены и перебивали, свистуньи, друг дружку, пугали молодок, недавно доставленных в ханский дворец:
— Как схватит тебя, да как скрутит! А евнух кричит: «Тужься, матушка, тужься!» Какое там «тужься»? Уж лучше бы смерть, чем терпеть эти муки!
И вдруг так внезапно, безудержно, весело поплыли видения прошлого.
Вот девочка Зара сидит на ковре, а батюшка входит в покои, рассерженный:
— Нахраби, чертовка! Аллах тебя дерни за жирные космы! Зачем ты ребенка оставила здесь? Все окна открыты, из всех щелей дует, ребенок в одной распашонке!
И тут же склоняется к Заре:
— Голубка моя! Еще краше матери, дай нам Аллах! Пойдем, детка, к папе! Пойдем, поиграем!
Берет ее на руки. Зара вдыхает цветущие розы, какими он пахнет, когда завершает обряд омовения. Тогда натирают его, обнаженного, маслами, которые, в пестрых халатах, усатые, привозят купцы из далеких земель. В столовой он кормит ее пахлавою и сладким щербетом. Потом они вместе листают альбом, тяжелый да бархатный, с желтой застежкой, наверное, тоже из чистого золота.
— Смотри, моя девочка, вот твоя мама. Медовый наш месяц. Я ей говорил: «Для чего нам Дубай? Поедем в Париж или лучше в Италию!» Она заупрямилась: «Раз уж я вышла по страстной любви за тебя, мусульманина, то вера твоя и моей будет верой! Закрою себя до бровей, даже евнух, купающий нас, жен твоих, в водоемах, ни кос моих не разглядит, ни лица!» Аллахом клянусь: я такой не встречал. Поэтому сердце мое прикипело к тебе, и поэтому ты одна утешаешь меня в этой жизни…
Они, зачарованные, умиленные, листали альбом. За страницей страницу. Вот мама в каком-то старинном костюме: на шелковом платье с узорами кофта, на кофту наброшена то ли лисица, а то ли другое какое животное. Стоит, подпершись, каблучком своим красным уперлась в крылечко, и столько в ней удали! Такая размашистая красота во всей ее позе, в разлете бровей, в лукавой и кроткой славянской усмешке! А вот молодые в Дубае. На нем темно-синий халат из капрона, просвечивают аккуратные плавки, на маме купальник, закрытый, однако, тяжелою тканью, похожей на занавес в каком-нибудь самом столичном театре. Листают альбом до тех пор, пока, нежно погладив ее золотистый затылок, отец шепчет Заре:
— Ну, хватит. Беги. Нахраби скажи, что весьма недоволен я глупым и вздорным ее поведением. Еще посмотрю-посмотрю да уволю. Пускай тогда едет лимитчицей к русским, а мне не нужна никудышная нянька!
Теперь Катерина почти что всплакнула: отцовские руки и взгляд его добрых, всегда обращенных на доченьку глаз заставили сердце тревожно забиться. Она понимала, что нет такой силы, чтобы на минуту — на четверть минуты — увидеть отца и прижаться лицом к его мускулистой широкой груди, почувствовать снова ладони отцовские на влажных от солнца, усталых плечах.
— Прости меня, батюшка! — тихо сказала она, обращая глаза к небесам. — Прости меня, если ты не перенес разлуку со мною! Дождемся, Бог даст, той блаженной минуты, когда наши души, покинувши землю, узнают друг друга. А ты мне поверь: ни дня не прошло, чтобы я тебя, батюшка, не вспомнила и не заплакала сердцем…
Она промокнула оборкою платья тяжелые веки. Вдруг боль так ударила в низ живота, что от неожиданности Катерина присела на корточки и обхватила колени руками. Боль вроде притихла, но снова ударила. Тогда подползла она к теплым ногам Ефремушки и ухватилась за них. Ефремушка лег рядом с нею.
— Ефрем! — спросила она. — Я умру? А? Ефрем?
Он быстро захлопал ресницами. Наверное, сам испугался.
Вдруг над головами их, громко, ликуя, запел серебристый мальчишеский голос:
Áve, María, grátia pléna; Dóminus técum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами И благословен плод чрева Твоего!Голос набирал силу, и теперь стало казаться, что это поет вся земля вместе с небом, все птицы и звери, и все насекомые, ползущие к свету, и все пауки, все жгучие пчелы, все кроткие бабочки, румяные дети и все старики, которые сильно мешают живущим, поскольку давно уже съели свое, давно уже выпили и отплясали, а все еще требуют места под солнцем, все хочется им хлеба, меда, вина… И петь тоже хочется, очень петь хочется!
Да, пела земля, пело небо, а боль, разгрызшая ей весь живот, опустилась, и что-то горячее хлынуло в траву. И вдруг перед нею возникла Инесса. Она даже не удивилась. Инесса была ей всегда вместо матери. Наверное, это ее появление могло означать то, что Инесса, умершая, пришла к ней оттуда: помочь Катерине собраться в дорогу.
— Да я-то готова, — сказала она. — Ребеночка жаль. Не смогла я родить.
— Сейчас ты родишь, — прошептала Инесса. — Сейчас я тебе помогу, Катерина.
Она говорила тем самым чуть хриплым, как будто прокуренным голосом. И руки ее пахли так, как всегда: коричневым мылом, какое Инесса варила из свежей и сочной крапивы и очень горячих коровьих лепешек.
— Вставай, Катерина, — сказала Инесса. — Нельзя же все время лежать. Походи. Сестрица Варвара, подайте ей руку.
Откуда-то выскользнула, словно тень, закутанная во все белое женщина.
— Ходи, ходи, милая, — проговорила она с чуть заметным акцентом. — Дитя залежишь. Нужно двигаться, милая.
Опираясь на невесомую руку сестрицы Варвары, Катерина сделала несколько шагов, но, ойкнув от боли, опять села наземь.
— Он ищет свой путь, — объяснила Инесса. — Ему-то страшней, чем тебе. Там темно. Пойди-ка пробейся! Да все ведь один!
Инесса, наверное, ей объясняла, что сын ее ищет дорогу на волю. Пришло ему время покинуть тот рай, где пищей была материнская кровь, а воздухом жизни — дыхание матери.
В рукописном источнике этому трогательному и одновременно страшному моменту дано такое пояснение:
«Лоно матери — это море, великое и пространное, где вольно плавает дитя ее, не заботясь о том, быть или не быть буре, светить или погаснуть маяку. Как дождь и снег, которые нисходят с неба и туда не возвращаются больше, но напояют землю, чтобы не знала она жажды, так тело беременной женщины на протяжении всего отпущенного Господом срока напояет дитя ее животворными соками и не дает оборваться хрупкому существованию его. Но наступает великая минута, когда каждое из будущих существ должно проститься со своею матерью. Люди наивно полагают, что, оборвав пуповину, связывающую его с родительницей, человек переживает несказанную радость от первой встречи с той, которая девять месяцев носила его в своей утробе. Но наше скромное предположение есть то, что прощание с матерью куда горше их встречи, поскольку там, в темноте ее лона, царствовала абсолютная любовь и нерасторжимая близость. И когда повествуют нам о страданиях женщины, в муках отпускающей на свет дитя, о том, как рвутся ткани ее тела и хрустят выворачиваемые болью кости, мы просим не забывать о том, что испытывает ребенок, которого насильственно вырывают из мира, где был лишь покой и уют. Его выгоняют из этого мира еще нетерпимее, чем выгоняли Адама и Еву из светлого рая, и он начинает бояться и плакать. Он тычется так, как летучая мышь, которая прежде, чем вылететь сможет, изранит до крови убогие крылья. Но что-то им движет и не позволяет ему своевольничать. И мать, как ни странно, ему помогает. Хотя Катерина с той самой минуты, как только он в ней появился, боялась всего, что его ожидает, и страшно, до боли в груди своей, переживала угрозу того, что ребенка отнимут, сейчас она с ним заодно торопила минуту разлуки…»
Нужно отдать должное Инессе и ее закутанной помощнице: они умело помогали измученной роженице. Инесса поддерживала ее лохматую голову, поила холодной водой из ручья, Варвара же кротко пеняла Ефрему:
— Ах, будь ты ослицей, Ефрем, как бы кстати пришлось Катерине твое молоко!
Весь день прошел в муках. Она искусала до крови все губы, а руки ее были в черной земле, как в войлочных плотных перчатках.
— Не может он выйти. Большой, видно, слишком, — сурово сказала Инесса. — Сестрица Варвара, вам нужно решиться и произвести операцию.
— Помилуйте! Разве же в этих условиях… Мой опыт ничтожен…
— Однако он есть. — Инесса сверкнула глазами. — Она угасает, ребенок устал. С собою у вас то вино из бананов?
— Вино-то с собою. И все инструменты. Однако мне страшно.
— Всем страшно, — сказала Инесса. — Глядите: луна поднялась. Полнолунье сегодня. Луна нам поможет своим ярким светом.
— Да нехорошо, говорят, в полнолунье. Он очень силен, говорят.
— Кто? Дьявол? Сестрица Варвара! — Инесса всплеснула руками. — Да нам ли с тобою судачить о дьяволе!
Она положила себе на колени истерзанную Катерину и стала поглаживать мокрые волосы, испачканные ярко-черной землей.
— Не бойся, не бойся! — шептала она. — Родишь его по-современному. Пузо твое рассечем и достанем младенчика.
— Нет, так не хочу! — Катерина забилась, как бьется волчица, попавши в капкан. — Не дам нас зарезать! Ты ведьма, Инесса! Не зря говорят! Заткни этот нож себе знаешь куда? — И вырвала скальпель у кроткой Варвары. — Умрем — значит вместе умрем!
— Ну все! Разошлась, — прошептала Инесса. — Пора бы уж дать ей напиток банановый…
Страдания все нарастали. Бедняжка кусала ладони, плевалась и грызла холодную землю, молила Христа, потом стала звать себе в помощь Аллаха, потом просто хрипло и дико рычала, как будто бы разом забыла слова. К утру она стихла. Варвара раскрыла ей губы и быстро влила в ее рот мутно-белую жидкость.
— Вино из бананов, — сказала Варвара. — Сильнейший наркоз и вполне безопасен. Хвала всем святым, что вчера я взяла последнюю порцию этого снадобья. Смотрите: заснула. Ну что, начинаем?
— Давайте попробуем. Выбора нет. Зашить вы сумеете?
— Это нетрудно. Другое мне страшно: что с кровью-то делать? Вдруг не остановим?
— Я заговор знаю. Он, правда, языческий, но очень верный.
— Языческий, матушка? — смущенно спросила Варвара. — Уместно ли нам возвращаться к язычеству?
— Пора, приступайте. — Инесса как будто вопроса ее не расслышала. — Поздно. А то ваш напиток и действовать кончит.
«Времена Позднего Средневековья оставили незначительные свидетельства о тех хирургических операциях, которые были производимы тогда с величайшею осторожностью и сохранением тайны. Мало кто знает, что именно да Винчи родился через кесарево сечение, произведенное женщиной-хирургом, уроженкой далекой Индии, которая вместе с другими паломниками пришла в Рим, вступила в католический орден и попала под сильнейшее, почти магнетическое влияние Инессы… Что произошло с сестрой Варварой, настоящее имя которой, данное ей богатыми и знатными родителями, было Индранжит („завоевательница Индры“), доподлинно неизвестно, однако есть подозрения, что операция по извлечению младенца Леонардо из тела матери его Катерины была не единственной хирургической операцией, совершенной ею в условиях средневековой дикости».
— Мне потребуется ваша помощь, матушка Инесса, — тихо сказала Варвара.
— Огонь развести?
— Да, огонь. И держите ей ноги.
Инесса быстро развела огонь из сухих прошлогодних веток и изо всей силы надавила обеими руками на ноги обессилевшей и почти потерявшей сознание Катерины. Прокалив как следует на огне так называемый скальпель, при виде которого расхохотались бы все медсестры, нянечки и врачи бывшей Кремлевской, а ныне Первой Клинической Больницы по Управлению Делами Президента, сестрица Варвара быстро и резко произвела глубокий разрез от лобкового сочленения до пупка, открыв, таким образом, не только брюшину, но и матку, в которой находился ребенок. Изнутри раскрывшихся телесных тканей, ярко-красных от хлынувшей крови, женщины поспешно извлекли чудесного, с круглым лицом и ясными глазами нежнокудрявого младенца, которого Инесса немедленно прижала к обнаженной груди его потерявшей сознание матери. Тем же ножом сестра Варвара быстро перерезала пуповину. Младенец подождал пару секунд и, наконец, мелодично, но страдальчески закричал, раскрывая слипшиеся легкие и подтверждая самостоятельность своего существования. Между тем Инесса, передав младенца Варваре, перевернула на бок мать новорожденного, слив на траву всю скопившуюся жидкость и осторожно вынув сгустки только что остановившейся под силой ее заговора крови. Рукою, тщательно промытой банановым вином, она извлекла влажную плаценту, в те времена известную только под примитивным названием «детское место», и Варвара снова положила ребенка на материнскую грудь. После этого обе женщины быстро прижгли раскаленным металлом все еще немного кровившие края брюшины, Варвара соединила их, сшила с помощью простой иголки, а после этого наложила на живот Катерины полотняную, пропитанную какой-то мазью тряпочку.
Прошло полчаса. Теперь затаите дыхание: я вам расскажу что-то очень чудесное. Спала Катерина, к себе прижимая младенца и даже во сне улыбаясь счастливой, лукавой улыбкой, спал мальчик, омытый Инессой и вытертый насухо синею тканью, спал верный Ефрем, подложивши под лоб мохнатую лапу, и спали, обнявшись, Варвара с Инессой. Одна — вся закутанная, как положено закутывать женщину в Индии, другая — в простом черном платье и красной косынке. Апрель был в своей середине. Палило вовсю флорентийское солнце. Внизу, под холмом, жизнь бурлила все так же: чума пожирала людей, шли молебны, обрушивались укрепленные крепости, мужья изменяли своим верным женам, а жены своим, тоже верным, мужьям, каких-то людей хоронили, каких-то бросали в зловонные ямы, прощали долги перед смертию и долгов не прощали, пекли белый хлеб, воровали и лгали, клялись любить вечно, но не получалось. Короче: шла жизнь, как мы все ее знаем по книгам, по опыту и понаслышке.
Старик же, купивший когда-то на рынке рабыню из Азербайджана, сидел в ореховой роще и ждал. Теперь расскажи я кому-то, что старый, седой человек ждет, когда средь листвы появится ангел, меня бы, во-первых, упрятали сразу куда-нибудь за город и стали бы пичкать какой-нибудь дрянью, а если бы я объяснила, что это — метафора, «литературный прием», поскольку я все же известный писатель и знаю немало прекрасных приемов, — скривился бы тот, кто спросил, и захлопнул во гневе прекрасную умную книгу. Однако же именно так все и было. И это отнюдь не метафора, милые, отнюдь никакой не «прием», а правдивость заветной истории, многажды мной продуманной, многажды мной пережитой.
Он ждал ангела, который должен был сообщить ему решение, принятое там, поскольку заранее никто из людей не мог знать этого решения. Старик волновался и за Катерину, и за ее сына. Он уже выполнил все, что было ему приказано, и теперь боялся, как бы ангел не сказал ему, что миссия Катерины закончена и удивительный ребенок обойдется без нее.
Легкий ветер заиграл листвою, и одновременно с мелодичным этим звуком появился ангел. Он был в чистой белой сорочке, босой. Лицо его было хорошим, обычным, похожим на польское или на чешское. Прозрачные светлые волосы, сзади сплетенные в косу. На правой руке средний палец заклеен давно замахрившимся пластырем.
— Прости, опоздал, — ломким басом подростка сказал он и вдруг широко улыбнулся. — Дела. Разрываюсь на части.
— Я вижу, — глазами смеясь, отозвался старик, кивнув на заклеенный палец.
— А, это! Никак не привыкну к тому, что любовь меня уже не беспокоит. Нисколько! Одна платоническая. Нелегко. И я не один таков. Весь наш набор…
— А что Гавриил?
— Ты же знаешь его! Вчера пригрозил: «Всех отправлю на землю!» Куда мне на землю? Я там пропаду.
— А про Катерину решение было?
— Не скажешь, что очень хорошие новости, однако не скажешь, что очень плохие. Пока что сын будет при ней пять годков. А может, и три. Там еще не решили.
— Всего только пять или три! А потом?
— Зависит от многого. Но ведь негоже под маминой юбкою долго сидеть!
— Но что же ребенок в пять лет понимает?
— Да все понимает! Характер ребенка уже к трем годам до конца сформирован. Но ты не спеши: есть такие ребята, что им и до старости лет только с соской за нянькину ручку гулять по бульвару.
— Так что мне сказать ей?
— А это — как хочешь. Пока у нее есть пять зим и пять весен. Пускай не печалится: время — не птица, летит, да не быстро. Подрезаны крылышки.
Кивнул старику и пошел. Легкий, юный, с серебряной лютнею в правой руке.
Глава 12 Благодать
В эту же ночь Альбиере, жене нотариуса Пьеро да Винчи, приснился неприятный сон. Проснувшись и посмотрев в окошко, она увидела, как по улице ползла телега, наполненная мертвыми телами. Белоглазый негр управлял ею. Альбиера плотно задвинула шторы и сразу пошла в кабинет, взялась снова за рукоделие. Она вышивала к рождению мужа подушку со львом и котенком. История эта ей очень нравилась: какому-то льву прямо в клетку забросили котенка, чтобы этот лев его съел, но лев его так полюбил, что не съел, а сразу же удочерил, и котенок ему стал на свете дороже всего. Решила она вышить так: лежит лев, к груди прижимая котенка. Над ними — цветущая яблоня. Очень красиво. А главное, прямо за душу берет. Еще намекнуть нужно мужу, что он и есть этот лев, а она, Альбиера, — пушистый котенок. Вздохнув, Альбиера взялась за иголку и вспомнила, что уже две недели сидит она дома и в гости не ходит. Опять-таки муж запретил по причине еще не утихшей чумы. При этом он сам выходил куда хочет. Ей даже и не сообщал и не спрашивал, тем более и не жалел, что она в свои восемнадцать сидит сиднем дома и воет от скуки. И сны стали сниться ужасные: все время какие-то звери и дети, к тому же худые, голодные, грязные. В последние дни начал муж поговаривать, что нужно поехать к отцу, навестить. К тому же взять денег за проданный клевер. Когда Альбиера ему возразила, что время сейчас вовсе не для поездок, муж сразу взорвался, швырнул в нее ложечкой, а после ушел, хлопнув дверью. Вернулся под утро и спал у себя. Вообще-то семейная жизнь их шла бурно, как лодка по сильным волнам: то бросит под самое небо, то шваркнет об айсберг и сплющит все днище. Как все молодые, красивые женщины, она не хотела признать одного: что, может быть, он ее и разлюбил. Да как разлюбил? А вот носик припудрить? А платье надеть ежевичного цвета?
Вяло работая иголкой, Альбиера постепенно задремала. Бархатное шитье выпало из ее рук, она поудобнее положила голову с высокой короной прически на спинку зеленого кресла и, тихо сопя, ибо всю жизнь страдала от насморка, погрузилась в глубокий провидческий сон. Во сне Альбиера увидела мужа, который летел с дикой, бешеной скоростью на белой кобыле. Вглядевшись внимательно в эту кобылу, ревнивая женщина сразу заметила высокие женские груди и губы, такие влекущие, алые, жадные, что у лошадей таких губ не бывает. К тому же кобыла была крутозада, с кудрявою и золотистою гривой, большим животом и лукавой улыбкой.
«Беременная она, что ли? Вот дурость! Что, мало у нас лошадей не беременных?» — подумала, злясь на него, Альбиера.
Подумала и побежала за ними. Они мчались быстро, но и Альбиера летела как ветер, стремясь не отстать. В конце концов, Пьеро пришпорил кобылу и спрыгнул на землю. Кобыла развратно легла, словно женщина, и заколыхалась от тихого смеха. Смех тоже был не лошадиным, а женским, и груди ее волновались, блестели. Муж тихо лег рядом, лаская кобылу и что-то шепча ей в лохматое ухо. А дальше… Вот ужас, вот, Господи, стыд! Нотариус снял и камзол, и берет, снял кожаные шаровары, ботинки с тяжелыми пряжками старой работы, рубашку с красивым жабо и залез верхом на кобылу, вернее сказать, на брюхо кобылы. И тут Альбиера, крича и ломая прозрачные пальчики, набросилась прямо на них. Сон был отвратительным. Чувствуя запах каких-то дешевых духов, перемешанный с удушливым запахом грязной конюшни, отбрасывая от себя золотые и жесткие волосы гривы кобыльей, бедняжка хотела супруга безумного стащить с дикой лошади, но он, оскалившись, не дал ей себя оторвать, а со злобой заржал ей в лицо. Альбиера проснулась.
Закат золотил ее серое платье и туфельки на каблучках а-ля рюсс.
— К чему эта чушь? — простонала она.
И бросилась в библиотеку. Библиотека семьи да Винчи располагалась, кстати, на третьем этаже дома, рядом с кабинетом хозяина. Пользуясь отсутствием мужа, Альбиера быстро перерыла все бумаги на его письменном столе и наткнулась на странный документ:
«В случае моей кончины и кончины отца моего синьора да Винчи завещаю треть моего состояния синьору Веротти, живописцу и золотых дел мастеру, с тем, чтобы синьор Веротти вырастил на полученные от моей семьи деньги ребенка, прижитого мною от женщины низшего сословия Катерины Абдуллаевой, и дал бы ему образование, приличествующее…»
На том документ обрывался. Ловя тщетно воздух сухими губами, она опустилась на мягкий ковер, полученный мужем в приданое.
— Какая же гадость! — Она задрожала. — А я ему верила! Лучшие годы ему отдала! Красоту! Непорочность! Подушку, вон, шью подлецу и мерзавцу! А он разбазаривает наследство! Каким-то цыганкам и ихним ребенкам! Ну, ты же припомнишь меня, мой голубчик! — Она закусила губу. — Ты припомнишь!
В библиотеке Альбиера мигом отыскала Сонник и, прижимая его к груди, спустилась вниз, в гостиную. В гостиной сидела неожиданная гостья — синьора Беррини, родная мамаша обманутой женщины.
— О мама! — сказала тогда Альбиера. — Мужчины бывают хоть сколько-нибудь порядочными или все негодяи?
— Все без исключенья, — ответила кротко синьора Беррини, откалывая с поседевших волос лиловую ленту. — Мигрень целый день. Где вы воду берете? В колодцах опасно. Ее, говорят, отравили евреи.
— Нам воду привозят. А я не слыхала про то, что евреи опять баламутят…
— Такое отродье. Не могут не гадить. Но наши им не уступают! Шпана отовсюду сбежалась: и с юга, и с севера. Одних сицилийцев, вон, — тьмы, тьмы и тьмы. Решили, что, если здесь все перемрут, одни они и уцелеют. А значит, дома, огороды, все мануфактуры и все предприятия достанутся им. Я сказала отцу: «Когда я умру, все сожги, утопи. Но чтобы им всем ничего не досталось!»
— А он?
— Согласился, конечно. Он — тряпка. Но я уверяю тебя, Альбиера, когда я помру, папа женится сразу. Сейчас уже вижу в глазах нетерпенье.
Синьора Беррини устало вздохнула.
— Тебя что-то гложет, дитя?
Альбиера закрыла руками лицо.
— От женщины низкого происхожденья у Пьеро ребенок.
— Подумаешь, невидаль! Я думаю, что половина Флоренции твои незаконные братья и сестры.
— Но стыд-то какой!
— Да какой же тут стыд? Одни предрассудки. Меня от стыда отучили в ночь свадьбы. Я тоже была тогда вроде тебя. А нас после ужина целая свора вела с прибаутками в спальню. Ух, culo sporco! (Грязные жопы! — итал.)
(Синьора Беррини сказала покрепче, но во избежание склок с цензурой я не привожу перевода на русский.)
— И что же? — спросила ее Альбиера.
— Сняла с меня нянька одежду.
— Как, всю?
— А ты как ложишься в кровать? В верхнем платье?
— А папочка?
— Папочка тоже разделся. И мы с ним легли. Я была полумертвая. Все смотрят, все скалятся, слюни висят! Cani pozzelenti! (Вонючие псы! — итал.)
Альбиера не стала расспрашивать, что было дальше. Воспитанная в католическом монастыре, она привыкла смотреть на родителей с боязливым уважением и теперь, когда родная мать так неожиданно разоткровенничалась с нею, чувствовала неловкость. Однако же то, что у Пьеро есть женщина, еще и с ребенком, ее сильно мучило. Она подошла и горящим лицом уткнулась в затылок синьоры Беррини.
— Поплачь. — И синьора Беррини вздохнула. — И слезы бывают полезны, котенок. Ты книжки читала там, в монастыре, да пела, да все музицировала. Отец говорил: «Это образованье! Мы дали ей все, что могли!» Вот болван! Он мне говорил: «Ты прочти ее письма! Ведь это талант, это литература!» Зачем нам, к собачьим чертям, вообще книжки? Теперь их кто только не пишет! С ума посходили несчастные бабы! Я давеча в библиотеку зашла. Смотрю: полка классики. И — одни бабы! Донцетти, Устиноцитетти и эта… Забыла. Такая носатая. Ну, вспомню, скажу.
— Мама! Мне-то что делать? — И дочка расплакалась в голос. — Что делать? Вот сон мне сегодня приснился… Ужасный!
— Что в Соннике сказано? Ты поглядела?
— Да, Сонник! Я чуть не забыла! Вот здесь.
Альбиера быстро нашла два слова: «лошадь» и «кобыла», но Сонник давал противоположные толкования: «Видеть во сне кобылу, которую хочет оплодотворить ваш муж, значит получить неожиданное наследство от родственника, разводящего породистых лошадей на продажу. Однако не обольщайтесь: очень может случиться, что деньги достанутся не вам, а кому-то из родни, проживающей в другом городе или даже в другой стране».
И второе: «Лошадь и совокупление с нею вашего мужа означает то, что ваш муж стремится вложить неизвестные вам деньги в весьма рискованное предприятие и предпочитает сделать это, во всем советуясь с неизвестной женщиной, близкой ему не только телесно, но и духовно».
Последняя эта строка Альбиеру едва не лишила рассудка: она-то уж точно ему не близка! Швырнул же вон ложечку, чуть не убил!
— Послушай, — спросила синьора Беррини, — ну что ты, душа моя, все не родишь?
— Откуда я знаю? — И дочка вся вспыхнула. — Раз не получается! Что же мне делать?
— Без ведьмы, пожалуй, и не обойтись, — решила синьора Беррини. — Давай-ка я завтра одну приведу. Пускай разберется. А то ведь мучение сердцу: смотреть, как ты убиваешься по пустозвону!
— Мамаша, скажите! Любовь есть на свете?
Синьора Беррини задумалась.
— Какая любовь? — И махнула рукой. — Вот давеча мне рассказали историю. Жила тут у нас по соседству, в Венеции, одна престарелая парочка. Муж и жена. Он все торговал, я не помню уж чем, она занималась хозяйством. Все дети их выросли. А старики дряхлели, слабели, но, не уставая, пеклись друг о дружке. То он ей несет суп какой-нибудь вкусный: «Покушай, Марина, я сам приготовил!» То эта старуха ему ноги парит. «Джакомо, ложи свои ножки в ведро, а я подолью кипяточку! Сырая Венеция наша, зловонная! Попарь свои ножки, а я тебе пяточки маслицем смажу!» И вдруг — срок пришел: умер старый Джакомо. Еще до чумы. От каких-то болезней. Марина его схоронила спокойно. Слезиночки не проронила. Поминки, то-се, завещание, хлопоты… Потом ее видели разные люди. Сидела, спустив свои ноги в канал — ступени у них во дворце прямо в воду уходят, — на солнышке грелась. Ну, как черепаха! Прошло деньков семь. И вдруг — бах! Упала.
— Ай, ай! Утопилась?
— Зачем утопилась? Сама померла. А тело-то легкое, в воду сползло. Застряло на самой последней ступеньке. И ведьма сказала: «Джакомо позвал. Его побегла догонять. Догнала».
Синьора Беррини вздохнула.
— Пойдем-ка помолимся Деве Марии. Родить тебе надо. Вот что я скажу.
И долго молились они, долго-долго, хотя это не помешало матроне послать слугу к ведьме и очень любезно, прислужнице дьявола пообещав хорошее вознагражденье, просить к ним пожаловать утром.
В «Садах небесных корней» так объяснены особенности тогдашних представлений:
«А вам, надменные потомки, только кажется, что нынешнее время так уж сильно отличается от того, далекого, по вашим земным представлениям, времени. О, это не так. Царит в головах людей темная путаница, венчает она лбы людей, как корона. Боятся они своих призраков ложных и слов скудоумных, а эти слова ведь сами же и произносят, несчастные. Хотят, чтобы все их любили и грели в объятиях до духоты. А греть можно сердцем, отнюдь не руками. Нет места душе в человеческом теле. Желудок и производительный орган все заняли в нем. Но если вы думаете, что открыли сейчас что-то новенькое в человеке, какую-нибудь хромосому кудрявую, так вы успокойтесь: была хромосома, такая же точно, ее только звали иначе. А впрочем, какая вам разница?»
Вернемся, однако, сейчас к Катерине.
Еще целый день, вернее сказать, день и ночь они провели в винограднике. Дитя народившееся, Катерина и две этих женщины: Варвара с Инессой. Поскольку вокруг шла чума, виноградник был пуст, и грустный Ефрем, их осел, объел на холмах всю ничейную травку и развеселился. Короче сказать: небо прятало их. Оно осеняло их светом весенним, закутывало в облака. В корзинке Варвары хранилась еда. Инесса носила в холщовых мешочках запасы каких-то цветов и растений.
Был вечер. Ребенка уже покормили, горбунья пекла молодую картошку. Стояла вокруг тишина, только птицы, повысунув клювы из темных ветвей, обменивались впечатленьями дня.
— Ах, люди совсем посходили с ума! — сказала худая чернявая сойка. — Они не боятся заразы и с трупов снимают одежду и кольца с браслетами!
— Да что там одежду! Я видела дочь, которая вырвала зуб золотой из челюсти только что умершей матери! — вмешалась другая, с оранжевым клювом.
— Всегда я страшился родиться мужчиной, — откликнулся дрозд. — Говорят, если слишком злоупотреблять дождевыми червями, то будешь наказан и в следующей жизни родишься мужчиной. Как мне сообщили, я сразу решил: питаюсь вегетарианскою пищей!
Катерина перепеленала сына, завернула его в кусок чистого полотна и положила недалеко от догоревшего костра на прогретую землю.
— Ах, если бы можно так жить до конца! — вздохнула она и утерла глаза. — Чтобы тишина, чтобы нас не искали…
— Да, это прекрасная мысль, Катерина, — сказала Инесса. — Еще лучше в гроте. Сюда все равно придут люди, а, скажем, в какой-нибудь грот или просто в пещеру… Но мы не вольны в своей жизни. Сестрица Варвара вот знает, как я пыталась уйти от всего, затвориться. Но не получилось. Покуда мы живы, мы любим кого-то, и эта любовь нас держит в плену. Ты помнишь историю жизни моей?
— Конечно, я помню. Такое забудешь!
— Но ты до конца-то не знаешь. Ведь я тебе не говорила, чем кончился мой гнусный разврат. А кончился он тем, чем должен был кончиться. В Венеции вдруг появился тот самый, который когда-то меня соблазнил. Приехал сей гранд из Севильи в составе комиссии главных отцов инквизиторов. Искали они двух каких-то маранов. На площади Марка устроили казнь. И я прихожу, разодетая в пух. Как будто бы на представленье. И вижу, каков он сейчас, мой голубчик. А лет прошло… сколько? Да, двадцать, не меньше. И он меня видит в толпе. Узнает. И так, знаешь, гаденько мне улыбается. Как будто мы с ним заговорщики. Гаденько!
— И что же ты сделала?
— Что я могла? Решила жить чистою, праведной жизнью. Но это ведь все на словах: «я решила»! Как мы говорим: «Бог простил мне грехи». Откуда мы знаем, простил или нет? Вот так вот и мучаюсь. Сколько уж лет…
— Пока я тебя не узнала, Инесса, я думала, что мне все в жизни понятно. А вот как с тобою мы поговорим, так словно туман на меня наползает… За деточку страшно!
— А ты не пугайся. Дитя тебя и защитит перед Богом. «Прости, — скажет, — Господи, матерь мою. Прошу Тебя: Ты не суди ее строго…»
Младенец услышал ее, и ресницы его всколыхнулись, но сон был так крепок, что он только сладко причмокнул губами.
— Ты знаешь, Инесса, вот как он родился, мне словно мужчины уже не нужны. Мне даже и Пьеро-то больше не нужен.
— Он, может, не нужен, а ты поползешь. — Инесса слегка усмехнулась. — За пыльный сапог его будешь хвататься.
— Я? Буду хвататься за пыльный сапог? Инесса, не знаешь ты женщин Востока! Нас режут, как кур, топят в горной реке, а если заметят, что дева какая сказала два слова чужому мужчине, умыться ему подала, например, так это позор до конца ее жизни! Уж лучше и смерть!
— Да что вы все как сговорились: «смерть, смерть»! — Инесса вдруг вспыхнула. — Я-то вот знаю, что мне жить осталось недолго. И смерть свою знаю. Она приходила.
— Как так приходила?
— Да проще простого!
— Какая она?
— Я лица не видала. Придет, станет сзади и дышит в затылок. Дыханье у ней холоднее, чем лед. Вот я по дыханью ее и узнала.
— Она говорила с тобой?
— Говорила. — Инесса опять усмехнулась. — Сказала: «Чего ты крестом от меня заслонилась? Ведь я — тоже он».
— Вот уж странная мысль!
— Чего же в ней странного? Жизнь — это крест. Несешь его, вся надрываешься. Терпишь. Раз бросить нельзя, значит, нужно терпеть. И смерть — тоже крест. Тоже стерпишь когда-нибудь. — Она наклонилась к младенцу, дотронулась губами горячего лба. — Не знаю я, что тебя ждет, Катерина. Грешна: погадала на картах, два раза смотрела на бычьих кишках. Темно — там, где ты. А там, где ребенок, — один только свет. Иди-ка, поспи. Он ведь скоро проснется. А нам уж пора собираться с Варварой.
— Позволь мне, Инесса, с тобою побыть! — вскричала испуганная Катерина. — Куда вы с Варварой, туда и мы с ним!
— Нет, мы, Катерина, с тобою простимся. Опасно тебе быть со мною сейчас.
— Опасно?
— Опасно. Да и не прокормимся. Ребенку режим нужен, дом, чистота. А здесь: то сума, то тюрьма. То чума. Ложись спать, голубка. Спи крепко, спи сладко… — Она потянулась и, мягко светлея горбом в темноте, прижалась щекою к щеке Катерины. — А я посижу здесь еще, поскучаю…
Катерина послушно подняла с земли ребенка и отошла поглубже в виноградник. Теперь выделялся на фоне холма отчетливый профиль Инессы и горб, оранжево-алый от блеска огня.
— Конечно, я больше ее не увижу, — сказала себе Катерина и всхлипнула.
Инесса же разворошила поленья и тихо запела. Как все ее песни, и эта была — народной, старинной испанскою песней. Ее пели женщины в горных селеньях, прощаясь с любимыми, но для монахини она, на мой взгляд, слишком уж откровенна.
Мой костер в тумане светит, Искры гаснут на лету… Ночью нас никто не встретит, Мы простимся на мосту. Ночь пройдет, и спозаранок В степь далеко, милый мой, Я уйду с толпой цыганок За кибиткой кочевой. На прощанье шаль с каймою Ты на мне узлом стяни! Как концы ее с тобою, Мы сходились в эти дни. Кто-то мне судьбу подскажет, Кто-то завтра, сокол мой, На груди моей развяжет Узел, стянутый тобой?Когда рассвело, Катерина проснулась.
— Инесса! — сказала она.
Только листья, совсем молодые, ответили ей своим мелодичным и ласковым шорохом. Костер лежал горсткой холодной золы. А рядом с золой пламенел тот платочек, которым Инесса всегда прикрывала свою поседевшую голову.
— Господи! — И слезы рванулись из глаз Катерины. — Ведь мы даже и не простились! Инесса!
Вот как сказано об этом в «Садах небесных корней»:
«Теперь становится понятным, почему монахиня, горячо привязанная к матери Леонардо, имела жестокую мудрость покинуть ее. Поступая так, она отрезала Катерине любую возможность уйти вместе с нею. Одна, без поддержки, Катерина вынуждена была выбрать тот путь, который позволил им с мальчиком выжить. Без денег, без крова, с новорожденным на руках, она решилась на то, чтобы возвратиться к отцу ее мужа. Отец ее мужа (она ведь считала, что Пьеро и был ее мужем!) готов был кормить ее и не скупиться. Она не хотела и думать о том, о чем догадалось давно ее сердце: почтенный владелец селения Винчи питал к ней глухую, безумную страсть и очень надеялся на исполненье его раздиравших желаний. Но он ее ждал, а никто в целом мире не ждал ни ее, ни ребенка, который впоследствии так осветил нашу землю своим пребываньем на ней, что, конечно, любой бы их принял в те дни, если б знал, что можно таким незатейливым способом войти в мировую историю нашу».
Она, вся в слезах, покормила младенца, покрылась косынкой Инессы и медленно (слаба ведь была, только что родила) спустилась с холма.
Седовласый Ефрем тихонько просил:
— Не сердись, Катерина. Его повезу. Но его одного. А ты для меня тяжела, не суди.
— Предатель! — шептала в ответ Катерина. — Другие ослы возят целые семьи!
Но он был упрям, настоял на своем: она поместила корзинку с ребенком на потной, мохнатой спине, а сама, держась за ослиное ухо, шла рядом.
Кроме ярко-красной шелковой косынки, Инесса и Варвара оставили Катерине все запасы еды, которые она тоже навьючила на осла, поэтому можно было не беспокоиться, что голод ее одолеет в пути. Было тепло, облака по небесной синеве бежали так легко и проворно, словно им и не было никакого дела до того, что происходит внизу. Однако и тем, кто внизу, не считая напуганных близостью смерти людей, дышалось легко. Наивные и изумленные этим наставшим теплом и пронзительной ясностью весеннего воздуха птицы сквозили над самой землей и потом, надышавшись медовыми запахами, возносились опять в небеса. Рыбы в реках зеленых, завидев друг друга во тьме, среди трав, приветливо, чуть сладострастно, угодливо оскаливались, потирались боками, что в мире подводном всегда означает не только доверие, но и любовь. Ни рыбы, ни птицы, ни звери в лесу отнюдь не боялись чумы и не знали, что это такое. Чума навещала людей исключительно, и весь беспорядок, все крики, все стоны они, то есть люди, и производили.
Теперь Катерина смотрела на все другими глазами. Ребенок, который задумчиво спал на потной спине у осла, казался ей центром вселенной. Любовь к нему переполняла ее. Чума, эта старая баба с гнилыми зубами и острой бородкой, которая так напугала людей, что их наступившим смиреньем и страхом накрыть можно было бы целое поле, ее не коснулась. Младенец был лучшей и самой надежной защитой от смерти.
Глава 13, в которой ангел одолел беса
Альбиера вместе со своею матерью, синьорой Беррини, прождали опасную гостью весь день. Благо все равно нужно было сидеть дома из-за бушующей в городе болезни, даже в лавочку за новыми шелками, только что привезенными из Индии, и то нельзя было выйти. Погода была ясной и солнечной, каменные полы в доме слегка нагрелись. Альбиера вздыхала, сморкалась в платочек, на вопрос матери, где муж, ответила коротко: «Como faccvio a sapere?» (Откуда мне знать? — итал.) — и, в конце концов, легла, как была, в белом бархатном платье, на каменный пол и застыла, подобно каким-нибудь хрупким скульптурам. Синьора Беррини потягивала яблочный сидр с добавлением грушевого сока для сладости и рассказывала своей неудачливой дочке последние новости.
— Вот мы с тобой пьем этот сидр, — неторопливо рассказывала она, — а мне говорили, что при французском дворе пьют дивный напиток, его только месяц назад привез один миссионер из Китая. И он называется чай.
— Te? (Чай? — итал.) — лениво переспросила Альбиера.
— Si, te (Да, чай. — итал.) Говорят, совсем золотого, чудесного цвета, немного горчит, утоляет и жажду, а даже и голод. Чудесный напиток!
— Совсем как любовь, — прошептала, не двигаясь, несчастная женщина. — Все утоляет…
— Опять за свое! Все любовь да любовь! Живут без любви, и прекрасно живут!
— А я не могу. По мне лучше чума. Зароют в канаве, лежи себе тихо.
— Семейство Беррини никто не зароет! В какую канаву? С ума ты сошла! Отец заплатил за наш склеп во Флоренции огромные деньги! Там ангел один чего стоит! С веночком. А ты про канаву! Как можно, ей-Богу!
Часов в пять раздался стук в дверь.
— Ну, вот и она! Наконец-то! Явилась!
В дверях стояла закутанная в черное ведьма. Из-под тяжелых складок высовывалась маленькая ножка, одетая со всевозможным кокетством.
— Позвольте пройти? — нежным голосом спросила она.
Раздевшись в прихожей и оставшись в свободном бледно-голубом с розовым платье, весьма аппетитно обнажавшем ее длинную гладкую шею и изящную грудь, на которой тяжело блестели нити отборного, скорее всего, заграничного жемчуга, ведьма вскинула на удивленных женщин ярко-зеленые глаза и, поправив белой ладошкой колечки рыжих волос на лбу, спросила:
— Где будет сеанс?
— Сеанс? Sessione? — не поняла синьора Беррини.
— Да, да, sessione! — ответила ведьма. — Я предпочитала бы в спальне супругов.
— Ах, там так не прибрано! — совсем невпопад объяснила хозяйка.
— Неважно, неважно! Там ваша постель. Там логово ваше. — И ведьма вдруг дико сверкнула глазами. — Туда и впустите меня, дорогая. В сакральную чащу супружеских ласк.
— В сакральную чаШу?
— В сакральную чаЩу! — И снова сверкнула еще пуще прежнего. — Ведите меня! Ах, ведите скорее! Там корень тревоги! Там пламя измен!
Не обращая внимания на их испуг, резвой ногой откинула подол платья и, подобрав розово-голубые оборки, как кошка, взлетела по лестнице.
— Пресвятая Дева Мария! — прошептала синьора Беррини, непослушными пальцами пытаясь перекреститься под шалью. — Спаси и помилуй!
— Э! Я попросила бы вас! — вдруг оскалилась вся рыжая, гибкая, ловкая ведьма. — Да, я попросила бы вас, чтоб без этого! Без всяких там крестиков и без поклонов!
Альбиера почувствовала, что еще немного, и она потеряет сознание. «Ах, пусть! Пусть все делает так, как ей нужно!» — пронеслось в бедной голове ее, и голосом, вдруг ставшим странно похожим на голос ее визитерши, сказала:
— Раз вам будет лучше в супружеской спальне, я не возражаю. Пройдемте, пожалуйста.
В спальне ведьма огляделась и, не мешкая, разрыла своими белыми, кое-где в веснушках руками все покрывала, кружева и балдохоны, желая как можно скорее добраться до чащи. Положив горячую ладонь на простыню, слегка кое-где желтоватую от липких подтеков (следов ночной страсти супругов), она вдруг закинула гладкую шею и словно кого-то о чем-то спросила. Синьора Беррини всмотрелась округлившимися глазами в темноту, и ей показалось, что там, в темноте, что-то вспыхнуло, красное. Но что это вспыхнуло, трудно сказать. Вполне может быть, что зрачки самого хозяина рыжей и наглой красотки. Прошло секунд тридцать. Ведьма деловито забралась с ногами в туфлях на разворошенную кровать, раскинула складки богатого платья и строго спросила:
— Давно у вас так?
— Давно у нас как? — Альбиера смутилась.
— Откуда протеки сплошные, я спрашиваю? Ведь все покрывало в протеках!
— А что это значит?
— Все семя его течет мимо да мимо, — сказала ей ведьма. — Тебя, дама, сглазили.
— Сглазили? Кто?
— Сейчас разберемся. Садись. Раздевайся.
— Совсем? Догола?
— Да, совсем, догола.
Поеживаясь, хотя в комнате с закрытыми ставнями было тепло, Альбиера послушно сняла сначала верхнее, белое бархатное платье, потом нижнее, темно-зеленое, из тонкой китайской чесучи, освободила руки от тяжелых браслетов. Она стояла перед чужой женщиной, помощницей дьявола, дочкой Нечистого, ничуть не стесняясь ее, ощущая вскипающую в каждой жиле свободу.
— Взяла бы я, дама, тебя в ученицы, — сказала ей ведьма. — Да время не то. Сама скоро перебираюсь в Болгарию. Места у них дикие, люди простые. А церковь ослабла. Никто и не тронет. — И вдруг приказала синьоре Беррини: — Мамаша, подайте мне ножницы.
Вспыхнув от столь фамильярного обращения, синьора Беррини сдержанно достала маленькие ножницы из корзинки с рукоделием и отдала их ведьме. Та быстро отрезала ноготь с мизинца на левой ноге Альбиеры и спрятала в черный мешочек.
— Тебе размельчить этот ноготь придется, — сказала она Альбиере. — Да так размельчить, чтобы он стал как пыль.
— Зачем размельчить? — упиваясь свободой, спросила ее Альбиера.
— Затем, что подсыпешь крупинку в еду… Как звать-то его?
— Пьеро!
— Ну, Пьеро так Пьеро. Подсыпешь крупинку и скажешь тихонько: «Так я тебя, Пьеро, топчу, как хочу, а ты подчиняешься мне, как мизинец мой собственный мне подчинен». Поняла?
— Конечно!
— Теперь давай ногу, мне нужно подошву твою поскрести.
— Ах, Боже! Зачем же скрести ей подошву? — вмешалась синьора Беррини.
— Мамаша! Ведь я не у вас попросила подошву! — И ведьма оскалилась, да столь сердито, что бедная мать вся смешалась и сникла.
Достав то ли пилочку, то ли полоску наждачной бумаги, суровая гостья взяла ногу женщины и соскребла с подошвы сухую и ломкую кожицу.
— Смешаешь с остатками ногтя. Подсыпешь в еду и шепнешь: «Как ноги мои по земле наступают на камешек каждый, так ты, о мой Пьеро, любить меня будешь и каждою костью, и каждою жилой, и каждой каплею крови своей». Потом отдышись и опять: «Люби меня так, о мой Пьеро, как я люблю свою кожу, лицо свое, волосы, и как я сама никому не отдам ни тела, ни духа, так ты, о мой Пьеро, всегда будь при мне». Потом слепишь куклу…
И тут Альбиера ее перебила:
— А можно мне выведать все его тайны? И знать, что за женщина с ним, от которой родился ребенок?
— Родился ребенок? Дай я погляжу сперва, что за ребенок, зачем он родился…
И, пробормотав эту странную фразу, дочь дьявола вынула зеркало. Сперва на него подышала сама, потом, проколов золотистой иглою запястие у Альбиеры, покапала на зеркало кровью…
С благодарностью обращаюсь к документу:
«Никто не знает о последних днях Вальпургии Оро. Известно только то, что, вернувшись домой после посещения Альбиеры, она слегла и больше ее не видели ни в одном из флорентийских домов. То, что она не попала в число тех, кто был сожжен, известно доподлинно. Список сожженных был тринадцать раз зачитан с амвонов и даже читался на рынках и в разных торговых, активных своей многолюдностью точках. Однако до нас дошли сведения, что, будучи уже немощной и еле двигаясь, Вальпургия Оро пришла к одному из священнослужителей и попросила разрешения исповедоваться ему. Во время исповеди она сообщила, что произошло с ней в доме нотариуса. Оказывается, заглянув своими зелеными и косыми, что является первым признаком нечистой силы, зрачками в зеркало, она увидела сперва младенческую руку, кротко и, как сказала ведьма, „с немыслимым милосердием“ покоящуюся на белом холсте. Строптивая женщина вдруг ощутила тепло, которое всю ее „запеленало“, ее выражением пользуясь. Не будучи в силах отвести глаз от зеркала, она, совершенно позабыв об Альбиере и синьоре Беррини, продолжала всматриваться. Невидимое дитя слегка повернуло всю руку настолько, что выпуклая ладонь обнажилась. Ведьма размякала от каждого еле заметного движения этой руки настолько, что низ живота ее вдруг увлажнился и сердце забилось, как это бывало от частых соитий ее с самим дьяволом. Раскрытая ладонь младенца отличалась белизной и яркостью, хотя по размеру своему не превосходила среднюю ладонь новорожденного. Тепло же, исходящее ото всей руки, усиливалось с каждой секундой. Стыдясь того, что происходит с нею, несчастная ведьма сползла на ковер с постели супругов и сразу свернулась в клубочек, поскольку природа ее позволяла осваивать позы домашних животных, а часто не только домашних, но диких. Потом, как сказала она исповедуясь, исчезла рука, но возникло плечо и маленький локоть, потрясший ее „выраженьем невинности“. Надо заметить, что Вальпургия Оро, малословная от природы, во время исповеди пыталась, как могла, передать духовное потрясение, которое пережила она в тот день, и потому странный факт, что священник оставил после этой исповеди краткую запись в церковной тетради, весьма важен для понимания дела. „Она, — записал священник, — говорила с трудом, как говорит человек, не позволяющий себе произнести ни одного лишнего слова, но зато те слова, которые она выбирала, отличались сокровенностью и точностью смысла. Особенно поразило меня, что на вопрос мой, удалось ли ей увидеть в зеркале лицо младенца, ведьма начала биться в судорогах, которые мне с трудом удалось успокоить с помощью крестного знаменья и чтения молитв. Затихнув, она созналась, что собственно лица младенца разглядеть не удалось, но всякое воспоминание о том круглом свете, который сосредотачивался в области, расположенной над плечом, которую она не могла и разглядеть в силу его пронзительной яркости, приводило в содрогание всю ее телесную природу. Если верить этим признаниям, Вальпургия Оро, с рождения вступившая на путь смертного греха и заслужившая того, чтобы быть сожженною или же повешенною, что, однако, не так безопасно, как сожжение в огне, ибо плоть, обращенная в пепел, не имеет возможности восстановиться в человеческом образе, покинула дом Альбиеры да Винчи немедленно“».
Она загрохотала ногами, обутыми в наимоднейшие туфли, каждая пряжка на которых стоила столько, что можно было бы полгода прокормить какой-нибудь, скажем, затерянный остров со всем его взрослым мужским населением. Она полетела по лестнице вниз и, не попрощавшись, не взяв даже денег, нажитых нечестным трудом, распахнула тяжелую дверь, оказалась на улице, где те же телеги полз-ли с мерным стуком и те же сидели возницы, которые как будто гордились своею работой.
— О, мама, — сказала тогда Альбиера, — она что-то видела в зеркале. Что?
Синьора Беррини, уже и без того напуганная своим предложением обратиться к ведьме с тем, чтобы наладить супружеские отношения дочери с мужем, промычала невнятное и, кликнув служанку, ретировалась. Альбиера же с опаской взяла в руки брошенное на ковер зеркало, заглянула в него, но не увидела ничего, кроме собственного своего отражения, поразившего ее бледностью кожных покровов.
Глава 14 Пьеро да Винчи попался
Теперь возвращаюсь в селение Винчи, к оставленной там Катерине с младенцем. Несмотря на близость к Флоренции, селенье не знало чумы. И куры в своем обветшалом курятнике, и свиньи, задравшие лица к луне, и лошадь, жующая сено в конюшне, — короче, все слышали, что в богатейшей, роскошной Флоренции смерть так и косит несчастных людей, согрешивших, конечно, столь сильно, что их на корню уничтожить — единственное, что осталось.
Деревня готовилась спать. Отец бесшабашного Пьеро да Винчи стоял у окна и стучал по стеклу костяшками пальцев.
…Она не выходила у него из головы, эта светловолосая женщина, осемененная, так сказать, его собственным сыном и таким образом связанная с ним теперь родственными узами. Мозг его отказывался признать родственную связь, кровь при всякой мысли о ней бурлила так сильно, что иногда, особенно по ночам, ему приходилось вскакивать и бежать на двор, где специально для таких минут ждала его огромная, обитая серебром бочка с ледяной водой. Погрузившись по горло в эту ледяную воду, весь огненный и распаленный, синьор затихал. Теперь он стоял у окна, не зная, что делать: искать ли ее или плюнуть, забыть? Вот так вот и плюнуть! Он плюнул на каменный пол. Пятно сразу высохло, но пустотой — такой ледяной пустотой его охватило при взгляде на высохший сгусток слюны, на полное исчезновенье живого, горячего, им же исторгнутого, что он сразу плюнул еще раз и долго смотрел, как плевок его пенится, но не исчезает и не высыхает.
Собака залаяла, и в темноте возник старый грузный осел. На осле стояла корзина. Наверное, с фруктами. И вдруг он затрясся: она, Катерина. Вернулась! Владея собою, да Винчи пригладил кудрявые волосы. Он не побежал ей навстречу, но пальцы его захрустели сильнее, чем хворост в костре: он их стиснул до боли. Она шла к нему тихой, ровной походкой. Глаза ее ярко сияли. Они не сияли так ярко тогда, когда он застукал ее с полюбовником. Эх, стыдно сказать, с его же родным, непутевым, безмозглым, но жутко удачливым Пьеро! Тогда ее всю лихорадило, да. Ее колотило. Пшеничные, льнули и липли к вискам волнистые волосы. И тело вздымалось и перетекало, как тесто, тяжелое и золотое. Сейчас Катерина была так тиха, как тих над рекою туман, как трава, когда ее крепко побило дождем. И вдруг он все понял. Представьте себе! Мужлан и вояка, простой сельский барин вдруг понял такие дела, до которых не всякий философ дойдет, и не всякий поэт их учует, когда он спешит вослед своей музе, коварной пустышке.
А понял он вот что. Любовь есть душа. В глазах Катерины, к нему приближавшейся, сияла душа. Сама Катерина ступала неловко, одежда ее была мятой, несвежей. Но это сиянье, о Господи Боже! Ревнивая память ему подсказала, что, значит, и сына его вислоухого она не любила. Созревшая женщина сама идет в руки тому, кто окликнул. Она — как налившийся плод. Тот первый, который сорвет этот плод, тот съест все до косточки, слижет с ладони последнюю капельку сладкого сока. Да, сыну его повезло, лежебоке.
Да Винчи почувствовал боль в своей левой, заросшей волнистою шерстью груди: «Но мне-то как раз и хотелось вот этого! Чтобы ты любила меня! А не просто потели подмышки от совокупленья! Мне девок хватает, и баб мне хватает! Любви я хочу, старый хрыч, напоследок! Не зря Алигьери мне так ненавистен!»
Он вытер локтем липкий пот, присмотрелся. Она наклонилась к корзине. Ну, ясно. В корзине не фрукты лежат, а младенец. Она родила.
Тогда он спокойно спустился по лестнице.
— Ну, как ты? — спросил он. — Вернулась? Пора!
Она не ответила и засияла глазами в глаза. Он сморгнул и смешался.
— Простите, — сказала она.
— Да уж ладно, — ответил он. — Я волновался. Чума.
— Ах, что мне чума? — прошептала она. — Воды прикажите нагреть, да побольше.
— Останешься здесь? — он спросил.
— Как вы скажете, — шепнула она. — А куда мне идти?
— Ну что же, — он снова смешался. — Раз некуда…
Она усмехнулась.
— Вы сами все знаете.
— А хочешь, пойдем обвенчаемся? Хочешь? — спросил он сквозь зубы. — Обрадуем Пьеро!
— Ах, что вы! — она опустила глаза. — Зачем вы сейчас так себя унижаете?
— Да я пошутил! — отмахнулся он резко. — А ты уж подумала… Я пошутил!
— Вы не пошутили, — опять усмехнулась. — А что ж вы не взглянете на Леонардо?
— Зачем ты его назвала этим именем?
— Инесса его назвала так. Увидела и сразу сказала: «Вот и Леонардо. Давно тебя ждали, дитя. И дождались».
— Опять эта ведьма!
— Инесса не ведьма.
— Вот я донесу на нее! Доиграешься!
— Тогда вы меня не увидите больше.
И загородила младенца руками.
— Дай мне посмотреть на него!
— Поклянитесь, что не донесете.
— Клянусь. Пошутил.
Она ярко вспыхнула черным зрачком из-под покрывала.
— Ну ладно. Смотрите.
Да Винчи нахмурился и заглянул. Младенец не спал. Было жарко, весна. Лежал в одной белой сорочке, которая ему доходила всего до колен. Да Винчи почмокал губами. Ребенок слегка улыбнулся и сразу заплакал.
— Ну вот. Напугали его. — Катерина взяла сына на руки. — Он вас не знает.
— Голодный, наверное. Ты говорила, воды, что ли, нужно нагреть?
— Да, воды.
— Чего мы стоим здесь?
— Вы, правда, хотите… — она покраснела.
Он скрипнул зубами. Чуть не закричал: «Да! Очень! Хочу тебя очень!»
Однако сдержался:
— Он внук мне. Забыла? А с кем ему жить, как не с дедом родным?
— А я что? — сказала она и запнулась.
— Что ты? Ты при нем. Я тебя потерплю.
И захохотал так отрывисто, странно, что снова она на него поглядела с тревогой и еле заметным упреком.
«Все мысли читает! — подумал он быстро. — Не хуже Инессы, а может, и лучше».
Подставил ей руку. Она оперлась. И так они переступили порог.
Через неделю Пьеро да Винчи получил письмо от отца.
«Любезный сынок! — писал старый да Винчи. — Спешу сообщить тебе, что прежняя твоя пассия Катерина благополучно разрешилась от бремени. Ребенок сей — мальчик, как мы того ждали. Самой Катерине проделали хирургическую операцию на животе и детородных органах, чтобы извлечь из нее неправильно повернувшегося младенца и не допустить гибели ни матери, ни дитя. Имя, которое выбрала наставница Катерины, особа весьма подозрительная и неприятная, повергнет тебя, сын мой, в недоумение. Назвали его Леонардо. А я записал в нашей книге церковной: „Сын Пьеро да Винчи, рожденный в апреле, 15-го дня, сего года“. Таким образом, этот ребенок будет носить нашу фамилию. И мать, и дитя поселил я покамест у себя и не чувствую никаких хлопот и тягот от этого своего решения. Катерина — женщина ловкая и трудолюбивая, она уже прибрала к рукам все мое хозяйство и распоряжается домом по своему усмотрению. Любовь же ее к младенцу Леонардо превзошла все ожидания. Молока у нее достаточно, так что ребенок растет добрым и здоровым. Она же готова всю жизнь продержать его на руках у груди. Покормив новорожденного, она не сразу укладывает его в колыбель, а еще долго носит по комнате или саду, любуясь на его лицо и смеясь от умиления. Чистую правду говорю тебе, сынок: такого не видел никто. Грешен я, думая, что так, может быть, любила своего Сына только Пресвятая Богородица наша, Дева Мария. Вспоминается мне при виде Катерины, женщины низкого, восточного происхождения, как я заглянул однажды на досуге в мастерскую одного художника, ныне совершенно забытого. Полное имя его Томмазо ди Джаванни ди Симоне Кассаи, а иначе сказать, Томмазо Гвиди, и я был в молодые годы близким приятелем его отца, тоже нотариуса, как и мы с тобой, но рано умершего. Сам Томмазо умер лет двадцать пять назад, не достигнув и тридцатилетнего возраста. Ровно так же, как и отец его. Такая, видно, несчастливая судьба у всех мужчин этого рода. Но тебе, столичному жителю, может быть, и встречалось имя этого мастера, которого прозвали Мазаччо, то есть „мазила“, как ты догадываешься. Под именем Мазаччо он, я надеюсь, когда-нибудь и воскреснет для наших потомков в своих живописных полотнах. Хотя… Что мы знаем о вкусах грядущих веков? Ничего. В мастерской этого беспечнейшего и добрейшего человека я увидел изображение Мадонны с Младенцем Христом. Представь себе, сын: я — человек скорее грубый, чем утонченный, любящий деньги, лошадей, сельское свое хозяйство и женщин любого, скажу тебе, возраста, поскольку в каждой есть свой живительный сок и своя скрытая привлекательность, глядя в этой мастерской на изображение Мадонны с ребенком на руках, едва не заплакал. Такая преданность и любовь к своему Сыну была в Ней, что глаза мои невольно наполнились слезами. Теперь в собственном своем доме я имею счастливую возможность лицезреть картину подобной преданнейшей и нежнейшей любви. Должен тебе сказать, дорогой Пьеро, что первый раз мне пришло в голову, как несправедлива жизнь человеческая, если в ней придется такой, как Катерина, женщине разлучиться рано или поздно со своим сыном».
Пьеро да Винчи прочел отцовское письмо и, хорошо зная своего родителя, начал думать, что именно прячется за его словами. Он помнил, что несколько месяцев назад отец жестко объяснил ему, что если родится мальчик, то по истечении трех-четырех лет его нужно будет отобрать у матери и дать ему хорошее столичное воспитание. Теперь, судя по написанному, он вроде бы всем сердцем сочувствовал Катерине и не хотел, чтобы у нее отбирали ребенка. Отец его не был ни простодушен, ни особенно отзывчив, детей своих любил сдержанно и больше всего на свете ценил собственные удовольствия. Склонность его к противоположному полу была почти пугающей: женщины в самом соку, юные, едва расцветшие девы, девочки, только-только достигшие тринадцатилетнего возраста, и даже стареющие крестьянки с руками, покрытыми темным загаром, и мощными, как и должно быть, задами, поскольку от вечной работы на поле зады их становятся больше кобыльих, его привлекали к себе, и да Винчи порою сменял за ночь пару любовниц. Бывало, что девственница, вся дрожащая, вся в пятнах на тоненькой шейке своей, ложилась на ту же перину, с которой, нагрев ее простонародной любовью, вставала сердитая баба, пропахшая до самых ступней чесноком и кинзою. Представить себе, что отец его нежно следит из окна, как по темной аллее идет Катерина с младенцем, играющим каким-нибудь там лепестком или перышком, разумный нотариус просто не мог. Однако ему пришло в голову вот что: «Страшащийся смерти родитель, наверное, обрадован случаем сделать добро. И раз мы живем в это жуткое время, когда по дороге боишься наткнуться на мертвое тело, когда все молчат, как будто их рты заморожены, или рыдают, как ночью рыдают шакалы, а разная сволочь, нечистая на руку, пытается только нажиться на горе, — раз выпало нам жить в такую годину, то, верно, отец мой приход Катерины воспринял как то, что Господь проверяет, способен ли он на заботу о ближнем».
Ах, как он ошибся. Вернее сказать, какой произвольный зигзаг совершила незрелая мысль человека, который привык плотью — жить, плотью — думать и даже любовь свою помнить лишь плотски, поэтому и явленья духовные: сомнение, жалость, сжигающий стыд — всегда относил к пустякам и немедленно выбрасывал их из сознанья. А плотью: здоровьем ее, ее сытостью, ее волосами, ногтями, зубами и запахом, пряно идущим из паха, когда он, бывало, домой возвращался с удачной охоты, а главное, диким, ни с чем не сравнимым желанием женщины — теперь он вдруг стал дорожить еще больше. Когда вспоминал, как спешил к Катерине, сжимая в ладони записку ее, как врал Альбиере и как не дотронулся до свежей хозяйки дорожной гостиницы, ему становилось досадно, как будто, стреляя в оленя, попал он не в сердце, не в шею животного, а промахнулся и ранил своим арбалетом собаку.
Лукавая плоть бесновалась в желудке, шумела горячею кровью в ушах, и он, словно бы уменьшаясь душою, спускался все ниже, и ниже, и ниже, рискуя закончить той свалкой, в которую возница, черней, чем летучая мышь, свозил на телеге умерших и наскоро их всех засыпал равнодушной землей.
Один из философов, имя которого все время выскакивает из памяти, оставил вполне здравое рассуждение, обьясняющее, что происходит с людьми во время больших общих бедствий. Жил этот человек не то немного позже, не то немного раньше да Винчи, но каким-то образом получил доступ даже к архивам нашего с вами недавнего времени. А как получил, не могу объяснить. А если бы даже могла, так не стала бы.
«Нельзя утверждать, — писал этот философ, — что на психику большинства людей не оказывают своего воздействия такие факторы, как голод, болезни и страх. В связи с этим вспоминается мне один из самых великолепных на земле городов, вознесенный над холодною, серебристо-серого цвета рекою, в которой водится маленькая, неказистая рыбка, именуемая корюшкой, и вкуснее ее, особенно в жареном виде, нет ничего на свете. В ноябре не важно какого года, поскольку все лета, все тысячелетия подобны друг другу, великолепный город оказался в кольце врага и был отсечен от живого. И начался голод. И смерть наступила так, как наступает зима или вечер. Поскольку я сам не был там, то мне легче сослаться на тех, кто все видел воочию. „Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, а остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всякой мишуры: одни оказались замечательные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие люди. Совершались чудеса“, — вот так вспоминал близкий мне человек, с которым беседовал я незадолго до смерти его, но надеюсь всем сердцем, что буду еще очень часто беседовать, когда умру сам, и ужтамнам никто не станет мешать вспоминать обо всем, чтоздесь,где мы жили и умерли, было. И во времена, когда погибал этот великолепный город, и тогда, когда чума сотрясала Флоренцию, и когда ополовинилась от неурожая средневековая Германия, и в те времена, когда голодомор спрессовывал трупы в земле Украины, — всегда небеса разверзались, и люди с живою душою в них видели Бога. И Бог видел их».
Пьеро да Винчи — то ли именно из-за того, что ему выпало жить в зараженной чумою земле и чувствовать ежедневную опасность, то ли оттого, что не было рядом с ним высокого сердцем и чистого разумом человека, а были одни свистуны и гуляки, то ли оттого, что отец передал ему частицу своего развратного эгоизма, а может быть, и от всего вместе взятого — умудрился за полгода превратиться из романтического и пылкого юноши в жадного до денег дельца, который превыше всего ставил собственную выгоду и, в сущности, нисколько не боялся Бога. Никто не утверждает, что в нем полностью погасла любовь к Катерине или, вернее сказать, погасло то, что он принимал за любовь к ней, но соображения мелочные, сугубо практические и недостойные одолевали его со всех сторон, и, будь он каким-нибудь русским писателем, сравнил бы он сам себя с горсткою сахара, засиженной мухами столь густопсово, что цвет его белый почти не просвечивал.
Люди не любят себя плохими. Это уж только совсем вывернутый человек (скорее всего, что не в жизни, а в книжке какого-нибудь, скажем, хоть Достоевского) начнет упиваться своими пороками и так упивается самозабвенно, что даже читателям надоедает. В основном же люди с легкостью извиняют себя и, как щенки, отворачивающие мордочки, если тыкают их носом в только что наложенную, слегка еще дымящуюся кучку, отворачиваются от своих недостатков и любому плохому поступку находят приличное объяснение. Пьеро да Винчи немедленно вспомнил о законной жене Альбиере и о том, что неверность в браке заслуживает порицания.
«Ведь я же жалею свою Альбиеру, — подумал он грустно. — Жалею глазенки ее, ручки, ножки и круглые плечики с розовым следом от тесных бретелек и, пуще всего, жалею ее эту скользкую норку, которая — что уж таиться! — тесна зверьку моему, но поскольку я муж, законный ее обладатель, зверек мой обязан туда пролезать, скрестись там, покуда не кончится рвенье. Да, тесно! И пахнет какой-то селедкой! Но это не просто селедка, которую кухарка готовит под шубой на праздник, а это другая селедка, законная! И грех ею пренебрегать, смертный грех! Так что получается? Бросив здесь крошку, помчусь я в деревню к отцу, к Катерине и там, разумеется, вмиг потеряю рассудок при виде ее. Снова слезы, безумные ночи и ссоры с отцом. Ребенка к тому же сюда брать нельзя. Что делать мне в городе с малым ребенком, оторванным от материнской груди?»
Мало кто знает, что, кроме соображений личной безопасности, у молодого нотариуса были и другие, очень щекотливые с точки зрения морали, но весьма соблазнительные для него самого соображения. Дело в том, что буквально в двух шагах от скромного дома да Винчи, где каждое утро штору в спальне отдергивала перламутровая от солнца рука Альбиеры, находился роскошный, с признаками, однако, морального упадка в своей архитектуре, дворец Козимо Медичи. Этого немолодого уже, суховатого и легконогого человека не зря называли «серым кардиналом». Держащий в руках своих банки страны, отнюдь не стыдящийся сделок с арабами и даже евреями, среди которых всегда было много хитрюг и воришек, желавших народ простодушной Италии как можно скорей разорить и упрятать в карманы свои все народное золото, вот этот порочный и гадкий Козимо настолько боялся всю жизнь отравления, что ел только хлеб, пил одну только воду, но даже и это всегда проверял на верной жене своей Нине Петровне.
— Петровна! Вкуси-ка! — приказывал он.
О Нине Петровне известно немного. Родом она была из купеческой семьи, образование имела начальное и в девичестве больше всего любила ходить на чужие свадьбы и похороны. На свадьбах всегда очень горько рыдала, на похоронах веселилась без меры. За эту вот странность Козимо ее полюбил, а вернее, он понял, что только такой редкой женщине он может доверить себя целиком. И он не ошибся. Когда правосудие, наконец, добралось до него и в результате длинного расследования открылись такие дела, что и у охраны, и у палачей отвисли массивные нижние челюсти, суровая Нина Петровна сумела отмазать преступника мужа, и он с той поры доверял ей во всем. Она же и нашептала ему, что нужно найти для подделок нотариуса, который оформит любую бумагу (Нина Петровна презрительно именовала бумаги с большим, впрочем, юмором «письками»), а если уж «письки» все будут оформлены, никто им не страшен. Она же сама и поймала да Винчи, когда он, угрюмый, шел вечером из казино, проигравшись.
— Чума нам смешала все карты, — сказала большая и строгая Нина Петровна. — Играть не советую, много заразы.
— Везде ее много, — ответил угрюмый и бледный нотариус.
— Но там умывальника нету, — разумно заметила Нина Петровна. — Уперли. Хороший и мраморный был умывальник, однако его прямо, знаете, с мясом… Да, вырвали с мясом из стенки и сперли. Теперь там никто рук не моет. А, знаете, столько на этом сукне различных микробов…
Да Винчи с уважением посмотрел на некрасивую, однако чем-то очень привлекательную, явно образованную женщину.
— Вы с мужем моим незнакомы, я думаю? — прохладно, играя зеленой перчаткой, спросила она.
— С мужем вашим? Позвольте… А кто он?
— Козимо, — ответила женщина. — Фамилию я не скажу. Догадайтесь.
И он догадался.
Тем же вечером в ярко освещенной свечами и канделябрами столовой Медичи состоялся ужин для трех человек. За ужином присутствовали сам Козимо, жена его Нина Петровна (уже по-домашнему, в пестром халате) и наш потерявший всю совесть да Винчи. Стол, несмотря на тяжелое для страны время, ломился от еды. Нина Петровна, уставшая за день и положившая, не стесняясь, полные ноги в разношенных тапочках на колени супруга, заканчивала поросенка, с которого слегка капал жир на ее подбородок. В глубокой, белой с синим византийским узором супнице, стоявшей у самого края стола, лежал кусок черствого хлеба.
— Петровна! Вкуси-ка! — шепнул ей Козимо.
— Не ест ничего, — улыбаясь смущенно, сказала жена удивленному гостю. — Обет дал, теперь соблюдает. Борюсь. На капельницах просидел целый месяц. Упрямый!
— Однако пора и за дело, — Козимо прервал ее и, усмехнувшись, с колен стряхнул очень полные ноги жены. — Вы поняли, друг мой, зачем мы сегодня здесь встретились?
— В общих чертах, — ответил нотариус.
— В общих чертах? — Козимо потер серый лоб. — Не годится.
И тут объяснил очень просто и прямо, в каких он нуждается скользких услугах. Нотариус выронил вилку.
— Но это…
— Что это? — обиделся гордый Козимо. — В чем видите вы нарушенье закона?
— Я вижу его нарушенье в том виде, который вы мне предлагаете. То есть в той форме, в которой оно происходит… — и бедный да Винчи умолк и запутался.
— Друг мой! — сказал ему с чувством Козимо. — Уж мне ли не знать человечества, друг мой! Какие законы? Зачем они, Боже! Ведь я был таким же, как вы! Был наивен, пытался бороться, бросался на копья! Ведь как говорится? «Отцом был для нищих и тяжбу, которой не знал, разбирал с огромным вниманием…» Это Иов. Я сведущ весьма во Священном Писании и долго пытался во всем ему следовать. Чем это закончилось? Чуть не погиб. Жене в ноги кланяюсь. — И поклонился. — Спасла меня. Волчий салоп продала, халат и две шали. Но после я понял… — Козимо вдруг стукнул ладонью по лбу. — Я понял, как жить. Подойдите поближе.
Испуганный Пьеро приблизился.
— Вот как. — Козимо сдавил ему шею руками и вмиг отпустил. Да Винчи легонечко пискнул. — Жизнь так нас и давит. Вот так! А потом возьмет и отпустит. Но нужно успеть… Ты понял меня?
— Понял что? Извиняюсь…
— Нажраться успеть до отвала! — Козимо схватил черствый хлеб, проглотил, не жуя. — Нажраться! Скопить! Глотку перекусить тому, кто мешает! Скажи ему, Нина Петровна!
— Мы с мужем, — сказала спокойная Нина Петровна, — давно цель поставили: для удовольствий своих ничего никогда не жалеть. Мы вовсе не против помочь, скажем, детям какой-нибудь там криминальной Уганды. Откуда мы знаем, какие там дети? А может, одни криминальные дети? Но мы отщипнем им кусок и не станем вдаваться в чужие подробности, правда? Но чтобы «щипать», так сказать, нужны деньги, их нужно сначала иметь. Вы согласны?
Да Винчи кивнул.
— Так согласны вы, сударь? — спросил его нетерпеливый Козимо. — Я в ваших способностях не сомневаюсь. К тому же сейчас ведь особое время: чума на дворе. Кто там что проверяет!
— Проверить всегда при желании можно, — совсем растерялся да Винчи и залпом допил свой коньяк. — Нужно время подумать…
— Пока вы там думаете, эти дела другой ведь подхватит, вы тут не единственный, — хрустя тоненькой скорлупой эскарго, заметила Нина Петровна. — Решайтесь.
— Согласен, — сказал ей да Винчи и вздрогнул, как будто бы сделку сейчас заключил не с этой семьей, а с самим Люцифером. — Когда приступать?
— Да хоть завтра, дружище. — Козимо закинул раздвоенный нос и быстро понюхал нагретый камином, но влажный от близости осени воздух. — Надеюсь, что вы до утра не помрете, а утром я жду вас.
Да Винчи откланялся.
Вернувшись домой, он засел в кабинете и принялся думать. Нужны были деньги. Его клиентура нещадно редела. Чума без различия — бедный, богатый, дурак или мудрый — всех равно сгоняла в могилы. Ее урожай на земле был богат, поэтому все хризантемы в садах, все астры вдруг так расцвели изобильно, такими кровавыми, желтыми, синими оттенками вдруг запестрели газоны, что люди смогли убедиться в одном: их трупы полезнее всех удобрений.
«Я не навлекаю беды на униженных, — подумал да Винчи. — И на оскорбленных. Детей без родителей не оставляю. Я буду тихонько ему выправлять фальшивые „письки“, как их называет жена его, дама весьма необычная. В Писании сказано… — Он перелистал фолиант и нашел: „Если кто праведен и творит суд и правду, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, то он — праведник, он непременно будет жив…“ А я ведь таков! Я ведь так и живу! Козимо — преступник. Он переступает все заповеди, нарушает законы. Но я-то при чем? Я бумажная сошка, на мне нет ни крови, ни слез. Ничего».
Мне больно писать. Безутешно, тоскливо. Вот вывела строчку и вдруг содрогнулась. Все вроде бы благополучно. Зима за окном, и высокие сосны стоят в серебре и покорном величии. В печах рассыпаются красные искры, девицы, закутавши лица платками, спешат за студеной водою к колодцам. А город? А город и вовсе исполнен чудес. Театры блистают своим электричеством, машины, кареты и русские тройки под визги гармошек, под вздохи гитары, под джаз африканский шлифуют асфальты и снег уминают стремительным бегом лохматых коней. Дзин-дзин, колокольчик! Ту-ту, паровоз! Прекрасна ты, жизнь. Просто великолепна. Но что же мне сердце сжимает до боли? Зачем я грустна и вчера, и сегодня? И завтра, наверное, буду грустна? Кого я жалею? Собаку на свалке? Оленя в лесу? Или птенчика в небе? А может быть (что вероятней всего!), жалею себя, ибо знаю, что скоро окончится время мое, не успею ни слез отереть тем, кого предала, ни даже им, бедным, в любви объясниться.
Итак, став таким же, как все, человеком, ценя ту же чичиковскую «копейку», нотариус Пьеро да Винчи согласие дал на работу с Козимо, а значит, не мог сейчас и отлучиться, чтобы посмотреть на младенца. Не мог. И, как это часто бывает, душа его, слегка содрогнувшись, забыла о слове, когда-то им данном. Забыла и перечеркнула углем.
Глава 15 «Положи меня, как печать, на сердце твое»
На ночь Катерина запирала дверь своей спальни изнутри. Слишком блестящими, слишком ласковыми становились глаза старого да Винчи после захода солнца. И если прежде за обедом хозяин выпивал не больше чем одну-две бутылки кьянти, душистого вина, покупаемого в монастыре, то теперь он и шагу не делал без того, чтобы не приложиться к большой кожаной фляге, висевшей на поясе. Как только фляга становилась пустой, да Винчи посылал слугу в подвал за новой порцией. Часам к четырем пополудни лицо его хорошело, морщины разглаживались, а яркие и без того зрачки выкатывались наружу в каком-то восхищенном недоумении. Обычно он либо следил за Катериной в огромную подзорную трубу, подаренную ему испанским пиратом, закончившим свои дни, как и полагается злодеям, на виселице, либо — если она уходила в сад или на мельницу — спешил за нею сам, подкручивая усы специальной бамбуковой палочкой. Она же ни на секунду не расставалась с сыном. Несмотря на то что да Винчи приставил к новорожденному няньку с пушистым, как персик, лицом, и веселая, подвижная и крутобедрая нянька все время протягивала к дитенку свои полнотелые руки, желая его побаюкать, утешить, сменить на нем кружевце или чулочки, Катерина мягко уклонялась от ее услуг и все, что могла, делала сама. И главное — пела! Вот это и было его наважденьем. Часов в шесть утра он слышал грудное, прерывистое от слишком большой внутри ее нежности пение.
И день начинался. И спать он не мог.
Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю! Тихо светит месяц ясный в колыбель твою…Да Винчи, чьи покои были наверху, застывал на своей разворошенной от ночных метаний постели. Он зажмуривался, и тогда она ясно появлялась в темноте перед его глазами. Он видел, как она расстегивает крючки на своей нижней сорочке и осторожно, поддерживая одной ладонью тяжелую, как виноградная гроздь, слегка золотистую в свете восхода, упругую грудь, другою рукою массирует яркий и твердый сосок. Тут рот у него наполнялся слюною, которую он все пытался сглотнуть. Он чувствовал соль накипающих слез, стирал их ладонью и кликал слугу. Какая-то вялость, сонливость, блаженство его обнимали, как ветер морской. Вот так и лежать бы, зажмурив глаза, и слушать ее полный нежности голос.
— Везло Алигьери! — Он вдруг вспоминал сухой черный профиль. — Еще как везло! Сношался с женой и детишек рожал, а как становилось то скучно, то грустно, писал про свою Беатриче. И что? И стал знаменитым, и все его помнят! А я? Вот сяду сейчас и начну сочинять!
Старик хохотал, и вошедший слуга его заставал так: в слезах, но хохочущим.
— Вина принеси! Фляга-то опустела! А что Катерина Кемаловна делают?
— Они, барин, кормят-с.
— А, так я и знал. Они сейчас кормят.
— Потом пойдут в церковь. Успенье сегодня.
— А я и забыл! С Леонардо пойдут?
— Они его дома ведь не оставляют-с.
— Жара!
— Так им и жара нипочем-с. К тому же ведь в церкви прохладно.
— И то. Подай одеваться. Я с ними пойду!
— Тогда уж вы, барин, оставьте здесь флягу-с.
Слуга получал зуботычину. Впрочем, беззлобную.
— Петруччио! Ты что позволяешь себе, обормот? Сошлю на конюшню, и будешь там с конюхом кобылам хвосты подрезать! Доиграешься!
— На все ваша воля. Вы — наши отцы, а мы, так сказать, ваши детки-с.
Да Винчи вставал, умывался над тазом, потом быстро нюхал подмышки.
— Что скажешь, Петруччио? Сильно воняет?
— Не то чтобы сильно, но пахнет приятно-с.
— Неси тогда мыло! Духи давай с пудрой!
Петруччио приносил пудры, несколько флаконов духов. «Красную Венецию» в нарядном флаконе с искрящейся пробкой и «Тет-а-тет», привозные. Да Винчи их смешивал, душился обоими. Остальные флаконы с духами подешевле, производства местной фабрики, использовавшей труд детей и подростков, отодвигал с брезгливой усмешкой. Одевался празднично, придирчиво рассматривал себя в тусклом зеркале. Оставался доволен. Отсылал слугу и быстро произносил утреннюю молитву. Потом только шел на ее половину. Входил не стучась. Он знал, что она запирается на ночь, и знал почему. Дом уже пестрел слугами, везде звучали голоса, девки с туго заплетенными под чепцами косами шныряли из кухни во двор и обратно. Мелькали их голые, смуглые локти. Тазы, темно-синие и светло-красные, прижатые к бедрам, казалось, просились на холст живописцу. Теперь ее дверь отперта: безопасно. Она оборачивалась. О, эти волосы! Еще неподобранные и волнистые.
— Как ты почивала? Ребенок здоров?
— Здоров, благодарствуйте.
— Ты идешь в церковь?
— Хотела бы.
— Я хочу тоже.
— Успенье сегодня. — Она чуть краснела.
Он думал: «А ну как она притворяется? Откуда в ней наша христианская вера? Росла в Закавказье, в дыре, прости, осподи, не знала, как шагу ступить, а туда же! И спит под распятьем, и ест под иконой, дитя на ночь крестит!»
Смотрел ей в глаза. Потом в середину высокого горла. И снова в глаза.
— Скажи, Катерина, Царица Небесная к тебе приходила во сне хоть однажды?
— Позвольте мне не отвечать.
— Нет, ответь!
— Зачем вам?
— Ты знаешь зачем.
— Нет, не знаю. — Она задыхалась слегка, отвечая: боялась его, но себя не роняла.
— А я тебе так объясню, Катерина. — И он приближался вплотную. — Ты думаешь, трудно мне дверку взломать? Да проще простого! А я не ломаю! Загадка тебе: почему не ломаю? Сижу наверху, словно ястреб в гнезде, томлюсь по тебе, а ни шагу не делаю!
— Господь не простит вам…
— Другое простил же! А тут и совсем нет греха: я — мужик, ты — баба, живем в одном доме!
— Не надо, — шептала она.
И сразу в нем что-то ломалось.
— Прости, Катерина. Не слышу себя. Вот как приближаюсь к тебе…
— Уйду я от вас. — И глаза промокала своей золотистою прядью.
— Тогда застрелюсь, — усмехался он криво.
Они наклонялись к младенцу, как будто до краю дошли и застыли над кручей.
— Так я велю лошадь запрячь, и поедем, — да Винчи звучал хладнокровно, спокойно. — Ты зонтик возьми, больно душно сегодня.
В манускрипте написано так:
«Вскоре после рождения Леонардо Катерина начала видеть странные сны. Единственным человеком, которому она могла бы пересказать их, была Инесса, но связи с Инессой не было. Сама она осознавала небесную природу этих снов и всякий раз, перед тем как лечь в постель, долго молилась, стоя на коленях. Чаще всего она обращалась к Богоматери, ибо с Нею чувствовала в это время особое единство. В первую же ночь, проведенную ею под кровом да Винчи, Катерина увидела себя, пьющей воду из чистого родника. Она стояла на коленях и, жадно припав пересохшим от жары ртом к прозрачной воде, глотала ее, но жажда не унималась, а становилась все сильнее и сильнее. Тогда Катерина отодвинулась слегка от ручья и заглянула в него, уверенная, что увидит в воде свое отражение. Но вместо себя увидела ярко-золотой сгусток света, словно бы солнце, уменьшившись в размере, опустилось на плотное песчаное дно. Катерина придвинулась ближе, и свет золотистый стал ярче. Она отодвинулась — свет стал тускнеть. Тогда она легла на землю и почти опустила лицо свое в воду, однако ее не касаясь. И тут же сияние, столь же безмерное, как солнце, ее охватило. Она словно бы оказалась в огне, не жгущем, но бережном. Какой-то нежнейший из всех в мире ликов почудился ей в самой гуще огня. Она не успела спросить: „Ты ли это?“, не смея назвать Ее имени, и сразу проснулась.
В колыбели мелодично заплакал Леонардо, который никогда не орал и не вопил, подобно другим младенцам, требующим себе немедленного прокорма, а осторожно, не желая доставлять своей матери никаких хлопот, давал ей понять, что он проголодался. Она обнажила тяжелую грудь, рукой обхватила затылок ребенка, и он стал сосать. Молока было много, оно пузырилось, и часть молока стекала по коже, на ней оставляя слегка сладковатые тонкие полосы. Катерина не сомневалась, что во сне к ней только что приходила Богоматерь, желая подбодрить ее и, наверное, сияньем Своим ее благословляя».
Поскольку драгоценный для этого повествования памятник сохранился только частично и никому, кроме меня, не известен, очень опасаюсь, что рано или поздно найдется какой-нибудь умник, который возьмет да и скажет, что я сочинила всю эту историю. Тогда я отвечу простыми словами: «Последнее дело — придумывать жизнь. И если не водит твоею рукою невидимый кто-то, не трать своих сил. Сгниет все написанное на корню, как летом дождливым гниет земляника. Пойдешь собирать на поляну, а там, на этой поляне, крапива до пояса. Вернешься и, вылив из старых калош зеленую воду, возьмешь себе к чаю не ягодки алой стакан, а кислый чужой сухо-фрукт, вроде киви. Вот так и с романом. Залезешь нахально за шиворот времени, а там — одна только тьма, вроде как на Аляске. И холодно в ней, в этой тьме, человеку, который родился в московском роддоме и вырос в одном из таких переулков, где слово „Флоренция“ мало кто слышал».
Известно, что чума закончилась так же внезапно, как появилась. Как будто задули свечу. Кудрявый Леонардо уже ходил, крепко держась за руку своей располневшей за зиму матери Катерины. Он не знал своего отца и долгое время был уверен, что седобородый господин с широкими плечами и кудрявыми волосами до плеч, который каждое утро входил в их с матерью комнату, был его отцом. Тем более что он всегда брал Леонардо на руки и крепко целовал его в лоб своими сухими, всегда голодными губами. Матери он тоже целовал либо плечо, либо то место на шее, где большие волосы были приподняты, а малые, трогательно светлые и слабые, свободно сбегали по шее на спину. Всякий раз, когда он целовал ее, на лице у матери появлялось выражение терпеливого выжидания, но не было случая, чтобы она отдернула плечо или отклонила шею.
— Когда же, голубка? Когда позовешь?
— Прошу вас, не будем. — И мать отворачивалась.
— Да как же не будем? Семья ведь.
— Какая семья? Живу здесь из милости.
— А! Видишь? Из милости. Ты что, мною брезгуешь?
— Не брезгаю я, а боюсь.
— Да ложный твой страх. Ты у сердца спроси.
— Оно меня и укорит, если сдамся.
Он хмурился и замолкал. Потом улыбался светло и тревожно.
— Ну, будет тебе, Катерина! Шучу. Живи госпожой и ни в чем не нуждайся.
— Мне сон был один.
— Опять сон? Расскажи.
— Как будто бы я овдовела. А горя в душе моей нет. И я почему-то не плачу.
— Дурной это сон. Расскажи поподробней.
— Подробней не помню.
Леонардо чувствовал, что она лжет, и ему было до слез жалко ее. Мать его была светлой настолько, что иногда, когда глубоким вечером она склонялась над ним, казалось, что солнце взошло в темноте. Они с нею не разлучались, поэтому, не зная, что в мире есть смерть, Леонардо, уверенный, что будет вечно держаться за руку ее так, как самый последний и еле заметный среди других лист вцепляется в ветку свою, и напрасно его будет ветер сгонять, будут рвать тяжелые струи дождя — он лишь крепче прильнет к ней, — так и Леонардо пока ничего не боялся: ни грома, ни криков, ни даже волков, хотя и пугала его эта нянька с ее, словно персик, пушистым лицом, такими волками, которые могут загрызть даже мальчика, если он, глупый, не слушаясь няньку, уйдет за ворота.
…Уже созревал урожай, и пронзительно из сада тянулся то запах лимонов, а то апельсинов, еще не оранжевых, а светло-зеленых, но крупных и мощных. Прошло много чистых, хороших дождей, и в небе стояли чуть дымные радуги.
Пожар к ним пришел поздно вечером.
В источнике сказано так:
«По мнению жителей деревни, пожар произошел оттого, что конюх, забравшись на конюшню со своей невестой, заподозрил любезную в измене, обнаружив перемену внутри ее тела, которая показалась ему странной. Может быть, та молочная влажность, которой женщина всем нутром своим приветствует и несколько даже всасывает в себя мужчину, уступила место вялой и прохладной сухости, помешавшей конюху бодро, как всегда, вонзиться в знакомую милочку и там уж начать свои песни и пляски. Надо сказать, что упомянутая невеста отличалась большой ветреностью и, как он ни следил за нею, как ни торопил со свадьбою, все время норовила ускользнуть и вечно скрывала, куда уходила, с какими парнями вела разговоры, уж не говоря о поездке какой-нибудь, хотя бы за парой чулок в ближний город. Озверев от холодной сухости того места, которое прежде обласкивало его своими солоноватыми волнами, конюх схватил факел, желая посмотреть женщине в глаза, но она, засмеявшись низким, совершенно ведьмовским смехом, ударила его по носу босой пяткой и выскочила наружу. Заревевший от обиды жених бросил свой факел и поспешил вдогонку. В голове его было одно: настичь, бросить наземь и всю изнасиловать, чтобы ни ходить не могла, ни стоять. Лошади заржали в предчувствии скорой смерти, начали трясти гривами, и веки их мягко разбухли от слез. Пожар разгорелся вовсю. Недавно родившийся жеребенок все тыкался мордой в чужую кобылу, поскольку волна ярко-красного жара отбросила мать от него, но кобыла искала во тьме и огне своего, родного детеныша, поэтому в панике и укусила чужого большими кривыми зубами. К горящей конюшне сбегались крестьяне, и старый да Винчи, в плаще и небритый, сам, плача от жалости к бедным коням, которых в дыму уже не было видно, ругался так громко, что даже и в шуме, и в треске огня слышен был его голос. Работали в основном мужики, а женщины и дети стояли вокруг, заплаканные и перепуганные. В суматохе он даже и не уточнил у слуг, где же Катерина, надеясь, что она прячется на своей половине и, наверное, затворила окошко, чтобы запах дыма не коснулся младенческих ноздрей Леонардо. Каково же было его изумление, когда он увидел ее стоящей совсем близко к огню и словно бы не замечающей даже нависшей опасности. Она стояла неподвижно и держала ребенка не так, как обычно, крепко прижимая его к себе, а словно почти и забывши о том, что он у нее на руках. Да Винчи всмотрелся: глаза Катерины казались слепыми, и с каждой секундой все ближе и ближе она подходила к стене, где особенно сгустилось и не поддавалось потугам воды это красное пламя. Ребенок, в своей кружевной распашонке, вдруг вы-гнулся резко и, радуясь празднику, как он понимал то, что происходило, всем телом своим потянулся к огню. Да Винчи, крича, оттолкнул волосатую и толстую бабу, которая, словно телега с обозом, ему заслоняла собой Катерину. Успел, слава Богу. Он крепко прижал их обоих к себе. Она словно бы ничего не заметила. Да Винчи, махнувши рукой на пожар — коней не спасли все равно, слишком поздно, — повел Катерину домой.
Очевидцы вспоминали, что она шла за ним так, как ходят лунатики. Мы склонны верить, что именно на лунатизм и походило поведение Катерины, поскольку это явление очень распространено в Италии, а особенно в местах, расположенных неподалеку от Флоренции. Считается, что полнолуние нигде не достигает такой мистической силы, как там, хотя многие ученые до сих пор не могут согласиться с этим, ссылаясь на Джордано Бруно, в трудах которого до недавнего времени существовала даже записка о поведении Луны над селением Винчи. „Так же, как я не сомневаюсь, что с последним вздохом моя душа вознесется в рай, так я не могу и не должен сомневаться в том, что никакого особого накала Луны в селении Винчи и не существует. Согласен принять всевозможные пытки, а также любой вид мучительной смерти, поскольку мое утверждение — последняя истина“. И подпись: „Джордано“».
Тут уж я пользуюсь случаем уверить потомков в том, что не все, открытое великим монахом-космологом, выдерживает критику современной философско-научной мысли. Разве не смеемся мы над его утверждением, что Вселенная бесконечна и в ней великое множество миров? Конечно, смеемся и с точностью знаем, что мы в этой самой Вселенной — одни, а даже когда начинаем кричать, ругаться и плакать, то нам отвечает лишь эхо. Вот крикни, читатель: «Один я! О-о-оди-и-ин!» И слушай. Ну, что? Кто тебе отозвался? Никто тебе не отозвался, голубчик. И не отзовется. И хватить драть горло.
Катерина была крайне восприимчива ко всяким природным явлениям. Гроза вызывала в ней дикий восторг, и с первыми вспышками молнии она, как ребенок, хватала платок, набрасывала на ночную рубашку, всю грудь подставляла дождю и смеялась:
Дождик, дождик, пуще! Дам тебе я гущи!Я даже склонна думать, что, может быть, восточная кровь ее сохранила в себе элементы чего-то древнего, не похожего на нашу нынешнюю действительность, и как ни таила внутри Катерина свою диковатую сущность и как ни душила ее, она, эта сущность ее, проступала то в смехе гортанном, то в резких движеньях, а то в этом странном ночном лунатизме.
Когда перепачканный сажей, весь в мелких и крупных ожогах, да Винчи ввел спящую женщину в спальню, где в рюмке краснело вино (вернее сказать, пламенело от сильного света Луны), Катерина сама прилегла на постель, не застланную покрывалом, а всю развороченную, всю в винных пятнах, как будто по ней прошагал ураган. Трясущимися от волнения руками положив заснувшего внучка на пол, подальше от кровати, да Винчи над ней наклонился.
— Как ты, mio fiore? (мой цветок — итал.) — шепнул он.
— Ах, жарко, — сказала она сухим ртом. — Как там хорошо! Все горит, все поет! Они все заждались меня.
— Кто заждался?
— И мать, и сестрички мои. Кто еще?
— А где они, fiore?
— Они где? В аду. А где же им быть? В рай таких не пускают.
Катерина лукаво засмеялась и, обхватив сеньора за шею, притянула с силой, повалила на себя и тут широко распахнула глаза. Она увидела залитое счастливыми слезами, сморщенное лицо. Оно было черным, и волосы всклокочены.
— Ай! Вот ты явился за мной! — сказала она и вдруг перекрестилась.
— Fiore, fiore! — шептал он, дрожа, и стискивал зубы, стараясь не плакать.
— Я знаю, что вы очень ласковы там, — вздохнула она и задумалась странно. — А ты разве знаменья не испугался? Когда ты меня заберешь? Нынче ночью?
— Куда я тебя заберу, Катерина? Давай прямо здесь. Здесь тепло, хорошо. Ребеночек спит.
«Не успел он произнести это слово, как все наважденье смело с Катерины, — сказано в „Садах небесных корней“. — Она вскочила с кровати, осмотрелась с ужасом, но, увидев на полу мирно и сладко спящего Леонардо, бросилась к нему и схватила мальчика на руки.
— Почему мы здесь? — прошептала она.
— Ты разве не помнишь? — Да Винчи с досадой стер грязной ладонью последние слезы. — Пожар был в деревне. Сгорела конюшня.
— А где была я?
— Ты была на пожаре. Стояла там, словно тебя притянуло свирепое пламя.
— А он? — Катерина прижалась губами ко лбу Леонардо.
— И он был с тобой. Ты чуть его не уронила в огонь.
— В огонь? Уронила? — Она задрожала. — Вот и покарали меня за грехи…
— Так ведь обошлось, слава Богу. — Да Винчи устало вздохнул. — Увидев тебя, понял я, Катерина, что ты не в себе. Подскочил, оттащил. Привел вот к себе. Остальное ты знаешь.
Она низко-низко ему поклонилась.
— Спасли вы нас, сударь. Погибли бы мы.
— С тобой что, когда-то случалось подобное?
Она опустила глаза.
— Да, случалось. Я с детства любила огонь больше жизни.
— У вас там бывают пожары? — спросил он.
— При чем здесь пожары? — Она усмехнулась. — Огонь есть везде.
— Огонь есть везде. — И он обнял ее. — Дитя положи на ковер. Пусть поспит. А я весь горю. Ты ведь любишь огонь.
И, взяв ее руку, дотронулся ею до крайней своей полыхающей плоти».
О первой их близости в «Садах небесных корней» написано очень откровенно. Я долго не могла отважиться на то, чтобы слово в слово воспроизвести этот отрывок, как на грех уцелевший полностью и нисколько не обгоревший. Впоследствии странная мысль, что если огонь, который сам есть существо, поскольку природа его похожа на нашу, не тронул ни строчки, то я не должна ничего пропускать, меня осенила. (А то, что природа огня похожа на нашу, вполне очевидно. Скажите мне, разве не он нуждается в пище, как мы? И не он способен к тому, чтобы произвести подобных себе? И так же рождаться, как мы? Умирать, как мы умираем? Не так ли он жаден, как люди жадны, не так ли он алчен?)
— Огонь есть везде, — сказала она.
— Да, именно так. Есть везде, — ответил он и положил ее руку на этот огонь.
В «Садах небесных корней» написано:
«Она пристроила ребенка на кресле и застыла, не оглядываясь. По тому напряжению, которое стиснуло ее спину, плечи и даже затылок, было понятно, что она ждет, пока он приблизится к ней. Но старый да Винчи не двигался. Пару минут это продолжалось: она стояла, не шевелясь, и он смотрел на нее широко открытыми глазами, скрестив руки на груди, как воин на одном из несохранившихся портретов Тинторетто. Казалось, что судьба их обоих стояла на пороге комнаты, не решаясь войти. Это было тем мгновением, которое случается в жизни почти всех, но не все замечают его. В это мгновение кажется, что в силах то ли самого человека, то ли ангела, отвечающего за его земной путь, совершить еле заметный произвол: глубоко вздохнуть, например, или закрыть лицо рукою, словно прячась, или просто поправить волосок на лбу, но по неизвестной причине человек не совершает глубокого вздоха, не закрывает лицо, не поправляет волосок — он ждет не дыша, и крылья ангела его тоже застывают, слегка розовея в холодном закате. Тогда наступает решенье судьбы. Вернее сказать, происходит все то, что было давным-давно предрешено, задолго до этой минуты. Она обернулась. Да Винчи смотрел по-прежнему тихим, внимательным взглядом. Это был совсем не тот хозяин селенья, который ежедневно добивался ее любви, вкладывая в любовь лишь убогое, грубо телесное понимание ее, к которому он пристрастился за годы своей безнаказанной жизни. Новый, не известный ни ей, ни ему самому человек отдавал Катерине всего себя, одновременно умоляя ее довериться ему, и слезы, застывшие в черных глазах, скорее всего, походили на робкий, почти не заметный, взволнованный дождик, который слегка увлажняет посевы, желая подбодрить их и укрепить в тончайших побегах стремление к росту. Она наклонила свою белокурую, покорную голову, с ним соглашаясь. Тогда он протянул руки и сделал к ней всего лишь один шаг. И, словно лавина, упала она на него. Обрушилась, словно сгоревшая крыша. О, не обвила и отнюдь не прижалась, напротив: она проломила его большой своей плотью, и оба упали. Так ветер встречается с ветром, и в новом клубящемся вихре рождается тьма. Жадность, знакомая голодным, набрасывающимся на кусок только что вынутого из печи хлеба, которым они обжигают и десны, и небо, но только быстрее глотают, стремясь к насыщенью ценой любой боли, любого ожога, ее одолела, и стыд, прежде бывший всегда хоть немного, когда Катерина вступала в интимные, даже внебрачные, связи, растаял, как тает гора почерневшего снега на мартовском солнце. Она то стонала, как стонут в чащобах косматые звери, то всхлипывала, как глазастая рыба в большом черном море, то взвизгивала, как собака, которая с куском ветчины проглотила иголку и, взвизгивая, начинает крутиться и тем потешает ребенка, успешно ее угостившего этой ветчинкой. Но больше всего она звонко смеялась, как женщины только смеются в то время, когда в тело их проникает мужчина.
Еще целый час продолжала она лежать на груди его, словно желая его продавить своей женскою тяжестью, однако да Винчи, темно покрасневший от крови, прихлынувшей к лбу и затылку, и помолодевший так, как на морозе вдруг юным становится старое дерево от яркого света и от серебра, могучий, как конь, только что перепрыгнувший бездонную пропасть, — да, старый да Винчи уже ни в какой не нуждался свободе. И так, и иначе: на грязной его холостяцкой постели, и на берегу беспокойного моря, и среди трав, и в холодном курятнике, и даже на липкой от пота скамейке — везде, где есть просто поверхность, которая могла уместить их двоих, эти двое стремились друг друга познать с той же силой, с которой когда-то познали друг друга Адам и жена его Ева под деревом, которое было не грушей, не яблоней, а деревом райским, нам всем неизвестным.
Да Винчи, проливший за свои пятьдесят зрелых лет такое количество семени в женщин, что если бы слить его семя куда-нибудь, ну, скажем, в какую-то ямку в земле, она бы, впитавши в себя половину, была все равно бы полна до краев, был словно в каком-то бреду или сне. Несмотря на то состояние, которое известно только мужчинам, долго стремящимся к обладанию единственной, необходимой им женщиной, — то безумное состояние, когда вся твоя сила устремляется в одну точку, где боль, и ломота, и словно сверкание бенгальских огней, и такое блаженство, которое не позволяет кричать, поскольку крик только сломает, нарушит твой самый греховный и щедрый поступок, — да Винчи не мог до конца быть уверен, что это действительно произошло. Когда он особенно сильно, до боли, в нее погружался, он чувствовал сразу, что весь растворяется, что его нет, и если бы кто-то спросил его, был ли он счастлив на этой земле, как никто, зажмурился бы и кивнул благодарно. Ему не хватало губ, чтобы ошущать ее ими и зацеловать, не хватало рук, чтобы одновременно дотрагиваться и до груди ее, и до волос, и до живота, где еще ярко краснел след от произведенной матушкой Варварой хирургической операции, не хватало зрения, поскольку он стремился созерцать ее всю, а особенно это круглое, вишнево разрумяненное лицо, по которому проходили волны счастливых ощущений. Ему не хватало ее, но хватало любви к ней, ему разрывающей душу».
Я не буду ничего добавлять к этому отрывку, поскольку летописец, который жил в старину, разбирался в этих вопросах гораздо лучше меня, и если он так говорит о взаимном чувстве Катерины и старика да Винчи, у него должны были быть на это веские основания. Мне же приходит в голову вот что: любовь ведь сторонится шуток. И тот, кто решит с ней шутить и высмеивать ее проявленья, заплатит за это: истлеют прогнившие корни его, устанет работать холодное сердце.
Глава 16 Три года блаженства
Иногда, чтобы развеселить Катерину, да Винчи пел. Он знал много песен, пиратских особенно, поскольку когда-то служил поваренком на судне испанских пиратов. Надо сказать, что биография этого странного человека на редкость пестра и извилиста, а если копнуть ее глубже, то начинает кружиться голова у любопытного, который, в конце концов, неминуемо задастся вопросом: «Да может ли быть это правдой? А ну как, узнав, чей он дед, стали просто валить в одну кучу других разных дедов и перемешали их судьбы в одну?»
Не берусь утверждать, что все изложенное в этой книге соответствует исторической истине. Но если вы спросите моего мнения, то я скажу честно, что нет такой истины. А есть просто жизнь, у которой, как в море, одна глубина над другой, и останки одних поколений закрыты другими, такими же темными и безголосыми. Поэтому я не советую вам меня уличать в разных мелких неточностях. Читайте спокойно, и Бог мне судья.
Итак, он ей пел. После ужина, обычно проходящего на большой свежевыкрашенной террасе, прислуга в переднике, в пышной прическе, слегка громыхая ногами, обутыми в ботинки из кожи козла, сперва накрывала на стол, а потом с него убирала, косясь своим сизым завистливым глазом на то, как размякший хозяин ласкает кудрявого мальчика. А женщина — и не жена, не хозяйка, а просто спокойная, ладная женщина, — ничуть не стесняясь прислуги, держала свою обнаженную руку, всю в кольцах, то на рукаве его, то на затылке. Потом приносили ему мандолину, и он, приосанившись, пел. Всегда начиналось вот с этой, любимой:
Я с детства был испорченный ребенок, На папу и на маму не похож. Я женщин уважал еще с пеленок. Эй, Жора, подержи мой макинтош!Катерина смеялась, хотя не все итальянские слова этого куплета были ей понятны, но звук его низкого голоса, и то, как он лукаво подмигивал блестящим глазом в густых и длинных ресницах, и то, как, выразительно ущипнув струны мандолины, протягивал руку, желая слегка ущипнуть и ее высокую грудь через кружево платья, — все нравилось ей. А ночью, в постели, измучив друг друга негаснущей страстью, они засыпали всегда в одной позе: она прижималась виском к его правому, с большой выступающей костью, плечу, и ноги их переплетались так плотно, что были похожи на корни деревьев, сплетенных под влажной и сытой землей.
Я чувствую, что читателю не терпится понять, как же это произошло. Как же случилось так, что влюбленная в Пьеро да Винчи, родившая от него сына Катерина вдруг переметнулась к другому? Не дай Бог, грубоватому человеку придет в голову, что, устав от мытарств и боясь за крошечного Леонардо, Катерина использовала богатого старика и уступила его домогательствам, поняв, что иного нет выхода в жизни. Однако давайте сперва разберемся. По опыту вам говорю, что в науке, как гордый Тургенев сказал, «страсти нежной» нет места ни соображеньям достатка, ни даже и соображеньям карьеры. Ну, будет у вас большая изба и сад с огородом. В избе-то кто ходит? Кто валенком шаркает? Какой-то вертлявый, с большим кадыком. А может, напротив, мучнистый и толстый. Забьешься на печку и думаешь: «Господи! Пошли мне сюда рядового колхозника! А если таких не осталось, то можно рабочего с молотом и наковальней!»
В любви не работает сила терпенья. Вот так же, как в музыке: если ребенку вложить в руки скрипку и требовать, чтобы ребенок исполнил отрывок из Баха или пиццикато, не дай Бог, какое, что сделает бедный ребенок? Замкнется и будет следить своим глазиком детским за мухой, свободной и вольной, как море. Вон села на фикус, а вон пригубила вчерашнего рому из папиной рюмки. Свобода! Великое дело — свобода!
Она не лукавила, не притворялась. Она была женщиной смелой и честной. Но карта судьбы так легла, что вот этот, который был рядом, кормил и поил ее и ребенка, не требовал больше, чем стыд позволял, боялся ее потерять пуще смерти, который был одно-временно и добрым, и жестким, и наглым, и робким, развратным с другими, а с ней целомудренным, — да, именно этот седой человек и стал Катерине последним возлюбленным.
В манускрипте, к счастью, сохранились обрывки их ночных разговоров.
«— Какая у тебя кожа на спине! — шептал он, сперва губами, а потом языком проводя между ее лопатками. — Вот так бы и съел всю тебя! Смотри, ты здесь золотая, как мед, а здесь — ярко-белая. Как это так?
— А ты у меня, — отвечала она, — здесь — колкий, как еж, а вот здесь — шелковистый. Ты между ногами — кудрявый барашек, а шея и плечи твои — как у буйвола. Ты чувствуешь сам, до чего ты силен?
— С тобой я силен, потому что люблю. Любовь дает силу, любовь дает жизнь.
— Смотри, как запел! — Катерина смеялась, его волосами обвив, как плющом. — А кто спал с дояркой Аннунцией? Кто? А с прачкой Мигелой? А кто совратил племянницу падре Грюера в Париже?
— Да это когда же все было, любимая? Они уж, небось, все в могилках давно!
— Типун на язык тебе, мой ненаглядный! Аннунция вон приходила вчера: она теперь с дочкой живет, внуков нянчит!
— Ну, Бог с ней, с Аннунцией! Честью клянусь: на улице встречу — пройду, не узнаю! Ляжь лучше на правый бочок.
— А зачем?
— Увидишь зачем. Я сюприз хочу сделать.
— Да только что был ведь сюрприз!
— А еще?
Дыхание их было бурным настолько, что ветер смолкал в небесах. А звуки любви их: то нежное чавканье влаги телесной, то хрип норовистый, то лепет сумбурный, то крик, словно кто-то из них умирает — душа отрывается, с огненным звоном расправив затекшие крылья, — да, звуки любви их еще вспоминали четыре (нет, пять!) поколений в деревне.
— Вот это любились! — крутя головами и в знак одобренья притопнув ногою, хрипели крестьяне. — Еще наши деды застали, как птицы со страху не вили здесь гнезда свои. Боялись, сердечные: больно уж шумно. А утречком барин как выйдет, бывало, босым на крылечко, да как засмеется, на солнышко глядя, да кликнет Петрушку: „Давай умываться!“ Дак что тут сказать? Тут, мил человек, самому нужно видеть!»
Не имеет большого смысла приводить все сохранившиеся в манускрипте свидетельства их любви. Их много, они повторяют друг друга. Однако еще один отрывок ночного разговора я все-таки приведу, поскольку он проливает свет на ту тревогу, которую испытывали они оба, но, щадя друг друга, редко дотрагивались до болезненной темы даже намеками.
«— Ты от него сегодня письмо получил? Что он пишет?
— Не бойся, родная. Что сын может папке писать? Так и так, работаю много, с деньгами не густо, подбрось, если можешь, жена измотала все нервы, скучает, чума вроде стихла, теперь эпидемия стыдной болезни, все носят в бутылках мышьяк, Козимо дурит, но стараюсь не спорить. Да вроде и все. Что ты так побледнела?
— Неправду ты мне говоришь! Что он пишет?
— Ну, пишет еще: как там мой мальчуган?
— Он хочет приехать?
— Об этом не пишет, но так, намекает слегка. Между строчками.
— Зачем?
— Катерина! Ты знаешь, что я Леонардо ему не отдам.
— А он и не спросит тебя! Он отец!
— А где это сказано, что он отец?
— Ты сам записал так в церковную книгу. И в метрике сказано, что он отец.
— Душа моя, да успокойся ты, право. Пускай проверяют его на отцовство.
— Проверят и выяснят, что он отец. Куда нам деваться тогда? Что нам делать?»
Недавно обнаружилось, что проверка на отцовство существовала и в те глухие времена. Церковь, всеми силами искореняя язычество и ссылаясь на Пророка Иеремию, который устами Господа запрещал говорить дереву: «Ты — мой отец», а камню: «Ты родил меня», закрывала, однако же, глаза на то, что простой народ при дележке наследства, к примеру, прибегал к древнему языческому обычаю: полагалось вскрыть себе вену на правой руке, поближе к запястью, и смешать набежавшую кровь с кровью ребенка, полученной таким же образом. Смешанную кровь помещали в специальный сосуд (сейчас на мосту Понто Веккио такой еще можно купить, и недорого!), а потом палочкой наносили кровяную каплю на распятие. Если капля темнела, то отцовство не подтверждалось.
Венчаться она не хотела. И он не настаивал. Пойдут разговоры и сплетни. Еще неизвестно, что скажет сынок, узнавши про новых законных наследников. А вдруг он захочет тогда отобрать ребенка у матери?
«Я боюсь, — думала Катерина, глядя в глаза своего сына, похожие на отцовские, только с другим, мечтательным и лукавым, выражением. — Я боюсь его, как врага. Неужели я ошиблась в нем два года назад? Или я сейчас ошибаюсь? Какая тоска, Пре-святая Мария! Инесса бы сразу сказала, что будет. Но где она нынче?»
Горбунья молчала. Жива ли она? Поскольку да Винчи считал, что Инесса — исчадие ада, нельзя было с ним обсуждать эту тему.
Догадывалась ли Катерина, что в сердце ее дорогого бушуют сомненья? Наверное, да. Но восточные женщины не лезут мужчине в смятенную душу. Убрать, приготовить, сплясать или спеть — вот это пожалуйста, а приставать с речами дурацкими, как это делают в Конгрессе каком-нибудь или в Сенате, — да Боже избавь! Только зря опозоришься.
Сомненья да Винчи касались, естественно, того, что их ждет, но сказать Катерине, что он начал вдруг размышлять на такие глубокие темы, как Данте, к примеру, признаться, что мысли и страхи сгрызают его по ночам, пока женщина, прижавшись к плечу его, спит, как младенец, да Винчи не стал бы, хоть режьте его. Слепой, как и все старики Возрождения, когда на пути их вставала любовь, да Винчи надеялся, что не умрет, поскольку нашел панацею от смерти в лице Катерины. А впрочем, не только в лице. Во всем существе ее. Каждую ночь надежда его возрастала и крепла, как крепнут от теплых и сильных дождей посадки кедровых деревьев.
— Откуда же взяться болезни? — шептал он губами, распухшими от поцелуев. — Какая же может закрасться болезнь, когда все ходы перекрыты? А смерть и тем более! Вон, мне говорили, в соседней деревне холера пошла! А нам — хоть бы что!
Не зная, что силою самообмана мы только мешаем рассудку и чувству, да Винчи искал и искал подтверждения своей правоте. Напрягши свою волосатую руку, он радовался, как вздуваются мощно огромные бицепсы, лихо выбрасывал вперед себя ногу, заметив, что тело, покрывшееся напряженно шарами, вполне бы сгодилось для скульптора. А то, глядя в зеркало и расправляя морщины ладонью, шутил, что вот так, совсем без морщин, лицо у него — как живот поросенка.
— Насколько же все натуральное лучше! Пусть видно, что много хлебнул человек, а все же не съеден он старостью так, как роща бывает вся съедена тлей! Морщины — знак силы моей и ума. Нет, мы поживем еще, повеселимся!
Его, однако, сильно тревожило то, каким раздраженьем и видимым холодом наполнилась вся переписка их с сыном. Конечно, была еще жгучая ревность, но даже и ревностью не объяснишь, что он вдруг, как будто пузырь, надувался, завидев вдали, на холмах, почтальона.
— А что, если я разлюбил его, а? — иногда с грубой деревенской прямотой спрашивал он себя. — Но разве же это возможно? Ведь сын мой!
Кто-то из гостей принес ему в подарок книгу писателя Гоголя, живущего в Риме и там сочинявшего. Да Винчи начал с повести «Тарас Бульба», и глаза у него открылись.
— Да, именно так! — восклицал он, вскочив с пестрых подушек, расстеленных под душистой яблоней, где в жаркую погоду устраивал себе послеобеденный отдых с хорошею литературой. — Да, именно так все и было!
И, далеко отставив от себя руку, державшую увесистый том, начинал медленно, вдумываясь в каждое слово, читать вслух:
— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.
Но ничего не мог на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.
— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
Андрий был безответен.
Чувствуя, что рот его наполняется солеными слезами, да Винчи бросал Гоголя обратно под яблоню и начинал взволнованно мерить садовую лужайку босыми шагами.
— Не мог бы казак взять да в сына пальнуть! А все потому, что вмешалась там баба! Красавица с грудью, подобной речному ленивому лебедю. И с каждым из нас это может случиться.
Страшная картина представала его глазам: Пьеро, одетый так же, как был одет Андрий во время последнего боя, с намотанным на руку шелковым шарфом, расшитым прекрасной полячкой, соскакивает с вороного коня и кличет слугу, чтобы тот немедленно вел Леонардо. Хватают ребенка, который, как ангел, светло улыбается и тянет ручки, желая обнять подлеца. Тут, простоволосая, с криком и воплем, бежит Катерина. Бросается в ноги. Но Пьеро, как варвар, толкнув ее новым своим сапогом, с младенцем под мышкой взлетает в седло.
— И как мне тогда поступить? Неужели убить его так, как Андрия Тарас?
Он видел, как сын, им убитый, в камзоле, который из белого сразу стал красным, сползает с коня, и горячая кровь сочится из раны на свежую траву.
— Mio Dio! (Мой Бог! — итал.) — переходя на родной язык, шептал да Винчи. — Не сделает наш итальянец того, что сделает русский, француз и украинец! Взглянул бы я в очи вот этому Гоголю и прямо сказал бы ему: «Слушай, хлопчик! Ты ври, да, однако же, не завирайся!» Но где он сейчас? Может, в Риме сидит, а может, уже в Петербург улетел. Найти не найду, только время потрачу!
Так жили они: каждый в собственном страхе. Любили друг друга. Дитя подрастало. Пошли проливные дожди. Да Винчи частенько ходил на охоту. Она занималась сыночком, молилась. Бывало, что пела.
Глава 17 Заговор, которого не было
Козимо Медичи окончательно перестал замечать разницу между своими собственными деньгами и деньгами государственной казны. Растраты национального богатства, производимые этим легконогим и сухощавым человеком, были чудовищны. Страна оскудевала. Нина Петровна сперва все было усмехалась да пожимала плечами, потом забеспокоилась, особенно после того, как в городе стали выдавать продукты по карточкам и отощавший народ принялся все громче выражать свое недовольство.
— Козимо Андреич, — сказала она осторожно. — Вопрос есть к тебе.
Медичи насторожился. Жена редко обращалась к нему по отчеству, и такое обращение не сулило ничего доброго.
— Что, Нина Петровна?
— Боюсь я, Козимо Андреич.
— Чего ты боишься?
Нина Петровна была большим дипломатом: она никогда не говорила в лицо мужу о его просчетах, всегда разговор был окольным.
— Письмо получила. Большое письмо. Хотя анонимное. Хочешь, прочту?
Козимо развалился в кресле и прищурил свои усталые, всегда словно бы немного окровавленные глаза. Нина Петровна нацепила на крупный напудренный нос очки и принялась читать.
«Не потому обращаюсь к тебе, Козимо, что мы росли вместе и я, еще будучи ребенком, угадал твой опасный для Родины нрав. И не потому, что по слабому своему здоровью я вынужден был отказаться от военно-политической карьеры, в которой достиг ты такой высоты. Я хочу высказать тебе, Козимо, все, что накипело внутри не только меня, но и половины страны нашей, хотя я и не собираюсь обвинять тебя лично во всех грехах. Разве ты виноват в том, что мать когда-то родила тебя на свет и не нашлось ни верного слуги, ни друга дома, который задушил бы тебя еще в пеленках? Ни для кого не секрет, что все отвратительные гнусности, происходящие сейчас у нас в Италии, происходят с твоего ведома и поощрения. Однако я перечислю их еще раз, дабы ты, занятый наживой несусветных своих денег и плетением интриг, знал о том, что происходит за воротами твоего дома. Начну сразу с церкви…»
— Я, кажется, проголодался, Нинок. — Козимо зевнул. — Там много еще?
— Да я бы сказала, немало.
— Так, может, поужинаем?
— Сейчас кликну Анну, пускай принесет отвару из груш тебе и пирожки.
— А с чем пирожки?
— С чем всегда. С осетриной.
— Но ты-то их все же попробуй сначала.
— Попробую, не сомневайся.
Нина Петровна кликнула служанку, и та через несколько минут принесла хозяину ужин на серебряном подносе.
— Грибы мне зачем? Я грибов не просил! — заволновался Козимо, углядев на подносе банку с солеными опятами. — Попробуй грибы-то! Я их не заказывал!
— Грибы тебе я заказала, — устало вздохнула жена. — Водички попей, я пока все попробую.
— Давай глоток — ты, глоток — я. — Козимо налил ей водички в бокал. — Хорошая, свежая. Не из колодца?
— Какого колодца? Нарзан, из бутылок.
— Грузинская, значит? Совсем хорошо. Грузины — ребята что надо, веселые.
— Ты зубы мне не заговаривай, киска. Я дальше читаю. Где остановились-то мы? А, на церкви. «Начну сразу с церкви. Ни для кого не секрет, что наши священнослужители содержат мясные лавки, игорные и публичные дома, а наши монахини, начитавшись мерзкого „Декамерона“, предаются оргиям, и в стоках находят скелеты младенцев, которых они, породивши, бросают. Ты слышал, что было на прошлой неделе в одном городишке? Монахи подрались с монахинями. Да как! И те и другие запрятали в рясы булыжники. Ножи припасли! Едва растащили войсками. А знаешь, чем мы украшаем иконы? Неужто не знаешь, Козимо? Помилуй! Зайди в любой храм, полюбуйся. Рисуется орган, какой постыднее, обычно мужской, реже женский — все красками, — и этот рисунок висит под иконой, которая якобы и исцелила сей пакостный орган».
— Ну хватит! — Козимо вскочил и в досаде швырнул вилку на пол. — Ишь, как увлеклась! Сама-то что думаешь делать?
— Бунтов я боюсь. Слышь, Андреич? Бунтов. Французских-то головорезов забыл? Забыл, как Марата зарезали в ванне?
— Да что мне Марат! Как народ усмирить?
— Процесс! — прошептала жена. — Лучший метод. У нас этих ведьм, как мышей, развелось. Вот их и… того… На костер. Всенародно. На площади. Ты приговор огласишь. Слезу уронить не забудь. Скажешь: «Сестры! Зачем душу отдали дьяволу? Сестры!» Мы церковь подымем в народных глазах, ну а в магазины подбросим колбаски… И можно сырку… Ничего, раскошелимся… Чем так рисковать. Я вон давеча шла и слышала, как две синьоры болтают. Одна говорит: «Будет переворот!» Другая: «А я даже не сомневаюсь! Страну до чего довели, вы смотрите! Ведь скоро на улицу выйти не сможем!»
Козимо встал в полный свой рост и, раскрывши объятия, словно орлиные крылья, притиснул к себе дорогую соратницу.
— Ты только смотри, Нина, не отравись! Не ешь сразу много, когда пищу пробуешь. Тут крошку лизни, там кусочек, а то… Ведь мне без тебя, сама знаешь…
И, всхлипнув, отер набежавшие слезы.
Рукописный источник красочно описывает наступившее вскоре после этого разговора воскресное утро:
«Усталая Флоренция, истерзанная ожесточенными спорами, расколами и постоянным недоеданием в среде трудового населения, крепко спала, закрывши ставни обнищавших своих жилищ. Люди помнили, что приближаются ноябрьские праздники, но вследствие почти полного исчезновения одних продуктов с полок магазинов и дикой дороговизны других, которыми спекулировали на рынке, мало кто собирался, как это бывало всегда в старину, потешить себя и родных угощением, а может быть, даже походом и в гости, как принято было, большою семьей: с золовками, тещей, зятьями и тестем. Людей теперь радовало даже то, что можно хотя бы спать, не просыпаясь, раз праздники: дни, стало быть, не рабочие, хотя время стало не только голодным, но очень к тому же холодным: леса под Флоренцией повырубали и продали все за валюту в Норвегию.
Однако же не удалось отоспаться. В пять часов утра, когда розоватым беспомощным блеском, похожим на тусклый румянец старухи, окрасились площади, раздался пугающий топот копыт, и вскоре какие-то дюжие глотки, приставивши рупоры к крепким губам, пошли выкликать столь ужасные вещи, что, полуживая, от сна вся отекшая, Флоренция сразу проснулась.
— Опасность грозит нам! Проснитесь! Упала и боле уже не подымется Родина! Богатые и неимущие! Дряхлые! Дитяти, подростки и среднего возраста! Пожрет нас огонь, посечет острый меч, сразит лихорадка, а жук колорадский погубит в полях урожай! Страшный голод, похуже чумы, низведет нас в могилы!
Перепуганный народ вскакивал с постелей. Матери одною рукою запихивали под чепцы растрепанные волосы, другою к груди прижимали младенцев, а главы семейств, затянувши ремнями лоснящиеся от износа штаны, хватали оружие.
— Пресвятая Дева Мария! Что еще валится на наши головы? Какою бедою нас не испытали? Куда нам деваться? — Так восклицали люди, валом валившие на центральную площадь города, где наскоро построенные за ночь трибуны пестрели глашатаями в лохматых песцовых ушанках.
— Сеть женщин-вредительниц, в полночь собравшихся на проклятой Господом Лысой горе, вчера арестована! Конец подлым ведьмам, конец ведьмакам! Да здравствует новое время! — кричали глашатаи.
Граждане Флоренции торопливо протирали глаза кулаками и переспрашивали друг у друга, правильно ли они поняли новую информацию.
— Накрыли кого-то! Опять, что ли, ведьм? Да вроде бы их всех, проклятых, пожгли! Плодятся, как вши! Вот бесовское воинство!
Юркие, с опущенными на бледные лица капюшонами монахи отгоняли любопытных от трибун и на очищенное пространство накидывали красные ковровые дорожки, изъятые из коридоров муниципалитета. Наступила зловещая тишина. Через минуту медленно выступила колонна служителей церкви. Гневом горели глаза их, но уста были сомкнуты и лица неподвижны. Поскольку же люди привыкли к тому, что даже и те, кто стоит на трибуне, обычно подергиванием ноздрей шлют нам, так сказать, простым смертным, сигнал, что недалеки и они от народа, такая бездушная окаменелость народ напугала. Уж лучше б бранились! Уж лучше бы плеткой стегнули разок! Все было бы легче, да и веселее. Замыкал это шествие печально известный Козимо. Куда подевалась небрежность движений, сутулость, порывистая походка? Теперь это был человек массивного, даже медвежьего склада, подошвы которого грубо впивались в ковровую мякоть, а птичью вертлявую голову мощно придавливал круглый берет.
Рассвет разгорелся, и весь горизонт стал пламенно-красным. Казалось, что стадо ягнят закололи и кровь их плеснула в высокое небо.
— Готовься, Флоренция! — выразительно произнес Козимо и обнажил лысую голову. — Сейчас ты увидишь их! Вот в чьих когтях была твоя жизнь!
Грациозные лошади, откормленные на церковных конюшнях, как будто соткались из воздуха. За каждой чернела повозка. В толпе застонали и громко заплакали. Женщины вытирали хлынувшие слезы детскими волосами, благо почти все они держали на руках детей.
— Вероньку за что? Она скромная, тихая! Мужик запустил в нее ковш с кипятком, в промежность попал! Натерпелася! — сказал кто-то громко и с негодованием.
Молодая женщина в белом платочке, который был повязан так, что на затылке образовалось подобие куриного гребешка, шарила по лицам прозрачными глазами.
— Вероня, я здесь! Я тебя не забуду! — вскричал чей-то ломкий мальчишеский голос.
Вероня вся преобразилась. От солнца ее гребешок нежно порозовел.
— Вероня! — кричал тот же голос. — Я тута! Ti amo, Вероня! (Люблю тебя! — итал.)
В другой повозке, прижавшись друг к другу, сидели три девушки с вызывающими и одновременно перепуганными лицами.
— Смотри, мусек-пусек сюда же! — толпа удивленно вздохнула. — За эти частушки дурацкие в храме!
А в третьей повозке стояла горбунья. Себя обхвативши крест-накрест руками, она не спускала глаз с неба.
— Инесса! — узнали ее. — Вот она! Инесса-монахиня! Как постарела! Один только горб от нее и остался!
Лошади остановились.
— Братья и сестры! — с чувством произнес Козимо. — Святая церковь доверила мне донести до ваших ушей следующее: подлые твари, которых вы видите перед собой, задумали погубить итальянский народ и были сюда к нам подосланы дьяволом! Их пепел я лично развею над Францией, поскольку Отчизне их пепел опасен! Пускай господам парижанам и прочим любителям жареных жаб и лягушек достанется так же, как нам доставалось!
Народ начал хлопать в ладоши и прыгать.
— Достанется им! Так, как нам тут досталось! Пусть жабы застрянут в поганых их глотках!»
На этом отрывок в рукописи заканчивается, но я хотела бы к слову заметить и от себя, что тенденция развеивать пепел врагов не ограничивается эпохой Возрождения. В одном напечатанном недавно издательством «Костромское время» справочнике есть такие сведения: «Начиная с 1489 года пепел граждан Франции, Англии, Великобретании, Британии, Венгрии и Уругвая, не подлежащий родственному погребению, переходит в распоряжение местных властей и по ночам распыляется вышедшими из употребления вертолетами над странами, враждебными перечисленным государствам, включая Россию, Республику Косово, Монако и весь юг Исландии».
Нина Петровна не ошиблась. Народное внимание живо, как моль, перелетело с дел домашних, нуждающихся в коренном улучшении, на дела общественные, государственные, которые требовали неустанного внимания каждого отдельно взятого гражданина. Каждый отдельно взятый гражданин вдруг ощутил себя центром вселенной и заволновался. Несмотря на то что минувшая осень почти не принесла никакого урожая, а то, что принесла, было разворовано и за валюту продано за границу, на прилавки магазинов выбросили сыр отечественного производства, наскоро налаженного в молдавской провинции. Сыр отдавал резиновым привкусом, но отличался свежестью и яркостью упаковки. Кроме того, Нина Петровна лично проследила за тем, чтобы в каждом районе наладили продажу фруктов, необходимых для поддержания уровня витаминов в организме. Из фруктов можно было, если встать пораньше, отовариться зеленым виноградом, который привозили в деревянных ящиках, где мелкие кислые ягоды не портились и сохранялись в опилках. Коварный Козимо, вполне убедившись, что все, так сказать, уже «схвачено», вернулся к своим криминальным делам.
Процесс над ведьмами, начавшийся седьмого ноября, решили растянуть на несколько месяцев, пока не пришло время работы в приусадебных участках. Все пять женщин содержались в подвале городской тюрьмы, страшном, темном и сыром каменном колодце, где на полу стояла вода по щиколотку, и крысы, животные умные и любопытные, всегда подплывали, а не подходили, поскольку для них это было естественным. Хотя крыс тоже было немного. Они не любили людей, к тому же голодных и слабых. А голод был сильным. Передачи не разрешались никому, кроме монахинь одного из доминиканских монастырей, расположенного неподалеку, то есть в двух часах ходьбы. Но монахини брезговали и побаивались. Один только раз, в Рождество, принесли кулек карамелек и два кулича.
Вероня болела. В свободные от диких пыток минуты лежала на койке и кашляла. Звук кашля отпугивал крыс. Несчастные муськи пытались по очереди склонить на любовь пожилого тюремщика, пока он, немой от рождения, знаками им не объяснил, что с тринадцати лет влюбляется только в мальчишек. И муськи отстали. А в самом конце февраля в этот ад спустился Козимо.
— Поскольку вы ведьмы и это доказано, — сказал он, пыхтя своей трубкой, — вы, бабоньки, лучше признайтесь, откуда у вас эта сила.
— Так мы же признались! — воскликнули муськи.
— Ну что там признались? Под пытками всякий признается, верно? А мы повернем это дело иначе. Посадим вас в клетках на площадь, на солнышко. Нарядим, как кукол. Накормим, конечно. Реснички, чулочки… Дадим веера. И вы расскажете народу спокойно, по собственной воле, как дьявол смущал вас, какие он вам предлагал богохульства, в какие места вас катал, развлекал. Куда вы летали, кого вы видали, чем вас угощали на черных пирушках. Идея понятна? Ну и расскажете, какие там люди бывают. Из наших.
И он прямо муське Елене в лицо дохнул горьким дымом из трубки. Елена обрадовалась и чихнула.
— А после отпустишь? — спросила она хрипловатым баском.
— Ты что, мне условия ставишь? А, милка? — Козимо разгневался. — Время подумать даю до утра. Завтра утром ответите.
Пыхнул и ушел, заскрипев башмаками.
— Не буду я в этом участвовать. Вот что, — сказала Инесса. — Уж больно погано. Он хочет врагов своих сжечь вместе с нами. Для этого время и тянет.
— Ты, бабка, молчи! — закричала Елена. — Старуха горбатая! Ишь, разошлася! Ты жизнь прожила, так другим не мешай!
— И правда, Инесса, — шепнула Вероня, закашлявшись и отирая с губы кровавую пену. — А мне, например, бывает что жуть как любиться охота! Вот вспомню, как миленький аж прожигал меня до костей, так и… — Кашель, однако, не дал ей закончить.
— Решили, короче! — И муськи, схвативши свои оловянные миски, устроили дикий, немыслимый грохот. — Эй, кто там! Зовите Козимо! Пускай нас выводят!
…Во сне Катерина увидела голубя. Он был ярко-белым, печальным и старым.
«Тот самый!» — успела подумать она и тут же проснулась.
В камине почти догорели дрова. Она испугалась, что в комнате холодно и мальчик, наверное, замерз. Взяла его на руки. Запах медовых волос Леонардо ее успокоил, как будто, коснувшись родного ребенка, она прикоснулась к теплу — не древесному и не восковому теплу от свечи, а вечному, радостному, неизменному теплу существующей в мире любви, разлитой везде, словно солнце небесное.
— Ты только меня не бросай, Леонардо, — шепнула она. — Пугали меня, что тебя отберут. Инесса сказала: «Мы спрячемся в гроте». В каком таком гроте? Откуда здесь гроты?
Она положила его на кровать и тихо, почти не дыша, легла рядом.
«Да, голубь! Зачем прилетал он сегодня?»
В «Садах небесных корней» сохранился трогательный карандашный рисунок. На пустой странице сереет тусклое, но все же вполне различимое окно, за которым гаснет силуэт птицы, напоминающей голубя. Под балдахином короткой, как это было в старые времена, узкой кровати неизвестный художник с наивной старательностью изобразил мать великого Леонардо держащей трехлетнего спящего сына на крупных руках. Лицо Катерины, немного тяжелое, с восточными скулами, отнюдь не похоже на те описания, которые прежде встречались в источнике. Оно отличается не красотою, а силою и выражением ужаса, который вполне передал рисовальщик. Под этим рисунком есть и пояснение: «Ночью восемнадцатого февраля безоблачная жизнь Катерины закончилась. И время ее испытаний пришло».
Глава 18 Болезнь
Настало утро, и весь дом проснулся. Катерина ждала, что да Винчи, как обычно, заглянет к ней не позже восьми, но он не появлялся. Тогда, оставив Леонардо на попечении няньки, она сама поспешила на его половину. Старый слуга, штопая носок и не прерывая своего дела, почтительно поклонился ей.
— Что барин? — спросила она.
— Почивают, — ответил слуга. — Беспокоить не велено.
Чувствуя, как внутри все похолодело от страха, она толкнула массивную дверь и вошла. Тут я должна сделать небольшое, интимного характера, пояснение. Как уже было сказано, любовники спали в одной кровати, и происходило это именно здесь, то есть на половине хозяина. Ребенок под присмотром няньки спал в детской. И только раз в месяц, когда Катерина, которая тяжело, как все уроженки Востока, переносила женские недомогания, она удалялась на ночь в свою спальню, и сын спал там с нею.
Итак, она толкнула массивную дверь и вошла. Да Винчи лежал на спине, но голова его странно сползла с подушки набок, а все лицо было красным, как лампада. Он не открыл глаз своих даже тогда, когда она подошла к нему совсем близко и боязливо дотронулась до его лба. Лоб был холодным. В полуоткрытом рту влажно поблескивали зубы. Катерине показалось, что он не дышит, но он дышал так тихо и прерывисто, что оглушительный стук ее сердца заглушал его дыхание. Она прижалась лицом к его лицу и тут же отпрянула: запах гниющей рыбы вырывался наружу из его полуоткрытого рта. Она поняла, что он тяжело болен, без сознания или спит так крепко, как спят только умирающие, поэтому нужен врач, нужна помощь.
Слуга переминался на пороге.
— Петруччио, доктора! — закричала она и снова приникла к больному, стараясь не обращать внимания на зловоние.
Да Винчи с трудом приоткрыл глаза, узнал ее и испугался. Потом попытался тяжелой ладонью слегка оттолкнуть от себя Катерину.
— Что, милый? — спросила она. — Что, родной мой?
— Бе-е-е-ги-и-и, — прошептал он, наморщившись. — Бе-е-еги-и-и, Ка-а-ате-е-е…
Он не смог выговорить ее имени, и голова его, которую она взяла в руки, дернулась так резко, что Катерина не успела подхватить ее, и голова, выскользнув, звонко стукнулась о кровать.
— Да доктора, черт же вас всех побери! — закричала она и тут же перекрестилась, испугавшись, что в такую минуту вспомнила черта. — Скорее же доктора!
— Ведут уже, барыня, — запыхавшись, сообщил вбежавший слуга. — С любовницы сняли. Ей-ей. Безобразник-с.
— Не нужно мне этого, нового! — Она уже знала, что утром в деревню приехал сын старого доктора и очень желает быть вместо отца, лет сорок лечившего весь околоток. — Мне старого доктора, старого!
— А старый сам слег. Сказали, еще день-другой и помрут-с.
Она встала на колени возле кровати, притянула к себе лежащего, прижала к себе. Рыбий запах стал еще сильнее, теперь его источало не только дыхание, но и кожа, и ворот ночной рубашки, и нательный крест, осыпанный изумрудами. Минут через пять в дверях появился молодой доктор, неряшливый, без парика, но в пальто, застегнутом глухо, до самого ворота. Вместо бороды под нижней губой его что-то курчавилось: легкое, пегое, похожее на куропатку.
— Синьора? Могу быть полезен… — слегка заплетаясь в словах, он приподнял широкую шляпу.
— Смотрите, что с ним! — Она исступленно блеснула глазами.
— Синьора! Я вас попросил бы, синьора, — наморщивши нос, сказал доктор, — сесть в кресло и дать мне возможность, синьора…
Она пересела в глубокое кресло. Неряшливый доктор склонился к больному и долго смотрел на него. Катерина случайно заметила, что из-под пальто торчали лохматые голые ноги. Он, стало быть, и застегнулся доверху, поскольку застали его за занятием, отнюдь не способствующим медицинской, весьма напряженной и вдумчивой практике.
— Что он у вас ел перед сном, не припомните?
Катерина помолчала, пытаясь припомнить.
— Что ели за ужином, я повторяю?!
Глаза у да Винчи вдруг словно поплыли. Открытый рот стал сильно пениться.
— Господи! Он что, умирает? — вскричала она.
— Мы все умираем, синьора, — спокойно ответил ей доктор. — Кто раньше, кто позже. А так, вы заметьте, буквально любой из нас, без исключения.
— Покушали барин вчера, — тут вмешался весьма расторопный слуга, — как обычно. Сперва, значит, яблок и груш в сладком соусе. Кишки отворили для пищи-с. Мы знаем: наука велит сперва сладкое скушать. Потом они съели паштет и козленка в вине с овощами. Баранину есть отказались, сказали: «Опять пережарили, суки!» Но съели кусок пирога без начинки. Потом пили красные вина с орешками. Обычный обед-с.
— Да. Обычный обед. — И доктор содрал одеяло с больного.
Глазам его сразу открылось все тело. Большое и сильное тело мужчины, который когда-то до остервенения любил эту самую жизнь, уходившую теперь в никуда и его покидавшую. Рубашка его была сильно разорвана как будто каким-то последним усилием.
— Теснило, видать, — догадался слуга. — Они потому и порвали рубашечку.
Да Винчи вдруг начал метаться. Заросший седым мягким волосом торс то резко нырял, словно в яму, а то воздымался, как будто упругие волны толкали его с дикой злобой обратно. Живот на глазах становился огромным. Казалось, минута, и он разорвется, и хлынут наружу козленок, пирог, и птичий паштет, и орехи, и яблоки.
— Синьора! — сказал грубо доктор. — Идите к себе. Вы мне здесь не нужны. А нужен мне таз и побольше воды.
Катерина отошла к окну, пока слуги выполняли докторское распоряжение, грохотали тазами и таскали кувшины с водой, опорожнив, судя по всему, весь колодец. Она видела его ставшее почти лиловым огромное лицо, слышала клокочущий рев внутри груди, жалкое бульканье в горле, вдыхала зловонное это дыхание и видела темно-кровавую жижу, которая мутно стекала в тазы.
«А голубь-то был неспроста!» — Она машинально припомнила голубя, который влетел в ее утренний сон.
Сколько прошло времени, Катерина не знала. У нее уже не было сил ни ужасаться тому, что происходит, ни ждать того, чтобы все это кончилось. За окном было холодно, но торжественно, празднично раскинулись внутри этого зимнего холода обнаженные яблоневые деревья, трепетно, безбоязненно устремились в небо кипарисы, и яркие птицы с лиловыми клювами так бодро и страстно кричали друг другу, что все хорошо и не нужно бояться…
— Промыли насколько могли, — сказал сухо доктор. — Но он заражен. Кишки его съедены наполовину.
— Чем съедены? — тихо спросила она.
— Червями, — ответил он просто. — Отсюда и вонь. Cruditate. (Диспепсия злокачественная. — лат.)
— А можно лечить?
— Да зачем? Все равно его вряд ли вылечишь. Кроме того, и мозг пострадал за истекшую ночь. Я пьявки поставлю, конечно, но вряд ли… Похоже, что к ночи все это закончится.
После ухода молодого специалиста Катерина попросила оставить ее наедине со спящим да Винчи. Слуги убрали грязь, вынесли тазы, вымыли пол и удалились. Отвратительный запах сырой рыбы почти не чувствовался. В спальне открыли окно. Она стояла близко от кровати и, не отрываясь, смотрела на больного. Это был он, который любил ее и которого она любила, он, который спас ее от нужды и дал ей пристанище, — он, тот самый человек, с помощью которого она надеялась вырастить своего сына в тепле и достатке. Но того человека как будто и не было больше. Черты его красивого и сильного лица, на котором так хороша была ослепительная улыбка, так шло ему лукавое подмигивание при исполнении старинной кастильской песни «Эй, Жора, подержи мой макинтош», изменились до неузнаваемости. Мучительное удивление застыло в них, словно он — хозяин этого лица и сильного тела — пытался понять, куда его кто-то уводит сейчас, нельзя ли вернуться обратно.
Она сглотнула слезы, целое море слез, вдруг наполнивших горло, позвала слуг и, велев им не спускать глаз со спящего, побежала на свою половину. Леонардо, сидящий на коленях у няньки, радостно встрепенулся, спрыгнул с этих толстых, горячих колен и подбежал к матери, подставив ей лоб для поцелуя.
— Tuo nonno muore (Твой дед умирает — итал.), — сказала она.
Он был слишком мал для того, чтобы понять ее, но грустное и одновременно светлое выражение, как будто он не только понял, но и осознал сказанное, появилось на его чистом, добром лице. Он обхватил материнскую руку и замер.
— Ты не накормила его? — спросила она у дородной, здоровием пышущей няньки.
— Кормила, кормила! — ответила нянька.
— Пойдем погуляем.
Надела на него поверх полотняного белого платьица плотное шерстяное, отороченное собольим мехом, красный бархатный берет, слишком большой для его головы, в котором сразу же потонули темно-русые кудри и верхняя половина выпуклого лба, взяла в свою руку его вспотевшие пальчики, и они вместе спустились в сад по широкой боковой лестнице, ведущей из спальни наружу. От горя все мысли ее перепутались и слева в груди что-то странно давило.
«А если он даже и выживет, разве он будет таким же, как прежде? Ведь доктор сказал: его мозг поврежден. И Пьеро прогонит меня: нужны деньги. Он, верно, захочет все это продать. И он отберет у меня Леонардо».
Ей нужно, конечно, вернуться к нему, сидеть там и ждать, пока он не умрет, но страх не пускал ее. Она вспоминала, как сладко жилось им — ночами особенно, но где это все, раз сейчас вместо друга, любовника, опекуна в той комнате, где вечером он ее поцеловал, прощаясь с ней на ночь, на той же кровати, где вместе они погружались в беспамятство, исполненное жара, крика и блеска, как будто все звезды, сорвавшись с небес, летели на них, и горели, и гасли, и вновь разгорались, был этот, с закаченным взором и запахом сгнившей воды изо рта?! Ее колотила бессильная злоба, как будто и он ее предал.
«Они отберут у меня Леонардо, — стучало в висках, в горле, даже внутри ее побелевших, ослепших зрачков. — А я не отдам его. Нужно бежать».
Сжимая руку ребенка, она уходила с ним вместе все дальше от дома. Впереди выросла деревянная церковь, холмы, покрытые облетевшими виноградниками. Леонардо, не плача и не капризничая, торопился в ногу с ней и быстро-быстро перебирал своими новыми башмачками, красневшими из-под оборки зимнего платья. Вдруг чья-то тень перегородила им дорогу.
Катерина подняла глаза. Тот самый старик, ничуть не изменившийся за три года, появился так же неожиданно, как он появлялся всегда.
Любопытный, кстати, комментарий оставила рукопись:
«Времена позднего Средневековья и начало Возрождения, то есть тот период нашей истории, когда так называемый „разум“ еще не набросился на Провидение, оставили благодатный след в чуткой ко всему неизъяснимому памяти. Ибо Провидение есть не что иное, как судьба всего мира в целом и каждой отдельной твари, включая и человека. Судьба образуется промыслом Божиим, и что бы ни думали люди о воле своей над судьбой, она повернет человека в ту сторону, куда ему и суждено повернуться. Средневековье и Возрождение с трепетной доверчивостью относились и к голосам, которые слышит человек во сне и наяву, и к видениям, которые его посещают в иные минуты, и к снам столь, бывает, пророческим, что страшно проснуться. Позднейшие поколения, обуреваемы не чем иным, как страхом, начали развивать свои малодушные науки, пытаясь спастись только ими, и стало у них „тут немного“ и „там ничего“. Все, существовавшее „там“, отгрузили на свалку, считая, что все — предрассудки и тьма, а все, что успели нажить себе „тут“, где правят науки, немногого стоит».
Ах, как хорошо написал человек! Обидно, что это не я написала. Но мне его мысли близки и понятны. Иначе ведь как объяснить, что старик опять появился?
— Постой, Катерина, — сказал он негромко.
— Ефрем-то сгорел, — прошептала она. — А с ним вся конюшня сгорела. Прости.
— Ефрем не сгорел. Вот Ефрем.
И он отступил слегка, чтобы она смогла поглядеть на Ефрема. Осел, весь испачканный в серой золе, махнул ей хвостом.
— Любовник твой скоро помрет, Катерина, — вздохнувши, промолвил провидец.
— Я знаю. Куда мне деваться тогда?
Он снова вздохнул.
— Дитя подросло. Ты к Инессе иди. Простись с ней.
— Да где мне Инессу найти? Три прошло года, а ни слуху ни духу.
— Найдешь во Флоренции. Только не медли. Закроешь глаза ему и уходи.
И он поклонился. Не ей, а ребенку. Потом повернулся и заторопился в туман, расстилавшийся над виноградником. Она по походке его догадалась, что он здесь недолго протянет.
Старый да Винчи умер наутро. Не помогли ни медовые компрессы на голову, ни горячие вымывания кишечной массы. Доктор в третий раз зашел проведать больного за несколько минут до смерти. Высокие сапоги его были черными от присосавшихся к ним пьявок.
— Бледная вы какая, — заметил он, небрежно взглянув на Катерину, сидящую в ногах больного. — Поели бы хоть.
— Я с ним, — отвечала она.
— А я бы и раньше пришел, да вот пьявок пришлось самому добывать. У батьки они передохли давно. Он воду совсем не менял. А я, поглядите, ведро наловил.
Он снял сапоги и, оставшись в дырявых, в горошек, носках, подошел к умирающему.
— Ну, что? Будем пьявочки ставить, хозяин?
— Зачем вы кричите? — шепнула она. — Ведь он же заснул. Он же спит!
— Вам кажется. Не спит, но не умер. Я пьявок поставлю. Поскольку мой долг эскулапа…
Катерина изо всех сил стиснула зубы. Горячие слезы опять поползли из-под век. Рука ее лежала рядом с рукой умирающего. Внезапно она почувствовала, как его горячая, мокрая от пота ладонь нащупала и сжала ее пальцы. Она тихо ахнула. Лицо его стало спокойным и светлым.
— Я больше не нужен. — И доктор с досадой надел сапоги.
Она наклонилась. В его посветлевшем и помолодевшем, как будто вернувшемся, прежнем лице она разглядела лицо Леонардо — такое, каким оно часто бывает, когда он, задумавшись, вдруг умолкает и смотрит с любовию и состраданием.
Глава 19 Казнь
«Три клетки с ведьмами, — сообщается в рукописи, — каждым утром выставлялись на главную площадь города, а сразу же после полудня ведьм опять отправляли в тюрьму. В городе наступило раздраженно праздничное настроение. Школа была закрыта, больница для бедных опустела: всем, даже детям, даже больным и калекам, не терпелось самим разглядеть как следует дочерей дьявола, просунуть в их клетки горящую палку, состроить им рожу или оскорбить каким-нибудь словом. Нина Петровна при молчаливом одобрении своего мужа Козимо Андреича решила повести дело таким образом, чтобы добиться от ведьм как можно больше признаний в их страшных грехах, возвысив при этом влияние Церкви настолько, насколько оно возвышалось в былые года. Ведьм по приказанию Нины Петровны вымыли в бане, исхлестав как следует крепкими березовыми вениками, и надели на них чистые белые рубахи. На башмаки и головные уборы Нина Петровна денег не дала, справедливо посчитав, что и так слишком много средств потрачено на то, чтобы подавить назревающее в народе недовольство. Босоногие женщины с распущенными волосами сидели на соломе и с готовностью отвечали на любые вопросы граждан. Инесса была исключением. Она всякий раз выворачивала свой ответ таким образом, что простой человек, лаконично, скажем, спросивший ее: „А какого размера у дьявола его причинное место?“, получал от нее какую-нибудь притчу или иносказание, которое было не расшифровать.
Козимо с самого начала предупредил каждую, что главное — открыть как можно больше имен врагов Церкви и тех военных начальников, которые намереваются свергнуть власть клана Медичи, во главе которого стоит их с Ниной Петровной семья. Каждой из женщин предлагалось назвать не менее ста шестидесяти четырех человек, списки которых были заготовлены заранее и лежали рядом на соломе, слегка прикрытые, впрочем, от посторонних глаз. Вероня и муськи-пуськи, надеясь на спасение своих жизней, выкрикивали имя за именем и сочиняли при этом подлые и стыдные истории, якобы случившиеся с теми, которых они сейчас разоблачали.
— Веронька, скажи, как вы Церковь святую в канун Рождества обсирали? Да только чтоб правду! — выпытывал яростно смрадный калека, прижавшись лицом к прутьям клетки.
— А мы, гражданин, так ее обсирали, что, если бы ангел небесный услышал, он умер бы от огорчения. Вот как! — хрипела Веронька. — Сперва обсирали святых, хохотали, потом принимались за монастыри, потом — ты приблизься, а то не услышишь… — И что-то такое шептала Веронька на ухо калеке, что он, густо сплюнув, спешил прямо в церковь, где все и докладывал как на духу.
Муськи-пуськи оказались мастерицами плести непристойные истории о том, как совокупляются ведьмы во время своих диких праздников и как бесенята приносят в корзинках детей человеческих, а ведьмы плюют в глазки их, помечая нечистою кровью пупочки и локти, чтобы приписать их к бесовскому воинству.
— Так, значит, они, пока спим мы, уставши, детей наших портют? А я-то гадала, с чего мой Джузеппе отбился от рук? — Дородные женщины, сжавши руками горячие груди, теряли дар речи. — А ты, значит, муська Елена, гуляла со старым козлом Гвенчитано, и он открывал тебе ихние заговоры?
Козимо Андреич и Нина Петровна достигли вершины блаженства и славы».
К сожалению, в манускрипте не сохранилось ни слова о том, как в воскресенье, седьмого мая, не подозревая, что это последний день перед их сожжением, ведьмы (за исключением Инессы), кривлявшиеся на площади, вдруг заметили в толпе высокую белокурую женщину, державшую на руках редкой красоты ребенка. Люди, сами не понимая почему, расступались перед нею, перешептываясь, что от ребенка исходит тепло, как от печки, и Катерина подошла прямо к клетке, в которой, белесая, словно крошащаяся от соли, разбитая раковина, лежала Инесса. При виде Катерины она с трудом привстала на грязной, дурно пахнущей соломе.
— Пришла? — удивилась она. — Я думала, что не увидимся. Зачем ты пришла?
— Попрощаться с тобой. Его показать.
— Да я его вижу и так. Он мне снится.
— Он снится тебе?
Инесса не ответила.
— Боишься? — спросила ее Катерина.
— Ведь я говорила, — шепнула Инесса. — Одни безголовые смерти боятся. Чего там бояться? Смерть — это же чудо. Скорее бы уж! А эти патлатые дуры решили, что нас отпускают. Вон, слюни развесили!
— Инесса, куда мне идти?
Катерина вдруг всхлипнула.
— Чего ты ревешь? Он же смотрит.
Леонардо пристально и одновременно нежно смотрел на мать, не выпуская ее руки.
— Все знает, — вздохнула Инесса. — Жалеет тебя.
Они помолчали. Катерина чувствовала, что Инесса стала еще сильнее и тверже, несмотря на то, что горбатое истощенное тело ее еле-еле удерживало себя в сидячем положении и при малейшем напряжении голоса валилось то вправо, то влево, как валится травинка от ветра.
— В шести бедах он спасет тебя, — прошептала Инесса, — а если помрешь от седьмой беды, то он похоронит тебя. Чужие тебя не коснутся.
— Да как похоронит? — белыми губами спросила Катерина. — Он мал, он дитя…
— А ты ведь не завтра помрешь, Катерина. Тебе еще век вековать. Войдешь во гроб в зрелости, в свой день и час, как только во время свое и срезают колосья серпом. А вот завтра — мой день. — Она засмеялась тихонько. — Мой праздник прилюдный. Увидишь, как будут здесь все веселиться. Ведь людям немногого нужно. У них все — на коже, на самом верху. Царапнешь — а утром царапин не видно, огнем обожжешь — и ожог заживет. Подобен ослу человек от рождения, а к смерти он немощен и безобразен, пустил паутину свою по земле, а думает, что это прутья железные…
Инесса говорила загадками, но чуткая Катерина понимала, что многое кроется за ее отрывистыми словами, и старалась ничего не пропустить. Ей отчаянно хотелось спросить у горбуньи, какова будет участь ее сына Леонардо, но она чувствовала, что на этот вопрос Инесса не станет отвечать.
…За ночь на площадь натаскали дров, смолистых, сухих, и хвороста, тоже сухого, шестнадцать вязанок. Солдатики в сношенных мундирах, разрумянившиеся от холода и радостного предчувствия выпивки, которую им пообещал сам Козимо за быструю работу, старались, чтобы ни одна хворостинка, ни одна полешка не потерялась по дороге.
— Эх, жахнем мы их, стерв лохматых! — бурчал один старый, беззубый солдат с разорванным ухом. — Как есть серый пепел оставим! Да челюсти. Они не горят.
— Дяденька, а дяденька! — приставал к нему другой солдат, молоденький, с желтоватым пухом, едва пробившимся на круглых щеках. — А много ты ведьм-то пожег? Сколько штук-то?
— А кто их считал! — отмахнулся старый солдат, явно не желая признаваться, что завтра он будет жечь ведьм в первый раз. — Их сколько ни жги, они заново вылезут. Ну чисто поганки у нас в Валентиновке…
— А я, братаны, чего не понимаю, — вмешался еще один, третий солдат, с лицом таким строгим, как будто бы он всю жизнь пел на клиросе. — Пожечь-то пожжем, ну и что? Куда тогда души-то ихние денутся?
— Откуда там души? Там душ вовсе нет. Козимо Андреич вон растолковал, что ведьмы без душ на земле проживают.
— Чудно это все. — И молоденький, с пухом, задумался. — Одна у них там. Муськой-пуськой зовут. Она мне ручонку свою протянула из клетки и шепчет: «Солдатик, пожми. Ведь я не кусаюсь. Ей-Богу, пожми!»
— А ты что? — насупился старый солдат.
— А ручка у ней — чисто как хризантема. Ну, я и пожал.
— Эх, дурак! — Старик сплюнул. — На цельную жизнь осквернился! Дурак!
За такими невеселыми, однако интересными разговорами солдатские роты закончили свое дело к пяти часам утра. Построились, потирая пахнущие смолой задубелые ладони. Быстрой походкой Козимо Медичи обошел всех построившихся и лично, как он говорил, заглянул в каждую «солдатскую наглую рожу». Вина все же выкатили две бочки (обещано было четыре), и пахнущий крепко спиртным виночерпий принялся за дело.
— Вот в старое время, мне дед говорил, — сказал тот же самый солдат, у которого свисало разорванное кем-то ухо, — у воинства кружки железными были. Натрешь их, бывало, песочком — горят!
— Милок, не страдай! Не страдай, мой хороший! — сказал виночерпий с такой округленною заднею частью неброского тела, что можно принять его было за бабу. — Вот скоро у нас загорится, так это… Так это, скажу я тебе… Уж не кружка у нас загорится… милок… а сам знаешь…
И, не найдя нужных слов, покрутил своей ласковой, тоже как будто бабьей головой.
В семь часов утра площадь была забита народом — не протолкнуться. В первых рядах стояла знать. Те самые люди, которые предположить не могли, что большая часть их уже в черном списке, поскольку все их имена по доносу Вероньки и мусек туда внесены. Остальное пространство заполнял простой люд Флоренции. Только на нескольких лицах отражалось что-то вроде страха и беспокойства, а в основном глаза людей горели злорадным нетерпением. Скорее бы уж запалили да начали! Утро было сереньким, слегка дождливым, толпа начала волноваться.
— Ишь, как ливанет сейчас! — переговаривались простые и честные граждане города. — Так сжечь и не сможем. Зальет ведь огонь!
— Да что там зальет. Сожжем негодяек! Еще как сожжем! Сперва подпалим им подошвы, потом колени в труху превратятся, потом дойдет и до пуза. А если погаснет, так заново все! Опять разожгут и по новой: сперва — подошвы, потом — все до паха, а там уж — то самое. И письки, и жопки, и ихние сиськи. Подбросим дровишек, и снова: хрясь, хрясь!
Настроение было праздничным. Многие принесли с собой еду, сообразив, что процедура не будет быстрой и есть очень сильно захочется. Но почему-то есть захотелось сразу же, до начала казни. Наверное, сильный и жадный восторг всегда идет под руку с голодом. Женщины развязывали тряпки с горячим, ночью испеченным хлебом, резали брызжущий соком синий лук, крупную серую соль сыпали на помидоры. И радостно, крепко запахло едою. В каждом оживленном лице, внутри каждого жующего и отрыгивающего рта, каждого плевка и откашливания содрогалась жизнь, которой нисколько не нужно такого — возвышенного, словно трель соловья, а нужно вот это, простое да складное: жевать и отрыгивать хлеб с синим луком.
С сонным Леонардо на руках Катерина стояла внутри чужой толпы, чувствуя, что ее душевная боль уже стала болью телесной: ломило в груди, мокрый воздух, который она все пыталась вобрать, застревал.
Преступниц вывезли в большой, заржавевшей клетке. Кроме когда-то белой, теперь уже сильно загрязненной рубахи, на каждой был белый и пышный чепец, который своим этим праздничным цветом подчеркивал серый цвет лиц их, помятых, раздавленных, словно земля. Муськи-пуськи, девушки деревенские, добравшиеся до Флоренции подработать да поразвлечься с солдатиками, поняли, наконец, что никакой пощады им не будет, и горько, безудержно плакали, пытаясь все что-то еще объяснить, опять доказать невиновность. Веронька, которая все эти дни так кашляла, что перепачкала кровью, идущей из горла, одежду и руки, была совершенно пьяна. По распоряжению Козимо, который побоялся, что вид умирающей женщины может вызвать в народе ненужное сочувствие, ее напоили вином перед казнью, и это вдруг вмиг успокоило кашель. Теперь она, стоя на голых коленях, пошатываясь и цепляясь за прутья, сияла веселой улыбкой, забывши, куда и зачем она едет под дождиком.
Каждую выволокли из клетки и принялись привязывать к столбам. Столбы были шагах в десяти друг от друга. Катерина, не отрываясь, сухими глазами смотрела на Инессу, еще сильнее похудевшую и постаревшую по сравнению со вчерашним днем. Горб ее стал больше, острее, и, как это часто бывает, когда в самую трудную минуту в голову вдруг начинают лезть мелкие и посторонние мысли, Катерина вспомнила, что так и не спросила у Инессы, с чего же вдруг вырос на ней этот горб.
— Что пальцы ломаешь, проклятый! — злобно вскрикнула муська Елена и попыталась локтем оттолкнуть своего палача. — Я ведьма! Сейчас поплюю на тебя, и ноги отсохнут!
Палач начал пятиться. Из первого ряда зрителей выскочил Козимо, решительно подошел к наглой муське и что-то сказал ей. Она побелела.
— Прости, — прошептала она. — Не помню, чего говорю. Бес, вот он. Мозги-то мне крутит. Уж ты не серчай.
Козимо, усмехнувшись, вернулся на свое место. Нина Петровна по-свойски чмокнула его в щеку, но он отмахнулся от нее, желая показать, что ласкам супругов не место на площади. Факелами разожгли огонь. Хворост был сухим, звонким, как сосульки на морозе. Занялось быстро. Катерина приподнялась на цыпочки, стараясь разглядеть в дыму лицо горбуньи. С удивлением она заметила, что сын ее неожиданно заснул. Как он умудрился заснуть, если столько кругом него грохота?
Но он спал. И спал глубоко, как спят только сытые, крепкие дети, привыкшие к материнской любви. И даже присутствие смерти его, младенца, не трогало. А смерть началась. Она, как орел на добычу, уже устремилась на них, на эти их белые, пышные чепчики. Пронзительно выли несчастные муськи, и кашляла пьяненькая Вероня. Пламя обнимало их со всех сторон. Инесса с поднятой к небу головой была плотно заволочена дымом: костер под ней не разгорался, но сильно дымил.
Катерина вспомнила, что нужно молиться, но слова молитвы от ужаса стерлись из памяти.
— Господи, — зашептала она, — Господи, милосердный, прими душу Инессы, монахини, доброго ангела моего. Пресвятая Дева Мария, помоги ей проститься с грешной жизнью ее и открой ей путь в Царствие Твое! Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется! И если она грешила, Господи, прости ей грехи за посланное страданье!
Кто-то тронул ее за руку. Она оглянулась. Перед нею стоял Пьеро.
— Почему ты здесь? — спросил он коротко.
Лицо его было чужим и холодным. Три с половиной года она не видела его.
— Прощаюсь с Инессой. Не спрашивай и отойди.
— Инесса твоя была ведьмой, — он говорил глухо, как будто бы сам и не слышал себя. — Я знаю, что умер отец мой в деревне.
В эту секунду из синих, все время гаснущих, прыгающих искр под ногами Инессы вдруг вырвался яркий огонь. Он вмиг охватил ее всю. Инесса исчезла.
— Не бойся! Смерть — это не страшно!
Катерина в ужасе взглянула на Пьеро, думая, что и он услышал перекрывший все остальные звуки на площади сильный голос монахини, но и он, и все стоящие рядом люди вели себя так же, как за минуту до этого, и ни на чьем лице не отразилось ни капли удивления. И значит, Инесса, душа ее, нежно пропахшая дымом (поскольку у всех у нас тонкая кожа, а кожа легко пропускает и дым, и влагу, и солнечное тепло!), собрав весь остаток земных своих сил, кричала одной Катерине сквозь пламя: «Не бойся, смерть — это не страшно!»
Вот так они и попрощались в то утро.
«Минут двадцать заняла эта зловещая процедура, — записано в „Садах небесных корней“. — Служители в черных колпаках быстро собрали пепел специальными лопатками с серебряными ручками, которые ярко вспыхивали на выглянувшем в небе солнце от их ловких движений. Пять холмиков серого пепла сгребли в один и ссыпали в черный мешок. Высокий и страшный своим уже мертвым, застывшим лицом монах перекинул мешок через плечо так просто, как будто бы в этом мешке лежала еда или пара молитвенников, и, не оборачиваясь, удалился».
Леонардо так и не проснулся. Люди, чувствуя себя опустошенными и разбитыми, потянулись к пивным ларькам, где уже орудовали миловидные продавщицы в кружевных наколках на высоких прическах и пенилось пиво, хорошее, свежее, из бочек, вчера только выкаченных из тайных подвалов, где и сохранялись запасы того продовольствия, весь доступ к которому был ограничен одной флорентийской семьей: супругами Медичи.
Катерина подняла распухшие от слез и дыма глаза. Да, это был Пьеро: его слегка удлиненное лицо, его волосы. И шея — прямая и крепкая, как кипарис, поросшая густо у самого ворота. Отец его, старый да Винчи, был тоже заросшим — от шеи до самых лодыжек, как зверь. Она машинально заметила это семейное сходство и тихо ему усмехнулась. Вот жизнь! Дитя на руках ее — от молодого, а слезы в душе — от потери отца его.
— Ты здесь ночевать собираешься, в городе? — спросил он.
— Да, здесь, — отвечала она. — Тут недалеко постоялый есть двор. У спуска к реке. Там и переночую. А завтра обратно.
Сказала и ахнула. Так прозвучало, как будто она собирается жить в его родовом и отеческом доме.
— Деревню-то я продаю, Катерина, — сказал он. — Доходов немного. Один виноградник, и тот…
Она заглянула в лицо ему тем же спокойным, внимательным взглядом, который он, может быть, помнил, а может, забыл.
— Да я только вещи свои соберу, — сказала она.
— А потом?
— Господь все управит.
— Приду к тебе вечером, поговорим, — сказал он. — Сейчас тороплюсь, есть дела.
И быстро ушел, дернув правым плечом.
На постоялом дворе хозяйка, жилистая, с наростом на веке, спросила ее:
— Ну, как там? Ты видела? Всех их пожгли?
— А как же? — сказала она. — Если ведьмы?
— А мне говорили, — шепнула хозяйка, — что взяли не тех. Настоящие ведьмы — они же летают, как галки. Ну вот. Они улетели. А взяли монахиню, она помогала тут многим, лечила, да трех этих мусек, которые в храме затеяли петь непристойную дурость. И нашу Вероньку. А та ведь блаженная. Ее кто ни звал, с тем и шла. Всех любила!
Катерина молчала. Хозяйка взглянула на нее подозрительно.
— Ну, я тебе этого не говорила. Забудь, отдыхай. Вон твой парень проснулся. Могу молочка нацедить, кашки грешневой…
Она покормила ребенка, сама доела остатки. Легла на перину, дитя привалилось к ней, нежное, теплое.
— Сегодня отец твой придет, Леонардо, — вздохнула она.
Он светло улыбнулся.
— Был воин один. Его звали Евстафием. Охотник. Загнал он оленя. И вдруг увидел меж длинных оленьих рогов… — Она замолчала. — Ну, дальше не надо. Ты мал еще, миленький.
— Нет, расскажи. — И он усмехнулся знакомой усмешкой.
— Увидел Спасителя. Светлого, словно небесное солнце. И Он говорит: «Охотник, зачем же ты гонишь меня?»
Ребенок вздохнул глубоко, словно понял. И оба заснули, прижавшись друг к другу.
Во сне она снова вернулась на площадь. Дым был таким плотным, что лица собравшихся едва сквозь его пелену проступали. Так точно, как это бывает на небе, когда в облаках проплывают то старцы, то женщины в локонах и покрывалах, то малые дети. Но в небе они все белы, беззаботны. Плывут и плывут: то ухо свернется на старце, то птицей окажутся, слившись, два юных создания. А здесь, в ее сне, было так, как, наверное, бывает в аду: дым, пламя кровавое сквозь этот дым и лица, расплывшиеся от дыма.
— Смерть — это не страшно! — кричала Инесса прокуренным голосом. — Это не страшно!
Она и проснулась от этого крика.
В дверях стоял Пьеро. Соболий берет ему очень шел.
— На улице дождь. Я промок. Ответь: почему он все спит? И утром он спал. И сейчас.
— Он устал.
Тогда Пьеро сел на кровать и разгладил усы над капризной губой. Она его знала безусым. С усами он был не знаком ей. Чужой человек. И вдруг ее как осенило.
В манускрипте о том, что произошло между ними, написано беспощадно и просто. К сожалению, последние два абзаца оказались не читабельны.
«Катерина была не просто умна. Она была хитра и сообразительна, как большинство жителей Востока. По мнению древних философов, на жителей Востока благотворно влияет могучее и постоянное присутствие солнца, обогащающее их кровь необходимыми химическими элементами, названия которых не сохранились. Ведь ни для кого не секрет, что психическими расстройствами страдают в большинстве своем те, кто имел несчастье появиться на свет зимой, когда тощая и промороженная земля не чувствует солнца. Пьеро, уроженец северной Италии, родился в самой середине января, более того, в предутренний час, когда липкий снег шел на город стеной. Смешно даже сравнивать умственные способности отца и матери великого Леонардо. Однако Пьеро да Винчи был весьма чувственным человеком, что подтверждается фактом о наличии у него, кроме Леонардо, еще десяти детей от трех его законных браков. Грустно, что никто из этих десяти не только не оставил следа в истории человечества, но и не получил высшего образования, а три младших мальчика и старшая девочка не в состоянии были даже овладеть грамотой. Говорит ли это в пользу Катерины? Без сомнения. Встретившись вечером на постоялом дворе с отцом своего ребенка, измученная и истерзанная Катерина, несмотря ни на что, решила снова попробовать свои силы и, соблазнив недалекого Пьеро, отвоевать себе время на то, чтобы найти такое пристанище для себя и Леонардо, о котором отец его не узнает ни в коем случае. Приступая к соблазнению своего бывшего любовника, умная и хитрая женщина понимала, что она уже не сможет добиться от молодого да Винчи полного подчинения своим чарам: сердце ее угадало совершившееся в нем нравственное перерождение. К слову сказать, интуиция не обманула Катерину: Пьеро, дорвавшись до денег, которые получал он от Козимо Медичи за оформление грязных сделок последнего, стал мелок душой и к искусствам оглох. До историков дошли слухи, что ни он, ни Альбиера, тогдашняя супруга его, не только не посещали мастерские художников, но даже и вовсе не интересовались литературою. Итак, Катерина решилась…»
С этого места мне придется продолжить самой. Горько было на душе у нее и вовсе не до того, чтобы опять привлечь к себе разлюбившего ее мужчину. Но ни стыд, ни горечь не шли ни в какое сравнение со страхом, который он внушал ей. Теперь она была полностью в его власти. Он мог отнять у нее сына. Она тряхнула головой, и струящийся дождь светлых волос обрушился на круглые плечи. Одновременно с этим сильным и ловким движением она изогнулась, как кошка, высвобождая из корсета свою большую грудь. Глаза у Пьеро да Винчи стали стеклянными. Кружева на ее нижнем платье были не первой свежести: путь, проделанный из деревни до города, сказался на их белизне, однако та же самая восточная интуиция подсказала ей, что терпкий запах ее тела, не заглушенный ни ароматом духов, ни приторным дыханием масел, — лучшее средство для того, чтобы возбудить нотариуса. Пьеро напрягся, стараясь не смотреть на нее. Она глубоко и свободно вздохнула.
— Я дом продаю, — сказал он сорвавшимся голосом.
— И что? — продышала она. — Что дом-то? Какой еще дом? На улице дождик…
И вдруг, вся прижавшись к нему, запела веселую русскую песню:
На улице дождик, на улице частый, муж жону выводит, под дождик становит: ты постой-ка, жонка, ты постой, родная…Он не вырывался, притих, будто птенчик. Она оглянулась на спящего сына. Веки его были плотно сомкнуты, длинные ресницы слегка трепетали от свечки. Тогда она задула ее, чтобы, случайно проснувшись, дитя не углядело родительского соития и не огорчилось его безобразностью на всю свою жизнь.
— Замерз? — прошептала она своим низким шепотом.
От этого шепота зверь в нем проснулся. Никто, ни один в мире человек, не знал, до чего не хватало преуспевающему нотариусу, домашнему человеку в доме Козимо Медичи, владельцу двух новых больших деревень, ах, как не хватало ему вот такого, знакомого, низкого, страстного шепота! Жена-то пищала в постели, вертелась, стараясь ему угодить, ну, а девки, к которым он часто ходил, — те молчали: стеснялись, наверное.
— Замерз? — повторила она.
— Катерина! — И он, торопясь, расстегнул на штанах крючки и застежки.
(Спи, спи, Леонардо, спи, мальчик. Спи, гений, которому небо откроет свою светоносную чистую тайну. Тебя ждет Мадонна во гроте. Мадонна с цветком. И Мадонна с Младенцем. И не открывай своих глаз, не смотри, как совокупляются двое, хотя мать успела до самых бровей накрыть тебя, мальчик, своей плотной шалью.)
Катерина никогда не испытывала боли от физической близости с мужчиной. Доктор, четыре года назад осмотревший ее и увидевший, дрожа всем телом, что матка ее совершенна, как плод, сказал, что она рождена для соитий. Такое случается, но крайне редко. Обычная женщина скучно устроена, поэтому охладевают мужчины, которым годами — да, именно так! — приходится, как дуракам, упираться все в тот же забор и все в те же ворота. Но тут, когда Пьеро ворвался в нее, она закусила от боли губу и даже слегка застонала невольно.
Но он не услышал. Он так себя чувствовал, как будто огромная гроздь винограда лежала под ним, истомленная солнцем. И каждое новое прикосновение, и каждый удар в сердцевину ее его обволакивал соком.
— Постой! — прошептала она. — Не могу.
Он снова вонзился, еще глубже прежнего.
— Постой! — И она оттолкнула его. — Ведь я говорю, что мне больно, не надо!
И вдруг все закончилось. Бурно дыша, он, мокрый, лежал на боку, и досада душила его.
— Что с тобой? Ты больна? — спросил он сердито.
— Была не больна, пока ты не пришел.
— Пора мне, — сказал он и стал одеваться. — Ты можешь остаться и жить в моем доме.
— Приедешь? — спросила она и запнулась.
— Когда нужда будет продать, я приеду. Письмо напишу, сообщу свои планы. Прощай, Катерина.
Взглянул на ребенка. Ушел, хлопнув дверью. Она взяла таз, вышла в темную ночь. Воды набрала из кадушки. И долго смывала густую белесую влагу, которая словно слепила ей ноги.
Глава 20 Разлука
Недавно я по чистой случайности узнала, что, кроме рукописного источника, которому я доверяю полностью и потому на изложенных в нем фактах построила все сочиненье свое, сохранилось что-то вроде записной книжки, принадлежащей флорентийскому горожанину Альбертино Висконти. Разгадать, почему именно он стал свидетелем тех четырех месяцев, которые Катерина провела в поместье Винчи, вернувшись туда с сыном после казни Инессы, мне не удалось. Возможно, он был управляющим делами и неотлучно находился тогда рядом с нею, но утверждать этого нельзя, а шестое чувство подсказывает мне, что он-то и был тем человеком, который после отъезда пятилетнего Леонардо в город с отцом предложил Катерине руку и сердце. Как бы то ни было, в этой записной книжке его сохранились любопытные записи, а поскольку «Сады небесных корней» то ли просто игнорируют этот временной отрезок, то ли страницы, обрисовывавшие его, сгорели при пожаре, мне кажется, что для серьезного исследователя, к числу которых я отношу себя, грех было бы пренебречь старательными воспоминаниями Альбертино Висконти.
«…Сегодня увидел ее в саду. Она была с няней и ребенком. Этот мальчик с каждым днем становится все красивее. Вот уж поистине благословенное Небесами создание! Она не спускает с него глаз, словно его могут вот-вот украсть у нее. Никогда в своей жизни я не видел матери, столь сильно преданной своему сыну, как она. Мне иногда даже кажется, что в этом ее слепом обожании и ежеминутном служении маленькому Леонардо есть какая-то тайна. Но какая?
…Ей принесли письмо, и я, от нечего делать подстригающий розы возле крыльца, увидел, как она побледнела. Нет, это слово ни о чем не говорит. Она не просто побледнела. Она стала безжизненно голубоватой, словно от ее лица за секунду отлила вся кровь.
— Я знала! — сказала она. — Вот и все!
— Синьора? — вежливо переспросил я, бросая на землю садовый нож.
— Ах, Дева Мария! — Она только что заметила меня. — А вы здесь зачем?
Несмотря на обидный для меня смысл этих слов, я решил воспользоваться ее одиночеством и беспомощностью.
— У синьоры что-то произошло?
— Я получила письмо от хозяина. Его жена на прошлой неделе умерла родами. Ребенок родился размером с божью коровку, но вскоре и он тоже умер. Хозяин мне пишет, что скоро приедет.
До меня уже доходили слухи, что эта Катерина, любезная моему взгляду, жила с молодым да Винчи и родила от него, а потом пришла в деревню с младенцем на руках, и старый хозяин взял ее к себе в дом. Вся деревня помнит, какие счастливые и беззаботные три года провели они вместе, пока он не умер. Я стараюсь не прислушиваться ни к каким сплетням о ней и ничему не верить, хотя, если говорить по совести, никто не знает о ней ничего стыдного или порочащего. То, что она родила не будучи замужем, не такая большая редкость, тем более для девушки, за спиной которой нет состоятельной в деньгах и строгой во взглядах семьи. Я никогда не видел ни молодого, ни старого да Винчи, но люди говорят, что оба они были большими повесами и кутилами, а старый так просто ужасно развратничал, пока не пришла в его дом Катерина. Она его не только усмирила, но и умудрилась пробудить в нем щедрую и жалостливую душу, так что скончался он добрым христианином, успев построить здесь, в деревне, новую церковь и дав средства на восстановление тех хозяйств, которые сильно пострадали от пожара. Все то время, а именно год и четыре месяца, которые я по непростым своим обстоятельствам вынужден пребывать здесь, в провинции, ничто так не радует меня, как ежедневное лицезрение ее благородной красоты вкупе с красотою и прелестью ее ребенка.
Пока она сокрушалась, перечитывая это письмо и стараясь, судя по всему, представить себе, что ее ждет, я осторожно спросил, не знает ли она, зачем именно приезжает хозяин и надолго ли рассчитан его приезд. Она подозрительно посмотрела на меня и, не ответив, махнула рукой и заспешила в дом по садовой аллее. Ей не хотелось посвящать меня в свою жизнь. Какой я наивный, простой человек! Возможно ли так откровенно и грубо задавать женщине вопросы о ее бывшем любовнике?!»
В то время, когда Албертино Висконти писал эти строки, за столом во дворце Козимо Медичи беседовали трое: сам хозяин в простом суконном платье и мягких сапогах, в которых он обычно ходил дома, стараясь неслышным проникнуть в те закутки, откуда можно было подслушать какой-нибудь разговор, Нина Петровна, недавно неудачно высветлившая свои густые черные усики, отчего они стали неприятного, синеватого с желтым, цвета, и понурый нотариус Пьеро да Винчи, три дня назад предавший земле Альбиеру, умершую родами.
— Ну, что вы, голубчик, так, право, печальны? — вздыхая, спрашивала Нина Петровна, слизывая с ложечки вишневое варенье. — Что, право, такого случилось?
— Да как же? — вяло возражал Пьеро. — Вот еще неделю назад птичка моя так и летала по всему дому, крылышками, знаете, так и дергала, так и дергала! Придешь домой, усталый, весь день на ногах да с бумагами, а тут, понимаете, ужин, жена…
— Ах, полно вам, миленький! — уже с раздражением в голосе отвечала ему Нина Петровна, слегка шевеля своими сладкими от варенья усиками. — Она, значит, крылышками у вас дергала? Ну, вы насмешили меня, прям трясусь вся! Она теперь, миленький, ангел небесный! У ней теперь крылья — вон, как до буфета! Там места-то много, на небе! Летай не хочу!
— Жена тебе дело сейчас говорит, — заметил спокойно Козимо Андреич. — Я сам замечал, что, когда Альбиера твоя понесла, ты, любезный, как будто с катушек слетел! Чуть что — к телефону! «Ну, как? Не тошнило? Животик не пучит?» Аж слушать противно!
— Ребенок же все-таки… — слегка возражал ему Пьеро да Винчи.
— Ну, ясно, ребенок! Кто ж спорит? А только первей всего дело! Ты этих ребенков еще понаделаешь, в дом не поместятся! А бабу другую найдем, помоложе! Твоей Альбиерке-то сколько там стукнуло?
— Так ей двадцати еще не было. Девочка!
— А мы помоложе найдем! Поплотнее! А то три годка не могла понести, а как понесла, так одни неприятности! Ну, что ей приспичило на пятом месяце вдруг взять да родить?
— Постой, дорогой, — перебила жена. — Ты сам говорил, что в отцовской деревне живет твоя краля с мальчишкой? Ну, как ее?
— Живет. — Пьеро весь покраснел. — А мне что с того? Не на ней же жениться!
— А кто тебя просит жениться? Поедешь, мальца отберешь, раз ты скучный такой, наймешь гувернантку с хорошей мордашкой, а после начнем и невесту искать!
— Отличная мысль! — И Козимо прищелкнул когтистыми пальцами. — Именно так. Езжай за мальчишкой, сюда привози. Тебе веселее и парню на пользу. А бизнес нельзя запускать. Ни-ни-ни! Ты вон и портфеля еще не открыл! А я ночь не спал, документы готовил!
Уговоры подействовали, и утром следующего дня Пьеро да Винчи на своей любимой, коричневой в белых яблоках, кобыле в сопровождении верного слуги Бенвенуто Челлини, потомок которого, Адриано Челентано, прославился своим голосом на всю Италию, отправился в отцовскую деревню. Душа его, зачерствевшая за последнее время, металась в груди, словно тень от светильника. Особенно мучило воспоминание об этой их встрече тогда с Катериной, когда он себя показал не мужчиной, а жалким подростком, впервые коснувшимся пылающей женской утробы. До него, разумеется, дошли слухи, что три последних года Катерина пользовалась особенным расположением его отца, нрав которого был ему прекрасно известен, и теперь он пытался понять, почему же отец не оставил никаких распоряжений относительно своего внука и любимой своей женщины, его матери, на случай своей скоротечной кончины. В голову не могло прийти умному и просвещенному нотариусу, что, весь преображенный последней своею любовью, а главное, страстью, старый да Винчи не только не помнил о смерти, а даже и не представлял себе, что смерть, то есть исчезновенье любви, заденет когда-то его самого. Пьеро испытывал почти физическое, до тошноты, отвращение, когда рисовал в своем воображении высокого, словно вылепленного лучшим скульптором, своего родителя, совершающего любовный акт с Катериной, которая когда-то с таким восторгом и самозабвением отдалась ему, пылкому юноше, в густом винограднике. Глупо было злиться сейчас на отца, зарытого в землю, где черви, конечно, погрызли высокое, крупное тело, глаза, рот, а волосы давно уже отъединились от черепа, и страшно представить себе, что осталось от этой мужской красоты, но она! Она, Катерина, которая голубя послала ему во Флоренцию! «Найди меня, сердце!» Он скрипнул зубами.
«Нельзя верить женщинам, — думал он горько. — Любить их нельзя: предадут и унизят. Хотя Альбиера была исключением. Поэтому Бог и призвал ее, бедную».
Он плохо представлял себе, что будет делать с сыном, если все-таки отберет его у матери, но, разумеется, Козимо прав, считая, что жить с сыном гораздо веселее, чем жить одному, а кроме того, отобрать ребенка у Катерины будет самой лучшей местью за ее предательство.
Вечером остановился он в той же самой гостинице, в которой останавливался тогда, когда, вынув нежнейшее письмо из клюва голубя, заторопился к своей возлюбленной, пренебрегая угрозами чумы и обманув Альбиеру. Хозяйка с густыми ресницами весьма пополнела и подурнела, но, когда она, взяв свечу, побежала впереди него по винтовой лестнице, скрипя корсетом, он без лишних слов обхватил ее за толстую талию, притянул к себе и почти доволок до комнаты, где она и отдалась ему, смутно припоминая, что где-то уже видела этого господина.
Грех мне не воспользоваться записями Висконти, пристально наблюдавшего за приездом Пьеро да Винчи в родные пенаты.
«В полдень хлынул такой ливень, что все работающие на полях побросали свои мотыги и кинулись под навесы. Я был взволнован с самого утра, словно бы предчувствуя, что сегодняшний день готовит большие испытания. Она, как всегда перед обедом, гуляла с мальчиком, и ливень застал их в вишневом саду. Я схватил параплюи, подаренный мне другом перед отъездом из Парижа, и кинулся туда. Она стояла, крепко обнимая сына и стараясь прикрыть его своею мантильей. Цветущая вишня, обычно вся пышная, белая, а сейчас обвисшая, лиловатая от дождя, пыталась защитить их своими простодушными цветами, но не могла.
— Синьора! — сказал я, задыхаясь и проклиная себя за это, поскольку как только я вижу ее, так сразу же начинаю задыхаться. — Идите скорее! Вы сильно промокли!
— Ах, Господи! — И она слегка засмеялась. — Что это за сооружение такое? Откуда оно у вас?
Я наскоро объяснил ей, что „сооружение“, как она справедливо заметила, досталось мне из Франции, которая неотступно следует за новейшей модой, но известно оно было еще древним народам, только тогда им защищались исключительно от солнца. Она стояла неподвижно, прижимая к себе мальчика, который, несмотря на ливень, высунул из-под ее мантильи свою прелестную кудрявую голову и с любопытством смотрел на меня.
— Из чего это сделано? — продолжала удивляться она, а хлещущая с неба вода сделала ее золотистые волосы темными, что удивительно шло к этим испуганным ярким глазам. — Наверное, оно очень тяжелое?
— Совсем не тяжелое! — бодро ответил я. — Не более четырех килограмм. Вся эта штука держится на китовом усе, вот в чем дело.
Мне показалось, что она боится преодолеть расстояние (не более шага, впрочем), отделяющее ее и ребенка от меня с моим параплюи. Эта ее природная застенчивость и скромность, чему я много раз бывал свидетелем, вызывает у меня восхищение.
— Как это называется? — тихо спросила она, блестя на меня исподлобья чудесными своими глазами.
— Parapluyi, — сказал я. — Потому что, видите ли, синьора, по-французски „дождь“ будет „pluie“.
— Ах, вот оно что! — Она почему-то покраснела.
Я видел ее просвечивающие сквозь намокшее платье удивительной красоты руки и даже грудь, которую эта мокрая ткань беззастенчиво обрисовывала. Что делать, я не знал, потому что она не помогала мне, и смущение ее явно росло. Я так волновался, что у меня начала кружиться голова, и я испугался, что потеряю сознание. В эту секунду послышался топот босых ног по лужам, и двое слуг, насквозь мокрых, с блестящими волосами, показались в конце аллеи.
— Барин приехал! — кричали они. — Извольте вернуться домой! Сейчас прискакали! Голодные, страсть! Ругаются очень!
И тут она не просто шагнула, она испуганно почти прильнула к моему плечу, не выпуская из своих объятий ребенка. И мы оказались втроем под огромным параплюи. Это была самая счастливая минута моей жизни, клянусь памятью моей драгоценной матери. Дождь не проникал сквозь плотную, специально чем-то обработанную холщовую ткань, а темнота под ней была такой, как будто наступил вечер. Я с наслаждением услышал ее дыхание, испуганное и нежное, как дыхание только что родившегося жеребенка, а ладонь моя сама собой легла на шелковые волосы маленького Леонардо.
— Пойдемте! — шепнула она.
И мы побежали. До дома было недалеко, и, не пробежав и двадцати метров, мы услышали громкий и сердитый мужской голос, не лишенный, впрочем, некоторой музыкальности. Стоящий на террасе высокий худощавый человек в мокром плаще отчитывал за что-то слугу и казался очень разгневанным. Моя спутница прижала руку к сердцу и замедлила шаг. Приехавший обернулся. Он поклонился, но какая-то насмешка почудилась мне в этом поклоне. Но она, моя королева! Она остановилась. Пальцами левой руки захватила правую складку тяжелого платья, а пальцами правой руки захватила левую складку. Скрестив таким образом руки, она опустилась в нижайшем реверансе, не спуская с гостя глаз и словно бы гипнотизируя его этим медленным поклоном. Так, я думаю, кланяются только самые великолепные дамы на самых великолепных дворцовых праздниках. А тут: дрожь природы, ливень, гром вдалеке, и она, выступив из-под моего параплюи на мокрую раскисшую землю, вся мокрая сама, с распустившимися, темными от воды волосами, вот так поклонилась!»
Тут я прерву рассказ Висконти, поскольку забыла вставить в свое повествование то, что было написано в самом начале «Садов небесных корней» о характере Катерины:
«Был в ней не только редкий „charme“ (обаяние. — фр.), было еще что-то артистическое, изящное и одновременно удалое, как в русской тройке, что и не удивляло тех, которые были посвящены в тайну ее наполовину славянского происхождения. Она могла одним движением, одним взглядом поставить на место любого, хотя со стороны это ее движение или скромно потупленный взгляд выглядели образцом смирения. За внешней мягкостью и уступчивостью скрывалась та внутренняя сила, которая не нуждается в демонстрации, а напротив, прячет свой размах, чтобы замаскироваться под обычную женщину. Именно от нее великий Леонардо унаследовал эти черты: он казался мягким и податливым, как воск, а на самом деле был несгибаемо тверд в своих представлениях о жизни и смерти. Его почитали за веселого и остроумного собеседника, охотно приглашали в гости, искали его дружбы, и никто не понял, насколько трудно было ему вести себя так, чтобы никто не заподозрил тоски, съедавшей его сердце при виде этих заурядных людей, и никто не заметил легкой нотки нетерпеливого раздражения, проскальзывающего в разговорах с ними».
Возвращаюсь к запискам Висконти:
«Судя по всему, нотариус да Винчи (а я уже догадался, что это был именно он!) не ожидал столь торжественного и величавого приветствия. Брови его удивленно приподнялись, и он не сразу сообразил, как ответить. Она же продолжала стоять под дождем, который стал еще сильнее. Слуги застыли с раскрытыми ртами. Тут маленький Леонардо выбежал прямо из-под моей руки, не успевшей удержать его, и с криком: „Mamma si prendere freddo!“ (Мама, ты простудишься! — итал.) бросился к ней и обхватил ее колени. Я заметил, каким торжествующим, каким победительным выражением засияло ее лицо! Она взяла ребенка на руки и поднялась по ступеням террасы.
— Синьор прибыл в родной дом, а никто не предложил ему даже переодеться в сухое платье, — мягко, но властно обратилась она к слугам, которые тотчас же засуетились. — Захочет ли синьор пообедать вместе с нами в большой столовой или прикажет, чтобы ему подали обед в его комнату?
Да Винчи усмехнулся.
— Синьора, — сказал он, — прикажите, чтобы мне к обеду зарезали козленка. Я давно не пробовал такой вкусноты, как эти козлята, которые нарождаются только здесь, в нашей местности. По всей остальной Италии мясо козлят жестко и малосъедобно.
Тут до меня дошло, насколько глупо и странно выгляжу я сам, стоящий в нескольких шагах от террасы под моим параплюи, вытаращив глаза. Я поспешно поклонился, хотя на мой поклон никто, разумеется, не ответил, и удалился в свой садовый домик».
Что же произошло за время отсутствия этого благовоспитанного человека, который попал под воздействие женщины, действительно редкостной и замечательной?
Переодевшись в бывшей отцовской комнате и прыснув на себя его духами «Красная Венеция», Пьеро был почти готов к тому, чтобы идти обедать, но расположение духа у него было самым мрачным. Он предчувствовал тяжелое объяснение со своей бывшей возлюбленной. Мальчик ему, однако, очень понравился.
«Лицом он, скорее, похож на нее, — думал Пьеро, красиво разделяя волосы на прямой пробор частым гребнем из слоновой кости. — Особенно рот. Но походка — моя. И то, как он смотрит. Внимательный парень. Совсем не дурак».
Он только успел отворить свою дверь, как, птицей метнувшись из ниши оконной, она ухватила его за рукав. Насквозь еще мокрая. Значит, ждала здесь.
— У вас разговор есть ко мне, Катерина?
Он вдруг перешел с ней на «вы».
— Умоляю, — сказала она. — Умоляю тебя.
— Вы это о сыне?
— О сыне, о сыне! — Она вся дрожала. — А помнишь, ты слово мне дал, что приедешь, как он народится? И предал меня? Приехал сегодня — три года прошло! Зачем ты приехал?
— Не помню, что я вам дал слово приехать, когда он родится. Не помню. И много воды утекло с этих пор.
— Да, много. Но грязной воды. И вонючей.
— Я голоден. — Он покривился. — С дороги. Позвольте пройти.
Дверь в отцовскую комнату все еще была открыта, объяснение их происходило на пороге. Вдруг она набросилась на него и изо всей силы втолкнула обратно. Захлопнула дверь изнутри, прижалась спиной к ней, раскинула руки.
— Убей меня лучше, — сказала она. — Возьми вот кинжал со стола и зарежь. Ведь я говорила, что мать мою так же когда-то зарезали?
Он сжал ее руку.
— Пусти, Катерина! Я думал, что ты поумнее, а ты глупа, как корова!
— Нет, ты не уедешь отсюда живым! Не хочешь меня убивать, тогда я…
Она захлебнулась.
— Зарежешь меня? — Он побагровел. — Пропусти, говорю!
Она обхватила его и сползла к ногам его, на пол.
— Родной мой, — сказала она. — Ты не помнишь, как мы в винограднике… Ты что, не помнишь?
Он перешагнул через ее голову. Тогда побелевшими твердыми пальцами она вдруг вцепилась в него, да так яростно, что он стал трясти сапогом, будто в ногу вцепилась собака.
Они бы, наверное, убили друг друга, но время стояло другое за окнами. И правила стали другими, и нравы. Но, вторя тому, что душило обоих — его и ее, — небо вдруг изогнулось, как будто рожая, и разорвалось таким беспощадным, воинственным громом, таким осветилось кровавым огнем, что все на земле, оглушенное, сжалось.
Тогда Катерина с трудом поднялась.
— Ты утром поедешь? — спросила она. — Мне нужно собрать его, все подготовить. Простимся как люди…
И сжала кулак.
— Не будет мой сын уважать тебя, Пьеро, — сказала она по-арабски с улыбкой. — Не будет любить. Ты получишь свое.
Но он ведь не понял. Она улыбалась, и эта улыбка его обманула.
Рано утром во дворе уже толпились люди. Все знали, что сына Катерины, которая после смерти старого барина поселилась в его доме, хотя никаких распоряжений на это старый барин не оставил, увозит во Флоренцию его отец — молодой барин да Винчи, которому принадлежит и сам дом, и все, что находится в доме. Лошадь Пьеро, испуганно косясь сине-черным глазом на незнакомую толпу, тихо, но нетерпеливо переступала своими тонкими, жилистыми ногами в ожидании, когда хозяин лихо вспрыгнет в седло и нужно служить ему верой и правдой, пока не домчатся они до Флоренции. Слуга, проведший бессонную ночь в объятиях немолодой, но славной лицом и осанкою прачки, бурчал недовольно, поскольку сейчас ему бы хотелось поспать, а спать было некогда. Пьеро вышел на террасу в белом кафтане со стоячим воротником и черных высоких сапогах. Он был и хорош, и умен, и удачлив, совсем не похож на вдовца. На душе у него было по-прежнему тяжело, но он старался виду не показывать. Ни секунды не сомневался он в том, что решение отобрать сына у матери, которая уже четвертый год живет в доме его отца (ныне, кстати, покойного!), — есть единственно правильное решение. Внутри шевелилась веселая нежность, когда он вспоминал большие глаза этого ребенка, его белокурые, как у Катерины, волосы и особенно загадочную, лукавую усмешку, приподнимающую уголки губ, от которой освещалось не только лицо, но даже деревья вокруг, даже травы.
«Я сам займусь его воспитанием, — думал Пьеро. — Найму лучших учителей. Разумеется, нужно будет начать с азов философии, потом логики, развить мышление…»
Прошлая ночь утомила его. Он знал, что она вместе с ребенком находится в правом крыле дома и нет ничего проще, чем постучать и вызвать Катерину из комнаты под любым предлогом. Странно, но даже после безобразной сцены в отцовской спальне, оставшись один и глядя в окно на знакомый с детства двор и черную, с едва заметным серебром на верхушках кипарисовую аллею, уводящую в небеса, он вновь ощутил, что его раздраженно влечет к этой женщине, которой он должен вонзить в сердце нож тем, что забирает ребенка. Вины он не чувствовал, жалости тоже. А только влечение к ней. Он холодно всматривался в их прошлую любовную историю, как медицинский студент, схоластик и циник всматривается в только что разрезанную вдоль и поперек мертвую человеческую руку в анатомическом подвале. То, что она была любовницей его отца, убило все прежние чувства. В этой любовной связи ему мерещилось что-то омерзительное, противоестественное, и слава Богу, что отец умер и не довелось им столкнуться. А ведь не будь этого, он, может быть, даже сейчас и женился на ней! Увез бы ее вместе с сыном отсюда. Дышать было трудно от всех этих мыслей, сводило живот, тошнота поднималась, как это бывает, когда много выпьешь. Какая-то остервенелая грусть его разрывала. Да, грусть, но не жалость. Влечение дикое. Ни капли любви. А ведь в самом начале… Какая тогда была ночь в винограднике!
Он почти уже решился выманить Катерину из спальни, привести ее сюда, в отцовское логово, бросить на эту кровать — ту же самую! — но остановился как вкопанный. Он вспомнил последнюю близость. Когда он со стоном лег на бок, согнувшись и чувствуя, как заливает его горячим и липким. Испачкал ее и себя, весь живот был словно в капустном соку. А вдруг это с ним повторится сегодня?
Заснул он часов в пять, не раньше. Проснулся — светло. Слуга приготовил нарядное платье, принес, разложил на кровати.
— Синьор! Пора бы уж трогаться, путь-то не близок.
— Ребенок к дороге готов?
— Никак нет. Она заперлась с ним и не открывает.
Он вытер со лба крупный пот. Так и знал!
— Она не могла убежать вместе с сыном? Проверили комнату?
— Да там они, там. Плачут, песни поют.
— Как это поют? Почему вдруг поют?
— Я девок спросил. Сказали, что часто такое случается. Поют и поют. Голосистые оба.
Да Винчи бросился на правую половину дома. Еще на лестнице услышал их голоса. Она ведет, дитя подхватывает. Пели они на незнакомом языке. Он понял каком. Языке ее матери.
— Выйду ночью в поле с коне-е-е-е-м, —сильным и чистым голосом пела Катерина.
— Мы пойдем по полю вдво-е-е-е-е-м, —ясно и серьезно вступал мальчик.
— Ночью в поле звезд благода-а-а-а-ть. — В поле никого не вида-а-а-а-ть… — Выйду ночью в по-о-о-ле с коне-е-е-м. — Ночкой темной тихо пойдем… — Мы пойдем с конем по полю вдвое-е-е-м…Они пели так громко, так уверенно, как будто в целом мире не было никого, кроме них, и странный, завораживающий покой несло это пение. Слуга замер, покрутив головой, служанки боялись пошевелиться, а эти все пели и пели… Да Винчи почувствовал ком внутри горла, который никак не глотался. Откашлялся. Пора было ехать. Он, не постучавшись, толкнул дверь ногой. Странная картина предстала его глазам. В камине пылал огонь. Катерина в белом нижнем платье, с неубранными волосами сидела на полу, прижимая к себе ребенка. Она обнимала его обеими руками, так что кисти ее рук сходились на его груди, а он прижимался затылком к ее подбородку, и маленькие пальцы его теребили оборку шелкового материнского платья.
— Сяду я верхом на ко-о-о-о-ня-я-я-я. — Ты неси по полю-ю-ю-ю меня-я-я-я…Да Винчи подошел к ним. Оба замолчали.
— Пора собираться, — сказал он.
— Сейчас мы придем, — прошептала она.
Прошло минут десять. Он стоял на террасе, освещенный солнцем. Молодой, красивый человек. Весьма мускулистый, к тому же нотариус. Ни за что не скажешь, что недавно овдовел. Теперь ему даже хотелось, чтобы они не пришли. Чтобы она сбежала по черной лестнице вместе с их сыном. Чтобы он больше никогда ее не видел.
За дверью спальни была тишина. Слуги переглядывались с понимающим видом. Он уже хотел было махнуть рукой на всю эту затею, но тут она вышла. На нижнее, белое, надела пурпурное платье. И мальчик был в бархатном красном берете.
— Мы скоро увидимся. Слышишь меня? — сказала она совсем тихо.
— Я знаю, — сказал он серьезно.
— Ты — радость моя, — прошептала она.
Тогда он обеими руками крепко-крепко обхватил ее ноги, прижался и замер. Тихие слезы побежали по ее лицу, но она не издала ни звука.
— Пора, Леонардо, — напомнил да Винчи и тронул его за плечо.
— Да, сударь. Поедемте.
Последние страницы манускрипта «Сады небесных корней» содержат описание того, что произошло в доме покойного старика да Винчи после отъезда во Флоренцию его сына и внука.
«Катерина, как сообщили свидетели, заломила руки и, не двигаясь, смотрела вслед красному бархатному берету, который еще пару минут как будто горел в свете солнца. Потом руки ее упали, и она, сгорбившись, поднялась по лестнице к себе. Альбертино Висконти, бывший, как мы предполагаем, управляющим имением, помедлил немного и поспешил за нею. Дверь была не заперта, он вошел и остановился на пороге. Она ничком лежала на постели. Дрова в камине догорели, окно было почему-то открыто. Свежий ветер слегка шевелил накидку на кресле, шуршал страницами Евангелия, но не притрагивался к лежащей, обходил стороной, так что ни один волосок не двигался на ее голове, и эта мертвая неподвижность испугала Висконти. Судя по его запискам, он был человеком скромным и крайне чувствительным, часто падал в обморок, объясняя это пережитым в детстве потрясением: отец его, рыбак из далекой Исландии, ушел под лед на глазах жены и детей, поскольку лодка, почти достигшая берега, напоролась на прибереговую льдину и тут же затонула. Мы не знаем, каким образом попал этот человек в Италию, отчего многие европейские ученые и художники числились в его близких друзьях, а один из них, до сих пор живущий в Париже, подарил на именины параплюи, под которым Катерина пряталась от дождя вместе с сыном. В жизни его много темных мест, а еще больше белых пятен, но одно известно доподлинно: он был беззаветно и, как говорят факты, платонически влюблен в мать будущего гения. На записке, содержащей описание того, что он застал в спальне Катерины, сохранились следы его слез и многие буквы размазаны.
Увидев ее неподвижной, даже и не повернувшей в его сторону головы, Висконти испугался, что она, может быть, приняла яд, поскольку это было очень распространенным среди молодежи явлением. Не дыша, он дотронулся до ее руки. Рука была теплой. Тогда он опустился на колени рядом с кроватью, на-деясь, что это заставит ее произнести хоть слово. Она не шевелилась. Он встал и сел в кресло, твердо пообещав себе никуда не уходить, пока она не придет в себя. Медленно потекло время. Густым горьким медом оно потекло на землю с листвы и с земли еще глубже — в глухие места, где живут только черви и корни бессмертных высоких деревьев. Висконти и сам не заметил, как дрема свалилась ему на затылок и, крепко обнявши за плечи, сменила его напряженную позу: он развязно откинулся и вытянул ноги почти до камина. Сколько прошло времени, он не знал. В комнате было тихо. Вдруг голос Катерины разбудил его. Он испуганно всмотрелся в темноту. Она сидела на кровати в своем белом шелковом платье и тихо разговаривала с кем-то, кого он не видел.
— Вот ты и вернулся, — сказала она. — А я испугалась. Дай руку, сыночек. Какой ты большой! Все тебя уважают. Хотя они только в лицо уважают. А что за спиной говорят!
Она засмеялась.
— Но ты их не бойся. Увидишь: никто ничего не посмеет. Когда ты придешь? Далеко? Тебе трудно? Тогда я сейчас соберусь и — к тебе. Я мигом, ты не уходи, я сейчас…
Она спустила ноги с кровати и стала нащупывать руками давно погасшую свечу.
— Синьора! — воскликнул Висконти. — Вы бредите!
Она посмотрела в темноту невидящими глазами.
— Кто там? Ты, Инесса? С Варварой? Пойдите сюда. Помогите. Не вижу без света. Инесса! Варвара! Он там задохнется во мне! Помогите! — Она разрыдалась, закашляла. — Чего вы боитесь? Нет, я не помру. Еще не пора. А помру, так неважно! Вы только достаньте его, как положено. Мою драгоценную деточку, косточку, мою виноградную душеньку…
Она поднялась и рванулась куда-то. Висконти успел подхватить ее, к счастью.
У нас нет точных сведений о ее болезни. Известно только, что горячка продолжалась несколько месяцев и Катерина была на грани смерти. Тот самый доктор, который, рискуя собственным здоровьем, наловил целое ведро отборных пьявок, пытаясь спасти старика да Винчи, заходил каждый день и с большим удовольствием мял и ощупывал больную своими длинными цепкими пальцами. Через несколько месяцев Катерина поднялась и, ответив решительным отказом на брачное предложение Висконти, сообщила, что навсегда покидает деревню».
И больше ничего не написано. Поставили точку, и все. Я измучилась. Искала, искала, всех дергала: искусствоведов, ученых и даже знакомых лингвистов. Молчат, как язык проглотили. Один, правда, глупость сморозил: сказал, что рядом с да Винчи все время крутилась какая-то женщина. И усмехалась такой же усмешкою, как мона Лиза. Она была старше его лет на двадцать. А может, и больше. Потом умерла. И он заказал отпевание в церкви Святого Креста.
Я ахнула:
— Что? Катерина?
А он усмехнулся и взгляд свой отвел:
— Откуда мне знать? Может, и Катерина. Роман-то ведь ваш. Вы за все и ответите.
Примечания
1
Лат.
(обратно)2
Второзаконие, глава 5, 29.
(обратно)
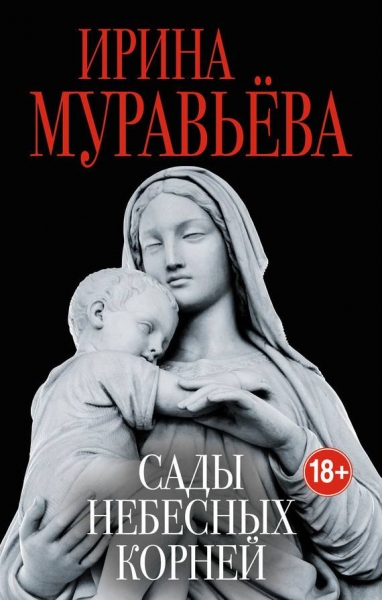

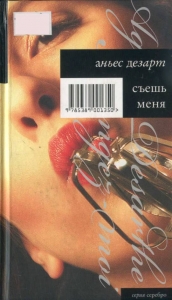
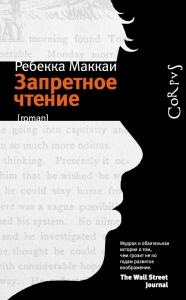


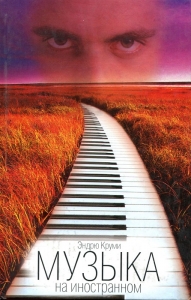
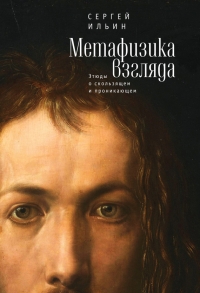
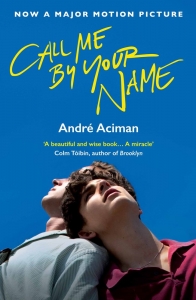
Комментарии к книге «Сады небесных корней», Ирина Лазаревна Муравьева
Всего 0 комментариев