Ханна Кралль Портрет с пулей в челюсти и другие истории
© К. Старосельская, перевод на русский язык, 2017
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
© ООО “Издательство АСТ”, 2017
Издательство CORPUS ®
Вторая мать
1.
Вот что мы знаем наверняка:
девушка была немкой, и звали ее Гретхен;
она жила в маленьком живописном городке на берегу озера неподалеку от Грюнберга (Зелёна-Гура);
городок был занят Красной Армией в январе 1945 года;
в сентябре сорок пятого Гретхен родила дочку, которую назвала Маргарета;
ребенок был плодом насилия, учиненного над Гретхен армией-победительницей;
два года спустя Гретхен родила вторую дочку;
Гретхен со старшей девочкой уехали в Германию;
младшую с собой не взяли;
младшей дочери Гретхен было тогда четыре месяца, и у нее было двустороннее воспаление легких;
ее воспитали бездетные супруги – переселенцы из-за Буга.
Это все, что мы знаем, остальное – домыслы.
2.
Как выглядела Гретхен?
Судя по теперешней фотографии, она была красивая, правда, худенькая, небольшого роста. Ограда, у которой она стоит, судя по ирисам в палисаднике, невысокая, но ей по грудь.
На фотографии – пожилая дама с приятной улыбкой и светлыми волосами; стало быть, Гретхен была блондинкой.
Разве что волосы у пожилой дамы крашеные, но нет, вряд ли, глаза у нее тоже светлые.
Какие были глаза у Гретхен?
Голубые? Серые? Младшая дочка не помнит цвета глаз пожилой дамы, потому что, едва увидев ее, отвела взгляд. Та растерянно ей улыбалась, тогда младшая дочка все-таки посмотрела и уловила в глазах пани Гретхен что-то знакомое, что ей уже доводилось видеть. Соображать, что именно, не хотелось. Она мечтала лишь об одном – пусть первое за тридцать лет свидание с матерью поскорее закончится.
Вернувшись домой, гадала: что такого она заметила в глазах пожилой дамы?
К предположению мужа, что она увидела в них саму себя, собственные серо-зеленые глаза, отнеслась недоверчиво, ей это совсем не понравилось.
3.
Как звали младшую дочь Гретхен?
Отец (тот, что из-за Буга) принес домой сверток, в котором был младенец с воспалением легких, но без свидетельства о рождении.
Забугские родители назвали девочку Тересой.
Она носит это имя по сей день, но как ее зовут по-настоящему?
(ПО-НАСТОЯЩЕМУ? Почему имя, которое дала Гретхен, настоящее, а забугское – ненастоящее?)
Ну, хорошо. Хельга? Хильда? Доротея? Вальтер, ее муж, предлагает: Лотта. Гёте в Германии изучали в школе, но успела ли Гретхен до войны прочитать “Страдания юного Вертера”? После войны точно не могла, после войны были победоносные армии, вылавливание трупов и Маргарета. Мужчин в городке не осталось – погибли или оказались в советском плену. Остались женщины, и первым их занятием, когда фронт ушел, стало вылавливание мертвецов из окрестных рек и озер. Там, где жил Вальтер, будущий зять Гретхен, будущий муж Тересы, трупы плыли по реке Преголя[1]. В окрестностях живописного городка они скопились в озере. Нет, “Страдания” отпадают, так что не Лотта.
А было ли вообще у младшей дочки Гретхен какое-нибудь имя?
Стоило ли давать имя на четыре месяца?
4.
Почему Гретхен оставила дочку в Польше?
Вальтер говорит, что наверняка не по злой воле, а, наоборот, из-за любви и страха.
Вальтер, сын Ульриха и Хильдегарды, брат Зигфрида и Хорста, родился в Вармии[2]. Когда после войны их стали выселять, мать сказала: “Погодите, я посмотрю, как это выглядит” – и пошла на вокзал.
В одном из вагонов переполненного советского поезда она увидела женщину в меховой шубе. Под шубой женщина была совершенно голая; к груди прижимала мертвого ребенка. Протянув ребенка матери Вальтера, она сказала: “Похороните где-нибудь, хоть у насыпи”. Мать Вальтера попятилась и опрометью кинулась к своим детям. Кажется, какие-то люди взяли трупик и похоронили на кладбище, как полагается, хотя женщина повторяла: “Где-нибудь, хоть у насыпи”. Мать Вальтера примчалась домой, крикнула: “Мы отсюда не уедем!” Не снимая платка, достала из подпола остатки самогона и побежала к пану Липскому, который, правда, был довоенным солтысом[3], но умел договариваться с новыми властями.
История Гретхен – заключает Вальтер – могла быть похожей. Переполненные вагоны, голод, мороз – и решение оставить больного ребенка у добрых людей. Решение, продиктованное любовью и отчаянием.
5.
Ей бы очень хотелось именно так думать о пани Гретхен. Что та не могла взять ее с собой. Что был голод, мороз…
6.
Восемнадцать лет она жила в безмятежной уверенности, что ее родители – переселенцы из-за Буга.
Однажды местный поэт, который работал на молокозаводе и читал ей свои стихи, сказал: “А знаешь, ты вовсе не их дочка”.
В те годы в Польше много было беззаботных местных поэтов, любивших не очень красивых девушек и стихи Стахуры[4], и она решила, что это выдумка поэта, зачем-то понадобившаяся ему для своих сочинений. Но на всякий случай спросила у матери: “Правда, что…” – а мать заплакала и сказала: “Гретхен… Ее звали Гретхен…”
Она не задала больше ни одного вопроса – ни тогда, ни позже. Возможно, пощадила мать, а может, по другим, не вполне ясным причинам. В ее жизни, впрочем, ничего не изменилось, разве что появилось ощущение какой-то недоговоренности. Все стало сомнительным, все могло быть чем-то иным, что-то иное означать и происходить совсем иначе.
Она бросила местного поэта.
Уехала из городка.
Закончила институт, вышла замуж и родила сына, которого назвала Игорем.
7.
Забугские родители не знали Гретхен – понятно было, что не от нее забугский отец принес домой сверток. Откуда принес, Тереса не знает, не спрашивала. Кто-то ему дал? Сам нашел? Может быть, сверток лежал у кого-то под дверью? Отец был почтальоном, ездил по деревням, ему могли сказать, что есть брошенный ребенок.
Может быть, это сказал пан Яцковский?
Пан Яцковский появился в жизни Тересы одновременно с пани Гретхен, когда ей было уже тридцать лет. Однажды забугская мать вызвала ее, сказав, что кто-то из Германии хочет с ними увидеться.
“Это Гретхен”, – сказала мать.
На следующий день в их городок на немецком автомобиле приехали две немецкие дамы, мать и дочь, обе элегантные, худощавые, с подкрашенными глазами, и старшая быстрым энергичным шагом подошла к забугской матери, медлительной, тучной и ненакрашенной. Что-то сказала. Grüss Gott, zweite Mutter. Они догадались, что́ это значит. “Здравствуй, вторая мать”. Дальше уже ничего не понимали. Все четверо стояли и смотрели друг на дружку, вернее, не четверо, а трое, потому что она старалась на немецких дам не глядеть. Вдруг пани Гретхен посмотрела на нее и улыбнулась. И тут-то она уловила в серо-зеленых глазах пани Гретхен что-то знакомое, что ей в жизни уже доводилось видеть.
На следующий день она поехала к людям, у которых остановились немецкие дамы; было это в деревне, неподалеку от городка.
Посреди залы стоял большой круглый стол, за столом сидели гости и пели немецкие песни.
Ее посадили между пани Гретхен и худой женщиной с морщинистым лицом, черными глазами и длинными темными волосами, заплетенными в косу. Ей сказали, что женщина с косой – акушерка, и она догадалась, что много лет назад та помогала пани Гретхен рожать дочек.
Людям за столом было весело, и они пели все громче.
Пани Гретхен ей что-то сказала, но она не поняла что́, поскольку было шумно, да и говорила пани Гретхен по-немецки.
– Что она говорит? – спросила у акушерки.
– Она говорит, что война – это ужасно, – вполголоса объяснила акушерка.
Пани Гретхен опять что-то сказала, чуть громче, и еще раз, и оказалось, что пани Гретхен повторяет одни и те же три или четыре слова: Krieg ist schrecklich, Krieg ist schrecklich, Krieg ist…
– Война – это ужасно, война – это ужасно, война… – переводила акушерка, хотя Тереса кивнула, что уже понимает.
Вот и все, что сказала пани Гретхен.
Тереса осталась у этих людей ночевать. Ее уложили под перину. Впервые в жизни она лежала под периной, ей было жарко, она открыла окно и увидела лес.
Выскочила из окна и побежала в лес.
В лесу она подумала: “Господи, что я вытворяю, мне тридцать лет, у меня пятилетний сын”, – повернула обратно, влезла через окно в комнату и до подбородка укрылась периной.
8.
Назавтра акушерка сказала, что умер пан Яцковский и что Тересе причитаются какие-то деньги.
Она впервые услышала фамилию Яцковский. Не спросила, кто он был и почему ей что-то от него причитается.
Акушерка пояснила, что это сбережения, которые пан Яцковский копил всю жизнь, их нашли у него под матрасом, и пусть она их себе возьмет.
– Это большие деньги, – переводила акушерка. – Гретхен говорит, что они принадлежат тебе.
– Не хочу никаких денег, – сказала она акушерке. – Пана Яцковского я не знаю. Попрощайтесь за меня с пани Гретхен.
9.
Про пана Яцковского известно немного. Он жил в деревне, бобылем, повесился, после его смерти под матрасом нашли большие деньги. Видимо, в связи с этой смертью пани Гретхен и пожаловала в Польшу.
Тереса не спросила у нее, как звали пана Яцковского. Не знает, чем он занимался при жизни и почему повесился. Не знает, почему пани Гретхен приехала на похороны. Не знает, где он похоронен. Не пробует докопаться, почему ей причитаются его деньги.
10.
Со смерти пана Яцковского прошло двенадцать лет. Пани Гретхен в их жизни больше не появлялась.
Вальтер, Тересин муж, говорит, что это она не со зла, а, наоборот, из деликатности. Чтобы не волновать, не бередить раны, не доводить до слез.
– А никто и не плакал, – поправляет его Тереса.
– Как никто? Мама не плакала?
– Нет. Спокойно поздоровалась, даже улыбалась…
– А ты? Неужели не заплакала? Нехорошо, – укоряет ее муж. – Неправильно. Надо знать, как себя вести в зависимости от ситуации. Появляется пропавшая мать, говорит Grüss Gott, значит, при встрече дочка должна всплакнуть.
– Я плачу, когда моя забугская мама поет виленские песни. “Пошла я на кладбище, к родимой на могилу, над нею залилася горючими слезами…”[5] – вот тут да, тут я заливаюсь слезами, но чтоб от Grüss Gott плакать?
11.
Вальтер говорит, что его жена впала в уныние: сидит и сокрушается. Потому что немка. Потому что не немка. Потому что…
– Одно очевидно, – говорит Вальтер. – Когда все уже из этой Польши уедут: поляки, немцы, евреи, литовцы… Когда останется пустыня, по которой ветер будет носить солому, обрывки газет и остатки духа коллективизма… Когда только два голоса прозвучат в пустоте – Ярузельского и Валенсы… “Есть тут кто?” – будут они кричать, потому что им захочется знать, остался ли кто-нибудь, кем можно управлять, и тогда отзовется тихонечко один-единственный голосок: “Я, я еще тут… Не закрывайте пока…” И это будет голос моей супруги, – заканчивает Вальтер.
12.
Семья Вальтера жила в Восточной Пруссии. Прадеды – в Крулевеце[6], деды и бабки, родители, тетки с детьми – в окрестностях Ольштына, в имении, на берегу Kośna Fluss – реки Косьна. Было еще Kośno Zee – озеро, но они жили над Fluss.
Первыми с берегов Косьны уехали три отцовские сестры, которых адмирал Дёниц[7] успел эвакуировать в Данию. Четвертая, младшая из сестер, Фрида с двухлетним сыном попала в Крулевец.
После теток уехал отец. Утопил в проруби винтовку, на последнем поезде добрался до Крулевеца и пошел искать Фриду. Новые жильцы ее квартиры сказали, что Фрида с сыном умерли от голода во время осады. Отец спросил, где их могила, и тут выяснилось, что могилы у Фриды нет, потому что другие голодные разрезали трупы на куски, сварили суп и съели. Это были не русские, – успел рассказать кому-то из родственников отец до того, как солдаты армии-победительницы привязали его к двум лошадям, которых погнали в разные стороны. – И не поляки… Тетю Фриду и ее сына сварили и съели местные немцы…
Потом началась депортация в Германию.
Потом – через тридцать лет после войны – в Германию уехал пан Липский, тот самый, благодаря которому мать Вальтера вычеркнули из списка депортируемых, потому что он, хоть и был довоенным солтысом, знал, как найти общий язык с новыми властями.
После пана Липского уехал сын пани Гловинской, их соседки, которая советовала маме Вальтера: “Ты, Хильдя, на польском молись, Матерь Божья по-немецки не понимает…”
После пана Гловинского уехал ксендз, который окрестил бабушку Вальтера, поскольку той во сне явился Бог. Высунулся из-за облака и с ней заговорил. “Mensch, – сказал, ибо, в отличие от Матери Божьей, немецкий язык знал: – человече. Будь, человече, католиком…” Бабушка рассказала про этот сон ксендзу Каминскому и умерла, скорее всего, от потрясения, а ксендз посмертно ее соборовал.
После ксендза Каминского уехала вторая бабушка, потому что отыскались отцовские сестры, эвакуированные адмиралом Дёницем. Семидесятилетняя бабушка поехала к своему семидесятишестилетнему мужу, которого не видела тридцать лет. Взяла с собой большущий чемодан с землей со своего огорода; в чистеньком немецком садике выполола розы, высыпала свою землю, посадила картофель и морковь и вздохнула с облегчением: “Наконец-то, бедненький, поешь нормального овощного супу…” Когда муж умер, бабушка насыпала над его могилой холмик, но оказалось, что на немецком кладбище все могилы должны быть плоскими. Администрация кладбища могилу разровняла, но бабушка пришла вечером с тачкой, с собственной землей – той самой, из огорода, – и снова насыпала холмик. Ночью могилу выровняли, а утром бабушка пришла со своей землей… Через пару недель администрация капитулировала, и с тех пор на современном немецком кладбище есть одна-единственная настоящая – потому что с холмиком – варминская могила.
После второй бабушки старший брат Вальтера Зигфрид сказал матери: “Ну, мама…” – и уехал.
После старшего брата уехала мать Вальтера. Соседка, пани Гловинская, та, что ей советовала: “Ты, Хильдя, на польском молись…”, и сотрудники школы, в которой мать, хотя уже вышла на пенсию, продолжала занимать служебную квартиру, говорили ей: “Небось в Германии этой вас не такая квартирка ждет… Ну так что, пани Хильдегарда?”
После матери никто больше не уехал. Хорста, младшего брата, хватил инсульт, а Вальтер должен был обеспечить связью ушедшего в подполье деятеля “Солидарности”, потому что как раз ввели военное положение.
Когда Хорсту стало хуже, Вальтер сказал деятелю: “Извините, но я вынужден на несколько дней выйти из игры…” – и поехал к брату, который лежал без сознания, подключенный к аппаратам. Врачам Вальтер сказал, что считает жизнь без мозга недостойной человека. Похоронив Хорста над рекой Косьна, он вернулся к своему подопечному, который, лишившись связного, его ждал.
Когда деятель вышел из подполья, Вальтер встал в очередь за кухней “Талия”. Он стоял перед мебельным магазином восемь недель, днем и ночью, в стужу и ненастье, а когда кто-нибудь из очереди, сломавшись, вознамеривался уйти, восклицал с возмущением: “Дезертировать? Лишить себя воспоминаний? Эти фанерные ящики, конечно, мигом рассыплются, но гордость за то, что мы выстояли, сохранится в веках!”
Словом, в жизни не блага важны и не быт. В жизни, как учил философ Генрик Эльценберг[8], к трудам которого Вальтер сразу же вернулся, обретя кухонный гарнитур “Талия”, самое важное – дух.
Эта из Гамбурга
1.
Жили они далеко отсюда. Обожали светские развлечения – танцевали весь карнавал[9], с первого дня до последнего. Любили лошадей и играли на скачках – разумеется, зная меру. Были хозяйственны и энергичны. Он занимался малярным ремеслом, со временем открыл собственную мастерскую, взял трех учеников. Простейшие работы, вроде покраски стен, поручал подмастерьям, а вывески писал сам, особенно когда в них было много букв. Буквы он обожал; его восхищала их форма. Часами мог рисовать затейливые контуры. Порой супруги горевали, что у них нет детей, но быстро утешались: у него была она, а у нее – он.
2.
Тридцатилетний рубеж они перешагнули перед самым началом войны.
С войной их образ жизни не изменился, разве что танцевать перестали, а в мастерской появились новые слова. Теперь им заказывали запретительные объявления. Вначале на польском: UWAGA, ZAKAZ WJAZDU! Потом на русском: ВНИМАНИЕ, ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН! Потом на немецком: ACHTUNG, EINTRITT VERBOTEN!
Однажды, зимним вечером сорок третьего года, он вернулся домой с незнакомой женщиной.
– Она – еврейка, мы должны ей помочь.
Жена спросила, не видел ли их кто-нибудь в подъезде, и быстро приготовила несколько бутербродов.
Еврейка была миниатюрная, с черными курчавыми волосами, очень типичная, несмотря на голубые глаза. Ее поместили в комнате со шкафом. (Шкафы и евреи… Возможно, один из важнейших символов нашего столетия. Жизнь в шкафу… Человек в шкафу… В середине двадцатого века. В центре Европы.)
Еврейка пряталась в шкаф при каждом звонке в дверь, а поскольку хозяева по-прежнему были очень общительны, сидела там часами. К счастью, ума ей хватало. Ни разу не кашлянула, из шкафа не доносилось ни малейшего шороха.
Первой еврейка никогда не заговаривала, а на вопросы отвечала очень коротко.
“Да, был”.
“Адвокат”.
“В Белжеце”[10].
“Не успели, мы поженились перед самой войной”.
“Их забрали. Не знаю, в Яновском[11] или тоже в Белжеце”.
Она не ждала сочувствия. Наоборот, любые его проявления отвергала. “Я живу, – говорила она. – И намерена выжить”.
Она наблюдала за хозяйкой (которую звали Барбара), когда та стирала или стряпала. Пару раз пыталась ей помочь, но делала это раздражающе неумело.
Наблюдала за хозяином (его звали Ян), когда он, набивая руку, выписывал свои любимые буквы.
– Могли бы потренироваться на чем-нибудь поинтереснее, – как-то заметила она.
– Например?
Она задумалась.
– Хотя бы на этом: “Жил однажды элон ланлер лирон элон ланла бибон бонбон…”
Они впервые услышали, что еврейка смеется, и оба подняли головы.
– С чего это? – спросили с удивлением, а развеселившаяся еврейка продолжала:
– “Жил однажды лирон элон ланлер жил однажды Ланланлер…” Видите, сколько прекрасных букв? – И добавила: – Тувим. “Старофранцузская баллада”.
– Слишком много “л”, – сказал Ян. – Но я могу написать СТАРОФРАНЦУЗСКАЯ, – и склонился над листом бумаги.
– А не могла бы эта еврейка научиться чистить картошку? – спросила у него вечером жена.
– У этой еврейки есть имя, – ответил он. – Зови ее Регина.
Как-то летним днем жена вернулась домой с покупками. В прихожей висел пиджак – муж пришел с работы немного раньше обычного. Дверь в еврейкину комнату была заперта.
Как-то осенним днем муж сказал:
– Регина беременна.
Жена отложила спицы и расправила вязанье. Это был то ли рукав свитера, то ли спинка.
– Послушай, – шепнул муж. – Чтоб тебе, часом, не взбрела в голову какая-нибудь дурь… Ты меня слушаешь?
Она его слушала.
– Учти, если что-нибудь случится… – Он наклонился к жене и прошептал ей прямо в ухо: – Если с ней случится что-нибудь плохое, с тобой случится то же самое. Ты меня поняла?
Она кивнула – она его поняла – и взяла в руки спицы.
Через пару недель она вошла к еврейке в комнату и, ни слова не говоря, забрала с кровати думку. Распорола с одного краю и отсыпала немного перьев. С обеих сторон пришила тесемки. Засунула подушечку под юбку. Тесемки завязала сзади, для верности сколола английскими булавками, а поверх натянула еще одну юбку.
Через месяц подсыпала в думку перьев, а соседкам стала жаловаться, что ее тошнит.
Когда пришло время, разрезала пополам большую подушку…
У еврейки рос живот, а она добавляла подушки и расширяла юбки – той и себе.
Роды приняла надежная акушерка. К счастью, продолжалось это недолго, хотя еврейка была узкой в бедрах, да и во́ды отошли накануне.
Барбара вынула подушку из-под юбки и с младенцем на руках обошла всех соседок. Они растроганно ее целовали. Наконец-то… – говорили. – Поздно, но все же Господь смилостивился… – а она, радостная и гордая, их благодарила.
Двадцать девятого мая сорок четвертого года Барбара и Ян пошли с ребенком и несколькими друзьями в приходскую церковь (“Львовское архиепископство, лат. вероисп., приход Св. Марии Магдалины” – написано в свидетельстве о рождении, на котором ксендз Шогун поставил подпись и овальную печать: Officium Parochia, Leopolis… Посередине печати было сердце, из которого вырывался благодатный огонь). Вечером устроили скромный прием. Из-за комендантского часа сидели до утра.
Еврейка провела в шкафу всю ночь.
Двадцать седьмого июля в город вошли русские.
Двадцать восьмого июля еврейка исчезла.
Они остались втроем: Барбара, Ян и трехмесячная малютка с голубыми глазами и тоненькими черными кудряшками.
3.
Одним из первых эшелонов они приехали в Польшу.
Вошли в квартиру. Ян поставил чемодан, положил ребенка и выбежал из дома.
Назавтра ушел ни свет ни заря…
Кружил по улицам, заглядывал в учреждения, расспрашивал про еврейские квартиры, останавливал людей с еврейской наружностью… Прекратил поиски только после визита двух мужчин – посланцев Регины. Они предложили крупную сумму и попросили вернуть ребенка.
– Наша дочка не продается, – сказали Барбара и Ян и выставили гостей.
Дочка у них была послушная и очень красивая.
Отец ее баловал. Они вместе ходили на стадион, в кино и кондитерские. Дома он рассказывал, как все восхищаются ее красотой, особенно волосами – длинными, до пояса, чудесными локонами.
Когда Хелюсе было шесть лет, начали приходить посылки. Из Гамбурга; отправитель – женщина с незнакомой странной фамилией.
– Это твоя крестная, будь она неладна, – объяснила Барбара, – но ты ей напиши и поблагодари.
Вначале Хелюся диктовала ответы, потом писала сама: “Спасибо, дорогая тетя, я учусь хорошо, мечтаю о белом джемпере, можно из ангорки, но лучше мохеровый”.
В очередной посылке был белый джемпер, Хелюся ликовала, а Барбара говорила со вздохом:
– Будь она неладна… если Бог есть, он меня услышит. Садись и пиши письмо. Можешь упомянуть, что к первому причастию пригодилась бы белая тафта.
Иногда в посылках были купюры. Писем никогда никаких; только один раз между плитками шоколада лежала фотография темноволосой женщины в черном платье с переброшенной через плечо лисой.
– Чернобурка, – заметила Барбара. – Она не бедная… – Но хорошенько разглядеть они с дочкой ничего не успели, потому что отец отобрал у них фотографию и спрятал.
Хелюсе отцовские восторги не нравились. Это было мучительно. Она делала уроки или играла с подружками, а он сидел и смотрел на нее. Потом брал ее лицо в ладони и опять смотрел. Потом начинал плакать.
Перестал вычерчивать затейливые буквы.
Начал пить.
Все чаще плакал, все больше пил, пока не умер. Но до того – за пару месяцев до его смерти – Хелюся собралась во Францию. Ей было двадцать пять лет. Ее пригласила подруга – чтобы Хелюся привела в порядок разболтавшиеся из-за недавнего развода нервы. Она пришла домой сияющая, с заграничным паспортом. Отец был пьян. Рассмотрел паспорт и обнял ее.
– Остановись в Германии, – сказал. – Навести мать.
– Крестную мать, – поправила его Барбара.
– Мать, – повторил отец.
– Моя мать сидит рядом со мной и курит сигарету.
– Твоя мать живет в Гамбурге, – сказал отец и разрыдался.
4.
Пересадка была в Аахене.
В Гамбург она приехала в семь утра. Оставила чемодан на вокзале и купила карту города. Подождала в скверике; в девять она уже стояла перед большим домом в тихом фешенебельном районе. Позвонила в дверь.
– Wer ist das? – спросили из-за двери.
– Хелюся.
– Was?
– Хелюся. Открой.
Дверь открылась. На пороге стояла она сама, Хелюся: высоко заколотые черные волосы, голубые глаза, подбородок чуть полноват. Хелюся, только почему-то постаревшая.
– Зачем ты приехала? – спросила.
– Чтобы тебя увидеть.
– Зачем?
– Хотела посмотреть на свою мать.
– Кто тебе сказал?
– Отец.
Прислуга принесла чай. Они сидели в столовой с белой, украшенной мелким цветочным рисунком мебелью.
– Это правда, я тебя родила, – сказала мать.
Пришлось. Я была вынуждена на все соглашаться.
Я хотела жить.
Не хочу помнить твоего отца.
Не хочу помнить то время.
И тебя тоже не хочу помнить.
(Она не обращала внимания на то, что Хелюся все громче плачет, и без конца повторяла одно и то же.)
– Я боялась.
Я должна была выжить.
Ты напоминаешь мне о страхе.
Я не хочу помнить.
Никогда больше сюда не приходи.
5.
Хелюся второй раз вышла замуж, за австрийца. Спокойного, скучноватого владельца маленькой гостиницы в горах под Инсбруком.
В годовщину смерти отца Хелюся приехала в Польшу. Они с матерью пошли на кладбище (матерью она называла Барбару, а про женщину, которая ее родила, говорила: Эта из Гамбурга). За чаем Барбара сказала:
– Когда я умру, ты все найдешь на кухне, в ящике, где крышки.
Хелюся сердито отмахнулась, а потом призналась, что беременна и немного боится рожать.
– Нечего тут бояться! – воскликнула Барбара. – Я была старше, чем ты, и еще худее, и во́ды у меня отошли слишком рано, а родила тебя очень легко.
Хелюся испугалась, но Барбара вела себя совершенно нормально.
– Сообщить Этой из Гамбурга, когда родится ребенок?
– Как хочешь… Эта женщина сделала мне много плохого, но ты поступай как хочешь.
“О Боже, – задумалась Барбара. – Какие мы без нее были счастливые. Какие веселые. Если бы не она, были бы счастливы до конца жизни…”
“Если бы не она, меня бы не было”, – подумала Хелюся, но не смогла этого сказать матери, которая родила ее очень легко, хотя была старше и худее.
6.
В ящике, который Хелюся открыла после похорон Барбары, под крышками от кастрюль лежали два больших конверта. В одном была пачка купюр по сто марок. В другом – тетрадка, разделенная на две графы: “Дата” и “Сумма”. Барбара откладывала и записывала каждую полученную из Гамбурга купюру.
Хелюся купила на эти деньги две длинные чернобурки. Сшила к ним черное платье, но оказалось, что мех плохо выделан, лезет и вообще к черному не подходит.
7.
Через несколько месяцев после свадьбы она рассказала мужу о своих двух матерях. Немецкого Хелюся еще не знала. Как будет шкаф, знала: Schrank. Подушка – Kissen; это она тоже знала. Прятать – нашла в словаре: verstecken. Страх – тоже в словаре: Angst.
Когда рассказывала во второй раз – двадцатилетнему сыну, – она знала уже все слова. И тем не менее не смогла ответить на простые вопросы: “почему бабушка Барбара не бросила дедушку? почему бабушка Регина убежала без тебя? бабушка Регина тебя совсем не любит?”
– Не знаю, – повторяла Хелюся, – откуда мне все это знать?
– Возьми словарь, – посоветовал сын.
8.
Через двадцать лет после первого разговора Эта из Гамбурга пригласила к себе Хелюсю на пару дней. Показала ей старые фотографии. Играла на рояле мазурки Шопена.
– Из-за войны я не закончила консерваторию, – сказала со вздохом.
Читала наизусть Тувима. Рассказывала о мужчинах. После войны у нее было два мужа, которые обожали ее. Детей у нее не было, но оба мужа ее обожали.
– А как твой муж? – спросила.
Хелюся призналась, что ее второй брак на грани распада.
– Это потому, что он купил несколько гостиниц… Не ночует дома… Сказал, чтобы я устраивала себе новую жизнь…
Она говорила не как с Этой из Гамбурга, а как с матерью, но Эта из Гамбурга испугалась:
– На меня не рассчитывай. Каждый должен выживать сам. Нужно уметь выживать. Я сумела, и ты должна…
– Ты выжила благодаря моим родителям, – напомнила Хелюся.
– Благодаря твоей матери, – поправила ее Эта из Гамбурга. – Правда, только благодаря ей. Достаточно было открыть дверь и пройти несколько шагов. Полицейский участок был напротив, на той же улице. Поразительно, что она не открыла дверь. Я удивлялась, почему она этого не делает. Она тебе что-нибудь про меня говорила?
– Говорила, что если б не ты…
– Я была вынуждена. Я хотела жить.
Ее бросило в дрожь. Она повторяла – все громче, все быстрее – одно и то же:
– Я боялась. Я была вынуждена. Я хотела. Не приходи сюда…
9.
– Чего вы, собственно, хотите? – спросил адвокат, к которому она пошла, вернувшись из Гамбурга. – Вам что нужно: ее любовь или ее деньги? Если любовь, то моя канцелярия этим не занимается. А если речь идет об имуществе, дело ничуть не проще. Прежде всего нужно доказать, что она ваша мать. У вас есть свидетели? Нет? Вот видите. Надо было записать заявление Барбары С. Надо было заверить его у нотариуса. На данный момент остается только исследование крови… Вы твердо решили подавать в суд? А зачем тогда пришли в адвокатскую контору?
10.
– Так ты чья вообще-то? И кто ты? – спросил у нее сын.
– Я твоя мать, – ответила она, хотя ради эффектного финала лучше бы сказала: “Я та, которая выжила”.
Но так отвечают только в современных американских романах.
Фантомная боль
1.
Прабабушкой Акселя фон дем Бусше была графиня Козель. Кто прадедушка, не совсем ясно. По одной версии – Август II Сильный, польский король и курфюрст Саксонии. По другой – польский еврей, раввин, который из-за конфликта с другими раввинами покинул родные края и поселился в Германии.
В роду Акселя фон дем Б. обе версии – и с королем, и с раввином – существуют две с половиной сотни лет.
2.
У нее были пышные черные как смоль волосы, необычайно выразительные глаза, мраморно-белая кожа и маленький ротик. Так изображали Анну Козель мемуаристы, живописцы и Юзеф Игнаций Крашевский[12].
Август пообещал ей, что она будет королевой. Обещания он не сдержал – через несколько лет бросил ее и приказал сослать в замок Штольпен. Узилищем стала башня замка, где Анна пребывала до самой смерти (с какого-то момента добровольно).
Излюбленным чтением графини в заточении были древнееврейские книги. Так написал Крашевский. Она окружала себя евреями. Религиозные трактаты переводил ей ориенталист, пастор. Она щедро ему платила. Поначалу передавала деньги через надежного посланца, потом они стали встречаться и вели долгие беседы о Талмуде и иудейской религии. Конец беседам положила жена пастора, приревновавшая мужа к графине, которая и в свои шестьдесят лет сохранила былую красоту.
3.
Кто был еврейским любовником Анны Козель?
(Таковой несомненно существовал: как иначе объяснить своеобразное увлечение графини евреями и их религией? И мужчина был весьма незаурядный, это ясно…)
Стало быть: раввин – Польша – конфликт с другими раввинами – отъезд в Германию…
Йонатан Эйбешиц?[13] Этот мудрец?
Родился он в Кракове. Был приглашен в Гамбург – покорить ангела смерти. Женщинам, умирающим при родах, раздавал записки со странной молитвой, с загадочными знаками. Его обвинили в том, что он верит в лжемессию. Он обратился к раввинам в Польше, и Синод четырех земель[14] снял это обвинение. Несмотря на оправдательный вердикт, многие польские раввины – в том числе главный раввин Дубно – предали анафеме Йонатана Э. и его учение.
Соломон Дубно?[15]
Он родился в Дубно, отсюда фамилия; умер в Амстердаме.
Был воспитателем сына Мозеса Мендельсона, философа и теолога (которого считают – наряду с Лессингом – крупнейшей фигурой немецкого Просвещения), и уговорил Мендельсона наново перевести Пятикнижие[16] на немецкий язык. Сам Соломон Дубно написал комментарии к Книге Бытия. Когда он занимался составлением комментариев к Книге Исход, через Берлин проезжал главный раввин города Дубно Нафтали Герц, который раскритиковал берлинских друзей своего земляка и велел тому немедленно изменить окружение. Соломон Д., не закончив работу, покинул Германию и отправился в Амстердам.
Яаков Кранц?[17]
Родился он на Виленщине. Был магидом – странствующим проповедником. С раввинами, правда, не ссорился, но все равно уехал в Германию учиться и дискутировать с тамошними “просветителями”. Германию Кранц бросил ради Дубно, где ему платили шесть злотых в неделю, а потом добавили два и еще починили печь.
(Магида из Дубно спросили: “Почему богач охотнее подает милостыню слепым и хромым беднякам, чем бедным мудрецам?” Тот ответил: “Потому что богач не уверен, не охромеет или не ослепнет ли сам, зато знает, что никогда не станет мудрецом”.)
На портретах у всех троих седые бороды, грустные глаза и рассеянный взгляд. Возможно, потому, что неохотно оторвали взор от раскрытых книг. Однако графиня могла повстречаться с ними раньше, когда бороды у них были черные, а глаза веселее…
Но ни с магидом из Дубно, ни с Соломоном Дубно она не встретилась. Первый родился незадолго до ее кончины, второй – после. А вот Йонатану Эйбешицу, когда графиню заключили в башню, было двадцать шесть лет…
Значит, Йонатан? Да и кто, как не он, обвиненный в ложной вере и преданный анафеме, осмелился бы завести такой роман? С гойкой! С отвергнутой королевской фавориткой!
Есть и другой вариант. Вопреки семейной легенде, прадед Акселя фон дем Б. был вовсе не раввин.
Его прадедом был купец. Скажем, Гершель Исаак. Жил он в Дубно, торговал мехами. Ездил на Лейпцигскую ярмарку. Его сопровождал слуга Михал Шмуэль. Больше мы о нем ничего не знаем, но д-р Рута Саковская, которая переводила мне еврейские тексты и помогала найти еврейского любовника графини Козель, считает, что Гершеля Исаака женили, когда ему было пятнадцать лет, жена нарожала ему кучу детей, растолстела и ходила в парике. Можно ли удивляться, что он потерял голову из-за прекрасной дамы? Разумеется, он был красив: голубые глаза (при черных курчавых волосах это должно было производить неотразимое впечатление), широкая улыбка, ослепительно белые зубы и соболья шуба. Не исключено, что и графине он преподнес соболя… (Не перепутала ли д-р Саковская Гершеля Исаака с Митей Карамазовым?)
Итак, дубенский купец ездил в Саксонию, в Лейпциг, а еврейские купцы, как мы знаем от Крашевского, были частыми гостями в саксонском замке Штольпен. Они привозили товары, газеты, книги; однажды даже пытались помочь графине бежать из башни. Она спустилась по веревочной лестнице, но, не успев далеко отойти, была схвачена караульными.
Происходило это (попытка бегства с помощью евреев) в 1728 году. Так пишет Юзеф Игнаций Крашевский в “Графине Козель”.
И в том же самом, 1728 году купец Гершель Исаак приехал из Дубно на Лейпцигскую ярмарку. Так записано в истории города, которую можно прочитать в “Книге памяти” (“Сефер Зикарон”), изданной в Тель-Авиве… Разве не могло быть, что именно он, Гершель Исаак, и его неотлучный слуга Михал Шмуэль организовали рискованный побег по веревочной лестнице?
Впрочем, купец или раввин – какая разница? Важно, что прадед Акселя фон дем Б. должен быть родом из Дубно. Ведь Великий Сценарист, который придумывает все эти замысловатые сюжеты, знает, и как они закончатся. В том числе, как закончатся истории города Дубно и Акселя фон дем Б., а стало быть, не смог обойтись без общего пролога для их будущей общей истории.
4.
Дубно находится на Волыни, на высоте сто девяносто один метр над уровнем моря, на реке Иква, притоке Стыри. “Красиво выглядит издалека на мысу, окруженном плавнями Иквы” – написано про Дубно в старом путеводителе. Издавна город был польско-еврейским. И поляки, и евреи обязаны были в равной мере заботиться об исправности мостов и дорог. Евреи мылись в городской бане по четвергам и пятницам, христиане – во вторник и субботу. По большим христианским праздникам еврейские лавки должны быть закрыты, но в праздники менее значительные разрешалось их открывать для бедняков и путников. В 1716 году в Дубно состоялся суд над двумя христианками, девицей и вдовой, принявшими иудейскую веру. Девицу доставили в суд прямо со свадьбы вместе с еврейским женихом, раввином и чиновником, составившим брачный контракт. После шестидесяти ударов плетьми женщины от еврейства не отказались; получив следующие сорок, девица вернулась в лоно христианской Церкви. Обеих приговорили к сожжению, а евреев – к порке у позорного столба и уплате штрафа свечным воском в пользу монастырей, церквей и замка. В 1794 году в Дубно построили синагогу. Владелец города, князь Михал Любомирский, прислал на стройку кирпичи, известь, песок и крепостных крестьян. Когда отмечали торжественную закладку краеугольного камня, он пил с евреями водку и ел медовые пряники, после чего пожелал иудеям успешно молиться Богу, который сотворил небо и землю и в руках которого участь каждого живого существа.
Дубно принадлежал пяти поколениям семьи Любомирских. Михал, тот, что помогал строить синагогу, был генералом, масоном и играл на скрипке. Основал в Дубно масонскую ложу “Совершенная тайна”. Во время ежегодных ярмарок, так называемых “контрактов”, устраивал пышные балы, где ежедневно собиралось до трехсот человек. Юзеф, его сын, был картежник и скупердяй (“из-за своей скупости совсем не благоустраивал Дубно”, как писал мемуарист). Марцелий, его внук, тоже играл в карты, но проигрывал. Бросив дом, уехал с французской актрисой за границу. Он дружил с Циприаном Камилем Норвидом[18], венгерскими повстанцами и французскими социалистами. Брошенная жена предупредила российского царя о покушении – ей было видение. Внебрачный сын стал актером парижского “Одеона”. Последним владельцем Дубно был Юзеф Любомирский. Он был таким же страстным картежником, как отец и дед. Залез в долги. Женился на миллионерше – вдове парфюмерного фабриканта, которая была старше его на десять лет; познакомился он с ней через брачную контору. После женитьбы Юзефа перестал терзать мучительный сон: тридцать лет ему снилось, что он не может выйти из гостиничного номера, так как у него нет денег расплатиться. Умер Юзеф Любомирский в 1911 году, не оставив потомства. Перед смертью он продал Дубно какой-то русской княгине.
В межвоенное двадцатилетие[19] Дубно был поветовым[20] центром Волынского воеводства. Город насчитывал двенадцать тысяч жителей; большинство из них евреи.
5.
Аксель фон дем Б. родился в пасхальное воскресенье 1919 года. Его родной дом стоял на северном склоне одной из гор Гарца. Трехэтажный, с двумя боковыми крыльями, окруженный садом; в ста метрах от парадного входа протекала река Боде. Местные говорили: замок. В семье говорили: дом. Дом они покинули в ноябре 1945-го, собрались за два часа, взять смогли только ручную кладь. Впервые он поехал туда с дочерью и внуками незадолго до объединения Германии. В замке располагалась школа марксизма-ленинизма. Директор чуть не вызвал полицию, потому что через ворота, которых, впрочем, не было, они въехали в сад. Во время второго визита, уже после объединения, полицию не вызывали и им разрешили войти внутрь.
“Вы еще обучаете марксизму-ленинизму?” – спросили они директора.
“Мы перешли на английский язык, – ответил директор. – Знаете что, господин барон? Когда вам уже всё вернут, я охотно арендую у вас помещение и устрою гостиницу. Что скажете?”
Отец Акселя управлял имением и изучал культуру Дальнего Востока. Путешествовал по Японии и Китаю; интересовался историей цивилизации. У них был старый садовник, молоденькие горничные, преданный лакей, застенчивая гувернантка… как положено в замке.
Любимое воспоминание Акселя фон дем Б. – беседы гувернантки со старым лакеем. Каждое утро, ровно в восемь, они встречались на лестнице: гувернантка шла наверх к детям, лакей спускался к отцу. Лакей не имел обыкновения первым здороваться с барышнями, так что они молча расходились, после чего он останавливался, поворачивал голову и говорил: “Фройляйн Кунце. Вы мне сказали “доброе утро” или только подумали, что следовало бы сказать?” Диалог этот повторялся изо дня в день, ровно в восемь утра, в течение восьми или десяти лет.
Потом Аксель и его брат уехали в реальную гимназию. Потом их призвали в армию, они служили в Потсдаме. Потом грянула Вторая мировая война.
6.
“Уголок Дубно, четыре синагоги, вечер пятницы, евреи и еврейки у разрушенных камней – все памятно. Потом вечер, селедка, грустный… – писал Исаак Бабель, который побывал в Дубно в 1920 году с армией Буденного. – …Выгон, поля и заходящее солнце. Синагоги – приземистые старинные зеленые и синие домишки…”
Деревьев было много, в особенности над Иквой. На Икву по вечерам ходили гулять. Летом на лодках отправлялись за город. Зимой вырубали куски льда, запасов хватало до осени. Воду брали круглый год и на водовозных телегах развозили по городу. В сумерки зажигали газовые фонари. По базарным дням в воздухе носилась пыль и запах конского навоза.
Самый красивый почерк в еврейском Дубно был у писаря Йосла. Не хуже и у молодого Пинсаховича, но Йосл был популярнее, и писать прошения ходили только к нему.
Доктор Абрам Гринцвайг (“электросветолечение”), прибывший прямо из Вены, принимал на улице Чисовского, номер телефона 30.
У фотографа Р. Цукера было ателье “Декаданс”.
У Лейба Сильскера была лошадь и подвода. Он ездил на железнодорожную станцию и привозил почту.
Ножи точил реб Мейер. Он специализировался на мясницких ножах для ритуального забоя.
Кантором в большой синагоге был Рубен Ципринг. Он чудесно пел, а также играл на кларнете в свадебном оркестре. На скрипке играл Эли Стринер, а на рожке – Мендель Качка, бывший солист луцкого военного оркестра. Мендель Качка был столь благочестив, что за четыре года службы в царской армии не прикоснулся к пище из котла, так как она не была кошерной. Оркестр из Дубно играл по всей округе, на еврейских, польских и украинских свадьбах.
Любительский театр поставил пьесу Гольдфадена[21] о Бар Кохбе, вожде восстания иудеев против римлян. Бар Кохбу играл Вольф, жених портнихи Брандли. Он был красивый, и у него был приятный баритон. Роль отца Дины, его возлюбленной, исполнял Лейзер, у которого возле колодца была мастерская жестяных изделий.
Дубно славился превосходной мацой – тоненькой и на редкость хрусткой. Мацу на продажу начинали печь в декабре, сразу после Хануки[22]. Только весной, после Пурима[23], принимались за мацу для себя.
Крупные купцы торговали хмелем и лесом, хмель продавали в Австрию, сосны, дубы и пихты – в Германию.
Много было бедняков. Каждую пятницу для них собирали деньги, чтобы в шабат[24] им не остаться без рыбы и халы.
“Тихий вечер в синагоге, это всегда неотразимо на меня действует, четыре синагожки рядом… – писал Бабель. – <…> Никаких украшений в здании, все бело и гладко до аскетизма, все бесплотно, бескровно, до чудовищных размеров, для того, чтобы уловить, нужно иметь душу еврея. <…> Неужто именно в наше столетие они погибают?”
7.
Аксель фон дем Б. пересек границу Польши вслед за танками Гудериана, в первый день войны. На второй день погиб Генрих, его друг. Было это в Тухольских борах. Солнце уже зашло, темнело, в полумраке он увидел убегающих солдат из взвода Генриха. Они кричали: “Обер-лейтенант убит!” – и бежали дальше. Поляки, привязавшись ремнями к макушкам деревьев, стреляли сверху. Это было неприятно. Ночь провели в лесу.
Аксель фон дем Б. сидел, прислонившись к дереву, держа на коленях голову молодого Квандта, раненного в той же схватке. Его называли “молодой Квандт” в отличие от отца – старого Квандта, владельца крупных текстильных предприятий. Мать молодого Квандта умерла, когда он был еще ребенком, отец женился на девушке по имени Магда. На каникулы они взяли домашнего учителя; звали его Йозеф Геббельс. Когда каникулы закончились, учитель исчез вместе с Магдой. По этой, а может, по каким-либо другим причинам молодой Квандт недолюбливал нацистов.
Лежа головой на коленях Акселя фон дем Б., он говорил, что умирает и что все нацисты – преступники…
– Твои дела не так уж плохи, – пытался его утешить Аксель фон дем Б., но Квандт знал, что дела плохи, и повторял, что все эти нацистские преступники должны кончить так же, как он:
– И как можно быстрее. Чем позже, тем страшнее будет их конец.
Под утро Квандт умер, а Аксель фон дем Б. раздобыл второй револьвер. Ему было двадцать лет, он побывал в своем первом бою и потерял двух друзей. Когда двинулись дальше, в руках у него было по револьверу, и он чувствовал себя увереннее. Его увидел командир полка.
– В нашей семье, – сказал он, – не принято доказывать свою храбрость. МЫ храбрые. – И забрал револьвер, который Аксель держал в левой руке.
Слова “в нашей семье” означали, что Аксель фон дем Б. и командир полка фон унд цу Гильса принадлежат к одной семье – к великой немецкой аристократии.
С этим командиром Аксель фон дем Б. провоевал польскую кампанию и часть русской. Зиму 1940 года они провели во Влоцлавеке. Им сообщили, что гражданская администрация выделила район, куда переселят евреев со всего города; взять с собой разрешено только ручную кладь.
– Безобразие! – возмутился командир. – Какой кретин это придумал! Завтра же поеду в Краков к Франку[25] и все ему расскажу. (Франка он знал со времен Берлинской олимпиады тридцать шестого года, где был комендантом олимпийской деревни.)
Приготовили автомобиль, но за минуту до отъезда адъютант сказал:
– А если никакой не кретин? Если это… немецкая политика?
– Вы так думаете? – заколебался фон унд цу Гильса и приказал отогнать автомобиль в гараж. (Впоследствии его назначили комендантом Дрездена; наутро после бомбардировки города союзниками он был найден мертвым; дочь уверяла, что это не самоубийство.)
В июне 1941 года, двадцать второго числа, на рассвете, в три часа пятнадцать минут, Аксель фон дем Б. пересек границу России.
Он знал, что в России правят большевики. Знал, что там есть лагеря и что Сталин – убийца. Словом, знал, что они борются с коммунизмом и что все в порядке.
(С Польшей тоже все было в порядке. Он считал, что у поляков сдали нервы; они первыми начали; надлежало ответить; все было в порядке.)
Русские встречали их хлебом и цветами. Вскоре пришло разочарование: чужой сукин сын оказался еще хуже своего, родимого.
Именно так сказал Аксель фон дем Б., выступая с докладом в Вашингтоне, в Ротари-клубе[26], вскоре после войны. Кто-то из присутствующих встал и вышел из зала. Аксель фон дем Б. решил, что тот не согласен с его взглядами, но оказалось, это знак протеста против выражения “сукин сын”. В вашингтонском элитарном обществе такие слова не принято было употреблять.
Аксель фон дем Б. шел через Смоленск, дошел до Десны; был шесть раз ранен, всякий раз из госпиталя возвращался на фронт. Осенью 1942 года он находился на Украине. Западнее Днепра, на реке, названия которой не запомнил и которая впадала в другую реку, чье название он тоже забыл.
Город назывался Дубно.
8.
В еврейском Дубно у людей были прозвища. Их употребляли чаще и помнили лучше, чем настоящие фамилии. Говорили: Ида Птичница, Беньямин Усач, Беньямин Столяр, Хеня Гусятница, Залман Рыжий, Залман Черный, Ханьча Полоумная, Хаим Скоробогат, Красный Мотл, Мехл Дылда, Янкель Кугель, Нисл Фельдшер, Шолом Не Дай Бог, Мотл Водовозчик, Черная Бася, Аба Учитель, Ицек Умник, Ицеле Стопка, Эстер Кельнерша, Ашер Цимбалист, Исер Сапожник…
Исер, скорее всего, шил сапоги, Ицеле закладывал за воротник, ну а Шолом? С каким событием связано его “Не Дай Бог”?
А Ханьча Полоумная? У нее были безумные идеи? Или она была бесноватая? А может быть, как помешанная плачущая еврейка из Сохачева, она всем отвечала: “Почему я плачу? Если б вы знали то, что знаю я, вы бы позакрывали свои лавки и плакали вместе со мной…”
Нет тех людей, у которых были прозвища.
Не у кого спросить.
9.
Аксель фон дем Б. служил в Дубно штабным офицером. Командиром полка был Эрнст Уч.
У Акселя фон дем Б. была лошадь. На ней он ездил по окрестностям. (Окрестности были очень красивые: река Иква, дубово-пихтовый лес…) Иногда отправлялся в сторону старого аэродрома.
Однажды он увидел на аэродроме огромную прямоугольную яму. Подумал: наверно, это чтобы помешать приземляться вражеским самолетам. Хотя достаточно было бы любого препятствия на взлетно-посадочной полосе, – и повернул лошадь обратно.
Назавтра командира полка посетил Gebietskommissar[27]. После его ухода Уч сказал, что гебитскомиссару для какой-то акции нужны солдаты: потребуется оцепить весь аэродром. Уч ответил отказом: ему было запрещено вмешиваться в дела гражданской администрации. Некоторое время они с Акселем фон дем Б. гадали, о какой акции шла речь. Они впервые услышали слово Aktion в неясном, загадочном контексте.
Несколько дней спустя Акселю фон дем Б. рассказали, что на аэродроме происходит что-то странное.
Он сел на лошадь.
Увидел знакомый прямоугольный ров.
Перед рвом стояли голые люди – мужчины, женщины, старики и дети.
Стояли гуськом, один за другим, как в любой нормальной очереди – за молоком или за хлебом. Очередь растянулась метров на шестьсот.
На краю рва, свесив ноги, сидел эсэсовец. В руках он держал автомат. Эсэсовец давал знак, и очередь подвигалась. По вырытым в земле ступенькам люди спускались в ров. Ложились рядом друг с другом, лицом вниз. Эсэсовец стрелял. Через минуту давал знак, очередь двигалась. Люди спускались в ров и ложились на тела, уже там лежащие. Раздавалась автоматная очередь, и эсэсовец давал знак. Очередь подвигалась…
Был теплый день, один из тех теплых осенних дней, какие иногда выпадают в октябре.
Светило солнце.
Голые женщины несли голых младенцев. Мужчины вели за руку детей и еле державшихся на ногах стариков. Семьи обнимались голыми руками.
Никто не кричал, не плакал, не молился, не просил сжалиться и не пытался бежать. В промежутках между выстрелами царила идеальная тишина.
Эсэсовцев было восемь. Стрелял один. Остальные, видимо, ждали, пока тот устанет.
Аксель фон дем Б. вернулся домой.
Акция на аэродроме продолжалась два дня, расстреляны были три тысячи человек.
Вечером третьего дня Аксель фон дем Б. услышал шаги на лестнице, и кто-то постучал в дверь. Вошел знакомый чиновник из штаба полка. Он сказал:
– Я был в ресторане. Гебитскомиссар устроил ужин для эсэсовцев, участвовавших в Aktion… Рядом с ним сидел этот большой, толстый… Я слышал, что́ он говорил… Он говорил, что они ездят так из города в город… Местные власти все подготавливают: грузовики, оцепление, ров, а они ездят и убивают… Говорил, что сам до сих пор убил тридцать тысяч евреев… Говорил, что за это его повысили, он теперь командир… Ты меня слушаешь?
– Слушаю, – сказал Аксель фон дем Б. – Иди спать.
Чиновник ушел. Аксель фон дем Б. услышал, как скрипят под ногами старые деревянные ступеньки.
Через час ступеньки опять заскрипели, и чиновник постучался в дверь.
– Извини, что мешаю, но я произвел кое-какие арифметические расчеты. Если их восемь и если каждый убьет тридцать тысяч человек, то они могут – за сколько? – за три месяца? за четыре? – они могут убить МИЛЛИОН. Ты меня слушаешь?
– Иди спать, – сказал Аксель фон дем Б.
В ноябре гебитскомиссар опять устроил ужин, на этот раз по случаю Дня всех святых[28]. Он пригласил Эрнста Уча, но командир полка под каким-то предлогом отговорился и послал вместо себя Акселя фон дем Б.
Аксель фон дем Б. сидел рядом с женщиной, чей муж занимался сельским хозяйством на Украине. Спросил, знает ли она об акции. Она знала. А также знала, что уже скоро стрелять не понадобится. Будут автомашины, которые сами все сделают с помощью выхлопных газов.
– Методы должны быть более гуманными, – добавила она.
Аксель фон дем Б. не стал спрашивать, гуманными по отношению к кому – к эсэсовцам или евреям? Он догадывался, что к эсэсовцам, поскольку убивать утомительно.
Он рассказал обо всем командиру полка.
– Стало быть, Адольф Гитлер отнял у нас и честь, – сказал Уч.
Аксель фон дем Б. не стал спрашивать, как обстоит дело с честью у командира полка. Он понимал: после всего того, что они узнали, они будут продолжать жить – нормально, как жили до сих пор. Будут спать, есть, переваривать пищу и дышать. Притворяться перед самими собой, что они не знают. Не будут знать – зная всё.
Три месяца спустя Аксель фон дем Б. решил убить Адольфа Гитлера.
10.
Гетто в Дубно организовали в апреле 1942 года, на пасхальной неделе. Оно занимало улицу Шолом-Алейхема и прилегающие улицы над Иквой. Во время ликвидации гетто люди бросались в реку – глубокую и быструю. Хая Файнблит из Рыбного переулка, которая после замужества четырнадцать лет была бесплодна и впервые родила во время войны, ребенка утопила, а сама приняла яд. Отравились врачи – доктор Ортманова и доктор Каган. Лейзер Вайсбаум повесился. Некоторые пытались спрятаться в прибрежных зарослях, но немцы время от времени поджигали камыши.
В Йом Кипур[29] – Судный день – еще остававшиеся в живых евреи собрались в доме старого Сикулера. Дом стоял на берегу Иквы. Молитвы читал кантор Пинхас Шохет. После молитв люди подходили к нему и говорили: “Реб Пинхас, чтоб нам через год увидеться здоровыми”.
Последних дубенских евреев убили в октябре, в день праздника Торы – Симхат Тора[30].
11.
Три месяца спустя он решил убить…
Чтобы принять решение убить фюрера рейха требуется время. Тем более, когда человеку двадцать три года. Тем более, когда этот человек – офицер, присягнувший на верность фюреру.
Ненависти он не ощущал. Его рассуждения были хладнокровными и простыми. Гитлер – олицетворение мифа. Чтобы победить зло, нужно уничтожить миф.
О своем решении Аксель фон дем Б. сказал другу. Этим другом был Фриц фон Шуленбург[31]. В студенческие годы он интересовался марксизмом, потом связался с национал-социалистами, потом присоединился к единомышленникам Клауса фон Штауфенберга[32], будущего организатора покушения на Гитлера в июле 1944 года. (В ходе суда над участниками покушения прокурор неизменно называл Шуленбурга “преступником” или “негодяем”, когда же один раз обратился к нему: “граф”, тот его перебил: “Негодяй Шуленбург, пожалуйста!”) Шуленбурга повесили в сорок четвертом году. Через полтора года после разговора с Акселем фон дем Б. – когда Аксель сказал другу, что готов убить…
12.
В июне 1943 года полк находился под Ленинградом, в нескольких километрах от Царского Села и вблизи от передовой. Стояли белые ночи, до утра можно было читать, не зажигая света. (“Пишу, читаю без лампады”[33], – писал Александр Пушкин, воспитанник Царскосельского лицея.) Был вечер. Небо – цвета снятого молока.
Они сидели в штабе полка – деревянном особняке, одновременно служившем жильем командиру, – и пили кофе. Заваривали кофе горячим советским коньяком, который получали в пайке вместе с сигаретами. Это называлось cafе́ diabolique[34]. Командир полка уехал с инспекцией на передовую. Сидели, разговаривали. Ни о чем серьезном – ни о войне, ни о политике. Просто болтали, как оно бывает за чашечкой cafе́ diabolique, вечером, когда небо цвета снятого молока.
Вдруг со стула поднялся малыш Бронзарт. Вынул из кобуры револьвер. Прицелился в портрет Гитлера, висящий на стене, и… выстрелил. Попал точно в цель. Трудно сказать, почему он это сделал, – они ведь ни о чем серьезном не разговаривали. Видимо, малыш Бронзарт не любил Гитлера, вот и все.
Воцарилась, понятное дело, гробовая тишина. Все смотрели на фюрера с дыркой во лбу и думали об одном и том же: глубоко ли продырявлена деревянная стена под портретом и только ли свои в комнате.
Тишину нарушил Аксель фон дем Б., который спросил Рихарда, полкового адъютанта, нет ли где-нибудь запасного портрета. На что Рихард, младший брат Генриха – того самого, что погиб на второй день войны в Тухольских борах, – ответил, что, к сожалению, на полк полагается один портрет.
Молчание становилось тягостным. И тут отозвался Рихард:
– Думать будем потом. Пока мы еще не поняли, что произошло, пусть каждый сделает то же самое.
Достал револьвер и прицелился в Гитлера.
После него стрелял Аксель фон дем Б.
После Акселя, допустим, Клаузинг или фон Арним…
Что они сделали с простреленным портретом и что повесили на стену, Аксель фон дем Б. не запомнил. Не его была забота: улаживать дела с командиром полка надлежало Рихарду, адъютанту. К счастью, тот обладал редкостным дипломатическим талантом и отлично справлялся с щекотливыми проблемами.
Бронзарт фон Шеллендорф через месяц погиб на Неве.
Фридрих Клаузинг был ранен, его отослали в Берлин. Стал адъютантом Штауффенберга. Повешен в 1944 году.
Эвальд фон Клейст остался жив, но Рихард утверждает, что Клейста тогда с ними не было.
Значит, выжили трое: Аксель фон дем Бусше, Макс фон Арним, сейчас пенсионер, и Рихард фон Вайцзеккер[35], президент Германии.
13.
Осенью 1943 года Фриц фон Шуленбург сообщил Акселю фон дем Б., что заговорщики ищут офицера, который убьет Гитлера во время показа обмундирования. Речь шла о зимних шинелях для Восточного фронта. Прежние, как выяснилось в ходе боев, в российских условиях непригодны. Были разработаны новые образцы, и Аксель фон дем Б. мог бы продемонстрировать их Гитлеру. На показе должны также присутствовать Гиммлер и Геринг. Втроем они после разгрома под Сталинградом появляются редко, так что случай уникальный.
Аксель фон дем Б. как модель подходил идеально.
Он знал Восточный фронт и мог дать Гитлеру необходимые пояснения. Был награжден орденами и боевыми крестами. Был высок, красив и обладал нордической внешностью.
Аксель фон дем Б. сказал Фрицу Шуленбургу, что согласен.
Рихард, как полковой адъютант, выдал ему Marschbefehl[36], пропуск в Берлин.
(Через пятьдесят лет Рихард фон Вайцзеккер сказал, что Аксель фон дем Б. и за него принял решение. После акции на аэродроме никто из них – немецких офицеров в городке Дубно – не мог сказать, что он НЕ ЗНАЕТ. Теперь они уже знали. И по-прежнему передавали подчиненным приказы командования. Сами участвовали в преступлении и втягивали своих солдат.
Каждый день мы вновь и вновь задавали себе вопрос, что со всем этим делать, – говорил спустя пятьдесят лет Рихард фон Вайцзеккер. Аксель ответил нам. Ответ этот меня не испугал и не удивил. Мы были на фронте, и каждый день мог стать для нас последним. А раз так, почему бы самому не решить, каким будет твой последний день? От гибели Акселя, убившего фюрера рейха, было бы гораздо больше толку, чем от его гибели на Восточном фронте…)
Итак: Рихард выдал пропуск, и Аксель фон дем Б. отправился в Берлин.
Встретился с Штауффенбергом.
У Клауса фон Штауффенберга, тяжело раненного в Африке, не было правой руки, а на левой остались три пальца. Пустую глазницу закрывала черная повязка. Он был решителен, спокоен, невозмутим.
Штауффенберг спросил Акселя фон дем Б., почему тот хочет убить Гитлера.
– Вы знаете, что он делает с евреями? – вопросом на вопрос ответил Аксель фон дем Б. и поправился: – Что МЫ делаем с евреями?
Штауффенберг знал. В свою очередь, он спросил, не испытывает ли Аксель фон дем Б. как протестант сомнений морального свойства. Католики допускают убийство тирана, но ведь и Лютер в одном из своих трудов написал… [37] Он явно заготовил для Акселя фон дем Б., а может, и для себя самого, теологические аргументы.
– Обдумайте все еще раз, – закончил он разговор. – После обеда сообщите мне о своем решении.
После обеда Аксель фон дем Б. сообщил Клаусу Штауффенбергу, что его решение окончательно. Начали обсуждать подробности. Показ обмундирования для Восточного фронта пройдет в Волчьем логове[38], главной ставке Гитлера в Восточной Пруссии. Модели – солдаты, которые ни о чем не будут знать. Взрывчатку Аксель фон дем Б. спрячет под шинелью. Взрывом будут убиты руководители рейха, Аксель и все присутствующие.
В завершение разговора Штауффенберг достал из портфеля небольшой конверт.
– Это приказ, – сказал он. – Вы отдадите его полковнику Л. в ставке. После того, как Гитлер будет убит, приказ доведут до сведения вооруженных сил, всех немцев и всего мира. Можете по дороге его прочитать.
Аксель фон дем Б. приступил к выполнению задания.
Взрывчатый материал он получил от полковника Л. Всё помещалось в небольшом плоском чемоданчике. Кроме мин и динамита там была английская бомба. Превосходная – с бесшумным запалом. Взрыв происходит через десять минут после приведения в действие взрывателя, минуты текут в идеальной тишине. Однако Акселю фон дем Б. не подошла английская бомба. Во-первых, он был с ней незнаком. Во-вторых, десять минут ожидания чужой и собственной смерти – это слишком долго. Аксель отдал бомбу (впоследствии, в июле 1944-го, ее использовал сам Штауффенберг) и попросил обыкновенную ручную гранату, какие были у них на фронте. Граната взрывалась через четыре с половиной секунды. Правда, она шипела, но шипенье можно было заглушить – например, кашлем. У полковника Л. гранаты под рукой не оказалось, и Аксель фон дем Б. поехал в Потсдам, к знакомому, вместе с которым когда-то проходил военную службу. Тот был полунемцем-полуевреем и немецким патриотом. В его жилах текло слишком много еврейской крови, чтобы участвовать в защите отечества (один из первых же нацистских законов запрещал полукровкам защищать отечество на фронтах войны), но недостаточно для того, чтобы быть отправленным в Освенцим или Терезин. В отчаянии от невозможности защищать немецкую родину на фронте он вымолил разрешение служить в тылу. Служил в Потсдаме. У него были гранаты. Вопросов он не задавал. Аксель фон дем Б. мог отправиться в ставку Гитлера.
В поезде он достал из-за голенища приказ, который после покушения следовало довести до сведения немцев и всего мира.
“Фюрер мертв” – такова была первая фраза.
Он убит кликой тщеславных офицеров СС…
В сложившейся ситуации армия берет власть в свои руки…
Армейский спальный вагон катил на восток. Аксель фон дем Б. лежал на полке, погрузившись в чтение.
Стало быть, Штауффенберг не собирался говорить немцам правду. Народ продолжал любить Адольфа Гитлера, и ответственность за его гибель надлежало возложить на “клику тщеславных эсэсовцев”.
“Значит, мы настолько слабы… – думал Аксель фон дем Б. – Даже после Сталинграда не можем сказать правду. Даже мы вынуждены начать со лжи…”
Он прибыл на место.
Отдал конверт с приказом.
Отправился в барак для приезжих. Ждал сообщения о начале показа моделей. Вагон с обмундированием уже был на пути в Восточную Пруссию.
Он не знает точно, сколько дней прождал в гостевом бараке, зато знает, сколько ночей. Три ночи. Не спал. Сидел в кресле и подводил итоги.
Когда человеку двадцать четыре года, подведение итогов, пускай даже всей жизни, не отнимает много времени, так что на третью ночь он заснул. На рассвете его вызвал полковник Л. Союзники разбомбили эшелон, в котором был вагон с обмундированием. Обмундирование сгорело, показ не состоится. Акселю фон дем Б. надлежит незамедлительно вернуться на фронт в Россию.
Собирая вещи, он раздумывал, что сделать с минами и гранатой. Оставить чемоданчик в комнате он не мог, зарыть в лесу не успевал. Взял с собой в Россию. Там переложил все в армейский ранец – брезентовый, защитного цвета, который спрятал в офицерский шкафчик.
Три месяца спустя он был ранен. Рана не казалась опасной, но началась гангрена, и ступню ампутировали. Потом ампутировали ногу до середины голени. Потом до колена. Потом всю ногу целиком.
Оперировали его в Берлине, в эсэсовском госпитале.
Проснувшись после наркоза, он увидел белый больничный шкаф. На шкафу стоял брезентовый ранец защитного цвета. На фронте полагалось вслед за ранеными офицерами отправлять в госпиталь их вещи, вот и за Акселем фон дем Б. отправили, не заглянув внутрь, вышеупомянутый ранец.
Семнадцатого июля пришел Фридрих Клаузинг, адъютант Штауффенберга. Сказал, что ЭТО произойдет в ближайшие дни.
Аксель фон дем Б. прислушивался.
В ночь с двадцатого на двадцать первое июля 1944 года он услышал по радио голос Гитлера:
“Я обращаюсь к вам сегодня по двум причинам. Во-первых, чтобы вы услышали мой голос и убедились, что я жив и здоров. Во-вторых, чтобы вы узнали о преступлении, подобного которому не было в истории Германии…”
Аксель фон дем Б. подумал, что надо уничтожить записную книжку с адресами. У него не было ноги, и пойти в уборную он не мог, поэтому всю ночь жевал страничку за страничкой.
Утром явилось гестапо. Допрашивали недолго. У него было алиби: лежал без ноги в эсэсовском госпитале. Над головами гестаповцев, на шкафу стоял брезентовый ранец. Позже ранец забрал его друг Карл Грёбен, которого из-за парализованной руки не взяли в армию. Он рассказал Акселю о заговорщиках – о тех, кого повесили, о тех, кого отправили в концлагеря, и о тех, кто покончил с собой. Полковнику Л. удалось бежать; кажется, пробравшись через линию фронта, он спрятался у русских… Закончив отчет, Грёбен взял здоровой рукой ранец, удостоверился, что другу он больше не понадобится, и пообещал бросить в ближайший пруд.
14.
“На окраине Дубно были домики с садами, поэтому город утопал в зелени. По весне разливался одуряющий запах сирени, жасмина, акаций и левкоев – у левкоев вообще волшебный запах. А река, пересекающая Дубно, обросла высокими камышами, сколько же там было рыб и водяных птиц. <…>
Холодным ранним утром, не помню, осенью или весной, я услышала необычные звуки. Люди куда-то бежали, и я узнала, что по Икве плывут еврейка с дочкой. Когда они заметили, что народ сбегается и их видят, то спрятались в камышах. Люди смотрели на эту страшную трагедию и все молчали. <…> Кто-то сообщил немцам, те пришли и тоже стали на них смотреть. Еврейки не могли все время сидеть в камышах, надо было двигаться, потому что вода была ледяная, и они то прятались, то выплывали, а когда видели немцев, снова прятались. Немцы взяли лодку и поехали их забирать. <…> Обе были в чем-то белом, наверно, в одних сорочках…”
(Из письма Антонины Х., бывшей жительницы Дубно.)
15.
Вначале Аксель фон дем Б. пользовался протезом, но отрезанная нога невыносимо болела. Такое явление известно медицине и называется фантомная боль. Врач объяснил Акселю фон дем Б., что источник фантомной боли находится в лобных долях мозга и что можно сделать операцию, называемую лоботомией, но пациент отказался.
Он ходит на костылях. Рост у него – метр девяносто три. Из-под пиджака торчит длинная нога. Рядом, между полом и пиджаком, большое пустое пространство. Нога, которой нет, занимает много места. Гораздо больше, чем та, что торчит из-под пиджака, в темной брючине, в элегантном, начищенном до блеска кожаном мокасине.
Костыли у него обычные, алюминиевые, с черными резиновыми наконечниками. Такими же костылями пользуются польские инвалиды, такими же подпираются старые женщины, ждущие трамвая на остановке в Варшаве.
Передвигается он медленно. Взглядом изучает поверхность, долго и тщательно выбирает нужное место – чтоб не круто было и не скользко. Ставит туда костыли и переносит ногу. Останавливается и снова сосредоточенно осматривает поверхность…
Он закончил юридический. Был дипломатом, издателем и директором элитных школ.
Не раз обедал с Теодором Адорно, Голо Манном и Ханной Арендт.
Отпуск проводил с двоюродным братом Клаусом и его женой Беатрикс, королевой Нидерландов.
Женился на англичанке и поселился в Швейцарии. В Германии бывал редко. В пятидесятые годы его вызвали в прокуратуру. Нашли эсэсовцев с аэродрома в Дубно, и прокурор спросил, узна́ет ли Аксель фон дем Б. их в лицо.
– Не узна́ю, – ответил он.
– Как? – удивился прокурор. – Вы были свидетелем убийства евреев в городе Дубно?
– Был.
– Видели лица тех, кто убивал?
– Видел.
– Тогда почему не сможете их узнать?
– Потому что у них были одинаковые лица – гончих псов, – объяснил Аксель фон дем Б. – Вы когда-нибудь видели, как гончие набрасываются на дичь? Могли бы отличить одного пса от другого?
В прошлом году у Акселя фон дем Б. умерла жена. После тридцати пяти лет отсутствия он вернулся в Германию.
Он навестил нескольких знакомых, в том числе полковника Л., того самого, который в Волчьем логове дал ему мины и динамит. После неудавшегося покушения Штауффенберга полковник Л. бежал к русским. Лет пятнадцать в общей сложности провел в одиночной камере на Лубянке и в сибирских лагерях. Вернулся, живет в маленьком деревенском доме в Нижней Саксонии. Акселя фон дем Б. принял любезно. Один только раз вышел из себя, когда гость назвал его полковником. “Перед вами коронованный принц! – воскликнул. – Вы что, не знаете, как обращаться к монарху?!”
Оказывается, полковник Л. вернулся из советских лагерей коронованным прусским принцем. В остальном он вел себя нормально.
Аксель фон дем Б. поселился у своих детей в старом замке. Покои там сумрачные и холодные. На стенах висят зеркала и картины в тяжелых позолоченных рамах. На гобеленах изображены охотничьи сцены. Полы скрипят ночи напролет. Это не дает покоя призрак предка, который растратил полковую кассу и был казнен, а сейчас бродит по коридорам, держа под мышкой окровавленную голову. Лестницы в замке крутые, поэтому Аксель фон дем Б. выбрал маленькую комнату на первом этаже. В ней помещается кровать, столик с чашкой и электроплиткой, немного книг и два костыля.
Иногда приезжает немецкий или зарубежный историк, пишущий очередную книгу о сопротивлении в Третьем рейхе.
Иногда звонит Рихард, брат Генриха фон Вайцзеккера, бывший адъютант их полка. Они говорят о жизни. Или о Томасе Манне. Или о событиях, которые уже никому, кроме них, не кажутся ни забавными, ни значительными.
Разговоры даются Акселю фон дем Б. всё с бо́льшим трудом. У него случаются депрессии. По непонятным причинам он начал терять вес. Донимает боль, которую умеряют только наркотические препараты. Бог с ним, с диагнозом, но ему бы не хотелось страдать. С другой стороны, утешает мысль, что вся эта канитель скоро закончится.
16.
Писарь Йосл
Молодой Пинсахович
Абрам Гринцвайг, врач
Р. Цукер, фотограф
Лейб Сильскер, почтальон
Реб Мейер, который точил ножи
Рубен Ципринг, кларнетист
Эли Стринер, скрипач
Мендель Качка, трубач
Брандля, портниха
Вольф, жених Брандли
Лейзер, актер и жестянщик
Ида Птичница
Беньямин Усач
Беньямин Столяр
Хеня Гусятница
Залман Рыжий
Залман Черный
Ханьча Полоумная
Хаим Скоробогат
Красный Мотл
Мехл Дылда
Янкель Кугель
Нисл Фельдшер
Шолом Не Дай Бог
Мотл Водовозчик
Черная Бася
Аба Учитель
Ицеле Стопка
Ицек Умник
Эстер Кельнерша
Ашер Цимбалист
Исер Сапожник
Хая Файнблит
Ребенок Хаи Файнблит
Ортманова, врач
Лейзер Вайсбаум
Сикулер, владелец дома над Иквой
Пинхас Шохет, кантор
Женщина в белой сорочке
Дочка женщины в белой сорочке
Забудь меня, как только полной чашей тебя утешит сень Господних крыл… Но все ж, пока струится Иква наша, набухшая от слез… по тем, кто был душой и сердцем тверд (…) я до тех пор на их могилах вправе стоять и петь – суровый, но без гнева[39].Портрет с пулей в челюсти
1.
В путь мы отправились чуть свет.
Ехали на восток.
Блатт собирался проверить, не вернулся ли на место преступления Мартин Б.
Давным-давно Мартин Б. велел убить трех человек. Один лежит зарытый в овине Мартина Б. Второй лежит в лесу Мартина Б. (овин и лес находятся в деревне Пшилесье). Третий, который должен был погибнуть, – Блатт. Предназначавшаяся ему пуля уже пятьдесят лет сидит у него в челюсти.
Блатт приезжает из Калифорнии. В Польше он был раз тридцать, а то и больше. Каждый раз ездил на восток, в Пшилесье. Проверял, там ли Мартин Б. Мартина Б. в деревне не оказывалось, и Блатт возвращался в Калифорнию.
2.
Его путь – всегда одни и те же пятьсот километров, поэтому он брал автомобиль напрокат или покупал подержанный. Потом машину у него крали, а иногда он ее разбивал или оставлял кому-нибудь в подарок. Обычно это был “малюх”[40] либо старый “фиат” – Блатт не любил привлекать к себе внимание. (Можете звать меня Томек, сказал он в первый же день. А если хотите, Тойвеле, как меня звали в детстве. Или Томас, как написано в американском паспорте. Но я, несмотря на столько вариантов, мысленно называла его Блатт.)
Мы ехали на восток.
Солнце проникало в машину сквозь переднее стекло. При ярком свете видно, что виски у Блатта совершенно седые, хотя надо лбом волосы темно-рыжие. Я спросила, красит ли он их. Он объяснил, что это не краска, а специальная жидкость. Утром, причесываясь, достаточно капнуть чуть-чуть на расческу. Американская, догадалась я. Он кивнул: новейшее изобретение.
Блатт невысокий, но крепко сбитый и сильный. Его легко представить стоящим перед зеркалом: короткая шея, широкая грудь, майка и пузырек новейшего американского средства от седины. Но картина эта не должна вызывать ироническую улыбку. Сила у Блатта прежняя – та же, что когда-то приказала ему выжить. К силе Блатта нужно относиться серьезно. Как и к его любовным похождениям (всегда с блондинками). Послевоенная еврейская любовь должна была быть блондинкой. Только светловолосая арийка олицетворяла лучший, безопасный мир.
Родственник Блатта, Давид Кляйн, до войны жил в Берлине. Он пережил Освенцим, вернулся в Берлин, застал у себя в квартире новых жильцов. Не волнуйтесь, сказали они, всё на своих местах. И действительно, каждая мелочь обнаружилась там, где он ее оставил перед войной. Родственник Блатта женился на их белокурой дочке. Она была военной вдовой офицера СС. Давид Кляйн воспитывал их сына. Когда жена влюбилась в более молодого, Давид умер от разрыва сердца. (В Берлине я позвонила дочке Кляйна. Трубку взял ее муж. Я сказала ему, что хочу поговорить о Давиде Кляйне, который пережил Освенцим. И услышала, как тот кричит своей жене, дочери Давида: твой отец пережил Освенцим?)
Сташек Шмайзнер, ювелир из Собибора[41], эмигрировал в Рио. Женился, правда, не на арийке, зато на Мисс Бразилии. Они расстались. Сташек уехал в джунгли писать книгу о Собиборе. Когда закончил, умер от разрыва сердца.
Герш Цукерман, сын повара из Собибора, уехал в Германию. Арийская жена его бросила, и Цукерман повесился.
И так далее.
Блатт все еще пишет свою книгу.
Мы ехали на восток.
Блатт хотел проверить, вернулся ли Мартин Б. в деревню Пшилесье.
3.
Мы проезжали бывшие еврейские местечки: Гарволин, Лопенник, Красныстав, Избицу. Штукатурка на стенах выцветшая, с грязными потеками. Деревянные одноэтажные домишки вросли в землю. Интересно, живет ли в них кто-нибудь. Наверно, живет: на окнах горшки с геранью, обернутые белой гофрированной бумагой. Кое-где подоконники выстланы ватой. На ней серебрится мишура – лежит, должно быть, еще с Рождества. Двери закусочных открыты. У входа пьют пиво мужчины в серых ватниках. Видимо, внутри нет свободных мест. На пустых участках между домами торчат остатки стен. Из-под разбитых кирпичей прорастает трава. Лицо у местечек дряблое, обвислое, искаженное – то ли от усталости, то ли от страха.
В Избице Блатт захотел мне кое-что показать. Начали со Стоковой улицы. Там из поколения в поколение жили Блатты, а еще тетя Мария Ройтенштайн, которая все слышала через стенку. Тойвеле, говорила она, признайся, твой отец кормит тебя трефным. За это, Тойвеле, ты попадешь в ад. От страха мальчика кинуло в жар. Тебе только восемь лет, успокоила его тетка. После бар-мицвы[42] Господь тебе все простит. Тойвеле подсчитал, что может грешить еще пять лет. К сожалению, война началась до бар-мицвы, Господь ничего ему не простил.
Мы осмотрели рыночную площадь. Вот тут, посередине, стоял Иделе и бил в барабан. Он зачитывал официальные объявления. Последний раз Иделе забарабанил в сентябре тридцать девятого и объявил, что надо заслонять окна от бомб. Он погиб в Белжеце.
На рыночной площади играли бродячие музыканты; они же продавали по пять грошей слова новейших шлягеров. Тойвеле купил “О, Мадагаскар, страна черная, знойная, Африка…”[43].
Самый шикарный дом на рынке принадлежал Юде Помпу, торговцу шелком. У себя в квартире он устроил уборную – первую в Избице. Все ходили проверять, как это: в квартире сортир – и не воняет.
Покончив с рынком, мы переместились на соседние улицы. Начали с дома ненормальной Ривки по прозвищу Который Час. Ривка, который час? – кричали дети. Она отвечала точно, никогда не ошибалась. Из Америки приехал еврей, старый, некрасивый и богатый. Присмотрелся к Ривке. Выяснил, что она дочь покойного раввина. Велел ей причесаться, и они поженились. Жители Избицы вынуждены были признать, что замужняя Ривка оказалась красивой женщиной, абсолютно нормальной. Она родила ребенка. Все трое погибли в Собиборе.
По соседству жил капитан Линд, доктор. Как же его звали? Какая у него была машина, известно – “опель”, но это был единственный автомобиль в Избице. Первого сентября[44] докторша прибралась в квартире, поменяла постельное белье и, что больше всего понравилось Файге Блатт, матери Тойвеле, накрыла стол чистой скатертью. Потом доктор надел мундир, и они сели в “опель”. Доктор погиб в Катыни[45], докторша неизвестно где.
Одежду Тойвеле и его брату шил портной Фляйшман. У Фляйшманов была одна комната и девять детей. Они сбили из досок такую большую кровать, что на ней помещались все. Под окном стояла швейная машина, а посередине – стол. Но ели за столом только по субботам, в будни на нем гладили. Фляйшманы и их девять детей погибли в Белжеце.
Шойхет[46] Вайнштайн – ритуальный резник. Он целыми днями изучал Талмуд; семью содержала жена, продавая мороженое и содовую воду. Мороженое она крутила в деревянном ушате, который стоял в корыте с солью. Санитарная инспекция не разрешала использовать дешевую неочищенную соль при изготовлении продуктов питания, а покупать более дорогую Вайнштайновой было не по карману, поэтому сыновья, Симха и Янкель, караулили в дверях, не идет ли полицейский. Все погибли в Белжеце.
Дом Буншпановой (по некоторым причинам понадобилось сменить ей фамилию). Она держала лавку с мануфактурой. У нее была светленькая дочка и темненький сын. Сыну она велела остаться дома, а сама с дочкой пошла на вокзал. Мальчик побежал за ними. Пытался залезть в поезд вместе с матерью, но Буншпанова его отталкивала. Отойди, говорила, слушайся маму. Сын послушался. Он погиб в Белжеце, Буншпанова с дочкой пережили войну. Я понял, сказал Блатт, что человек сам себя до конца не знает.
Пивоварня Ройзы Насибирской. Она сбежала из эшелона. Вошла в первый попавшийся дом, за столом сидели люди и читали Священное Писание. Это были свидетели Иеговы. Они сочли, что Ройза послана им Богом. Дали ей Библию и велели обращать людей в их веру. Ройза благополучно дождалась конца войны. Никому в голову не пришло, что по деревням ходит и проповедует еврейка. После войны она хотела и дальше продолжать – из благодарности, но приехал родственник и увез ее в Соединенные Штаты.
Лесопилка Герша Гольдберга. Вокруг лежали аккуратно сложенные штабелями распиленные бревна. Когда в субботу на небе зажигалась первая звезда и шабат заканчивался, все отпивали по глотку вина из общего бокала и говорили друг другу: гит вох – хорошей недели. Это служило знаком для молодежи: парни отправлялись с девушками “на чурбаны” к Гольдбергу. Их младшие братья и сестры шли следом – подглядеть, что делается вечером “на чурбанах”. Герш Гольдберг погиб в Белжеце.
Развалюха близ еврейского кладбища. Тут жил Янкель Блатт, родной брат отца Тойвеле. У него было двое детей, он был безработный и коммунист. Когда в сентябре 1939 года город заняли русские, дядя Янкель с энтузиазмом их приветствовал. Теперь будет работа, повторял он, теперь все будет по справедливости. Коммунисты нацепили красные повязки и выдавали русским буржуев – польских и еврейских, а также возвращавшихся после сентябрьской кампании солдат. В числе прочих арестовали Юду Помпа, торговца шелком и владельца дома с уборной. Через две недели русские отступили. Город заняли немцы. Погибли и коммунист Янкель Блатт, и Юда Помп, классовый враг. В Сибири у Помпа шансов выжить было бы намного больше, чем в Собиборе, но русские, к сожалению, не успели сослать избицких буржуев.
Блатт говорил и говорил, в Избице насчитывалось три тысячи евреев, а он не исчерпал и первой сотни. Навестил Малку Лернер, дочку мясника (мы проходили мимо их дома). Малка – стройная, высокая, черная, главная заводила в компании девочек из зажиточных семей, – открыла ему дверь в лазурном халате. Подавая печенье, слегка наклонилась, приоткрыв грудь. Не случайно и не застенчиво, а с нескрываемой гордостью. Ей было двенадцать, а у нее уже росли грудки. Печенье было с маком. На Пурим такие треугольнички с маком, прикрыв белой салфеткой с мережкой, носили соседям. Малка верховодила богатыми девочками, а Эстер – поменьше ростом, тоненькая, светловолосая, – бедными. Эстер была неказиста, но в старости выглядела бы лучше, чем Малка, – признался не очень охотно Блатт. Наверно, боялся, что это будет предательством по отношению к Малке. Эстер не располнела бы и сохранила фигуру, но она не успела состариться. Юзек Бресслер, сын зубного врача, рассказывал в Собиборе, что, когда их туда везли, оказался с Эстер и Малкой в одном вагоне. Посмотри, говорила Малка, мне пятнадцать лет, я никогда не спала с парнем и уже никогда не узнаю, как это бывает. Обе погибли. Юзек Бресслер убежал вместе со всеми, но подорвался на мине.
И уже правда последний дом – бабушки Ханы Суры, урожденной Кляйн, тетки берлинского родственника. Она носила парик. К Блаттам в гости не ходила, потому что отец Тойвеле, Леон Блатт, который в награду за службу в Легионах[47] получил концессию на продажу водки и вина, ел трефное, не соблюдал шабат и был проклят раввином. Курт Энгельс, начальник гестапо, лично надел ему на голову терновый венец из колючей проволоки и повесил на шею табличку: “Я – Христос. Избица – новая столица евреев”. Покатывался со смеху, когда Леон Блатт ходил в своем венце по Избице. Бабушка Хана Сура, Леон Блатт, его жена Файга и Гершль, младший брат Тойвеле, погибли в Собиборе.
А сейчас уже правда последний дом. Заросший бурьяном пустырь с остатками каменной стены – место, где был дом, кожевня Моше Бланка. Тут многие спрятались, когда только начали выселять. Люди чувствовали себя в безопасности, говорили: уж что-что, а кожа немцам всегда будет нужна. Все погибли в Собиборе. Сыновья хозяина войну пережили. Старший, Янкель, до войны учился в знаменитой люблинской ешиве[48]. В укрытии около Курова у него был с собой Талмуд, и он при свете керосиновой лампы продолжал его изучать. Чуть было не проморгал, что война закончилась. Младший, Герш, после войны занялся делами. Был убит неизвестными в Люблине, на Ковальской улице.
Мы повернули на юго-восток.
4.
Бунт в Собиборе, крупнейшее из восстаний в концлагерях, произошел 14 октября 1943 года. Возглавил его Александр Печёрский, заключенный, офицер Красной Армии. Сразу после восстания немцы ликвидировали лагерь.
В Собиборе были мастерские, работавшие на немцев. Четырнадцатого числа в половине четвертого портные сообщили одному из эсэсовцев, что новый мундир готов к примерке. Эсэсовец разделся и отложил в сторону ремень с пистолетом. Портные ударили его топором. Труп спрятали, кровь на полу прикрыли тряпьем и пригласили следующего эсэсовца. Одновременно сапожники сообщали, что готовы сапоги, а столяры – что могут показать что-то из мебели. Убиты были почти все эсэсовцы, которые в тот день несли службу. Разыгрывалось все это в тишине и заняло полтора часа. В пять часов несколько сотен заключенных выстроились в колонну. Печёрский крикнул: За родину, за Сталина, вперед! Люди побежали к лесу. Многие сразу погибли, подорвавшись на минах. Тойвеле зацепился курткой за колючую проволоку и на минуту застрял. Когда побежал, поле было уже свободно от мин… Американцы снимали фильм “Побег из Собибора”, Блатт был консультантом. Играл его молодой американский актер. Он, как Тойвеле, зацепился за ограждение и, согласно сценарию, пытался освободиться. Блатту показалось, что это продолжается слишком долго. Ему стало страшно. Время идет, а он не убегает из Собибора. Когда актер побежал по полю, Блатт последовал за ним. Эпизод давно сняли, а Блатт все бежал. Его – исцарапанного, в разбитых очках – нашли спустя несколько часов спрятавшимся в лесу.
Одним из уцелевших эсэсовцев был Карл Френцель. Ему не нужны были ни сапоги, ни новый мундир, ни мебель. После войны его приговорили к семи пожизненным срокам заключения. В 1984 году дело пересматривалось. Процесс проходил в Хагене. Блатт выступал свидетелем обвинения. Он отлично помнил Френцеля. Когда они с родителями и братом вышли из вагона в Собиборе, Френцель лично производил селекцию и отправлял людей в газовую камеру. Накануне, еще дома, Тойвеле выпил молоко, предназначенное на несколько дней. Мать сказала: не пей столько, оставь на завтра. Назавтра они стояли на платформе в Собиборе. Видишь, сказал он матери, а ты хотела оставить молоко на сегодня. Это были последние слова, сказанные им матери. Он слышит их пятьдесят лет. Хотел поговорить об этом с психиатром, но некоторые вещи трудно объяснить американским врачам. Френцель послал женщин с детьми налево и с хлыстом в руке подошел к мужчинам. Крикнул: портные, шаг вперед. Тойвеле был маленький, тощий, не выглядел даже на свои пятнадцать лет и не был портным. Никаких шансов уцелеть у него не было. Он смотрел Френцелю в спину. Сказал: я хочу жить. Повторил это несколько раз. Шепотом, но Френцель обернулся. Крикнул: komm raus du kleiner![49] – и отправил Тойвеле к остающимся мужчинам. Блатт рассказал об этом на суде в Хагене.
Френцель давал показания, находясь на свободе. В перерыве он спросил, не согласится ли Блатт с ним поговорить. Они встретились в гостиничном номере. Вы меня помните? – спросил Блатт. Нет, сказал Френцель. Ты тогда был маленький. Блатт поинтересовался, почему Френцель захотел с ним поговорить. Чтобы попросить прощения, сказал Френцель. Оказывается, он хотел попросить прощения за двести пятьдесят тысяч евреев, убитых в газовых камерах Собибора.
5.
Блатт был свидетелем обвинения еще по нескольким делам. В частности, по делу начальника гестапо в Избице Курта Энгельса. Того самого, который надел его отцу на голову терновый венец. Тойвеле чистил ему мотоцикл. Отличная была машина, с коляской и двумя блестящими щитками с обеих сторон. На щитках выгравированы черепа. Энгельс требовал, чтобы черепа были начищены до блеска. Тойвеле часами их надраивал. Отличное было занятие: когда он возился с мотоциклом, ни один немец его не трогал, даже во время облавы. На Энгельса работал еще один еврейский мальчик, Мойшеле. Он был родом из Вены. Ухаживал за садом. Энгельс беседовал с ним о цветоводстве. Мойшеле ему нравился. Ты славный малый, говаривал он. Погибнешь последним, я лично тебя застрелю, чтоб не мучился. На следствии Блатт подтвердил, что гестаповец сдержал слово. После войны Курт Энгельс открыл в Гамбурге кафе. Называлось оно “Кафе Энгельс”. Заведение приглянулось местным евреям, в одном из помещений там устраивала собрания гамбургская еврейская община. В шестидесятые годы Энгельса разоблачили. Блатт выступал свидетелем на процессе. Под конец ему показали пятнадцать мужчин, и прокурор спросил, кто из них обвиняемый. Энгельс улыбнулся. У него до сих пор желтый зуб, сказал Блатт. Надевая отцу терновый венец и хохоча, Энгельс сверкал этим желтым зубом.
После опознания Блатт пошел посмотреть “Кафе Энгельс”. Представился жене владельца. Он сам убивал? – спросила она. – Убивал детей?
На следующий день прокурор допрашивал обоих, Энгельса и Блатта. Вошел судебный служащий: госпожа Энгельс просит уделить ей минутку. Она подошла к мужу, сняла обручальное кольцо, без единого слова отдала ему и ушла.
На следующее утро позвонил прокурор. Курт Энгельс отравился у себя в камере, Блатту незачем приходить на допросы.
6.
Целую ночь шли лесом. Утром Печёрский взял оружие и девятерых самых сильных людей. Сказал, что они идут на разведку, и велел ждать. Оставил одну винтовку – Сташеку Шмайзнеру. В Собиборе Шмайзнер был ювелиром, делал эсэсовцам перстни с монограммами. Винтовку добыл во время бунта.
Печёрский не вернулся. Блатт увиделся с ним через сорок лет в Ростове-на-Дону. Почему ты нас бросил? – спросил Блатт. Как офицер, я был обязан продолжать борьбу, ответил Печёрский. Он нашел партизан. Воевал, остался жив. Собиборские его приглашали, но ему не дали заграничного паспорта; он никогда не выезжал за границу. Жил с женой в коммунальной квартире. У них была одна комната. Над кроватью висел большой коврик, который он сам вышил. С изображением собаки. В углу, за простыней, стоял таз для умывания и туалетные принадлежности. Наш бунт был историческим событием, а ты – один из героев этой войны, сказал Блатт. Тебе дали какой-нибудь орден? Александр Печёрский приоткрыл дверь, выглянул в коридор и, закрыв дверь, шепнул: евреев не награждают. Зачем ты выглядываешь? – спросил Блатт. – Вы же в хороших отношениях с соседкой. Всегда лучше проверить, прошептал Печёрский.
7.
Когда стало ясно, что Печёрский не вернется, они разделились на маленькие группы. И разошлись в разные стороны. Тойвеле с Фредеком Костманом и Шмулем Вайценом пошли лесом в сторону Избицы. На следующий вечер увидели деревню. В одном из окошек – это был четвертый дом справа – горел свет. За кухонным столом сидела семья: высокий, очень худой мужчина с льняными волосами, маленькая полная женщина, девочка в возрасте Тойвеле и парень, немного постарше. Над ними висела картина. Там тоже сидели за столом люди, но только одни мужчины. Все в белых одеждах, над каждым золотился нимб. Над тем, что сидел посередине, подняв указательный палец, нимб был самый большой. Мой отец, Леон Блатт, был легионером, сказал Тойвеле. Все эти люди на картине, все до единого, были евреями, сказал Шмуль. Вот вам, возьмите на память, сказал Фредек и положил на стол горстку драгоценностей – из тех, что забрали из собиборской сортировочной.
Хозяин, Мартин Б., устроил в овине тайник. Вечером приносил им еду. Его неторопливые тяжелые шаги слышны были издалека. Посреди овина он останавливался, проверял, нет ли чужих, и подходил к укрытию. Разгребал солому и отгибал гвоздь; только он знал, какой гвоздь поддастся. Потом вынимал доску; только он знал, какая доска не прибита. Ставил на край большой чугунок. Кто-нибудь из ребят высовывал руку и затаскивал чугунок внутрь. Хозяин клал доску на место, загибал гвоздь и разравнивал солому. Сидели в темноте. Фредек со Шмулем разговаривали шепотом, а Тойвеле слушал. Тойвеле был маленький, рыжий и конопатый. До войны он, правда, мазался кремом от веснушек фирмы “Халина”, который таскал у матери, но без толку. А эти двое были на два года старше, из больших городов, и веснушек у них не было. Особенно они любили говорить о том, какие купят себе после войны машины. Фредек собирался купить “панар”, а Шмуль – “бьюик”. Тойвеле впервые услышал эти названия. Встряв, сказал, что купит себе “опель”, такой, как был у капитана Линда. “Опель”, пренебрежительно засмеялись Шмуль и Фредек и стали вспоминать железнодорожные вокзалы. К некоторым вели длинные темные туннели: идешь, а над головой с грохотом проносится поезд. Ты когда-нибудь видел такой туннель? Тойвеле вынужден был признаться, что в Избице ни одного туннеля не было. Прошло полгода. Мартин Б. сказал им, что уже весна и что зацвела яблоня. Она росла рядом с тайником, возле овина. Много будет яблок, сказал Мартин Б. Спросил, откуда у них такие красивые джемперы и кожаная куртка. Из Собибора, из сортировочной. Одолжили ему куртку и джемпер. В воскресенье он надел то и другое и пошел в костел. В понедельник пришли несколько мужиков. Кричали: где тут у тебя евреи, мы тоже хотим кожаные куртки. Палками переворошили солому в овине, но ничего не нашли. Наверно, палки были коротковаты. Вы сами слышали, сказал вечером Мартин Б., уходите, я боюсь. Они попросили купить им оружие, тогда они уйдут в лес. Вас поймают, сказал он, спросят, откуда оружие, и вы меня выдадите. Мы вас не выдадим, купите. Выдадите наверняка, уходите, я боюсь.
Прошло несколько дней. Вечером они услышали, что хозяин отправляет детей ночевать к деду с бабкой и кличет в кухню собаку. Погодя он пришел в овин. Отогнул гвоздь, вытащил доску. Фредек высунулся за чугунком. Они увидели яркую вспышку и услышали треск. Фредек скорчился и стал перебирать ногами. Чьи-то руки оттащили его в сторону. Они увидели круглощекое лицо незнакомого парня и снова вспышку света. Тойвеле почувствовал укол в челюсть. Потрогал щеку, щека была мокрая. Его тоже оттащили чьи-то руки. Когда он открыл глаза, то, несмотря на темноту, увидел дядю Янкеля. Дядя сидел рядом с ним на соломе, худой, сутулясь, как всегда. Ага, подумал Тойвеле, я вижу дядю Янкеля. Когда умираешь, видишь свое детство, значит, сейчас я умираю. Знаешь, сказал дядя Янкель, у человека после смерти еще три дня растут волосы и ногти. Человек все слышит, только говорить не может. Я знаю, сказал Тойвеле, ты мне уже рассказывал. Я не живой, но пока еще слышу, и ногти у меня растут. Он слышал голоса и треск, два раза подряд. Добейте его, будет тут до утра стонать. Это говорила хозяйка, может быть, даже про него, про Тойвеле. Пожалуйста, не убивайте меня, я до конца жизни буду вам служить. Это говорил Шмуль. Но такой слуга никому не понадобился – снова раздался треск, и Шмуль замолчал. Уже коченеет. Это сказал Мартин Б. – наверняка про Тойвеле, потому что потрогал его руку. Есть! Голос был незнакомый, возможно, щекастого парня. Видно, он что-то нашел. Наверно, их мешочек с золотом, потому что все вдруг опрометью кинулись в кухню. Ты живой? Это был Шмуль. Нет, шепнул Тойвеле. Он хотел рассказать Шмулю про волосы и ногти, но тот пополз к двери. Тойвеле привстал на колени и пополз за ним. Шмуль свернул к деревьям. Тойвеле казалось, что он все еще следует за ним, но, когда очнулся, понял, что сидит под деревом на опушке леса. Встал и пошел.
8.
В тех краях протекала река Вепш.
Река делила мир на две части – хорошую и плохую. Плохая была справа, и там находилось Пшилесье. Слева от реки были хорошие деревни: Янов, Мхи и Остшица.
В хороших деревнях много кого спасли: Сташека Шмайзнера, портного Давида Беренда, шорника Стефана Акермана, торговцев мясом Хану и Шмуля, торговца зерном Гдаля из Пясков, владелицу ветряка Байлу Шарф и детей мельника Раба – Эстер и Иделе.
Детей мельника спас Стефан Марцынюк.
Двадцатью годами раньше он убежал из большевистской тюрьмы в глубине России; в Польше жил на чердаке еврейской мельницы. Будь у меня мешок муки, сказал, я бы испек хлеб, продал его и выручил пару грошей… Мельник дал ему мешок муки, и Марцынюк испек хлеб. Заработал пару грошей, а спустя несколько лет был уже одним из самых богатых хозяев в округе.
Мельник с женой погибли в гетто, их дочку Эстер отправили в Собибор. Накануне запланированного побега Эстер приснилась мать. Она вошла в барак и встала рядом с нарами. Утром мы убегаем, шепнула ей Эстер, ты про это слыхала? Мать кивнула. Мне страшно, пожаловалась Эстер. Я не знаю, куда идти, наверняка всех убьют… Идем со мной, сказала мать, взяла дочку за руку и повела к двери. Они вышли из барака и прошли через лагерные ворота. Никто не стрелял. Это же только сон, подумала Эстер. Завтра все будет наяву. Завтра будут стрелять и всех убьют… Они с матерью шли по полям и по лесу, пока не дошли до большого крестьянского подворья. Узнаёшь? – спросила мать. Эстер узнала: они стояли перед домом Стефана Марцынюка. Запомни, сказала мать. Сюда ты можешь прийти…
Назавтра они убежали. Через одиннадцать дней Эстер вместе со своим женихом добрались до деревни Янов и остановились перед домом, который она видела во сне.
Был вечер. Они не захотели будить хозяев, прокрались в овин и легли на солому. Вы кто? – услышали в темноте мужской голос, и чьи-то пальцы схватили Эстер за руку. Это я, твоя сестра, сказала Эстер, потому что узнала голос Иделе, своего старшего брата.
Это не мать, это Бог вас прислал, сказал Стефан Марцынюк, когда они рассказали ему про сон. Пока война не кончится, побудете у меня…
Тойвеле тоже попал к хорошим людям в хорошую деревню на левом берегу Вепша. Жил в Мхах у Франтишека Петли. Дядя Петли был лакеем у президента Мосцицкого[50]. В деревне объявили, что Тойвеле (то есть Томек) – родной сын этого лакея. Ребята на пастбище его зауважали, в особенности Кася Туронь, которая была выше всех ростом, потому что пошла в отца-кавалериста. Дети пасли коров. Их любимая игра называлась “Лови еврея”. Считалкой “эне-бене-раба” определяли, кто будет “евреем”, “еврей” убегал, остальные бросались вдогонку. Поймав, задавали вопросы: ты – юде[51]? убил Христа? пиф-паф!
Томека остановили в поле два немца. Он шел со Стефаном Акерманом, шорником, который прятался в Остшице. Один немец слез с велосипеда. Jude? Неподалеку сидели мальчишки с пастбища и Кася Туронь. Пан немец, крикнула Кася, это наш парень. А этот? Акермана Кася не знала. Вы что, пан немец, не знаете, что надо делать? Велите спустить штаны и пиф-паф. Акерман спустил штаны. Немец снял с плеча винтовку и протянул детям. Кто хочет сделать пиф-паф? Дети молчали. А ты? Хочешь сделать пиф-паф? Немец протянул винтовку Касе. Она замотала головой. Второй немец повел Акермана в лес. Послышался выстрел. Немец вернулся, оба сели на велосипеды и уехали. Ночью к Томеку пришел Акерман. Немец дал ему сигарету, выстрелил в воздух и велел убираться.
Утром на лугу Кася сказала: это я виновата, да? Кася была красивая. Может, не такая красивая, как Малка Лернер, зато глаза у нее были голубые. Придешь, Томек, к нам в сушильню? Когда стемнеет. Приходи, почитаешь мне. Томек удивился: я не умею читать в потемках. Сумеешь, сумеешь, сказала Кася. Читать он не смог, поэтому они легли на кучу табака. Табак очень хорошо пах. Кася все еще расстраивалась из-за Акермана, и Томек ее утешал. Потом ему стало не по себе, и Кася его утешала. Потом она вскрикнула: Томек, да ты же еврей! Он вскочил и застегнул штаны. Не бойся, я никому не скажу, торопливо прошептала Кася.
9.
Ромек, сын Франтишека Петли, – сапожник. Живет в Варшаве, в районе Нове-Място. Сидит за старой зингеровской машинкой и шьет голенища для сапог. Блатт и в этот раз его навестил. Выпили по рюмочке, закусили. Повспоминали Мхи, покойного Ромекова отца, евреев, Касю и еще эту, послевоенную, которая в Ташимехах жила, крохотуля, но какие глаза… ну и, конечно, не обошлось без пули в челюсти. Всё хранишь там? – спросил Ромек Петля. Храню, сказал Блатт. А помнишь, как я тебе таскал бинты и мазь? У немца взял. За два яйца. Специальную военную мазь для ран. Всё немец отдал за два яйца. Ромек Петля сложил аккуратной кучкой голенища с пришитыми стельками. Стельки были утепленные. Голенища – некрасивые. Для дешевых сапог, для бедных людей. Ромек Петля сказал, что спрос на них все растет, потому как бедных все больше. А что толку? – голенища только тоску наводят. Ромек Петля снова налил, но тоску это не разогнало. Наоборот. По каким-то причинам тоска прочно засела в обувных деталях – подошвах, стельках и голенищах. А почему, вообще-то, ты эту пулю не убираешь? – спросил Ромек Петля. Кто его знает, задумался Блатт. Я всё теряю. Если вытащу, потеряю, а так она сидит себе в челюсти, и я знаю, что она есть.
10.
Война закончилась. Уцелевшие избицкие евреи собрались в Люблине. Обсуждали: уезжать, не уезжать? Томек уехать не мог, потому что его сапоги остались в овине у Мартина Б. Так и ходил босиком. Война закончилась, а он босой. Дал какому-то мальчишке десять злотых. Пойди в Пшилесье, сказал, зайди в четвертый дом по правой стороне и спроси Мартина Б. Скажи, что Томек ждет сапоги в Малинеце у колодца. Скажи, сапоги Томековы остались в овине.
Он ждал у колодца. Был июль. Жарко. Пришел Мартин Б., тоже босой. В руках держал сапоги, начищенные до блеска. Это были сапоги Шмуля. Мартин Б. молча протянул их Томеку, повернулся и ушел. Томек взял сапоги и пошел. По-прежнему босиком. С сапогами Шмуля Вайцена в руках: правый сапог в правой руке, левый – в левой.
Томек поехал в Люблин. Встретился со Сташеком Шмайзнером, тем самым, которому Печёрский в лесу оставил единственную винтовку.
Отличные у тебя сапоги, сказал Сташек.
Томек рассказал ему про Фредека, Шмуля и Мартина Б.
Сташек остановил советский грузовик с капитаном. Дал капитану пол-литра. Поехали в Пшилесье. Мартина не застали. Молотить пошел, сказала жена. Ты его заменишь, Сташек кивком показал на дочку Мартина Б. Жена охнула. Побежала куда-то и принесла золото в горшке. Возьмите! Девушка уже стояла у стены. Она не виновата, крикнул Томек. А сестры мои были виноваты? – спросил Сташек. А мать была виновата? Жена Мартина Б. бухнулась перед Сташеком на колени. Он поднес к глазам фашистскую винтовку и прицелился в девушку. Томек снизу ударил его по руке. Жена Мартина Б. громко плакала. Дочка Мартина Б. стояла спокойно, прислонясь к стене. Смотрела в небо, будто хотела проследить за полетом пули.
11.
Томас Блатт оставил машину, не доезжая до деревни.
Мы шли по оврагу.
Справа через каждые пару сотен метров стояли дома. Если просить еду, то именно в таких домах, со знанием дела сказал Томас Блатт.
Слева тянулся лес. Если хотите исчезнуть, то именно в таком лесу.
Блатт полагал, что узнаёт деревья, из-за которых они увидели свет у Мартина Б. А также деревья, за которыми скрылся Шмуль Вайцен. Это был очевидный абсурд. Те деревья давным-давно срубили на дрова.
Он стал подсчитывать, сколько было выстрелов. Сначала один, в Фредека. Потом опять один, в него. Потом много – но сколько? четыре? три? Скажем, четыре, тогда всего шесть – два плюс четыре. А если выстрелов было пять? Тогда в общей сложности семь. Одновременно считал дома. Когда мы проходили мимо третьего дома, он заметно разволновался. Ага, повторял, сейчас будет четвертый.
С каждым годом следов убывало. Когда-то еще целы были стены, потом осталась только угловая часть овина (каким-то чудом “их” часть, где был тайник), потом фундамент, потом просто груда балок, досок, камней.
В этом году ничего уже не было. Ничего. Если не считать яблоньки с кривыми ревматическими ветвями. Томас Блатт даже засомневался: уж не ошибся ли он? Ходил, осматривался, по грудь в бурьяне. Вокруг нигде больше не было видно таких зарослей.
Пошли дальше. Увидели крестьянскую усадьбу. Во дворе стояла старая женщина. Я сказала, что собираю материал для книги. А о чем? О жизни. Ответ был весьма неопределенный, однако она пригласила нас в кухню. Оказалось, это родная сестра Зоси Б., жены Мартина. Блатт снова занялся арифметикой. Если она слышала выстрелы, то сколько? Она сразу поняла, о чем он. Сама не слышала, но Крыся Кохувна, которая у них спала, сказала: ночью у дяди Мартина стреляли. Ночью выстрел, пусть и далеко, а хорошо слыхать. Утром во всех домах знали: евреев поубивали. Трое их лежало, но… представляете?.. один воскрес и пошел. Никто не знает, где он.
У вас он, не выдержал Блатт, хотя перед тем, как войти, я попросила его помалкивать. У вас, в вашей кухне. Женщины явно не поверили. Хотите – проверьте. Вот она, пуля, вот здесь. Подходили по очереди: сестра Зоси Б., дочь сестры и невестка. Ой, пуля. Чувствуешь? Я чувствую. И вправду пуля. Обрадовались, бросились готовить бутерброды. Ну и вы живой! Берите, угощайтесь. А много этого золота вы им дали? Ого-го-го. Юзик-то наш в ихнем дворе кольцо нашел с сердечком, большое, на средний палец. Потерял, когда в армии служил. Говорила я ему: не бери, Юзик. А дочка обручальное кольцо потеряла, которое ей оставила на память еврейка из Малинеца. Пришла с ребенком, мы им дали молока, но к себе не взяли – побоялись. Девчушечка большая была, уже говорить умела. Что говорила-то? Мама, не плачь, говорила. Да вы угощайтесь… В Добрах в лесу прятались две еврейки. Люди им пряжу носили, чтоб вязали на спицах, кто-то донес, их забрали в участок, они там повесились. На дороге за поворотом еврейка лежала, красавица. Сперва одетая, потом кто-то взял платье. Народ ходил смотреть, какая красивая. А Мартин как в воду канул, вместе с женой и детьми. В тот самый день, когда из Люблина эти… милицейские… приехали. Лошади ржут, коровы мычат, рожь стоит неубранная, но никто не заходил, боялись; всё одичало. Может, Мартина и в живых давно нет? А может, он на это золото усадьбу купил? Шампиньоны в парниках выращивает? Вы-то его зачем ищете? Смогли бы сейчас убить? Не смог бы, сказал Блатт. Спросить чего хотите? Нет. Так зачем ищете? Чтобы на него посмотреть. Ничего больше не хочу, только посмотреть. Посмотреть? И охота вам?
12.
Еврейка с ребенком. Красивая еврейка. Две еврейки в Добрах. Фредек в овине. Шмуль в лесу… Томас Блатт опять принялся подсчитывать. Все они здесь – обвел рукой круг, – и ни одной могилы. Почему нет еврейских могил? Почему никто не скорбит?
Мы проехали Избицу, Красныстав и Лопенник. Солнце садилось. Все стало еще непригляднее, еще серее. Возможно, из-за душ умерших. Кружат тут, не хотят уходить, потому что никто о них не печалится, никто по ним не плачет. От неоплаканных душ такая серость.
Мужчина и женщина
1. После спектакля
Этой осенью[52] московский воздух был пропитан туманом и серостью. Уже которую неделю не уходил циклон. Бесконечно обсуждалось ТО СОБЫТИЕ: почему так случилось и почему именно с ними. Преобладало мнение, будто Господь покарал Россию за ее грехи. Не исключалось, что Ленин мог быть порождением сатаны. Подчеркивалась роль погоды. Тогдашняя погода была вроде нынешней: господствовал долгий, невыносимый, вгоняющий в депрессию циклон.
В годовщину ТОГО СОБЫТИЯ люди собрались перед зданием ЦК. Молились за душу царя, за Святую Русь, за тех, кто погиб, защищая царя и отечество, а также за тех, кто погиб в лагерях и в Афганистане.
Этой осенью люди всё чаще собирались вместе и молились всё горячей. В церквях происходили удивительные вещи. Певица, которая была секретарем парторганизации большого академического хора, во время богослужения в храме запела таким звучным, чистым и сильным голосом, каким раньше никогда не пела. Уверовав в Бога, она вышла из партии и крестилась. Подобные обращения были нередки. О том, как станут развиваться события дальше, гадали по звездам. Астрологи предсказывали, что зимой до трагедии не дойдет, но весной быть голоду и гражданской войне. Лозоходцы призывали избегать геопатогенных зон, усугубляющих страх и пожирающих энергию. Милиция напоминала гражданам, что, выходя на улицу, не следует надевать драгоценности. Общество “Память”[53] предупреждало евреев: пора убираться из России. Журналистке Алле Г., которая выступила свидетелем в суде над боевиками “Памяти”, ворвавшимися на собрание писателей, сообщили, что дни ее сочтены. “Мы тебя убьем[54], – заверил мужчина, притаившийся в подъезде. Он был молод, опрятно одет, вежлив. – Мы тебя убьем, – повторил он беззлобно. – От нас не уйдешь, не надейся”.
Этой осенью со стен московских домов осыпа́лась штукатурка, срывались балконы, от крыш к фундаменту поползли черные трещины. На Неглинной стену подперли сваей. Свая раскололась, ощетинилась щепками. На Кузнецком мосту один из домов огородили дощатым забором. Кто-то выломал доску, стало видно подвальное окно. Стекол не было. Окно заклеено газетой. В газете дыра. Во дворе дома, напротив Кремля, сушились одеяла. От одного был оторван кусок. Остаток колыхался на ветру, концы торчавших из него длинных спутанных ниток утопали в грязи. На каждой улице в деревянной будке с надписью “Чистка обуви” сидел человек, но обувь у прохожих была грязная. Возможно, потому, что на мостовых стояли лужи (лужи были, хотя дождей не было). Прохожие двигались неторопливо, будто не зная толком, куда идти. Иногда останавливались и через витринное стекло заглядывали в магазин. В центре купить можно было только две вещи: в уличном ларьке – баночку маринованного чеснока, в магазине – электрический дверной звонок. Люди заходили в магазин, разглядывали звонки, проверяли, действуют ли. С минуту прислушивались к резким протяжным звукам, словно раздумывая, не купить ли, а потом выходили на улицу и не спеша продолжали свой путь. Когда-то в застроенном домами XIX века центре Москвы, не лишенном сецессионного изящества, кипела жизнь. Этой осенью обрамление улиц производило впечатление декорации. Театральной, до мелочей продуманной, однако видели вы ее уже постфактум. После того, как погасили свет. После спектакля.
2. Он
Вдали от московского центра, у подножья лесистых Воробьевых гор, при царице Екатерине II для одного из ее фаворитов был построен летний дворец. После революции в нем разместили Институт химической физики, а во флигелях для прислуги поселились научные работники. Желтые стены, белые дорические колонны и обширный парк прекрасно сохранились. Не будь на двери объявления, гласившего, что к празднику Великой Октябрьской cоциалистической революции будут выдавать талоны на промтовары, усадьбу можно было бы принять за музей-заповедник XIX или даже XVIII века, олицетворение российскости, по которой этой осенью все сильно тосковали.
Проживавшая в доме с колоннами Сарра Соломоновна П., кандидат химических наук, по случаю праздника получила талон на пальто. Доцент, что жил на первом этаже, получил талон на утюг. Брат Сарры, профессор Лев Соломонович П., ничего не получил, потому что в его институте талонов на промтовары не выдавали. Правда, разыгрывали мясные консервы – на двадцать ученых приходилась одна банка, – но профессору консервов не досталось.
Сарра и Лев родом из Астрахани. Их дедушка был очень набожным, у него была длинная борода, он носил талес[55] и каждый день ходил в синагогу. Их дядья – люди прогрессивные – издавали меньшевистскую газету. Их не менее прогрессивный отец работал инженером в нефтяном флоте. Лев Соломонович П. окончил Ленинградский университет; его научным руководителем был академик Алексей Крылов, великий математик и кораблестроитель. Когда в 1937 году Льва Соломоновича арестовали (один из его коллег прилюдно назвал орган ЦК “Вопросы философии” говном, а Лев Соломонович – так значится в обвинительном заключении – с этой точкой зрения “молча солидаризовался”), Крылов направил Молотову длинное письмо, в котором характеризовал Льва Соломоновича П. как исключительно талантливого человека, мгновенно схватывающего суть сложнейших проблем. “Работая рядом, он заинтересовался морской историей – наиболее любопытным ее периодом <…>, когда Трафальгарским сражением больше чем на сто лет было упрочено морское могущество Англии, – писал в 1937 году академик. – Он поразил меня своей способностью быстро улавливать самое существенное в содержании такого обширного сочинения, как, например, двухтомное жизнеописание Нельсона”. “Если ваш ассистент окажется невиновен, – написал в ответ Молотов, – через неделю вы с ним будете пить чай с ромом у вас в кабинете”.
Лев Соломонович П. выпил чаю с ромом спустя восемнадцать лет пять месяцев и одиннадцать дней. За это время он побывал в двенадцати тюрьмах, трех лагерях и пережил две ссылки.
Один молодой физик спросил у Льва Соломоновича про эти восемнадцать лет. “Начнем с выводов, – предложил Л. С. – С основных аксиом, с которыми оттуда возвращаются”.
Они беседовали в институте, где работал Лев Соломонович. Покончив со своими повседневными экспериментами по исследованию плазмы и описав их, Л. С. перечислил молодому физику основные аксиомы.
Аксиома первая. Мясо ворон в пищу годится, а галок – нет.
Аксиома вторая. От клещей нет пользы, а от вшей есть. Вши кладут на жестянку над консервной банкой с кипятком – если в вытопившийся жир опустить фитилек, получается светильник.
Аксиома третья. Умение добывать пропитание, конечно, важно, но не менее важна работа кишечника. Особенно когда на то, чтобы оправиться, дается пять минут.
Аксиома четвертая. Нельзя схлестываться с уголовниками.
Аксиома пятая. Шаг вправо, шаг влево – побег. Оружие будет применено без предупреждения.
Аксиома шестая. Не думай, что ты так уж нужен миру. А то еще поверишь, что тебе все дозволено. Что можно даже отобрать у товарища кусок хлеба. Лучше думай, что мир прекрасно может без тебя обойтись, да и ты обойдешься без мира.
И, наконец, седьмая аксиома. Если уж ты уперся, что намерен выдержать, то ради того лишь, чтобы жить. Ни с какой иной целью. Вроде бы, – продолжал Лев Соломонович, – были и такие, которые держались, чтобы потом все описать. Я о них слышал, но сам не встречал. Что касается меня – я хотел жить, только и всего.
Лев Соломонович иногда вспоминал себя тогдашнего. “Незнакомый малый, – удивлялся он. – Я его не знаю, никогда не встречались”. Рассказывал о нем со спокойным интересом. Будто наблюдал и описывал плазму – ионизированный газ, нагретый до очень высокой температуры.
Уголовники имели обыкновение играть в карты на вещи, принадлежащие политзаключенным, – присланную из дома посылку, рубашку – или на голову. Голову отрубал проигравший. Он же выносил ее за проволочное ограждение зоны – только тогда карточный долг считался полностью выплаченным. Однажды уголовники сыграли на голову одного из своих, которого все ненавидели; фамилия его была Фаворский. Наутро голову Фаворского нашли за колючей проволокой, а туловище – в выгребной яме. Вытащил туловище из ямы – по распоряжению начальника лагпункта – Лев Соломонович П. Это был хороший день, потому что после выполнения задания Льва Соломоновича уже не послали на работу в лес. Он лег на нары, съел завтрашнюю порцию сахара и был счастлив.
Лев Соломонович заболел воспалением легких. От болезни он очень ослабел и для общих работ не годился. Его спас врач: поручил хоронить тех, кто умирал в больничном бараке. Работа была легкая, потому что яму копали другие заключенные. Труп надлежало вывезти, положить в яму и засыпать землей. Тела Лев Соломонович возил на санях; в яму старался укладывать так, чтобы земля не попадала на лицо. Земля, перемешанная со снегом, в тайге и тундре весной превращается в грязную жижу. У покойников не было ни одежды, ни фамилий. Имелись только бирки с номерами. Лев Соломонович знал, что существуют разные погребальные обряды, но, какие именно, не знал. Произносить речь – смешно. Молитва была бы фальшью, потому что в Бога он не верил. И тогда он придумал свой обряд: несколько раз обходил могилу, как крыльями взмахивая руками. Наверно, похож был на птицу. Думал: пусть улетят куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда. Потом пел. Охотнее всего песни, которые ему нравились, например, старые романсы:
Черную розу, эмблему печали, При встрече последней тебе я принес, Оба вздыхали мы, оба молчали, Хотелось мне плакать, но не было слез.Сев в пустые сани, Лев Соломонович разворачивал лошадь. Но на обратном пути все-таки мысленно произносил прощальные слова, всегда одни и те же: “Вы ушли. Что ж. Но мы еще за вас рассчитаемся”. С кем надо рассчитаться, кто это будет делать и как, он понятия не имел. Когда возвращался в барак, его уже ждали новые мертвецы. Он клал руку на голое холодное плечо, говорил: “Ну, брат, подожди, я не прощаюсь”, – и ложился на нары, рядом с уголовниками, самозабвенно режущимися в карты.
Однажды Лев Соломонович П. взбунтовался – отказался копать торф. “В правилах сказано, что ссыльный обязан вести общественно полезную работу, – объяснял он судье, – поэтому ему как ученому-физику должны дать более ответственное задание”. Судья, цветущая статная женщина, вскормленная сибирскими морожеными пельменями, велела ему самому найти полезную работу. Он нашел – на острове, на Ангаре. Там был маленький аэродром для гидропланов. Лев Соломонович стал механиком, заправлял самолеты топливом. Прилетевший на остров генерал НКВД приказал перевести его на более полезную работу – в геологическую экспедицию, искавшую железную руду. Лев Соломонович уже отсидел свой срок в лагере, но был на поселении. Это означало, что он не имел права никуда уезжать, каждые десять дней должен был отмечаться в НКВД, где ему на зеленом листочке ставили печать. Однако ходил туда один – без собак сопровождения и без конвоира, – поэтому был счастлив. Итак, он оказался в экспедиции. Там было тридцать мужчин, из них семеро – профессиональные убийцы. Через несколько месяцев приехали женщины. Десять женщин. Восемь колхозниц (их называли “колосками”, потому что сидели они за колоски, которые подобрали на колхозном поле после жатвы), одна проститутка – как позже выяснилось, больная сифилисом, – и одна ПШ (подозреваемая в шпионаже). ПШ была полька. Звали ее Анна, ей было двадцать два года, у нее были красивые ноги и глаза необычайного цвета – голубовато-зеленые.
3. Она
Бабушка Анны Р. работала у графа. Родила дочку, которую граф не признал и которую быстро выдали замуж за человека намного ее старше, вспыльчивого и с больными ногами. У внебрачной графской дочери и ее немолодого хромого мужа родились три сына и дочь Анна.
Жили они в деревне Размерки. Костел и староство[56] были в Косове-Полесском. В костел ходили только Анна с матерью (мать в красивой блузке с буфами и пуговичками на манжетах до самого локтя) – у отца болели ноги, а братья были коммунистами. Старший, Антоний, уехал учиться аж в Москву. Среднего, Станислава, разыскивала полиция. Младший, Юзеф, сидел в тюрьме. Мать не выдержала и умерла от разрыва сердца. В доме остались Анна с отцом. Отец мастерил ушаты и лохани, а Анна подавала ему деревянные клёпки и железные обручи или пряла и ткала лен. Через год отец нашел себе полюбовницу. Привозил из Косо́ва красивые отрезы на платье и шоколадные конфеты с начинкой и вместе с подарками исчезал на целые дни. Когда Анне было десять лет, пришло письмо от Антония. Он писал, чтобы сестра съездила в староство, выправила себе паспорт и перебралась в Москву. В Размерках ничего хорошего ее не ждет, а в Москве она будет учиться и станет человеком. В следующем письме Антоний прислал билет и подробную инструкцию. Сестре было велено доехать до пограничной станции и сидеть на перроне – брат сам ее отыщет. К письму прилагалась фотография и лоскуток. С фотографии Анне улыбался красивый мужчина, которого она не помнила. Материя темно-бежевая или, скорее, коричневатая, в елочку. Улыбающийся мужчина был ее брат; в костюме из ткани в елочку он ее отыщет на пограничной станции.
Она ждала несколько часов. На коленях держала узел с пуховой подушкой и льняным полотном, ею самой сотканным.
Люди на станции удивлялись:
– Одна едешь? В Москву?
– Я там буду учиться, – отвечала Анна, – и стану человеком.
Когда появился мужчина в темно-бежевом в елочку костюме, Анна задала ему несколько контрольных вопросов: как зовут братьев? на какую ногу хромает отец? откуда упала бабушка перед смертью?
– С печи, – ответил мужчина, и только тогда она поверила, что это Антоний.
Брат знал разные иностранные языки, и у него было много книг. Он записал Анну в польскую школу. Вместе им жилось очень хорошо, но брат познакомился с Валей, стал дарить ей чудесные подарки и в конце концов на ней женился.
Анна пошла работать на карбюраторный завод. В 1937 году Антония арестовали. Анне сообщили, что ее брат – враг народа, а она на комсомольском собрании хвалила режим Пилсудского. Приговор: подозрение в шпионаже, десять лет без права переписки, дальние лагеря.
Когда рельсы закончились, дальше шли пешком по снегу, все время на север. Кто-то углядел на снегу дощечку с надписью. Надпись была выцарапана гвоздем – два слова польскими буквами: Antoni R… Анна Р. вспомнила, что брат, подписываясь, ставил такую же закорючку, спрятала дощечку под ватник и пошла дальше.
Пять лет она рубила, пилила и укладывала дрова в поленницы. На шестой год ее как расконвоированную, без охраны и собак, отправили к геологам, которые искали железо.
4. Спасибо, сердце
Бригадир геологов, Лев Соломонович П., был ростом невелик, но мужчина культурный. Книжек прочитал еще больше, чем Антоний. Грубых слов не употреблял. Декламировал стихи. Пытался учить ее английскому, но языки у нее в голове не укладывались. Как и стихи, тем более что он читал ей одни только трудные. Никогда не называл ее уменьшительным именем. Всегда Анной, как Вронский и Каренин. Ей нравилось, когда он своими словами пересказывал разные романы, но больше всего она любила песни из кинофильмов: Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Через год Анна Р. родила дочь. В детский дом девочку не забрали, потому что жена начальника тоже родила, а молока у нее не было. Анне дополнительно выдавали коровье молоко, и ей хватало своего кормить двоих – дочку и ребенка начальника НКВД. От ежедневных посещений дома начальника вышла немалая польза, потому что там были папиросы, которых никто в бригаде давно не видел, и был пес, большой и жирный. В геологической экспедиции у многих были слабые легкие, а от легочных болезней нет лучше лекарства, чем собачий жир. Анна завела пса в лес, его убили, вытопили жир, и людям стало чем лечиться.
Когда Анну вызвали к начальству и сказали: “Собирайтесь”, – она испугалась. Подумала, дадут новый срок, за собаку и папиросы, но оказалось, что поедет она без сопровождения. Ей дали хлеб, а еще бумагу: “Анна Р., приговорена по статье… отбывала наказание в течение девяти лет, направляется в Москву, просим оказывать в дороге содействие, май 1946”. Она попрощалась с Львом Соломоновичем П., взяла дочку за руку, и в Ухте они сели в товарняк.
В Москве было жарко. В ватниках и валенках, они вошли в польское посольство. Показали бумагу дежурному. Тот куда-то побежал и вернулся с другим мужчиной.
– Товарищ Анна Р.? – во весь рот заулыбался мужчина. – Наконец-то, товарищ министр уже звонил, спрашивал…
– Кто?
– Станислав Р. Это разве не ваш брат?
– Брат.
– Вот именно, – обрадовался мужчина. – Милости прошу.
Они очутились среди ковров, картин и красивой мебели. Их покормили, дали платья. Они легли спать. Когда Анна проснулась, было светло. Она испугалась: Господи, светло, а она не в лесу. Вскочила. Не смогла найти топор, отломала ножку стула… принялась рубить… Услышала дочкин плач. “Тихо, – закричала, – у меня норма…” Ей запомнились белые халаты, укол, дежурный, который складывал ее “норму” неаккуратной кучкой. “Не так!” – опять закричала. Хотела объяснить, что укладывать полагается в поленницу, но ее потянуло в сон.
Министр общественной безопасности Станислав Р. встречал сестру в варшавском аэропорту Окенче. Она его не узнала.
– Жаль, что не прислал лоскуток, – пошутила и сразу начала рассказывать про Антония, но брат ее прервал:
– Никому об этом не говори. Даже мне. – Дома повторил с нажимом: – Запомни на всю жизнь. Ни слова.
Брат поселил ее в особняке под Варшавой. Особняк был шикарный, и она перебралась в домик сторожа. Охотнее всего она рубила дрова, но в дом провели центральное отопление, и рубить стало незачем. Знакомый из Косова-Полесского рассказал, что Юзефа, младшего из ее братьев, русские застрелили в тридцать девятом, потому что он не захотел отдать им свой велосипед. Антония найти не удалось. И Льва Соломоновича П. освободить досрочно не удалось. Анна пыталась говорить об этом со Станиславом, но он ее не слушал. Даже про дощечку не удалось рассказать. (Про дощечку с надписью Antoni R… которая потерялась где-то в тайге.)
В пятьдесят пятом Анну послали в Москву – заниматься репатриацией поляков. Она зашла к Сарре.
– Брат вернулся, – сказала Сарра.
– Аня, – сказал Лев Соломонович П. – Я вернулся не один. Думаю, вам надо познакомиться.
Анну кольнуло, что он назвал ее уменьшительным именем.
– Познакомиться? – удивилась она. Нет, зачем…
В ссылке он женился. Жена была вольнонаемная, то есть имела нормальную работу, жилье, паспорт и свободу передвижения. Брак с вольнонаемной был огромным благом для ссыльного. Это означало, что у него будет настоящий дом, настоящая еда, настоящая женщина в настоящей кровати…
– У тебя есть дочь, – сказала Анна. – Я понимаю, ты этой женщине многим обязан, но у нас с тобой дочь.
И тут выяснилось, что с вольнонаемной у Льва Соломоновича П. двое детей.
В Москве начался ХХ съезд. Все только и говорили о преступлениях, лагерях и докладе Хрущева, но Анну Р. преступления не интересовали. Известие о том, что Валя, жена Антония, после его ареста развлекалась с дружками-энкавэдэшниками – их смех и пение слышал весь дом, – тоже оставило ее равнодушной. Анну Р. занимала одна-единственная мысль: вернется ли Лев Соломонович к ней или останется с вольнонаемной? Когда стало ясно, что Лев Соломонович к ней не вернется, Анна Р. взяла дочку за руку…
В аэропорту их встретил Станислав Р. Он уже не был министром. В машине сказал:
– Обо мне пишут в газетах… Пишут о преступлениях, но я ничего не знал.
Анна не стала ему напоминать ни про их разговоры, ни про Антония и даже про дощечку с нацарапанной гвоздем надписью. Она думала про то, что уже не надо ждать Льва Соломоновича и, вообще-то, так лучше.
5. Камень
Этой осенью Лев Соломонович П. по-прежнему занимается плазмой. Много лет назад он разработал свои методы исследования, каких никто до него не применял, поэтому его не раз приглашали председательствовать на разных симпозиумах – то в Париж, то в Амстердам… Этой осенью Льву Соломоновичу исполнилось восемьдесят два года и он впервые поехал за границу. Ему понравился финский лес. “Это был первый лес, который не вызвал у меня агрессии”, – сказал он сестре. Сестру Лев Соломонович навещает ежедневно. После работы с плазмой идет на дачу царицыного фаворита на Воробьевых горах, в дом для прислуги, разделенный на десятки тесных неудобных квартир, садится за стол под шелковым абажуром, уцелевшим в блокадном Ленинграде. По каким-то причинам он предпочитает пить чай у сестры, а не со своей женой, бывшей вольнонаемной. Маленькая сгорбленная женщина с жидким старомодным пучком на затылке и большими голубыми глазами ставит перед ним чашку и спрашивает: “Есть хочешь?” После чего приносит ломтик черствого батона с сыром и начинает рассказывать о последнем камерном концерте в консерватории. Лев Соломонович рассказывает о плазме. Он не огорчился, что ему опять не досталось мясных консервов. Его не тревожат предсказания астрологов. Он не боится ни морозов, ни голода. А боится он, что в современной лагерной литературе укоренится образ униженности и страха, хотя в лагерях были и люди огромного мужества и силы. Он хотел сказать об этом на Лубянке. Этой осенью там установили камень – в память жертв тоталитарного режима. Он хотел сказать, что это должен быть памятник и жертвам, и борцам, – и подошел к трибуне.
– Вы в списке выступающих? – спросил его один из организаторов митинга, созванного московскими демократами.
– Нет, – ответил Лев Соломонович.
– Значит, выступать не будете.
– Почему?
– Потому что вас нет в списке, – сказал демократ и попросил Льва Соломоновича П. отойти от трибуны.
Танец на чужой свадьбе
Приземляемся в Рио. Дотошный медлительный чиновник страницу за страницей фотографирует наши паспорта. Веет теплый приятный ветерок. Листья на пальмах слегка колышутся. Небо над пальмами безоблачное, голубое-голубое.
Со скамейки поднимается сгорбленная женщина. Крашеная блондинка; опирается на два костыля. Присматривается. Оценивает, кого же она к себе пригласила. Меня пригласила. Пронзительные глаза прячутся среди морщин, блестят мелкие зубы с пятнами яркой помады. Женщина улыбается. Это бы могло быть признаком доверия, но улыбается она словам, которые собирается произнести.
– Ну? – говорит женщина. – И как вам нравится, что Ципа Городецкая из Янова под Пинском встречает вас в Рио-де-Жанейро?
Машину ведет Лилиана, подруга Ципы, – полная ее противоположность, высокая и энергичная.
– Она одевает жен здешних президентов компаний, землевладельцев и торговцев оружием, – сообщает Ципа. – Ее сын участвовал в герилье, городской партизанской войне…
Я задумываюсь над фразой: “и как вам нравится, что…”. Имела бы она смысл на любом другом, кроме польского, языке?
Well, how do you like that Cypa Gorodecka from Janо́w near Pińsk is waiting for you…
Janо́w near Pińsk…
Курам на смех.
Alors, comment ça vous plaît que Cypa Gorodecka de Janо́w près de Pińsk …
Еще смешнее.
Значит, на другом языке не скажешь. Значит, кое-что можно выразить только по-польски.
– Скажешь, – говорит Ципа. – Nu? Wi gefelt es ajch, az Cypkie Gorodeckie fun Janо́w baj Pińsk…
Nu Cypkie… кажется, я сейчас расплачусь от волнения.
– A vontade, – говорит Ципа, на этот раз по-португальски. – Да вы не волнуйтесь.
Мы живем в центре Рио, на Ларго-до-Мачадо.
Окна выходят на довольно большую площадь.
Первые звуки пробиваются сквозь голубоватую серость, но это еще не рассвет. Температура двадцать градусов. Бездомным в их пластиковых гнездах не спится. Они высовываются из-под обвязанной веревкой черной полиэтиленовой пленки и расставляют консервные банки. Прямо на тротуаре банка с огнем. На ней – банка с кофе. Пленка, веревка, банки и деревяшки (топливо) принесены из супермаркета или со свалки.
С рассветом бездомные усаживаются за бетонные столы. Вместе с безработными и пенсионерами расставляют шашки, раскладывают карты. Бетонные столы и скамьи сооружены специально для них стараниями работников службы социальной помощи.
Появляются первые уличные торговцы; почти у всех специальные сумочки, которые невозможно вырвать из рук. Их вешают под рубашку и засовывают в штанину, где эти сумочки болтаются, или их пристегивают карабином к поясу.
Звонят колокола церкви Nossa Senhora da Gloria[57]. Приходит фотограф в неизменной белой рубашке с галстуком, занимает место посреди площади, крепит к штативу аппарат, накрывает его черной тканью. Мальчик на нашей стороне достает из футляра скрипку. Слепой певец – напротив – устанавливает шарманку. На перекрестке женщины зажигают свечи и приносят духам первые жертвы: мясо белых и черных кур.
Около одиннадцати уже больше тридцати градусов. Бездомные с площади перебираются на пляж. Плещутся в океане, громко смеясь, перекликаются, примащиваются на горячем песке. Они никуда не торопятся. Кроме бетонного стола и пластикового гнезда их ничего не ждет.
(Раскаленное солнце, синева моря и золотой песок. Болезненная красота пляжа в Рио. На ум приходит распаленная куртизанка, терзаемая неизлечимой лихорадкой.)
Время от времени видишь у стен домов горы мусора. Опять забастовка. Внезапные порывы ветра взметают мусор в воздух. Над ним кружат большие черные птицы.
В уик-энд площадь заполняется беженцами с севера, где засуха и голод. Они пекут на углях лепешки из маниока. Играют в карты. Целуются. Поют религиозные гимны. Бродячие проповедники мелодичными монотонными голосами обещают им вечное спасение.
Площадь пустеет поздно ночью.
Остается тошнотворная сладковатая вонь. Смесь мочи, немытых тел и гниющих плодов манго. Ципа говорит, что это запах бразильской нищеты.
Левые собираются и говорят о борьбе с нищетой. Нельзя жить в Бразилии и не говорить о нищете. Ципа Г. получила приглашение на очередную лекцию. Лектор доказывал, что Бразилии нужен социализм – справедливый общественный строй. Вопросы есть? Ципа попросила слово.
– Я была неплохо знакома с идеей социализма, – начала она. Говорила горячо, убедительно. Председательствующий пытался ее прервать, но она сообщила присутствующим, что пережила Холокост и что строила в Польше коммунизм. После такого вступления им пришлось ее выслушать.
– Я знала смелых и благородных коммунистов. Придя к власти, они стали пользоваться ее привилегиями, а страну довели до разрухи. Какие добродетели уберегут вас от подобного падения? – обратилась Ципа к сидящим в зале. – Какие таланты позволят создать то, что не удалось создать ни в Китае, ни на Кубе, ни в Восточной Европе?
Председательствующий счел вопросы риторическими.
Левые перестали приглашать Ципу Г. на свои собрания.
Ципа не намерена умирать. Во всяком случае, раньше Фиделя.
Когда Фидель Кастро пришел к власти, Ципа расплакалась. Наша революция стоит у ворот Соединенных Штатов, говорила она сквозь слезы. Это были слезы счастья. Наша революция вот-вот охватит весь мир.
Недавно Ципа выразила надежду, что кто-нибудь повесит Фиделя Кастро. Либо ему самому хватит ума покончить с собой.
Словом, Фиделя надо повесить, чтобы отомстить – и за его преступления, и за Ципину наивность. Уж не знаю, благородно ли это намерение…
Ципа и Адам, ее муж, уехали из Польши в шестьдесят восьмом году[58].
Через девять лет после победы Фиделя Кастро. Того самого, благодаря которому их революция приблизилась к воротам Соединенных Штатов.
Мы жили на Ларго, но в атмосфере польских снежных зим и золотых осеней. Снимали с полок польские книжки. Спали на польских простынях.
Каждый еврей мог взять с собой постельное белье, две пуховые подушки, большую и маленькую, а также ватное одеяло.
Ткацкие мастерские специально для евреев изготавливали ткань для наперников, тонкую, но плотную.
Швейные мастерские шили постельное белье.
Художники рисовали евреям ностальгические пейзажи.
Столярные мастерские сколачивали большие ящики.
Появились специалисты по упаковке в большие ящики.
Позвонила Генюся Р.: хватает ли им на пух? Они были знакомы с довоенных времен. Генюся держала кондитерскую; кроме того у нее был еврейский муж. Муж пережил войну, уехал в Штаты и не вернулся. Генюся поселилась в Закопане, в деревянном домишке. Из окон виден был Гевонт[59], но Генюся редко на него смотрела. Она поднимала спущенные петли на чулках. В воскресенье утром, ночным поездом, приезжала в Варшаву, вручала Ципе то, что зарабатывала за неделю, и вечером возвращалась домой. Ципа говорила: перестань, не мучайся, – но в следующее воскресенье Генюся опять приезжала с выручкой.
Хелена Турчинская сказала: постельное белье лучше постирать, чтоб не выглядело новым. После восстания[60] они жили у нее в Брвинове, в доме, построенном из материалов, которые были куплены у пана Вайсблата. Когда началась война, пани Вайсблатова сказала: не хочу идти в гетто, – и тогда Хелена Турчинская спрятала троих Вайсблатов – бабушку с внуками. Хелену перед войной вылечил от тяжелой болезни еврейский врач. Она пошла за ним, в гетто врача уже не было, она вывела других. Увидела на улице беспомощное перепуганное семейство… их тоже спрятала. Правда, не обошлось без неприятностей: квартирантка на нее донесла, но все закончилось благополучно. Евреи успели скрыться в тайнике, а квартирантка влюбилась в прятавшегося там же пана Цукера, вдовца с симпатичной дочуркой. Зачем уезжать, всхлипывала, гладя постельное белье, Хелена Турчинская. Это должно закончиться. ЭТО никогда не закончится, заметила Ципа. Тайник всегда в вашем распоряжении, напомнила Хелена Турчинская.
Ящик с вещами отвезли на таможню. Она находилась вблизи железнодорожной ветки, когда-то соединявшей Гданьский вокзал и Умшлагплац[61]. Таможенники вынимали вещи, Ципа укладывала обратно. Ципин муж, профессор Адам Д., сидел в сторонке, углубившись в чтение статьи своего аспиранта. Темой работы была выживаемость в почве патогенного гриба atrum.
Их провожало много народу. Ассистенты профессора, у которого Адам учился и который прислал ему в гетто кеннкарту[62]. Хелена Турчинская с семьей. Генюся Р. Товарищи по партии. Товарки по партии. Дипломники. Аспиранты. С нами прощалась вся прежняя жизнь, сказала Ципа и – слишком резко – подняла вагонное окно.
В Вене они опять оказались у ворот Соединенных Штатов. В американском консульстве. С заявлением на получение визы.
– Вы были членами партии? – спросил консул. – Вынужденно… – с пониманием улыбнулся он. – Иначе вас не взяли бы на работу…
– Мы были членами партии, потому что верили в коммунизм, – сообщила американскому консулу Ципа Г.
Консул сообщил, что визы они не получат.
Они приехали в Рио.
Жара – сорок градусов по Цельсию. Две тетушки, старые девы, обе увечные, украшающие ручной вышивкой изысканное дамское белье. Стаи огромных коричневых тараканов, которые умеют летать. Они поразили даже профессора Д. Их латинское название – он довольно долго об этом размышлял – звучало зловеще. Periplaneta americana.
Вся прежняя жизнь… говорила Ципа, вспоминая прощание на вокзале. Вся жизнь? Без Янова под Пинском? Без Белянской улицы? Без дома 8а на Длугой?
Ципа не помнит Янова. Помнит только нищету и стоящих мужчин. У них не было работы. Исхудалые, хмурые, они стояли, прислонившись спиной к дверному косяку, к стене, дереву, забору. Молчали или изредка обменивались пустячными словами. Годами так стояли… А еще Ципа помнит социальную несправедливость: ее дядья по отцу, Городецкие, были богатые, а сыновьям маминого брата Аврама Шии бывало нечего есть. (С несправедливостью и нищетой надлежало бороться.)
Ну хорошо, но на рыночной площади был колодец.
Почему Ципа не помнит, как звякала цепь в колодце?
И не помнит призыва шамеса[63]: евреи, на молитву?
И свадьбы, которую спас Шломо Моше? Жених и невеста уже стояли под хупой[64], когда родители жениха подняли крик: “Где приданое? Мы не получили приданого!” Невеста в слезы. Родители стоят на своем. Уже казалось, не бывать свадьбе, но тут Шломо Моше велел гостям скинуться. Пообещал вернуть деньги, даже продал несколько гусей из тех, что разводила жена, но все равно война застала его с неоплаченными долгами.
А мадам Адлер, проститутка? Уехала из Янова и в Нью-Йорке открыла шикарный публичный дом.
А Шамек, ее брат? Впоследствии американский гангстер?
А Йойне Кравец, подмастерье каменщика, который упал с лесов? “Все из-за того, что не изучаешь Тору”, – сказал с упреком Шломо Моше, навестивший Кравеца в больнице.
Про Янов я кое-что нашла в Книге памяти, потому что Ципа, повторяю, ничего не помнит. Кроме социальной несправедливости. Зато Адам помнит все. Ципа завидует, что у него такая память. Я не удивляюсь. Каждому бы хотелось помнить Белянскую, Длугую[65]…
Белянская улица. По правой стороне была кондитерская, которую держала Генюся Р. Этажом выше давали напрокат конспекты книг из школьной программы в исполнении пана Цукерханделя. Во дворе находился театр, у его владельца, пана Цельмахера, были еще магазины готового мужского платья. По левой стороне улицы сапожник Марек шил офицерам сапоги, а прямо за сапожником, на седьмом этаже, шили галстуки Гутгиссеры – дед, дядя и отец Адама. В рубашках с закатанными рукавами, все трое – лысые и в пенсне – стояли с мелом и ножницами над рулонами тканей. “Весь шик зависит от того, что́ у тебя под воротником”, – поучал сыновей дедушка Лейб. Несмотря на этот шик, мастерская разорилась. Отец поступил на службу. Дядя надел темный костюм, повязал самый роскошный галстук фирмы “Братья Гутгиссер” и выпил уксусной эссенции. Его жизнь была застрахована. Жена получила приличную компенсацию. Старший сын проиграл ее в карты.
Жили они на Длугой, в доме 8а; дом принадлежал пану Зиберту, элегантному хасиду, который свои халаты шил у лучших портных. Продукты покупали у Ружи Фридман на Мосто́вой. Хлеб – на улице Кшиве Коло у Цильки Гольдман. Пятничную халу – у Каханов на Налевках. Мацу – напротив, у Крипеля. Свидетельство о бедности, необходимое для получения школьной стипендии, им устраивал носильщик Шмуль, а за украденным с чердака бельем обращались к бородатому еврею с Валовой улицы. Поначалу мать ходила в полицию, но участковый говорил: “Хотите подать заявление или получить белье? Если вам нужно белье, пойдите в закусочную на Валовой. В подсобке сидит бородатый еврей…” – “Длугая, восемь? – уточнял бородатый еврей, который сидел в закусочной на Валовой. – Так оно у меня…” – и назавтра они обнаруживали под дверью украденное белье.
Словом, Адам помнит все.
Каждому бы хотелось помнить прикрытые белой крахмальной салфеткой корзинки с мацой, которые приносил мальчик от Крипеля, круглые буханки от Цильки Гольдман… Когда у нее пекли хлеб, запах долетал аж на Длугую.
Каждому бы хотелось помнить теплый душистый ситник от Цильки Гольдман.
Адам мечтал о медицине, но лимит для евреев[66] был уже исчерпан. Он закончил биологический. Прошел альтернативную военную службу на стадионе “Легия”[67]. Утром грузил на тачку песок и перевозил с одного места на другое, после обеда нагружал песком тачки и отвозил на прежнее место. Песок он возил с еврейскими однокашниками, польские поступили в военное училище. Перед самой войной защитил диссертацию под руководством профессора Бассалика и женился на Рае Минц. Рая была высокая и худощавая, но горевала из-за слишком широких бедер. У нее были большие глаза и неважная кожа, из-за чего она тоже расстраивалась. На Умшлагплац пошла с Милой улицы в сентябре 1942 года, в тот день был праздник Рош Ашана – Новый год. Акция уже завершалась. Рая с Адамом все время с начала акции держались за руки, не отдаляясь друг от друга больше чем на два шага. Один раз он без нее ступил на мостовую, кого-то о чем-то спросил и сделал третий шаг. В этот самый момент людей с мостовой погнали в гетто, а людей с тротуара – на Умшлагплац. Вместе с Раей забрали его отца, дядьев с материнской и отцовской стороны и их семьи. Адам записал имена и фамилии. У кого сколько было детей, он помнил не очень точно. Получилось пятьдесят человек, на Пасху в одной квартире все не помещались, приходилось на следующий день вторично устраивать ужин у отцовского брата, Юзефа Гутгиссера. Адам позвонил профессору Бассалику. Сказал: всех забрали. Профессор прислал ему кеннкарту. С тех пор он стал Адамом Дроздовичем. Носит эту фамилию по сей день.
На арийской стороне он встретил Ципу, Раину однокурсницу. Сказал ей, что Раю забрали, потому что он сделал три шага. Если бы не сделал третьего шага. Если бы о чем-то не спросил. Если бы не ступил на мостовую. Или если бы ступил, но вместе с Раей. Ципа перебила его. Она ищет жилье для своих родных, которые еще живы. Их четверо, у них еврейские лица. Гойское лицо из всей семьи у нее одной. Сестра – писаная красавица, на черные кудри ей всегда повязывали яркий бант, а Ципе с ее прямыми светлыми волосами никакого банта повязывать не стоило. И вот теперь от нее, которой не стоило повязывать бант, зависит участь ее красавицы сестры, ее матери, ее брата… Адам сказал, что и у него лицо неплохое, только уже никому не нужное. Она пригляделась. У него были голубые глаза и короткий нос. Отличное лицо, не хуже, чем у нее…
Первым Ципиным парнем был Зигмунт, студент ветеринарного отделения. У нее с тех времен сохранилась университетская зачетка с фотографией: красивая блондинка с сияющим взглядом. Над фотографией квадратный штампик: “Место на нечетных скамейках”. Это означало, что Ципино место – в скамеечном гетто[68], среди студентов-евреев.
Вначале она считала, что все еврейские проблемы разрешит сионизм. Потом пришла к заключению, что такое решение будет лишь частичным – ограниченным небольшими масштабами одного народа. Действовать следовало с глобальным размахом, лучше всего путем мировой революции. Поняв это, Ципа отправилась на собрание коммунистов. С порога обратила внимание на высокого брюнета с красивыми глазами. Дискуссия о методах революционной борьбы еще не закончилась, когда она небрежно спросила: ты остаешься? Я бы пошла погулять.
Зигмунт, высокий брюнет, погиб в варшавском гетто.
Вторым был Юзек, которого Ципа бросила, потому что он говорил только о торговле долларами. Юзек пришел в отчаяние, наглотался снотворного, кто-то, к сожалению, его спас. К сожалению, потому что лучше бы ему было умереть от любви, чем в Треблинке[69].
Третьим был Адам. (Ципа частенько говорила: мы – пара попутчиков. Попутчик – это человек, с которым идешь в одну сторону. Она не была уверена, что для этого необходима любовь. Все пятьдесят лет повторяла: “Попутчик, не больше того”. Последнее время ее ни свет ни заря будит страшная мысль: он может умереть. С кем она тогда пройдет последний – самый трудный – отрезок пути?)
Они стали жить вместе. Без труда нашли жилье для Ципиной семьи. Превосходное, с удобным тайником. Тайник устроил дворник Мариан Ронга. У него были маленькие блестящие глазки, на лице следы от оспы, шрам на щеке и цветная вязаная шапка с помпончиком. Он как мог успокаивал своих жильцов. Особенно благотворно действовал на Хану, мать Ципы. Пряча под кровать оружие, говорил ей: теперь уже все равно. Есть евреи, может быть и оружие. Когда появились карты для партизан, стал еще спокойнее. Вот теперь уже и впрямь все равно: есть евреи, есть оружие, могут быть и карты…
Оружие приносил дворник, а карты – Ципа Г. Она получала их от людей из Армии Людовой[70], своих довоенных друзей, и потом отдавала Кристине Артюх, тоже “аловке”. Карты предназначались партизанам.
Ципа с Кристиной встречались в сквере, на Краковском Пшедместье. Там висел репродуктор. После двенадцати немцы передавали информационные сообщения, собиралась толпа, и можно было незаметно сделать все, что нужно.
Кристина Артюх приходила с маленьким сыном. Брала у Ципы пакет и без единого слова уходила.
После войны Кристину Артюх арестовали. Кто-то сказал Ципе, что за сотрудничество с немцами. Ципа была возмущена. “Ты только посмотри, – говорила она мужу. – Прикидывалась аловкой, а работала на гестапо”.
Ни Ципе, ни Адаму не пришло в голову, что обвинение ложное. Наоборот. Они радовались, что бдительные сотрудники госбезопасности безошибочно выискивают врагов. Даже Кристину Артюх разоблачили. Артюх, кто б мог подумать!
Кристину Артюх посадили в сорок восьмом. Тогда брали членов партии с “правым уклоном”. За полгода до того Кристине гадала Ванда Занусси, мать будущего кинорежиссера. Поглядев на карты, она сказала: вас ждет казенный дом. Посмотрела еще раз и повторила: казенный дом, это точно. Кристина Артюх презрительно рассмеялась и перемешала карты. Когда ее привели в подвалы Министерства госбезопасности, она подумала: “А карты-то правду сказали. Жаль, я их смешала, может быть, пани Занусси увидела бы, сколько это продлится”.
Это длилось пять лет.
В камере были одни партийные, среди них несколько евреек. За стеной, в соседней камере, сидели немцы. Немецкие пленные и военные преступники помогали польским надзирателям. Разносили суп и теплую воду и раз в неделю выдавали швейные иголки. В камеру Кристины Артюх приходил немец Арнольд. Он был молодой и участливый. Носил нательный крестик. Улыбался. Говорили, он верующий. Одна из женщин хотела к нему подмазаться и сказала что-то неприязненное про евреек. На следующий день Арнольд принес еврейкам суп погуще и воду погорячее. Спросил, не нужно ли еще воды. Даже иголку принес им чуть пораньше и чуть позже забрал. Практического значения это не имело. Все равно иголка была без нитки, считался сам факт.
Вернемся к Ципе. В ее отсутствие во двор забежали два еврея. Дом был недалеко от стены гетто. Там еще не завершилось восстание[71]. Евреи были грязные, запыхавшиеся. Мать Мариана Ронги указала им на подвал и принесла воды попить. Фольксдойчка[72], которая жила на первом этаже и любила сидеть во дворе на лавочке, быстро встала и направилась к воротам. Мариан пошел за ней. Фольксдойчка прошла Бонифратерскую, на площади Красинских свернула на Длугую. Мариан понял, что она идет в участок. Явно возбужденная, она все убыстряла шаг. Мариан с трудом за ней поспевал. Начались гонки. Мариан пришел первым. “На Сапежинской в подвале седьмого дома сидят два еврея”, – едва переведя дух, доложил он дежурному.
“Я доложил, что на Сапежинской, в седьмом… – рассказывал он Ципе и Адаму. – Если б она донесла, они бы обыскали весь дом и всех нашли, а раз я сам, не стали обыскивать”.
Пришлось его утешать.
“Вы правильно поступили, пан Мариан. Не было другого выхода”.
“Не было, верно? Если б она донесла, они бы устроили обыск. Все бы погибли, и те, и все”.
“Вы должны были это сделать, – заверяла его Ципа. – Так и так те двое были обречены. Не было для них спасения. Вы должны были это сделать…”
Спустя несколько дней в квартиру дворника вошли двое. Один встал в дверях, а второй торжественным голосом обратился к Мариану Ронге: за выдачу евреев… приговариваетесь… Пуля застряла между позвоночником и почками. “Повезло вам”, – заметил врач. Они гадали, кто мог сообщить подпольщикам. Фольксдойчка – нет. Мариан – нет. Ципа – нет. Оставался полицейский участок.
Мариан стал бояться. “Они вернутся, – твердил. – Вернутся и меня добьют”. Спросил, можно ли ему спрятаться с Ципиной семьей. “Разумеется”, – сказала Ципа Городецкая. Есть евреи, есть карты, есть оружие, может быть и пан Мариан. Мариан Ронга прятался вместе с четырьмя евреями, которых сам прятал. С собой он захватил одну-единственную вещь. Стопку. “А это для чего?” – допытывалась Хана Городецкая. “Стограммовая, – объяснил Мариан. – При мне с начала войны. Если кто захочет угостить, пускай наливает полную. Не пятьдесят же наливать”.
Вернемся к Адаму. Он участвовал в Варшавском восстании, в отряде АЛ. Командовал их отрядом Щенсны Добровольский. Адам помнил его по довоенным коммунистическим студенческим организациям. Щенсны был худой, принципиальный и неприхотливый. Аловцев включили в роту АК, располагавшуюся в центре города, на Вейской. Часть улицы со стороны площади Трех Крестов занимали повстанцы, здание ИМКА[73] и сейм были в руках у немцев. В промежутках между боями к ним приходили люди из подпольных аловских газет и проводили политинформации, в основном о ситуации на фронте. Адам дремал или листал немецкие книжки, которые подкладывал под свою винтовку. В книжках, щедро иллюстрированных фотоснимками, рассказывалось о полевых борделях в разных армиях мира. Адам отрывался от чтения, когда пропагандисты начинали говорить о Польше. Какой она будет, когда мы победим. Все будет по справедливости. Из каких-то стратегических соображений потребовалось захватить здание ИМКА. Атаковали вместе с аковцами. Первую гранату бросил Щенсны, выкурив немцев с первого этажа. Подбежал, один, бросил гранату в окно с правой стороны, около двери. Генерал Бур-Коморовский[74] лично их похвалил, когда они с ним встретились в гаражах на Вейской. “Знаю про вас, хорошо себя проявляете”, – он даже употребил слово “отвага”.
Щенсны Добровольского арестовали через год после Кристины Артюх. Он тоже оказался агентом гестапо. Много пьет, мог спьяну влипнуть в какую-нибудь историю, сказала Ципа. Тем не менее Адам поговорил с Вандой Гурской, секретарем и подругой Болеслава Берута[75]. “Разве человек, который сражался так, как он, мог быть агентом?” – “Я выясню”, – пообещала Гурская. На следующий день она сказала: “Товарищ президент лично читал его показания. Ваш герой во всем признался. Он был агентом не только гестапо – еще до войны работал на полицию. Не будьте наивны, товарищ Адам”.
Вернемся к Щенсны. Одной из первых на допрос вызвали Тересу З., до недавних пор заведующую партийной библиотекой. Допрашивал ее высокий рыжий майор, очень грубый. Он хотел знать, когда она познакомилась с Щенсны Добровольским.
До войны. В университете.
(Услышала она о нем раньше, в гимназии, в пятом классе. Подружка, с которой они сидели за одной партой, призналась, что на каникулах, в тетушкиной усадьбе, поцеловалась с мальчиком. Он учится на юридическом, зовут его Щенсны. Он коммунист, смущенно добавила подруга, но целуется хорошо.)
С Тересой они встречались в левых студенческих организациях. Щенсны был из хорошей семьи, жил в шикарном районе, в красивой квартире. Чувствовал себя виноватым за то, что есть и бедные люди. Был убежден, что мир нужно менять, притом радикально.
(Они вместе пошли на бал левых в театре “Атенеум”. Целовался он, возможно, и хорошо, но танцевал ужасно. Тереса З. была в платье из голубой тафты.)
Тереса З. гадала, задержит ее рыжий майор или отпустит домой. Она была вдова, одна растила двоих детей. Коммунисткой, правда, была с войны, а моря и океаны бороздил корабль “Винцентий З.”, названный так в честь ее мужа, но Кристина Артюх сидела, Щенсны сидел… Это были ее ближайшие друзья времен оккупации.
Майор ее отпустил, велев явиться на следующее утро.
После ареста Кристины Артюх Щенсны объяснил Тересе З., что во время войны было много темного и непонятного. Партия, повторял он, имеет право доискиваться правды.
После ареста Щенсны Тереса З. гадала, что такого темного и непонятного могло с ним случиться.
Тереса З. верила и Щенсны, и партии.
Ужасная раздвоенность!
Из литературы она знала, что такое состояние называется познавательным диссонансом.
Показания Тереса З. давала три дня, часов по пятнадцать каждый день. На четвертый день она отказалась продолжать беседу с рыжим майором. Пришел Ружанский[76], начальник следственного департамента. “Мы не считаем тебя врагом, – сказал он. – Только просим помочь”.
Узнав, что ее не считают врагом, Тереса почувствовала громадное облегчение. Ей нестерпимо захотелось доказать Ружанскому, что она не враг и что они правильно поступают, именно к ней обращаясь за помощью.
“Мы когда-то разговаривали про Катынь…” – начала она.
(Было это на Уяздовских аллеях, недалеко от входа в парк Лазенки. Начали, видимо, русские, говорил Щенсны, а завершили немцы. Тереса с ним согласилась. Начали русские, это было ясно им обоим.)
“…и Щенсны высказал суждение, будто русские…”
“Это всё?” – спросил Ружанский.
Она не поняла, произвели ли на него впечатление ее слова. Вероятно, ему нужна была более существенная информация.
После освобождения Щенсны добивался приема в партию. “Отказывают, ссылаются на мои суждения о Катыни, – жаловался он Тересе З. – Откуда они знают?”
“От меня”, – сказала она.
“Ты им говорила, что мы считаем…” – удивился Щенсны.
Что ты считаешь. Начав говорить, я думала, что скажу и о себе, но испугалась.
Вернемся к Хане Городецкой. После освобождения она попала в дом престарелых в Гура-Кальварии. Одинокая и больная. На всякий случай прикидывалась арийкой, уже не глухонемой, как раньше, но с дефектом речи.
“Рядом с парком лежал камень, на который я присела, – писала она в своих воспоминаниях. – Вдруг до меня донеслось пение. Кто-то пел по-еврейски:
Ву немт мен а мейделе мит а идишн хейн…
Где взять девушку с еврейским обаянием…
Голос доносился из домика на противоположной стороне улицы. Да это просто чудо небесное! Я быстро подошла… В окно увидела молодого человека за швейной машинкой. Мне хотелось обнять его, как родного сына, поговорить нормально, все рассказать, но я не могла выдавить ни звука…”
Портной отвел Хану Г. к другим евреям. Они пообещали отыскать ее детей.
Несколько дней спустя портной умер. Хане Г. сказали, что скоропостижно: сердце…
“Я прислонилась к камню и смотрела на домик. Мне казалось, что портной сидит за своей машинкой и смотрит на меня через окно…”
Дом престарелых в Гура-Кальварии стоит на прежнем месте, в парке, на Пиярской улице. Тот домик напротив, одноэтажный, деревянный, стоял до прошлого года. Кто-то купил у муниципалитета участок, домишко снес и построил солидный дом, внизу – магазин.
Портной, Иче Мейер Смоляш, шил конфекцию. В базарный день его изделия выкладывались на рынке на стол под брезентовым тентом. Отец Иче Мейера, Бинем Смоляш, тоже шил, а мать, то ли Сара, то ли Сима, продавала. Кажется, все-таки Сима. Только жена Иче Мейера не шила и не продавала, потому что у нее было двое или трое маленьких детей. Кажется, трое. Иче Мейер вернулся из Освенцима. Поставил швейную машину на прежнее место, у окна. Купил? Люди вернули? Да сколько там он нашил, на машине этой, за два месяца, говорит бывший сосед Иче Мейера Смоляша, высокий печальный старик. Он живет среди обрывков газет, пустых бутылок, грязных стеклянных банок, кусков черствого хлеба, тряпок и банок из-под консервов. На столе стоит большая ржавая мясорубка. В прошлую войну мать молола в ней рожь на муку, теперь он мелет – на корм для рыб. Без рыбы на пенсию не прожить. Иче Мейер вернулся из Освенцима один как перст. Никто больше – ни родители, ни брат Нусен, ни невестка Ривка, ни четверо племянников, ни жена, ни дети… Жил себе, да сколько там он прожил… два месяца.
За тем местом, где стоял домишко Смоляшей, за новым солидным домом, молодой мужчина машет граблями в садике. “Здесь когда-то был домик портного…” – говорю сквозь сетку. “Я ничего не знаю, – говорит мужчина, не прерывая работы. – Ничего не помню”. Может, он думает, у меня какие-то претензии. Либо, не дай бог, я насчет приватизации. “Участок продал муниципалитет”, – говорит он, не выпуская из рук граблей. “Знаю. Я только хотела сказать, что на этом месте жил когда-то портной Иче Мейер Смоляш, который за работой пел еврейские песни”.
(Ромен Гари оповестил всех, что в Вильно, в доме шестнадцать на улице Большая Погулянка, жил портной, некто господин Пекельный.)[77]
Да сколько там он нашил.
Сколько там он прожил.
Мужчина, копающийся в садике, не слушает и не поднимает глаз.
В Гура-Кальварии было четыре тысячи евреев. Осталось четверо. Они прятались у окрестных крестьян и женились на их дочках.
Сын портнихи Гитли прятался в деревне Подвежбье. У матери он научился портняжному ремеслу, ходил по домам и шил. Вся деревня про него знала, а партизаны приносили гражданскую одежду и приказывали переделывать в военную. Это было нетрудно: воротник под горло, два погона, четыре кармана и семь пуговиц. Партизаны велели сыну хозяев разобраться с сыном Гитли. А может быть, не они, может, сам Антек не любил сына Гитли и решил с ним разобраться. Пришел пьяный, с пистолетом. “Идем, – сказал, – пошли”. – “Куда?” – “Увидишь”. Сын Гитли побежал к зарослям ивняка. Антек его догнал. Завязалась драка. Пистолет выстрелил.
“Антека больше нет”, – сказал хозяевам сын Гитли. Они были не в обиде и дальше его прятали. После войны он приехал с женой; они заказали молебен. В костел пришла вся деревня. Молебен был благодарственный – за то, что жители Подвежбья спасли ему жизнь. И с просьбой простить – и партизан, и его самого – за то, что пистолет выстрелил.
Они с женой сорок лет прожили в любви и согласии.
Детей окрестили.
Ксендз приходил к ним после колядования.
Как-то в субботу сын Гитли вернулся из Варшавы, из синагоги: жена лежит на полу, лицом в ладони; вначале он подумал, что спит.
Третий год пошел… Тоскливо одному. Он бы познакомился с приятной женщиной, хоть как-то связанной с еврейством: хорошим отношением, что ли, и чтоб какой-никакой бюст имелся. Что за баба без бюста?! Лет шестьдесят, бюст и симпатия к евреям. Найди, Ханютка, такую. Ву немт мен а мейделе мит а идишн хейн? Где взять девушку для сына Гитли…
Вернемся к Щенсны. Во время войны он подружился с парой архитекторов, Анной и Яреком. Ярек был талантливый, а Анна красивая. Привычные словосочетания: золотые волосы, стройный стан, лебединая шея – в данном случае не банальность, а информация. Анна считала, что у нее слишком маленькие глаза, и увеличивала их, подводя синим карандашом, в чем не было никакой нужды. Глаза у нее были блестящие и выразительные.
После войны они решили пожениться. Щенсны должен был быть шафером. Свадьба не состоялась. Ярека арестовали. Щенсны поговорил со своими партийными друзьями. Они сказали: сотрудничал с врагом. Щенсны втолковывал Анне, что есть еще много темного и непонятного и что партия имеет право… Но Анна в партии не состояла, она просто была в АК и теперь твердила: “Ничего темного в нем нет, он невиновен”. – “Невиновен? – удивлялся Щенсны. – Но ведь ему представили доказательства! Очень жаль, – печально повторял Щенсны. – Мы еще не всё понимаем. Мы не понимаем”, – говорил он, потому что готов был разделить с Анной все, что касалось этой ужасной истории.
Целый год Щенсны уверял Анну в виновности жениха. Через год переехал к ней. Они жили в летнем деревянном доме под Варшавой. Анна родила ребенка. Щенсны приносил из подвала уголь, стирал пеленки и ставил детям, когда они кашляли, банки.
Однажды утром приехала Бристигерова, товарка Щенсны по партии, начальник департамента в Министерстве госбезопасности. Водитель ждал в машине. “Поедешь со мной, – сказала она Щенсны. – Вещей не бери, скоро вернешься, надо выяснить кое-какие мелочи”.
Анна ждала три года. Поиски какой-нибудь, хотя бы временной, работы и обязанности матери-одиночки занимали ее больше, чем размышления, кого же из них она, собственно, ждет.
Первым вернулся Ярек.
Они поженились.
Тюремный режим стал менее строгим, и Щенсны начал писать письма.
Анна не отвечала.
Он написал Тересе З. Умолял пойти к Анне и попросить, чтобы та отозвалась хоть словом.
Был канун Нового года. Когда пришла Тереса З. с письмом, Анна собиралась в гости. Еще не была готова, раздумывала, какое надеть платье. “Напиши ему”, – попросила Тереса З. “О чем? – спросила Анна. – Что я вышла замуж? Что поздравляю его с Новым годом?”
Спустя год у Тересы З. зазвонил телефон. “Узнаёшь?” – спросил мужской голос. “Нет”, – сказала она. “Это Щенсны. Ты можешь сообщить Анне?..”
Он звонил из гостиницы. Его выпустили. Жилья у него не было, так что его отвезли в гостиницу “Варшава” на площади Повстанцев.
“Когда ты вернулся?” – спросила Тереса З.
“Только что. Прошу тебя, позвони сразу. Скажи, что я ее жду”.
“Щенсны ждет тебя в гостинице «Варшава», номер двести один”, – сказала Тереса З.
Назавтра он снова позвонил. Счастливый.
Вернемся к Ципе. “Я была пьяна от счастья”, – так сейчас, в Рио-де-Жанейро, говорит она о тех временах. – Я пережила войну. Мы строили Польшу. Мир должен быть справедливым”. Произнося эти слова, Ципа улыбается. Она не помнит, что предостерегала левых и что хочет повесить Фиделя Кастро. Ципа строила справедливый мир и была пьяна от счастья.
Она приезжала на завод. Заходила к директору в кабинет – директор ждал ее, ему уже звонили из министерства. Ципа коротко и сухо информировала его о положении дел в стране. Страна разрушена, нуждается в станках.
“Хотите производить станки? – спрашивала Ципа. И тут же добавляла: – А будете саботировать, добром для вас это не кончится”.
“Вы ведь любите эту шахту, верно? – говорила она в другой раз. – Можете в ней остаться, Польше нужен уголь. Если, конечно, не намерены нам мешать. Будете мешать…”
Когда у Ципы складывалось впечатление, что директор намерен мешать, она шла в партком ППР[78] и спрашивала, кто из работающих на предприятии заслуживает доверия. Не теряя времени, сообщала этим работникам о повышении. Уезжала с ощущением, что обеспечила Польшу нужными людьми, станками и углем.
Ципа пересказывает тогдашние беседы тогдашним твердым голосом. И улыбка у нее неприятная. Мне бы не хотелось быть директором, к которому приходит Ципа Городецкая в потертой кожанке, в великоватых армейских ботинках, худая, маленькая, – приходит и говорит: “Ну что, будете работать на новую Польшу?”
Люди на ее кожанку и ее лицо поглядывали с любопытством и страхом. Она думала: слава богу, что у меня арийское лицо.
Они с Адамом оба сохранили оккупационные фамилии. Ряды польских коммунистов, к сожалению, были немногочисленны, так что им следовало остаться поляками.
Она встретила довоенного товарища по партии по фамилии Финкельштайн. Он вернулся из России. У него был длинный нос и большие темные глаза. Ципу как громом поразило: “И с таким носом вы посмели вернуться в Польшу? С такой фамилией собираетесь строить социализм?” Ее переполнили горечь и возмущение.
Это благодаря ей и Адаму увеличиваются польские ряды.
Это благодаря им отец превратился из Залмана в Зенона, одна мать – из Брухи в Брониславу, другая – из Ханы в Анну, а какой-то Финкельштайн суется со своим носом… чтобы все их труды пошли насмарку?
Анну-Хану деятельность дочки очень тревожила.
“Киндер, ир танцт ойф а фремдер хасене”, – тяжело вздыхая, повторяла она по-еврейски. Что по-польски значит: “Дети, вы танцуете на чужой свадьбе”. – “Это наша свадьба, – отвечала Ципа, вернее, Кристина Д. – И мы имеем право потанцевать”.
Вернемся к Щенсны. Его мучили с исключительной жестокостью. На Раковецкой[79] он был одним из тех заключенных, которых пытали особенно изощренно и безжалостно. Избивали ногами, били по лицу, по спине, по пяткам. Зимой ставили у открытого окна и поливали водой; продолжалось это часами. Лежащего нагишом на бетонном полу охаживали палками. От удара по уху у него лопнула барабанная перепонка. Знакомая, пригласившая его к себе поужинать вскоре после того, как он вышел из тюрьмы, рассказывает, что при виде накрытого стола у него случилась истерика. Вы тут на белых скатертях ели, а меня Фейгин[80] бил ремнем!
(Знакомая не уверена, что эта фраза звучала именно так. То ли: а меня Фейгин бил, то ли: а меня приказывал бить. Адаму Д., мужу Ципы, запомнились другие слова, которые не раз повторял Щенсны. “Я сам не бью, но могу приказать, чтоб тебя били”. Так ему угрожал Фейгин, начальник одного из департаментов Министерства госбезопасности, надзиравший за ходом следствия.)
Щенсны предстояло стать важным свидетелем на процессе Гомулки[81]. Ему отвели роль агента гестапо, поэтому посадили в одну камеру с краковским гестаповцем Хайнемайером – в надежде, что тот расскажет о своей работе, и Щенсны будет в чем признаваться. Они просидели вместе три года. Первый год Щенсны молчал, так что немец произносил монологи. “Ну что ты обижаешься, – говорил он. – У нас с тобой все одинаково. Ты верил своей партии, я – своей. Тебя твоя партия обманула, а меня обманула моя…”
Щенсны не знал, в чем его обвиняют. Знал, что в чем-то ужасном, но гестапо не приходило в голову. Ему давали карандаш, бумагу и приказывали писать. Что́ писать, спрашивал он. Чистую правду. Он писал, ему говорили, что самое важное он скрывает, били и давали новую бумагу. Он продолжал скрывать. Что́, спрашивал. Свои преступления. Какие я совершил преступления? Сам прекрасно знаешь, говорили ему, били и давали новую бумагу.
И так месяц за месяцем: писал, били… писал, били… Пока Щенсны не повредился умом.
Он признался. В совершении преступления. Выбрав самое страшное.
Анатолю Фейгину за восемьдесят. По контрасту с белыми волосами глаза кажутся еще темнее. При виде этих глаз Ципа наверняка пришла бы в ярость. Мало того, что он посмел вернуться из России. Мало того, что выполнял – с этими-то глазами! – гэбистскую работу, так теперь еще преспокойно сидит себе на диване, словно обыкновенный польский пенсионер. Смотрит телевизор. Варит кофе. Жалуется на цены… Смеет жить. С этими своими черными глазами. Как ни в чем не бывало.
Он курировал дело Щенсны. Однажды позвонил следователь: Добровольский сделал сенсационное признание. В сорок втором году, в ноябре, в Варшаве, он убил Марцелия Новотко[82].
– У меня как раз был Николашкин, мой советский консультант, – рассказывает Фейгин (на этом самом диване, перед телевизором, обыкновенный польский пенсионер). – Мы сразу поехали в тюрьму. Следователь говорит: я его не спрашивал, это он сам – мол, я убил Новотко.
Мы в комнате втроем: следователь, я и Николашкин. Приводят Щенсны. Я знал его еще до войны, когда по поручению партии занимался студентами. После войны один раз ездил в Отвоцк, навещал его больную жену. Он не изменился, только немного похудел и вид у него был неважнецкий.
“Садитесь, – сказал я. – Следователь доложил мне, что вы сделали важное признание, касающееся смерти товарища Новотко”.
Я обращался к нему на “вы”, “ты” говорить не хотел, а товарищем называть не мог, потому что он уже был не товарищ.
Он ничего не ответил.
Я повторил еще раз: вы затронули чрезвычайно важный вопрос…
Он закинул ногу на ногу и смотрел мне в глаза.
Это признание соответствует правде?
Он начал улыбаться.
Сидел передо мной у стола, смотрел мне в глаза и улыбался.
Представляете?!
Я терял сознание один-единственный раз в жизни. В тридцать восьмом, когда распустили партию[83]. Моя партия была для меня всем. И потом эта ужасная необъяснимая смерть генерального секретаря моей партии. И Щенсны говорит, что это он его убил, смотрит на меня и улыбается.
“Ну что ж, – сказал я. – Не хотите разговаривать, будете отвечать за последствия”.
Николашкин встал и вывел Щенсны из комнаты.
Мы остались вдвоем со следователем. По его словам, показания Щенсны были обстоятельные, с подробностями: назвал калибр пули и револьвер, стрелял он Новотко в спину…
Примерно через полчаса Николашкин вернулся. Мы сели в машину, по дороге Николашкин сказал: я велел его поучить… он получил ремнем.
В последующие дни мы проверяли показания Щенсны. Нашли синего полицейского[84], который во время войны расследовал убийство Новотко. Нашли протокол вскрытия, проведенного в больнице. Ничего не совпадало: ни выстрел, ни оружие, ни пули.
Представляете?!
На суде я признался, что велел избить Щенсны. Это была неправда, но Николашкин к тому времени уже умер, я не хотел сваливать на покойника… Юрий Михайлович… хороший был мужик, страдал высоким давлением. Начинал он в ЧеКа, у Дзержинского. Сколько я к нему ни приходил, всегда, бедолага, сидел с пиявками. Мы говорили о наших делах, а пиявки разбухали и отваливались. Он их бросал в баночку, а из другой баночки доставал новых и сажал за уши – за каждое ухо по пиявке. Перед ним две баночки стояли, в одной свежие, маленькие, а во второй большие, насосавшиеся крови.
Не знаю, чей был ремень, может, Николашкина, может быть, кого-то из следователей. Наверно, брючный. Хотя нет, тогда брюки бы свалились; может, от гимнастерки. Или как раз висел на гвозде. Может быть, на нем бритву правили. Послушайте, ну откуда я могу знать, что это был за ремень.
В пятьдесят шестом году Анатоля Фейгина осудили за недозволенные методы следствия. Через десять лет он вышел. Щенсны уже не было в живых.
Показания арестованных членов партии, в том числе Щенсны, перепечатывали на машинке и приносили Беруту. Президент получал также прошения о помиловании. Дела, приходившие из судов общей юрисдикции, были в зеленых папках, а те, что из военных судов, – в тщательно заклеенных белых конвертах формата А5.
Папки лежали на полке в президентском кабинете Берута в Бельведере[85]. Адам Д. видел их всякий раз, когда входил в кабинет с вырезками из газет или проектами речей. С сорок шестого года он был пресс-секретарем председателя КРН, ставшего затем президентом. Отдельные части каждой речи Адам Д. заказывал специалистам, а сам монтировал целое и придавал выступлению должную тональность.
Он быстро понял, какая тональность нужна Беруту.
“Это – радость заслуженного триумфа, одержанного благодаря щедрым плодам нашего упорного труда по восстановлению страны. Это – переполняющая наши сердца уверенность, что новая Польша, которую мы строим, будет прекрасной, могучей и нерушимой” (Из обращения к участникам Съезда молодежи, июль 1948).
“С величавой гордостью будут матери рассказывать детям и поколения поколениям, что победу одержала правда и справедливость. Из моря слез и крови, из темных пучин преступлений, из непреклонной борьбы трудящихся восстала для жизни Польша” (Из обращения к польскому народу, июль 1949).
И так далее.
Берут сидел над документами ежедневно, до поздней ночи. Над зелеными папками – в Бельведере, над белыми – дома. Он был трудолюбив и скрупулезен. Подчеркивал, делал замечания на полях, отчитывал, призывал к порядку. В конце формулировал решение.
Мария Турлейская, профессор истории, спустя годы читавшая в Архиве новых документов прошения смертников, приговоренных военными судами, без труда разбирала мелкие ровные буквы. “Правом помиловать не воспользуюсь”, – чаще всего писал Берут. Он отправил на смерть тысячи приговоренных. А вообще-то был вежлив и внимателен. Справлялся у сотрудников, как здоровье детей. Любил Шопена.
Вернемся к Кристине Артюх. Она работает в Королевском замке. Подрабатывая к пенсии, водит экскурсии. Сегодня ждала восемь часов – в итоге одна группа. Может быть, завтра придут – для посетителей открывается Тронный зал. Дадут ли ей прибавку к пенсии за тюрьму и приплюсуют ли эти годы к выслуге лет? Аковцам дают. Партийным могут сказать: это были ваши внутренние дела, – и будут правы. С движением Сопротивления тоже не все ясно. Аковцам засчитывают, а как с АЛ?
Кристина звонит мне на следующий день. Даже Тронный зал последнего польского короля не удостоился ни одной экскурсии.
Интересно, что поделывает Арнольд? – спрашивает она вдруг. – Тот немец с голубыми глазами и крестиком на шее, который хорошо относился к польским еврейкам в сталинской тюрьме. Жив он?
Да что же творится с этим светом!..
С миром? А что должно твориться?
Со светом! Опять погас. Может, оно и хорошо, меньше будет счет за электричество.
Слухи, что от нее отказался сын, когда она сидела в тюрьме, враки. Ему было десять лет, когда ее посадили.
Она не знает фамилии Арнольда, но хотела бы передать ему привет. Просит, чтобы я разыскала его в Германии. Интересно, кто он был – простой пленный или военный преступник. Впрочем, не важно. Она просит ему сказать: вам привет от Кристины из десятого корпуса, из партийной камеры.
Еще о Кристине Артюх. Искать Арнольда хлопотно. Послевоенные тюремные реестры переданы в архив Института памяти[86]. Отдельного списка немцев не существует. Фамилия неизвестна. Заключенных тысячи.
Проще всего найти саму Кристину Артюх – потому что на “А”. Номер 1610. Доставлена из Министерства госбезопасности.
Есть и Щенсны. Номер 1817. Проживал на Пулавской. Доставлен из…
(Пулавская улица. У Щенсны была прекрасная квартира, две комнаты. В этом же доме у Адама с Ципой была однокомнатная квартира. Щенсны сказал: я один и занимаю две комнаты. Вы с ребенком теснитесь в одной, это несправедливо… Отдал им свою квартиру и переехал в однокомнатную. Жил в ней до ареста.)
Арнольд С. Имя отца – Мартин. Год рождения 1921. Сохранилась учетная карточка с описанием внешности: “Правильного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, цвет лица хороший, зубы здоровые, все целы…” – Наверняка наш, – говорит Кристина Артюх. – А какие пальцы были у вашего Арнольда? – Обыкновенные. – А у Арнольда – из архива – имелась особая примета: отсутствие мизинца на левой руке.
Вернемся к Адаму и Ципе. Квартира, которую им отдал Щенсны, стала тесной. Они переехали в другую, побольше, на Повислье. Там было шумно, и они перебрались на улицу Агриколы. Там было спокойно, но опять стало тесно, потому что у них появились две прислуги: одна готовила, другая присматривала за детьми. Переехали в парк Лазенки, поселились в Оранжерее. Там было и просторно, и до работы недалеко, но неприятно тихо, особенно по вечерам. Переехали на Польную.
Отпуск они проводили в правительственных пансионатах. Лечились в правительственной клинике. Одежду и продукты покупали в спецмагазинах. Все это проходило мимо сознания. Представлялось естественным. Сверхъестественным было воплощающееся в жизнь чудо – строительство справедливой Польши.
Адам Д. не знал, что́ содержится в папках. Гэбиста вблизи видел раз в жизни: в ванной Берута взорвался бойлер, и Ружанский пришел проверить, не пахнет ли саботажем. В Бельведере Адам видывал всех, кто управлял Польшей, но свои знания не выносил за порог кабинета. Те, кто еще помнит Адама Д., говорят, что он был со всеми ровен и доброжелателен.
Вмешался один только раз, когда арестовали Щенсны. Ванда Гурская сказала: не будьте наивны… Адам не настаивал и никогда больше ни за кого не просил. Страха он не ощущал, но организм начал странно себя вести. Аритмия, скачки давления, боли в желудке. Он сказал Беруту, что хотел бы вернуться к микробиологии. Дело не в биологии, ответил Берут. Вас не устраивает моя политическая линия. Адам заверил президента, что одобряет его линию безоговорочно.
Когда начали выпускать из тюрем, среди первых вернувшихся была родственница Дзержинского. Берут велел Адаму заняться ее пенсией. Ему показалось, что Адам недостаточно расторопен, и он накричал на него. Впервые ударил кулаком по столу. Полгода не разговаривал со своим пресс-секретарем, а накануне отъезда в Москву на ХХ съезд КПСС попросил позаботиться о Ванде Гурской. Адам опекал Гурскую, а вскоре ему пришлось позаботиться и о Беруте, чьи останки вернулись в Варшаву в советском гробу, обшитом красными оборками.
Он еще несколько раз заглянул в свой кабинет.
В один прекрасный день перестал заглядывать.
Вернулся к микробиологии.
Отложил лекарства, недуги разом прошли.
Занялся целлюлозоразрушающими бактериями, у которых заметил чрезвычайно интересное свойство. Часть бактерий, несмотря на прекрасные условия, теряют охоту к жизни. Эти самоубийственные склонности, названные впоследствии апоптозом[87], Адам Д. наблюдал еще до войны, в лаборатории профессора Бассалика. Сейчас он мог полностью посвятить себя этим бактериям.
Вернемся к Щенсны. После освобождения он работал в газете “Жиче Варшавы”. Его окружал ореол благородства и мученичества. Он был неразговорчив, иногда казался отсутствующим и улыбался немного невпопад. С лицом у него были проблемы: всё в красных пятнах, кожа шелушилась, в особенности возле бровей; вероятно, результат тюремного заключения. Ходил с трудом – по той же причине. На полусогнутых, подавшись вперед; ступни выворачивал внутрь. Кому-то он рассказывал, что самое неприятное – когда бьют по пяткам. Мне этого не говорил. Я была молодой начинающей журналисткой, таким о подобных вещах не рассказывают. Щенсны нравились молодые коллеги, в особенности Ежи Ярузельский[88] и я. Со мной он ходил в театр, а с Ежи Я. пил водку и играл в бридж. Два или даже три раза мы с ним смотрели “Процесс” Кафки в “Атенеуме”. В том самом “Атенеуме”, где перед войной левые устраивали бал, и Щенсны пришел с Тересой З. в голубом платье. Когда на сцене Йозеф К. говорил, что он невиновен, но, поскольку его обвиняют, видимо, существуют неведомые ему основания высшего порядка, Щенсны очень веселился. Так оно и было, хихикал он, да-да, именно так. И становился все веселее по мере того, как Йозеф К. терял уверенность в своей невиновности, а когда герой отправлялся на допрос, хотя его никто не вызывал, Щенсны разражался хохотом на весь зал.
Он выступал на процессе Фейгина и Ружанского.
Процесс был полузакрытым. Гомулка не желал ни громких обвинений, ни расправы с госбезопасностью. Перед каждым допросом беседовал с Щенсны, ссылался на соображения высшего порядка и точно обозначал границы показаний.
Судимых гэбистов Щенсны считал шайкой бандитов. Шайка преступная, но с социализмом все в порядке. Воплощать в жизнь благородную идею, по задумке Щенсны, должны были мы с Ежи Ярузельским, молодые и честные.
Такие мысли у него не из воздуха взялись. Ежи Ярузельский рассказывал Щенсны о своем крестном – тот как раз вернулся из тюрьмы после двух не приведенных в исполнение “вышек” и камеры смертников. Я рассказала про Познань[89]. Я была там 28 июня 1956 года, в первый день выступления рабочих. Щенсны про то, что происходило в Познани, рассказывала много раз и с подробностями. Он внимательно слушал, а потом спрашивал: ты уверена, что никто не защищал социализм? Смотрел на меня с непритворным отчаянием. Мне было его жаль. И Ежи Ярузельскому тоже.
Когда началось собрание, на котором Щенсны собирался принять нас в партию, мы не успели уйти из редакции. Услыхали его голос: вы где? – и в панике спрятались под письменный стол. Нам было совсем не смешно. Мы сидели под столом и слышали, как Щенсны нас ищет, как бегает по коридору – на своих полусогнутых ногах, ступни вывернуты внутрь…
Мы крадучись убежали. От Щенсны и от благородной идеи.
Он нас не отчитывал. Был деликатный. Продолжал ходить со мной в театр, а с Ежи Ярузельским – играть в бридж и пить водку.
Когда заболел, попросил сообщить Анне. Она приехала с берегов Персидского залива – ее муж заведовал кафедрой архитектуры в каком-то университете.
Была с Щенсны до конца.
Похоронили его на воинских Повонзках[90]. Почетный эскорт, залпы почетного караула, солдаты, несущие венки и красные бархатные подушечки с орденами… На одной из подушечек лежал крест Virtuti Militari[91], который Щенсны вручил генерал Бур за захват здания ИМКА.
Последние почести отдали Щенсны товарищи из повстанческого отряда, девушка, с которой они целовались на каникулах в усадьбе ее тетушки, подруга с бала левых в “Атенеуме”, товарищи по партии, озабоченные судьбой идеи, а также, как написал Ян Котт, прокуроры, следователи и их реабилитированные жертвы, отсидевшие свои пять-шесть лет.
Пулавская улица, неподалеку от улицы Мальчевского. Старый адрес Ципы, Адама и Щенсны. Дом довоенной постройки. Квартиры с высокими потолками, просторные; есть несколько однокомнатных: когда-то такие квартиры называли гарсоньерками. В них селились люди одинокие, а также господа, которые не прочь были иметь под рукой укромное убежище. Квартирка Щенсны находилась на третьем этаже. После его ареста в комнате обнаружили кипы газет, топчан с прожженными сигаретой дырками, траурные ленты с похорон жены и довоенный радиоприемник “Электрит”. Гарсоньерку привели в порядок, и туда вселилась вдова лагерника.
Были две волны вдов, возвращающихся из России. Первая – в сороковых годах, вторая – после XX съезда КПСС.
Мужья этих женщин, коммунисты, чтобы избежать польской тюрьмы, спрятались у советских друзей. Их либо сразу расстреляли, либо отправили в лагеря, где они бесследно пропали. Вдовы, отсидев свое, вернулись в Польшу. Их поселили в доме на Пулавской. Большинство получали мелкие должности в партийных учреждениях. Одна работала в библиотеке с Тересой З. “Там и невиновные были?” – спросила Тереса З. “Там ВСЕ политические были невиновные”, – ответила лагерница. Сказала она это, понизив голос (хотя в комнате никого больше не было), но уверенно, тоном, не допускающим возражений. Тереса З. была потрясена, а затем объяснила вдове и себе самой: у них такое было возможно, но в Польше – нет.
Несмотря на прошлый опыт, падению коммунизма вдовы не обрадовались, скорее, впали в меланхолию. Они постарели. Начали бояться. Обменялись ключами от своих квартир.
Мужья вдов – кстати, неофициальные, поскольку брак считали мещанским пережитком, – годами из-за чего-то ссорились. В чем-то не могли сойтись. Поделились на левых и правых, большинство и меньшинство, поляков и евреев.
В сознании обитательниц дома на Пулавской единственные между всеми ними различия – даты и географические названия: Воркута, Караганда, Магадан. Первыми погибали правые, однако левые – немногим позже. Большевиков брали весной, а меньшевиков осенью. Выжили те, которые не успели уехать к друзьям и сидели в польских тюрьмах.
Вернемся к Кристине Артюх. Она меня разыскивает, хочет рассказать что-то важное. Ей приснился сон. Она в тюремной камере. Входит Арнольд и протягивает ей половник с супом. Что-то в этом привычном жесте ее озадачило. Арнольд ловко раздавал суп, вытягивая прямую правую руку, а левая рука у него была опущена, словно спрятана от чужих глаз. Кристина Артюх вспомнила, что Арнольд всегда так держал левую руку. Он ее стесняется! Ну конечно же, ведь у него нет пальца, сказала Кристина вслух – по-прежнему во сне, хотя в реальности никогда не обращала на это внимания. Сон свой она мне рассказывает, потому что отсутствие пальца может послужить ценной наводкой в поисках.
Далее о Кристине Артюх. А точнее, об Арнольде С.
Я пытаюсь разыскать его в Германии. Безуспешно.
К счастью, позвонил секретарь президента Германии, друга Акселя фон дем Б.[92], и спросил, не требуется ли мне помощь. Конечно, требуется. Нужно найти Арнольда, который хорошо относился…
Через неделю у меня был адрес. Арнольд С. живет в земле Баден-Вюртемберг, недалеко от Хайльбронна.
Хайльбронн оказался маленьким городком, утопающим в цветах.
Арнольд С. не был похож на человека, описание которого я нашла в тюремной учетной карточке (“правильного телосложения, зубы здоровые”). Низенький, лысый, круглый; напоминал Никиту Хрущева в пожилом возрасте. Выслушал меня. Сказал, что не мог хорошо относиться к польским заключенным, поскольку с ними не сидел. Сразу все и выяснилось: он был тем самым Арнольдом, которого я нашла в варшавском архиве, но не тем, которого искала Кристина А. Что ж, ничего не поделаешь. Мы ели бутерброды и вишневый пирог, который испекла его жена. Помидоры были “без химии”, а пирог еще горячий. Арнольд воевал в Финляндии. Вообще-то он не воевал. Строил земляные укрепления. Один из тех многочисленных немцев, которые были на войне, но не стреляли. Просто за всю войну ему ни разу не удалось выстрелить. Ни разочка. Nein, nein, – отрицательно мотал он головой. Hat nie geschossen, не стрелял. Зато в него стреляли, притом поляки, притом, когда он отступал. После чего заперли в подвале, а потом судили. Обвиняемые немцы сидели в трех рядах. Те, что сидели в первом ряду, получили по три года, те, что во втором, – шесть лет, в третьем – девять. Арнольд С. сам не знает, в чем его обвиняли, но ему повезло – он сидел в первом ряду. Их поместили в бараки. Поздним вечером отвезли куда-то на грузовике. Зажглись прожекторы. Они увидели груды развалин и скелеты домов. Начальник сказал, что тут было еврейское гетто. Арнольд С. убирал развалины гетто. Разбивал обломки кирпичей, крошки перемешивал с цементом и песком. Из этого получались новые кирпичи. Он строил дома. Немцы работали ночью, при свете прожекторов; днем работали поляки. За хорошую работу начислялись баллы. За максимальные тридцать баллов полагалось дополнительно три килограмма хлеба, полкило свиного сала, полкило репчатого лука и немного конфет. Он всегда получал свои тридцать баллов, каждую неделю, и свой хлеб, и свое сало. Начальник говорил о нем – “хороший мужик”, потому что он работал честно, старался как мог. До войны в деревне он тоже так работал. И в войну. И в варшавском гетто. И в соляной шахте, когда вернулся в Германию. Вернулся он в пятьдесят первом. В бывшем гетто научился строить, поэтому сам, без посторонней помощи, построил дом. Они с женой вдвоем показывали мне комнаты. Жена каждую комнату отпирала ключом, а потом запирала. Отпирала и запирала. Везде были сувениры. Арабские розы из песка пустыни, австрийские тарелки, немецкие фарфоровые зверюшки, ну и памятки из шахты. За пять лет работы – кубок. За десять лет работы – кубок. За пятнадцать лет – кубок. За двадцать лет…
Все эти годы у Арнольда С. была заветная мечта: в один прекрасный день зазвонит телефон и в трубке раздастся мужской голос. Господин Арнольд С.? Вам звонят из секретариата президента Германии, соединяю с господином президентом. Президент возьмет трубку и воскликнет: алло, господин С.! Мне сообщили, что вы выиграли в лотерею миллион марок. Поздравляю! Как вы намерены распорядиться этими деньгами?
Прежде всего, ответит Арнольд С., спасибо, что позвонили, господин президент. А насчет миллиона марок? Что ж… Первым делом поставлю для дочки красивый дом. Я сам неплохо умею строить, но уже староват, рука плохо слушается, придется нанять рабочих.
Такая вот была у Арнольда С. все эти годы мечта.
Ну и однажды, совсем недавно, зазвонил телефон.
Мужской голос сказал: говорят из секретариата президента Германии.
О Господи, прошептал Арнольд С., но секретарь вовсе не собирался соединять его с президентом.
Секретарь сообщил Арнольду С., что его разыскивает польская журналистка, потому что он хорошо относился к полякам в варшавской тюрьме.
Арнольд молчал.
Он был не в силах выдавить ни звука.
Не в силах сказать, что никогда не сидел в варшавской тюрьме.
Я извинилась за доставленное Арнольду С. страшное разочарование.
Мы попрощались. На дорогу я получила вишневый пирог.
Левая рука Арнольда С. бессильно висела. В кисти недоставало мизинца.
Именно таким он приснился Кристине А. Искалеченную руку прячет, а здоровой подает еду… Ей приснился другой Арнольд. Каким образом другой Арнольд попал в чужой сон?
Вернемся к Адаму и Ципе. Они уехали в Рио вскоре после того, как их сына дворовый приятель обозвал жидом.
“Вы лично знаете какого-нибудь еврея?” – спросил, вернувшись со двора, сын.
Адам и Ципа не говорили детям, кто они. Ведь коммунизм решил еврейскую проблему раз и навсегда, зачем подобными вещами забивать детям голову?
“Мы – евреи”, – ответил Адам на вопрос сына. Ципа поспешила добавить: “Помни, ты должен жениться на еврейке”. – “Почему?” – удивился сын. “Потому что еврей должен быть готов в любую минуту двинуться в путь. С арийской женой начнутся разговоры: кто остается, кто едет, а еврейская жена сразу начнет укладывать вещи”.
Они уложили вещи.
Приехали в Рио.
Встретились с тетушками-вышивальщицами.
Тараканов Periplaneta americana опрыскали ядом.
Адам надел белую рубашку и отправился в университет. На столе декана биологического факультета лежал последний номер бюллетеня Пастеровского института. Там была напечатана обстоятельная статья Адама Д. о самоубийственных склонностях некоторых бактерий. Декан сказал, что Адам Д. пока может читать лекции на английском языке. Спустя год профессор Адам Д. читал лекции на португальском и приступил к пионерским исследованиям почвы cerrado на землях, которые занимают четверть территории Бразилии и никогда не обрабатывались. (Через десять лет бразильские крестьяне начали возделывать cerrado. Сейчас там благодаря работам Адама Д. растет пшеница и соя.)
Ципа занялась бизнесом. Приобрела акции сталелитейного завода и железных рудников. К сожалению, на бирже случился обвал, и акции резко упали в цене. Ципа начала ходить по домам и продавать Encyclopaedia Britannika[93], но за полгода продала только два экземпляра. Взялась преподавать иврит, но еврейские дети сказали, что не собираются в Израиль и предпочитают английский. Закончила учительские курсы в Англии, но на работу ее не брали, говорили, что старовата. К счастью, их сын начал пить. Ципа на всякий случай записалась в клуб семей алкоголиков. Люди там были бедные и простые. Они собирались и читали молитву, всегда одну и ту же. Ципа молилась вместе со всеми. Сказала себе: я обращаюсь к Высшей Силе, чем бы она ни была.
Как-то вечером к ним пришел сын Лилианы, подруги Ципы еще по Пинску. Это было в те времена, когда Бразилией правили диктаторы. За малейшее проявление протеста людей бросали в тюрьму, заключенных пытали, многих убили из-за угла.
Сыну Лилианы столько же лет, сколько было Ципе, когда она страдала из-за того, что семья дяди Аврама Шии живет в бедности. Он спросил, можно ли у них переночевать: его ищут. “Я ушел в подполье, чтобы бороться, – объяснил он хозяевам. – Нельзя спокойно смотреть на нищету и тысячи заключенных”. Ципа сказала: “Мы уже навоевались, выпьешь чаю?” – “Значит, справедливость вас уже не интересует?” – изумился сын Лилианы. Их, скорее, интересовало, долго ли находящийся в розыске борец за правое дело намерен у них оставаться.
Альфредо, сын Лилианы, был так назван в честь деда, Альфреда Биненштока, врача, поручика запаса. Первое известие об отце Лилиана получила вскоре после войны. Ей прислали вырезку из французской газеты. Кто-то рассказывал, что был вместе с доктором Биненштоком в Старобельском лагере[94]. Подтверждение она нашла немного позже, в книге, изданной в Вашингтоне “Комитетом по расследованию фактов и обстоятельств убийства в Катынском лесу”. Фамилия отца значилась на странице 242, в списке убитых.
Из Сибири Лилиана вернулась в Польшу, после келецкого погрома[95] уехала в Рио. Со временем открыла швейное ателье “Maison Liliana”. Одевала самых элегантных бразильских дам. Альфредо, ее сын, учился в лучшей гимназии. Преподаватели там были прогрессивные. В шестьдесят восьмом году Альфредо сказал: “Нельзя спокойно смотреть со стороны…” – и ушел из дома. Вместе с друзьями практиковался в стрельбе. Они купили подержанный автомобиль марки “рено”, который в честь жены Ленина назвали “Надежда Крупская”. Похитили посла Германии, отвезли в “Надежде Крупской” за город и потребовали от властей освобождения нескольких десятков политзаключенных.
Охранником и переводчиком к похищенному послу приставили Альфредо. Он вежливо объяснил дипломату, почему пришлось его похитить. Посол уверял Альфредо: он возмущен тем, что заключенных пытают. Еще они дискутировали о сути капитализма. Убежденный аргументами Альфредо, посол выразил сожаление, что немецкий капитал помещен в Бразилию ради прибыли, а не для облегчения участи бразильского рабочего класса. На пятый день по радио сообщили, что самолет с освобожденными политзаключенными приземлился в Алжире. Автомобиль “фольксваген”, названный революционерами в честь жены Льва Троцкого “Натальей Седовой”, подвез посла к стоянке такси.
Полиция разыскивала Альфредо все энергичнее.
Лилиана обращалась за помощью к своим влиятельным клиенткам, ходила к гадалкам и всунула просительную записку в иерусалимскую Стену плача. Раздобыла для сына заграничный паспорт, но уезжать сын категорически отказался. Это было бы предательством идеи и друзей, заявил он. Лилиану морально поддерживала ее прислуга, которая в частной жизни носила титул mãe de santa, мать святых. Она посредничала между духами и людьми. В нее вселялся дух по имени Ксанго. Ксанго сказал матери святых: молодой человек поменяет свои взгляды. Вскоре на улице был убит Хуарес, командир Альфредо в герилье, и арестован последний из его друзей – Алекс Полари. Альфредо поменял взгляды. Лилиана вручила сыну паспорт и подождала в аэропорту, пока самолет не взял курс на Лиму. Дома она застала четырех мужчин в темных костюмах и солнцезащитных очках. Они сказали, что у них срочное сообщение для ее сына. “Мне очень жаль, – сказала она, – но мой сын учится в Париже”. Закрыв за ними дверь, Лилиана разразилась долгим истерическим плачем. Она навестила Алекса Полари в тюрьме. Тот дал ей деревянный барельеф, сделанный своими руками. Барельеф изображал пару влюбленных. Под юношей была ксива – доклад о преступлениях власти. Лилиана отвезла его сыну, доклад опубликовала вся мировая печать. Альфредо провел в эмиграции десять лет. Вернулся после падения диктатуры. Возглавил партию зеленых. На последних выборах получил самое большое число голосов. Он говорит: семьдесят процентов бразильцев живут в крайней нищете. Нищета все возрастает, и вместе с ней растет отчаяние. Раньше была надежда – на демократию и свободу. Свобода есть, а надежды нет – ни на что. Альфредо борется за дорожки для велосипедистов. Алекс Полари уехал на Амазонку. Живет среди людей, которые пьют отвар лианы под названием аяуаска[96]. Режет по дереву и пишет стихи. Выпив аяуаску, впадает в религиозный транс. Они там организовали секту Санто Дайме. Алекс Полари – ее глава.
День в Рио. Жена Альфредо остановилась на светофоре. Через приоткрытое окно машины просунулась рука с осколком стекла. Жена Альфредо торопливо полезла в кошелек.
Похоронили Эдсона Кейруша. Он был врачом. Оперировал без наркоза, безболезненно, в специальном помещении, называвшемся Шатром Духа. Добивался потрясающих результатов. В ходе операции Кейруш говорил по-немецки, хотя за пределами Шатра Духа не мог произнести ни слова на этом языке. Он считал, что при его посредничестве операции проводит давно скончавшийся немецкий врач Адольф Фриц[97]. Доктора Кейруша убил сторож его собственного дома. Шестидесятидвухлетний безработный, отец семнадцати взрослых безработных сыновей. Его уволили, он требовал зарплату, доктор ему отказал, тогда сторож ударил его ножом в сердце. По пути в тюрьму он потерял сознание от голода. Полицейские скинулись и купили ему несколько бутербродов.
Профессор Адам Д. встретился с представителями бразильской нефтяной промышленности. Они хотят использовать его исследования. Нефтью профессор занялся сразу после исследований почвы cerrado. Его заинтересовало, живут ли в нефтеносных породах бактерии. Он нашел бактерии в кернах[98] скал, изучил и пришел к выводу, что бактерии нужно размножать. Используя их, можно будет добывать значительно больше нефти.
В Копакабану, один из престижных районов Рио-де-Жанейро, приехали полицейские автобусы и собрали бездомных детей. Сколько таких детей во всей Бразилии, точно не известно. Официальная цифра – пятнадцать миллионов, Альфредо считает, что двадцать пять. В автобусы поместилась сотня детей. Объехали все воспитательные учреждения, но свободных мест нигде не нашлось. Автобусы вернулись в Копакабану. Дети вылезли и остались на улице.
В клубе, где собираются родственники алкоголиков, женщины рассказывают о своих мужьях, сыновьях, внуках и любовниках. Напоследок читают молитву – просят Бога дать им душевный покой, мужество и мудрость. На стене висит их лозунг: isto tambem passara. Что означает: и это пройдет.
Внучка доктора Нискера выходит замуж. Лилиана заканчивает платья для ее матери, бабушки и будущей свекрови. Ткани – розовая парча, пунцовый муслин и фиолетовое кружево – привезены из Италии. Доктор Нискер лично обсуждает репертуар со свадебным оркестром.
Даниэль, невеста, – правнучка Берека Нискера, у которого был самый большой в Островец-Свентокшиском магазин, внучка Мошека Нискера, врача, почетного гражданина Рио-де-Жанейро.
Прадеду Береку был нанесен незаслуженный удар: старший сын стал коммунистом. Началось с книг – “Цемент” Гладкова и “Как закалялась сталь” Островского, – а закончилось тюрьмой. Когда оказалось, что младший сын учится в субботу, ест трефное, вместо синагоги ходит в лес с Ханой, дочкой молочницы, и – что самое страшное – начинает читать “Цемент”, Берек Нискер сказал: уж лучше езжай к дяде в Рио-де-Жанейро.
Дед невесты, Мошек Нискер, приехал в Рио в тридцать шестом году. Стал клапером[99], то есть торговцем вразнос. Товар носил в чемодане. Ставил чемодан на улице и громко хлопал в ладоши. Из домов выходили клиенты. Мошек им всё давал в кредит, а раз в месяц собирал долги – один-два крузейро. В других районах тоже ходили по улицам польские евреи с чемоданами. Обычай торговать в рассрочку завели в Рио клаперы из Опатова, Островеца, Шидловеца, Сандомежа… У каждого был чемодан, свой район и постоянные клиенты. Бросив торговлю, клапер уступал клиентуру другому польскому еврею.
Через десять лет Мошек Нискер уступил клиентуру человеку, который только что приехал из Польши.
Это было в сорок шестом году.
Человек этот рассказывал…
Мошек Нискер начал понимать, что случилось с его родителями, дедушками и бабушками, дядями и тетями, братьями и сестрами.
Втроем – он и еще два клапера из Островеца – наняли учителя и начали готовиться к вступительным экзаменам.
Когда Мошек Нискер стал врачом, он отправился в свой район. Останавливался под окнами самых бедных. Хлопал в ладоши. Говорил: теперь я буду вас лечить.
Дома бедняков были сколочены из досок и картона. Про полиэтиленовую пленку тогда еще не знали, так что после сильного дождя картонную хибарку приходилось сооружать заново.
Доктор Нискер сидел в одной из таких хибарок. На улице ждала толпа. Доктор принимал всех и ни с кого не брал денег. Лекарства приносил с собой и раздавал больным. Так продолжается по сей день. В Копакабане он принимает богатых за деньги. В фавелах – трущобных кварталах – даром. Он ведь читал “Цемент”, его брат сидел в тюрьме, и сам он уважал идеалы социализма. “Что такое социализм? – повторяет мой вопрос доктор Нискер. – Это я, а мне не нравится эгоизм, не нравится бедность, я за справедливость. Знаю, в мировом масштабе это нереально, но нельзя жить только реальной жизнью…”
Церемония бракосочетания внучки Мошека Нискера пройдет в синагоге.
Даниэль Нискер, врач, станет женой банковского служащего.
Веселье начнется в десять вечера.
Играть будет ансамбль Варды Хермолин. Они могут и ламбаду сыграть, и спеть “А идише маме…”.
“А идише маме…” нужна обязательно, потому что свадебные гости должны немного поплакать.
Поплачут те, что из Островеца. Там были настоящие еврейские матери.
Женщины в парче, муслине и кружевах, привезенных из Италии и пошитых в “Maison Liliana”, – ряженые матери. Не о них будет петь Варда Хермолин.
А когда матери поплачут, начнутся танцы.
Ципа Городецкая (вернемся к Ципе) будет за ними наблюдать.
Если ее пригласят на эту свадьбу.
Должны пригласить, хотя бы ради эффектного финала.
Ципа должна подумать: жаль, что не потанцую.
Даже Хана Городецкая ничего бы не имела против этой свадьбы – свадьбы внучки Мошека Нискера, который не умеет жить только реальной жизнью. Впрочем, кто знает, быть может, Хана и сама бы пошла танцевать. Например, с Марианом Ронгой. Конечно, если б он перед тем снял свою смешную вязаную шапчонку и незаметно спрятал вышеупомянутую стопку.
Шломо Моше потанцевал бы, уже не заботясь о том, что нужно собирать со свадебных гостей деньги на приданое.
Хелена Турчинская потанцевала бы с мужем, паном Болеславом, дирижером духового оркестра варшавской электростанции.
Щенсны – с Анной, которая специально для него подвела бы глаза (кстати, напрасно, потому что глаза у нее были блестящие и выразительные).
Кристина Артюх, которая говорит: “Когда-то я думала, что люди заблуждаются, а сейчас думаю, что они плохие”, – потанцевала бы с Арнольдом – настоящим, а не тем, которого я нашла. Который плохим все-таки не был, он лишь заблуждался.
Тереса З. – с мужем Винцентием. Корабль, названный его именем, свое отплавал и недавно был отправлен на слом. Тереса З. поставила снимок корабля на этажерку с абсурдным, но мучительным чувством, что муж погиб во второй раз.
Словом, не потанцевала бы только Ципа Г.
Она бы распрямила непослушные ноги. Оперлась на костыли. Неуклюже сделала первый шаг и кивком подозвала Адама.
Адам внимательно приглядывался бы ко всем попадающимся на пути камням, ступенькам и тротуарным плиткам. Говорил бы: не сюда; не туда; а теперь осторожно. Уже много лет он каждый шаг проделывает дважды. За себя и за нее. Собственные шаги не так утомительны.
Дома они включат телевизор. Судят сторожа, который убил одержимого доктора; уже известно, что преемником доктора будет его сын, которому двенадцать лет, но он уже начал говорить немецким голосом Адольфа Фрица. Инфляция растет с каждым днем. Самая большая и самая бедная фавела – Morro da Providencia – станет доступна туристам. За тридцать долларов можно будет сфотографироваться с детьми на фоне свалки. А также взять напрокат подзорную трубу и в новой перспективе увидеть статую Христа Искупителя, раскрывшего городу каменные объятия. Над креслами Адама и Ципы, над телевизором, на всех стенах квартиры, которую им оставили увечные вышивальщицы, висят пейзажи польских городов, польских зим и польских золотых осеней.
Дибук[100]
1.
Адам С., высокий, красивый, голубоглазый, с белозубой улыбкой, преподает историю строительного искусства в американском техническом колледже. Бывал в Польше. Интересовался деревянными синагогами, сгоревшими во время последней войны.
Я спросила у Адама С., почему честолюбивый американец, рост метр восемьдесят, появившийся на свет после войны, интересуется тем, чего не существует?
Он ответил мне письмом, написанным на компьютере. По-видимому, второпях – он даже не оторвал от листа край с перфорацией. Его отец, писал Адам С., был польский еврей, потерявший в гетто жену и сына. После войны он уехал во Францию и там женился. Новая жена была француженка, Адам родился в Париже, дома говорили по-французски. “Почему Польша? – прочла я на компьютерной распечатке. – Из-за дибука. Единокровный брат, сын моего отца от первого брака, родившийся незадолго до войны, каким-то образом потерялся в гетто. Он давно уже во мне сидит, все детство, школьные годы…”
Слово “дибук” на иврите означает “прилепившийся”. В еврейском фольклоре это дух покойника, вселившийся в живого человека.
Адам С. довольно рано понял, что он не один. Иногда на него нападали приступы необъяснимой злобы – чужой злобы, – а то вдруг его одолевал чужой смех. Он научился распознавать приближение приступа, неплохо с этим справлялся и в присутствии посторонних ничем себя не выдавал.
Время от времени его жилец что-то говорил. Что именно – неизвестно, поскольку дибук говорил по-польски. Адам С. начал учить язык – хотел понять, что ему говорит младший брат. Выучив, приехал в Польшу. Вот тогда он и заинтересовался архитектурой деревянных синагог, которые существовали только в Польше – триста лет. На их расписных стенах можно было увидеть райские сады, диковинных зверей, стены Иерусалима и реки Вавилона. Благодаря невидимым снаружи куполам (их прикрывала обычная крыша), внутри создавалось ощущение бесконечного убегающего пространства.
Этих садов и стен давно уже не было, Адам С. рассматривал их на старых, неважного качества фотографиях, но писал о них прекрасные эссе. Со временем он защитил диссертацию и перешел в другой, лучший колледж. Женился. Купил дом. Жил, как всякий нормальный образованный американец, разве что жизнь у него была двойная: его собственная и его младшего брата, которого звали Абрам и который, когда ему было шесть лет, “каким-то образом потерялся в гетто”.
2.
В апреле девяносто третьего года Адам С. приехал в Польшу. Он не был здесь несколько лет, поэтому первым делом посетил Поланец, Пинчов, Заблудов, Груец и Нове-Място. Зачем – неизвестно. Возможно, надеялся, что на этот раз увидит на стене груецкой синагоги реки вавилонские и вербы, на которые “повесили мы арфы наши…”. А может быть, хотел в Заблудове найти грифов, медведей, павлинов, крылатых драконов, единорогов и рыбозмей…
Нашел, как нетрудно догадаться, траву и несколько печальных деревьев.
В Варшаву он вернулся к началу мероприятий, связанных с пятидесятилетней годовщиной восстания в гетто. В перерыве научной сессии мы с ним пошли обедать.
Я поздравила Адама С. с рождением первенца, посмотрела фотографии и спросила:
– А… он?
Я не знала, какое употребить слово: брат? Абрам? Дибук?
– Есть еще?
Адам С. понял сразу.
– Да. Сидит во мне, хотя я бы предпочел, чтоб он уже ушел. Вмешивается, капризничает, сам не знает, чего хочет. Ему со мной плохо, и я с ним чувствую себя все хуже. Я узнал, – продолжал рассказывать Адам С., – что в Бостоне живет некий буддийский монах. Американский еврей, который перешел в буддизм и стал монахом. Мой друг сказал: этот человек, возможно, сумеет тебе помочь…
Я поехал к монаху. Он уложил меня на кушетку и стал массировать плечи. Вначале я ничего не чувствовал, просто лежал, но через полчаса вдруг расплакался. Во взрослой жизни я еще никогда не плакал. Слушая этот плач, я понимал, что голос – не мой. Это был голос ребенка. Во мне плакал ребенок. Плач усиливался, и я начал кричать. Ребенок начал кричать. Это он кричал. Я видел, что он чего-то боится – так кричат от страха. Он боялся, он пришел в ярость, метался, размахивал моими кулаками. На минуту затихал, вероятно, устав, но погодя опять начинал. Ребенок, обезумевший от усталости и страха… Сэмюэль – монах этот – пробовал с ним поговорить, но он не переставал кричать. Это продолжалось несколько часов, я думал, умру, у меня уже никаких сил не осталось. И вдруг я почувствовал, что во мне что-то происходит. Что-то внутри всколыхнулось. Крик стих, на животе у меня замаячила тень. Я понимал, что все это мне только кажется, но монах, по-видимому, тоже что-то заметил, так как обратился прямо к нему. “Иди отсюда, – мягко сказал он. – Иди к свету. – Не знаю, что это могло означать: дело происходило при обычном дневном свете. – Ну, иди… – И тень начала перемещаться. Сэмюэль говорил не умолкая, повторяя одни и те же слова: – Иди к свету… Ну, иди… Не бойся, там тебе будет лучше…” – И он шел… Нет, не шел, скорее скользил, все дальше и дальше, я понял, что вот-вот он уйдет насовсем. И мне стало грустно. – “Хочешь от меня уйти? – сказал я. – Останься. Ты – мой брат, не уходи”. Он словно только того и ждал. Повернул, одним прыжком вскочил на меня… и я перестал его видеть.
Адам С. умолк.
Мы сидели в азиатском ресторане на Театральной площади. Вторая половина дня, холодно. Все те дни были сырыми и холодными. Мглистая серость осела на автомобилях, люди куда-то спешили, не глядя по сторонам. Мы смотрели на прохожих, думая об одном и том же: интересуют ли хоть кого-нибудь юбилейные мероприятия, деревянные синагоги и плачущие дибуки?
– В Америке тоже никого не интересуют, – сообщила я, хотя Адам С. знал это не хуже меня.
У нас на столике лежали фотографии сына и жены Адама С.: веселый смышленый мальчуган в объятиях серьезной женщины с карими глазами за толстыми стеклами очков.
– Моше… – сказал Адам С. – Как мой отец. Но отец был еврейский, настоящий Моше, а малыша все зовут Майкл.
– Ты рассказал отцу про монаха и Бостон?
– По телефону. Он жил в Айове, я позвонил, как только оттуда вернулся, думал, что он не поверит или, по крайней мере, удивится, но он нисколько не удивился. Спокойно слушал, а потом сказал: я знаю, что это за плач. Когда его вышвырнули из укрытия, он стоял на улице и громко плакал. Вот что это был за плач – моего ребенка, вышвырнутого на улицу.
Мы впервые говорили о брате. У отца было больное сердце, мне не хотелось его волновать. Я знал, что брат погиб, как все, о чем еще было спрашивать? А теперь я узнал, что мальчика где-то спрятали вместе с матерью – первой женой моего отца; там было еще несколько евреев, человек десять или пятнадцать. Где – в гетто или на арийской стороне – не знаю. Иногда я представляю себе какую-то кухню, забитую людьми. Они сидят на полу… Стараются не дышать… Он расплакался… Они пытались его утихомирить… Как можно успокоить плачущего ребенка? Дать конфетку? Игрушку? У них не было ни игрушек, ни сладостей. Он плакал все громче, сгрудившиеся на полу люди думали об одном и том же… Кто-то шепнул: из-за одного мальчишки мы все погибнем… А может, это была не кухня… Может, подвал или бункер… Отца там не было, только она, мать Абрама. Которая осталась с людьми. Она не погибла. Жила в Израиле, возможно, живет до сих пор, не знаю, не спрашивал…
Отец умер.
Моя жена пошла в больницу рожать. Я пошел с ней и лег на соседнюю кровать. Когда акушерка сказала жене: “Тужься, сейчас родишь”, – я почувствовал, что и во мне что-то происходит. Почувствовал шевеление, что-то всколыхнулось… Я догадался: это он. Собирается выйти. Собирается вселиться в моего ребенка. Я вскочил с кровати. “О нет, – сказал я вслух. – Не смей. Никакого гетто. Никакого Холокоста. Ты в моем ребенке жить не будешь”.
Я не кричал, нет, но говорил отчетливо. Говорил по-польски, так что ни акушерка, ни жена меня не понимали. Зато он понял. Успокоился, и я снова лег. Я был так измучен, что задремал. Разбудил меня громкий плач, но страха в нем я не услышал. Это кричал нормальный здоровый младенец, только что появившийся на свет. Мой Сын. Моше.
3.
Буддийский монах сидел на кровати, вытянув вперед прямые ноги. На ногах – белые гипсовые сапоги, из которых выступали только пальцы, длинные и подвижные. В руках монах держал флейту метровой длины. Время от времени он подносил ее к губам, и комнату наполняли высокие унылые звуки; пальцы, торчащие из гипса, подрагивали в такт.
У монаха были две флейты, обе из кедра. Ту, что покороче, из белого кедра, ему подарили индейцы из Северной Дакоты; более длинная, из красного кедра, была родом из гор Аризоны. Дерево определяют по запаху.
– Проверь. – Он пододвинул ко мне флейту. От нее исходил крепкий дурманящий аромат, скрывающий множество тайн, не внушавших страха.
В комнате монаха была кровать, инвалидное кресло, пара костылей, электроплитка, чашка на столике и несколько книжек. Я подумала, что когда-то уже была в такой комнате. В средневековом замке, в Германии, у Алекса фон дем Бусше, барона и офицера вермахта.
Я сказала:
– Я уже была в такой комнате, но на кровати сидел немецкий барон без ноги…
Монах оживился. И у него был друг-немец, но не барон, а коммунист, бежавший от Гитлера в Штаты. В Вашингтоне он преподавал буддийскую философию. Выступил против войны во Вьетнаме, в шестьдесят восьмом году поддержал бунтующую молодежь. За радикальные взгляды его выдворили из США.
Эдварду Конзе, немецкому коммунисту, Сэмюэль Кернер, еврейский мальчик из Бронкса, обязан своей увлеченностью буддизмом.
Это было в шестидесятые годы. Сэм и его университетские товарищи носили волосы до плеч и сандалии на босу ногу, презирали американское благосостояние, особенно в собственных домах, баловались ЛСД и ждали революцию. Мировую, в защиту справедливости и против богатых.
Как люди начитанные, они уже знали, что революционная чистота недолговечна. Первоначальное воодушевление спадает, на сцену вступает политика, а революция пожирает своих детей.
У них было три возможности.
Уехать в бедную, например латиноамериканскую, страну и там поднимать народ на борьбу.
Грабить американские банки, а деньги раздавать бедным.
Устраниться, дабы в тишине и покое совершенствовать ум и характер.
Они выбрали совершенствование.
Когда революция захлебнется, когда начнется ожесточенная борьба за власть и деньги, они выйдут из своего укромного прибежища – чистые, облагородившиеся, не восприимчивые к соблазнам – и спасут идеал.
Они понятия не имели, как найти путь к совершенствованию, и Сэмюэль попросил совета у Эдварда Конзе.
– Ты – еврей, – сказал Конзе. – Обратись к вашей собственной традиции.
И Сэм пошел к раввину.
– С чего начать? – спросил он.
– С Талмуда, – ответил раввин.
– Сколько на это понадобится времени?
Раввин задумался:
– Пять лет, не больше.
– А потом что?
– Каббала.
– Долго?
– Пять лет.
– А потом?
– Придешь ко мне. Поговорим…
Для человека, вознамерившегося спасти революцию, это было несерьезное предложение.
Сэмюэль Кернер и его друзья поехали в Сан-Франциско. Сняли развалюху в Чайнатауне. Спали в спальных мешках, мылись холодной водой, ели раз в день, в полдень, всегда одно и то же: капусту и рис. Под руководством Ду Луня, маньчжурского китайца, медитировали и беседовали о буддизме.
Ду Лунь не заставлял их учиться десять лет. Для того чтобы сесть и погрузиться в медитацию, долгой подготовки не требовалось.
В группе Сэмюэля было тридцать евреев. Их отцы и матери родились в Штатах, но братья и сестры их дедушек и бабушек, а также дети этих братьев и сестер остались в Европе и погибли в газовых камерах.
Они спрашивали у Ду Луня, почему Бог допустил Треблинку.
Ду Лунь не знал и просил сосредоточиться и как можно глубже погружаться в медитацию.
Они медитировали по десять – двенадцать часов. Чаще, чем грядущая мировая революция, их умы занимал Бог, который допустил Холокост.
Сэмюэль Кернер стал буддийским монахом. Обрядился в полотняные одежды и поселился в деревянном домишке в горах Монтаны. Читал, размышлял, слушал, как идет снег. Когда сердце и ум спокойны, человек слышит хлопья снега. Слышит ли он ответ, которого не знал Ду Лунь, маньчжурский китаец? А может, когда сердце и ум спокойны, человек не задает вопросов?
Сэмюэль Кернер закончил свой рассказ. Задумался. Внезапно наклонился и стал шарить рукой под кроватью. Вытащил ноутбук, пристроил его на гипсовых коленях и начал напряженно всматриваться в экран. Я думала, он ищет ответы – те самые, важнее которых нет, – но на экране был всего лишь еврейский календарь на 5754 год.
– Ханука! – воскликнул он. – Я чувствовал, что сегодня первый день!
Он попросил меня снять с полки ханукальный светильник, зажег свечу – первую справа – и произнес благословение.
4.
Сэмюэль Кернер завершил свое горное отшельничество и вернулся в мир, чтобы помогать страждущим.
Поселился он в Бостоне, в Бэй-Виллидже, районе наркоманов, гомосексуалистов, студентов и непризнанных художников.
Страждущим помогал китайскими способами: прикосновением, травами и акупунктурой.
Суть исцеления прикосновением – извлечение памяти. Память скрыта в человеческом теле, в мышечных оболочках. Ее находят, прикасаясь к голове, затылку и стопам. Если то, что было отправлено в забвение, вызвать наново, оно перестает тебя мучить.
Страдающих неврозами американцев Сэмюэль обычно избавлял от детских кошмаров. Немец, которого изводили головные боли, как оказалось, во время Второй мировой войны был командиром подводной лодки. Лодка затонула вместе с экипажем, командир уцелел. Сэмюэль сомневался, должен ли он лечить этого немца. Решил, что должен: немец, потерявший свою команду, относился к категории страждущих.
Однажды к Сэмюэлю Кернеру пришел Адам С. Он сказал, что в нем живет брат, который погиб в гетто. Спросил, сможет ли монах ему помочь.
Монах растерялся. Адам С. родился после гибели мальчика, памяти о войне в нем никогда не было. Поиск в мышечных оболочках смысла не имел, и тем не менее Сэмюэль уложил пациента на кушетку. Начал массировать ему затылок. Ничего не происходило. Монах повторил, что способен разворошить только хранящуюся в организме память, однако не успел договорить, как Адам С. расплакался, а затем закричал. Минуту назад они беседовали по-английски, а тут Адам С. что-то выкрикивает на неизвестном языке с множеством шелестящих согласных…
Сэмюэль слушал с изумлением. Адам С. явно звал кого-то жалобным детским голосом. Потом разозлился. Потом стало понятно, что он чего-то боится. Можно было не сомневаться: в комнате появился кто-то третий. Он то затихал, то вел себя как агрессивный одичалый зверек.
Сэмюэль вспомнил, что на Тайване слышал рассказы о людях, скончавшихся скоропостижно или погибших насильственной смертью. Они не знают, что умерли. Их души не могут оторваться от земного мира. Китайский буддизм – религия народная, а в народных поверьях полным-полно духов. Тем, кто не в состоянии уйти, китайцы стараются помочь. Указывают путь.
Сэмюэль Кернер указал путь брату Адама С.
Он сказал:
– Иди к свету.
И хотя не понимал, почему так говорит, был уверен, что это правильные слова.
Тот, кто был с ними, кто был всего лишь воздухом и страхом, последовал за словами.
И тогда Адам С. что-то произнес на своем шелестящем языке.
Тот остановился. Повернул и торопливо направился к Адаму.
В комнате воцарилась тишина.
– Что ты ему сказал? – спросил Сэмюэль.
– Я сказал: не уходи… – ответил Адам С. уже своим голосом и по-английски.
– Ты что, хочешь, чтобы он с тобой остался?
– Это же мой брат… – прошептал Адам С.
5.
Восемь месяцев назад машина размозжила Сэмюэлю обе ноги. Врачи сказали, что ходить он будет, но не раньше, чем через два года. Сэмюэль каждый день ездил на интенсивные тренировки, а когда возвращался, я присаживалась к нему на кровать и терзала расспросами.
– Ты хоть что-нибудь из всего этого понимаешь?
– Нет. И не пытаюсь понять. Китайцы говорят: уважай духов, но держись от них подальше. Я не вызывал брата Адама С. Я только дал ему голос, чтобы его было слышно.
– Бог имеет к этому какое-нибудь отношение?
– Не знаю. У иудеев с Богом все сложно и неясно. Буддийский Бог кажется более простым, менее важным, и я о нем не беспокоюсь. Пускай он обо мне беспокоится. Мое дело – заботиться о страдающих людях, а не о страдающем Боге.
Наш разговор прерывался, когда Сэмюэль начинал хрипеть. Первый раз я подумала, что это из-за простуды, но он объяснил, что из-за опухоли. Ему вырезали только половину, рака там не оказалось. Остается вырезать вторую половину, насчет которой у врачей нет уверенности.
Устав, Сэмюэль брал флейту. Я что-то говорила, он отвечал на флейте. Кедровому индейскому инструменту неведомы приятные звуки, поэтому в комнатушке становилось все печальнее и все больше пахло стариной. В конце концов Сэмюэль заказывал мне такси – одинокие женщины не ходят по темным улицам Бэй-Виллиджа, – и я возвращалась домой.
Поздним вечером с Западного побережья звонил Адам С.
Он рассказывал, как прошел день. Закончил статью, принимал у студентов экзамены, сын в порядке, всё в порядке, разве что опять он проснулся в три часа и не спал до рассвета.
Мужчины в его семье умирали молодыми – и все от болезней сердца. Это нехорошо. Это значит, что ему осталось не больше десяти лет. А что потом?
– Не надо было его возвращать, – сказала я. Мне было понятно, кого Адам имеет в виду, спрашивая “а что потом?”– Он бы пошел к свету, где этот свет ни есть. Забыл бы.
– Знаю, – согласился Адам С. – Но когда он стал уходить…
Когда он так уходил, я почувствовал…
Не знаю, как это сказать по-польски…
Такую почувствовал рахмонес…
Такую жалость…
Ой, какую я почувствовал рахмонес, такую… преогромную… когда он уходил из этого мира…
6.
Он просыпается в три часа и не спит до рассвета.
– Не спишь? – спрашивает жена и садится в кровати.
– Знаю, – говорит, опережая ее, Адам С. – Я должен пойти…
– Он хочет тебе помочь, – говорит жена и начинает плакать.
– В прошлый раз, когда я у него был, он велел мне нарисовать стену гетто и арийскую сторону. Дал листок бумаги, ручку и сказал: нарисуй, иначе я не понимаю, о чем ты говоришь.
– Да откуда ему понимать, – говорит жена Адама С., которая, как и их психотерапевт, родилась в Бруклине. – Объясни ему, в этом же нет ничего плохого. Когда поймет, попытается тебе помочь.
– Постарайся заснуть, – отвечает Адам С., надевает спортивный костюм и выходит из дома.
Он бегает между темными спящими садиками своих коллег-профессоров.
В шесть открывают клуб ИМКА. Он отправляется в тренажерный зал и занимается на снарядах.
Тренирует сердце.
Поседевший, все больше похожий на отца. Все меньше похожий на того, заточённого в нем, не тронутого смертью, навсегда шестилетнего.
Кресло
1.
Про плачущего дибука я рассказала иерусалимскому знакомому, солдату и поэту.
Каждый уцелевший еврей слушает чужие рассказы с легким нетерпением.
Уцелевший еврей сам знает случаи во сто крат интереснее.
– Ты закончила? – спрашивает он. – Так я тебе расскажу лучшую историю.
Итак, я рассказала про дибука.
– Закончила? – спросил солдат-поэт. – Так я тебе расскажу…
“Лучшая история” была про дедушку Мейера и бабушку Мину. Они жили в Сендзишове. Семья состоятельная, уважаемая: дедушка Мейер одно время возглавлял городской совет. Потом занялся коммерцией, построил лесопильню, cкупал лес и производил железнодорожные шпалы. Перебрался на Подолье, представлял там пивоварни “Окочим”. В родные края вернулся перед самой войной.
У бабушки Мины болели ноги. Никто не знал, отчего, хотя дед возил ее к лучшим львовским врачам. Бабушка сперва прихрамывала, потом даже с палкой передвигалась с большим трудом и в конце концов совсем перестала ходить. Дедушка съездил во Львов и привез кресло. С высокой спинкой, удобной подножкой, обитое бархатом – темно-зеленым в полоску чуть светлее. Бабушка Мина села в кресло, поставила ноги на подножку и тяжело вздохнула:
– Теперь я уже до конца жизни не встану.
С этой минуты она управляла домом с высоты своего кресла.
Бабушка не покидала столовой, однако знала, что к рыбе понадобится перец, а к свекольнику – сахар, что внукам пора садиться за уроки, а прислуга должна сходить в аптеку за лекарством от кашля.
Лекарство предназначалось дедушке Мейеру. Его тщательно обследовали: исключили легкие, щитовидную железу и гортань, но кашель не прекращался.
Жизнь протекала нормально: дела – дети – прислуга – дом… разве что дедушка кашлял, а бабушка сидела в кресле.
Когда началась война, дедушка быстро понял, что быть беде. Он пригласил к себе соседа-поляка, с которым его связывали дружеские отношения, и они вдвоем заперлись в комнате. Вскоре польский друг принялся сооружать схрон. Работа – с особой осторожностью – продолжалась год. Укрытие получилось просторное: поместилась необходимая утварь, запас еды, даже бабушкин ковер и – естественно – зеленое кресло.
Когда объявили о создании гетто, дедушка с бабушкой перебрались в укрытие. Они позвали туда другие еврейские семьи, в итоге в схроне поселилось человек пятнадцать.
Жизнь потекла почти нормально.
Польский друг приносил покупки, бабушка сидела в кресле, а дедушка кашлял.
Обитателей схрона этот кашель начал тревожить.
– Мейер, – говорили они, – люди услышат. Ты не мог бы сдерживаться? Нашел время кашлять…
Дед Мейер понимал, что время неподходящее, сосед приносил все новые лекарства, бабушка крутила гоголь-моголь, но кашель не прекращался.
И однажды обитатели бункера вышли из себя.
И задушили дедушку.
И произошла удивительная вещь.
К бабушке вернулась сила в ногах.
Она встала с кресла.
Закрыла дедушке глаза.
Вышла из укрытия.
Постучалась к польскому другу.
– Бегите, – сказала она. – Сюда сейчас придут немцы.
Остановила проезжавшую по дороге телегу и велела отвезти себя в жандармский участок.
Немцы застрелили всех евреев.
Бабушку тоже застрелили, но самой последней. Пояснили, что это ей в награду. Благодаря чему она увидела, как погибают дедушкины убийцы.
Мой знакомый, солдат и поэт, выжил в Кракове. Историю дедушки Мейера и бабушки Мины ему после войны рассказал их друг-поляк.
2.
– Сендзишов… – вздохнул нью-йоркский раввин Хаскель Бессер. – Я как раз недавно думал о Сендзишове. Мы ехали в санях через Шамони, возница укрыл нам ноги бараньей шкурой. Я почувствовал запах шкуры и сказал жене: мне этот запах откуда-то знаком. В гостиничном номере мы сели у открытого окна и смотрели на Альпы. Пошел снег. Я сказал: уже знаю…
Я ехал в санях в Крыницу, шел снег, возница набросил нам на ноги баранью шкуру. Рядом со мной сидела толстая женщина и без умолку болтала. Рассказывала о родственниках и соседях, о чьих-то похоронах, о чьей-то свадьбе – и все из Сендзишова. Ее фамилия была Зильберман. Имени не помню… Снежинки оседали у меня на ресницах, дул ветер, я подтянул шкуру повыше и почувствовал резкий запах лохм, обшитых шершавым протертым сукном. Зильберман удивлялась, что мне холодно, спросила, как меня зовут. “Хаскель? Как моего брата”, – и начала рассказывать о его школьных успехах. Зиму я всегда проводил в Пивничной, но в тот год моя сестра вышла замуж, и мне хотелось побыть с ней. В Шамони я все время думал о Пивничной, о Крынице и о Сендзишове, где никогда не был…
3.
Если бы это происходило в рассказе Зингера, толстуха в санях знала бы душераздирающую сендзишовскую историю. И уж наверняка бы слышала о дедушке Мейере и бабушке Мине, чья судьба стала местной легендой, с волнением передаваемой из уст в уста. Но снег шел, и сани катили, и Зильберман рассказывала свои байки очень давно, ДО ВСЕГО. Зеленое кресло еще стояло в столовой, дедушка спокойно кашлял, и никакой истории еще не было.
Если бы это происходило у Зингера, о бабушке Мине и дедушке Мейере могла бы рассказать тетя Ентл, та самая, в чепце, украшенном стеклярусом и отделанном лентами – желтой, красной, зеленой и белой. Она обожала удивительные и жуткие истории: про князя, который жег черные свечи и жил с женщиной-демоном, про рыжую Дашу, которую хам-учитель отхлестал ремнем… Но это были самые ужасные происшествия из тех, о которых тетя Ентл слыхала. Про бабушку Мину, которую – в награду – убили последней, Зингер не писал. Он боялся касаться Холокоста. Даже нечистые духи, демоны, дибуки, упыри и черти из его рассказов боялись. Они не заглядывали в ад, выстланный ковром, с зеленым бархатным креслом на почетном месте.
Горжетка
В пансионате мы с пани Метей регулярно совершали неутомительные прогулки. Бродили вдоль Свидера[101], который в ту весну был немного шире и глубже обычного. Выходили сразу после завтрака, чтобы опередить алкашей, просыпавшихся ближе к полудню. Они располагались в окрестных лесах, посреди пустых банок из-под пива и консервных банок от закуски, обрывков веревки и полиэтиленовых пакетов.
Пани Метя, казалось, этого мусора не замечала. Ее по-детски безмятежному голубому взору открывался вид на сады, цветы и плетеные кресла. Она поясняла мне:
– Веранда была вон там, слева. Мы на ней играли в покер. Можете поверить, что когда-то я обыграла скульптора Куну?
Веранда украшала пансионат Шиховой семьдесят лет назад; пани Метя бывала в тех краях каждый год. В Свидере она игрывала в покер со скульптором Куной, в Срудборове – в белот с адвокатом Дýрачем, на Новый год они с мужем ездили в Отвоцк к Гурецким. Те, правда, брали двадцать пять злотых в день, то есть в пять раз больше, чем владельцы других пансионатов, зато там подавали французские сардины и куропатку с апельсинами.
Каждые несколько дней пани Метю навещал пан Вальдемар, ее муж. Приезжал ненадолго, поскольку еще не перестал заниматься делами. Последнее время он всерьез подумывал о детских колясках. Где-то он прочитал, что в Польше ежегодно рождается пятьсот тысяч детей, а колясок производится немного. Можно бы выписывать их из Тайваня и продавать минимум по два миллиона.
Экономически мыслить пан Вальдемар научился смолоду у торгового советника французского посольства. Видимо, ученик был смекалист: уезжая охотиться в Мексику, советник оставлял на него всю канцелярию.
Пан Вальдемар собирался жениться на другой, а именно – на Антонине Вайман. Ее отец владел акциями шестнадцати сахарных заводов и ездил на “ситроене” с такой потрясающей подвеской, что чувствовали вы себя в нем как в колыбели. Был уже назначен день свадьбы, заказан ужин в “Европейской” и билеты в Севилью (свадебное путешествие), но из Оксфорда приехал брат Антонины. Приглядевшись к жениху, он сказал сестре два слова: “Не советую…” Она послушалась брата. Вайман-старший покончил с собой сразу после вторжения немцев. Антонину арестовали на арийской стороне. Несмотря на семитскую красоту, она не приняла к сведению, что идет война. Не пошла в гетто. Не захотела прятаться. Ее вывели из ресторана “Симон и Стецкий”: кто-то (неизвестно кто) позвонил в полицию.
Через полгода после несостоявшейся женитьбы пан Вальдемар поехал в отпуск и на дансинге в Ястарни увидел панну Метю…
Когда я познакомилась с ними в пансионате в Свидере, они были женаты пятьдесят семь лет.
Я любила приходить к ним в комнату на чашечку английского чая и слушать рассказы пани Мети, всегда хорошо и эффектно заканчивавшиеся.
– Новый год мы встречали в Отвоцке, – начала она как-то за чаем. – Танцевали целую ночь и первого числа до обеда, Вальдек только вечером поехал домой, а я осталась. В день Богоявления выпал снег. За несколько часов намело сугробы, рельсы засыпало, мы оказались полностью отрезаны от мира. И знаете, что сделал мой муж? Приехал на санях из Варшавы, чтобы я не волновалась. “Я прекрасно один управляюсь, милая, сиди тут и отдыхай…” Ну я сидела и отдыхала, пока не позвонила знакомая официантка из “Фрегата”. “И вы преспокойно отдыхаете себе в этом Отвоцке? А пан инженер уже неделю приходит к нам каждый вечер, всегда с одной и той же дамой…” Я вызвала сани. В Фаленице пересела на поезд, в Варшаве пошла к парикмахеру. Это вам следует знать, – наставительно вставила пани Метя. – В подобных ситуациях у женщины должны быть чистые, красиво уложенные волосы… Я позвонила Вальдеку в канцелярию и сказала, очень спокойно, всего три слова: жду во “Фрегате”…
Рассказ жены явно настроил пана Вальдемара на мечтательный лад. Открыв бумажник, он вынул фотографию. На ней был молодой мужчина в клетчатых брюках-гольф, с самоуверенным взглядом игриво прищуренных глаз.
– Это я, – сказал он. – В ту пору. Я вам нравлюсь?
– Очень, – призналась я. – Но чем закончился разговор в кафе?
– Новой горжеткой, – засмеялась пани Метя. – От Апфельбаума. Знаете, кто это? Мауриций Апфельбаум, Маршалковская, сто двадцать пять, лучший скорняк в Варшаве. Чудесная серебристо-черная лиса, когда я перекидывала ее через плечо, она струилась по спине до самых щиколоток…
– От Хованчака, – вмешался пан Вальдемар и прислонил фотографию мужчины в клетчатых брюках к сахарнице.
– От Апфельбаума, дорогой, – заверила его пани Метя. – Ты же знаешь, ни у кого больше не было таких дивных чернобурок.
– Метя. От Хованчака. Апфельбаума тогда уже не было.
– А знаешь… – Пани Метя задумалась. – Ты прав. Апфельбаума тогда давно уже не было.
Тут я поняла: все, про что они рассказывали – эти романы – эти измены – эти снежные завалы – эта чернобурка, – относится ко времени оккупации.
Я не сразу оправилась от впечатления, которое на меня произвело услышанное.
Летом пани Метя заболела. Даже в больнице взгляд у нее оставался доверчивым, безмятежным; она рассказывала о пансионате, который обнаружила в Мендзылесье, и пообещала, что, как только поправится, мы непременно туда поедем.
Я позвонила осенью.
– Так вы не знаете, что́ она мне устроила?! – В голосе пана Вальдемара звучало плохо скрываемое негодование. – Она умерла! Умерла!
– А ведь я ей говорил: переберемся на Таити, – с обидой рассказывал он, когда я его навестила. – В тридцать девятом году французский банк объявил в “Ле Матэн”, что за восемь тысяч злотых гарантирует пожизненное пребывание на Таити. Я умолял: Метя, продадим всё. Едем! Температура воздуха не выше восемнадцати, летом и зимой, днем и ночью… Знаете, что она ответила? “И Шихова перенесет туда свой пансионат? А как насчет снега? Новогодняя ночь без снега?!” И мы не поехали. А она умерла…
– Французский банк гарантировал на Таити бессмертие? – спросила я, но пан Вальдемар не расслышал. Встал. Повел меня в комнату жены и открыл шкаф.
Понимаю. Это звучит невероятно, но… пан Вальдемар достал горжетку из серебристо-черной лисы.
– Жена просила… – сказал он. – Пожалуйста, возьмите на память…
– Я бы предпочла что-нибудь от Апфельбаума, – призналась я. – Вы же знаете, ни у кого больше не было таких дивных чернобурок… – и быстро повесила горжетку обратно, опасаясь, что пан Вальдемар скажет, где она была куплена – в торговом центре “Воля”[102], например, – и испортит мне эффектный финал.
Дерево
1.
Старый еврей, бородатый, в черной шляпе, в длинном черном пальто, выходит из дому около восьми утра и садится в трамвай на Тарговой, возле базара Ружицкого[103].
Случается, что через две остановки, на Ягеллонской, в тот же самый трамвай садится другой старый еврей, хотя чаще они едут разными трамваями.
Третий старый еврей, который должен садиться за две остановки до базара, на Замойского, очень слаб и ездит в синагогу только по субботам.
В синагоге они читают утреннюю молитву, после чего съедают дармовой кошерный завтрак.
Вернувшись домой, они ложатся в кровать. Копят силы. В три нужно встать и идти на трамвайную остановку. Им предстоит прочитать две молитвы, дневную и вечернюю.
В субботу, если не скользко, не идет дождь и нет сильного ветра, молиться приходят человек двадцать.
Это последние в Варшаве, а может быть, и в Польше, а может, и на Земле восточноевропейские евреи.
2.
Их территория ограничена несколькими улицами на Праге вблизи детского сада. В детском саду есть площадка с качелями и небольшим холмиком, на который ведут каменные ступеньки. Тут стояла круглая синагога, самая старая в Варшаве. Скромная, без украшений, – одна из первых круглых синагог в Европе. Внутри всё было сожжено во время войны, стены разобрали после войны. Ступеньки ведут в никуда.
Земельный участок принадлежал Бергсонам, основателем рода которых был Шмуль Збытковер, банкир короля Станислава-Августа. Недвижимость подарил еврейской общине сын Шмуля, Берек. “Все эти строения и участки от недр земли до небесных высей отдаю в вечное пользование как неоспоримый добровольный дар, не подлежащий отмене в будущем, – писал он в акте дарения в 1807 году. – Супруга моя и повелительница – долгой ей жизни! – в этом меня поддержала. Я же обращаю свои молитвы к Всевышнему, дабы взор его днем и ночью был устремлен на дом сей…”
Сыновья Берека обратились к наместнику Зайончеку[104] с просьбой разрешить им жить на любой варшавской улице за пределами еврейского квартала, даже если они будут носить еврейскую одежду и бороды. Наместник просьбу поддержал и представил Александру I. Царь дал соизволение на улицу, бороду и традиционную одежду только одному из братьев – самому старшему.
Самый младший брат, Михал, уехал в Париж. Он был учеником Шопена, композитором и пианистом. Сочинял оперы и фортепианные произведения.
Сын Михала, Анри Бергсон, – французский философ, лауреат Нобелевской премии. Писал о роли инстинкта, интеллекта и интуиции. После захвата Франции немцами правительство Виши уведомило философа, что его не будут касаться антиеврейские ограничения. В ответ Бергсон отказался от наград, которых его удостоила Франция, и, восьмидесятилетний, отстоял многочасовую очередь, чтобы, согласно указу властей, зарегистрироваться евреем. Вскоре после этого он умер. Ему был близок католицизм, однако креститься он не стал. “Хочу остаться с теми, кого завтра будут преследовать”, – написал Анри Бергсон в завещании.
К участку, над которым витают духи банкиров, музыкантов и философов, прилегают два дома. Один из них, скромный, одноэтажный, красного кирпича, некогда предназначался для миквы – ритуальной бани; тут живет восточноевропейский еврей, который садится в трамвай на Ягеллонской. Другой дом – двухэтажный, импозантный – был построен[105] на месте бывшего приюта для нищих, скитальцев и раскаявшихся грешников. В нем разместили – о чем напоминает мемориальная доска – Воспитательный дом варшавской еврейской общины им. Михала Бергсона. Одну из квартир занимает восточноевропейская еврейка, которая ни на каком трамвае в синагогу не ездит.
3.
Ее назвали Нинель. Н-и-н-е-л-ь – Ленин, если читать в обратном порядке. Старшая сестра получила имя Рема – аббревиатура советского лозунга двадцатых годов “Революция плюс Механизация”.
Рема из Польши уехала, а Нинель со своим именем осталась. “Что это за имя – Нинель?” – спрашивали у нее, понижая голос, чиновники, почтальоны, акушерка, принимавшая роды, и знакомые на курорте, а она лихорадочно раздумывала: солгать или стерпеть еще раз, с отчаянием, но достойно?
В возрасте пятидесяти лет она побывала в Израиле и узнала, что нин-ель — сочетание двух древнееврейских слов: правнук и Бог.
День, когда она перестала быть Лениным и стала Божьей Правнучкой, был одним из самых счастливых в ее жизни.
Дед Нинели – извозчик, управлявший чужой лошадью, – и отец, портновский подмастерье, были родом из Свенцян. Бабушка умерла молодой; умирая, она звала сына, будущего отца Нинели. Когда сын пришел в больницу, ее уже не было в живых. Санитар хотел показать покойницу сыну, отвел мальчика в морг и… перепутал контейнеры. Открыл какой-то, и глазам предстала куча отрезанных человеческих рук и ног. Мальчик вернулся домой, лег и заснул. Спал несколько дней. Вызвали врача. Врач ничего не сумел сделать, но сказал, что случай интересный и что он охотно купил бы пациента в спячке. Дед согласился. Врач оставил деньги, забрал будущего отца Нинели, а дед купил себе лошадь. Будущий отец проспал двадцать три дня и проснулся на удивление здоровым. Врач описал “случай пациента К.” – его до сих пор можно найти в некоторых учебниках.
Будущий отец Нинели стал коммунистом. Уехал в Москву. Изучал, а потом сам преподавал марксистскую философию. Вызвал из Свенцян брата и сестру, Абрама и Рахель. Всех арестовали в тридцать седьмом. Отец Нинели просидел девять лет, Рахель и Абрам – по восемнадцать.
Они вернулись в Польшу. Нинель закончила факультет электроники. Она знаток еврейских обычаев и талмудистского права. Ее сын выучил иврит и еврейские молитвы. В тринадцать лет прошел обряд бар-мицвы, получил право носить талес, молиться вместе с взрослыми мужчинами и читать вслух Тору. Это была первая после окончания войны бар-мицва в варшавской синагоге.
4.
У восточноевропейского еврея, который живет в одноэтажном доме, был религиозный отец, член городской управы в Ласкажеве. Были три брата и три сестры. Были двое детей и жена. Была лошадь, повозка с брезентовым верхом и магазин, который они держали вместе с братом. Звали его Сруль.
Он торговал скотом и мясом в разных деревнях: Корначице, Издебно, Моранов, Леокадия, Соснинка, Пшеленк, Зигмунтов, Левиков, Мелянов, Хотынь и Вельки-Ляс.
Мужики, с которыми торговал и которым давал взаймы деньги (он говорил: “Открой ящик, возьми, сколько тебе нужно, отдашь, когда сможешь”), постановили, что Сруль должен выжить.
Дали ему имя Зигмунт.
Разрешали ночевать в своих овинах, лесах и стогах сена. Кормили хлебом, супом и картошкой. Когда его жена Йохвед и дочка Бася погибли в гетто, ему говорили, что он должен жить ради сына. Когда погиб Шмулек, говорили, что должен жить ради них.
Он выжил благодаря крестьянам из Корначице, Издебна, Моранова, Леокадии, Соснинки, Пшеленка, Зигмунтова, Левикова, Мелянова, Хотыня и Вельки-Ляса.
После войны он ездил в органы госбезопасности – свидетельствовал, что арестованный аковец не убивал евреев.
Ходил на фабрики, говорил:
“Отец этой девушки меня спас, а вы не хотите брать ее на работу?”
Устраивал им приглашения из-за границы. Продавал без карточек мясо с кошерной бойни, а коровьи и телячьи ноги давал бесплатно. Был гостем на семейных праздниках. Танцевал с чужими невестами на чужих свадьбах и сидел за столом недалеко от приходского ксендза и солтыса.
В одноэтажном доме, над которым витают духи банкиров, музыкантов и философов, в комнате, которая была раздевалкой миквы, восточноевропейский еврей просматривает поздравительные открытки. Как и каждый год, они пришли из Корначице, Издебна, Моранова, Леокадии, Соснинки, Пшеленка, Зигмунтова, Левикова, Мелянова, Хотыня и Вельки-Ляса.
Последним он берет конверт из Нью-Йорка.
– Читай вслух, – говорит. – Я почти совсем ослеп.
Конверт вскрыт. Листок с фирменным знаком авиакомпании, исписанный корявым почерком, читан-перечитан: “Читая твое письмо, я сильно расплакался. Я все так же жалею, что убежал из поезда. Жизнь у меня одинокая. Желаю тебе доброго здоровья, твой Мойше”.
Они ехали в Треблинку в одном вагоне: Мойше Ландсман, приятель из Ласкажева, и он с четырехлетним сыном. Когда сын в вагоне задохнулся, Мойше Ландсман шепнул: “Сейчас!” – и прыгнул первым.
– Пиши, – говорит он мне. – Я почти совсем ослеп.
Протягивает листок почтовой бумаги и начинает диктовать:
– Дорогой Мойше, ты прав. Ради кого мы прыгали? Какого черта прыгали? Оно нам нужно было – прыгать из этого поезда?.. Или нет…
Передумал. Забирает у меня почтовую бумагу и протягивает блестящую открытку. На открытке елка с множеством разноцветных шаров и горящих свечей.
– Пиши, – говорит он. – Дорогой Мойше, по случаю Нового, тысяча девятьсот девяносто пятого года желаю тебе много здоровья и…
– И?..
– Ты пиши, пиши. Не знаешь, чего желают на Новый год?
5.
Сына Нинели, Божьей Правнучки, готовил к бар-мицве бородатый еврей, который садится в трамвай на Тарговой.
Он был шойхетом, то есть резником. Искусству ритуального убоя его обучал Исаак Дублин, а Талмуду – Моше Типнис; во всем Рокитне не было более набожных, более ученых евреев.
После шестидесяти нельзя быть резником. Рука может дрогнуть, нож поцарапает кожу, и мясо уже не будет кошерным.
Когда еврей с Тарговой улицы перестал быть шойхетом – последним в Варшаве, последним в Польше, – он решил уехать в Израиль.
Собрал мебель в дорогу, запер в комнате, а ключ спрятал в полотняный мешочек.
Сам переселился в кухню. Там прибывало кастрюль, которые не стоит мыть, баночек, которые не стоит выбрасывать, черствого хлеба, прочитанных газет, рваных пакетов, старых башмаков, крышечек от бутылок, пробок и тряпок.
Вернувшись после утренней молитвы, он снимает черный костюм и в нижнем белье ложится в постель, которую не стоит застилать. Белую бороду и желто-серые худые руки кладет поверх желтовато-серого одеяла. Погружается в недолгий чуткий сон перед полуденной молитвой.
Он хочет поплыть со своей мебелью в Хайфу на торговом судне. Притом бесплатно, и потому отправляется в израильское посольство и просит билет.
Ему отвечают, что это невозможно.
Проходит года два или три. Он отправляется в посольство, просит билет.
Ему говорят, что это невозможно.
Проходит года два или три…
Возможно, из других стран, западноевропейских, ПОЕХАТЬ в Израиль – пара пустяков.
Восточноевропейский еврей не поедет с бухты-барахты.
Он должен СОБРАТЬСЯ – а на это требуется время.
Бородатый еврей с Тарговой улицы, последний польский шойхет, собирается в Израиль уже тридцать лет.
6.
К последнему шойхету пришел еврей средних лет. Тоже восточноевропейский, но с Воли.
На углу Редутовой и Вольской, напротив водоразборной колонки, у его отца была портняжная мастерская.
Воду носили в ведрах на коромысле.
Колонка была красного цвета.
Отец шил костюмы.
Жена фабриканта Кригера заплатила за пошив костюма из шерсти сто пятнадцать злотых.
Отец за пять злотых купил отжималку, за пятнадцать лохань, а остальное проиграл в штос.
Это случилось перед Пасхой. Мать послала детей к раввину. Раввин жил на Вольской, напротив хедера. Пошли все пятеро, он и сестры – Крейндл, Фрейндл, Файге и Ханя. Раввин дал им сорок восемь яиц и пачку печенья.
Он наблюдал за отцом – как тот играл и как проигрывал – и сделал вывод: в любой карточной игре судьбе можно помочь.
Родители были глухонемые. Разговаривали на идише, на языке жестов. Благодаря этому у него не было еврейского акцента, и после ликвидации гетто не составило труда прикидываться арийцем.
Он был уличным певцом, чистильщиком обуви, продавцом папирос, пастухом и рабочим на железной дороге. Жил на Западном вокзале, на четвертом перроне, в будке осмотрщиков вагонов. Через вокзал проходили немецкие поезда с Восточного фронта – солдаты ехали в отпуск. У этих солдат можно было купить шампанское и сардины, а им продать фонарики, батарейки и вечные перья. Торговал он ночью, товар сбывал в Мировских торговых рядах ранним утром, а днем ходил с молотком и проверял рельсы, колеса и тормоза.
Женился он на польке. Она родила ему сыновей, которые не хотели быть евреями.
Он не любит хвастаться, но лучше игрока, чем он, нет ни в отеле “Мариотт”, ни в клубе “Рио Гранде”, ни на базаре Ружицкого. Играет он в штос, покер, буру, деберц, рулетку и шестьдесят шесть. Хвастаться не хочет, но лучше игрока нет во всей Варшаве.
А все потому, что отец проиграл деньги, которыми расплатилась за костюм жена фабриканта Кригера.
Последний игрок пришел к последнему шойхету по весьма деликатному делу.
У него есть женщина, Тоська. Приятная, с большой грудью и добрыми голубыми глазами. Ему ужасно хочется, чтобы Тоська оказалась еврейкой. Однажды она рассказывала, как ее отец убивал петуха. Р-р-р-раз – полоснул ножом по глотке – и нет петуха.
В душе игрока затеплилась надежда.
Они с Тоськой пошли к последнему шойхету.
Посадили его в машину.
Поехали в деревню.
Купили петуха.
Последний шойхет вырвал из петушиной шеи несколько перьев. Достал из холщового чехла ритуальный нож – узкий и острый, без единой зазубрины. Проверил пальцем, гладкое ли лезвие. Полоснул ножом по глотке – р-р-р-раз…
Они посмотрели на Тоську.
– Так делал твой отец?
– Так, – подтвердила она.
– Значит, он был еврей, – обрадовался последний игрок. – Может, даже резником был?..
– Глотку он проверял? – встревожился последний шойхет, внимательно осматривая убитую птицу. – В глотке ни в коем случае нельзя оставлять ни зернышка корма, иначе птица будет нечистой.
Тоська не помнила, проверял ли ее отец глотку, но последний игрок на мелочи внимания не обращал.
– Твой отец был еврей, ты – еврейка, наконец-то ты на правильном пути, и всё благодаря мне.
Он взял ее с собой в синагогу, отправил на балкон к женщинам, сам подошел к Торе и стал, как и каждую субботу, молиться за души своих четырех сестер – Крейндл, Фрейндл, Файге и Хани.
7.
Последний кантор Давид Б. и его жена Зысля решили эмигрировать ради сына.
Сын закончил школу, по точным наукам у него были пятерки, и он хотел заниматься электроникой.
Давид и Зысля мечтали, чтобы он получил высшее образование; чтобы нашел себе еврейскую девушку; чтобы девушка родила ему хороших детей. Мечтали в окружении детей и внуков дождаться спокойной счастливой старости.
Все было готово к отъезду.
Они переделали стеганое пуховое одеяло. (Хозяйка мастерской на Виленской в жизни еще не видела такого пуха, и они ей объяснили, что пух – голубиный. Мириам, Зыслина мать, прислала им одеяло в Луцк буквально в последнюю минуту, и это была единственная вещь, которую они не поменяли на муку и картошку. Благодаря одеялу они пережили военные морозы в Коми АССР и в Акмолинской области.)
Одеяло уложили в ящик вместе с часами, которые били каждые пятнадцать минут. Это были особенные часы. Давид Б. заменил цифры на старом красивом циферблате древнееврейскими буквами. Вместо 1 теперь был алеф, вместо 2 – бейс, вместо 3 – гимл и так далее. (И пению, и любви к часам Давида научил отец. Он был владельцем часовой мастерской в центре Кельце и кантором в небольшой синагоге на Нововаршавской.)
Упаковали картины, нарисованные неким Шевченко, украинцем. (Все перед отъездом заказывали картины.) На их картинах были изображены женщины над субботними свечами, мужчины над Торой и евреи – вечные скитальцы. Сцены с Торой им нравились, потому что синагога напоминала келецкую, на Нововаршавской, а вот Вечный Жид вызывал сомнения. Он сидел усталый, босой на обочине дороги, с Торой в одной руке и посохом в другой; башмаки висели у него на шее. Возможно, были ему тесны, а может, он их берег. Так вот, с башмаками этими вышла серьезная промашка: старые, грязные, они соприкасались со Священной книгой! (На это обратила внимание Зысля. Она превосходно знала разные запреты и наставления, потому что религии ее учила жена раввина с Повислья. Раввин жил на углу Хелмской, Зысля – на Черняковской, напротив была миква и молитвенный дом. После смерти раввина его место занял зять, последователь цадика из Пясечна. У него имелся врачебный диплом, к тому же он был шурином цадика из Козенице. Когда Зысля лежала в больнице, раввин дал ее матери лекарство и произнес три слова: Гот зол трефн. И Бог помог, на следующий день горячки как не бывало.)
Они раздали мебель.
Продали пианино.
Упаковали одежду.
Зысля прибралась в квартире и спустилась вниз вынести мусор.
Когда она вернулась, окно было распахнуто настежь. Во дворе кто-то дико кричал.
Жене кантора хочется верить в несчастный случай. Женщины в синагоге верят в несчастную любовь…
С фотографии на могильной плите на Еврейском кладбище смотрит красивый мальчик с серьезными темными глазами.
На картинах на стенах квартиры – женщины над субботними свечами, мужчины над Торой и Вечный Жид.
На кровати лежит стеганое одеяло из голубиного пуха.
Часы бьют каждые пятнадцать минут.
В комнате стоят два больших чемодана. Там лежит упакованная в дорогу одежда сына. За двадцать пять лет чемоданы не открывали ни разу. Каждый день с них стирают пыль и накрывают белой вязаной скатеркой.
Последний кантор садится в трамвай на Замойского.
В синагоге он бывает только по субботам.
Поет только раз в году, на Йом-Кипур.
Поет Эль мале рахамим[106], Господь милосердный.
Целый год копит силы для этого дня и этой песни.
Все евреи в синагоге ее ждут.
Из немощного старческого тела вырывается голос чистый, сильный, преисполненный любви и отчаяния.
Никто уже не споет Эль мале рахамим так, как последний варшавский кантор.
8.
Пора задать вопрос: что означает “восточноевропейский” и где начинается Восток.
Для Богумила Грабала Восток начинается там, где “заканчиваются австрийские ампирные вокзалы”. Странно. Ампир господствовал в архитектуре, когда не было ни железных дорог, ни вокзалов. Возможно, Грабал имел в виду более поздние белые австрийские здания, облицованные зелеными плитами. В таком случае Восточная Европа должна начинаться за вокзалами Лежайска и Сажины, не раньше Сталёва-Воли[107].
Для историков Агнешки и Генрика Самсоновичей Восток начинается сразу за Вислой[108]. По дороге в Дзбендз мы миновали мост, въехали на Тарговую, и Агнешка С. сказала: “Вот он, Восток!”
А ведь здесь, в частной библиотеке на пересечении Кавенчинской и Радзиминской, в невеселые пятидесятые годы имелся весь Пруст. Довоенная седая владелица снимает с полки довоенные тома (каждый обернут в грубую упаковочную бумагу) и говорит: вот ЭТО прочти.
Анджей Чайковский, пианист, привез себе Пруста из Парижа. А я – из библиотеки на Кавенчинской.
Неужели Восточная Европа должна начинаться до библиотеки с полным собранием Пруста?
Для Абрахама Дж. Хешеля[109], философа и теолога, границы Востока значения не имели, поскольку восточноевропейские евреи жили скорее во времени, чем в пространстве. А если в пространстве, то между преисподней и небесами.
Название “Польша”, по еврейской легенде, происходит от древнееврейских слов по лин – “здесь живи”. Слова эти, начертанные на листке бумаге, нашли евреи, убежавшие из Германии от погромов и чумы. Записка имела небесное происхождение. Она лежала под деревом. В ветвях дерева прятались блуждающие души. Помочь им мог только благочестивый еврей, читающий вечернюю молитву. Короче, если граница Восточной Европы существует, пограничный столб – дерево, под которым лежала записка.
Избавление
1.
Давид, цадик из Лелова, поучал: “Те же, кто не признают своих недостатков, будь то человек или народ, не вправе рассчитывать на избавление. Избавление возможно лишь в той мере, в которой мы признаем свои изъяны”.
У Давида был сын, который тоже стал раввином в Лелове. У этого леловского раввина были сын и внук – раввины в Щекоцинах. У щекоцинского раввина была дочка Ривка, внучка Хана, которую все звали Андзей, и правнучка Лина.
Жарким июльским днем тысяча девятьсот сорок второго года Хана, которую все звали Андзей, внучка цадика в шестом поколении, и ее дочка, семилетняя Лина, ехали по улицам варшавского гетто на Умшлагплац. Несколькими минутами раньше их вывели из дома на Твардой и посадили на одноконную телегу с решетчатыми бортами. Там сидели двое еврейских полицейских, один правил лошадью, второй сторожил людей. В телеге все люди были старые, ни о чем не просили, не молились и не пытались убежать.
Телега свернула на Теплую. Полицейские вполголоса переговаривались, советовались. Можно было сделать одно из двух: окружить очередной дом и всех забрать либо перекрыть улицу и устроить молниеносную облаву. Облава займет меньше времени, но в доме загребут больше людей. Тот, который правил лошадью, был за дом; другой, который сторожил, настаивал на облаве.
Совещание прервал один из сидящих в телеге мужчин.
– Отпустите их, – сказал он. Имея в виду Лину и ее мать, Андзю.
Полицейским не хотелось откликаться на глупые просьбы, но к старику присоединились несколько женщин:
– Отпустите, они молодые, пускай еще поживут.
– Вы чего, не знаете, что у меня норма? – сказал полицейский, который правил лошадью. – Я должен доставить на площадь десять евреев. Нас двое, значит, требуется двадцать. Дадите кого-нибудь взамен? Если дадите, мы этих освободим.
Старики перестали просить, предложение полицейского было таким же абсурдным, как их просьба.
Телега катила очень медленно. О лошади, которая еле плетется, говорят, что она идет медленным аллюром, но в гетто таких слов не употребляли. Короче, лошадь еле плелась, хотя могла бы и ускорить шаг, потому что прохожих на улицах было немного. Всё – запомнили Андзя и Лина – происходило в тишине и без спешки.
– Ну? – обратился напрямую к ним полицейский. – Кто вместо вас поедет на Умшлагплац? Есть такие?
Они приближались к пересечению Теплой с Гжибовской.
Проехали еще несколько метров и увидели женщину. Она шла по Гжибовской. Убегать не собиралась. Наоборот. Спокойным решительным шагом женщина направлялась к телеге. Поравнялись они около дома номер 36. Лина это запомнила, потому что в тридцать шестом доме жила ее воспитательница из детского сада, пани Эда.
Женщина взялась рукой за деревянную оглоблю и сказала, не то спрашивая, не то констатируя очевидный факт:
– Вы не хотите ехать на Умшлагплац, верно? – Обращалась она к Андзе.
Андзя изумленно молчала.
– Она не хочет ехать, – крикнул кто-то, и тогда женщина снова обратилась к Андзе:
– Слезайте, я поеду вместо вас.
Андзя и Лина продолжали сидеть, хотя люди начали кричать:
– Чего вы ждете, слезайте!
– Слезайте, – повторил вслед за людьми полицейский, сидящий на козлах, и тогда только Андзя спустила на мостовую дочку и спрыгнула сама.
Женщина взобралась на телегу.
Оба полицейских молчали.
– Дайте ей что-нибудь, – кричал кто-то Андзе, кажется, мужчина, который первым попросил полицейского их освободить.
Андзя быстро сняла обручальное кольцо и протянула женщине.
Женщина надела кольцо на палец. На Андзю она больше не взглянула. Смотрела перед собой.
Андзя и Лина вернулись домой. Бабушка Ривка сидела выпрямив спину, не шевелясь, держа на коленях сжатые в кулаки руки. Они рассказали ей про женщину. Бабушка Ривка разжала кулак… Они увидели пузырек с серыми таблетками.
– Если б вы не вернулись… – сказала она.
Они удивились. Бабушка Ривка, внучка цадика из Лелова в пятом поколении, была верующей. Ходила в парике. Когда в пятницу утром парик относили к парикмахеру – сделать к шабату прическу, – она надевала платочек, чтобы никто не увидел ее обритой головы, а сейчас сжимала в руке пузырек с ядом, приготовившись к грешной самоубийственной смерти. Ее забрали на Умшлагплац через несколько дней, вместе с внуками и невесткой. Андзя с дочкой выбрались на арийскую сторону и пережили войну.
2.
– Как выглядела эта женщина? – спрашивали у Лининой матери, когда та рассказывала о решетчатой телеге, а рассказывала она о ней всю жизнь.
– Высокая. В костюме. Красивом, хорошо сшитом, из темно-серой фланели. На ногах сапоги, так называемые “офицерки”, популярные в Варшаве во время войны. Прическу не помню, кажется, волосы были уложены валиком. Тогда пряди накручивали книзу или кверху на длинные загнутые на концах спицы. Словом, элегантная была женщина, – неизменно подчеркивала мать Лины. – Даже сапоги эти выглядели так, будто она не по необходимости их надела, а потому что модные.
– Может быть, знала, что погибнет, и приготовилась к смерти? – предположила одна из слушательниц. – Многие придают большое значение последней одежде.
– На полоумную не была похожа? – допытывались у Андзи.
– Нет. Вела себя нормально.
– Может, кого-то потеряла, и ей было все равно?
– Отчаявшейся она не казалась.
– Судки… – подсказывала Лина.
– Верно. В руке у нее были пустые судки.
– Откуда вы знаете, что пустые?
– Потому что легко раскачивались.
– Это могла быть Мириам, – сказала я, когда Лина и ее муж Владек рассказали мне про эту женщину. Они меня не поняли.
– Мириам. Та, которую христиане потом назвали Марией.
До сих пор такой вариант не приходил им в голову, скорее уж они допускали вмешательство цадиков.
Владеку вспомнился анекдот времен войны, который рассказывали в гетто. Когда немцы забрали всех из костела для евреев-христиан, там остался только один, последний, еврей – на кресте. Он сошел с креста и кивнул своей Матери: Маме, ким… Что по-еврейски означает: Мама, иди… И она пошла на Умшлагплац. Почему в костюме? Ну не могла же она появиться в своем одеянии, как на церковных картинах, и с нимбом. Почему с пустыми судками? Раньше там была еда, но она у кого-то спросила: правда, что вы голодны? Накормила их и пошла на Теплую к решетчатой телеге.
Работа репортера научила меня, что логичные, без загадок и недомолвок, истории, в которых все понятно, бывают неправдивыми. А вещи, которые никоим образом не удается объяснить, происходят в действительности. В конце концов, жизнь на Земле тоже подлинна, а логичному объяснению не поддается.
3.
Останки Давида из Лелова погребли сто восемьдесят лет назад на местном кладбище. Кладбища нет, гробницу цадика недавно отстроили заново. Место указал Хаим Шрода, сын стекольщика Йосефа. Давид покоился в одном из магазинов местного кооператива, в отделе металлоизделий. (На еврейском кладбище после войны разместили склад и два магазина, продовольственный и сельхозтехники.) Раввин из Иерусалима попросил завмага перенести куда-нибудь металлоизделия, и хасиды, последователи Давида, начали копать. Через несколько часов отрыли фундамент. Нашли череп, большие берцовые кости и отдельные кости рук цадика. Отложили лопаты, зажгли свечи и прочитали кадиш[110]. Раввин сложил останки и сверху присыпал землей. За несколько месяцев построили гробницу и стеной отделили от магазина. В годовщину смерти цадика со всего мира прибыли его ученики и, как в давние времена, оставили в гробнице листочки с просьбами.
Хаим Шрода родился в Лелове, на берегу реки Бялки. Работал вместе с отцом. Таскал рамы со стеклами, притороченные к спине плетеными льняными веревками, в одной руке – банка с замазкой, в другой – мешочек с инструментами. Они стеклили окна в Сокольниках, Бодзейовице, Ижондзе, Накле, Слензанах, Щекоцинах и Тужине. Проделывали по пятнадцать километров в день, за каждое вставленное стекло брали злотый.
Леловские евреи продавали свои изделия на базарах. В Пилице во вторник, в Щекоцинах в среду, в Жарках в четверг, а по пятницам отправлялись только в ближайшие деревни, чтобы к шабату поспеть домой. В пятницу утром в корзинах у них были самые нужные вещи: ленты для волос, сахарный песок в стограммовых бумажных кульках, потому что на целый килограмм крестьянам не хватало, синька и крахмал для белья, тоже в кульках, но поменьше, чем для сахара. Возвращались до наступления сумерек. Теперь в корзинах они несли яйца, творог и бутылки с молоком. Помывшись и переодевшись, шли в синагогу. После молитвы ели халу и рыбу. Из восьмисот леловских евреев войну пережили восемь, в Польше живет один, Хаим Шрода. Его отца, стекольщика Йосефа, расстреляли в Ченстохове. Его мать, Малку, урожденную Поташ, троих братьев – Хирша, Давида и Арона – и трех сестер – Алту, Сару и Йохвед – отправили в Треблинку. Хаим бежал из лагеря. Прятался в шестнадцати домах – тех, где до войны стеклил окна.
Над могилой Давида из Лелова, Андзиного и Лининого предка, каждый год повторяется один и тот же разговор.
– Наш цадик учил: не получишь избавления, если не познаешь себя и своих недостатков, – говорит раввин из Иерусалима, глава леловских хасидов. – Но помни, никогда не поздно вернуться к Творцу, благословенно имя Его.
– Здесь не было избавления, рабби. Здесь не было места ни для какого Бога, – неизменно отвечает сын Йосефа, леловского стекольщика, Хаим Шрода.
Гамлет
1.
Чайковский Анджей [1. XI.1935, Варшава, — 26. VI.1982, Лондон] – польский пианист и композитор. Учился у Л. Леви, С. Шпинальского и С. Ашкенази (фп.), у К. Сикорского и Н. Буланже (композиция); лауреат 5 Межд. конкурса им. Ф. Шопена в Варшаве (1955); 3 премия на конкурсе им. Королевы Елизаветы в Брюсселе (1956). С 1956 г. гастролировал во многих странах с оркестрами под упр. К. Бёма, П. Клецкого, Д. Митропулоса, Ф. Райнера и др.; репертуар – от Баха до музыки 20 в. Записал серию пластинок для RCA Victor и Pathе́ Marconi. Соч.: 7 сонетов Шекспира для голоса и фп.; два струнных квартета; концерт для фп. с оркестром; фп. трио; опера “Венецианский купец”…
(Музыкальная энциклопедия, Варшава, 1987).2.
Мы незнакомы.
Я видела тебя когда-то – давно и издалека. Ты сидел за роялем, в филармонии, ко мне правым профилем.
Людей, о которых я писала, я знала лично – знала, как они смеются, потеют, барабанят пальцами, кем-то прикидываются и подливают в бокал. Тебя я рассматривала на фотографиях. И всегда ты сидел за роялем, неизменно демонстрируя правый профиль.
Малгожата Б. нашла в архиве фото анфас. Оно наклеено на бланк со штампом “Отдел Опеки Одиноких Детей”. Некая мадам Шлосберг из города Кимберли в Южной Африке присылала тебе – Одинокому Ребенку – посылки и деньги.
Тебе тогда было одиннадцать лет.
У тебя был пробор справа и большие серьезные глаза. Белый воротничок выложен на темную, думаю, темно-синюю блузу, а в карман воткнут платочек, наверно, батистовый, с узором.
Пора объяснить, почему я о тебе пишу.
Из-за Халины С. Той самой, от которой ты хотел иметь сына по имени Гаспар.
Она прислала мне письмо:
“…Анджей явился во сне. Говорил: умри уже, умри, мне здесь без тебя скучно. В слове «здесь» чувствовалась межпланетная пустота. Я представила себе, что Дух Анджея кружит там, как космонавт, которому никогда не вернуться на землю.
В последний раз он мне снился перед моим инфарктом. Врач приходила каждый день и спрашивала: почему вам все хуже? На листочке в клетку я нацарапала завещание. Тебе, Ханя, я завещала письма и бумаги Анджея.
Я чувствовала, что делаю ровно то, что он хочет. Потому что, хоть он тебя и не знал, ты была близким ему человеком, возможно, ближе, чем я. Он читал «Опередить Господа Бога»[111]. И это важно – именно благодаря этой книге он не уничтожил свои записки…
Теперь Дух Анджея явится к тебе, и ты его приютишь. Обнимаю тебя, Х.”.
Итак: она мне завещала твои бумаги и твой Дух.
Могла ли я отказаться?
Халина подозревает, что ты был с нами рядом. Рассказывая о тебе, она вдруг побледнела и осела на кровать. Врач сделала ЭКГ и отправила ее в больницу. Я вернулась домой. У меня онемела половина позвоночника…
Когда мы обе поправились, Халина спросила:
– Ты помнишь, о чем мы говорили, когда мне стало плохо?
– Помню, конечно. Мы говорили о ваших попытках произвести на свет сына по имени Гаспар.
– Ему это не могло понравиться, – заключила Халина. – Ты не должна об этом писать.
Неужели так и есть? Ты собираешься указывать, что́ мне писать? Неужели с духом героя хлопот будет еще больше, чем с живым героем?
3.
Еще кое-что в связи с твоим гипотетическим вмешательством.
Дэвид Ферре, бородатый мужчина средних лет, американский инженер “Дженерал Моторс” и “Боинга” и одновременно музыкальный критик, прочитал в газетах про череп. Было это в июле восемьдесят второго года. Сообщение пришло из агентства Ассошиэйтед Пресс. “Andrе́ Tchaikowsky, пианист польского происхождения, скончавшийся от рака в Оксфорде, завещал свой череп Королевскому Шекспировскому театру…”
Одни газеты писали, что ты всю жизнь мечтал быть актером. Другие – что ты безумно любил театр, и тебя раздражало, что Гамлет держит в руках пластмассовый череп.
Дэвида Ферре это известие взволновало. Он взял в “Боинге” отпуск и поехал в Лондон – послушать музыку и порасспросить о тебе. В аэропорту взял напрокат машину. Искал квартиру; агентство порекомендовало дом в Челси. В первой же комнате на столе лежала книга “Мой дьявол-хранитель. Переписка Анджея Чайковского и Халины Сандер”. Дом, в который он попал, принадлежал твоим близким друзьям.
На расспросы у Дэвида Ферре ушло шесть лет. Он написал биографический очерк под названием “Другой Чайковский”. Закончив, поселился в горной деревушке и занялся плотничеством.
Благодаря ему и еще кое-кому я немало о тебе знаю. И собираюсь тебе об этом рассказать, ты любил рассказы о себе. Слушал с любопытством, уверяя, что не помнишь собственной жизни.
4.
Твоя бабушка, Целина С.
Родилась в девятнадцатом веке, в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году. Так значится в реестре выживших евреев. Она могла быть и старше; восстанавливая утраченные документы, женщины не прочь уменьшить себе возраст.
У нее была дочка Феля и сын Игнаций. Муж-врач вернулся с Первой мировой войны с сифилисом. Она с ним развелась. Два поклонника сделали ей предложение, она спросила у детей, которого они предпочитают. Они предпочитали “дядю Миколая” – тот приносил конфеты вкуснее. Она вышла за Миколая, владельца адвокатской конторы, а спала с тем, со вторым.
Целина была шатенкой среднего роста, с короткой шеей и светлыми глазами. Играла на арфе, знала языки, любила покер и искала сильных мужчин. Была одной из первых косметичек в Польше. Основала собственную школу и производство кремов по французской лицензии. Фирма носила название “Cе́dib”. Когда дела пошли хуже, Целина продала часть долей врачу по фамилии Мушкатблат.
Твоя мать Феля.
Она была красивее и выше Целины. Полная ее противоположность: спокойная, задумчивая, лишенная сил и энергии. Окончила косметическую школу. Любила менять цвет волос. Неплохо играла на рояле, много читала. Быстро уставала. В Париже вышла замуж за беженца из Германии, через год родила тебя. Рассталась с мужем и влюбилась в Альберта. Была с ним до конца. Погибла в Треблинке; ей было двадцать семь лет.
Твой отец Карл.
Изучал юриспруденцию в Лейпциге, бежал от Гитлера во Францию. Занимался торговлей мехами. Терпеть не мог ни мехов, ни торговли. Хотел быть адвокатом, но французы его немецкий диплом не признали. У него случались приступы депрессии, лечили его электрошоком, после чего он заболел паркинсонизмом. Страдал этой болезнью до конца жизни. Умер в Париже. Ты видел его, когда тебе было двенадцать лет, а потом – в сорок пять.
5.
В телефонной книге 1938/39 есть С… Миколай, адвокат, Пшеязд, 1, телефон 115 313.
Они все там жили: Целина с мужем, ее сын с женой, ее дочка и ты. Влюблялись, играли в покер, танцевали фокстрот, любили ландыши, слали фото из Чехочинека[112]: мужчины в белых панамах, женщины в шляпках с вуалеткой, на один глаз падает волнистая прядь… Доисторические времена. Прямо-таки третичный период, разве что выигравший от изобретения фотографии.
Пшеязд, 1…
В этом самом доме жил студент-медик, Й. С., влюбленный в певицу Марысю Айзенштадт[113].
В этом самом доме жила Хелена, бледная и мрачная – царица бала в львовском Литературном казино – с маленькой дочкой.
Внизу, в кафе “Искусство”, Владислав Шленгель[114] читал свои стихи.
Да, этот самый дом. Два подъезда, вход с улицы Лешно.
6.
Компаньоном Целины С. стал, как я сказала, доктор Мушкатблат.
Звали его Перец, после крещения он стал Болеславом. Жена Рута работала администратором в фирме “Cе́dib” на площади Трех Крестов. Двумя детьми занималась “панна Марыня”. За накопленные на службе у Мушкатблатов деньги она купила на Сенной скромную квартирку. Когда дети пошли в школу, окончила курсы кройки и шитья пани Вишневской, самые дорогие в Варшаве: обучение стоило двести злотых, это не считая мелков и бумаги для выкроек.
Началась война. (Закончились доисторические времена: арфа, измены, фокстрот и курорты.)
Болеслав Мушкатблат, компаньон Целины С., принял цианистый калий. Его дочь и сын были в лагере. Рута Мушкатблат решила выйти на арийскую сторону. Она совершила ошибку: день был солнечный, а она надела теплое осеннее пальто. Шмальцовник[115] привел ее в участок.
– Это будет стоить четыре тысячи, – сказал полицейский. – Подождем до часа дня.
Рута М. попросила сообщить Марии Островской – “панне Марыне”, воспитательнице детей.
Дома у Марии была тысяча злотых.
Было десять утра.
Она побежала к своей самой состоятельной клиентке, владелице молочной на Панской. Не застала – та не вернулась с курорта.
Мария вспомнила про врача, который учился вместе с доктором М. Он жил на Познанской – третий или четвертый дом по левой стороне, если идти от Иерусалимских аллей.
Он открыл ей дверь.
Она сказала:
– Пани Рута в участке на Крохмальной. Требуют четыре тысячи, у меня есть тысяча…
– Я не имею с евреями ничего общего! – крикнул бывший однокашник доктора и захлопнул дверь.
Она поехала в Анин[116], к знакомой, которой до войны шила бальные платья. Было около двенадцати. Мария сказала:
– У меня есть тысяча…
Знакомая дала золотое кольцо. Попросила заложить его в ломбарде, квитанцию сохранить и после войны кольцо выкупить.
Поезда на Варшаву не было. Времени идти в ломбард не оставалось. Мария побежала с кольцом в участок.
– Вы опоздали на пятнадцать минут, – сказал полицейский.
7.
Умер муж Целины, тот, что приносил детям самые вкусные конфеты. В собственной постели, тактично, очень вовремя. Целина С. похоронила его и с группой тех, кто работал за стеной, вышла из гетто. Одна из бывших учениц дала ей арийские документы, и она стала Яниной Чайковской. Другая ученица приготовила укрытие. Целина вернулась за дочерью и внуком, но Феля выходить отказалась.
– Вдвоем вы спасетесь, втроем мы погибнем. Все.
Целина пыталась настаивать.
– Его спасай… – твердила Феля. – У меня нет сил, я погибну.
Ловкими руками косметички Целина С. осветлила волосы мальчика перекисью. Надела на него платье. Попрощалась с дочкой.
– Мама придет за тобой через несколько дней, – пообещала Феля.
Целина С. повела светловолосую “девочку” к воротам на Лешно. Одной рукой она крепко держала ребенка за ручку, другой сунула жандарму пятьдесят злотых. Они перешли мостовую и направились в сторону Театральной площади.
– Не поднимай глаз, – шепнула бабушка. Они были на арийской стороне.
8.
Ты поселился у панны Моники. В комнате стоял шкаф. Квартира была на первом этаже, мимо вашей двери проходили жильцы, забегали соседи… самое безопасное место было в шкафу. Туда поставили ночной горшок. Ты находил его ощупью и научился писать бесшумно. Одежду убрали, в шкафу была только темнота, горшок и ты…
Время от времени тебя навещала бабушка. Ты выходил из шкафа, а панна Моника караулила входную дверь. Бабушка вручала ей деньги, потом доставала из сумки перекись и обрабатывала твои отросшие волосы. Отставив в сторону перекись, вынимала из сумки молитвенник. Учила тебя молитвам (сама она их не знала, приходилось заглядывать в книжечку). Напоследок пила чай, выслушивая сетования хозяйки на дороговизну и опасность, которой грозит твое присутствие. То и другое было правдой, так что бабушка снова лезла в кошелек. И наконец прощалась, обещая, что скоро тебя навестит. Обещание сдерживала. Приходила – с деньгами, молитвами и перекисью. Ты не спрашивал, где она живет, куда идет и откуда у нее деньги. Не спрашивал, почему должен сидеть в шкафу, – дети тогда не задавали глупых вопросов.
Иногда тебе хотелось узнать, что с мамой.
– Все в порядке, – отвечала бабушка. – Через несколько дней она к тебе придет.
Проходило несколько дней.
Бабушка говорила:
– Она была занята, не плачь.
Проходило несколько дней…
Наконец ты понял, что мама никогда не придет, и перестал спрашивать.
Сейчас я тебе кое-что расскажу.
Я знала одну девочку. Она была твоей ровесницей, у нее тоже были черные, как у тебя, глаза и волосы, осветленные перекисью. Ее мать была косметичкой. Ты не поверишь: мать звали Феля, и она закончила школу “Cе́dib”, основанную твоей бабушкой.
Удивительно, правда?
Я довольно хорошо знала эту девочку и потому знаю, чем была для ребенка арийская сторона.
Не смертью она была и не страхом. Пяти-шестилетний ребенок не боится смерти.
Арийская сторона была квартирой, из которой все ушли.
Окном, к которому не подходят, хотя никто за этим не следит.
Двором, откуда доносится эхо шагов и чей-то свист, мелодия, обрывающаяся на полутакте…
Шкафом, в который входят, когда раздается звонок в дверь.
Арийская сторона была одиночеством и тишиной…
Моника ждала ребенка. У нее не было мужа, и ты связал ее состояние с непорочным зачатием. Ожили слова из молитвенника. Дева должна родить сына. Сын может стать новым Христом. Ты готов был выбросить горшок, подвинуться и освободить для него место в шкафу. Ты горел от возбуждения. Говорил слишком много и слишком громко. Однажды стал молиться Монике, но при словах “…благословен плод чрева твоего” она пришла в бешенство.
– Ты, гаденыш! – закричала Моника. – Издеваешься надо мной?
Тщетно ты объяснял, что она зачала, как Дева Мария. Она не переставала кричать. Вызвала бабушку. Сказала, что ты поднял шум, что ведешь себя безобразно, не пожелала объяснить, что произошло, и потребовала, чтобы ты убирался из ее дома.
– Нам некуда идти… – испугалась бабушка.
– Идите в гестапо! – завопила Моника и кинулась к двери.
Бабушка загородила ей дорогу.
– А вы знаете, про что спросят в гестапо? Про людей, которые его прятали. Он большой умный мальчик, панна Моника. Знает ваш адрес и вашу фамилию…
Голос у бабушки был деловитый, спокойный.
– Что бы ни случилось с моим внуком, с вами случится то же самое, – добавила она для ясности и надела пальто.
После ее ухода Моника села, обхватила руками живот и заплакала. Плакала долго, громко, тонким жалобным голосом.
Ты на всякий случай залез в шкаф.
Вечером она тебя позвала. На столе, как и каждый вечер, стояла сковорода с румяной, поджаренной на сале картошкой и две тарелки.
Бабушка забрала тебя на следующий день.
Тебя отвели в новый чужой дом.
Там стоял новый чужой шкаф, и нельзя было подходить к окнам.
9.
Я тебе кое-что расскажу.
Девочка, твоя ровесница с обесцвеченными волосами, тоже много чего знала о Благовещении.
Полицейский в участке на Иерусалимских аллеях, недалеко от вокзала, попросил ее мать прочесть “Ангела Господня”[117]. Их привел шмальцовник, прямо из поезда. Мать выглядела – не подкопаешься, и документы у нее были в порядке: Эмилия Островская, родная сестра Марии Островской, римско-католического вероисповедания, – но молиться она не умела.
– А ты? – улыбнулся девочке полицейский. – Скажешь нам “Ангел Господень”?
Конечно, она сказала. Она ведь была понятливая, эта девочка с грустными глазами.
– Ангел Господень возвестил Марии, и она зачала от Духа Святого. Радуйся, Мария, благодати полная…
– Ну что с вами делать? – вздохнул полицейский. Он был небритый, в заляпанных грязью высоких сапогах, через каждые два слова зевал – видно, дежурил со вчерашнего вечера. – Одна похожа на еврейку, но умеет молиться, вторая не похожа, а не умеет… Знаете, что? Решайте сами, кто тут еврейка, кто полька. Полька уйдет, еврейка останется. Подумайте, завтра дадите ответ.
Ночь они провели в камере, на табуретках, при тусклом свете голой электрической лампочки. Совещались.
– Ты иди, – говорила мать, – я уже пожила…
– Нет, ты иди! – говорила девочка. – Меня поймают, а тебе надо спасать бабушку…
– Ты разбираешься в людях, справишься, – говорила мать.
И вправду. Две вещи девочка делала безукоризненно: распознавала порядочных людей и заправляла свекольник.
– Я знаю, что мы сделаем, – сказала девочка. – Останемся обе. Здорово я придумала?!
Утром полицейский привел Марию Островскую – ту самую, которая искала три тысячи для Руты Мушкатблат.
– Моя сестра – еврейка?! – с возмущением кричала она. – Эмилька, ты где? Уж я с этими господами поговорю!
Из участка они вышли втроем. Мать считала, что полицейский поверил крикам Марии. Мария верила, что у полицейского есть совесть. Только девочка знала правду: молитву “Ангел Господень” услышала Та, кому она была адресована.
10.
Ты никогда не спрашивал, где бабушка живет, куда идет и откуда берутся деньги для твоих хозяек.
Ты не спрашивал про мать – знал уже, что она не придет тебя навестить.
Ты не спрашивал про дядю Игнация, про дядю Тадеуша и двоюродного брата Ясека… – вот и бабушка о них не говорила.
Она не говорила бы, даже если б ты спрашивал.
Не потому, что считала тебя ребенком. Она знала, что ты достаточно взрослый для того, чтобы понимать.
Она ничего не рассказывала, потому что не имела права расходовать энергию.
Она спасала тебя.
Это требовало огромной затраты сил.
Ты сам знаешь, сколько сил уходит на то, чтобы выжить. Нельзя их растрачивать на слова, на плач, на грусть…
Давай-ка я тебе расскажу про Игнация, бабушкиного сына.
Он был гордостью Целины С.
Высокий, с черными как смоль волосами (“рослый красивый еврей”, писал о нем его друг в послевоенных воспоминаниях), химик, женился на Ирене, зеленоглазой блондинке с семитским носом.
Во время войны он руководил химической лабораторией Гвардии Людовой. Из материалов, которые можно было купить в магазине, производил зажигательные вещества. Они предназначались для уничтожения немецких зерновых складов и отправляющихся на фронт цистерн с бензином.
Он тебя очень любил. Когда твою маму забрали на Умшлагплац, он сказал жене: “Мы его вырастим. Усыновим сразу после войны”.
Спустя три месяца Ирена, его жена, возвращаясь с работы, увидела толпящихся на мостовой людей. Они стояли молча, задрав головы. Только через минуту Ирена перевела взгляд на уличные фонари, на которых покачивались тела мужчин. Ускорила шаг. Назавтра тела еще висели, она миновала их и пошла на работу. Работала она в Институте гигиены: кормила вшей – их прикладывали к коже, они пили кровь, из крови делали противотифозную сыворотку. Когда возвращалась, поднялся ветер. Тела качались, как огромные маятники. На этот раз Ирена подошла к наклеенному на стену объявлению и прочла: “Коммунисты с помощью взрывчатых веществ разрушили железнодорожные пути под Варшавой. За это преступление повешены 50 коммунистов”.
Фамилии, вопреки немецким обычаям, названы не были.
Она пригляделась к посиневшим искаженным лицам. На одном из фонарей висел Игнаций, ее муж, твой дядя, сын Целины С.
Ирена выжила. Вышла замуж и родила двоих детей.
В марте шестьдесят восьмого года, когда сыну было восемнадцать лет, Ирена призналась ему, что она еврейка. Съездила во Францию, сделала там косметическую операцию и вернулась с новым носом. Сын был потрясен. Уехала с нормальным еврейским носом с небольшой горбинкой, а вернулась с прямым, арийским, невыразительным. Вдобавок делала вид, что ничего не случилось, что у нее всегда был такой нос. На вопрос, кто она – еврейка или полька, отвечала: “Я – генетик овощных культур”. Она вывела новые сорта помидоров и зеленого горошка. В августе восьмидесятого года назвала свой горошек “Викторией”, в честь “Солидарности”[118]. Горошек был безвкусный, как ее модифицированный нос, как все эти искусственно выведенные овощи.
Каждое воскресенье твоя бабушка приходила к ним обедать. Приносила веделевский вафельный тортик[119]. В магазине таких тортиков тогда было не достать, их покупали на рынке, у перекупщиц, за двойную цену. Бабушка была симпатичная, тихая, всегда готовая помочь. Ее тянуло к бывшей невестке, потому что только в Ирене жила память об Игнации. О нем они с ней не разговаривали. Говорили о тебе, о твоих успехах, о повседневных делах, как это обычно бывает за семейным обедом. В одно из воскресений бабушка достала из сумки веделевский тортик и сказала: “Что-то я неважно себя чувствую…” Ее знобило. Ирена принесла таз с теплой водой, попросила бабушку опустить туда ноги. Кто-то сказал, что вода нужна холодная. Завязался спор о воде. Бабушка легла, ноги мочить отказалась. Кто-то шепнул: “Она умирает…” Ирениному сыну очень хотелось увидеть, как выглядит смерть, но его выставили из комнаты. Приехала “скорая”. Бабушка умерла в машине, по дороге в больницу. Они пытались тебе сообщить, но не знали, где ты. Дома ты не ночевал. Узнал на следующий день. Как-нибудь в другой раз я тебе подскажу, где ты провел ту ночь, хотя это одна из тех немногих вещей, которые ты хорошо помнишь.
11.
Ты выжил.
Погибла твоя мать, погиб сын Целины С., ты выжил.
Целина С. убедила тебя, что на тебе лежит некая обязанность: ты должен доказать, что заслуживаешь жизни.
Целина С. решила, что ты станешь пианистом. Великим пианистом, мировой знаменитостью. Ты должен был быть великим, чтобы заслужить жизнь.
Ты не мог подвести мать, которая погибла, чтобы увеличить твой шанс выжить. Не мог подвести убитых родных, а может быть, даже целый народ. Ты должен был торжествовать над фашизмом. Должен был показать миру, что евреи… и так далее.
Музыке ты никогда не учился. До войны не успел, в гетто пробовал играть, но взрослые кричали, что ты действуешь им на нервы. Тем не менее Целина С. верила, что у тебя талант.
У тебя был талант.
Целина С. решила, что у тебя должен быть лучший в мире учитель. Тогда таким учителем был Лазар Леви, профессор Парижской консерватории.
Она отвезла тебя в Париж.
Ты учился у Лазара Леви. Он выбрал тебя из трехсот сорока кандидатов.
В Париже ты встретился с отцом и многочисленными западноевропейскими кузенами и кузинами, дядями и тетями. Они расчувствовались.
– Милый, – говорила одна из троюродных бабушек мужу, который после инсульта сидел в инвалидной коляске и мало что слышал. – Посмотри, кто к нам приехал. Это самый счастливый день в моей жизни с тех пор, как наш сын вернулся с испанской войны!
– Кто, кто приехал? – допытывался дядя.
– Целина, моя двоюродная сестра, с прелестным малышом Анджейкой.
– Говорили же, что они погибли, – с явной обидой восклицал дядя.
– Да нет, они выжили, единственные из семьи, правда, ты очень рад?
– Семья… – ворчал дядя. – То погибают, то воскресают, никогда не знаешь, чего от них ждать! – И, поторапливаемый сыном, героем испанской войны, маневрируя коляской, направился к двери.
Отношения у вас в семье были непростые. Бабушка была в претензии к отцу за то, что он не вытащил из Польши тебя и твою маму. Отец был в претензии к бабушке за то, что она не позволяет ему тебя опекать. Бабушка была в претензии к отцу за то, что он забывает об ее самоотверженности во время войны. Отец был в претензии к тебе за то, что ты играешь унылые пьесы типа ноктюрнов Шопена, вместо, например, Второй венгерской рапсодии Листа – и так далее.
Через два года ты вернулся в Польшу, абсолютно убежденный в том, что мир отлично может существовать без родителей при одном условии: что существует музыка.
В Польше тебя пригласили в летний лагерь виртуозов. Новичка подвергали испытаниям. Утром ты получал неизвестную тебе фугу Баха, которую опытные пианисты учат несколько дней, а вечером играл ее наизусть, с редкостным чувством полифонии. Все твои пальцы извлекали звук по-разному, будто различные музыкальные инструменты. Юные дарования, не поверив, что ты не знал этой фуги, давали тебе собственные, новые сочинения. Ты пробегал ноты глазами, а затем играл, не допустив ни одной ошибки. Они пугались. Смотрели на тебя как на пришельца из космоса.
В пятнадцать лет ты решил вступить в Союз польских композиторов.
В заявлении, которое ты подал, были перечислены тринадцать произведений. “Десять этюдов” (в скобках ты приписал: “рукопись в процессе подготовки”). “Десять танцев” (в скобках приписка: “рукопись пропала”). “Соната для фортепиано” (“пропала”). “Вариации на темы Генделя” (“пропали”). “Вариации на темы Коэна” (“в процессе подготовки”). “Концерт для фортепиано с оркестром” (“в процессе подготовки”) и так далее. Только одна вещь из тринадцати – “Сюита для фортепиано” – была готова и не пропала.
Одной-единственной композиции оказалось достаточно: тебя приняли в Союз, сочтя выдающимся талантом.
12.
В Союзе композиторов ты познакомился с молодым, красивым, образованным мужчиной.
– Он появился в моей жизни как маленький раввин, – сказал тот о тебе, когда я спустя сорок лет его посетила. – Да, маленький раввин… – повторил он несколько раз. – Была в нем эта особая, еврейская, тревожность. Ну и безупречный вкус, абсолютный слух и абсолютная музыкальность.
Ты признался ему в любви.
Он растерялся. Он был старше и чувствовал за тебя ответственность.
Ты стал раздражительным, несносным. Не попрощавшись, уходил в середине спектакля; за ужином, замолчав на полуслове, вставал из-за стола. Назавтра объяснял, что почувствовал необходимость немедленно сесть за рояль. Это было похоже на капризы. Он не выносил капризов, но ответил тебе взаимностью. Стал твоим первым любовником.
Как-то в воскресенье он задержал тебя, когда ты собрался уходить.
Ты остался. Вы пили вино, беседуя о любви и о музыке.
Ты снова попытался уйти.
Он сказал: “Останься, еще рано”.
Ты остался.
Вы пошли в постель.
Ты вернулся к себе на следующий день. Удивился, почему бабушки нет дома.
Вечером ты позвонил ему: “Она умерла. Я не был рядом с ней по твоей вине и за это наказан. Заслуженно, потому что выбрал тебя. Меня покарали ее смертью…”
Ты положил трубку, не дослушав извинений. Видеть его больше не хотел.
Спустя много месяцев вы случайно встретились на площади Трех Крестов, там, где до войны находилась косметическая школа “Cе́dib”, а после войны построили здание Комитета по планированию.
Ты подошел к нему:
“Мы должны встречаться. Не могу без тебя…”
Через месяц оказалось, что можешь.
“Он познакомился с каким-то молодым скрипачом”, – рассказывал мне твой друг. Горькая обида сочилась из его слов, сухих цветов на полках, пепельниц, полных окурков, пузырьков с лекарствами и дорожных кофров. Кофры стояли на полу посреди гостиной. Если б не осевшая сверху пыль, можно было подумать, что их пару часов назад сняли с антресолей. Хозяин, видимо, собирался в дальний путь, но передумал.
13.
После смерти бабушки ты жил один. Кресло, в котором она часами сидела, слушая твою игру в полудреме – ты любил заниматься поздней ночью, – теперь пустовало.
Приближался конкурс Шопена, в котором ты должен был участвовать.
Ты сказал профессору, что пал духом и отказываешься от участия в конкурсе.
Возникло подозрение, что причина в другом.
Ты боялся.
Уже тогда тебя пугали публичные выступления. Перед каждым выходом на сцену у тебя начиналось расстройство желудка, тебя трясло от волнения, ты делал ошибки, чего не случалось на репетициях.
Ну и ты сказал профессору…
Профессор возразил, что, отказываясь, ты оскорбляешь память бабушки. Что ради нее ты должен удвоить старания и победить в конкурсе.
То есть одной памятью, которую надо чтить, стало больше.
К памяти о матери, родных и еврейском народе прибавилась память о бабушке, которая спасла тебе жизнь.
Твой непререкаемый долг теперь – удвоить старания и победить…
Ты не победил. Занял восьмое место. Получил десять тысяч злотых и – как самый юный участник конкурса – пианино “Calisia”.
Тем не менее один человек обратил на тебя внимание. Это был Артур Рубинштейн, присутствовавший среди публики. Он услышал в твоей игре что-то такое, чего не слышали другие. И пригласил тебя на конкурс имени Королевы Елизаветы, который должен был состояться в будущем году в Брюсселе.
14.
Это был не “молодой скрипач”. Не забывшего горькой обиды друга подвела память. Его место в твоей жизни занял Зеленоглазый Пианист.
Я не видела твоих любовников, когда они были молоды. Зная их по рассказам, представляла себе стройными, гибкими, золотоволосыми. А сейчас вижу на балу у княгини де Германт. Волосы напудрены, черты расплывчаты, губы потеряли форму, лица затянуты сетью морщин. “Время, которое, дабы стать зримым, ищет тела, и повсюду, где находит, завладевает ими…”[120]
Я не без причины цитирую Пруста. Вы его читали – счастливые, еще не тронутые старостью. Пруста ты привез из Парижа, вернувшись от Лазара Леви. А еще привез ноты и много пластинок.
В Польше тогда играли и читали классику, охотнее всего русскую и польскую. Из французов – Бальзака и Золя, поскольку они разоблачали буржуазное общество.
Ты уведомил своих друзей о существовании Пруста, Жида и Камю. Зеленоглазому Пианисту играл Равеля, охотнее всего “Gaspard de la Nuit”[121]. Говорил о Сване и читал вслух “Постороннего”. Он слушал тебя как в наркотическом трансе. Вечером вы прощались, ночью он звонил – из уличных автоматов, телефона у него не было. Ближайшая будка была на площади Конституции. Однажды он целый час простоял в ней на морозе, не чувствуя холода.
Тебе захотелось иметь сына.
Родить его должна была твоя соученица по консерватории Халина С., высокая, впечатлительная, близорукая, пленившая тебя умом и девичьей прелестью.
– Рядом с тобой я стану настоящим нормальным мужчиной, – сказал ты ей, и вы поехали на каникулы в Чорштын. Пошли ужинать, сразу после ужина тебе предстояло стать “настоящим мужчиной”. В ресторане за соседним столиком сидел красавец болгарин. Ты мгновенно в него влюбился и решил провести остаток каникул в Болгарии. Через несколько дней вернулся: в Болгарии было грязно, и у тебя расстроился желудок.
Зеленоглазому Пианисту ты признался, что продолжаешь его любить, но уже не влюблен.
– О’кей, – ответил тот с суровой мужской сдержанностью, поскольку вы уже начинали читать Хемингуэя.
До сих пор Пианист помнит номер, который каждый день набирал в телефонной будке на площади Конституции.
И помнит твой рояль, у которого был особый звук, будто у песка, пересыпающегося в песочных часах.
Вы встретились во Франции спустя десять лет.
Ты сказал: “Прости, я ничего не могу для тебя сделать…” – как говорят некстати свалившемуся на голову, ожидающему помощи соотечественнику.
15.
В июле ты вернулся в Польшу и через два месяца снова уехал, уже навсегда. Однажды осенней ночью перед отъездом показал себя Халине С. “настоящим мужчиной”. Впал в эйфорию. Прислал телеграмму: “Сына назовем Гаспаром” – однако радость оказалась преждевременной. Ты отказался от телеграмм, стал писать письма. За двадцать пять лет написал около трехсот. Большая часть опубликована в книге “Мой дьявол-хранитель. Переписка Анджея Чайковского и Халины Сандер”.
Ты начал строить планы: семья, сын, общая “маленькая квартирка”, лучше всего в Париже, – но быстро опомнился. “Хватит уже этого театра – пора начинать жизнь”, – разумно рассудил ты и горячо посоветовал Халине выйти замуж за некоего Марека. Получив сообщение об их свадьбе, расплакался. Принялся настаивать на встрече в Стокгольме, но передумал. “Мы уже не сможем встретиться нигде и никогда”, – заявил ты, внезапно почувствовав свою ответственность за Халину. Вы оба молчали четыре года. Потом ты опять стал ее приглашать – и в панике отменял приглашения. Встретились вы через четырнадцать лет. (Халина С. за это время вышла замуж, родила дочь, развелась, защитила диссертацию, снова вышла замуж и овдовела[122].)
Перед ее приездом ты ходил к психиатру, который умел изменять сексуальные предпочтения.
Снял для нее дом неподалеку от своего, с прекрасным садом.
Встретил ее на лондонском вокзале, полный надежд, с букетом роз…
Ты изменился. Запустил бороду, начал лысеть, но волосы у тебя по-прежнему были черные и волнистые, глаза – темно-карие (если ты грустил или злился, они слегка косили), а зубы – ослепительно белые.
Ты заверил ее, что очень счастлив, привез домой и откупорил бутылку вина.
Вечером спросил, взяла ли она с собой снотворное. Принял сразу три таблетки и лег. Проснулся назавтра около полудня. Встал и пошел к психиатру…
Вы беседовали у камина, играли на рояле, слушали пластинки – и думали об одном и том же. Ты очень сильно этого хотел и очень боялся. Психиатры придумали термин: невроз ожидания. Чем сильнее человек чего-то хочет, тем больше боится. В лечебнице для гомосексуалистов любая медсестра знает, что для уменьшения страха нужно ослаблять мотивацию, но Халина С. не была медсестрой.
Размечтавшись, ты говорил с ней о вашем сыне. Что́ он должен читать, что́ вы будете ему играть. Начнете с атональной музыки, потом наступит черед Баха.
– Он сочтет Баха раздражающе современным, – смеялся ты, воображая, какую шутку вы сыграете с вашим сыном.
Ты обнимал ее. Шептал:
– Нам будет чудесно вместе…
– Так давай будем вместе, – отвечала она, а ты взвивался от ярости: только мужчине пристало произносить такие слова. Женщина должна таких слов ждать, лучше всего молча.
Она умолкала. Тебя злило, что она прикидывается дохлой рыбой…
Через неделю она сбежала.
Потом писала – и получала от тебя – письма, полные упреков, объяснений, надежды и разочарования.
16.
По просьбе Рубинштейна тобой занялся Сол Юрок, самый знаменитый американский импресарио.
“Анджей Чайковский – один из самых выдающихся пианистов своего поколения и, даже более того, «чудесный музыкант»”, – сказал о тебе Рубинштейн, и эту фразу Юрок поместил в твоих рекламных буклетах. Внес только маленькую поправку: Анджея превратил в Андре (Andrе́), чтобы легче было произносить. А еще ты перестал быть Чайковским, где звук “ч” передается сочетанием “cz” (Czajkowski). Стал Чайковским через “tch” (Tchajkowski), как Петр, которого ты и раньше невысоко ценил, а с тех пор, как ваши фамилии начали писаться одинаково, терпеть не мог.
В твоей официальной биографии Юрок написал про бабушку, укрытия и уничтоженных родных. Что было правдой, но тебя превращали – это твои слова – в Анну Франк за роялем.
Юрок прислал тебе в помощь своего человека: нужно было заказать фрак, устанавливать сроки. Ты опаздывал на встречи или вообще не приходил, а на укоры отвечал: “У меня, как вы знаете, было трудное детство…”
Твоя улыбка не обезоружила человека Юрока. Он пожаловался шефу, который в письме по-отечески тебя пожурил. Ты ответил: “Вы правы, мне пора повзрослеть и измениться. Меняюсь, начинаю с фамилии. Czajkowski”. Юрок прислал телеграмму: “Tchajkowski, или мы расстаемся”; на этом шутки кончились.
Тебя раздражали идеи Юрока.
Тебя раздражали еврейско-американские дамы, опекающие артистов. Они красили волосы, обожали золотые украшения, всех знали, многое могли и готовы были щебетать на любую тему. “Если Мессия придет, то именно к ним – других ведь нет”, – в отчаянии писал Зингер, имея в виду этих самых дам. На очередном приеме ты заявил хозяйке – богатой, влиятельной и очень щедрой: “Я гомосексуалист, восхищаюсь марксистами, ем руками, не моюсь и ратую за равноправие негров”. Несмотря на хорошие рецензии, тебя перестали приглашать в Соединенные Штаты.
Тебя выводили из себя обоснованные упреки.
Тебя разозлил Рубинштейн со своими царедворцами, и ты дал ему это понять. Так что не следовало удивляться, почему прислуга не пустила тебя к ним на порог, попросив больше не приходить.
Даже с Берлинской филармонией ты обошелся непочтительно, когда тебе предложили концерт…
Может быть, тебя раздражал мир?
Я знала таких. Их раздражал мир – самим своим существованием. После того, что случилось, мир не имел права на существование, – а распрекрасно существовал.
17.
Юзеф Канский, музыковед (в консерватории ты считал его своим другом, но после отъезда не прислал даже открытки), рассказывал мне, как ты сидел за роялем и боялся начать.
Ты должен был играть ноктюрн Es-dur Шопена – он начинается с одинокого си-бемоль: c него разворачивается мелодия.
Ты сидел и… боялся тронуть клавишу. Знал, как должен зазвучать этот си-бемоль – ты его слышал, – и панически боялся, что рука не воспроизведет вожделенный звук.
– Сыграй ты, – наконец сказал ты, и Канский без колебаний коснулся клавиши.
– Видишь, как это просто? – сказал он ободряюще, но ты продолжал сидеть, уставившись на клавиатуру и прислушиваясь к звучанию ноты в себе.
Канский говорит, что, играя чужие произведения и сочиняя собственные, ты не мог выразить все, что знал. Ведь самое прекрасное произведение – то, которое внутри. Потом ты расписываешь его по инструментам, по всем этим струнам, клавишам, а то и словам, и с каждым перенесенным на бумагу звуком и словом беспомощно отдаляешься от идеального звучания.
Твои страхи усиливались. Повторялся нервный понос перед выходом на сцену.
Перед концертом во дворце Шайо ты заперся в туалете и не мог выйти. Открыть дверь удалось в последнюю минуту, о чем Зеленоглазому Пианисту ты написал юмористически, как и надлежит рассказывать о презабавном происшествии.
Меня ты не обманешь.
Я вижу тебя в дворцовом туалете: взмокший от пота, ты трясущимися руками пытаешься справиться с позолоченной дверной ручкой…
Меня удивляет, что ты вообще рискнул запереться.
В Нью-Йорке, на встрече Hidden Children[123] – тех, кто были детьми во время войны и уцелели, потому что их спрятали, – раздали анкету. Вот один из первых вопросов: “Входя в уборную, ты запираешь за собой дверь?”
Мне казалось, что ты, как и большинство Спрятанных Детей, не запираешься в уборной – так что же произошло тогда во дворце Шайо? Ты запер дверь по рассеянности?
Терзаемый страхом, ты играл неаккуратно. Слушатели этого не замечали. Ты обладал магнетической силой, свойственной подлинным художникам – “чудесным музыкантам”, как сказал бы Артур Рубинштейн.
Одно и то же произведение ты всякий раз исполнял по-новому – иногда с чувством, иногда холодно, рассудочно. Использовал рубато, когда хотел привлечь внимание к фрагменту, который в тот день показался тебе особенно красивым. Представлял слушателям не произведение, а свое душевное состояние… но существует ли объективная форма выражения музыкального произведения?
Сейчас играют иначе, чем в те времена: быстрее и без ошибок. Эффектно звучит в записи на компакт-диске. Трудно сказать, звучало ли бы так же хорошо в твоем исполнении. Правда, компакт-диски не обладают магнетической силой, бьющей со сцены.
Еще о страхах…
Тебя мучили плохие сны.
(Это был очередной вопрос нью-йоркской анкеты: “Тебе снятся кошмары? Снится, будто кто-то приближается к твоему укрытию и сейчас тебя обнаружит?”)
Кто-нибудь приближался к твоему укрытию? Ты знал, что сейчас откроется дверца шкафа и тебя увидят – забившегося в угол, облившегося мочой, неуклюже прикрывающего ночным горшком отросшие волосы?..
Ты принимал снотворное. Слишком много было разных таблеток: чтобы спать, чтобы просыпаться, от нервов, от живота, от головной боли…
Из нью-йоркской анкеты: “Ты волнуешься по пустякам?”
Тебя всё волновало.
– Как ты думаешь, когда мне сегодня начать заниматься: в одиннадцать или в одиннадцать тридцать? – спрашивал ты у друзей.
– Уже полдвенадцатого, но через час ланч. Может, начать после ланча?
– Как ты думаешь, стоит поехать в четыре? А не лучше ли в шесть?
И так далее.
18.
Время от времени ты позволял себе безумные импровизации.
По просьбе директора бродячего цирка, у которого захворал пианист, ты – нацепив дурацкую цирковую шляпу – сел играть; под твою музыку не пожелал танцевать ни один лев, ни один слон. “Вы что, не видите, из-за вас звери отказываются танцевать!” – вскричал директор, выпроваживая тебя из-за рояля. “Это они заслушались”, – с достоинством ответил ты, покидая шатер.
В Норвегии ты согласился сыграть незнакомый концерт Равеля. На то, чтобы его выучить, было две недели. Неделю ты провел с неожиданно приехавшим другом; затем по просьбе менеджера заменил больного коллегу в провинции – осталось два дня. Ты решил, что поедешь поездом и по дороге выучишь. В вагоне полез в чемодан… Понял, что партитура лежит на рояле у тебя дома.
На вокзале тебя встретил директор. Он был в отчаянии:
– Катастрофа, арфист отравился, мы не можем играть Равеля.
– Моцарт, – безропотно предложил ты. – Что угодно, я играю всё.
Вообще-то, “на кончиках пальцев” у тебя тогда был всего один концерт, двадцать пятый.
Перебирая ноты в библиотеке, ты приговаривал:
– Этот слишком короткий, этот слишком легкий, о, вот это мы сыграем!
И сыграл – превосходно. После концерта был банкет. Ты поднял тост за оркестр – тебе не терпелось кое в чем признаться.
– Во-первых, – сказал ты, – этого Равеля я никогда в жизни не играл. Во-вторых, я помнил только один концерт Моцарта, двадцать пятый. И, в-третьих… – тут ты понизил голос, – это я отравил вашего арфиста.
Никто почему-то не засмеялся.
Ты любил рассказывать друзьям подобные истории. Наперекор своим снам и страхам, любил веселить компанию. Ты прослыл “человеком бесконечного остроумия”, знакомые привыкли к твоему амплуа блестящего остряка, обожали “твои каламбуры, твои смешные выходки, <…> взрывы твоего заразительного веселья, когда от смеху покатывался весь стол…”[124] (Цитаты – про Йорика, королевского шута, хотя пояснения излишни: ты всего “Гамлета” знал наизусть.)
Постепенно эта роль становилась мучительной. Ты жаловался, что превратился в обезьяну, от которой ждут смешных выходок. Женщине, с которой вы познакомились в Южной Африке, признался: “На сцене и в разговорах я выступал как артист и как клоун…” (Женщина из Южной Африки, естественно, должна бы оказаться дочерью мадам Шлосберг, которая после войны присылала тебе посылки и деньги… К сожалению, я не знаю ее фамилии. Эффектного финала не получится.)
19.
Стефан Аскеназе, пианист, профессор консерватории в Брюсселе и Бонне, беседует с Дэвидом Ферре (запись с магнитофонной пленки):
“…я стар, мне почти девяносто лет. Я еще играю и даю концерты. Рубинштейн играл до девяносто двух.
С Анджеем я познакомился на шопеновском конкурсе, я был в жюри. Чудесный талант и необыкновенная личность. Он стал моим учеником. Он был не из тех учеников, которые всё принимают, о нет, но большей части моих советов следовал. Скорее был моим другом, чем учеником.
Выпьете со мной стаканчик шерри?
Вы когда-нибудь слышали инвенции Анджея? У меня есть в записи Би-би-си. А еще у меня есть его фортепианный концерт. Его играл в Лондоне Раду Лупу, превосходно.
За несколько месяцев до смерти Анджей проводил в Майнце мастер-класс. Он был у нас в Бонне, мы целый день провели вместе, в Майнц он вернулся последним поездом. В этом поезде ему стало плохо, начались ужасные боли. На следующий день его прооперировали… У него были банковские долги, и сразу после операции пришлось играть. Он плакал мне в трубку, говорил, что потеряет дом, если не заплатит долгов. Играл чудесно, но опять заболел… Его перевезли в Англию.
Записи у меня наверху, пойдемте со мной. О, вот они, инвенции.
Мы забыли захватить шерри! Схо́дите за нашими стаканчиками?
Кто-то спросил Рубинштейна, почему Чайковский не сделал блестящей карьеры. “Потому что не старался”, – сказал Рубинштейн. Хорошую Рубинштейн написал книжку, только там слишком много икры, шампанского и крабов, ну и ни слова об Анджее… Анджей когда-то играл Рубинштейну Седьмую сонату Прокофьева семь раз подряд. Рубинштейн восхищался только теми фрагментами, которых сам не играл…
Можете поверить, что я лично знал Альбана Берга? Обаятельный, утонченный человек… Влюбился в мою первую жену. Она была очень молодая и очень красивая. Когда в тысяча девятьсот тридцать втором году перед премьерой “Воццека”[125] в Брюсселе она пошла к парикмахеру, Берг ждал ее целый час. Она потом написала ему письмо: “Слушая «Воццека», я знала, что вы сочинили, когда Шёнберг был в Вене, и что сочиняли в его отсутствие”. Так ему написала моя жена, она была неробкого десятка. Он ей ответил, что она коснулась темы, тяготившей его всю жизнь… Он был не лучше Шёнберга, нет, просто был другой. Мой друг играл его чудесный скрипичный концерт с Паулем Клецки. Клецки был тогда дирижером в Далласе, но через год уехал. Я спросил, почему. Он сказал, что не может жить в городе, где на улицах нет тротуаров. В Далласе не было ни единого, потому что все ездили на автомобилях…
Величайшим композитором столетия был Барток. Разумеется, был еще Стравинский и другие, но Барток – это Барток.
Я слышал, как Анджей играл некоторые свои инвенции в Лиссабоне. Я сказал ему, что они на уровне “Мимолетностей” Прокофьева. Когда-то я слышал, как “Мимолетности” играл сам Прокофьев…
Я вам сыграю эти инвенции.
Чудесные… Правда-правда, со времен Бартока никто не написал такой прекрасной вещи для фортепьяно.
Я вам поставлю его “Сонеты Шекспира”. Прекрасные, хотя чуточку однообразные.
А что с “Венецианским купцом”? Он говорил, что пытался заинтересовать им Английскую оперу, но они не захотели…”
И так далее.
Я читала это с неподдельной завистью.
Мне б хотелось, чтобы ты в возрасте девяноста лет рассказывал подобные истории: молодая красивая жена, музыка, стаканчик шерри… Именно такие разговоры должен вести старый музыкант погожим днем.
20.
Из твоих дневников:
Иерусалим, 2.12.1980
Проснулся… Снилось, что я похоронен в радиоактивной глине. У меня уже кожа на руках облезала, я показывал руки незнакомой женщине… Этот сон можно объяснить. Опасная кладбищенская глина – мое прошлое в гетто; последние две недели я погружался в него, потрясенный, и мне становилось все страшнее. Я заставил себя читать архив Рингельблюма[126], который привел меня в ужас, и повесть Войдовского[127] (на ту же тему), которую не в силах дочитать до конца. Только сейчас я начинаю осознавать, как мало знал, как тщательно меня оберегали от этого знания. И какой я был эгоист.
Кумнор, 14.1.1981
Только сейчас у меня появилось… зыбкое ощущение родства с умершими – не только с матерью, со всеми. Они мне кажутся намного менее мертвыми, а я – намного менее живым. И когда я вижу себя одним из них, моя судьба обрушивается на меня невероятным счастьем, почти неприличным, как будто я у кого-то украл свое спасение.
Каракас, 11.2.1981
(Я услышал во сне) голос немолодого немца (возможно, того самого любезного старого немца, дочь которого разрешила мне заниматься на своем пианино; я иногда вижу, как она хлопочет по дому, и вижу ее на фотографии – на этом самом пианино).
Du, da war noch etwas!
Ты, там было что-то еще!
За секунду до того, как проснуться, я почти увидел, ухватил мимоходом то, на что показывал немец: печи… много печей.
Мне страшно.
Я выскочил из кровати, упал на колени и молился Богу, прося спасти мою душу…
Играю К.488 (концерт A-dur Моцарта), завтра первая репетиция, значит, пора принимать валиум…
Я боюсь пятидневного отдыха в Майами на обратном пути. Что меня сразит ночью, одинокого, с моим подсознанием, в гостиничном номере?
ГОСПОДИ, ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ.
Мне страшно.
16.2.1981
К.488 вчера пошел очень хорошо! Я люблю этот концерт, и это было видно. Слегка приглушив первую часть, я успокоился, отчего каждый звук мог извлечь без спешки и без паники. Это сочинение кажется мне Мадонной, анданте – Пьетой…
21.
“…Настоящим распоряжаюсь, чтобы мое тело или любая его часть были использованы в медицинских целях соответственно положениям Закона о тканях человека, а также чтобы Организация, получившая мое тело, впоследствии подвергла его кремации за исключением моего черепа, который Организация должна передать Королевскому Шекспировскому обществу для использования в театральных постановках.
Подписано завещателем в нашем присутствии, а затем нами в присутствии…”
Ты подписался: А. Czajkowski. Впервые со времен Юрока.
22.
Может быть, хочешь знать, как ЭТО происходит?
Голова отделяется и подвергается мацерации.
“Мацерация” – профессиональный термин, применяющийся в анатомии. В XIX веке процедуру поручали муравьям, которым в этом деле нет равных. Голову клали в муравейник и – весной через неделю, а летом через четыре дня (летом муравьи более работоспособны) – вынимали чистехонький череп.
Сейчас голову после удаления мягких тканей (как глаза и губы) нагревают в емкости с водой при температуре не выше сорока градусов. Кипятить нельзя, чтобы не повредить тонких костей, самая хрупкая из которых – слезная кость. Она находится рядом с внутренним уголком глаза и имеет узкую борозду, по которой текут слезы. Кости обезжиривают бензином. Поскольку суставные сумки и связки ликвидируются, челюсть соединяют с черепом тонкой проволочкой.
Так это делают в Польше. В современном мире используют электрические контейнеры. Кафедра нормальной анатомии Варшавского медицинского университета как раз получила от швейцарской фирмы рекламный проспект. Там предлагаются мацераторы из хромо-никель-молибденовой стали, с двухлетней гарантией, за сто тысяч франков. У кафедры таких денег нет, поэтому, будем считать, тебе повезло – все, что нужно, сделано в Англии.
Твой череп передали Шекспировскому театру. Вначале его держали на солнце, чтобы он хорошенько высох и красиво побелел, а затем с ним сыграли “Гамлета”. После нескольких спектаклей выяснилось, что череп очень хрупкий; тогда его положили в коробку и спрятали на складе реквизита. Предварительно сфотографировав. Гамлет держал твой череп обеими руками, глядя в пустые глазницы. Вспоминая, как известно, Йорика, королевского шута, его выдумки, его куплеты, его смешные выходки.
Снимок увеличили и изготовили театральные афиши.
Ты знаешь, что в одном польском городе заключенные поставили “Гамлета”, написанного на тюремной фене?
Актер обратился к черепу с монологом:
У меня, уважаемый жмур, к вам вопрос: дальше мучиться или откинуть копыта? Короче говоря, берет сомненье — а вдруг лажовая моя душонка, нет чтобы цветочки нюхать, за старое опять возьмется…Тебе нравится, правда?
Я уже вижу, как весело ты смеешься, представляя собственный череп в руках уголовника, отбывающего пятнадцатилетний срок. Не театру в Стратфорде череп надо было завещать, а следственному изолятору в Ополе.
– Никто этого Гамлета не любил, а ведь малому ничего другого не требовалось, – объяснял актер-рецидивист коллегам-заключенным в Ополе. Тебя это должно поразить: как проницательно и просто!
Зеленоглазый Пианист сказал, что в истории с черепом – весь ты: изобретательный, наглый, одержимый искусством и мечтающий остаться в нем навсегда.
Ни телом, “ни любой его частью” для трансплантации не воспользовались, потому что тело было поражено болезнью.
Урну с прахом несколько лет держала у себя дома твоя лондонская подруга.
Недавно она пошла с урной на прибрежный луг – туда, где тебе приходили в голову лучшие идеи.
Был солнечный ветреный день.
Она открыла крышку урны и подождала, пока ветер унесет ее содержимое.
23.
Твоим языком стал английский. Кроме писем к Халине С., ты все писал по-английски. Даже детские воспоминания, где вы – бабушка, твоя мать и ты – говорите по-английски. Даже дневники…
За исключением четырех слов, написанных в Каракасе по-польски печатными буквами посередине страницы:
ГОСПОДИ, ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ.
Своим психотерапевтам и психиатрам ты рассказывал про шкаф и про арийскую сторону – about the wardrobe and the Aryan side.
Не верю, что они понимали.
Ты ходил с нераспознанной болезнью. Она называется survivor’s syndrome, синдром выживших. В Торонто я наблюдала попытку лечения – групповую психотерапию нескольких твоих ровесниц. Метод сводился к бесконечному повторению: одна женщина рассказывала про братика, за которым “не уследила” в Аушвице, другая – про шкаф, в который попыталась войти на глазах у чужих людей. Так они рассказывали тридцать лет, неизменно со страхом, со слезами.
24.
Разговор с матерью ты тоже написал по-английски.
Вроде бы существовал польский оригинал. Это было вскоре после войны, в канун Дня матери: в школе вам велели сочинить соответствующее стихотворение. Тебе ничего не приходило в голову. Бабушка сидела рядом, вязала на спицах. Она сказала:
– Это же просто. Начни так: “Мама, где ты? Почему ты не здесь?”
Ты начал: “Мама, где ты?..”
Дальше писал на одном дыхании, не отрываясь от тетради.
Что́ с оригиналом, неизвестно. Ко мне попал вариант, воспроизведенный тобой – уже взрослым.
Сделать перевод я попросила Петра Зоммера, поэта. Мне казалось, что стоило бы смягчить страшные, непристойные слова, но Зоммер не согласился. Ты именно так на нее кричал и так должно остаться, нет в польском языке других слов.
Так ты кричал…
Даже если б я не знала, как ты распорядился своим черепом, подумала бы, что это крик Гамлета.
Гамлет кричит на Гертруду – сын, обезумевший от ревности и тоски.
Гамлет после Треблинки…
25.
– Мама, где ты? Почему ты не здесь? Вот-вот, почему? А сказать тебе, почему? Я-то знаю. Ты предпочла Альберта, верно? Называла его свиньей, я помню. Однако предпочла умереть с ним, а не жить со мною. Что может быть приятней для сына?! – Солнышко, пойми: Ну разве двоим удалось бы бежать? Троим, вместе с Бабушкой… Ребенка спрятать легче, чем взрослую женщину. Я хотела только, чтобы тебе повезло. – Мне это не было нужно. Мне нужна была ты. Я имел точно такое же право на смерть. Себя ты лишила жизни, а меня – моего места с тобою рядом, куда бы ты ни пошла. Ты обманула меня, как последняя потаскуха, помнишь? Сказала: “Мама придет за тобой через несколько дней”. Я сразу понял: ты врешь. Я тебя разгадал. Ты знаешь: это правда, и не прикидывайся ангелом, черт подери. Кто ты сейчас? – наверное, уже мыла кусок. – Солнышко, прошу тебя, перестань. Не стоит так по мне тосковать. Тебе это вредно, да и мне не поможет. – Тосковать! Да я не думал о тебе с того дня, с того самого дня, когда ты побоялась со мной проститься. Тосковать по тебе? Ты, глупая сентиментальная курва! Наверняка очень старалась, чтобы этот свинья Альберт по тебе не тосковал. Его-то впустили в Треблинку, а меня вот нет. Ну и как, удался вам медовый месяц? Красивая небось получилась картинка, когда вы умирали, обнявшись. – Что ты знаешь о Треблинке? Не думаю, что очень много. И хорошо, я рада. Мужчины и женщины в разных камерах умирали. Теперь тебе чуточку легче? – Мать, это правда, что приток газа иногда бывал слабым и люди умирали несколько дней? Ты не попала в такую группу, правда? Ответь мне на это. Прости за все, что сказал, но на это ты мне ответь.Любовь
1.
– Расскажите мне что-нибудь, – попросила я.
(Каждую встречу с читателями я так заканчиваю: “Расскажите историю. Подлинную… Важную… Чужую или про себя…”)
Я выключила микрофон.
Воцарилась тишина.
Люди задумались: знают ли они важную историю. И хотят ли со мной поделиться.
Обычно подходят смущаясь, говорят нескладно.
У женщины, которая подошла ко мне в Гётеборге, были близорукие серые глаза; слова она выбирала тщательно:
– Алиция, прислуга, полька, любила Меира, моего дядю. Спасла его. Умерла от тоски по нему. Дядя был похож на Рудольфо Валентино[128].
Она вручила мне визитную карточку: “Helen Zonenshein, профессор философии”. Улыбалась сдержанно, по-скандинавски.
– Я всю жизнь ношу в себе Алицию, польскую прислугу.
2.
Рудольфо Валентино?..
На фотографиях красота довольно банальная.
– Глаза… – подсказала профессор. – Миндалевидные! А жесты… А какой стройный… Вы ведь сразу его узнали.
Узнать было нетрудно.
Он кланялся. Становился на колено. Выделывал пируэты. И эти обольстительные улыбки, комплименты, маскарадные костюмы…
Раздражал? Какое там! Им восхищались. В него влюблялись. Все на свете обожали дядю Меира – ну может, за исключением мужчин, с которыми его связывали деловые отношения. Потому что и в делах он вел себя, как в светском салоне. Обольщал, не держал слово и не помнил своих обещаний.
– Меир, – умоляли братья. – Пора посерьезнеть.
Они-то – братья Зоненшайн – были люди серьезные. Сыновья радомского раввина, который мечтал соединить польский хасидизм с Иммануилом Кантом. Иными словами: Modernity and Tradition[129], но modernity в Радоме не сумели оценить по достоинству. Город Радом отказался от услуг раввина; семья перебралась в Варшаву. Там братья занялись оптом и розницей: мука, крупа, сельдь, рис. “Динамичный импорт сельди со скандинавских рынков” – писали в газетах о фирме “Братья Зоненшайн”. Так вот, Давид, тот, что занимался мукой, отец шестерых детей, говорил:
– Меир, когда ты повзрослеешь?
Иче (крупы), отец четверых детей, говорил:
– Меир, когда ты…
Шломо (рис), отец двоих:
– Меир…
Арон, отец единственной дочери, самой младшей в семье, будущего профессора философии, Арон, у которого сельдь и рыбопродукты:
– Меир!
Братья, конечно, были серьезные и взрослые, но когда, например, Арон – маленький и нудноватый – входил в гостиную, веселее там не становилось. Никто и не замечал: здесь Арон или его еще нет. Когда же входил Меир, лица у всех прояснялись и жить на свете становилось приятнее.
3.
Дядя Меир женился на богатой пышнотелой портнихе с длинными светлыми волосами и короткой шеей. Они наняли прислугу. “Девушку” – говорили в те времена. У нее были живые глаза, приветливая улыбка и неправильная, слегка выпяченная верхняя губа.
Алиция, деревенская девчонка, влюбилась в дядю Меира.
Господи. В него все девушки влюблялись, но не по-настоящему. К дяде Меиру никто не относился всерьез. Никто – за исключением деревенской девчонки.
4.
Во время войны Алиция проявила себя смелой и предприимчивой. Раздобыла поддельные документы. Подкупила охрану…
Благодаря Алиции из гетто выбрались дядя Меир и Арон, его брат, с семьями.
Меир вышел последним. Он боялся. Тянул до последнего, но вышел с шиком. Надел бриджи, высокие сапоги, куртку из яркого клетчатого одеяла… и первый же шмальцовник затащил его в ближайшую подворотню.
– Деньги!
Дядя Меир вытащил банкноты из одного сапога и отдал шмальцовнику. Вытащил из другого – и отдал. Шмальцовник сосчитал, спрятал…
– Я могу идти? – спросил, дрожа, дядя Меир.
– Погоди, – сказал шмальцовник.
Достал бумажник, отсчитал половину банкнот и вручил дяде:
– Держи. Тебе тоже надо жить.
Раз уж все на свете любили дядю, мог ли его не полюбить шмальцовник?
– Иди и живи, – повторил он, хлопнув дядю Меира по плечу.
Ну и дядя Меир пошел. И жил дальше.
5.
Алиция пристроила всех на арийской стороне. Приносила им продукты. Приводила врачей. Когда возвращалась из деревни с нелегальным мясом, ее арестовали. Отправили в Освенцим. Там она встретила Геню, свояченицу дяди Меира.
“Я раздобыла синюю кружку с проволочной ручкой, – после войны писала Геня из Иерусалима родственникам в Осло. – Еще затемно, до апеля[130], я бежала в кухню, Алиция брала половник и со дна котла зачерпывала мне супу погуще…”
6.
Погибли:
Давид (мука) с женой и шестерыми детьми;
Иче (крупы) с женой и четырьмя детьми;
Шломо (рис) с женой и двумя детьми.
Выжили благодаря Алиции:
дядя Меир с женой и дочкой;
Арон, брат Меира, с женой и дочкой (будущим профессором философии);
Геня, свояченица Меира.
7.
Они встретились в Лодзи: уцелевшие семьи и Алиция. Решили эмигрировать.
До отъезда следовало как-то определиться с Алицией. Нашли ей мужа. “Он был в порядке”.
В семейном альбоме есть его фотография. Светлые волосы, скошенный подбородок, открытый взгляд и крупный курносый нос.
– Я не назвала бы его некрасивым, – рассказывала Хелен. – И красивым бы не назвала. Он не был глуп. И не был умен. Он был в порядке. Сдерживал обещания и уж точно не походил на Рудольфо Валентино.
8.
Они говорили:
– Лучше ничего не придумать, дорогая Алиция. У тебя будет дом, родятся дети. Даст Бог, когда-нибудь навестите нас в Норвегии…
Алиция слушала с пониманием. У нее будет дом. Родятся дети.
– Мы тебя будем помнить до конца жизни, дорогая Алиция…
Они сдержали слово. Из Осло посылали деньги, из Израиля – цитрусы.
“Дорогая Геня, доллары получила…” – писала Алиция в новогодней открытке.
“Подтверждаю получение…” – писала Алиция на бланке Банка Пекао[131].
“Господи, почему судьба ко мне так недобра? Почему мы не вместе? Вы пишете, что пора бы уже повзрослеть. Я взрослая, поэтому мне так тяжело… Но почему-то я верю, что когда-нибудь еще буду с вами …” – писала Алиция.
“Подтверждаю получение…”
“Доллары получила…”
“У меня для вас печальная новость. Моя жена в психиатрической больнице…” – написал в Осло муж Алиции.
9.
В семье Хелен постоянно присутствовали две темы: Алиция и женские чулки.
Чулки были приятной темой. Арон мигом угадал будущность нейлоновых чулок, Меир очаровал владелиц галантерейных магазинов. Арон оценил перспективность колготок, Меир очаровал… Арон обладал даром предвидения, Меир – обаянием. Фирма “Братья Зоненшайн” процветала.
Алиция была темой печальной.
– Что с Алицией? – озабоченно спрашивала мать Хелен. – Вы получили письмо?
– Плохо с Алицией, – отвечала жена Меира и шумно вздыхала.
– Есть новости от Алиции? – спрашивал дядя Меир.
– Новости скверные, очень скверные, – с грустью, понизив голос, отвечал отец Хелен.
– Почему вы ее не приглашаете? – спрашивала Хелен. – Она по вас тоскует.
– В Осло? – удивлялись они. – А что ей тут делать?
– Ясно, – говорила Хелен. – Она всего лишь полька из деревни. Что деревенской польке делать с вами в Осло?
– Не кричи, – просила мать. – Мы ей благодарны. Мы ей помогаем. Что еще можно?..
“В начале болезни я думала о самоубийстве, теперь это прошло… Конечно, мне не велено волноваться. Сын навещает меня в больнице два раза в год. Когда муж со мной развелся, он взял опекунство, а сейчас я его не интересую. Если у вас есть желание, попрошу или ношеную одежду, или лимоны и апельсины, потому что пошлина маленькая…” – писала Алиция.
Последнее письмо из Польши пришло от ее бывшего мужа:
“У меня для вас печальная новость. Алиция умерла”.
Хелен Зоненшайн убежала из дому.
Служила официанткой, нанималась сидеть с детьми и заработала на билет в Штаты. Поселилась в Калифорнии, с другими молодыми евреями, тоже убежавшими из дому.
10.
Они ходили босиком. Вплетали цветы в волосы. Повторяли “I love you” и рассказывали про свои буржуйские семьи, которые ненавидят.
Хелен рассказывала про Алицию.
– Для них она осталась полькой из деревни. Вывела их на арийскую сторону, но осталась деревенской полькой…
– Вывела… куда? – спрашивали молодые американские евреи.
Им покровительствовал раввин Шломо Карлебах[132]. Он играл на гитаре и рассказывал о цадиках, своих учителях. Учителя жили сто или двести лет назад, а города, в которых они учили, носили экзотические названия: Избица, Тужиско, Гостынин, Коцк…
– Мордехай из Избицы учил нас: “Когда любишь, твоя любовь приведет любимого из земного и из небесного мира…” – говорил Шломо Карлебах, а Хелен думала про любовь Алиции.
Иехиль из Гостынина перед молитвой отдал свой талес незнакомому еврею. Незнакомец вернул талес мокрым от слез. “Не огорчайся, – сказал он. – До завтра высохнет”. – “Не хочу, чтобы высох! – воскликнул Иехиль. – Не хочу, чтобы он когда-нибудь снова стал сухим!” – “Собирайся, – сказал незнакомец. – Мендель из Коцка тебя ждет”. Они пошли вместе, и Иехиль стал учеником знаменитого коцкого цадика.
Так рассказывал Шломо Карлебах, а Хелен думала про слезы Алиции.
Авраам из Тужиска не спал и не ел. Его спросили, по какой причине. Он рассказал:
– Когда мне было девять лет, мой отец Мордехай, цадик из Чернобыля, разбудил меня чуть свет, запряг лошадь, и мы сели в телегу. Поехали в лес. На поляне я увидел шалаш. “Подержи вожжи”, – сказал отец. Он вошел в шалаш и вернулся с молодым мужчиной. От печального лица молодого человека исходил свет. Он внимательно выслушал моего отца. “Ты уверен, что именно это хочешь мне сказать?” – спросил он. Мой отец ответил: “Уверен”, – и оба разрыдались. Обнявшись, они плакали и плакали. Наконец распрощались, и мой отец залез на телегу. Мы тронулись, не оглядываясь. Когда увидели издалека наш дом, я спросил: “Отец, кто был этот человек?” – “Мессия. Это был Мессия, сын Давидов”. – “Чего он от нас хотел?” – “Он спросил, настало ли уже его время, может ли он прийти. Я был вынужден сказать ему страшную правду: его еще никто не ждет”.
– Если бы вы увидели Мессию, если бы знали, что он не приходит, потому что у нас его никто не ждет, – вы могли бы спать и есть? – спросил, закончив притчу про Авраама из Тужиска, раввин Карлебах.
А Хелен подумала о своих родных. На что ей Мессия, если они даже Алицию не захотели ждать?
Карлебах умно говорил и прекрасно пел, но Хелен не хотелось слушать экстатические песни. Она хотела читать книжки – и поехала в Беркли.
Закончила университет. Защитила диссертацию. Стала профессором философии. Вернулась в Осло.
Дядю Меира она увидела в инвалидном кресле, после инсульта. Он не капризничал. Не жаловался. Ни о чем не просил. Сидел со счастливой улыбкой, повторяя одно слово:
– Ине́… Ине́…
Что на древнееврейском значит: “Вот, посмотри…”
Как будто видел что-то невероятно красивое.
Умер он незаметно.
– Ине́… – прошептал, закрыл глаза и счастливо улыбнулся.
Через несколько часов кто-то заметил:
– Меир умер.
Кто-то сказал:
– Хорошая смерть. Бог любил Меира.
Это был Арон, отец Хелен.
В его голосе явственно прозвучала зависть.
Даже Бог любил Меира.
А кто полюбит маленьких, нудных, степенных и серьезных?..
Гётеборг
Поля
1.
Плебанки не были ни поселком, ни выселками, ни хутором, ни деревней. Просто местом, не существовавшим ни на одной карте.
В Плебанках были два дома. На опушке леса – небольшая усадьба, дом крыт красной черепицей. На лесной поляне – бревенчатая деревенская хата. При усадебке под козырьком колодец с воротом.
Вокруг простирался лес. В лесу росли лиственницы, березы, липы и старый дуб, памятник природы. У дуба был толстый приземистый ствол и корявые ревматические ветви.
В Плебанки вели две дороги.
Одна, удобная, по липовой аллее, неподалеку от дуба. Вторая – напрямик, по берегу рыбного ручья, прое́зжая и летом, и в морозы.
В доме с красной черепичной крышей жил Хенрик Махчинский, владелец окрестных лесов и имения в Коцке.
Тут проводила каникулы Поля, его дочка. Когда Поля выросла, приезжали ее сыновья. Всегда было много детей, собак и веселого гомона.
В хате жила няня.
Хенрик Махчинский собирался построить в Плебанках новый большой дом. Привез кирпичи, доски и вырыл яму под фундамент.
Говаривал: “В Плебанках жизнь будет бить ключом”.
Кому б не хотелось, чтобы жизнь била ключом, но Плебанки жизнь обходила стороной.
2.
Поля Махчинская была женщина статная, рослая. У нее были золотисто-рыжие волосы, карие глаза и сильные руки.
У себя в Коцке, на окраине города, во время войны она спрятала в подклети двадцать пять евреев.
Полины сыновья углядели их в щели между досками.
Испугались:
– У нас под полом сидят какие-то люди …
– Ничего страшного, – успокоила их мать. – Это наши гости. Только никому не говорите, даже дедушке.
Дедушка Хенрик Махчинский безвылазно жил в Плебанках, а Полин муж был в партизанском отряде. О гостях в подклети знали четверо: Поля, ее сыновья и одна женщина, еврейка, прятавшаяся с детьми в землянке.
На женщину донес поляк, который работал на немцев. Немцы пообещали, что сохранят жизнь ее детям, если она скажет, где другие евреи. Она сказала:
– У Махчинской.
3.
Мы немало знаем про немцев, которые застрелили еврейку, ее детей и пошли искать Махчинскую.
Американские историки – Кристофер Браунинг и Дэниэл Гольдхаген – написали о них обстоятельные книги.
Немцы служили в 101-м резервном полицейском батальоне. Их было пятьсот человек. Они были слишком стары, чтобы идти на фронт. До войны жили в Гамбурге. Работали в доках, мастерских, магазинах, в сельском хозяйстве и государственных учреждениях. Имели жен и детей. Верили в Бога. В сорок втором году приехали в Польшу, на Люблинщину.
На рассвете их привезли в местечко Юзефов. Выстроили полукругом, и командир сказал, что они будут расстреливать евреев.
Он попросил их, стреляя, помнить о немецких женщинах и детях, убитых союзническими бомбами.
Спросил, чувствуют ли они себя в силах справиться с этой задачей. Один полицейский сил в себе не почувствовал и вышел из шеренги. За ним вышли еще одиннадцать.
Батальонный врач нарисовал прутиком на земле человеческую фигуру и показал место на затылке, куда нужно целиться. Завязалась дискуссия: стрелять из винтовки с примкнутым штыком или без штыка?
Евреев на грузовиках привезли на опушку леса. Каждый полицейский подходил, указывал на одного из них и уводил за деревья. Прицеливался в затылок и стрелял. Возвращался, указывал на следующего и вел за деревья. Совместный путь занимал пару минут. За это время полицейский мог увидеть лицо жертвы, услышать просьбу, плач или молитву.
Был долгий июльский день. Стреляли до вечера. Во время этой, первой, акции в Юзефове убивали семнадцать часов кряду. С перерывами на перекур. Мундиры покрылись ошметками мозгов и кровью. Полицейским кусок в горло не лез, ночью их мучили кошмары. Командир участия в расстреле не принимал, он остался в штабе и плакал. “Если так происходит повсюду, – повторял, – немцам нечего рассчитывать на пощаду”.
Полицейские 101-го батальона вначале расстреливали сами, потом вывозили евреев в лагеря уничтожения, потом опять сами стреляли…
Они все реже плакали.
Аппетит у них становился все лучше.
Спали они все спокойнее.
Ходили в кино.
Позировали для фото.
Посещали концерты артистических бригад, которые с развлекательными программами приезжали из Германии.
Артисты берлинской бригады спросили, можно ли им поехать с полицейскими на акцию. Вместе поехали в Луков. Евреев отвели за город, на песчаную, поросшую редким кустарником поляну. Велели раздеться и лечь лицом на землю. Полицейские стреляли как всегда, в затылок. Артисты пригляделись и спросили, можно ли им тоже пострелять. Полицейские вручили им оружие. Артисты концертной бригады застрелили в Лукове несколько сотен евреев.
Полицейские 101-го батальона были расквартированы в Радзыне. Им разрешалось приглашать к себе родных из Германии. Обер-лейтенант Бранд вызвал жену Луцию, а капитан Волауф с женой Верой провели в Радзыне медовый месяц. Обе женщины любили общество. Стол с едой выставлялся в сад, один из полицейских играл на скрипке, а батальонный врач аккомпанировал на аккордеоне.
Юлиус Волауф взял жену на акцию в Мендзыжец. Он был честолюбив и энергичен. Любил ездить на автомобиле – стоя, как генерал, принимающий парад. Его называли Маленьким Роммелем. Вера Волауф появилась в Мендзыжеце в наброшенной на плечи шинели. На рыночную площадь сгоняли евреев. Они несли узелки, подушки, сухари; на руках – детей. Их подгоняли выстрелами и криком. Это продолжалось несколько часов. Жара все усиливалась. Вера сняла шинель и осталась в ярком летнем платье. Платье туго обтягивало ей живот – жена капитана была беременна. Она простояла до самого конца. Пока всех евреев не загнали в вагоны. Пока от них не остались только узелки, сухари и трупы детей на брусчатке, а в воздухе – пух из разорванных подушек.
В ноябре 1942 года в Треблинку отправляли евреев из Коцка. Обер-лейтенант Бранд распорядился, чтобы на железнодорожную станцию их отвезли на крестьянских подводах.
Подводы эти ехали целый день…
Ехал Герш Бучко, тот, у которого была крупорушка.
Ехал Шломо Рот, который делал самое вкусное мороженое.
Ехал Яков Мархевка, который продавал лимонад.
Ехали: Цирля Опельман, которая привозила самые шикарные шелка, и ее конкурент Абрам Гжебень.
Цирля Верник – та, у которой на рыночной площади был магазин с басонными изделиями, и Шломо Розенблат, ее сосед, торговавший дамской галантереей.
Ехал Хенох Маданес, торговец скобяными изделиями…
…и Лейб Закалик, владелец мельницы, с братом, детьми и внуками…
Полицейские 101-го батальона вернулись в Германию в конце войны.
Вернулись к прежней, обычной жизни. В доки, магазины, мастерские и конторы. К женам и детям. К Господу Богу.
Почему обыкновенные жители Гамбурга, слишком старые, чтобы идти на фронт, стали убийцами?
Потому что они были немцами, а в Германии ненависти к евреям учили сотни лет, – ответил в своей книге Дэниэл Голдхаген[133].
Потому что они были людьми, а из каждого человека можно сделать убийцу, – ответил Кристофер Браунинг[134].
4.
Один из полицейских сообщил Поле, что немцы узнали про укрытие.
Она подняла откидную крышку в полу.
Крикнула: “Немцы!”
Побежала к соседям. Те ее не впустили, она побежала к другим. Оставила у них детей, но они велели детей забрать.
Поля с годовалой дочкой и два маленьких мальчика стучались во все двери подряд. Жители Коцка смотрели на них из-за занавесок. Они уже знали про евреев в подклети и знали, что сейчас нагрянут немцы. Позакрывали окна и двери и смотрели из-за занавесок.
Поля шла все медленнее, на одном ботинке у нее развязался шнурок и волочился по снегу. Она вернулась домой. Запрягла сани.
5.
Евреи открыли огонь из подклети. Полицейские принесли пулемет, стрельба продолжалась несколько часов. Погибли двадцать четыре еврея. Одни на месте, другие на поле за домом. Спасся только Ицек Закалик, внук мельника. Добежал до леса – и исчез. Потом он из этого леса выходил и стрелял. Приговаривал к смерти тех, кто доносил на евреев. Кажется, Ицек тоже погиб, но некоторые говорят, что это неправда. Что он еще живет, один-одинешенек, где-то в лесу…
6.
Поля ехала в Плебанки короткой дорогой, по берегу пруда. Пробирались с трудом, снег был лошадям по колено.
В доме с красной черепичной крышей Поля сказала: “Нас ищут”, – и ее отец, Хенрик Махчинский, сел в сани.
Остановились на поляне, перед хатой. Дети стали играть в снежки. Поля сняла кожух. Платье сильно обтягивало живот, Поля была беременна. Она сняла платье, попросила у няни ночную рубашку и легла в кровать.
Немцы тоже приехали на санях. Привезли трех евреев, четвертого волокли по снегу на толстой веревке.
Немецкий офицер вошел в хату.
Поля встала с кровати и надела кожух. Офицер велел ей остаться в комнате. Началось следствие.
Привели Хенрика Махчинского, Полиного отца.
Офицер спросил:
– Кто прятал евреев?
Поля ответила за отца:
– Я. Только я прятала, он ничего не знал…
Привели няню.
Офицер спросил:
– Кто прятал евреев?
Поля сказала:
– Я. Только я прятала.
Привели Войтека, старшего, семилетнего Полиного сына.
– Кто прятал?..
Поля сказала…
Офицер велел Поле залезть в сани. Она села рядом с тремя евреями. Четвертый, которого волокли на веревке, уже был неживой. Его отрезали и оставили на снегу.
Сани поехали в соседнюю деревню, Аннополь. За первым же овином евреи вырыли могилу для себя и Поли Махчинской.
7.
Еврея, отрезанного от саней, похоронили на берегу пруда.
Троих из-под овина – на еврейском кладбище.
Полю – на католическом.
Сыновья запомнили, что, когда ее хоронили, был лютый январский мороз.
Муж Поли приехал из своего партизанского отряда прямо на кладбище. Постоял над могилой, помолился, обнял сыновей – и снова исчез.
В апреле похоронили отца Поли, Хенрика Махчинского. Полины сыновья запомнили, что было тепло, светило весеннее солнце.
После похорон они с ребятами побежали на пруд.
Всю зиму на прудах держалась толстая ледяная корка. Теперь лед таял, и на воде, брюхом вверх, лежали задохшиеся рыбы.
На берегу стоял рыбак. Он вытаскивал рыб багром и клал в мешок.
Вырыл яму.
Ребята стояли в сосновом молодняке, между деревцами, и наблюдали за его работой. Увидели в яме часть туловища.
– Это ребра, – сказал рыбак.
Рядом лежало что-то сизое, продолговатое, похожее на две сложенные вместе человеческие ладони.
– Это сердце, – сказал рыбак. – Интересно, чье?
– Еврея, – догадался кто-то из мальчиков. – Этого, которого от саней отрезали.
– Еврея сердце, – повторил рыбак, подтащил мешок к яме и бросил туда дохлых рыб.
8.
Один из полицейских рассказал историю Поли на процессе по делу батальона в Гамбурге.
Эта история упомянута в книге Кристофера Браунинга.
“Немецкая полиция, – пишет Браунинг, – бросилась на поиски хозяйки дома, которой удалось убежать. Женщина отправилась к своему отцу в соседнюю деревню. Лейтенант Бранд поставил отца перед выбором: его жизнь или жизнь дочери. Мужчина отдал дочь, которую застрелили…”
Лейтенант поставил отца перед выбором: его жизнь или жизнь дочери… – показал полицейский, свидетель произошедшего.
Лейтенант поставил отца перед выбором…
9.
После войны землю Махчинских раздали крестьянам. Лес оставили Полиным детям.
Дом с красной черепичной крышей кто-то купил, разобрал и перенес в другую деревню.
Кто-то другой забрал козырек и во́рот с колодца. Над землей осталось серое бетонное колодезное кольцо.
Полины сыновья, Войтек и Славек, приезжали в Плебанки каждое лето. Жили в няниной хате. Они очень любили это место, которого не было ни на одной карте. Поляну среди деревьев, куст сирени около хаты, две одичавшие яблоньки…
Войтек не раз говорил, что по лесу блуждают добрые заботливые духи.
Войтек приезжал с собакой по кличке Дриф. Это был серый, почти серебряный шпиц. Второй шпиц в семье, после Полиного Фифрека – желтого с белыми подпалинами. У Поли было много животных: лошади, кошки, собаки, – но Фифрек был самый любимый. После ее смерти он перестал есть и через две недели сдох.
Пару лет назад Войтек пошел гулять с Дрифом. Пес убежал вперед и исчез. Войтек прочесал лес, собаки нигде не было. Вернулся на опушку и вспомнил про колодец около дома, крытого красной черепицей. Нашел этот колодец. Кто-то украл бетонное кольцо, в земле зияла чернотой четырехметровая дыра. Из черноты доносился собачий визг…
Войтек нагнулся…
Трупы Дрифа и Войтека с немалым трудом вытащили из колодца местные крестьяне.
10.
Есть лес: золотисто-красные осенние березы.
Есть поляна в лесу.
Есть старая бревенчатая хата на поляне.
Есть Плебанки.
Гражина, внучка Поли, высокая, кареглазая, с золотисто-рыжими волосами, не подходит к колодцу, в котором утонул ее отец. Не заходит в хату, в которой допрашивали бабушку. Не спускает с рук сына. Оберегает его от духов Плебанок.
– Мама стояла вот здесь, – показывает в бревенчатой хате Славек, младший сын Поли. – Лицом к окну.
У окна стоял немецкий офицер. (Благодаря книге Кристофера Браунинга мы знаем, что это был лейтенант Бранд.) Из той двери, из кухни, входили по очереди…
– Кто прятал евреев? – спрашивал Бранд.
Полин отец мог сказать: “Я прятал, дочка ничего не знала”.
Но отец молчал, а Поля твердила:
– Только я…
– Она, так? – уточнил немец, с интересом глядя на старого человека.
Отец Поли молчал.
Через четыре месяца он умер. Не болел, ни на что не жаловался. Перестал есть и умер.
Полин муж снова приехал из партизанского отряда. Стоял в саду, под апрельским солнцем, над тазом. Мыл шею и лицо, кто-то поливал ему из кружки. Сыновья стояли рядом и рассказывали новости: сперва Фифрек перестал есть – не ел, пока не умер, потом дедушка перестал есть…
Пошли хоронить дедушку Махчинского. После похорон отец исчез, а ребята побежали на пруд. Увидели задохшихся рыб на воде, а на берегу рыбака с мешком.
11.
Незадолго до смерти Поля Махчинская дала Ривке, еврейской девушке из Коцка, арийские документы. Дала варшавский адрес родителей мужа. На железнодорожную станцию велела ехать на крестьянской подводе.
Ривке было двадцать лет. Она была дочкой плотника Шмуля Гольдфингера. У них была мастерская во флигеле, на Броварной.
Девушка попросила соседа-поляка отвезти ее на вокзал.
– Убирайся! – крикнул сосед, и Ривка спросила у Поли, что делать.
– Подожди, – сказала Поля, побежала куда-то и вернулась с немецким полицейским.
– Отвезешь ее? – спросил полицейский соседа и взялся за пистолет.
Сосед запряг лошадь и отвез Ривку на станцию.
Она пережила войну. Ее мать Шпринца, пять ее сестер – Сара, Леа, Хава, Блюма и Цеся, и ее брат Лейзор погибли в Треблинке. Отца немцы убили в Лукове, во время массовой акции. Наверно, артисты застрелили, из концертной бригады. На песчаной, поросшей редким кустарником поляне.
12.
Полицейский сообщил Поле, что немцы уже знают про укрытие…
Полицейский заставил соседа поехать с Ривкой…
Полицейского этого видели с Полей, он время от времени приезжал в Плебанки. “Родом из Гамбурга, высокий блондин, лет пятидесяти…” – писала мне Ривка Гольдфингер из Израиля.
Он любил Полю?
Догадывался, что у нее в подклети гости?
Она ему про них сказала?
Верила, что в черный час он ее защитит?
13.
Когда в Аннополе, за овином, трое евреев из саней уже были убиты и осталось убить только Полю, лейтенант Бранд обратился к полицейскому, которого не раз с ней видели:
– Стреляй.
Полицейский поднял винтовку. Сказал:
– Ich kann nicht, – и опустил ствол.
Бранд ждал.
Полицейский поднял винтовку – и опустил.
– А теперь можешь? – спросил Бранд и приставил полицейскому к виску пистолет.
14.
Люди из Аннополя рассказали об этом Полиной двоюродной сестре. Двоюродная сестра живет за старым дубом, у дороги в Плебанки.
Говорит она громко, пронзительно – оттого что глухая, а может, от волнения.
– Поднял винтовку и не смог!
– Три раза пробовал!
– Аж пистолет ему приставили: ну а теперь?!
– В третий раз только!
– В третий раз смог!
– Аж ему пистолет приставили!
– С третьего раза!
Кричит из-за дуба, через забор, ревматическая и корявая.
Швыряя слова, выкрикивает последние минуты жизни Аполонии Махчинской[135]. Последние минуты истории любви полицейского из Гамбурга.
Плебанки
Литература факта
1.
– Расскажите мне что-нибудь… – попросила я.
(Каждую встречу с читателями я так заканчиваю: “Расскажите историю…”)
В маленьком северном городке, неподалеку от Гамбурга, ко мне подошел мужчина средних лет. У него была светская улыбка и острый взгляд.
– Доктор Кляйнер, Исаак Нахумович, – представился он по-русски. – У меня для вас кое-что есть…
“Кое-что есть” звучало многообещающе. Как посул сделки с выгодной маржой. Однако доктор Кляйнер не с деловым предложением ко мне пришел. Он пришел со своей жизнью.
– Кое-что действительно интересное, мадам…
“Действительно интересное…”
Он давал понять, что история, которую я прочитала на авторском вечере, это еще пустяки… (История польки, спасавшей евреев, которую застрелил влюбленный в нее немецкий полицейский.)
Действительно потрясающей была лично его, Исаака Нахумовича Кляйнера, история.
2.
– Нахум, мой отец, был коммунист. Он родился и жил в Риге, в бедной многодетной семье. В бедной еврейской семье старший сын не мог не стать коммунистом, а отец был старшим сыном.
(Это звучало не слишком заманчиво. Я довольно много писала о еврейских коммунистах из бедных семей и вряд ли могла узнать что-то новое. Больше того: мне и не хотелось узнавать. Я слушала неохотно, не доставая авторучки.)
Началась война. Латвия стала советской республикой, Нахума Кляйнера назначили министром.
В сорок первом году Латвию захватили немцы. Русские, евреи и коммунисты уезжали в Россию. Поезда брали штурмом. Нахум Кляйнер узнал, что в Москву отходит последний эшелон. Добыл семь мест: для матери и всех братьев и сестер. Второпях отвез их на вокзал. Посадил в вагон и попрощался. Отхода поезда он ждать не мог – отправлялся на фронт.
Поезд стоял на перроне, на рижском вокзале.
Бабушка Ноэми, мать Нахума, сидела в вагоне и собиралась с мыслями.
Едут они в неведомое – думала бабушка Ноэми, – на край света, а она ничего не успела взять. Ладно постель, бог с ней. Ладно чайник. И даже три серебряные чайные ложечки, полученные в приданое от матери. Она не взяла самое главное: серебряные подсвечники, в которых ее мать, а потом она каждый шабат зажигала свечи.
Бабушка встала.
Сказала: “Все выходим”.
И они вышли. Все: бабушка и шестеро ее детей.
Пошли домой.
Завернули в белую полотняную салфетку два маленьких подсвечника и три чайные ложечки.
Вернулись на вокзал. Перрон был пуст.
С рижского вокзала в Россию ушел последний поезд.
3.
– И что? – догадливо перебила я доктора Кляйнера. – По дороге поезд разбомбило, пассажиры погибли. Ноэми и дети пережили войну, верно?
– Нет, мадам. Поезд доехал до Москвы. Пассажиры пережили войну. Бабушка Ноэми погибла вместе с шестью детьми и десятками тысяч других латышских евреев.
4.
Нахум Кляйнер вернулся с войны с высшими боевыми наградами и шрамами от ран. Дома он застал чужих людей. Они не знали ни его матери, ни братьев и сестер.
Он пошел к латышским соседям, но те про них ничего не знали.
Он хотел вернуться на фронт, но фронта не было. Был лес. Его направили в оперативные отряды, которые в лесах искали немцев и латышей-коллаборантов.
У латышей проверяли плечи. Если долго ходить с винтовкой на плече, от ремня остается заметный след.
Латышей со следами на плече отправляли в расход – под ближайшее дерево – или в лагерь.
Немцев выводили из леса. Их брили, чистили им ботинки, пришивали пуговицы к мундирам и вешали на телеграфных столбах на базарной площади, в центре города.
5.
Война закончилась. Немцы повешены, латыши отправлены в расход, пора было начинать обычную жизнь.
Нахум Кляйнер вернулся в Ригу. Женился, работал, растил сыновей.
После шестидневной войны в Израиле он принял решение эмигрировать. Паспортов ждали недолго, четыре года.
Упаковали вещи, сдали багаж и купили красные гвоздики.
Они не знали, где лежит бабушка Ноэми: в Саласпилском лесу, в Румбульском лесу или в Бикерниекском лесу.
Решили попрощаться с местами казни евреев во всех лесах. Охапку гвоздик поделить на букеты.
Накануне кто-то постучался в дверь. Незнакомая старая женщина в черном платке на голове, с черной клеенчатой сумкой в руке хотела поговорить с Нахумом Кляйнером.
Женщина представилась: во время войны, до того как в Риге устроили гетто, она жила по соседству с Ноэми Кляйнер.
Однажды вечером Ноэми выскользнула из гетто и пришла к бывшим соседям. Она сказала: “Нас убьют, но Нахум, мой сын, переживет войну. Отдайте это ему…”
Незнакомая старая женщина полезла в клеенчатую сумку и положила перед Нахумом Кляйнером сверток в полотняной салфетке.
– На следующий день, – рассказала она, – их погнали в Румбульский лес, пешком, по снегу. Был ноябрь, а снега уже было по колено… Больше я их не видела.
Нахум развернул салфетку.
Потрогал шабатные подсвечники и чайные ложечки и спросил у женщины, почему она их принесла.
Его не интересовало, почему она медлила с отдачей. Тут все было просто: она пользовалась ложками, забыла, откуда они. Подумаешь – три чайные ложечки… Ему хотелось знать, почему принесла через тридцать лет.
– Мне снится ангел, – объяснила женщина. – Говорит: “Отдай это. Если не отдашь, мы тебя не пустим в рай”. Последнее время он ничего не говорит, только смотрит, но я уже понимаю, что́ ему нужно. Уже сказала: не смотри так, я попробую его найти… Вот я вас нашла и отдаю, – закончила женщина. – Отдаю, правда?
– Отдаете, – подтвердил Нахум Кляйнер. – Насчет рая можете не беспокоиться.
6.
– А Бога нет, – усмехнулся вдруг доктор Кляйнер. – Бога нет, хотя есть сны про ангелов и есть серебро в горке.
(В Израиле отец купил небольшую горку и положил в нее три чайные ложечки и два шабатних подсвечничка. Сообщил доктору Кляйнеру, что завещает ему фамильное серебро. Просил чистить осторожно. Никакой химии. Лучше всего зубным порошком, его еще можно достать в бывшем СССР. Старые фронтовые друзья присылают ему про запас зубной порошок в большом количестве.)
– Бога нет, – повторил доктор Кляйнер. – Говорю это как хирург-онколог, которому смерть не в новинку. Нет Бога.
Я достала листок бумаги и авторучку, записала: Бога нет – и вернулась к началу рассказа доктора К.
“В бедной еврейской семье старший сын не мог не стать коммунистом…”
7.
Они уже знали, где лежит бабушка Ноэми.
Красные гвоздики делить не понадобится. Всю охапку можно положить в Румбульском лесу.
Им был знаком этот лес. Излюбленное место воскресных семейных прогулок рижан. Снег там обычно лежал до поздней весны. Когда таял, водой вымывало из земли человеческие кости. Дети собирали их, как собирают грибы в лесу, а родители закапывали в двух больших общих могилах. В одной могиле – крупные, взрослые кости, в другой – маленькие, детские. Пытались считать черепа. Маленьких насчитали десять тысяч, с большими запутались и потеряли счет.
Над могилами поместили памятную доску: “Здесь лежат евреи”.
Милиция забрала доску, но кто-то установил новую: “Здесь лежат евреи”.
Милиция забрала… и так далее.
Когда про борьбу за доску написали в американской газете, власти согласились на небольшой камень с информацией: “Здесь лежат жертвы фашизма”. Рядом с камнем, увековечившим смерть нескольких десятков тысяч евреев из Голландии и Латвии, поставили обелиск: “Слава танкистам”. Поскольку отсюда в сорок пятом году танки Красной Армии начали штурм Риги.
8.
Итак:
им предстояло отвезти цветы в Румбульский лес,
из лесу отправиться на недалекий аэродром,
с аэродрома улететь навсегда.
Цветы повез доктор Кляйнер. Родители с младшим братом должны были приехать отдельно.
Доктор оставил машину на обочине и вошел в лес. Был январь. Снегу, как и тридцать лет назад, по колено. После нескольких дней оттепели ударил мороз, и снег был покрыт гладким блестящим настом.
Доктор добрел до места.
Постоял около большей – “взрослой” – могилы с охапкой красных гвоздик, в пустом белом лесу.
Семья опаздывала. Он забеспокоился. Не стал больше ждать, положил цветы на краю могилы. Сказал вполголоса:
– Прощай, бабушка. Прощайте, дяди и тети, с которыми я не успел познакомиться. Больше мы вас никогда не навестим.
Подумал, что надо бы прочитать кадиш, но он не умел молиться.
Двинулся в обратный путь и увидел родителей. Отец велел идти к могилам. Пошли гуськом, по утопающей в снегу тропке, проложенной доктором Кляйнером.
– Где цветы? – спросил Нахум.
Цветов не было.
Был след от цветов, явственно отпечатавшийся на снегу.
– Люди украли? – возмутилась мать.
Людей не было.
– Ветром сдуло?
Ветра не было.
– Птицы утащили?
Птиц не было. Впрочем… какая птица может унести охапку гвоздик?
Нахум прочитал кадиш. В отличие от сына он знал слова. Его научили в хедере, очень давно, до того как он стал коммунистом.
Они вернулись к машине и поехали на аэродром.
9.
– А Бога нет, – сказал доктор Кляйнер. – Есть ангелы, серебро и следы от цветов, а Бога нет. Вы это записали?
– Записала, естественно: Бога нет.
10.
Из Израиля они перебрались в Германию. Знакомый виолончелист, еврей, похожий на турка, отчего вынужден был бежать из Узбекистана во время недавних турецких погромов[136], теперь играл в оркестре в городке на Северном море. Он писал им про пособия и морские отливы. Пособия были выше, чем в Израиле, а море отступало к самому горизонту. “Волнующееся и бескрайнее, как музыка Малера, уходит и обнажает дно”, – писал виолончелист.
Место онколога в соседнем Гамбурге оказалось привлекательным. В отличие от морского дна – скучного и илистого.
Доктор перевез в Германию родителей, и все поселились в северном городке.
– Поезжай в Берлин, – сказал однажды доктор виолончелисту. – Привези из общежития для переселенцев семерых евреев. Нас будет десятеро, получится миньян, и мы организуем общину. Постарайся, чтобы евреи были молодые и здоровые. И образованные.
Бургомистр приготовил социальное жилье.
При нацизме городок прославился энтузиазмом, с которым сжигались книги, поэтому бургомистр всячески поддерживал репутацию местных жителей как толерантных и гостеприимных граждан.
Виолончелист отправился в общежитие для переселенцев.
Привез пятнадцать евреев, старых и больных. Ни один не знал немецкого языка.
– Не селекцию же мне было проводить, – оправдывался виолончелист.
– Не огорчайтесь, – утешал его бургомистр. – У нас в городе есть еврейское кладбище. Последние похороны были в тридцать девятом году.
11.
Оказалось, что Нахум Кляйнер, герой Второй мировой войны, боится немцев.
– Меня узна́ют… – понизив голос, говорил он. – Прознают, что я их убивал на фронте. Вешал на базарной площади…
Он перестал выходить из дому. Не хотел любоваться морским отливом.
– Меня узна́ют… – шептал.
Ранним утром сын водил его в лес. Час они гуляли, потом возвращались домой, и доктор уезжал в больницу.
Однажды пошли в лес, как всегда, чуть свет. Присели на пеньках. Было жарко. Нахум снял рубашку: обнажилась грудь – бледная, худосочная, покрытая сеткой шрамов, точь-в-точь фронтовая карта.
Из-за деревьев выбежала собака. За собакой шел старик. Увидев Нахума, он остановился и уставился на искалеченное тело.
– Der Krieg? – стал указывать пальцем на шрамы.
– Война, – смиренно подтвердил Нахум.
Немец расстегнул рубашку и открыл грудь-карту.
– Война? – спросил Нахум.
– Der Krieg, – подтвердил немец.
Стал искать что-то под левым соском и нащупал иссиня-красный рубец.
– Орша, – сообщил он.
– Смоленск, – в свою очередь, Нахум отыскал под соском шрам – длиннее оршинского, протянувшийся до грудины.
– Курск, – предъявил немец живописный вертикальный шрам на грудине.
– Брянск! – восклицал Нахум…
Доктор поехал на работу. Ветераны пошли пить пиво. Со следующего дня Нахум Кляйнер снова стал героем войны.
12.
– Мужчина, с такой горячностью кричавший Alles Lüge, когда вы читали про прятавшую евреев женщину, которую застрелил гамбургский полицейский… (“Все вранье” – кричал он…) так это наш местный фашист.
Женщина, которая так решительно вывела его из зала, – наша антифашистка.
Старички, которые тихонечко сидели в последнем ряду, – это наши евреи. Они не к вам пришли, нет-нет. Они пришли ко мне. У одного из них умерла жена, нужны деньги на надгробие.
А остальная публика, которая с таким вниманием слушала ваш репортаж, – это наши обычные немцы.
Культурные любители литературы факта.
Гамбург
Правнук
1.
Она живет на Фарной, вместе с отцом, на втором этаже. Дом солидный, из неоштукатуренного красного кирпича. Через сто лет он станет собственностью Хаи, ее внучки. Хая выйдет замуж за купца Мотла, который будет выписывать из России собольи шкурки, разбогатеет и купит еще несколько солидных домов, тоже на Фарной. Шкурки будут пересыпать нафталином. Сто пятьдесят лет спустя ее правнук Натан Б., профессор медицины, будет вспоминать запах дедушки Мотла: смесь одеколона, нафталина и меха.
Но пока еще девятнадцатый век, первая половина. Пока еще есть Фарная улица и двухэтажный дом на углу. Она живет в этом доме с отцом, матери уже несколько лет нет в живых. Мать родила ее поздно. Отец уже начал терять терпение и подумывал о разводе, но мать упросила дать ей последний шанс. И отправилась в Чернобыль. Мордехай, чернобыльский цадик, благословил ее, и через год на свет появилась она, Хана Рахель.
После смерти матери она долгие часы проводила на кладбище. Однажды, уходя в сумерках, споткнулась о надгробную плиту и упала. Нашли ее на следующий день. Несколько недель она пролежала без сознания. (“Вероятно, с воспалением мозговых оболочек”, – скажет через сто пятьдесят лет ее правнук, профессор медицины.)
На этот раз в Чернобыль отправился отец.
– Возвращайся домой, – сказал цадик. – Твоя Хана Рахель здорова. Она принесет тебе много радости и много печали…
Отец застал девочку в сознании, спокойной, жара как не бывало.
С каждым днем она набиралась сил.
Когда встала с кровати, оказалось, что она знает наизусть все Пятикнижие.
2.
Живет она уединенно. Ровесницы ее раздражают, она избегает разговоров, штудирует священные книги. Молится. Для молитвы, как мужчины, надевает талес. Начинает комментировать Священное Писание, и ее умозаключения поражают оригинальностью. К ней приходят люди. Она отвечает на вопросы, дает советы, изгоняет демонов. Кто-то просит вернуть ему слух. Она колеблется, робко дотрагивается до уха больного – руки у нее тонкие, маленькие, пальцы пухлые, как у младенца, – и глухой кричит: “Я слышу!” Больных все прибывает. Как и заблудших. Приезжают с Волыни, из Люблина, даже из Львова. Про нее говорят: Людмере Мойд – Людмирская Дева. Людмир – еврейское название Владимир-Волынского[137].
В квартире на Фарной становится тесно, отец строит ей молельню на Сокальской, недалеко от дома. Там есть специальная комната, где она принимает своих приверженцев и проводит время в размышлениях. Истязает себя. Становится все бледней. Страдает головными болями. Напоминает тех страстных евреек, поглощенных беседами с Богом и мольбами послать им знак, о которых мир услышит через сто лет после Людмирской Девы.
“Лишь тогда, когда потребность в шуме, которому уже есть что сказать, пробирает нас до самого нутра, когда мы кричим, чтобы добиться ответа, а ответа не получаем, только тогда мы касаемся молчания Бога”, – напишет одна из них[138].
Другая[139] будет молить Бога принять ее жизнь как искупительную жертву: чтобы сатанинская власть была свергнута без новой мировой войны. “Я прошу об этом сегодня, – нетерпеливо добавляет она, – потому что уже двенадцатый час”. Наивная! Поверит, что Бог ограничится ею одной. Это Он-то, который запросто может получить шесть миллионов. В том числе Хаю – внучку Людмирской Девы, Хаиных сыновей, их жен, и детей, и остальных обитателей Фарной улицы.
3.
К счастью – пока еще только девятнадцатый век.
В молельню Людмирской Девы является цадик Мордехай из Чернобыля. Тот самый, что благословил ее мать, а ее вернул к жизни. Он – самый почитаемый из живущих цадиков: покровительствует рассеянным по свету тридцати шести праведникам, благодаря которым существует мир. Это он встречался в лесу, на безлюдной поляне, с Мессией, сыном Давидовым. Он должен был сообщить Мессии, настало ли уже время, может ли уже тот прийти к людям.
Цадик из Чернобыля просит Людмирскую Деву вернуться к обычной жизни.
Он говорит о святости. Человек, который стремится к святости, должен познать искушение и грех.
– Не убивай в себе человеческие страсти, – заканчивает цадик. – Живи жизнью женщины. Падай и смиренно старайся подняться сама и помогай другим…
Хана Рахель покидает одинокую обитель.
Принимает первого из представленных ей мужчин, ученых и благочестивых.
Вступает с ним под свадебный балдахин.
Ей состригают светлую косу и надевают парик. Маленькими тонкими пальчиками она проводит по жестким волосам. Не поглядев на себя в зеркало, идет в супружескую спальню.
Просыпается на рассвете.
Недоверчиво, с тревогой, осознает, что ничего не знает. Не знает древнееврейского языка. Не помнит Священного Писания…
Забыв о своей обязанности смиренно подниматься после падения, кричит со злостью:
– Вот что, значит, Ты придумал? Так выглядит Твой знак?!
4.
Через сто лет дом на Фарной улице станет собственностью Хаи, которая выйдет за купца Мотла. О Людмирской Деве она будет рассказывать детям и внукам со смесью страха и восхищения.
В бывшей квартире Ханы Рахели поселится нотариус. На первом этаже разместится аптека. Жена аптекаря, стройная, черноволосая, будет считаться самой красивой женщиной в городе. Одной из двух самых красивых, наравне с женой директора гимназии.
Жена аптекаря, которая на двадцать лет моложе мужа, влюбится в маловыразительного блондина, местного врача. Врач бросит ее ради Цили, студентки юриспруденции, внучки Хаи, правнучки Ханы Рахели.
Правнучка Циля не захочет упражняться в святости. Со свободой, казавшейся жителям Владимира несколько вызывающей, она будет разъезжать с новым женихом в открытой коляске по всему городу. Летними субботними днями они отправляются за город, по дороге, ведущей в Устилуг. Однажды, остановившись в сосновом лесу, врач, несмотря на жару, поднимет крышу коляски. И тут он заметит Натана Б., будущего профессора медицины, пристроившегося сзади, на жердочке между колес. Во-первых, будущий профессор обожает так ездить. Во-вторых, ему интересно, чем занимается кузина Циля на долгих прогулках.
К сожалению, кузина быстро прогонит его с любимой жердочки.
Будущий профессор не узнает, чем занимались эти двое в коляске с поднятой крышей, среди запахов свежего сена, конского навоза и нагретых солнцем сосен.
5.
Последнее лето для обитателей Фарной улицы будет совершенно обычным.
Мойзеш Б., Цилин отец, избранный вице-бургомистром, будет каждое утро добросовестно отправляться на службу. За ним присылают магистратский двуконный фаэтон с кучером-украинцем.
Циля, которая, расставшись с врачом, выйдет замуж за однокурсника, привезет мужа в родной город. Похвастается молельней на Сокальской: “Ты слыхал про Людмере Мойд? Это моя прабабушка Хана Рахель. Она тут молилась…” На берегу Луги скажет: “Гляди, какое медленное течение. Легко плыть и вниз по реке, и вверх…” Покажет мужу лес в Пятиднях, сосны и орешник по дороге в Устилуг: “Каждую осень мы собирали лесные орехи, целыми корзинами привозили домой. На Новый год бабушка Хая пекла ореховый пирог, а на Пурим толкла орехи с маком и медом…”
Марк Б., дантист, брат вице-бургомистра и отец будущего профессора медицины, закончив принимать пациентов, вечером отправится играть в преферанс со своими всегдашними партнерами. С комиссаром полиции, который погибнет в Катыни. С графом, которому удастся избежать лагерей. С украинцем-книготорговцем, который при советской власти станет председателем горсовета.
Отилия, жена дантиста, пролистает “Еву”, женский журнал. В силу семейного прошлого ее заинтересует беседа с современным цадиком – женщиной, жительницей Иерусалима. Цадик Сура Шлоймца горит желанием просвещать еврейских женщин. Чтобы не оправдывались перед Богом, как праматерь Ева. Та не знала, что яблоки срывать запрещено, в чем и заверяла Создателя. Лично ей об этом не сообщили. “Будем учиться, – завершает разговор женщина-цадик. – Чтобы не прибегать к наивным отговоркам, когда предстанем перед Творцом…” На рассвете Сура Шлоймца молится о пришествии Мессии. Затем принимает страждущих. Раздает им травы, которые в Святую Землю присылает дед цадика Суры, прямо из Пшемысля.
Почитав “Еву”, Отилия Б. уделит пару часов головорезу Хаиму. Хаим – гроза всего города. После того как сын Отилии Натан Б., будущий профессор медицины, вытащит из реки тонущую Двойру, сестру Хаима, головорез станет его ближайшим другом. Отилия привяжется к нему и начнет учить польскому и иностранным языкам. Она заметит, что парень способный, что ему нужно позаниматься и сдать экзамены на аттестат зрелости. Поскольку это лето будет последним, аттестата зрелости Хаим так и не получит. А Отилия Б. не продлит на следующий год подписку на женский журнал “Ева”.
Молодежь проведет лето на пляже, над Лугой.
Они возьмут напрокат лодки у Шломы, богатыря с седой бородой по грудь и голосом пророка. Переправятся на другой берег и пойдут лугами вверх по реке.
Бейби, правый нападающий “Аматора”, примется щеголять прыжками в воду. (“Аматор” этим летом выиграет у команды “Напшуд” из Яновой Долины и даже у “Стшельца” из Луцка.)
Рая, дочка торговца аптекарскими товарами и невеста Бейби, будет позировать уличному фотографу. “Можно? – спросит фотограф. – Две штуки всего за пятьдесят грошей”. “Хорошо”, – улыбнется Рая, поправит купальник с глубоким вырезом и кокетливо сощурит зеленые глаза.
Одинокий врач, брошенный Цилей, погрузится в чтение медицинского журнала.
Натан Б., будущий профессор, устроится на одеяле со своей возлюбленной Таубой, дочкой Айзика, торговца мануфактурой.
Йойне, помощник аптекаря, затянет модный шлягер:
Мне немного взгрустнулось, Без тоски, без печали В этот час прозвучали Слова твои…Вечером молодые люди усядутся на скамейку возле будки с мороженым. Возьмут по стакану воды с малиновым сиропом, которая дешевле мороженого, и заведут разговор о серьезных вещах.
О евреях: опять где-то их порезали бритвами.
О войне: все о ней говорят, но они считают, что войны не будет.
О мире: хороший он или плохой?
О коммунизме: это он спасет евреев от бритвенных лезвий, войн и плохого мира.
Путь молодых владимирских евреев к коммунизму начнется на Фарной улице. По соседству с домом Ханы Рахели, возле деревянной будки с водой и мороженым.
Это будет последнее лето перед войной, которую Бог не захочет отменить. Несмотря на горячие мольбы принять искупительную жертву.
6.
В сентябре в город вступит Красная Армия. Сразу после этого на станции появятся теплушки. С каждым днем их будет становиться все больше. Они будут стоять на всех запасных путях.
Морозной декабрьской ночью на восток пойдет первый эшелон. Начнется депортация “врагов народа”. Закончится вера Натана Б. в коммунистические идеалы. Начнется страх перед коммунизмом.
7.
Натан Б., будущий профессор, вернется в родной город после недолгой службы в Красной Армии. После смертного приговора за саботаж, замененного десятью годами лишения свободы. После исправительно-трудовых лагерей на Колыме.
На вокзале он прочтет надпись кириллицей: Владимир-Волынский.
Пойдет на Фарную и встанет перед домом бабушки Хаи и дедушки Мотла.
Увидит на улице груду картонных коробок с надписью НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. В дом въезжает народное просвещение.
Он поднимется на второй этаж. Квартира дедушки и бабушки будет не заперта и абсолютно пуста. Никакой мебели, никакой утвари, даже запахов никаких. Ни одеколоном не пахнет, ни нафталином, ни мехом.
Квартира справа – дяди Мойзеша – будет пуста.
В столовой и спальне родителей, Отилии и Марка, Натан увидит чужих людей за чужими письменными столами. Из отцовского кабинета будет доноситься громкий стук. Он приоткроет дверь. Увидит молодого парня на стремянке с молотком и картиной в руках. Увидит на картине поле спелой пшеницы и среди колосьев Сталина, который идет по полю, ведя за руки двоих детей, девочку и мальчика. За Сталиным – трактора, дальше – строительные краны и новые дома. За домами светит солнце. От солнца во все стороны расходятся длинные золотистые лучи.
Парень выровняет картину на стене и обернется к Натану Б.:
– Вы кто?
– Я? – задумается Натан Б. – Я никто… Я просто так…
Повернется, выйдет на Фарную улицу и пойдет дальше.
8.
Он направится к Луге.
Не останавливаясь, пройдет мимо того места, где бородатый Шломо причаливал свои лодки.
Пойдет вверх по течению и сядет на пень напротив пляжа.
Пляжа не будет. Берег зарастет бурьяном и камышами.
Он внимательно оглядит заросшие холмы и берег, но никого не увидит. Ни Раи, ни Бейби. Ни Двойры, ни головореза Хаима. Ни Йойне, ни фотографа с “лейкой”. Ни врача, ни аптекаря, ни его жены. Ни родителей, ни дяди Мойзеша, вице-бургомистра. Ни кузины Цили, ни Рахельки, своей семнадцатилетней сестры. Ни Таубы, ни друзей, собиравшихся возле будки с мороженым.
Он будет знать, где они. В Пятиднях, у дороги в Устилуг.
Все.
В общей могиле, в сосновом лесу, невдалеке от орешника. Откуда они каждую осень привозили бабушке Хае полные корзины орехов.
Все.
Тем не менее он будет сидеть, глядя на противоположный берег. Когда начнет смеркаться, вернется на вокзал. Вздремнет в поезде и услышит голос, который будет звучать в его снах до конца жизни:
“Не надо ходить. Там уже нет никакой реки”.
9.
Он перестанет быть Натаном. Оставит Натана над Лугой, над рекой, которой нет. Отныне он будет Янушем Б. Закончит медицинский. Начнет исправлять огрехи Господа Бога.
Создавая очередного человека, Бог иногда о чем-то задумывается, устает, может заскучать или ему просто захочется пройтись. В таком случае человек рождается незаконченным: без носа, без уха, без щеки или губ. Янушу Б. придется ликвидировать изъян. Он вынет хрящи из ребер, шестого и седьмого, там хрящевой ткани больше всего. Кожу возьмет со лба и живота. Из кожи и хрящей сформирует, а затем пришьет недостающую часть лица. Будет оперировать новорожденных без твердого нёба, рассматривая их ткани как строительный материал. Сотворенные им носы, уши и нёба поверят, что они настоящие. Будут по-настоящему расти и осчастливят обезображенных. Их фото попадут в учебники хирургии. Американский университет доверит профессору руководство кафедрой. Американские студенты будут внимательно наблюдать за его руками – тонкими, маленькими, с пухлыми, как у младенца, пальцами.
10.
Он поселится в небольшом спокойном городе. Постареет и начнет описывать свою жизнь: Колыма, медицина и Владимир-Волынский. Рядом с заботливой оптимистичной американской женой. В часе езды от реки Миссисипи.
– Apples are so sweet… – Жена внесет фрукты в гостиную и попытается радостной белозубой улыбкой передать сладость яблок. – So sweet… – А он почувствует сладость коштели[140] из их сада. Коштель съедали, антоновку и зимний ранет укладывали в ящики, пересыпая соломой. Время от времени ящики открывали и вынимали испортившиеся плоды. Запах яблок держался в доме всю зиму.
(Оба запаха, дедушкин и родного дома, сливались в своеобразную смесь меха, одеколона и подгнивших фруктов. В гостиной профессорского дома. В часе езды от Миссисипи.)
Важность незначительных вещей: запахи, лица соседей с Фарной, выходное платье бабушки Хаи, бархатное, темно-синее, с гипюровым воротничком… – он оценит, слушая стихи своего пациента и друга, профессора английской литературы.
Друг, сын евреев из Варшавы и Сосновца, никогда не расспрашивал родителей о мире, из которого те прибыли, о старой исчезнувшей цивилизации. Он жил любовью, по большей части несчастливой, и писал о любви длинные, никому не нужные стихи.
Когда родители умерли, он начал писать стихи о незаданных вопросах. Спрашивал про улицу, дом напротив, лица соседей и бабушкино платье. “Мама… Не говори мне о важных вещах, расскажи о малых …”[141]
Друг, не успевший задать вопросы, будет лежать в клинике профессора Б. с раком челюсти. По вечерам они будут слушать магнитофонные записи еврейских песен. Друг расскажет об отце, уроженце Сосновца, который на ткацкой фабрике в лондонском Ист-Энде не пропустил ни одного рабочего дня. Не взял выходного даже на смерть – умер, когда был в отпуске. Друг прочтет стихотворение о последних словах отца. Они звучали так: “Ой вей…”[142] Что в английской транскрипции будет выглядеть так: “oy vay”. Профессор Б. задумается, наверняка ли “oy vay” – еще и вздох еврея из Сосновца.
– Американские евреи – американцы, – закончит друг, вылеченный от рака челюсти. – Я не американец. И не англичанин, хотя закончил Кембридж. Я надеялся, что в Сосновце почувствую себя польским евреем. Не почувствовал. Похоже, мое отечество – стихи о незаданных вопросах.
Разговор о незначительных вещах будет прерван глухим ударом в стену, отделяющую комнату от сада. В эту, сплошь стеклянную, стену врежется птица с синими крыльями – большая, вызывающе красивая. Она примет прозрачное стекло за воздух, ударится с размаху и упадет на землю с закрытыми глазами.
– Потеряла сознание, – поставит диагноз профессор Б. – Надо оставить ее в покое.
Он высмеет предположение, будто птицу ему прислали.
Он не желает верить в знаки, в пернатых посланцев – и в душу тоже.
“Душа – наши мысли, поступки, наша совесть и любовь – умирает вместе с нами”, – напишет он в своей книге.
Он бы не порадовал Людмере Мойд: правнук, который не верит в душу.
Зато он верит в Колыму и в Пятидни.
А также в гены, благодаря которым руки наследуются от других рук по прошествии ста пятидесяти лет.
Он первым заметит, что шевельнулось синее крыло и птица за стеклянной стеной открывает глаза.
Вслед улетающей он посмотрит без сожаления.
– Это blue jay[143], хищник. Небось спешил к белке, которую себе присмотрел. Еще сегодня ее схватит, на запоздалый ужин.
Айова-Сити
Другие истории
1. Миллиметры
Я записал в календарь: “Поблагодарить п. Кралль за книжку” – и сразу об этом забыл. Прошло несколько недель, я проснулся утром и подумал: сейчас позвоню.
Ваш голос мне не понравился.
– Пани Кралль, мне ваш голос не нравится, что с вами?
А вы мне говорите:
– Да ничего особенного, завтра иду на обследование к онкологу.
– А какая это часть тела? – спросил я. – Да, да, я должен знать. Раввин должен знать всё.
Грудь, ага. А которая, правая или левая?
– Разве раввину не все равно? – спросили вы.
– Не все равно, и сейчас объясню, почему.
Как-то я был у любавического цадика, просил его помолиться за Шуламит, мою родственницу. Ей на следующий день должны оперировать грудь, а цадик спрашивает: левую или правую? Потому я и знаю, что молиться надо за конкретную грудь, а не вообще.
Когда я уже узнал, о какой груди речь и сколько у вас этих подозрительных миллиметров, я повесил трубку и взял Книгу псалмов.
Открыл наугад.
Я часто так делаю. Не выбираю слов, пускай Книга сама решит, какими словами мне молиться.
Открыл и начал читать. Прочел несколько фраз и почувствовал, что Книга говорит: “Не расстраивайся, ничего ей не будет”.
Книга всегда говорит, нужно только прислушиваться.
Я подумал: но ведь опухоль не маленькая, восемь миллиметров…
Открыл Псалмы в другом месте и снова молюсь. И снова слышу: “Хаскель[144], этой женщине ничего не будет, не расстраивайся…”
Удивляетесь, что Книга с нами говорит?
Говорит, уверяю вас. Возможно, вы недостаточно внимательно слушаете.
Удивляетесь, что на следующий день у вас не нашли ни одного плохого миллиметра?
Я ведь сразу позвонил:
– Пани Кралль, я уже знаю: у вас все в порядке.
2. Эдна
Я говорил о любавическом цадике…
Это мне напомнило другую историю, кузины Эдны.
Она была очень красивая. Дружила с моей сестрой Розой, они учились в одном классе в немецкой гимназии в Катовице. Им нравились одни и те же платья и одни и те же поэты, и обе были без памяти влюблены в одного и того же красавца учителя.
Я уехал из Польши за день до начала войны. (“Дезертируешь?” – спросил на границе польский солдат и пошел доложить офицеру. Вернуться он не успел – поезд тронулся; я был уже в Румынии[145].)
Эдна осталась вместе со всеми.
Я думал, что она вместе со всеми погибла.
В Нью-Йорке, через два года после войны, у меня зазвонил телефон:
– Это ты, Хаскель? Говорит Эдна…
Она звонила из Гамбурга, отыскала меня через Красный Крест.
– Приезжай! – кричал я. – Я вышлю тебе документы!
– Нет, Хаскель, – сказала она. – Я – сиделка и не могу оставить больных.
В конце концов она приехала. Я встречал ее в аэропорту, она меня расцеловала – и сразу начала озираться по сторонам.
– Ты кого-то ищешь?
Она искала Ральфа. Я не знал, о ком она говорит, думал, они вместе прилетели. Мы прождали добрый час, но никакой Ральф не появился.
– Не беда, – сказала она. – Найдет меня, он знает твой адрес.
Мы пошли домой; вечером она рассказала свою историю.
Она была в Освенциме. С обритой головой, раздетая догола, шла с другими женщинами в газовую камеру. Когда уже входила в дверь, на нее с криком: “Ты здесь? Вон отсюда! Марш работать!” – набросился один из эсэсовцев. Стал ее бить и силой вытащил из толпы. Она пришла в себя в темноте, за бараком, укрытая полосатой робой.
Мы с женой молчали. Что можно сказать человеку, которого спасли на пороге газовой камеры?..
Но Эдна улыбалась:
– Знаешь, кто это был? Ну, угадай, Хаскель.
Мне предлагалось угадать, кем был спасший ее эсэсовец.
– Это был учитель…
Из немецкой гимназии, из Катовице. Наш красавец, наш любимый…
Жена устроила ее сиделкой. Она работала в доме любавического цадика, ухаживала за его матерью. Восторгалась семьей цадика, а старушка полюбила ее как родную дочь. Можете мне поверить: ни у одной сиделки в Нью-Йорке не было лучше службы, чем у нашей Эдны. Дом любавического цадика? Это не только место работы, это честь, почетная награда!
Мы радовались два, ну, может быть, три месяца.
Как-то зазвонил телефон:
– Хаскель? Это Эдна. Я в аэропорту, возвращаюсь в Германию. Ральф меня ждет.
Больше она не давала о себе знать.
Я ее не искал, понимал, что она этого не хочет.
Год… больше года назад я позвонил в Германию, в общину, – узнать телефон еврейского дома престарелых.
Спросил:
– Не у вас ли Эдна…
– У нас, – ответили мне. – Уже довольно давно.
Я попросил передать ей, что я звонил:
– Может быть, она захочет со мной поговорить… Если ей нужна какая-то помощь, позвоните мне.
Эдна молчала. Вскоре позвонила директор дома престарелых.
– Прочитайте кадиш за свою кузину… Вчера исполнился год со дня ее смерти.
Ничего больше я не знаю.
Я не пробовал узнавать, как звали эсэсовца – красивого учителя гимназии. Понятия не имею, кто такой Ральф. Существовал ли он вообще? Не знаю. Я не пытаюсь разгадывать тайны тех, кто выжил.
3. Дым
Я говорил об Освенциме…
Это мне напомнило другую историю: цадика из Гура-Кальварии.
Я его знал. До войны он проводил лето в Мариенбаде и останавливался в пансионате Готлиба Ляйтнера. И мы там бывали. Мой отец был владельцем банка в Шлёнском воеводстве, и мы могли позволить себе Мариенбад. Я приезжал с родителями и сестрой, а цадик – с женой и сыновьями. И со своим двором, разумеется; его повсюду сопровождала свита хасидов. Он всегда был погружен в свои мысли, ходил быстро, на прогулках мы едва за ним поспевали.
(Уже знаю: “Zu Goldenem Schloss”. Так назывался наш пансионат: “Золотой замок”…)
Во время войны я оказался в Иерусалиме.
Я собирался жениться и хотел перед бракосочетанием получить благословение цадика. Ему удалось выбраться из Польши, он обосновался в Иерусалиме, но по-прежнему оставался цадиком из Гура-Кальварии. Его жена, Файга Альтер, устроила мне аудиенцию. Она меня помнила, в пансионате я ей раскладывал шезлонг. Она не любила солнца, предпочитала тень, и я каждое утро раскладывал для нее под деревьями шезлонг. Она не снимала парика и носила наглухо застегнутые платья, хотя было лето. Читала французские газеты и иногда удостаивала меня каким-нибудь вопросом. Отвечал я коротко. Понимал: молодому человеку не подобает беседовать с супругой цадика!
Перед свадьбой меня, по ее просьбе, принял Израиль, их старший сын, который впоследствии занял отцовскую должность. Он сидел за столом. Поздоровался, спросил про мою невесту – и умолк. Был поздний вечер. Лампа погасла, в комнате стало темно и тихо. Я поднялся, чтобы уйти, и услышал голос:
– Ты что, боишься остаться со мной в темноте?
Я сел и услышал удар.
Израиль ударил кулаком по столу. Потом второй раз. Потом третий. Его самого я не видел, только слышал размеренные сильные удары, раз за разом, раз за разом.
– Хаскель, – наконец отозвался он. – Когда-нибудь мы обо всем представим отчет.
В его голосе звучало отчаяние.
Был июль сорок второго года. Цадик с сыновьями и женой успели уехать, но его хасиды остались в Польше. Осталась и жена Израиля с их единственным сыном. Они погибли в Освенциме. После войны Израиль приглашал к себе людей, которые пережили концлагерь. Он задавал им два вопроса – всегда одни и те же:
“Ты видел дым?”
“Может быть, ты видел моего сына?”
Когда я сидел у него в темноте, он еще не мог знать ни о дыме, ни об Освенциме, однако в его голосе, в ударах кулаком была такая страшная боль, будто ему уже открылось будущее.
4. Радомско
Я глубоко уважаю цадика из Гура-Кальварии, но принадлежу к приверженцам раввина из Радомско.
Ах, разница колоссальная.
Гура-Кальвария – это традиционно гневные цадики; Радомско – цадики милосердные.
Шломо из Радомско напоминал нам: если пожалеешь о содеянном не из боязни наказания, а из любви к пострадавшему, тебе всё простится. Больше того: всякий грех на Страшном суде будет сочтен добрым делом.
И, глядя на грешника, пошутил: “Я, правда, тебе завидую. Сколько же добрых дел зачтет тебе в этом году Судия…” На что грешник ответил: “У меня для тебя хорошая новость: на следующий год ты будешь мне завидовать еще больше”. Гневные цадики, вызывающие уважение и страх, так не разговаривали. Наш же раввин относился к людям как к друзьям.
Наш раввин, Шломо из Радомско, не захотел идти на Умшлагплац. Его убили в квартире, на улице Новолипье, 31 июля 1942 года.
Тридцать первого июля была наша свадьба.
Как я мог знать, что наша свадьба в Иерусалиме будет в тот самый день, когда в Варшаве погибнет раввин из Радомско?
5. Ромелус
Мой будущий тесть занимался подготовкой к свадьбе. Заказал зал, пригласил гостей.
Был июнь 1942 года.
Роммель[146] одерживал в пустыне свои великие победы. Он приближался к Александрии, готов был двинуть войска на Палестину.
Иерусалим был охвачен страхом.
Ахува, моя невеста, повела меня к фотографу. Она говорила: “Когда один из нас погибнет, у другого хотя бы останется фото”.
(Ахува родом из Польши, из Владимир-Волынского. Слышал ли я о Людмирской Деве, Людмере Мойд?[147] Что за вопрос. Прадед Ахувы был тогда раввином во Владимире. Отсюда их фамилия Людмир – от еврейского названия города. В связи с этим мне припомнилась любопытная история. Этот самый прадед покинул Владимир, перебрался на Святую Землю, поселился в горах и стал водоносом. Когда он заболел и перестал разносить воду, люди пришли посмотреть, в чем дело. Кто-то заметил лежащий на полу листок. Книга для евреев – святая вещь, и ни одна ее часть не должна валяться на полу. Листок подняли и прочли. Это была страница из каббалистической книги. “Ты это читаешь? Ты, простец и водонос?” Так люди узнали, кто он на самом деле. Впоследствии он стал раввином города Цфат. Его внук… Ладно, историю внука расскажу как-нибудь в другой раз.)
Итак, был июнь, и Роммель приближался к Александрии. Знакомые говорили моему тестю:
– Какая свадьба? Какие гости? Роммель не сегодня-завтра нас всех уничтожит, кто теперь думает о приемах?!
В конце июня в синагогах читают Четвертую книгу Моисееву – историю Балака. Балак, царь Моава, хотел погубить народ Израиля и попросил прорицателя Валаама, чтобы тот проклял евреев. Трижды просил он, и каждый раз Бог говорил Валааму: не проклинай этот народ, ибо он благословен.
На июнь также приходится годовщина смерти жившего двести лет назад раввина Хаима бен Атара. Он писал комментарии к Библии. В июне 1942 года люди вспомнили комментарий Хаима бен Атара к истории Балака.
Это было пророчество. В комментарии говорилось о грозном враге Израиля, который уничтожит еврейского Мессию. От постигшей народ катастрофы евреи тысячелетиями не смогут оправиться.
Зваться этот враг будет Ромелус.
Именно так. Таково будет имя врага Израиля, в пророчестве оно упомянуто дважды.
Есть, однако, шанс на спасение, писал Хаим бен Атар. Горячей молитвой, мольбой о милосердии народ сможет победить врагов и спасти Мессию.
Тридцатого июня 1942 года у могилы Хаима бен Атара на Масличной горе собрались тысячи людей. Я был одним из них. Была там и моя невеста, и Бер Людмир, ее отец.
Мы молились много часов. Читали псалмы. Умоляли Бога не дать исполниться страшному прорицанию.
По окончании молитвы мой будущий тесть наклонился ко мне:
– Хаскель, я уже знаю. Свадьба будет.
Было это во вторник.
Ближайшие выходные Роммель намеревался провести в захваченной Александрии. Он всегда сдерживал подобные обещания. Его африканская кампания была непрекращающейся чередой побед. От города его отделяло шестьдесят миль. Фельдмаршал Кейтель впоследствии писал, что немецкая армия никогда не была так близка к победе.
В ночь со вторника на среду Роммель начал наступление.
Часов через пятнадцать произошло нечто очень странное…
После войны я прочитал много книг, чтобы узнать, как это объясняют историки[148].
Историки писали о внезапно разыгравшейся песчаной буре.
Писали об ошибках Роммеля, каковых прежде он никогда не совершал.
Писали о панике, охватившей немцев, и об их беспорядочном бегстве. Роммель в своем бронеавтомобиле поехал на передовую, пытался воодушевить солдат, но ему это не удалось – впервые…
Первого июля 1942 года в донесениях немецкого Африканского корпуса появилось новое слово: паника.
День тот – писали историки – был неожиданностью для всех.
Для нас он неожиданностью не был.
Это не британские военачальники победили Роммеля.
Это мы, на Масличной горе, вымолили спасение Иерусалима.
Почему мы не вымолили спасения Шломо из Радомско? Спасения сына цадика из Гура-Кальварии? Спасения шести миллионов других евреев?
Не знаю.
Я не пытаюсь разгадывать тайны Всевышнего.
Нью-Йорк – Люблин
Жизнь
1.
Летом она стояла около белой стенки. У нее был бидон с мороженым, которое делали неподалеку в подвале, и вафли из кондитерской “Разноцветье”. Рядом был вход на базар. Мимо проходили и покупатели, и торговцы, они брали у нее мороженое, а продавец пластинок запускал на патефоне “Синий платочек”[149]. Маленький синий платочек, целый день мокрый от слез, тра-ля-ля, тра-ля-ля…
Осенью она перешла на лимонад. Воду набирала из уличной колонки, сыпала в бидон сухой лед и лимонную кислоту. Интересно, что никто ни разу не заболел.
Зимой перешла на нафталин, настенные календари и ДДТ – американский порошок от клопов, который привозили моряки.
В общежитии ее соседкой по комнате была Марыся Гольдинер, студентка юрфака. Марыся изрекала скучноватые прописные истины, кричала во сне и закрывала рукавом вытатуированный лагерный номер. Иногда они что-нибудь одалживали друг у дружки: то соль, то утюг, то белую блузку на праздник.
На танцы в Дом культуры ее повела знакомая, торговавшая на базаре русскими чулками. Еще не начали играть, когда в зал вошел высокий шикарный блондин. Широкий домотканый пиджак, узкие брюки, ботинки с наимоднейшим простроченным рантом и… перстень!
Заиграли вальс. Блондин, оставив девушку, с которой пришел, направился к ней.
2.
Он был каменщиком. У него была довольно большая комната с кафельной плитой; общая уборная – во дворе. В день свадьбы она застукала его на чердаке с какой-то бабой, но жилье было настоящее и собственное. Не полуподвал с мачехой Зосей. И не комната в общежитии с кричащей во сне соседкой.
3.
За торговлю лимонадом и порошком от клопов милиция их не трогала. Неприятности начались с нейлоновых чулок с черным швом и черной пяткой. Первые судимости были условные. Когда набралось два года, ее взяли у киоска с сигаретами и посадили.
Она лежала на верхней наре. Ночью разорвала простыню, скрутила и обернула вокруг шеи. Концы привязала к стойке. Соскользнула вниз. Веревка получилась нужной длины: босые стопы не доставали до пола.
Очнулась она в больнице.
Врач спросил, впервые ли с ней такое. Она рассказала, что в детском доме выпила в туалете хлорки. Врач спросил, не подумала ли она, скручивая простыню, о дочерях. Она объяснила, что тогда ни о чем не думаешь. Стараешься проглотить побольше хлорки, поплотнее скрутить простыню.
– Где вы были во время войны? – спросил врач.
– В гетто.
– Не хотите мне об этом рассказать?
Она хотела, чтобы ее оставили в покое, и, как могла вежливее, попросила об этом врача.
Когда закончился двухлетний срок, отработанный в госсельхозе, ее вызвал начальник тюрьмы.
– Плохие новости, пани Яся. На вас висят шесть пар эластичных чулок.
Опять ее привели в зал, и секретарь объявил:
– Прошу встать, суд идет.
Она встала.
В черной мантии, с орлом на груди, вошел суд в лице Марыси Гольдинер.
Шесть пар эластичных чулок перевели на баланс Казначейства. Она вернулась домой. Дочка лежала в кровати, без единого волоска на голове, укрытая пальто. Пьяный муж бессвязно объяснил, что керосин сейчас слабоват, не берет нынешних вшей, а вот наголо остричь – самое оно.
4.
Через несколько дней после возвращения (все уже были трезвые и в новых шмотках – подарок от торговцев с базара) ее навестила Марыся Гольдинер. По-прежнему очень серьезная и категоричная. Адрес нашла в деле.
– Ты не намерена с этим покончить? – строго спросила Марыся.
– Не намерена, – призналась она.
– Ты детсадовская воспитательница, могла бы формировать юные характеры. Прекрасная профессия, ты же это любишь…
– Я, Марыся, люблю риск. Как мой дедушка, владелец конюшни и семи пролеток на Гжибовской. Как папа, владелец галантерейной лавочки на Керцеляке[150]. Скажешь, я должна нарушить семейную традицию?
– Значит, ты ничего не можешь мне обещать… – опечалилась Марыся Гольдинер.
– Могу. Обещаю, что меня никогда больше ни на чем не поймают.
5.
Она договорилась с милиционерами.
Расставила на базаре столик и застелила его большой скатертью. Разложила кофточки из Певекса[151], с эластиком, пастельных цветов.
Перед каждой облавой на спекулянтов милиционеры ее предупреждали. Она им вручала их долю, связывала углы скатерти (товар оставался внутри) и с узлом на плече уходила с базара.
И никогда больше не попадалась.
С Марысей Гольдинер они встретились спустя тридцать лет в клубе “Дети Холокоста”[152]. Марыся была исхудавшая, бледная. Обещала позвонить. Через несколько месяцев она умерла. Сын кремировал тело, а урну забрал с собой в Вену.
6.
Начался хлопчатобумажный трикотаж из Турции и ангора из Сеула. Муж-каменщик пил, и моча просочилась ему в кровь. Она с дочками, зятьями и внучкой навестила его в больнице.
Врач сказал:
– Он сейчас уснет.
Было жарко, они зашли в кинотеатр “Прага” выпить кока-колы. Назавтра медсестра сказала, что после их ухода он соскочил с кровати и кинулся к двери.
– Будто от кого-то убегал, – прокомментировала медсестра. – Будто хотел убежать от смерти. Далеко не ушел – шага два-три от силы.
Вскоре после похорон она вскипятила полсотни сигарет и отваром запила оксазепам. Проснулась в больнице.
– Он же пил, – говорила дочь. – Он тебя оскорблял…
– А от чужих защищал. Родную сестру зверски избил, когда она мне сказала: “Ты, жидовка!”
– Он тебе изменял, мама. Помнишь его любовниц?
– Но меня он любил больше всех. Никто уже меня так не полюбит. Никто и никогда.
– Может, поговоришь с психиатром? – сказала дочка.
Психиатр спросил, впервые ли с ней такое.
Она объяснила, что уже была хлорка в детском доме и петля в тюрьме.
Он спросил, какое у нее было детство и не хочет ли она побольше о нем рассказать.
Она, как могла вежливее, объяснила: поскольку он не был там, где была она, то все равно ничего не поймет. Зачем зря языком молоть.
7.
Она была подавлена, больна. Базар захирел, жизнь перекочевала на стадион[153]. Новые подруги – дети Холокоста – рассудили, что ларек на стадионе может излечить ее от депрессии. Сложились и дали ей взаймы денег.
Она купила место на газоне и расставила стол.
Разложила итальянский трикотаж.
По чистой случайности рядом торговала знакомая с базара. Она продавала чешские береты, и у нее был разведенный брат. Брат оказался джентльменом.
– Может, кофейку, пани Ясенька? – спрашивал он и, не дожидаясь ответа, приносил кофе со сливками в пластиковом стаканчике.
– Может, шашлычок? – спрашивал.
– Может быть, домой отвезти?
– Может, привезти товар?
Ей он был ни к чему. Он не умел культурно выражаться и пользовался скверными, с резким запахом, дезодорантами, но когда однажды остался на ночь, то уже остался насовсем.
Они поженились.
Начали ездить на микроавтобусе в Италию. Брали с собой отвертки, садовые ножницы, гитары, компасы, театральные бинокли, фотоаппараты и поддельные духи “Шанель”, купленные у русских. Останавливались в Милане или Палермо и раскладывали товар на главной улице. Спали в микроавтобусе. Домой привозили пятьсот долларов. Тогда это были большие деньги.
8.
Муж поехал с ней на собрание верующих, которое вел раввин. На Праздник кущей[154] построил раввину шалаш из веток. Надел на белокурые волосы кипу, возвел голубые глаза к ковчегу с Торой[155] и объявил ей, что переходит в иудаизм.
– Хуже всего был пух, – однажды сказала она ему. – Пух и перья летели со всех улиц, из дворов, из подъездов… Откуда в гетто столько бралось? Может, немцы искали в постелях золото? Может быть, на продажу легче вынести пустую наволочку? Я чувствовала пух в глазах, во рту, в волосах. Иногда этот белый пух мне снится, и я начинаю задыхаться.
– Хуже всего, что было жарко, – рассказала она в другой раз. – Меня загребли вместе с другими детьми, что-то продававшими за стеной, и погнали на Умшлагплац. Подкатил поезд. Началась толчея, толпа протащила меня метров, наверно, триста. Когда я увидела перед собой раздвинутую деревянную дверь вагона, кто-то схватил меня за шиворот. Это был мой дедушка. Ему разрешалось въезжать на площадь, потому что он работал у Пинкерта[156] – возил трупы. До войны у него были лошади и пролетки. Потом пролеток не стало. Потом не стало лошадей. Дедушка ездил на подводе и собирал с улиц трупы. Потом подводы тоже не стало, и появилась деревянная тележка: дедушка толкал ее сзади, а дядя Метек тащил за дышло. Дед схватил меня за шиворот, швырнул на тележку и завалил трупами. Я не боялась ни Умшлагплаца, ни поезда, ни мертвецов, только мне было ужасно жарко… Йосек, сказал дедушка папе, когда мы вернулись домой, ты должен ее отсюда вывести. Хорошо, tаtе, сказал папа и принес для меня с арийской стороны свидетельство о рождении. Наверно, его раздобыла Зося, наша домработница, которую папа любил еще до войны. Он принес метрику и катехизис и каждые несколько часов напоминал: ты не Йохвед, доченька, ты – Яся. Будил меня ночью: ты не Йохвед, доченька… “Знаю, папа, я – Яся…”
– Хуже всего было, что мы не могли к нему подойти, – рассказала она еще как-то. – Его застрелили в Саксонском саду, возле могилы Неизвестного солдата. Он убегал от шмальцовника через сад, а немец как раз шел мимо и выстрелил.
Знакомые поляки, рядом с которыми папа до войны торговал на Керцеляке, а во время войны – около Мировских торговых рядов, пришли к Зосе и сказали, что папа лежит у Могилы. Мы с Зосей поехали с ними на трамвае. Папа был прикрыт бумагами, сверху кто-то положил камни, наверно, от ветра. Мы издалека узнали торчащие из-под бумаг сапоги и штаны. Штаны эти были сшиты из мешка и покрашены в темно-синий цвет. Я хотела подойти к папе, но Зося держала меня за руку. Делала вид, что мы просто гуляем. По аллейкам прогуливалось довольно много народу, бегали дети, все видели, что лежит человек, и обходили его стороной. Мы с Зосей тоже обходили, как будто это вообще был не наш труп. Я только украдкой поглядывала на бумагу и на сапоги…
– Хуже всего было, что после войны за мной никто не пришел. Я так и жила с мачехой Зосей в подвале. Раньше она выпускала меня ночью, чтобы я немножко подышала воздухом, теперь я свободно ходила по улицам. Смотрела по сторонам. Подолгу стояла на развалинах гетто. Ждала… Никого не встретила, не считая других евреев, которые тоже ждали.
Зося отдала меня в еврейский детский дом: она вышла замуж, и для меня в подвале не осталось места. В приют этот приезжали за своими детьми настоящие матери. И чужие люди, которые подыскивали приемных детей. Какой-то раввин забирал приютских в религиозные школы… Только меня никто не хотел брать. Я красиво причесывалась, всегда повязывала наглаженный бант, хорошо себя вела – но никто меня не хотел. Тогда я пошла в туалет, где стояла хлорка, и открыла бутылку…
– Не плачь, – говорил муж. Она и не собиралась плакать, только дышать было трудно, потому что мешал белый пух. – Не плачь, – и, успокаивая, гладил ее по спине. – Я перейду в иудаизм, мы поженимся по еврейскому обряду и будем вместе евреями.
9.
Она постарела, сил не хватало ни на стадион, ни на микроавтобус. Они поехали в Штаты. Муж работал на стройке, мыл автомобили и штукатурил на последних этажах высотные дома. Она пошла в агентство, где подыскивают работу, и уплатила три доллара. Нанялась уборщицей в частный дом к американской еврейке. Убрала один этаж, присела на лестнице и попросила кофе. Услышала: кофе получишь, когда закончишь. Вскипела. Схватила ведро. Плеснула в работодательницу помоями. Произнесла короткий speech, начинающийся словами: “Щас я тебя шарахну этим ведерком…” – и в тапочках выбежала на улицу. Police! Police! – услышала за собой вопли американской еврейки.
Муж не захотел больше жить в еврейском районе. Они перебрались в польский Greenpoint[157]. Он все меньше работал, все сильнее пил и перестал говорить о переходе в иудаизм.
10.
Она вернулась одна.
Начала покупать хлеб. Прятала в ящики столов, в шкафы, в буфет, в холодильник. Килограммами…
– Вы когда-нибудь голодали? – спросил врач. – Не хотите мне об этом рассказать?
Варшава
Случай
1.
– Говорят, вы просите рассказывать важные истории. Это правда или слухи? – спросил кинорежиссер, однокашник Кшиштофа Кеслёвского[158].
– Правда.
Мы разговаривали в кинотеатре “Муранов”, на вечере, посвященном годовщине смерти Кеслёвского.
– Я знаю важную историю. Моей тети Янки, сестры отца. Она любила Болека, еврея, своего однокурсника. Хотела вывести его из гетто и спрятать у нас, но бабушка Валерия, ее мать, не согласилась. У нее были взрослые дети и внуки, и она не захотела подвергать их смертельной опасности ради одного человека.
– Ясно… – кивнула я понимающе.
– Тетя Янка послушалась бабушку – и знаете что? Тоже погибла, во время восстания[159]. И другие бабушкины дети погибли или умерли, один за другим. Она всех пережила… В наказание? Как вы думаете?
– Ничего подобного! – вспылила я. – Чистый случай.
– А бабушка говорила, в наказание… Что Бог…
– Его и спросите. Уж он-то знает…
Мы оба посмотрели на большую, в натуральную величину, фотографию Кеслёвского в вестибюле кинотеатра. На нас глядел пожилой седой человек в очках. Постарел и поседел он незадолго до смерти, так что на это его новое, усталое лицо мы смотрели с некоторым недоумением.
2.
Янка слыла старой девой, упрямой и скрытной. Ей уже стукнуло тридцать, у нее были узкие, плотно сжатые губы, недурные ноги и ни одного поклонника. С Болеком, красивым брюнетом, они познакомились на последнем курсе. В Варшаву он приехал, кажется, из Львова. Она приходила к нему в гетто. Когда бабушка Валерия сказала: “Да из-за него нас всех…” – Янка без единого слова ушла из дому. Спустя несколько дней бабушка Валерия приказала сыну – старшему Янкиному брату: “Найди ее. И немедленно приведи!” Стефан поехал в гетто, отыскал Янку и велел ей возвращаться домой. “Возвращайся, – повторил вслед за Стефаном Янкин жених. – Я постараюсь выжить. Сразу после войны мы поженимся…” – и надел ей на палец обручальное кольцо с изумительным искрящимся бриллиантом.
3.
Тадеуш, самый старший сын бабушки Валерии, отец будущего режиссера, умер от туберкулеза. Он пошел добровольцем на войну с большевиками[160] и попал в плен. Убегая, несколько часов простоял в холодном болоте и потом долго болел. Воспаление легких. Закончилось чахоткой. У них под Варшавой был просторный двухэтажный дом, отец умирал наверху, деликатно, никому не доставляя хлопот. Не кашлял, не хрипел; однажды ночью просто перестал дышать. Это заметили спустя несколько часов. Он лежал с открытыми глазами, засмотревшись на дерево за окном.
После Тадеуша погибла тетя Янка. Она участвовала в Варшавском восстании санитаркой, и в здание госпиталя попала бомба. И на этот раз отыскал ее Стефан, старший брат. Изувеченный труп узнал по кольцу с бриллиантом.
После Янки погиб дядя Стефан. Бежал под обстрелом по улицам Повислья, и на него упала дверь горящего дома.
После Стефана скончалась тетя Ядвиня. Красивая блондинка, увековеченная на довоенной монете в два злотых. Скульптор изобразил ее в профиль, на голове – венок из спелых колосьев. Сразу после войны у нее случился инсульт.
После Ядвини умерла тетя Хелена. В двадцать восемь лет она овдовела. Надела черное платье и попыталась покончить с собой. Пистолет не выстрелил, пуля из мелкокалиберки пробила легкое. Тетя Хелена поправилась, но замуж больше не вышла. У нее разорвалась аневризма шейной артерии, и она захлебнулась кровью.
Последним умер один из двух внуков бабушки Валерии. У него был больной позвоночник. Постепенно ему отказывали все части тела, пока не остался только мозг. Который до конца работал безупречно.
4.
Бабушка Валерия пододвинула козетку к окну, оперлась локтями о подоконник; так и сидела. Смотрела на улицу. Высматривала детей. Время у нее смешалось, смерти смешались. Она разговаривала с Ядвиней: на монете волос под венком вообще не видно, а ведь какие длинные и красивые были косы. Хелену просила снять наконец вдовье платье. Янку посылала к жениху в гетто… “Ну иди же, – поторапливала. – Если не пойдешь, Бог нас накажет…”
Из всей семьи остался внук, будущий кинорежиссер. Бабушка о нем заботилась. Следила, чтобы сделал уроки. Супы ему варила, чаще всего крупник[161]. Ставила кастрюлю на плиту и возвращалась к окну, к разговорам с детьми; крупник обычно пригорал.
Бабушка говорила: “Успела Янка его вывести? Скоро ведь комендантский час…” – а внук отвечал: “Успела, бабуля, еще светло…”
Несколько раз он чуть было не сказал: “Встань, отодвинь козетку, они не вернутся…” – но не хотелось ее расстраивать.
Деревья в саду вымерзли.
Потерял разум Онуфрий, довоенный садовник.
В домике садовника провалилась крыша, и ласточки, свивавшие под крышей гнезда, улетели.
Бабушкин участок купили под детскую больницу; дом снесли.
5.
– И что? – закончил режиссер.
– Ничего. Надо бы сделать фильм, вот и все.
– О чем?
– О бабушке Валерии, о дядюшках, тетушках, красивом брюнете, садовнике Онуфрии, замерзших деревьях, ласточках и внуке.
– То есть… о чем фильм?
– О бабушке Валерии, дядьях, деревьях…
– Но о чем?! О наказании? О роли случая? О Боге?
– Не знаю. Это ваш однокашник любил говорить: моя профессия – не знать.
Варшава
Умерла мать
Умерла мать.
Тактично, никого не потревожив. Как всё, что делала в жизни.
Умерла во сне. Вот как нужно умирать, сказал врач, выписывая свидетельство о смерти.
Она лежала с закрытыми глазами, голова на согнутой в локте руке. Лицо бледное, чистое. Только бригада специалистов из похоронного агентства открыла правду: вздутый живот, страшно распухшие ноги, синие ступни и синюшные пятна на щеке.
Она умерла три дня назад, стояла жара.
Специалист из похоронного агентства помогал надеть блузку. Каким-то хитрым способом. Сначала сложил пополам, потом перебросил через голову и продел руки в рукава. С любимым костюмом в черную клеточку не было хлопот, как и с колготами, несмотря на распухшие ноги, а вот туфли не налезли. Ничего, сказал специалист, поставим рядом. Без туфель нельзя – не предстанешь же необутым перед Страшным судом.
Натягивая блузку, он на секунду приподнял голову покойной. Все увидели опущенные книзу уголки губ, как будто она собиралась заплакать.
Дочь принимается наводить порядок. Ненужные вещи бросает в ведро, памятные откладывает в сторону.
Среди памятных – фотографии в основном внучки, преувеличенно бодрые открытки из летнего лагеря, поздравления ко Дню матери, телефоны людей, которых давно нет в живых, стопка открыток от пани Долежаловой (они познакомились сорок лет назад в Карловых Варах), квитанции платежей за коммунальные услуги и электроэнергию, некролог человеку, женившемуся на другой, почетные грамоты, диплом косметической школы на Елисейских полях, столик фирмы “Братья Тонет” и два фарфоровых подсвечника, в которых мать каждую субботу зажигала свечи.
Ненужные вещи: ленточки от букетов, разорванные цепочки, рассыпавшиеся бусы, обложка блокнота с надписью “Выставка возвращенных земель”[162], приемник “Eltra” без батареек, помятый чайник без свистка, прошлогодний малиновый сок, стиральная доска, на которой мать отстирывала внучкины пеленки, тесак, которым она рубила рыбу…
С ведром, полным ненужных вещей, дочь идет к мусорному контейнеру. Проходит мимо скамейки, на которой оживленно беседуют несколько старичков. Возвращается домой. Снова идет выбрасывать мусор. Старички уже замолчали. Она им улыбается, будто прося прощения за бестактность. Они вздыхают: что ж, такова жизнь. Проходя мимо скамейки последний раз, она говорит: это я. Это свою жизнь я сейчас выношу ведрами.
Дочь звонит в еврейскую общину: умерла мать, что полагается делать? Полагается молиться. Настоящий добропорядочный старый еврей должен прочитать кадиш. Рекомендуют пана Абрахама. Он бородатый, старый и очень настоящий, потому что с Тарговой[163]. Пан Абрахам объясняет, что кадиш читается, только если соберется десять благочестивых мужчин. Он пригласит сколько нужно на кладбище, а дочь, будем надеяться, найдет способ их отблагодарить.
– На этих похоронах десяти мужчин не будет, – говорит дочь.
Пан Абрахам смотрит на нее неодобрительно: пожалела пару злотых благочестивым и бедным?
– Мать моей матери похоронили во время Варшавского восстания. Закопали во дворе. Моя мать повторяла, что хочет, чтобы у нее похороны были такие же скромные. Теперь вы понимаете, почему десяти благочестивых не будет?
– Понимаю, – говорит пан Абрахам. – Я один прочитаю кадиш. Господь Бог на нас не прогневается.
Дочь должна известить Марию.
С Марией мать познакомилась на курорте. Сохранилась фотография: тридцатые годы, Чехочинек. Белые теннисные туфли, белые носки, светлое платье и бант под воротничком. Они не верят в старость. Впереди у них жизнь.
Жизнь позади, дочь должна сообщить…
Они были очень похожи: обе маленькие, энергичные и упрямые. Часто ссорились. Разобидевшись, неделями не разговаривали. В конце концов одна из них звонила: я испекла творожник. Или: я приготовила рыбу. Они встречались – и опять ссорились. Так прошли – с недолгими перерывами – шестьдесят лет, а сейчас дочь сообщает…
Мария не понимает.
Как это – умерла, да ведь она собиралась испечь коврижку с шоколадной глазурью.
Не будет коврижки. Будут похороны. На которые… Сейчас дочка скажет ужасную вещь. На которые Марии приходить не нужно, потому что мать хотела, чтобы как во время восстания… Как во дворе, над той могилой.
Мария повышает голос. Она была в лагере, в Германии. Если б не лагерь, они бы вместе копали ту могилу!
Ясное дело, она приходит на похороны. Приносит цветы, перевязанные траурной лентой – белой с черными крестиками. Ей досадно, что цветы скромные. Пенсию она получает после первого, о чем мать прекрасно знала. Ну правда же, успела бы помереть, что стоило подождать до первого…
Букет Марии лежит на гробе. Без черных крестиков. Где моя лента? – шепотом спрашивает Мария. Дочка находит ленту под деревом и кладет на цветы. После похорон – то же самое. На могиле лежит букет – без ленты. Дочка начинает расследование. Ну конечно, директор кладбища велел могильщикам ленту снять как можно незаметнее. На кладбище приехали гости – религиозные израильские евреи, а тут крестики!
Дочка просит прислать к ней религиозных гостей. Она им расскажет одну историю: про свидетельство о крещении. Мария дала его матери во время войны. А свидетельство это было не Мариино, а ее сестры. А у сестры было четверо детей. И благодаря свидетельству…
Директор кладбища слушает и вздыхает. И это должно интересовать израильских евреев? Это для них важнее, чем крестики на ленте?!
Сестра Марии жила под Лодзью, в рабочем поселке.
Мать и Мария время от времени ее навещали, потому что по соседству жила гадалка. По будням она работала ткачихой, а в воскресенье гадала по картам. Мать о ней узнала от пани Амелии, курортной знакомой. Муж пани Амелии, офицер АК, был приговорен к высшей мере. Он ждал исполнения приговора, а ткачиха раскидывала карты.
– Тучи рассеиваются, – говорила она, – выглянет солнце, жди известия.
Пани Амелия возвращалась домой, и там ее ждало известие: мужа помиловали. Ткачиха говорила:
– У него изменился адрес, жди письма, – и приходило письмо, из очередной тюрьмы.
Мать была под большим впечатлением от этих предсказаний и как-то в воскресенье взяла с собой в Лодзь дочку. Дома у ткачихи не было ничего особенного. Вышитые коврики, свадебный портрет и карты на вязанной крючком скатерти. Дочка внимательно наблюдала за гадалкой. Ее не удивляло, что мужа пани Амелии приговорили к смерти. Она знала, что он невиновен, ну и что с того? Такой уж мир: невиновные всегда погибали. Ее интересовала хозяйка, которая большими сильными руками тасовала карты, клала колоду на стол и говорила: “Сними три раза”.
Умер Сталин.
Офицер АК вышел из тюрьмы и бросил пани Амелию.
Пани Амелия перестала заглядывать в будущее.
Мать и Мария заходили к ткачихе, а потом шли к сестре обедать. Перед дверью Мария на минутку останавливалась.
– Помни, – шептала матери, – она не знает.
Они доставали веделевские шоколадки и садились за стол.
Голубоглазый король бубен расстался с матерью.
Валет, у которого было доброе сердце, женился на Марии; через несколько лет он умер.
Визиты к гадалке становились все реже.
– Она не знает, – шептала Мария.
Имелось в виду свидетельство о крещении. Во время войны Мария взяла его у сестры, пообещав взамен продуктовые карточки. Свидетельство отдала матери. Не спросив, может ли отдать. Сестра сказала бы: “Это очень опасно…” А сейчас говорить глупо. Мать жива. Дочка жива. Есть обед.
Сестра умерла.
Мать умерла.
Племянники взрослые.
Племянники не знают.
– Пусть уж так и остается, – говорит Мария.
Дочь в синагоге, на балконе, среди женщин. Внизу, с мужчинами, сидит на скамье пан Абрахам. Он будет читать кадиш – ежедневно, целый год. Так полагается, когда умирает мать.
– Вы очень заняты, – снисходительно улыбался пан Абрахам дочке. – Вы не можете каждый день со мной молиться, но было бы прекрасно, если б иногда, в субботу…
– Вы здесь впервые, – заключают женщины на балконе.
Дочь это подтверждает.
– А почему никогда раньше не приходили?
– Потому что моя мать никогда еще не умирала. А сейчас умерла впервые, поэтому я здесь.
– А когда моя мамуля умерла, в Америке хоронили президента Рузвельта, – встревает одна из женщин. – В Варшаве на неразрушенных домах и даже на развалинах люди вывесили черные флаги. Все думали, траур по президенту Рузвельту, а это был траур по моей мамуле. Улыбаетесь? Нечего смеяться, флаги были для моей мамули!
У стены сосредоточенно, монотонно раскачивается пан Абрахам.
За пыльным оконным стеклом против балкона виднеется клочок мутной голубизны и колышется ветка.
“Ты так занята”, – сочувственно говорила мать.
Она не ходила с матерью в оперу. Не возила ее в деревню. В эту ужасную жару ни разу не повела в парк. Была занята.
Она открывает молитвенник, который купила в синагоге. Репринт издания начала прошлого века. “Молитвы иудеев в будни и праздники, для торжественных событий и постов, а также религиозных обрядов и церемоний. Перевел и комментировал Саломон Спитцер”.
“После чтения свитков принято молиться за души умерших…” – поучает ее С.Спитцер на этот раз. В самое время, поскольку мужчины внизу заканчивают читать Тору.
“Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?
Человек подобен дуновению; дни его – как уклоняющаяся тень.
Утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером…”
Ничего не скажешь, красиво перевел С. Спитцер, но это не те слова, с которыми ей хотелось бы обратиться к Господу Богу.
Ей вообще не хочется разговаривать.
Она пытается вспомнить, чем так сильно была занята. Что было важнее поездки в деревню и прогулки в парке.
Никак не может вспомнить, что было важнее.
Дочери приснился сон.
Она входит в квартиру матери. Осматривается. Мебель, вещи – всё на своих местах.
На подоконнике стоит банка с малиновым соком.
На столике стоят фарфоровые подсвечники и радиоприемник “Eltra”.
На полке лежит альбом “Польские Татры” с посвящением: “…в Международный женский день от дирекции и месткома”.
В ящике лежат открытки, платежные квитанции, фотографии, цепочки без заcтежек и рассыпавшиеся бусы.
На кухне стоит чайник.
Над плитой висит тесак для рыбы…
(Она не хотела обзаводиться новой утварью. Не понимала людей, которые что-то покупают.
– Какой смысл? – удивлялась. – На такой короткий срок?
Вела себя как нетерпеливый путешественник, давно собравшийся в дорогу, ждущий сигнала.)
Балкон, ветка, неизменно запыленная голубизна.
Евреи в белых накидках читают Тору – слова тихие, торопливые.
В молитву врывается резкий голос. Кто-то идет четким грозным шагом.
Старик, высокий, бородатый, в круглой меховой шапке, останавливается перед раввином.
– Пошел отсюда, – говорит он. – Поди прочь, – и костлявым суковатым пальцем указывает на дверь.
Молитва смолкает, пришелец объявляет мужчинам, что он их раввин. Настоящий раввин; возвращается из дальних странствий на родину. Здешний – ненастоящий. Самозванец!
– Ша, – шепчут евреи, – ша, мы сейчас молимся.
– Когда евреи молились ложным богам, – восклицает старик, – Моисей разбил каменные скрижали! Если вы молитесь с лжераввином, я имею право кричать!
К гостю с благоразумными словами подходит один из мужчин, актер Еврейского театра.
– Пошел вон! – Порицающий перст направлен на актера. – Комедиант! Завтра наклеишь бороду и сам сыграешь раввина, но здесь не театр! Здесь дом божий!
С умиротворяющей чистосердечной улыбкой приближается пан Абрахам.
– Пошел вон! – Теперь голос полон презрения. – Ты нечистый! С шиксой[164] жил, на Тарговой! Резником не мог быть, потому что нечистый!
Внизу кричат евреи.
На балконе дочь, как и каждую субботу, обращается к голубизне.
– Сама видишь, для молитвы нет условий. Но я тебе расскажу, что́ у нас. Нас посетил настоящий раввин. Вышел из книжек Зингера и прямиком в синагогу. Чего только он не знал! Ты могла бы поверить, что пан Абрахам с шиксой?.. На Тарговой? Ну и ну…
– Как ты думаешь, – продолжает она минуту спустя, – Господь Бог выслушивает молитвы нечистых стариков?
Внизу стало тихо. Евреи сняли накидки и покинули синагогу.
Настоящий раввин погрузился в одинокую молитву.
Дочь замечает, что рассказывать матери о том, “что́ у нас”, входит у нее в привычку.
Всю войну мать одевалась в черное. Зимой, летом, утром, днем – всегда черная юбка и черная блузка, сшитая из двух довоенных. Юбка тоже довоенная, перелицованная: изнанка не выцвела.
Приходила ненадолго.
Садилась на стул.
Вернее – на краешек стула. В знак того, что сейчас уйдет. Что ей не хочется причинять беспокойство. Что она постарается занять как можно меньше места в этой большой чужой квартире.
– Вы так добры к нам, – говорила она хозяйке, которая приютила ее дочку.
– Право, уж и не знаю, как… – говорила она этим почтенным благородным дамам, которым следовало выразить свою признательность.
А сколькими способами она ухитрялась выразить! Взглядом. Улыбкой. Склоненной головой. Стиснутыми руками. Ну и, конечно, словами: “Вы так добры к нам… Право, уж и не знаю, как…”
Плакать она старалась как можно тише.
– Брат? – перешептывались дамы. – Сестра? Отец? Муж?
Вздыхали.
Приносили чай.
Гладили дочку по головке.
Дочка снимала со своих обесцвеченных волос их сострадательные руки, высвобождала – шестилетняя! – из материнских пальцев ладошку и спокойно, холодно говорила:
– Что поделаешь. Но я живу.
Что означало: я намерена выжить. Такое решение дается нелегко, и я очень вас прошу не мешать мне своими слезами и своим сочувствием.
Мать не приносила с собой смерти.
Она говорила: папа, дядя, тетя, дедушка, – но это была не смерть. Это была не-жизнь. В существование смерти дочь поверила спустя пятьдесят лет. Когда увидела мать с закрытыми глазами, с головой на согнутой в локте руке.
Дочь плачет.
Она с удивлением обнаруживает, что плач, горестный и беспомощный, хорошо ей знаком. Это плач матери, сидящей на краешке стула, одетой в черное.
Она плачет, идя по улице. Плачет, прося пана Абрахама помолиться.
– Вы хорошая дочка, – хвалит ее пан Абрахам.
Который не знает, что в эту ужасную жару она не отвезла мать в деревню.
Который не знает, что она высвобождала ладошку из ее пальцев, говоря: “Что поделаешь. Но я живу”.
Дочери снился сон.
Она входит в квартиру матери… Всё на своих местах.
Начинает собирать вещи.
Первым кладет приемник “Eltra” – она купит для него новую батарейку.
Для чайника купит свисток.
В обложку блокнота вложит листочки.
“Польские Татры” пошлет внуку.
Бусы наденет.
Перекипятит малиновый сок.
Тесаком будет рубить рыбу (мать была права: у рыбы, смолотой в мясорубке, совсем не тот вкус).
Дочь просыпается в слезах. Она знает, что квартира, в которой всё на своих местах, будет сниться ей до конца жизни.
Рышард Капущинский Вопреки отчаянию[165]
Когда-то Вирджиния Вулф отметила: чтобы получилась хорошая проза, автор должен первым делом представить себе того, к кому обращается, для кого пишет, явственно его увидеть и понять. Стало быть, роль конкретного адресата отводится верным читателям. Писатель, разумеется, почти всегда осведомлен об их существовании, ибо они самыми разными способами дают о себе знать. Спрашивают в книжных магазинах его новые книги, советуют друзьям и знакомым их покупать, ходят на встречи с автором, читают интервью с ним, считают себя знатоками его творчества.
У Ханны Кралль широкий круг читателей. Широкий и постоянно увеличивающийся. На ее авторских вечерах зал неизменно полон. Люди сосредоточенно слушают, как она своим спокойным негромким голосом произносит тщательно подобранные и взвешенные слова.
Подобной сосредоточенности требует чтение ее книг. Проза Кралль такая скупая, такая насыщенная, что, если вам хочется уловить суть, идею, нельзя пропустить ни одной фразы, ни одного слова. Это тот случай, когда тема определяет авторский стиль, а стиль, в свою очередь, способствует наиболее выразительному и драматичному освещению темы.
Главная тема Ханны Кралль – судьба человека, преследуемого, унижаемого и истребляемого безжалостной историей с ее сокрушительными механизмами. Притом история тут – не абстракция, пугающая и вместе с тем неуловимая, не поддающаяся определению, нет, она имеет конкретную, внятную форму взаимоотношений двух человек – зачастую, хотя не всегда, палача и жертвы. Именно в превращении абстрактного в конкретное, в последовательной экземплификации[166], подчеркивающей, что случившееся – не “исторический водоворот” и не “ужасы войны”, просто конкретные люди убивали других, столь же конкретных людей, – я и усматриваю своеобразие, уникальность взгляда Ханны Кралль.
Поразительно, что в рецензиях на ее книги эта характерная особенность остается незамеченной. О творчестве Кралль пишут так, будто это продукт чистого воображения и изобретательности автора классических рассказов или романов. Между тем почва, на которой ее творчество взрастает, отнюдь не замкнутый мир фантазии сочинителя, а живое взаимодействие Ханны Кралль с будущими героями ее книг, реальность креативного единения, и в этой атмосфере начинают прорастать и кристаллизоваться будущие картины и истории. Интерактивность писательской специфики Кралль придает ее произведениям особый накал, силу и достоверность.
Есть, впрочем, одна особенность, отличающая тексты Кралль от рутинного стереотипа репортажа. В противоположность этому стереотипу, предполагающему, что авторское Я – ось, вокруг которой формируется ткань повествования, автор “Танца на чужой свадьбе” предпочитает держаться в стороне, тактично соблюдая дистанцию и лишь изредка выступая открыто и активно.
Репортерский опыт Ханны Кралль способствовал тому, что, взявшись за такую неохватную и трагическую тему, как Холокост, – тему о варварстве и преступлениях в мире, где Бог мертв, – она не стала заниматься ни препарированием литературного вымысла, ни кропотливым эссеистским теоретизированием. Избрав один из этих путей, она коснулась бы своей темы лишь поверхностно: действительность либо предстала бы творчески преображенной, либо оказалась подменена аналитическими экскурсами. А Кралль ведь стремится представить живую – в данном случае мучительно живую – материю факта. И для достижения своей цели ищет тех, кто может стать проводником в описываемый ею мир уничтожения и памяти.
Таким образом, разделив громаду гекатомбы – поглотившей целый народ с его культурой и поставившей Европу на край гибели – на сотни личностей, судеб и отдельных историй, Ханна Кралль помогает своим сегодняшним, и в первую очередь будущим, читателям понять, что произошло, учит сопереживать, облегчает эмоциональный и умозрительный контакт с миром, который с каждым днем все труднее объять разумом и разгадать.
Персонажи, с которыми мы встречаемся на страницах ее книг, выступают в троякой роли: свидетелей гекатомбы, проводников в исчезнувший мир и литературных героев. Благодаря этому триединству их образы обретают бо́льшую полноту и выразительность.
Автор отдает себе отчет в том, что круг свидетелей, круг ее героев in spe[167] редеет и сужается. Их и после войны осталось немного, а сейчас с каждым годом становится все меньше. Поэтому Кралль ищет их не только в Польше и Германии, но везде, где удается: в Бразилии и Канаде, в Швеции и Соединенных Штатах. Она торопится. В ее фразах, на первый взгляд простых и спокойных, бьется учащенный пульс. И, будто слова излишне замедляют ритм этой прозы, автор неуклонно сокращает их количество, сводит к минимуму.
Однако перед тем она старается собрать как можно больше фактов, информации, разного рода документов. Беседует, задает вопросы. Десятки, сотни вопросов. Ведь важно всё! И то, как человек был одет, что лежало на столе, что висело на стене, что было видно из окна. Уйма мелочей и подробностей. Притом взгляд этот чисто женский! Мужчина на богатейшие собрания деталей не обратил бы никакого внимания. А ведь именно детали придают миру реальность, приближают его к нам, делают ясным и ощутимым!
В результате рассказанное ею обретает форму самого надежного хранителя прошлого и памяти о прошлом – форму мифа. У мифа свои каноны, и главный из них – генеалогия. Мифический персонаж не берется ниоткуда, у истоков его рождения стоят или предки, или какая-то история – в любом случае, некая общность, числовое множество. Миф – форма кланового мышления, она придает ему прочность и определенность, а клановое мышление требует местоимения “мы” – не “я”, а именно “мы”.
В творчестве Ханны Кралль генеалогия героев играет неимоверно важную роль: уж если кто-то появляется в книге, то преимущественно в родственном окружении: “Последний еврей в Плоцке – Беньямин Штуцкий, сын Гитли и Мошека, брат Регины, Бернарда и Хаима, муж Баси, отец сына и двух дочек…” и так далее (“Улица Борнштайна”). Родословная укрепляет общественное положение человека, доказывает, что он – личность. Что он плод и одновременно создатель величайшей ценности – жизни.
Так же, как сплетаются, перепутываясь, ветви генеалогического дерева, в книгах Ханны Кралль пересекаются и сплетаются людские судьбы. “Мне становится страшно, – признается она в одном из интервью, – когда я касаюсь этих разных, удивительных, запутанных судеб. Эти-то сплетенья я и пытаюсь описывать. Рассказываю о людях, чьи судьбы каким-то невероятным образом перекрещиваются. – И поясняет: – Я пишу не о немцах и не о евреях. Я пишу о матери из маленького местечка возле Зелёна-Гуры…”
О матери из маленького местечка.
Такая – чисто человеческая – позиция позволяет сделать нечто чрезвычайно важное: Ханна Кралль дает надежду, зажигает огонек, приоткрывает окно, чтобы впустить немного воздуха. Ибо Холокост, если рассматривать его как однородный исторический феномен, как неприступную глыбу, предстанет про́клятым монолитом, существование которого может рождать лишь безнадежность и отчаяние.
Однако, если вслед за Кралль мы начнем проникать в его темное нутро, заглядывать в труднодоступные закоулки, окажется, что – правда, спорадически и не часто, однако все же (какое облегчение приносит это ВСЕ ЖЕ) – среди снующих там теней и фигур нам могут встретиться добрые духи, которые сумеют, приоткрыв дверь, или закрыв глаза, или поделившись корочкой хлеба, СПАСТИ.
Благодаря этому творчество Ханны Кралль, тематически глубоко погруженное в прошлое, посвященное борьбе памяти с забвением, целиком обращено в будущее, адресовано молодым поколениям, тем, кто приходит и познаёт.
Примечания
1
Преголя – река, впадающая в Балтийское море, точнее в Калининградский (Вислинский) залив. (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. перев.)
(обратно)2
Вармия – историческая область на южном побережье Балтийского моря; с 1871 г. входила в состав Германии; по окончании Второй мировой войны разделена между Польшей и СССР.
(обратно)3
Солтыс – глава низшей территориальной единицы; избирается сельским сходом.
(обратно)4
Эдвард Стахура (1937–1979) – польский поэт, прозаик, переводчик. Герой его произведений – странник, бродяга, сторонящийся городов и цивилизации; зачастую с ним отождествляли и самого Стахуру, прозванного в Польше Святым Франциском в джинсах.
(обратно)5
Перевод М. Л. Михайлова.
(обратно)6
Крулевец – польское название Кёнигсберга, центра немецкой провинции Восточная Пруссия (1773–1945 гг.); по решению Потсдамской конференции (1945 г.) северная часть Восточной Пруссии была передана СССР; в 1946 г. Кёнигсберг переименован в Калининград.
(обратно)7
Карл Дёниц (1891–1981) – немецкий военный и государственный деятель, гросс-адмирал, с 1943 г. командующий военно-морским флотом Германии.
(обратно)8
Генрик Эльценберг (1887–1967) – польский философ, занимался в основном этикой, эстетикой и историей философии.
(обратно)9
Карнавал в Польше – время балов, танцев, катания на санях и различных забав – от праздника Богоявления до начала Великого поста.
(обратно)10
Белжец – нацистский концлагерь и лагерь смерти (1939–1943) вблизи одноименного села к юго-востоку от Люблина; в лагере погибло более 600 тысяч евреев и примерно две тысячи цыган.
(обратно)11
Яновский концлагерь и лагерь смерти во Львове (1941–1944); в лагере погибло от 140 до 200 тысяч заключенных.
(обратно)12
Юзеф Игнаций Крашевский (1812–1887) – польский писатель, публицист.
(обратно)13
Йонатан Эйбешиц (1690–1764) – выдающийся законоучитель и каббалист.
(обратно)14
Синод четырех земель (с середины XVI до половины XVIII в.) – центральный орган автономного еврейского общинного самоуправления в Речи Посполитой.
(обратно)15
Соломон Дубно (1738–1813) – богослов, толкователь библейских текстов.
(обратно)16
Пятикнижие, или Тора (так называемый Моисеев Закон) – пять первых книг канонической еврейской и христианской Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
(обратно)17
Яаков Кранц (Магид из Дубно; 1741–1804) – выдающийся проповедник.
(обратно)18
Циприан Камиль Норвид (1821–1883) – польский поэт, драматург, прозаик, живописец.
(обратно)19
Межвоенное двадцатилетие (1918–1939) – годы существования независимой Польской Республики (Вторая Речь Посполитая).
(обратно)20
Повет (повят) – административно-территориальная единица.
(обратно)21
Авром Гольдфаден (1840–1908) – еврейский поэт и драматург.
(обратно)22
Ханука (ивр. освящение, обновление) – праздник в честь победы еврейских повстанцев Маккавеев над греко-сирийскими завоевателями (164 г. до н. э.), когда был отвоеван и заново освящен Иерусалимский храм. Символом Хануки стал восьмисвечник ханукия, в котором каждый вечер зажигают по одной свече.
(обратно)23
Пурим – праздник, установленный в память о чудесном спасении евреев, проживавших на территории Персидской империи, от истребления их Аманом, одним из придворных персидского царя Артаксеркса.
(обратно)24
Шабат (ивр. отдохновение) – день субботний, в который Тора предписывает воздерживаться от любых действий.
(обратно)25
Ганс Михаэль Франк (1900–1946) – государственный и политический деятель, адвокат, в 1940–1945 гг. генерал-губернатор оккупированной Польши. На Нюрнбергском процессе приговорен к смертной казни.
(обратно)26
Ротари-клуб (Rotary International) – общественная организация, объединяющая влиятельных представителей деловых кругов; основана в 1905 г.; имеет более 30 тысяч клубов в 163 странах.
(обратно)27
Гебитскомиссар (нем.) – во время Второй мировой войны официальный титул лица, осуществлявшего административные функции на оккупированных Германией территориях.
(обратно)28
День всех святых в католической Церкви – 1 ноября, один из десяти главных праздников.
(обратно)29
Йом Кипур (ивр. день искупления) – в иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов.
(обратно)30
Симхат Тора – последний день Праздника кущей (Суккот), когда завершается годовой цикл чтения Торы.
(обратно)31
Фриц фон Шуленбург (1902–1944) – заместитель президента полиции Берлина, участник заговора против Гитлера.
(обратно)32
Клаус фон Штауффенберг (1907–1944) – полковник вермахта, один из основных участников группы заговорщиков, осуществивших покушение на жизнь Адольфа Гитлера (20 июля 1944 г.).
(обратно)33
Здесь и далее курсивом выделены слова и фразы, у автора транслитерированные по-русски.
(обратно)34
Кофе по-дьявольски (фр.).
(обратно)35
Рихард фон Вайцзеккер (1920–2015) – немецкий политик от партии Христианско-демократический союз; в 1984–1994 гг. – федеральный президент Германии.
(обратно)36
Командировочное предписание (нем.).
(обратно)37
Мартин Лютер в своей работе “Против убийственных и грабящих орд крестьян” назвал расправу с зачинщиками беспорядков богоугодным делом.
(обратно)38
Волчье логово – главная ставка фюрера и командный комплекс верховного командования вооруженными силами Германии в лесу Гёрлиц, недалеко от Растенбурга.
(обратно)39
Юлиуш Словацкий. “Бенёвский. Песнь восьмая”. Перевод И. Белова.
(обратно)40
“Малыш” (пол.) – так называли польский “Фиат 126”.
(обратно)41
Собибор – лагерь смерти в Люблинском воеводстве (1942–1943), где было убито около 250 тысяч евреев. В 1943 г. там произошло восстание заключенных – единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях.
(обратно)42
Бар-мицва (ивр. “сын заповеди”) – в иудаизме обряд инициации, означающий, что еврейский мальчик, достигший 13 лет, становится взрослым, то есть ответственным за свои поступки, и обязан исполнять все религиозные заповеди.
(обратно)43
Песня, популярная в 1930-х. В те годы правительство Пилсудского рассматривало планы колонизации Мадагаскара.
(обратно)44
Первое сентября 1939 года – день начала Второй мировой войны.
(обратно)45
Катынь – село в Смоленской области, где проводились массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, весной 1940 г. сотрудниками НКВД СССР.
(обратно)46
Шойхет, шохет (ивр.) – резник в иудейской общине, совершающий ритуальный забой скота и птицы.
(обратно)47
Легионы – польские формирования в австро-венгерской армии (1914–1918), принимавшие участие в Первой мировой войне; на их основе после войны была создана регулярная армия независимой Польши.
(обратно)48
Ешива (йешива, ивр.) – еврейское религиозное учебное заведение.
(обратно)49
Пошел отсюда, малыш! (нем.)
(обратно)50
Игнаций Мосцицкий (1867–1946) – государственный деятель, ученый-химик, президент Польши (1926–1939).
(обратно)51
Jude (нем.) – еврей.
(обратно)52
1990 год. (Прим. автора.)
(обратно)53
Русская ультраправая антисемитская монархическая организация.
(обратно)54
Здесь и далее курсивом выделены слова и фразы, приведенные автором в русской транслитерации.
(обратно)55
Талес, или талит – молитвенное покрывало, которое надевают мужчины на утреннюю молитву, а неортодоксальные иудеи (мужчины и женщины) – по торжественным случаям.
(обратно)56
Староство – в независимой Польше (1918–1939) поветовое управление.
(обратно)57
Католическая церковь Носса-Сеньора-да-Глория-ду-Отейру на площади Ларго-до-Мачадо.
(обратно)58
В шестьдесят восьмом году в Польше начались студенческие волнения, спровоцировавшие политический кризис. Вину за нараставшее в обществе недовольство возложили на “сионистов”, что привело к массовой эмиграции евреев.
(обратно)59
Гевонт – горный массив в Западных Татрах; его основные вершины: Малый, Большой и Длинный Гевонт.
(обратно)60
Варшавское восстание против немецких оккупантов (1.08–3.10.1944) было организовано командованием Армии Крайовой (АК) – подпольной вооруженной организации, действовавшей в оккупированной Польше (1942–1945) и подчинявшейся польскому лондонскому правительству в изгнании.
(обратно)61
Умшлагплац (Umschlagplatz, букв. перевалочный пункт) – так называли площадку около железнодорожной ветки, куда в 1942–1943 гг. сгоняли евреев варшавского гетто для погрузки в эшелоны перед отправкой в лагерь уничтожения.
(обратно)62
Кеннкарта – оккупационное удостоверение.
(обратно)63
Шамес (идиш) – синагогальный служка.
(обратно)64
Хупа (ивр.) – балдахин, полог, под которым пара стоит во время церемонии бракосочетания, а также сама эта церемония.
(обратно)65
Белянская, Длугая – улицы в Варшаве.
(обратно)66
Лимит для евреев – процентная норма для евреев, желающих получить высшее образование (в предвоенной Польше особенно строго соблюдалась в медицинских учебных заведениях).
(обратно)67
“Легия”, “Легия Варшава” – основанный в 1916 г. футбольный клуб легионеров Пилсудского.
(обратно)68
“Cкамеечное гетто” – специально выделенные в аудитории места для еврейских студентов в высших учебных заведениях Польши в 30-е годы.
(обратно)69
Треблинка – лагерь смерти недалеко от Варшавы, в газовых камерах которого, с 22.06.1942 г. по октябрь 1943 г., было уничтожено от 750 до 810 тысяч человек – в основном евреи из Польши и около двух тысяч цыган.
(обратно)70
Армия Людова (Народная Армия, АЛ) – вооруженная организация Польской рабочей партии (1944–1945), действовала на оккупированных Германией польских территориях (создана 1.01.1944 г. на основе Гвардии Людовой).
(обратно)71
Речь идет о восстании в варшавском гетто (19.04–23.05.1943) – вооруженном сопротивлении, оказанном нацистам, приступившим к окончательной ликвидации гетто. В ходе боев было убито около семи тысяч защитников гетто, еще пять-шесть тысяч сгорели заживо. После подавления восстания оставшиеся обитатели гетто (около 56 тысяч) были отправлены в концлагеря и лагеря смерти; спастись смогли около трех тысяч.
(обратно)72
Фольксдойче (нем. Volksdeutsche) – до 1945 г. обозначение этнических немцев, живущих за пределами Германии. Во время Второй мировой войны так обозначали немцев, родившихся за рубежом Германии, проживающих в оккупированных странах и подавших прошение на гражданство Третьего рейха.
(обратно)73
ИМКА (YMCA; от англ. Young Men’s Christian Association – юношеская христианская ассоциация) – неполитическая молодежная волонтерская организация.
(обратно)74
Бур-Коморовский – Тадеуш Коморовский, псевдоним Бур (1895–1966) – польский военачальник, командующий Армией Крайовой.
(обратно)75
Болеслав Берут (1892–1956) – партийный и государственный деятель, председатель Kрайовой Рады Народовой (КРН, Государственный национальный совет, 1944–1947) – политической организации, созданной в качестве представительного органа национально-патриотических сил, дружественных СССР; первый президент Польской Народной Республики (ПНР).
(обратно)76
Юзеф Ружанский (1907–1981) – польский коммунист еврейского происхождения, офицер НКВД, с 1945 г. начальник следственного департамента польского Министерства общественной безопасности (МОБ). Активный участник политических репрессий (1945–1952), отличался особой жестокостью. В период польской десталинизации осужден за применение пыток; освобожден по амнистии после восьмилетнего заключения.
(обратно)77
См.: Ромен Гари. Обещание на рассвете. Симпозиум, 2015.
(обратно)78
ППР – Польская рабочая партия (Polska Partia Robotnicza, PPR), коммунистическая партия (1942–1948).
(обратно)79
Раковецкая улица, 37, в Варшаве, где во времена немецкой оккупации и ПНР содержались в тюрьме известные общественные и военные деятели.
(обратно)80
Анатоль Фейгин (1909–2002) – польский коммунист еврейского происхождения, офицер разведки и госбезопасности; активный участник политических репрессий в послевоенной Польше. В 1957 г. осужден за недопустимые методы ведения следствия; помилован и освобожден в 1964 г.
(обратно)81
Владислав Гомулка (1905–1982) – генеральный секретарь ЦК ППР (1943–1948); в 1948 г. обвинен в “правонационалистическом уклоне” и снят со своего поста; в декабре 1948 г. “признал свои ошибки”, но в 1949 г. был снят со всех государственных постов и исключен из ПОРП, а в июле 1951 г. арестован. Освобожден в 1954-м. В 1956 г. Гомулка был восстановлен в партии и избран первым секретарем ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). В 1970 г., после рабочих волнений, смещен с должности на пленуме ЦК ПОРП.
(обратно)82
Марцелий Новотко (1893–1942) – коммунистический деятель, один из организаторов ППР и Гвардии Людовой (янв. 1942), первый генеральный секретарь ППР. Был убит в оккупированной Варшаве (28.11.1942); организаторы и исполнители убийства неизвестны.
(обратно)83
Коммунистическая партия Польши (1918–1938) была распущена по решению Исполкома Коминтерна, объявившего ее “вредительской”.
(обратно)84
Синий полицейский – неофициальное название (по цвету формы) сотрудников подразделений, созданных немецкими властями для поддержания порядка в Генерал-губернаторстве (так называлась оккупированная территория Польши и части современной Западной Украины и Западной Белоруссии).
(обратно)85
Бельведер – дворец в Варшаве. После восстановления независимости Польши в 1918 г. стал резиденцией главы государства Юзефа Пилсудского; во время немецкой оккупации перестроен для генерал-губернатора Ганса Франка; в 1945–1952 гг. служил резиденцией Болеслава Берута; в настоящее время – одна из резиденций президента Польши.
(обратно)86
Институт национальной памяти (ИНП) – Комиссия по расследованию преступлений против польского народа в период 1944–1990 гг.
(обратно)87
Апоптоз – процесс программируемой гибели клетки.
(обратно)88
Ежи Ярузельский (р. 1931) – журналист, историк; редактор “Жиче Варшавы” (1949–1975).
(обратно)89
Познань – город, где произошло первое крупное выступление против коммунистических властей ПНР: “Познаньский июнь”, 1956 г.
(обратно)90
Повонзки – старинный некрополь в Варшаве (основан в 1790 г.), где покоятся останки многих известных деятелей польской истории и культуры; значительная часть кладбища отведена могилам военных, героев и жертв, павших в войнах XIX–XX вв.
(обратно)91
Орден Воинской доблести. Учрежден за выдающиеся боевые заслуги в 1919 г.
(обратно)92
Имеется в виду Рихард Карл фон Вайцзеккер (1920–2015), федеральный президент Германии (1984–1994), друг Акселя фон дем Бусше – героя репортажа “Фантомная боль” (см. наст. сборник).
(обратно)93
Энциклопедия “Британника” – наиболее полная, старейшая универсальная энциклопедия на английском языке.
(обратно)94
Старобельский лагерь – один из 8 лагерей для польских военнопленных при НКВД СССР. В Старобельском лагере (Луганская область) в апреле – мае 1940 г. было расстреляно 3820 человек.
(обратно)95
Келецкий погром – самый крупный послевоенный еврейский погром в Польше (Кельце, 4 июля 1946 г.).
(обратно)96
Аяуаска (лиана духов) – галлюциногенный отвар лианы, традиционно изготавливается шаманами индейских племен в бассейне Амазонки и употребляется местными жителями для общения с духами.
(обратно)97
Адольф Фриц – якобы реально существовавший немецкий хирург, чей дух вселился в нескольких бразильских целителей.
(обратно)98
Керн – цилиндрический монолит горной породы, получается при бурении, служит материалом для изучения геологического строения разреза скважины и оценки промышленного потенциала нефтегазового месторождения.
(обратно)99
Клапер – от еврейского “клап” (хлопок).
(обратно)100
Дибук – злой дух в ашкеназском еврейском фольклоре, являющийся душой умершего злого человека.
(обратно)101
Свидер – река, на которой стоит город Отвоцк, а также местное название части города.
(обратно)102
“Воля” – торговый центр, открытый в правобережном варшавском районе Воля в 1956 г.; в ПНР пользовался большой популярностью.
(обратно)103
Тарговая улица (targ – базар) возникла на рубеже XII и XIII вв. как часть огромной базарной площади; название получила в 1791 г. Базар Ружицкого – историческая достопримечательность столицы; основан фармацевтом и общественным деятелем Ю. Ю. Ружицким в 1901 г. в правобережном районе Варшавы – Праге.
(обратно)104
Юзеф Зайончек (1752–1826) – польский и французский генерал, доверенное лицо великого князя Константина Павловича, первый наместник Царства Польского (1815–1826).
(обратно)105
Дом был построен в 1911–1914 гг. по инициативе Михала Бергсона.
(обратно)106
Начало еврейской поминальной молитвы; на слова этой молитвы написана известная песня.
(обратно)107
Сталёва-Воля – город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство.
(обратно)108
На восточном берегу Вислы находится варшавский район Прага; центр и Старый город расположены на левом, западном берегу.
(обратно)109
Абрахам Джошуа Хешель (1907–1972) – американский раввин польского происхождения, один из ведущих еврейских богословов и философов ХХ в.
(обратно)110
Кадиш (арам. святой) – еврейская молитва, прославляющая святость имени Бога и Его могущества. Читают кадиш только при наличии миньяна (десяти взрослых мужчин), стоя, обратившись лицом в сторону Иерусалима; один из видов молитвы – поминальный кадиш – читается по близким родственникам.
(обратно)111
“Опередить Господа Бога” (1977) – книга Ханны Кралль, написана на основе бесед с Мареком Эдельманом – единственным уцелевшим руководителем восстания в варшавском гетто в 1943 г. На русском языке впервые опубликована в журнале “Иностранная литература” (1989); в виде отдельного издания вышла в 2011 г.
(обратно)112
Чехочинек – популярный грязевой и бальнеологический курорт.
(обратно)113
Марыся (Мария) Айзенштадт (1922–1942) – польская певица еврейского происхождения; ее называли “соловьем гетто”.
(обратно)114
Владислав Шленгель (1912 или 1914–1943) – польский поэт еврейского происхождения, автор песен и текстов для кабаре, журналист, эстрадный актер. Находясь в варшавском гетто (1940–1943), продолжал писать и выступать; его называли “поэтом гетто”.
(обратно)115
Шмальцовниками во время немецкой оккупации называли тех, кто вымогал деньги и драгоценности у скрывающихся евреев и помогающих им поляков, угрожая донести на них оккупационным властям.
(обратно)116
Анин – пригородный поселок на правом берегу Вислы; с 1951 г. – район Варшавы.
(обратно)117
“Ангел Господень” – католическая молитва, названная так по начальным словам.
(обратно)118
“Солидарность” – массовое социальное движение антитоталитарной, антикоммунистической направленности, независимый самоуправляемый профсоюз – объединение профсоюзов, созданное в августе – сентябре 1980 г.
(обратно)119
“Ведель” (Wedel) – старейшая марка шоколада в Польше; фирма производителя шоколадных и кондитерских изделий основана в 1851 г. немецким кондитером Карлом Веделем.
(обратно)120
М. Пруст. “В поисках утраченного времени. Обретенное время”. Перевод А. Смирновой.
(обратно)121
“Ночной Гаспар”, или “Гаспар из Тьмы” (фр.) – фортепианный цикл Мориса Равеля (1908), написанный как музыкальные иллюстрации к стихотворениям в прозе Алоизиюса Бертрана из одноименного сборника.
(обратно)122
Подробнее о Халине С. см. в книге Аниты Яновской “Кроссворд”. (Прим. автора.)
(обратно)123
Спрятанныe дети (англ.).
(обратно)124
Перевод Б. Пастернака.
(обратно)125
“Воццек” (1921) – опера Альбана Берга, ученика Арнольда Шёнберга, по пьесе “Войцек” Георга Бюхнера. Берг скрывал от учителя, что работает над оперой, поскольку Шёнберг объявил сюжет неприемлемым.
(обратно)126
Эммануэль Рингельблюм (1885–1944) – историк, педагог, общественный деятель. Создатель архива варшавского гетто и организатор подпольной группы историков, писателей и общественных деятелей, собиравших различные документы о культурной, политической и общественной жизни в гетто.
(обратно)127
Богдан Войдовский (1930–1994) – писатель, критик, публицист; во время оккупации был спасен из варшавского гетто. Автор одной из важнейших польских повестей о Холокосте “Хлеб, брошенный мертвым”.
(обратно)128
Рудольфо Валентино (1895–1926) – американский киноактер итальянского происхождения, секс-символ эпохи немого кино.
(обратно)129
Модернизация и традиция (англ.).
(обратно)130
Апель (от нем. Appell – поверка, перекличка) – ежедневная поверка заключенных в немецких концлагерях.
(обратно)131
Банк Пекао (Bank Pekao) – крупный коммерческий банк, созданный в 1929 г. для обслуживания польских эмигрантов; после того как в 1971 г. гражданам ПНР разрешили иметь счета в иностранной валюте, стал специализироваться на обслуживании таких счетов.
(обратно)132
Шломо Карлебах (1925–1994) – раввин, религиозный певец, композитор, один из самых популярных в мире авторов и исполнителей хасидских песен; при жизни его часто называли “поющий рабби”.
(обратно)133
Дэниэл Голдхаген (р. 1959) – американский историк и публицист, автор книги “Добровольные палачи Гитлера: обычные немцы и Холокост” (1996). (Прим. автора.)
(обратно)134
Кристофер Браунинг (р. 1944) – американский историк, автор книги “Обычные люди: 101-й резервный полицейский батальон и «окончательное решение» в Польше” (1992). (Прим. автора.)
(обратно)135
Национальный институт памяти Яд Вашем в Иерусалиме посмертно наградил Аполонию Махчинскую-Швёнтек медалью Праведника народов мира. (Прим. автора.)
(обратно)136
Речь идет о погромах 1989 г. в Ферганской области Узбекской ССР, связанных с межэтническим конфликтом между узбеками и турками-месхетинцами.
(обратно)137
Владимир-Волынский – под таким названием город Владимир вошел в состав Российской империи в результате третьего раздела Польши (1795 г.). С 1918 г. находился в независимой Польше (в 1922 г. был переименован во Влодзимеж); 19 сентября 1939 г. был занят частями Красной Армии и, согласно пакту Молотова—Риббентропа, включен в состав СССР.
(обратно)138
Симона Вейль (1909–1943), французский философ и религиозный мыслитель. Цитата из книги “Тяжесть и благодать” (изд. 1947 г.).
(обратно)139
Эдит Штайн, в монашестве Тереза Бенедикта Креста (1891–1942) – немецкий философ, католическая святая, монахиня-кармелитка, погибшая в Аушвице. Цитата из письма настоятельнице (1939).
(обратно)140
Коштель, или польское сахарное – сорт яблок.
(обратно)141
Daniel Weissbort. Inscription. New York, 1993 (Дэниел Вайсборт. “Посвящение”). (Прим. автора.)
(обратно)142
Ой вей (идиш) – О, горе мне.
(обратно)143
Голубая сойка (англ.).
(обратно)144
Хаскель Бессер – раввин. Родился в 1923 г. в Катовице. Живет в Нью-Йорке. Один из религиозных лидеров американских евреев. (Прим. автора.)
(обратно)145
Между Королевством Румыния и Польской Республикой в 1918–1939 гг. существовала государственная граница.
(обратно)146
Эрвин Ойген Йоханнес Роммель (1891–1944) – немецкий генерал-фельдмаршал, командующий итало-немецкими войсками во время Северо-Африканской кампании (военные действия между англо-американскими и итало-немецкими войсками в Северной Африке).
(обратно)147
О Людмере Мойд – см. “Правнук” в наст. сборнике.
(обратно)148
О неожиданной неудаче Роммеля в Северной Африке 1 июля 1942 г. писали, в частности, C. E. Lucas-Phillips. Alamein. London, 1962; W. G. F. Jackson. The Battle for North Africa, 1940–1943. New York, 1975; James Lucas. War in the Desert. London, 1982; Barrie Pitt. The Crucible of War. London, 1982. (Прим. автора.)
(обратно)149
“Синий платочек” – песня польского композитора Ежи Петерсбурского, написана в Минске (1940 г.); по-польски называется “Mała chusteczka” (“Маленький платочек”); на русском больше известна в переводе Я. Галицкого.
(обратно)150
Гжибовская площадь с середины XVII до конца XIX в. была крупным центром ремесленничества и торговли. На площади Керцеляк с 1867 г. располагался рынок, ликвидированный в 1947 г.
(обратно)151
Певекс – сеть валютных магазинов в ПНР.
(обратно)152
“Дети Холокоста” – общество, созданное в 1991 г., объединяет лиц еврейского происхождения, которые в детском возрасте уцелели во время нацистской оккупации Польши.
(обратно)153
Стадион Десятилетия – самый большой в Варшаве (открыт в 1955 г.); в 1989–2008 гг. использовался как базар (“Ярмарка Европы”); в результате коренной реконструкции (2009–2011 гг.) на его месте построен новый Национальный стадион на 58 тысяч зрителей.
(обратно)154
Праздник кущей (Суккот) – один из трех главных еврейских праздников; иудеям следует соорудить возле дома сукку (шатер, шалаш) и жить там семь дней в память об их скитаниях по Синайской пустыне после исхода из Египта.
(обратно)155
Ковчег с Торой – синагогальное хранилище для свитков Торы.
(обратно)156
Мордехай Пинкерт – “король покойников”: в гетто функционировала принадлежавшая ему погребальная контора.
(обратно)157
Гринпойнт – северный район Бруклина, где живет множество польских иммигрантов.
(обратно)158
Кшиштоф Кеслёвский (1941–1996) – выдающийся кинорежиссер, сценарист, лауреат множества премий в области документального и художественного кино, один из наиболее влиятельных режиссеров Европы. В его фильме “Случай” (1981) одну из линий подсказала Ханна Кралль, которую связывала с Кеслёвским многолетняя дружба.
(обратно)159
Речь идет о Варшавском восстании против немецких оккупантов (1.08–3.10.1944). (См. “Танец на чужой свадьбе” в наст. сборнике.)
(обратно)160
Польско-советская (польско-большевистская) война (1919–1921), для Польши являлась войной за независимость и определение восточных границ государства.
(обратно)161
Крупник – традиционный густой суп на мясном или курином бульоне с ячневой крупой и картофелем.
(обратно)162
Возвращенные земли – условное название бывших территорий Германии и Третьего рейха, большая часть которых в 1945 г. была передана Польше.
(обратно)163
Тарговая – см. “Дерево” в наст. сборнике.
(обратно)164
Шикса (идиш) – незамужняя нееврейская девушка; произошло от ивритского шэкэц (мерзость).
(обратно)165
Речь, произнесенная 18 марта 2001 г. в Геттингене во время торжественного вручения Ханне Кралль литературной премии им. Самуэля Богумила Линде.
С. Б. Ли́нде (1771–1847) – польский ученый-лексикограф, филолог и историк; составитель издававшегося в 1807–1814 гг. шеститомного “Словаря польского языка”.
(обратно)166
Экземплификация – объяснение с помощью конкретных, наглядных примеров, снабжение иллюстративным материалом.
(обратно)167
Здесь: в замысле, в проекте (лат.).
(обратно)









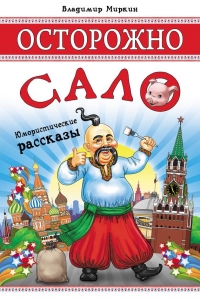

Комментарии к книге «Портрет с пулей в челюсти и другие истории», Ханна Кралль
Всего 0 комментариев