Михаил Гиголашвили Толмач
Михаилу Синельникову
Все герои, включая рассказчика, вымышлены, а совпадения с реальностью – случайны.
АвторЧасть первая Зима
Браток
Дорогой друг, спасибо за новогодние поздравления – и тебе всего хорошего в наступающем. А особенно здоровья: оно в нашем, опять (в очередной раз) переходном возрасте очень нужно. Я вот тут глупую болезнь подцепил, даже неловко сказать – шум в ушах. Постоянно где-то в голове такой звук, будто раковины к ушам с двух сторон приложены. Или динамик фонит. Или неон жужжит. На шум реки тоже похоже. В общем, мерзость.
Доктор Ухогорлонос уверяет, что весь этот звон от сужения сосудов: мол, ушной нерв ущемлен, поэтому слышно все время, как кровь бежит. Открыл свою ученую книжку и вычитал: «Шум в ушах принято называть тиннитус, от латинского “tinnio” – звенеть. Это могут быть различные звуки, в виде жужжания, звона, шипения, свиста, пульсации, шелеста и др. Установлено, что семнадцать процентов всего населения земного шара страдает этим недугом, который чаще всего появляется у людей старше сорока лет…»
Это, конечно, приятно, что не ты один мучаешься, но когда об этой радости постоянно помнить надо, то это уже слишком, согласись. И никто из лекарей, как всегда, ничего не знает и знать не желает. А бедный больной слышит вечный звон (и даже, в отличие от других, знает, где он), но ничего предпринять не может, ибо что конкретно звенит – науке неизвестно. Вот тебе и царь природы! Да мы рабы каждой своей косточки, нервишки, тромба, капилляра…
Одни доброхоты говорят: звон – от давления. Другие утверждают – от электрических волн. Третьи уверены, что весь сыр-бор из-за артрита. Кто-то советует вливания делать. Кто-то, наоборот, велит кровь разжижать: не оттого, мол, шум, что нерв скукожен, а потому, что кровь с годами от всяких бляшек-мушек густеет и на стенки сосудов сильнее давит. Поэтому пей по двадцать стаканов воды в день, чтобы кровь, как пиво в рюмочной, стала – пожиже и послабее. Какой-то кореец даже молотыми соловьиными хвостами лечить пытался, да так завяз, что теперь сам все время какие-то трели и рулады слышит. Кому-то даже, по слухам, легкую трепанацию делали (посмотреть, где именно шум гнездится). И ничего не увидели – пусто. Как душу не схватить, так и шума этого не поймать. Душа хоть вес имеет (10##–35### грамма), а это что-то совсем уж эфемерное – так, пшик какой-то гадкий.
Логически помыслив, можно и без лекарей докумекать: раз сосуды сужены, то их расширять надо. А способ, сам знаешь, есть. Веками проверенный, народный, на все случаи жизни, против всех бед, болезней, невзгод и самых безнадежных обстоятельств. Бывшие советские люди (бывсовлюди) широко им пользуются. И правда: как выпью – так шелест в башке слабеет. А может, это звон бокалов, радостное бульканье и шелест болтовни его заглушают?.. Не знаю, что и делать. Не пить – шумит безбожно, пить – на второй день тибетские трубы в затылке наяривают. В общем, как всегда: соломоново решение приходит на ум Валаамовой ослице, когда ее уже на бойню волокут.
Кстати, об ослах и других парнокопытных. Сейчас тут, в Германии, немцы затеяли коров тысячами убивать, потому что у двадцати коров обнаружилось какое-то новое говяжье бешенство, Rinderwahnsinn (бычий шиз, телячий психоз, коровий маразм, как кому нравится). И эти больные коровы могут других, здоровых, заразить. А люди, ядовитой говядины наевшись, через десять лет тоже могут ошизеть. И давай теперь из-за этого панику бить. Наших людей такими глупостями не запугаешь – мало ли что там через десять лет будет!.. А тут у всех многонько на черный день и светлую пенсию припасено, обидно на старости лет слюни от коровьей паранойи пускать, лучше в теплом море плескаться и безалкогольные коктейли попивать.
Дело о говяжьей чуме в правительстве решается. Одни резкие депутаты предлагают вообще всех коров перерезать и сжечь – так, мол, дешевле, больных сожжем, а новых из чистых стран завезем. А особо рьяные уже к овцам присматриваться начали: дескать, в Баварии два барана как-то подозрительно по лугу скакали – не больны ли тоже чем-нибудь вроде овечьего маразма?.. Немцы же – радикалы: если что задумали – так на всю катушку до упора прут.
Оппозиция возражает: новые коровы тоже заболеть могут – так что, их тоже резать?.. Так и будем палачествовать?.. И не лучше ли вообще этих убитых коров не сжигать, а из гуманитарных соображений в третий мир отправлять, там половина населения и так не в себе, и куда лучше когда-нибудь от бычьего склероза умереть, чем сейчас от голода окочуриться. Резонно.
А больше всех панику проклятое телевидение сеет: мол, в Англии якобы уже восемьдесят человек рехнулось – а что удивительного, если они сырые бифштексы едят и кровью запивают, как вампиры? А во Франции, мол, даже и до ста человек больны. А мало ли что те лягушатники ели-пили? Нажрались мокриц и слизней, вот и лезут на стенку. Как будто цивилизованная нация, а едят всё, что ползает, вроде китайцев. Так у тех вынудиловка, а у французов какая нужда всякую гадость обсасывать?.. Кстати, знаешь, когда наступит мировой голод? Когда китайцы научатся есть ложками. Природный баланс и так нарушен, озоновая дыра растет, а тут еще китайцы с ложками. Невеселые перспективы. Надо бы учебник китайского достать, на всякий случай.
Говядина тем временем семьдесят марок за кило стала: под шумок биомагазины поднялись, биочистой продукцией торгуют. В этих магазинах раньше из-за цен никого не было, а теперь очереди клубятся. Значит, такой биопонт: мое биомясо дорогое, потому что оно биочистое, а оно чистое, потому что мои биокоровы на моих биополях только биочистую биотраву едят, поэтому сто грамм моей биоговядинки семь марок стоят. А иди и проверь, где его корова ходит. И бродит она по биополю или в предсмертном отстойнике томится – разницы нет, всюду говяжий шиз ее настигнуть может (бешеный бык покусает в случке – и готово!). И вообще на земле каждый третий – в своем роде шизоид, что же теперь, всех убивать?.. Некоторые пробовали – не получилось: дорого обходится и КПД низкий – пока одних убиваешь, другие рождаются и с ума сходят.
В политике тоже новостей много: одних министров снимают, других назначают. Это никого особо не волнует, а министров – и подавно: свои двадцать пять тысяч в месяц они и на рабочем месте, и на пенсии огребать будут пожизненно. Поэтому и законы издают без особых опасений. Правят теперь Германией красные социалисты (которые только резать и урезать могут) и зеленые, которые о флоре и экологии больше, чем о людях, заботятся и всех биофилами сделать хотят. Эти «зеленые» – из бывших бунтарей-самоучек, что от них хорошего можно ожидать?.. К ним у народа доверие уже пропало: пройдохи, как и прежние, только суперчестными прикидываются, либеральны уж слишком, с эмиграцией хлопот много создали, иностранцами наводнили страну, косяками идут беженцы, убежища просить, а просеять их по-деловому никак невозможно – принципы не позволяют.
Да что там говорить – я и сам недавно впритык со всем этим столкнулся: один приятель предложил: «Не хочешь, мол, толмачом подработать?.. Ну и что, что художник?.. Никуда твои картины не убегут. Ты уже тут давным-давно, немецкий язык знаешь, пойди поработай – все лучше, чем в потолок плевать у телевизора! Я им твой телефон дал, жди звонка».
Отчего же нет?.. Только где и когда?.. А в лагере для политбеженцев. Ехать, правда, в этот лагерь далековато, в другую землю, и вставать рано, но платят неплохо. И дел немного: басни беглецов переводить. Ладно, согласен. Warum nicht[1], как любят осторожные немцы говорить.
Скоро позвонили из лагеря: «Приезжайте послезавтра, начинаем в семь тридцать. Вот адрес… И не забудьте паспорт». Семь тридцать – это даже для ранней Германии рановато. По этому поводу бородатый анекдот есть: англичанин после Второй мировой спрашивает у немца: «Почему вы, проигравшие, лучше нас, победителей, живете? Мы и работаем, не покладая рук, и час пик у нас в семь тридцать начинается, все на работу спешат». «А у нас час пик в шесть часов начинается, поэтому и живем лучше вас!» – отвечает немец. Ох, рано встает охрана!..
В пять утра на улице темно, холодно, туманно. Мутные влажные лампионы. Асфальт искрится. Шуршат сонные машины. Где-то позвякивает на ветру табличка. Еду в поезде под детский щебет. Вагоны учениками набиты – по школам разъезжаются. Шумят, но приглушенно, а некоторые вообще в полусне, оцепенело в окна смотрят, думают о своем: «…уроки… оценки… папа-мама… кино, диско, деньги, хенди… мальчики-девочки… обиды-радости…» – о чем еще думать?.. Кто-то тетрадки перебирает, кто-то в тамбуре девчонок смешит, усатый проводник у всех билеты проверяет, даже у спящих второклашек дотошно требует. Ничего, пусть к дисциплине привыкают. А они и не ропщут, покорно копаются в сумках, ищут проездные. Раз надо – то надо, без всяких «зачем» и «почему». Детей едва видно за гигантскими рюкзаками, которые каждый европейский ребенок таскает с детства, чтобы спину и мозги укреплять.
Станция маленькая. Жизнь на площади уже идет: в яркой булочной дети толпятся, первыми кренделями и коржиками закусывают, чтоб в школе не так противно сидеть было. Машины живее ездят, тумана меньше стало. Дело к семи. Газетный киоск светится.
Спросил у продавца, где лагерь. То т ответил, что пешком идти далековато, а автобусы туда не ходят.
– Почему?
– А чтоб беженцы меньше в город таскались, – дружелюбно объяснил он. – Воровства много стало. Недавно вот девочку изнасиловали. Албанцы из Косово, наверное. Или другие кто. Так что лучше пусть там, в лагере сидят! – И он обвел пальцем круг и замкнул его точкой посередине.
Осмотрев меня внимательнее, поинтересовался:
– И вы тоже… туда?.. Нет, не похоже… По-немецки хорошо говорите.
– Знакомых навестить хочу. Значит, на такси?
– Вон остановка. Через минуту Вольфи подъедет, его смена начинается.
Ровно через минуту появился пожилой, но моложавый и активный Вольфи. Он по дороге сообщил, что вчера полиция нашла в лагере самогонный аппарат:
– Удивляться нечему. Вот русские тут кафе открыли. Пьют до свинства. Мне официантка объяснила: «Водка – это часть нашей культуры». Правда это?.. Такая бескультурная вещь, как шнапс – и культура?..
– А когда тридцать пять мороза, что делать? – защитил я святой напиток и веско напомнил, дабы окончательно убедить Вольфи в ценности святого продукта: – Водка войну выиграла.
– А, ну да, – сразу кисловато согласился он, съезжая с шоссе в темноту дороги. – Вот это все – лагерь!.. Вам к администрации?..
Я начал озираться: похоже на наши новостройки. Дома старые, бывшие казармы, что ли… Ограждений нет. Фонарей мало. Кое-где маячат расплывчатые фигуры. Возле телефонной будки сидят на корточках трое. Все ясно. Впереди на стене двуглавый орел на желтом фоне – администрация. Вольфи свернул к входу, где за стеклом восседал вахтер – багрово-опухший, толстый. Таких тут называют «бирбаух» – «пивное брюхо».
Бирбаух с интересом взглянул на меня:
– В первый раз? Переводить? – Выписал данные из паспорта, на часы посмотрел, что-то на листе отметив: – Вот, это ваш обходной лист. Тут время работы отмечать будут. Конечно, работать никто не хочет, но что делать?.. Деньги с неба только в раю сыпятся, а на земле их зубами выцарапывать надо… Все, ваше время пошло! – хлопнул он печатью по листу и, просовывая его под стекло, проникновенно посмотрел мне в глаза: – Деньги не делают счастливым, но успокаивают.
В этот момент какой-то пожилой носач протиснулся сквозь вертушку. Бирбаух любезно приветствовал его, пояснив для меня:
– Это тоже наш переводчик. Вот он вам все и покажет дальше.
– Хуссейн, из Ирака, – носач приветливо пожал мне руку.
Напротив Бирбауха, в приемной, сидели старик со старухой: темны, худы, молчаливы, мрачны. Хуссейн мельком взглянул на них:
– Наверняка мои, – что-то клекотнул по-арабски; те закивали в ответ сухими головами.
Идем дальше. Вот комната: два стола, четыре стула, календарь на стене. Уже светло, в окно видны дома, крыши. И дальше – пустырь, поля, шпиль и башня кирхи.
– Это наша комната, переводчиков. А там – музгостиная, на «пианино» играют, отпечатки пальцев берут. Сейчас фрау Грюн вам все объяснит.
Вот и она – по-мужски жилистая и хваткая, в темном костюме, с папками в руке – знакомится со мной, энергично трясет руку:
– Фрау Грюн. Что надо делать?.. Придет беженец, мы у него снимем отпечатки пальцев, сфотографируем. Вы с его слов заполните анкету, а потом будете переводить вопросы-ответы – вот и все, очень просто.
«Ничего себе – отпечатки пальцев снимать! – Это мне совсем не понравилось. – Не хватает еще вертухаем заделаться!..»
Фрау Грюн как будто прочла мои мысли:
– Не бойтесь, делать все буду я, вы только переводите. Ну, пошли?
Мы оказались в музгостиной. Она светлее и просторнее. Стол с чернильной полосой, фотоаппарат на штативе, раковина, стулья, еще стол, календарь на стене, компьютеры.
– Я его сейчас приведу. Надо перепроверить сопроводительные документы. Вы должны заново опросить беженца, внести его анкетные данные в этот формуляр. – Она заглянула в папку. – У него самого документов, разумеется, никаких. Обычная история. Дезертир. К нам переслали из Дюссельдорфа, где он в полицию сдался.
На фото: квадратное лицо, надбровье питекантропа, взгляд мрачно-угрюмый. Под фотографией – столбиком данные:
фамилия: Витас
имя: Жукаускас
год рождения: 1975
место рождения: г. Грозная, Чечня
национальность: русский
язык/и: русский
вероисповедание: католик
Я выглянул на шаги: фрау Грюн идет впереди, за ней движется что-то большое и темное, в полутьме коридора плохо видное, но хорошо слышное. Сопение и скрежет подков. Он одет во все черное, на ногах – кованые высокие башмаки, руки в татуировках. Наголо брит, на левой брови – свежерозовый шрам. Один глаз сильно косит.
– Скажите ему, что вы переводчик, – распорядилась фрау Грюн, направляя фотоаппарат на экран.
– Доброе утро, я ваш переводчик, – сказал я как можно дружелюбнее.
– А, ништяк… А то ни хрена не понять, нах-х-ху… – (Потом он каждую вторую фразу снабжал этим энергичным, долгим придыхательным «нах-х-ху…»)
– Сядем. Надо кое-что уточнить, – предложил я.
– Дав-вай. Ут-точняй. Твое дел-ло.
Говорит он медленно и твердо, удваивая согласные, как это свойственно прибалтам. Один глаз смотрит в сторону, второй неподвижно уставлен в меня.
– Тут записано: имя Жукаускас, а фамилия Витас. Разве не наоборот?
– Да ты чего, в нат-туре? Что я, Жучкой жил?.. Наоб-борот.
– Наоборот – это как? Имя – Витас, а фамилия – Жукаускас?
– Ну нах-х-ху… – удовлетворенно хрюкнул он.
Я стрелками исправил данные.
– Национальность?
– Рус-сак.
– Фамилия не очень-то…
– Это пап-паша у меня был лит-товец, а мат-тушка русачка…
– Тут записано – родился в Чечне. Правильно?
– В Грозной жил.
– Почему в Грозной? В Грозном?
– Ну, один хрен. Пиш-ши как хочешь.
– Теперь языки… Какой родной язык?
– Русск-кий.
– Вера?
– Вера? – усмехнулся он. – Нету веры.
– Что-то надо записать. Здесь записано «католик».
– Ну, п-пусть так… Совсем зап-парился тут-т, кот-телок не варит, крыш-ша едет… – попытался улыбнуться он, вращая глазами в разные стороны.
«Пианино» было налажено. Фрау Грюн попросила его вымыть руки и насухо их вытереть.
– Знаю, не в п-первый раз, – как-то радостно ухмыльнулся он.
– Спортсмен? – приветливо спросила фрау Грюн, указывая на его разбитую бровь.
– Был. Отбег-гался, – опять усмехнулся он.
Пока фрау Грюн поочередно прикладывала к бумаге его корявые пальцы в татуированных перстнях, он косился на нее, вздыхал, щурился и наконец сказал:
– Мил-лая нем-мочка…
Потом фрау Грюн вкладывает в сканер лист с отпечатками пальцев и набирает на компьютере короткую комбинацию.
– Все. Теперь они уже в картотеке, – поясняет она. Я перевожу. Витас кривится:
– П-пусть. Я гаст-троль окончил…
Витас отправился в приемную, а мы с фрау Грюн пошли по коридору дальше. Какие-то люди чиновничьего вида сидели в комнатах. Двери повсюду открыты. Поднявшись на второй этаж, мы очутились возле таблички: «Einzelentscheider»[2].
«Что бы это значило? Сам все решающий?» – думаю я, а фрау Грюн уже знакомит с господином Шнайдером – пожилым румяным вежливым и улыбчивым. Волосы – перец с солью. Одет в вязаный жакет.
По стенам идут полки с толстыми папками. На видном месте, конечно, календарь. Шнайдер охотно поясняет суть предстоящего:
– Прежде надо отметить начало вашей работы. Ведь это деньги. Всякий труд должен быть оплачен. Давайте сюда ваш обходной лист. Так. Знаком вам этот аппарат? – Он указывает на диктофонное устройство с трубкой на длинном шнуре. – Хорошо. Значит, работаем так: я задаю вопросы по-немецки, вы их переводите беженцу на русский язык, а потом переводите на немецкий его ответы. Я их формулирую и записываю на пленку. После этого секретарша перенесет запись с ленты на бумагу, а потом вы с листа переведете весь протокол беженцу на русский, чтобы он знал, что там написано. Если у него возникнут дополнения, возражения или замечания – надо внести. Все должно быть по закону. Тут список опорных вопросов. Ознакомьтесь.
Я читаю вопросы (анкетные данные, причины бегства), а Шнайдер, просматривая тонкую папку Витаса, бормочет:
– Ничего не известно. Сдался в Дюссельдорфе, переслали к нам… Почему? А у нас пока есть свободные места… Так, можем начинать?.. – Он перегибается к микрофону, стоящему на подоконнике, и говорит негромко: – Пожалуйста, приведите беженца! – а мне указывает на другой стул: – Будьте добры, пересядьте туда, мне лучше ему прямо в глаза смотреть…
«Это будет не так-то легко!» – думаю я про себя, вспоминая вдребезги косые глаза Витаса.
Вот гром подков по коридору. Мы оба слушаем тяжелые четкие шаги, за которыми почти не слышно шагов фрау Грюн. Шнайдер прикрыл веки, как будто что-то считал в уме. Потом сказал:
– Шаг четкий, размеренный, военный. Очевидно, служил в армии.
Витас с размаха сел на стул и уставился одним глазом на Шнайдера. Второй глаз был направлен на меня. Под двумя прицелами держит.
Шнайдер любезно поздоровался, положил перед собой стопку бумаги, карандаш, вставил кассету в диктофон и попросил меня перевести абзац из книги законов, где говорилось, что беженец должен говорить правду, ничего не скрывать и несет ответственность за ложные показания.
– Эт-то и еж-жу понят-тно нах-х-ху… – зевнул Витас.
Шнайдер включил диктофон. Он четко спрашивал, Витас односложно отвечал. Шнайдер успевал на листе записывать даты. Картина такая: в школе учился плохо, был дзюдоистом, не хотел идти в армию, за что и посадили на три года; когда вышел, помогал матери на базаре, а потом опять попал под призыв, но на этот раз его не посадили, а предложили альтернативу: или опять сидеть, но теперь уже как рецидивисту-отказнику, или пойти в спецдивизию, где и добыча есть, и работа не очень пыльная. Пришлось идти воевать.
– На чьей стороне? – вежливо осведомился Шнайдер.
– На наш-шей! – возмутился Витас, не дав мне доперевести.
– Да, но кто это – «наши»?.. Вы же говорите, что родились и жили всю жизнь в Грозном?.. Кто же теперь для вас «наши»: чеченцы или русские? – улыбнулся Шнайдер.
– Рус-саки, конечно. Мат-тушка ж у меня русская… Умер-рла, правда… Ни род-дных, ни близких. Все пом-мерли. И хат-та порушена нах-х-ху…
Шнайдер выключил диктофон, потер лоб и негромко, как бы про себя, сказал:
– Типичный случай. Никого и ничего нет, все разрушено или пропало. Спросите у него, чем объясняется такое тотальное сиротство?..
– Да он чего, больной, что ли, – война ж, поубив-вали всех! – опять, не дождавшись перевода, закипятился Витас. – Всех одной бом-мбой накрыло нах-х-ху!..
– Странно, как можно одной бомбой убить сразу всех? – спросил в никуда Шнайдер.
– Может быть, все вместе где-нибудь сидели? – предположил я.
Шнайдер отмахнулся:
– Может быть. Все может быть. Идем дальше. – И включил диктофон: – Вопрос: где вы служили, в каком звании, в чем были ваши задачи?
Выяснилось, что Витас служил в дивизии 00. Их забрасывали на парашютах в тыл врага, и они «мочили все, что шевелилось». Шнайдер не понял:
– Убивали?.. А если женщины или дети?..
– Баб… упот-требляли, а потом тоже моч-чили… – огрызнулся Витас.
– Это тоже переводить? – переспросил я у него негромко.
– П-прав, брат-ток. Не надо. Скажи: убив-вали, мол, только врагов род-дины.
Шнайдер попросил узнать, как ему платили, помесячно или за операцию? И сколько?
– За оп-перацию. По трист-та баксов на рыло.
– За участие или за убитых? – уточнил Шнайдер.
– По-всяк-кому, – буркнул Витас, уставляя оба глаза под стол.
– И сколько времени он так воевал? И где?
– Пять лет. В Чечении пог-ганой, – не дожидаясь перевода, выпалил Витас, а мне наконец стало ясно, что немецкий язык он понимает не хуже меня.
Шнайдер поморщился:
– В целях их собственной безопасности наемников в одном месте держат максимум год, есть указ Ельцина.
– Мал-ло ли что? Под-думаешь – указ! Эт-тими ук-казами только зад-дницу подтирать… – усмехнулся Витас угрюмо.
Шнайдер вытащил из стола огромный географический атлас, раскрыл его на заложенной странице (это был Северный Кавказ) и попросил показать, где именно Витас воевал.
Тот начал неуверенно тыкать пальцами:
– Тут-та. И тут-та. И там-ма. Да я знаю?.. Куда кид-дали – там и моч-чили! Всюду! У меня конт-тузия, ничего не помню. Мне скоро к докт-тору надо, – но Шнайдер проигнорировал упоминание о враче и попросил рассказать, что было дальше, почему он сбежал.
А дальше было то, что Витасу надоело убивать, и он решил дернуть в Германию, где, он слышал, природа красивая и люди добрые. Дата побега была выбрана не случайно: у командира был день рождения, все перепились, и Витас под шумок сбежал, прихватив автомат и три гранаты – «на всякий случай». Пробрался в Грозный, к другу, жил там пару дней, а потом решил бежать в Москву. Документы все остались в казарме.
– Без документов и с автоматом – в Москву? – скептически осведомился Шнайдер.
– Чего делат-ть? В Москве занык-каться легче – народ-ду много. А оружие и гранат-ты на базаре в Грозной толканул.
Так Витас и отправился: где на попутках, где пешком в столицу. Блокпосты и контроли обходил стороной, ему не привыкать. В Москве кантовался еще с полгода у знакомой девки, а потом через Литву и Польшу рванул в Германию.
– Через Литву? – насторожился Шнайдер. – Сколько времени и как вы шли?
– Три мес-сяца. Лес-сами полз.
– Лесами?.. – усмехнулся Шнайдер и выключил диктофон. – Когда мой отец бежал из русского плена, ему понадобились годы, чтобы лесами дойти до Германии!.. А он говорит – три месяца. Смешно.
Я перевел. Витас замолк, глаза его пошли по параболе.
– Ну, тогда скаж-жи: на попут-тках.
По его словам, он сторговался в Литве с каким-то частником, тот его подвез к границе, Витас перешел ее ночью лесом, а в Польше, в условленном месте, подсел к тому же частнику в машину. Так же миновали и польско-германскую границу. В Дюссельдорфе частник подвез его к лагерю.
– И сколько вы заплатили этому человеку?
– Пятьсот баксов. Да ему х-хули риска было?.. Если что – попут-тчика взял, нич-чего не знаю нах-х-ху…
Столбик дат на листе перед Шнайдером завершился. Даты были подсчитаны, и Шнайдер вежливо сказал:
– Если следовать вашим датам, не хватает пяти лет. Я заново буду считать, а вы оба слушайте и тоже считайте.
И он терпеливо начал повторять даты. Опять вышел люк в пять лет.
– А хер его знает-т, конт-тузия, может, что и не так-к… – пробормотал Витас и опять вспомнил, что к одиннадцати надо к врачу, а потом задрал рубаху и принялся показывать шрамы.
– И как раз не хватает тех пяти лет, которые он, по его словам, служил в этой таинственной дивизии 00… Впрочем, и так все ясно, – с некоторой брезгливостью сказал Шнайдер, достал другой здоровенный атлас (на этот раз российских городов), нашел план Грозного и попросил рассказать, на какой улице Витас родился, где была его школа, где стоял дворец президента и т. д.
– Да не пом-мню я ничего!.. Что он, с-сука, меня долб-бит, дят-тел!.. Я тут не географ-фию учить пришел, – повысил Витас голос. – Дома нет, школ-ла поруш-шена, все зачищ-щено, презид-дент убит – чего ему еще?
– Не кипятись, он просто хочет проверить, это его задача, – остановил я его, но в ответ зареяло такое долгое и страстное «н-нах-х-хуу…», что Шнайдер спросил у меня:
– Что это за слово он к каждому предложению добавляет?
– Вроде «zum Teufel»[3], – смягчил я.
– Но «Teufel» по-русски будет «чьорт», а он говорит что-то на букву «н», – сухо парировал Шнайдер (а мне показалось, что он наверняка понимает русский язык не хуже, чем Витас – немецкий). – Ладно. На какой реке стоит Грозный? Что случилось с президентским дворцом? Как называется главная улица Грозного?
Витас этого всего не знал, ничего не помнил, все забыл и опять начал давить на контузию, после которой память отшибло.
– Все забыл, а что в Германию идти надо, хорошо помнил. Такая выборочная забывчивость. Впрочем, все это теперь уже неважно, – подытожил Шнайдер и перешел к заключительной части: обоснование просьбы о политубежище.
Витас подумал и сказал:
– Перевед-ди ему: я чит-тал, что у вас тут природ-да путёвая и люди ништ-тяк, а там, в нашей Болвании, природа хуев-вая и люди дер-рьмо. Поэтому прошу мен-ня принят-ть. Уже брат-тков вид-деть не мог-гу. Тош-шнит от кров-ви. Не желаю никого мочить, хочу тих-хо жить… И все, нах-х-ху…
– Может, еще что-нибудь? – осторожно уточнил Шнайдер. – Что ему грозит в случае возвращения на родину?
– Поймают и в лаг-герь сунут. А то и прост-то в поле шлеп-пнут, там же ж суда нет: пул-лю в лоб – и спи спокойно! Прошу помил-ловать и в ад не посыл-лать. И к докт-тору уже пора – башка лопается… И обед скоро.
Шнайдер кивнул:
– Пусть идет.
– Свободен! – сказал я. Витас вдруг улыбнулся:
– Это я уж-же тож-же раньше слыш-шал!
Когда звон подков затих, Шнайдер вздохнул, переложил какие-то предметы на столе, вытащил кассету из диктофона:
– Наши политики все-таки очень странные люди. Ну зачем нашему министру внутренних дел надо было издавать указ, чтобы дезертиров из Чечни временно не отсылать назад?.. С косовскими беженцами уже нахлебались проблем – теперь эти новые напасти. Для чего?.. Ну выпишу я этому бандюге отказ – это же криминальный тип, я бы с ним ночью повстречаться не хотел – а он возьмет и сбежит!
– А что после отказа он может еще предпринять, кроме бегства? – поинтересовался я, тоже собирая бумаги.
– В принципе, он может нанять адвоката и обжаловать отказ. Тогда дело пойдет по судам. А если он просто сбежит?.. И в мафию какую-нибудь пойдет?.. Опыта убивать у него явно хватает. И вот, одним преступником больше. Как будто своих нет?! А мы, вместо того чтобы его тут же отправить назад – в Россию, в Польшу, в Литву, к черту-дьяволу на рога – сейчас ему временный трехмесячный паспорт беженца выпишем. А когда некоторые трезвые люди предложили беженцев, до решения их вопроса, в закрытых помещениях держать (как это, кстати, почти всюду и делается и что вполне логично: мы же не знаем, что это за люди), то эти желторотые зеленые политики такой писк подняли, что в Брюсселе откликнулось: ах, опять лагеря на немецкой земле, сортировка людей, государство-тюрьма!..
Он возбужденно задвигался на стуле:
– Как всегда: масса слов и капля дела. Вот и сидим со связанными руками… Эх, да что говорить… Я сейчас отдам запись на распечатку, а вы потом переведете ему протокол. Таков закон. Конечно, надо, чтобы все было по закону. Только тем, наверху, легко эти законы издавать, а вот выполнять их тут, внизу, ох как трудно!.. Не хотите ли кофе? Вам полагается оплаченный перерыв в полчаса. Сейчас оформим ваш обходной… – И он, прежде чем встать, отметил время конца интервью.
Вместе со Шнайдером я спустился в небольшой кафетерий. Нам встретилась миниатюрная дамочка с узкими глазами и черными жесткими волосами; она вела куда-то хилого, молчаливо-испуганного монголоида.
Шнайдер представил ее:
– Это коллега Хонг, переводчица с вьетнамского.
Прошелестела молодежь. С папками в руках они торопились по коридору, спорили о каком-то вопросе, кем-то не вовремя заданном.
– Стажеры-юристы, практику у нас проходят, учатся.
За столиком Шнайдер, выпрямив спину, осанисто оглядываясь и тщательно размешивая в чашке сахар, кратко обрисовал положение вещей:
– За десять лет работы мне тут еще ни разу не встретился человек, которого бы действительно политически преследовали. Такие люди до нас просто не доходят. Они или в тюрьмах, или в подполье. А к нам бегут все, кому не лень. А потому, что есть эта пресловутая и весьма сомнительная 53-я статья, очень расплывчатая: «никого, кому на родине грозит смерть, нельзя выслать из страны»…
– Смерть грозит всем и всегда.
– Вот именно. Судите сами: в прошлый раз у меня сидел больной из Танзании. Вторая стадия СПИДа, весь в лишаях, язвах, героинист, а отослать нельзя, потому что у себя дома он не может купить лекарства против своей болезни (в его стадии на это требуются сотни тысяч в месяц), и, таким образом, его ожидает верная смерть. А в Танзании восемьдесят процентов населения заражено, между прочим. Что же теперь, Германия во всемирный госпиталь для наркоманов и педерастов превратиться должна? Или своих мало? Из-за демагогии, лизоблюдства и страха: «Что скажут в Америке? Что скажут в Брюсселе?» – стали как мусорное ведро, как европейская помойка, куда все дезертиры, убийцы и преступники лезут, а мы ничего сделать не в состоянии… Силы-то есть, но руки связаны глупыми приказами. Слава богу еще, что африканцы больше во Францию сдаются, потому что французский знают.
– Но и сюда добираются. Орут, будто в Сахаре, – поддержал я его, вспомнив, как вчера в автобусе группа негров с таким оживлением хлопала друг друга по плечам и спинам, словно они только что победили воинов из соседнего буша и теперь готовы полакомиться печенью поверженных врагов; аккуратные седые немецкие старушки в завивках, буклях и золотых очках пришли в тихое возмущение – покачивание голов, бормотанье: «Armes Deutschland!..»[4],трагическое смотрение в окно, – но негров это не беспокоило: расположившись на сиденьях в полулежачем состоянии, они продолжали делиться новостями из саванны, поминутно взрываясь хохотом и нанося обоюдные неистовые шлепки по всем частям тела.
Шнайдер качает седой головой:
– Знаете, был такой фокусник Гудини, который мог за секунду наручники снять и спастись. Мы не Гудини, и наручники с нас снимут только тогда, когда создадут законы, а не расплывчатые абстрактные формулы. А до этого будем вот так слушать всякие небылицы и гадать, убийца он или маньяк, сбежит он или будет ждать депортации, что маловероятно. А этот сегодняшний… Мне кажется, он вообще не русский… Русские разговорчивы и приветливы, помногу говорят, а он угрюм и зол, что-то гавкнет и замолкнет. На северянина похож. Наймит из Балтии, наверное… Они стрелять умеют, мой отец их лучшими стрелками называл. Кстати, вам известно, что в Европе наиболее склонны к самоубийству венгры и литовцы?.. Одни, видимо, слишком импульсивны и эмоциональны, а другие, наоборот, от чрезмерного спокойствия. Оттуда он, как вы думаете?..
– Трудно сказать. А что, только такие убийцы и дезертиры сдаются?.. Женщин красивых нет? – увел я на всякий случай разговор от Балтии.
Шнайдер хитро и быстро улыбнулся:
– О!.. И женщины бывают!.. Вот недавно, – он понизил голос и исподтишка огляделся, – одна красавица белоруска попалась. Ну просто на обложку журнала! Удивительной красоты лицо! Изящество, шарм, холеность. Вот рассказывает она, как мучилась, терпела, голодала, а когда переводчик вышел за кофе, вдруг рукой просит, чтобы я диктофон выключил, а сама мне жестами показывает: мол, делай со мной что хочешь, я твоя, лишь бы все о’кей было. И спешит, чтобы успеть: вначале на меня показывает, потом на себя, а потом ручки складывает под щеку – мол, вместе спать будем. А когда я брови поднял, она такие жесты откровенные в ход пустила, что не по себе стало… И на диктофон не забывала показывать: мол, не просто переспать, а чтоб и дело ее сделалось. И смешно и грустно. Что же там творится, если даже такие женщины бегут?.. Да, подобную красоту у нас тут на руках носили бы… Супружество обеспечено.
– Ну и надо принять, ради улучшения эстетической обстановки. Чем больше красавиц – тем приятнее жизнь, – пошутил я.
– И я того же мнения, – зажмурился Шнайдер, а я подумал, что, может, красавица старалась не зря.
Потом мы вернулись в кабинет. Протокол уже был перепечатан, и я перевел его Витасу. Он безучастно кивал, глаза его потухли. Когда с формальностями было покончено, Витас, спрятав за пазуху свой временный паспорт, в коридоре невзначай поинтересовался, как тут братков найти, а то скучно очень – ни баб, ни картишек, ни хоботок в водяре запятнать, тоска смертная. Где искать братков, я не знал, но он все равно поблагодарил меня за добрые советы, которые я ему давал:
– И буд-дь здоров, браток, уд-дачи тебе нах-х-ху…
Я попрощался с Бирбаухом и вышел из здания. Вот и переводчик Хуссейн идет к своей машине. Нам было по пути. Оказалось, Хуссейн все утро переводил двум курдам из Ирака, старикам, которые, по их словам, пешим ходом перешли пустыню, перевалили через горы в Турцию, оттуда в трюме корабля приплыли в Италию и оттуда, где на поездах, где пешком, где ползком, пробрались в Германию.
Козел опущения
Дорогой друг, в прошлом письме подробно доложил тебе, как в лагере начал подрабатывать. В первый раз все трудно делать, сам знаешь. Хуссейн, который давно уже работает переводчиком, по дороге рассказал много интересного. Картины захватывающие. Кстати, он сам тоже лет двадцать назад проделал подобный путь, убежав из Ирака.
Сюда, в Германию, сейчас бегут и тутси, и хуту, и желтые, и черные, курды из Ирака и палестинцы из Израиля, алжирские террористы и тамильские повстанцы, обиженные гомосексуалисты и обманутые лесбиянки, девки из борделей и наемные убийцы, карабахские ветераны и абхазские сепаратисты, белорусы от красного террора и украинцы от Кучмы, монархисты от коммунистов и албанцы от сербов, мусульмане от христиан и индуисты от мусульман. Евреи тоже бегут, как же без них, но легально. Объяснить толком, от кого они на этот раз убегают, никто не может, поэтому им, как почетным беглецам, немцы придумали обтекаемое название: «Kontingent-Fluchtlinge», «контингентные беженцы» (наверно, в смысле из контингента вечных беженцев). И если уж все эти племена и народы сюда добежали и в жизнь внедрились, то выкурить их потом очень трудно. Суди сам.
Недавно по ТВ сцены из криминальной жизни Франкфурта-на-Майне показывали: полицаи в бронежилетах и масках поймали семнадцатилетнего барыгу-латиноса, поволокли его в участок и пытаются допрос снимать. А он, не будь дурак, молчит. И не только потому молчит, что у него рот шариками кокаина забит, а потому, что право такое имеет – молчать. И полиция это знает. Но у нее, в свою очередь, нет права залезать пальцами (и другими предметами) в «отверстия тела» и факты к делу приложить, поэтому она латиносу ничего сделать не может. Постоял он у стены, посверкал белками, немцы шестьсот пятьдесят набарыженных марок ему возвращают и отпускают. За месяц у него это восемнадцатый привод, а посадить не могут – факта нет…
А почему, спрашивается, его на родину не отправляют?.. А потому, что он беженец, паспорт отсутствует, а главное, он забыл страну происхождения. Вот забыл, где родился – и всё. «Куда ж его отправлять?» – резонно объясняет полицай. Каково?.. Забыл – и всё тут. То ли в Колумбии на свет появился, то ли в Перу – не помнит, ребенком в Германию ввезли, родители умерли, голова болит, к врачу пора, обед скоро…
С одной стороны, гнилой либерализм, с другой – тупость исполнителей, до абсурда доходящая. Да попадись такой барыжонок с кокаином во рту нашей доблестной милиции, ему бы не только все «отверстия тела» ножкой от стула пооткрывали бы, но еще новых бы наделали, которые природа забыла насверлить. А тут нет – иди, продавай кокс дальше. Все это – пережитки Нюрнбергского процесса: немцы стали осторожны, опасаются, как бы их вновь во всех смертных грехах не обвинили. Радикалы – они и в либерализме своем радикальны.
Другой пример. По ТВ говорили: хотят у всех жителей Германии генные отпечатки пальцев, ДНК, брать и в банк данных собирать. Казалось бы, что может быть разумнее?.. Совершено преступление – и через сутки точно известно, кто преступник: малой пылинки, частички кожи или волоска достаточно, чтобы по ДНК стопроцентно гада выявить. Так нет же – желторотые зеленые политики тут же подняли крик: ущемление прав человека, тоталитарный подход, новый вид всеобщего контроля, нарушение тайны личности. Да если ты хороший человек – чего тебе за свои тайны опасаться?.. Нет, не приняли закона (мол, нельзя права маньяков нарушать, они тоже люди, хоть и психически больные). Но после пересменки власти могут принять. Поэтому, если ты маньяк и серийный убийца, будь осторожен: фрагменты слюны на окурках не оставляй и над расчлененным трупом своими волосами не тряси, а то быстро найдут и посадят.
Полиция тут приятная, спокойная, подтянутая, людей сапогами не лупцует и в уши гвозди не забивает. Но вот ведомство по иностранцам – препротивное место. Называется скромно – Ausländeramt[5]. Этот амт судьбу всех иностранцев решает: кого оставить, а кого удалить. Место унылое, серое, злое. Все эмигранцы и иностранты (вижу опиську, но не исправляю) по буквам поделены, в свои купе заходить должны. А там чиновники сидят, бумагами угрожающе шуршат, льдом обдают. Ходил туда вчера, вызывали визу продлевать, со справками и копиями явиться.
Моего акакия зовут Неrr Kiefer, господин-хер Челюсть[6]. Сволочь особая (хотя и другие не лучше): морда кислая, в прыщах, плешь узкая, влажная, голос мерзко-тихий, оттого угрожающий, руки тонкие, грудь впалая, взгляд мертвый, очки золотистые.
Вначале, как водится, принялся формуляр заполнять: «Фамилия?.. Имя?.. Место и дата рождения?..» – а на мое удивление – разве они всего этого не знают? – невозмутимо объяснил, что все может измениться. Я стал ерепениться, как может измениться, что я в Союзе родился, он ответил, а жена, дети, семейное положение? Это дело наживное. «Вы один тут?» – «Один. Один и тут, и там… Всюду один…»
Уставился хер Челюсть мне в лоб, потом на бумажки скосился, пощелкал вялым пальцем на калькуляторе и говорит: «Это хорошо, что вы один… Но ваши доходы недотягивают до прожиточного минимума. Поэтому я вам визу продлевать не намерен!» «Помилуйте, как так? – начал я ему справки подсовывать. – Вот, я две картины нарисовал, в детском саду стену расписал, скоро деньги ожидаю… новые заказы… тысячи будут…» «Меньше тут тысячами ворочайте, когда и пфеннигов наскрести не можете», – шипит он по-змеиному и на калькуляторе считает…
Я ему – еще бумажки: «Вот, мне третьи лица помогают, по пятьсот марок в месяц платят, а я им за это двор убираю, собаку купаю и машину мою!» (один немец-сосед в обмен на пейзаж написал фальшивку, хоть и ворча, что не пристало немцу врать). Покрутил Челюсть бумажку, повертел, а сделать ничего не может: если один немец свою подпись поставил, то другой верить обязан, демократия так предписывает. «А где, позвольте спросить, эта помощь отражена? – говорит он и на копии банковских счетов тонким пальцем тычет. – Тут никаких регулярных поступлений не отражено». «А он мне на руки дает, наличными!» – отвечаю. «Почему?» – «А чтоб за перевод денег не платить!» Резонно. И с немецким менталитетом сходится. Нечем крыть.
Пошуршал бумагами Челюсть, покосился на часы (время обеденное, а у него наверняка язва с геморроем), поморщился, как от яду, и говорит: «Ладно. Дам вам время привести свои дела в порядок. Но в следующий раз чтоб никаких третьих лиц!.. Если ваши личные официальные – о-фи-ци-аль-ные – доходы будут ниже минимума – все, прощай Германия!»
Вот так. Резонно. И не поспоришь с логикой. И чего спорить?.. Что там дальше – увидим. Не то что на месяцы – на секунды вперед загадывать нельзя. Что будет – будет. Спасибо сказал, паспорт взял и пошел восвояси. Стою в приемной, визой любуюсь. А все желто-черно-коричневые с завистью, как собаки на кость, на мой паспорт смотрят, понимают: раз любуюсь – значит, визу дали, продлили, а вот им дадут ли – большой вопрос.
Да, но все равно, надо будет раздобыть что-нибудь посолиднее, чем справка соседа-немца, который еще и взбрыкнуть может – каждый раз, когда фальшивку пишет, вздыхает и говорит, что немцу не пристало лгать, воровать и жульничать, на это славяне есть. Крепкий худой старик, еще успел в вермахте послужить, а потом адвокатом заделался. Я его Монстрадамус называю за то, что он вечно о будущем какие-то ужасы предсказывает. Недавно, например, заявил после третьего шнапса, что скоро будет кризис, потому что банкиры наворуются до такой степени, что деньги исчезнут. А до этого предсказывал, что если демократия так дальше идти будет, то в Америке, чего доброго, негра выберут президентом, а у нас канцлером станет какой-нибудь садомазохист со стажем или открытый педик, который будет со своей «женой» по миру разъезжать и с арабскими шейхами целоваться…
Недавно опять вызвали переводить. Во второй раз ехать было веселее, хотя опять пришлось в пять утра вставать и в поезде, под тихое предшкольное шуршание сонных учеников, досыпать. Дорога к лагерю была уже известна. Я решил пойти пешком.
Бирбаух встретил меня как знакомого. На столе – початая бутылка пива, на мониторе – сетка каких-то расчетов. Подавая мне лист, он подмигнул мне:
– В жизни две вещи никогда не надоедают: деньги и пиво.
– Если есть деньги – будет и пиво, – ответил я, на что Бирбаух скептически покачал головой:
– А в пустыне?.. – Просовывая под стекло обходной, он с тяжелым вздохом добавил: – Да, из-за денег до зари вставать приходится, такой ходкий товар, сразу разбирают… С деньгами ты – человек, без денег – мусорное ведро… Прошу, ваше время пошло…
В приемной еще темно. В комнате переводчиков коллега Хонг сидит у стола и, держа двумя ручками чашку, пьет кофе. Мы разговорились. Она родом из Северного Вьетнама, двадцать лет живет в Германии и сама (как и араб Хуссейн) когда-то проделала весь беженский путь:
– Раньше получить убежище было куда легче, – щурила она свои щелочки и поглядывала на меня так, как поглядывают маленькие желтолицые женщины на больших белых мужчин. – Немцы были рады всякому беженцу: с интересом встречали, гражданство, квартиру и работу тут же давали, по собраниям водили и цветы дарили. Мой муж был дипломат, служил в Европе, знал шесть языков и был знаком с разными людьми. Ну и остался, когда узнал, что дома против него что-то затевают. Вы же из бывшего Союза?.. Вам-то известно, что во Вьетнаме правили ваши коммунисты, от них пощады не жди, особенно от своих, местных властей.
Она элегантно покачала головой в разные стороны и, обхватив пузатый термос своими детскими ручонками, долила кофе в чашку, а я подумал, что, не скажи она, сколько ей примерно лет, и не будь у нее мешочков под глазами и морщинок на шее, ей можно было бы дать и двадцать. А будь мешочки пошире и морщинки поглубже – и все семьдесят. А еще говорят, расовых различий нет. Как это нет, если мы китайцев в массе друг от друга не отличаем, как кроликов на ферме?.. Как, впрочем, и они – нас.
– А что вы потом делали? – спросил я из вежливости.
– Муж работал переводчиком, как и я. А вы?.. Тоже бывший беженец?..
– Нет, я по работе приехал. Перевожу вот тоже понемногу, – уклончиво ответил я – не объяснять же ей, что я тут на птичьих правах, приехал с выставкой, а уезжать не хочу…
– Я потом университет кончила, работала в судах и на таможне. Всякое повидала, – говорит она, а я с умилением вслушиваюсь в ее странный немецкий язык с вьетнамским акцентом: слова произносятся с мелодичным шелестом, цоканьем, щебетом, звучащими, как флейта, которую пробуют перед концертом. Слова будто украшены бубенцами и трещотками, и сквозь этот авангард причудливо проступает каркас смысла. Тоже своеобразный тиннитус.
Вошла фрау Грюн, основательно потрясла нам руки, дала папки:
– Просмотрите. А потом ведите. Они ждут.
Хонг получила двух абсолютно идентичных бритоголовых вьетконговцев. На моей папке – фото вполне приличного мужчины с бородкой бланже, данные:
фамилия: Лунгарь
имя: Андрей
год рождения: 1960
место рождения: г. Москва, Россия
национальность: русский
язык/и: русский
вероисповедание: православный
Он оказался крепеньким, аккуратно подстриженным мужичком, с бороденкой на обычном северном лице (таким может быть и Вася из Пскова, и Дитмар из-под Ганновера). Армейская душегрейка, застиранные брюки-хаки, тельняшка и джинсовая куртка. В руках мнет нелепую детскую яркую кепочку с надписью «Соса-Сolа». Судя по одежде, опять дезертир. «Из армии?» – хотел спросить я его, но передумал: неприятно, если он примет это за расспросы с умыслом, а меня – за предателя, который стремится у него что-то выпытать. Поэтому я просто пожал ему руку и попросил идти со мной.
В музгостиной, увидев стол для отпечатков, он замер, а потом, качая стриженой головой и моя руки, произнес с горечью и пафосом:
– Двадцать лет честно-благородно служил родной Родине, а теперь вот как с преступником… Но жизни путь не повернуть. Каждый должен быть или поощрен, или наказан… Это для чего же отпечатки ручных данных?..
– Их сейчас в картотеку отправят.
– Сверять будут? – прищурился он.
– Не знаю, я тут во второй раз, – оградился я на всякий случай от расспросов, помня предупреждения фрау Грюн о том, чтоб с беженцами в посторонние разговоры не вступать и на их вопросы отвечать покороче и без конкретики, не то могут потом к адвокату побежать, сказать: это вы, переводчик, виноваты, что им отказ пришел, потому что вы неправильные советы им давали или, того хуже, подбивали на что-нибудь или вообще деньги требовали: «Сколько было случаев! Им же еще и бесплатные адвокаты полагаются, которые потом годами дела тянут, чтоб побольше денег у государства выдоить».
Пока фрау Грюн и молодая практикантка, блондинка с увесистой грудью и оленьими глазами, налаживали фотоаппарат, мазали чернилами полосу и натягивали перчатки, я уточнял данные и вписывал их в новый формуляр. Лунгарь вежливо заметил, что на самом деле он родился не в самой Москве, а в Подмосковье, но теперь это уже часть столицы и поэтому он решил писать «Москва». Речь чистая, выговор московский, проглатывающий гласные, выпевающий согласные. Говорит охотно и витиевато-цветисто:
– Немцы культурны до безобразия. Я поражаюсь абсолютной чистоте и дикому порядку до невменяемости. Когда это только у нас тоже будет?.. Как барабан ни труби – толку все равно никакого… Живем, как свиньи в берлоге. Одна пря бесконечная, шняга вечная. А тут!.. Никто не плюет слюну на улицу, не сморкаются в кулак, пьяных нет. Женщины не задеваются молодчиками, все улыбаются с приветом. Никто ничего стыбзить не норовит. Машины аккуратные, непотребной грязью пешеходов не замарывают.
– И как это вы все в Германии успели заметить? – спросил я (судя по дате прибытия, он тут всего пять дней).
– Да это невооруженным зрением видно. Не обязательно сто лет жить. Вышел на улицу – и смотри, куда глазом достать можешь.
На вопрос о вероисповедании он усмехнулся:
– Бывший коммунист. С двадцати лет в армии корячусь. Пишите, что хотите. Да, православный, понятно, не бусурманин же!.. Нельзя дважды креститься, нельзя дважды хорониться… – Он мял в руках свою кепочку, передвигал под столом ноги и исподтишка посматривал на округлый зад практикантки, маячивший перед нашим столом.
– Хороша девочка? – спросил я.
– Хороша, – согласился он и почесал бороденку. – Полгода с женщинами ничего не затевалось. Дома жена сохнет… Вообще она у меня слаба на передок, за столько дней-часов наверняка кто-то у нее завелся. А я тут, как петел бройлерный… Да чего делать?.. В запутуху вляпался – теперь расхлебывай, рой траншею от забора до обеда…
Фрау Грюн подвела его к столу и начала поочередно прикладывать пальцы вначале к чернильной полосе, а потом к бумаге, а он так горестно и печально приговаривал: «Ай, стыдно, ой, нехорошо! Неладно, срамно!..» – что фрау Грюн спросила, не плохо ли ему.
Узнав, что ему не плохо, а стыдно, она засмеялась:
– Он же дезертир?.. Это ничего, не страшно.
– Не только дезертир, но и преступник, по всем Россиям разыскиваемый, – охотно пояснил Лунгарь, когда я, желая его успокоить, перевел слова фрау Грюн. – Вот такие вот плакатищи на улицах понаразвешали – опасный, мол, особо преступник! Это я-то, божья коровка, опасный?.. Да я чистый козел опущения!
– А что вы такого сделали? – спросил я, решив, что раз он сам все это говорит, значит, хочет, чтобы его об этом спрашивали.
Он махнул рукой:
– Такая бодяга неуклюжая получилась!.. Без вины виноват – и все тут. Конечно, хлеб рубят – крошки летят, но как-то уж очень неприятно немой крохой быть…
В музгостиной возник немец средних лет, с брюшком и в свитере. Он спросил у фрау Грюн, тут ли его беженец (он назвал его «Kunde» – «клиент»).
– Да, вот он. Кстати, познакомьтесь с господином Тилле, вы сегодня работаете с ним, – сказала мне фрау Грюн.
Мы дружелюбно пожали друг другу руки и втроем направились по коридору. Лунгарь не знал, где ему идти: впереди или позади нас. Он то закладывал руки за спину, то совал их в карманы, бормоча:
– Вроде и не под арестом, а что к чему – неясно… В непонятках тону… Не знаю, где край, а где конец! Прижукнула жизнь, дальше некуда…
А Тилле шел, насвистывая, и громко всех приветствовал: с одним поговорил об отпуске, с другим – о каком-то карточном долге, пошутил с секретаршей, перекинулся словами с коллегой в открытую дверь (двери стояли открытыми, как и во многих других ведомствах). Мы в это время тупо торчали рядом.
– Немцы-ы! – то ли с уважением, то ли со скрытой насмешкой тянул Лунгарь, вытягивая губы трубочкой, поднимая брови и приговаривая нараспев: – Не-емцы-ы!.. Фри-и-цы!.. Вот где я оказался, прапорщик российский!.. У фрицев временного приюта жизни прошу!.. А что делать-то – ни за хрен собачий, как пьяный ежик, пропадать?.. Лучше уж германцу сдаться… Эх, кому – Канары, а кому – на нары…
Кабинет у Тилле оказался намного больше, а стол намного шире, чем у Шнайдера, весь завален папками и делами. На стене – две разные карты мира и два календаря. Под ними – еще один квадратный столик. Телефон звонил беспрерывно, кто-то входил и о чем-то спрашивал, кто-то что-то приносил и уносил. До меня дошло, что Тилле – начальник повыше тихого Шнайдера.
– Так, вы новый у нас?.. Ах, уже работали?.. Со Шнайдером?.. Он еще не на пенсии?.. – пошутил Тилле, перекладывая на столе бумаги и весело поглядывая исподтишка на Лунгаря (тот ясными глазами смотрел вперед, жевал бороденкой и мял кепочку). – Так. Кого мы имеем?.. Дезертир из Чечни?
Лунгарь два последних слова понял без перевода:
– Я, я, дезертирус аус Чечня. Из-под стражи убежал. С риском для жизни-здоровья и со множеством травм души и тела еле-еле от скотобоев ушел!
Тилле настроил диктофон, вставил кассету и начал задавать дежурные вопросы. Лунгарь отвечал без запинки, четко называя цифры и даты (по дороге я предупредил его, чтобы он был осторожен с датами. «Ясно, не-емцы», – ответил он тем же многозначительным, полууважительным-полунасмешливым шепотом). Документов у него не было. Мы быстро добрались до родителей и родных. Все были живы-здоровы. Тилле едва заметно поморщился:
– Придется всех родственников с адресами и датами в протокол заносить. – Передал мне чистый бланк, сам набрал чей-то номер и, пока мы с Лунгарем заполняли бланк, со смехом выяснял подробности какой-то вечеринки.
– Веселится. А я полгода в побеге маюсь, одни камуфлеты ем, – грустно-злобно прошептал Лунгарь. – Жаль, немецкого не знаю. Как тут, курсы дают, нет?
– Трудно сказать.
– А ты сам что-нибудь решаешь? – тревожно взглянул он мне в глаза.
– Что я могу решать? – пожал я плечами. – Переводчик – не человек, а машина, средство общения. Я только перевожу.
Перешли к биографии. Лунгарь подробно рассказал, какую школу, где и когда окончил. Потом три года учился в машиностроительном техникуме, после чего пошел в армию, стал бессрочником.
– Какие причины побудили вас стать профессиональным военным? Расскажите подробнее, – попросил Тилле и выключил диктофон, а я отметил про себя, что перед каждым важным вопросом и он, и Шнайдер выключали устройство – очевидно, чтобы лучше вникнуть в суть ответа и потом сформулировать его, как надо.
Лунгарь как-то замялся, кепочка завертелась в руках быстрее, бороденка заерзала.
– Может, он и не поверит, но из-за квартиры вся бахрома моей жизни спуталась. В армии квартиры давали, а нас в трех малых комнатах десятеро взрослых жило. У меня как раз основательная любовь с девушкой в ходу была, а встречаться негде – материальной базы нет. Она подняла струшню: «Что ты за мужик, места потрахаться найти не можешь!» А мне после техникума все равно на два года солдатом идти. Я и решил – чем еще два года по казармам вшей питать, лучше уж человекообразную квартиру получу и спать с бабой ложиться буду, а не с отбоем. Так и вышло все безобразие. Сейчас бы ни за какие баксовые кущи в военные не пошел бы. А тогда молод был, глуп, как пробка от портвейна.
Тилле внимательно выслушал его, сказал:
– Из-за квартиры?.. Это вполне может быть… Эту русскую проблему мы знаем… Каждый второй живет не там, где прописан, а прописан не там, где живет… Кстати, прапорщик – это вроде унтер-офицера?.. – уточнил он, включил микрофон и сжал ответ Лунгаря в одну емкую фразу. Потом задал следующий вопрос: – Кем, когда и где служили? В чем состояли ваши непосредственные задачи? Сколько получали жалованья? Имеются ли сбережения?
Лунгарь резво откликнулся:
– Двадцать лет в лямке, с 1980-го по 2000-й. Богом в наказание был определен прапорщиком в войска МВД. Отлично жил, все было, что человеку умеренному надо, зарплату платили. А как пошла эта поебень, извините, дерьмократия наша гондонная, так все и лопнуло, как майский шар в синем небе. А насчет сбережений… Копить деньги на черный день как-то начал, но отсутствие дней белых помешало… Чего сберегать? К нулю плюсовать нуль?..
На просьбу сказать, чем вообще занимаются войска МВД, он пояснил, что войска доблестного МВД в основном охраняют лагеря, зоны и тюрьмы, которых по России пропасть:
– Ну и кремлину возле мавзолейки, само собой.
– Какую кремлину? – не понял я.
– Кремль наш любимый, с алой звездой во лбу. И мавзолей, где великий цуцик отдыхает. Наломал, падла, дров – и в ящик, а ты тут вертись, как карась на сковородке… Но лично я всегда был в хозчасти. По снабжению.
Тилле усмехнулся:
– На снабженца не похож. Они все толстые.
– Да и я был не худ – в дороге отощал. Полгода в бегах, не шутка. Как личность получил излишне много травм души и тела.
Дальше выяснилось, что последние семь лет он служил в Ставрополе, откуда иногда приходилось сопровождать колонны с грузами в Чечню:
– Головной-то мозг всей заварухи – в Ростове. Там и штаб, и трибунал, и бухгалтерия, и морг с крематорием, нате-пожалуйста. А у нас в Ставрополе только хавка-обувка, сгущенка-тушенка и подобная дребедень. Но я лично с оружием дела не имел, все больше по пище. Эх, знать бы наперед, где споткнешься… Перевелся бы куда-нибудь. Вот в Заполярье звали. Думал, холодно будет там слишком, да на юге так припекло, что все бросить и бежать без оглядки, как альбиносному волку, пришлось. Жизнь перелобанила.
Потом он обстоятельно рассказал о том злосчастном дне, когда его послали сопровождать две цистерны с горючим в Грозный. Лунгарь сидел в кабине первого бензовоза, во второй машине был только шофер-солдат Мозолюк. Ехали под прикрытием БТР, в котором были три солдата и лейтенант Николай, родственник Лунгаря по жене. БТР шел впереди. Ночью, где-то в Чечне, на дороге вдруг появились бандиты, человек пятнадцать, в черных намордниках и маскхалатах. Они протянули «ежа» через шоссе. БТР шел впереди и «ежа» даже не заметил, переехал, а бензовозам пришлось остановиться.
– Кто были эти бандиты? Чеченцы? – невзначай поинтересовался Тилле.
– Кто их знает?.. Сейчас же все на чеченов валят. Где что не так – всё горцы злые. Темно было, ночь. Приказывал один бардадым с гранатометом, другие молчали, только автоматы стволистые на бензовозы понаставили. Стрельнут – и пиши пропало!..
Главарь с гранатометом приказал оружие бросать и выходить. Лунгарь по рации передал в БТР, чтоб оружие не применяли, а то бандюги под прицелом бензовозы держат, за пару сотен литров гореть неохота. Туда-сюда, уговорил он Николая сдать оружие и выйти из БТР. Бандюги никого не тронули, только БТР подожгли, сели в бензовозы и укатили. А они побрели пешей гурьбой в Грозный, где явились в комендатуру и всё рассказали:
– Что тут началось!.. Шум, визг, вой собачий!.. Всякие оскорбления личности и тела!.. «Суки-бляди-твари-сволочи, с врагом сотрудничаете, бензин загнали, деньги взяли, оружие продали, достоинство замарали, совесть блядством запятнали, доблесть заговняли, честь в грязи изваляли!..» Избили, как водится, до полусмерти, всё больше телефонным справочником по человеческой голове, мозги всмятку пошли… Звери в формах! Как же я не козел опущения?
Тут я прервал его, решив уточнить:
– Андрей, вы уже второй раз говорите «козел опущения». Что вы имеете в виду? Одно – это библейский козел отпущения, которого камнями забивали в пустыне за свои грехи, ну, а другое – это тот, которого… это самое… ну, вы понимаете… опустили…
Лунгарь замер:
– Понимаю. Нет, такого не было. Да кому я нужен, об меня мараться?.. А что, это не камни, когда по башке книгой бьют и стаканы об морду разбивают?.. А морально – да, конечно, еще как отчпокали!.. Паспорта и военбилеты отобрали и под конвоем в Ставрополь отправили, а там уже лютые звери из ФСБ поджидали, даже какой-то генерал самочинно явился. Толстый и жирный, как тюлень, и такой же моржовый… А чего ему не толстеть? На кормлении сидит, на питание получает, остальное со складов ворует… Генерал в России – это же не звание, а счастье пожизненное, – Лунгарь начал впадать в философию (глаза загорелись, волосы взъерошились сами собой), но я попросил его не отвлекаться. – Пришел генерал, посмотрел на нас со злым укором, рюмки три коньяка выпил, в лицо нам, изменникам, плюнул и ушел, а его шестерки поганые опять измолотили до упаду пульса и в наручниках в карцер на ночь куковать бросили. А человек в наручниках – уже не человек, а колода безгласная, насекомая. Мне пять лет вытанцовывалось, а Николаю как офицеру – и все восемь. Солдатиков три дня на губе продержали и выпустили, только Мозолюку 15 суток добавили за разговоры. А на нас с Николаем дело открыли и в трибунал передали.
– Позвольте, но это же нелогично – если бы вы действительно сотрудничали с чеченцами, то зачем вам было самим являться в комендатуру? – остановил его Тилле. – Подумайте, какой смысл? Ведь нелогично? Неужели ваше командование этого не понимало?..
Лунгарь замер, переспросил у меня:
– Он чего, по серьезке спрашивает?.. Понимать-то оно все понимало, чтоб ему пусто было, ни дна, ни покрышки, но виновных же найти надо, кто-то за все отвечать должен?.. Вот мы и оказались виновными! Как там про стрелочника?.. Гайку отвинтил – и все, под суд! Такой гайкозаворот! А что делать было?.. Перестрелку начинать?.. Героев играть?.. Рембов?.. Да ведь никто спасибо не скажет. Николай с тремя салагами, я, божья коровка, и солдаты-шоферишки, которые и оружия-то толком не нюхали!.. Так взорвали бы бензовозы – и все. Бандюганам что – вошли в лес и пропали, а тут гори за милую душу, как Зоя Космодемьянская!.. На хер нужно – скажем дружно!.. Каждая тварь и каждая травинка имеет право на живую жизнь, а хомо человекус – и подавно! – добавил он патетически.
Тилле пожал плечами:
– Конечно. Дальше.
В Ставрополе сидели в военном КПЗ. На третий день дело так поворачиваться стало, что ему, Лунгарю, тоже восьмерик грозит: следствие показало, что это именно он вынудил Николая сдать оружие и без боя лапки поднять. И тогда решил Лунгарь бежать за границу, ибо в России обязательно найдут. Подговорил Николая драку затеять, когда в туалет поведут. А когда вышли и драку затеяли, то и сбежал через стену, пока Николай от солдат отбивался.
– Из военной тюрьмы можно так легко убежать? – усомнился Тилле.
– А это не настоящая тюрьма, это камеры при комендатуре, прямо в городе.
– Опишите подробнее, как это произошло.
Лунгарь нарисовал схему двора, стену, закоулки и вахту:
– Тут вахта, там стена невысокая, если солдаты не мешают, то можно на крышу туалета залезть, а оттуда на стену. На стене проволока есть, но ток в ней отключен, ради экономии, о чем мне еще раньше известно стало от бухого ночного конвоя. Вот и вышел такой шайбонаворот, убег.
– Хорошо. Но почему этот Николай тоже не сбежал? Почему вам помог, а сам остался? – пытался понять Тилле.
Лунгарь на секунду замер, почесал в бороденке:
– А он не хотел из России уходить, патриот хренов! Родные берега его держат, к березкам мертвой петлей привязан. Знаете, болезнь такая есть – патриотит? Вот он ею болен. Это наша, чисто русская болезнь. Мысли у нас в голове копучие, ползучие, вязкие, ощупывают всё вокруг: это не наше, это прочь, а это наше, давай сюда его! Вот и он такой экземпляр. И штрафбата не боялся, побывал там уже когда-то. Ему, кстати, пять лет лично дали и еще год за мой побег присовокупили. Всего, значит, шесть. Можете проверить: Николай Кравцов, осужден в ноябре прошлого года, сидит где-то в Коми.
Тилле что-то отметил у себя на листе:
– А вы откуда знаете, что он осужден и где он сидит?
– Жене позвонил из Турции, она сказала.
Так начались странствия Лунгаря. У жены родственники были в Армавире, дали денег немного. И он, где попутками, где пешком, добрался до Сочи, а оттуда на частнике поехал в Ереван.
– И что, за все это время никто документов не проверял? – поинтересовался Тилле, поглядывая в атлас. Лунгарь энергично махнул рукой:
– Да дал десять долларов – и езжай себе.
Тилле еще раз сверил маршрут по атласу. В Ереване Лунгарь нанял такси, которое завезло его куда-то в горы, к границе с Турцией, которую он ночью и перешел. Добрался до Стамбула, четыре месяца жил с русскими бомжами, работал на черных работах: разгрузке и уборке.
– Как он без документов столько времени был в Турции?
– Да что я, один там такой?.. Два раза турки поганые ловили. Один раз просто отпустили, а другой раз избили дрючками и пригрозили, если не уеду, прибить вообще до исчезновения жизни. Басурмане, что с них взять. Хорошо, что кожуру живьем не содрали и в кипяточке не сварили!.. Они, кстати, и посоветовали сдаваться в Германию… Мол, иди, там таких принимают…
Этот пассаж Тилле выслушал особенно внимательно, покачав при этом головой:
– Мы, как всегда, самые глупые…
Помогая в овощной лавке и убирая урны, Лунгарь кое-как собрал немного денег. Знакомый турок свел с человеком, который за четыреста долларов устроил Лунгаря на сухогруз, который шел в Италию. На корабле он тоже работал, мыл палубы, а в Триесте, во время разгрузки, сумел в кузове грузовика спрятаться и за пределы порта выехать. Сел в поезд. И его тут же поймали: билета не было, проводник поднял шум. На следующей станции полицейские арестовали его, продержали сутки в участке, пытались узнать, кто он, а потом, услышав, что он хочет в Германии просить убежище, выписали ему двухнедельный паспорт и приказали побыстрей убираться из Италии, а не то худо будет.
Этот рассказ тоже очень заинтересовал Тилле.
– А где этот паспорт?
Лунгарь сделал большие глаза:
– Паспорт этот временный? А выкинул к чертям собачьим. Италию эту хренову, почти пятьсот километров, пешком ногами насквозь прошел. Вот дрянь страна!.. Грязь, бардак, чистоты и порядка нет ни грамма, плоды культуры в грязи валяются, народишко взъерошен. Еле ушел, во Франции оказался.
Во Франции Лунгарь пару раз заходил в полицию, хотел, чтоб и там ему временный паспорт выдали, потому что «к дисциплине привык», но французы-кусочники только посмеялись и прогнали его прочь, а во второй раз, узнав, что паспорт ему нужен, чтобы в Германию уехать, сами купили ему билет на поезд и под надзором отправили в Неметчину – пусть боши разбираются.
Тилле опять поднял брови и обратился ко мне:
– Слышали?.. Это называются партнеры по ЕС! Союзнички! Что Италия, что Франция!.. Он десять стран прошел, и никто на себя ничего брать не захотел!.. Конечно, зачем? Пусть немцы отдуваются! Вот как дело обстоит!.. Спросите его, почему он вообще с таким упорством сюда шел?.. Почему в Италии, Франции или Турции не остался? – уже раздраженно спросил он.
Лунгарь шлепнул шапку на стол и почесал бороденку:
– Турция – мусульманская страна, в ней жить невозможно без потери сознания. Противно их вой пять раз на дню слушать и на их толстые рыла смотреть. В Италии и Франции жизни нет совсем: шум, гам, гавканье, вонь, копоть и мотоциклы. Полиция противная, нищие донимают, черноты курчавой больше, чем в зоопарке… Вообще, господин начальник, я думаю, что лучше всего было бы, если бы с несчастного лица нашей бедной земли исчезли все негры и мусульмане! Если бог очистит нас от черномазых и бородатых, то жить станет лучше и веселее, уверяю вас!
Тилле усмехнулся:
– Слышали эти сказки. Курдов и цыган забыл.
Я перевел.
Лунгарь перевел дыхание, подобострастно уставился на Тилле:
– Да, конечно, их тоже, одни проблемы, это мусор. Все убийцы, преступники! И зачем бог в мир столько швали напустил? Что, делать ему было нечего? А Германия и Англия – это семена цивилизации, цветник жизни, сад радости, мечта певца. Поэтому прошу, чтобы меня оставили в этом земном раю, хотя бы временно!
– В его положении быть таким разборчивым не пристало, – выключив микрофон, проворчал Тилле под нос. – Франция ему не нравится, в Италию он не хочет!.. Спросите, что ему вообще, по его мнению, грозит в случае возвращения на родину? И что значит – просит временно оставить?
Лунгарь по-ленински сжал в кулаке кепчонку и, потрясая ею, заговорил о том, что ему грозит трибунал и большой срок: восемь и три за побег, вот и все одиннадцать; тут раньше Гитлер был, крутил-вертел, как хотел, немцев на другие народы понатравил, костры зажег и фашизм произвел, но после войны немцы осознали ошибки, когда и у нас придет новый Сталин, порядок наведет и этот ублюдочный капитализм прихлопнет, тогда и он, Лунгарь, с удовольствием поедет назад, к жене и детям, семейный мед ложками кушать:
– Потому искренне прошу временно при жизни оставить, а там видно будет.
– Сталина долго ждать придется, – усмехнулся Тилле и включил микрофон: – Имеет он еще что-нибудь добавить? Есть еще какие-нибудь причины, по которым он просит политическое убежище?
Лунгарь повторил просьбу, напирая на слово «временно» и на то, что в будущем он посчитает за особую честь выплатить все долги («без договору нет разговору») и служить дальше неописуемо преданно великой Германии:
– Даю вам слово на отсечение, что долги оправдаю и доверие верну!
А Тилле уже перематывал кассету, готовя ее для распечатки. Потом подписал стандартный временный паспорт беженца и, передавая его через стол, с усмешкой сказал:
– Итальянцы на две недели дали, а мы, конечно, сразу на три месяца. Спросите его, кстати, собирается ли он еще куда-нибудь бежать?
Лунгарь сделал испуганные глаза:
– Да ни боже ж мой – куда мне бежать? Я уже прибежал. Дальше для нас земли нету, как говорится. Никуда я бежать не хочу и только прошу и даже умоляю, чтобы мне спасли жизнь и не посылали в пекло на верную гибель. Ведь человек живет только один раз и не больше того?.. Что ни день – то короче к могиле наш путь. Защитите беззащитное существо, а то в России я полностью открыт, как на ветру стою, защиты нет!
Помечая время в моем обходном листе, Тилле откликнулся:
– Ну-ну, не так мрачно. У нас в Германии тоже есть поговорка: жизнь – как куриный насест, коротка и закакана. Все не так просто, как кажется, – уже суше добавил он.
А Лунгаря несло дальше:
– Я слышал, что «азюль» по-немецки значит «убежище». И я, будущий азюляндец, житель страны Азюляндии, обязуюсь не только кушать от ее кисельных берегов, но и рьяно чтить конституцию, исполнять все приказы точно в срок, беречь имущество и лесонаселение… охранять рекорыбные просторы… звериные тропы… небоптичий грай…
– Зря стараешься. Он уже выключил микрофон, – остановил я его, ленясь переводить этот бред.
Когда мы шли вниз на окончательные подписи-печати, он тихо спросил:
– Как думаете, оставят?
– Трудно сказать. От разного зависит. Не имею понятия.
– То-то и оно… Эх, ну бывай! Как говорится, пусть всегда будет пиво, водка и селедка! И зубной порошок, чтобы чистить горшок!
Я смотрел ему в юркую спину и думал, что все услышанное от него может быть чистой правдой, а может – и полной ложью, и никакой он не прапорщик Лунгарь, а какой-нибудь Фомка Хромой, или беглый растратчик, или просто хитрый человек, которому все осточертело, он по путевке приехал в Германию, спрятал паспорт и теперь пытается внедриться в райский сад с черного входа. Все могло быть. И всего могло не быть. И стало ясно, почему следователи во всех людях видят лгунов, врачи – больных, а психиатры – сумасшедших.
Потап с этапа
Долго не писал – по врачам таскался. К Ухогорлоносу ходил из-за звона в голове, тут все по-прежнему неясно. Да и как можно лечить то, чего не видно, рукой не пощупать, скальпелем не разрезать?.. И что лечить: уши, мозг, сердце или душу – тоже непонятно. Ухогорлонос, похожий со своим зеркальцем на безумного марсианина, дал порошки и сообщил, что причиной шума может быть стресс, а это значит, что я – чувствительная натура, ибо у толстокожих этого шума не бывает. Это, конечно, приятно слышать, да делу мало помогает. Чтобы окончательно меня успокоить, он сообщил, что после сорока лет многие этим недугом страдают. Утешил, не чего сказать, спасибо на добром слове… Я ему ответил в таком роде, что лучше уж быть глухонемым, чем с вечно-звенящим котелком на плечах, на это он с врачебным садизмом уточнил, что, если на то пошло, тогда лучше быть вообще полностью слепоглухонемым, совсем спокойно жить будет.
Потом поволокся к Поясничнику – что-то в спине защемило, когда ящики с водкой перетаскивали (к выставке одного художника готовились). С тех пор согнут, как Вольтер за богохульства. Ишиас, люмбаго, поцелуй тещи, выстрел ведьмы, язычок дьявола, а может, и похуже что-нибудь, вроде смещения позвонков или выхода костного мозга из ямок. В общем, вскрытие покажет. Только правильно люди говорят: после сорока все болезни – хронические, так что и гавкать нечего. Рука ноет – скажи спасибо, что не живот. Живот болит – хорошо, что не рак. Рак обнаружили – отлично, что уши поездом не отрезало. Вот на таком шатком балансе и висим, как в том анекдоте: «Поздравляю, мы вошли в минеральный возраст: в костях – соли, в почках – камни, в легких – известь, в пузыре – песок, во рту – металл, а в заднице – огнедышащий клин геморроя».
Поясничник таблетки от боли дал, с кодеином. Думаю, зачем лекарству пропадать? Таблетки растворил в воде и через кофейный фильтр пропустил. Кристаллики кодеина остались на фильтре, их и принял (водкой запив для лучшего растворения). Могу теперь перед телевизором сидеть, «В мире животных» смотреть и с тобой мыслями делиться. А что жалуюсь на шумы, соли и боли – так это каждому мыслящему человеку приятно слышать, что у ближнего тоже что-то болит. И не от злобы, заметь, а из чувства справедливости. Даже Фома Аквинский – на что уж хороший человек – и тот рад бывал, когда к нему прихожане приползали. На прощание Поясничник посоветовал: «Надо думать позитивно. Говорите себе, что все хорошо, – и все будет хорошо, ибо что хорошо и что плохо – никому не известно». Поэтому не буду больше о болячках, надоело. Думать позитивно!
Итак, все отлично. Сидя возле телевизора, много чего нового узнал. Вот в последнем письме ты спрашивал, как светская жизнь протекает, какие новости культурный мир волнуют. Ты, наверно, думаешь, раз Европа – то целый день о балетах и операх по всем каналам передают. Как бы не так. Балеты, конечно, есть, но, как говорится, из другой оперы. Скорее, балаган или театр теней. Одним словом, цирк.
В Америке, например, выборы президента идут, все гадают: Гор Буша победит, или Буш – Гора?.. Американцы – народ молодой, дикий, спонтанный, генетически грубый. Законы двести лет назад писаны, устарели, приходится поправками своего добиваться: что надо, то и поправим. Тем более что у Буша папа президентом был, племянник в соседнем штате губернатором, тетка – верховный судья, а деверь сенатором корячится. Немудрено, что во время выборов все компьютеры вдруг испортились. Что делать дальше?..
Издала тетка поправку Х к параграфу Y. Начали считать вручную – а что делать, если компьютеры перегрелись?.. Считают-считают, сверяют-сверяют, а все уже знают, что Буш выиграл. Гор по собраниям как оплеванный ездит, чувствует, что его скоро крепко кинут. А Буш на ранчо лошадей гладит и рожи корчит: «Все должно быть строго по закону!» Конечно, когда законом тетка управляет, все должно быть по закону – недаром какой-то умный человек сказал: «Друзьям – всё, остальным – закон!»
Я, честно признаться, думал, что вся эта «Бушгора» до полного Ионеску дойдет, типа того, что останется один голос, который должен все решить, и будет этот голос принадлежать слепому индейчонку, и тот, плача, объяснит прессе, что он отдает свой голосок за Буша потому, что Буш бедных и слепых любит, налоги снизит и рабочие места создаст. Но режиссеры решили, что слишком по-голливудски тоже не стоит, и остановились на преимуществе в триста голосов: Буш победил, радуйтесь! Все по закону. Горбуша или Бушгора?.. Бушгора. А Горбуша – это рыба такая полезная, фосфора в ней много, в полной тьме все ясно видно… Теперь в Америке поголовная демократия торжествует. И мир доволен. А то всем миром обсуждали, беспокоились. Фрау Грюн говорила, что даже косовские албанцы из-за этого в лагере поссорились, хотя им бы, казалось, что с того, Бушгора или Горбуша?.. Знай маши себе ножом и насилуй – так нет же, тоже политикой в свободное от разбоев время интересуются, а это уже настоящий прогресс, согласись.
А пресса тут злая, богатая, дотошная, ядовитая. За последние годы какого только мусора из изб не повыносили!.. Конечно, главным развлечением блядовитая принцесса Диана была. Шоу мирового масштаба: где сейчас Диана, с кем ее видели, на какой яхте и в какой позе она со своим арабом трахалась, да какой вообще величины у ее сыновей уши: в папу-принца или в конюха-любовника?.. Да кто ее машину испортил?.. Да как вся катастрофа произошла?.. И кто сколько кокаина в день аварии занюхал?.. Принцесса сердец. Царица яиц. Фея простаты. Свеча, залитая спермой.
Потом на бедного президента Клинтона переметнулись: веселый президент, уставая от трудов тяжких, ловил в коридорах власти пухленькую практикантку Монику, тискал ее и сигару в разные места вставлял, а потом облизывал и мастурбировал, но до оргазма почему-то не доходил (так, во всяком случае, он позднее Конституционному суду на допросе докладывал). А практикантка, не будь дурой, все это подругам в подробностях рассказывала, а те – по секрету всему свету.
Создали независимую комиссию. Та собрала два пуда доказательств и давай Клинтона травить: дача ложных показаний, склонение подчиненных к сексу, лжи и подлогу. Один советник по безопасности даже измену родине предлагал дать. Он был больше всего возмущен тем, что Клинтон занимался всей этой дрянью в кабинете, где еще витает тень Авраама Линкольна – это, мол, предел цинизма (вроде как взятки брать под портретом Дзержинского). И как только у президента рука поднялась мастурбировать в таком святом месте? Адвокаты возражают: «Кончал Клинтон или не кончал – вот в чем вопрос! Если мастурбировал, но не кончал – то и говорить не о чем!»
Верховный суд по-быстрому поправку Х в параграф Y внес, а в ней сказано, что оральный секс за настоящий секс считать не следует (минетное лобби постаралось, помогло президенту). Этой поправкой Суд совсем граждан запутал. Это что же получается: человек приходит домой, а его жена с соседом оральным сексом занимаются; человек – за пистолет, а жена ему – постановление: вот, черным по белому, все по закону. Резонно. И с законом не поспоришь. Так что иди, человек, пей чай, личность не ущемляй, спортом занимайся и кури меньше – вредно. Вот сигару облизать можешь, если уж совсем приспичит…
Некоторые злыдни из Сената еще прицепились, что Клинтон, мол, не только оральным спортом в святом месте занимался, но и на саксофоне по ночам в Белом доме джаз играл. Это тени Авраама Линкольна тоже вряд ли могло понравиться. Вот если бы Клинтон на банджо тренькал – еще куда ни шло, национальный инструмент все-таки. Поговаривают даже, что Клинтон в юношестве марихуаной грешил. Джаз, саксофон, онанизм, марихуана, одно к одному, звенья одной цепи… Адвокаты опять защищают: «Курил – но не затягивался!..»
А я лично думаю, что как раз это проклятая тень Линкольна и не давала Клинтону кончать по-человечески – наверняка по углам шныряла, в занавесях шастала, Конституцией шелестела. Может, президенту как раз и стыдно было под ее шуршание и под портретами отцов-основателей онанировать?.. В таком случае Клинтону надо не каяться, а в суд подавать: ваши шумные наглые тени и злые портреты мою простату до изнеможения довели, так что требую компенсации в сто миллионов долларов! Пусть адвокаты еще напомнят, что Клинтон – большой друг негров, педиков и окружающей среды – недавно, например, приказал электрический стул к биочистой энергии подключить, хорошее дело, нужное, казнимому куда легче умирать с сознанием, что убивший его ток целое дерево в Бразилии спас…
А вообще чего на Клинтона бочки катить – сам каков?.. Шагая по темной аллее в лагерь, поймал себя на мысли, что с интересом, но хладнокровно, почти безразлично ожидаю, с кем придется сейчас работать, и никаких особых эмоций не испытываю, как в первые разы. Воистину, даже капля власти портит человека, не то что бадья, ведро или цистерна! Чем больше власть – тем дальше от людей.
Не успел Бирбауха поприветствовать, как он мне с одобрительными ухмылками спешит время отметить:
– Всё, затикало. Теперь можно не торопиться, счетчик пишет, а деньжата уже где-то шевелятся, в ваш карман просятся… Вообще денег лучше иметь много, чем мало. А лучше налички на свете вообще ничего нет!
В комнате переводчиков еще темно. Зажег свет, сел, стал ждать.
Минут через двадцать появился невысокий юркий очкарик с нервным лицом и важно сообщил, что он тоже – Einzelentscheider, господин Марк, но фрау Грюн сегодня больна, и поэтому он вынужден заменять ее и заниматься «черным трудом», а работать мне сегодня со Шнайдером.
В тонкой папке – две бумажки: справка из полиции Дюссельдорфа и анкета с данными; на фото – угрюмое квадратное лицо, бритый череп.
фамилия: Орлов
имя: Потап
год рождения: 1981
место рождения: с. Семибалки, Россия
национальность: русский
язык/и: русский
вероисповедание: православный
Я повертел в руках чистый бланк, куда надо было переносить эти данные.
– И зачем вообще все это переспрашивать? – спросил я у Марка (вспомнив хера Челюсть). – В сопроводиловке же написано, кто он. Зачем еще раз одно и то же переписывать?..
Марк сверкнул очками:
– Это наспех записано в полиции, с его слов. А вот что он сейчас скажет и что вы запишете – это уже в дело пойдет, окончательный вариант. Надо очень внимательно слушать.
Потап Орлов – косая сажень, массивен, угрюм, прыщав, деревенский парень с грубым черепом, сонными глазами и большими кистями. Неуклюж и медлительно-тяжел в движениях, будто каждый раз пуды ворочает. Одет в темную робу. Угрюмо смотрит в одну точку, руки держит за спиной, как на прогулке в тюрьме.
Мы сели за стол.
– Имя у тебя редкое, – сказал я ему. Он потупился:
– От дедуни.
Все данные были правильны, только пункт «вероисповедание» вызвал у него протест:
– Не православный я. Сектанты мы.
– Какая секта?
– По комнатам сидим – книги читаем, молимся. – Он говорил нехотя, односложно, иногда вдруг переходя на неразборчивую скороговорку.
– Адвентисты? Субботники? Духоборы? Молокане?
– Убивать – грех. Воровать – грех. Молиться и работать. – Он переложил по столу руки в заусенцах, мозолях, пятнах, с грязными ногтями: – Оружие держать – грех. Бог не велит. Нельзя.
Марк, узнав, в чем дело, ехидно ухмыльнулся:
– Ах, вот в чем дело! Мне уже все ясно. Будет на пацифизм давить. Сколько этих свидетелей Иеговы у меня побывало! Пишите «православный сектант».
Я сказал об этом Потапу. Он безразлично ответил:
– Пойдет. А вы кто будете?
– Переводчик. Буду помогать тебе с немцами сотрудничать, – сказал я (подумав, что за подобную фразу в свое время и в своем месте нас обоих расстреляли бы без суда и следствия).
– Понял, – опустил он голову, сжал кисти в один большой кулак и молча ждал. Было в нем что-то покорно-рабское, молчаливое, гнетущее…
– Спросите его, кем он был на родине? – обхватывая двумя руками здоровенный палец и начиная снимать отпечатки, спросил Марк.
– Мамке в огороде помогал, – флегматично ответил тот. – Потап, картоху полей, Потап, лук с огороду подай…
– Как его имя? Топ-тап?.. – переспросил Марк, опасливо отстраняясь от него. – Иван – знаю, Андрей – знаю, Борис – знаю. Топтап – не слышал.
– Потап, – пояснил я. – Старинное имя.
– Чего немцу надо? – сонно исподлобья посмотрел на меня Потап (он вообще предпочитал глаза держать полуприкрытыми).
– Имя твое ему очень понравилось. Не слышал никогда такого. А родителей как зовут?
– Отец Пров, один дедуня Потап, другой Федосей. Дядька Кузьма, а брат – Феофан, – безучастно перечислил он. – Обед здесь когда, не знаете? А то я завтрак пропустил.
Я не знал, а Марк язвительно ответил, что об этом еще рано думать, сейчас на вопросы отвечать надо, а вообще обед с 12 до 14.
Шнайдер встретил нас улыбкой и запахом кофе. Загорелое лицо казалось розовым под «перцем и солью» его бобрика, который он часто и ласково с хрустом потирал и гладил.
– Слыхали по телевизору? В Англии, на вокзале пятерых румын поймали. С трехмесячным ребенком умудрились под поездом, в отсеке для угля, из Франции в Англию по Евротуннелю проехать, – сказал он мне. – А поезд этот триста километров в час мчится, между прочим, и сто раз перед отправкой осматривается… Кто это у нас сегодня? Дезертир?..
Услышав знакомое слово, Потап кивнул и уставился в стол, за который влез с большим трудом: стол маленький, а Потап – массивен и неповоротлив.
Шнайдер, цепко взглянув на него, сказал негромко:
– Я думаю, нам предстоит выслушать историю о том, как молодой парень не желает служить в армии. Понятно, кто же хочет?.. В молодости и я не хотел… И моего отца насильно в вермахт забрали… Ну, надо начинать. Давайте ваш обходной, впишем время.
Он черкнул цифры в моем обходном и принялся настраивать диктофон. Я налил в чашку кофе. Потап смотрел на свои черные кулаки, полузакрыв глаза и покачиваясь. Шнайдер осторожно спросил у меня:
– Ему плохо?.. Может быть, он чем-нибудь болен?.. Спросите у него.
Я перевел.
– Нет, – отозвался Потап. – Что-то балда трещит, в сон тянет. Я, когда мал был, на бахче упал, балдой прям об арбуз. С тех пор болею.
– А чем?
– Болями болею. Несчастный человек.
Шнайдер вздохнул:
– Ясно. Здоровых и счастливых я еще за этим столом не видел, – и щелкнул выключателем.
Анкетные данные скупы и коротки:
– Рожден в селе с-под Ростова… В школу ходил… Учился плохо… Ничего не помню… Потом дома был, мамке помогал. Голова болит, сил нет… Народу в дому много, по комнатам сидят, молятся. Все добрые люди. Чего еще?..
Пока я выписывал на лист братьев-сестер, Шнайдер выключил диктофон, вытащил лупу, атлас, поискал нужную страницу и углубился в нее.
– Спросите у него, сколько времени надо было ехать от его села до Ростова?
– Не знаю. Може, час, а може, боле. Забыл. Недалеко было.
– Он часто ездил туда?
– Чего мне там?.. Сатанское место. Это не для нас. Для нас – молитва и работа. Больше ничего. Бог не велит с людьми водиться. Не наше это. Всюду гнусь, но я не гнусь…
– Он сектант, – пояснил я.
– Ах, да, да, тут написано. Были у меня уже такие, с Украины. Сектант – всегда пацифист, этим все объясняется: бог убивать не разрешает, поэтому дайте мне политубежище. Старая история. Есть у него какое-нибудь образование, кроме школьного?
– Нет, говорит, что после школы матери помогал. В огороде.
– Огородников не хватало. Где он служил, когда призывался? Весь военный вопрос надо проработать особенно подробно.
Потап односложно отвечал, что нигде не служил, от повесток прятался, не ходил в военкомат.
– Конкретнее: сколько было повесток, сколько времени прятался? – Шнайдер приготовился записывать и высчитывать.
– Повесток пять, може, боле. Не знаю, маманя рвала. Год, може, боле прятался, по родным спал. Потом изловили, иуды.
Его поймали ночью, когда он пробирался на молитву. Избили и отвезли на сборный пункт в Ростов, откуда через два дня в эшелоне отправили куда-то. Потап спросил у офицера, куда их везут, тот ответил: «В Чечню». И Потап выпрыгнул на ходу из поезда и лесами пробрался домой:
– Сбежал с этапа. Куда там Чечня? Бог не велит оружия в руки брать!
Шнайдер скептически покачал головой и выключил микрофон:
– Во-первых, уже давно таких юнцов эшелонами в Чечню не отправляют, там сейчас совсем другие войска орудуют. Во-вторых, никакой офицер не скажет, куда везут солдат, особенно если они правда едут в Чечню. В-третьих, перед отправкой молодежь проходит сборы, шесть месяцев. В-четвертых, вагон под охраной…
Потап на все это ответил коротко и угрюмо:
– Не ведаю, – а на вопрос, где именно он выпрыгнул и куда отправился после побега, коротко буркнул, что под Ростовом было дело.
– В Ростове – сели, а под Ростовом – уже выпрыгнули?.. Значит, как сели, так офицер и объявил во всеуслышание, что едете в Чечню? – осторожно уточнил Шнайдер.
– Да. Нет. Не ведаю. С этапа ушел.
– Спросите у него, как ему удалось выпрыгнуть на ходу, да еще из вагона с новобранцами, который наверняка охранялся? – продолжал Шнайдер.
Потап расцепил свои кисти-клешни, почесал голову:
– Попросился в туалет, там стекло ботинком вышиб и выпрыгнул. Лесом в какое-то село попал, а там пацана малого встретил, денег дал и попросил родне по телефону сообщить, где я. Маманя приехала, забрала, к старшей сеструне отвезла и в подвал спрятала. Все. Устал я что-то. В балде гудит.
– А дальше что делал? Как в Германии оказался?
– Сидел в подвале с полгоду, – лаконично ответил Потап.
– И что делал?
– А ничего. Молчал. Молился. Потом маманя пришла, зовет, ехать надобно, говорит. В грузовик, за мешки и коробки сидай. Семь суток ехал. Ничего не знаю. Привезли в лагерь – я и вошел, как в царство небесное.
– В сопроводиловке написано, что он сдался в полицию, – удивился Шнайдер.
– Не помню, може, и в полицию. Я ж по их языку немой, ничего не понимаю.
– Откуда он выехал? Что за грузовик?
– Ничего не знаю. Все маманя делала. Я у сеструни в подвале сидел, а мамка к авокату ходила, авокат присоветовал…
– Авокадо? – удивился Шнайдер.
– Нет, это он слово «адвокат» так произносит.
– Значит, это адвокат ей предложил послать сына нелегально в Германию? Ничего себе!.. – Шнайдер удивленно посмотрел на меня. – Такого я еще не слышал. Интересно. Дальше!
Потап, прикрыв глаза, монотонно забубнил дальше:
– Из погреба вывели, в грузовик загнали, коробками уставили, хлеба, воды, телогрей и бидон для дерьма дали – и все.
– А перед отъездом ему мать не сказала, куда он едет? Что он должен делать?..
Потап как-то задвигался:
– Как не сказать. Езжай, говорит, от греха подальше, куда судьба тебя привезет. Там добрые люди примут и спасут. А не спасут – то бог не оставит. Это сказала.
Он вдруг сморщился, напрягся, начал хлюпать носом, дергать головой, из глаз потекли слезы.
– Они меня назад послать хочут? Я не поеду! Не поеду! – зарыдал он вдруг в голос, и вся его большая фигура задергалась на скрипящем стуле.
Шнайдер налил ему воду:
– Скажите ему, пусть успокоится. Никто его не отсылает. Дело еще будет разбираться. Детский сад. Еще ребенок. Я не понимаю – если его мать имеет деньги на адвоката, может оплатить нелегальный переезд в Германию, то не лучше ли было эти деньги заплатить в военкомате и откупить его? Это же возможно было?.. И раньше, и теперь?..
– Конечно. Этим военкоматы в основном и занимаются, – согласился я.
– Ну и все. Он никаких преступлений не совершал, ему ничего не грозит, пусть его мать на месте откупит – и дело с концом, – веско заключил Шнайдер, и по его глазам я понял, что он принял решение.
Потап перестал плакать и вновь безучастно уставился в стол.
– Спросите у него, как он себе представляет свое будущее в Германии, если его оставят?
Этот вопрос несколько ободрил Потапа:
– Сила есть. Работать буду. Пусть только оставят. Работать и молиться. Добрым людям помогать.
– К сожалению, у нас и так переизбыток рабочих рук, – проворчал Шнайдер. – По каким вообще причинам он просит политическое убежище?
Потап задумался.
– Не знаю. Маманя сказала – добрые люди помогут. Прошу помочь и спасти.
– Но как он считает, если сюда, в Германию, прибегут все, кто не хочет служить в армии, то что это будет здесь? – спросил Шнайдер.
На это Потап пожал плечами и заворочался на стуле:
– Не знаю. Сижу в комнате, никого не вижу. Азям украли.
– В какой комнате? Какой азям? – не понял я.
– Полушубку мою. Сижу на койке, никого не трожу – и все. Про других ничего не ведаю. Обратно ехать не желаю.
Шнайдер тем временем собирал бумаги, перематывал кассету, закрывал атлас. Потом коротко позвонил куда-то, а мне сказал, что надо будет внизу, у господина Марка, заполнить анкету для российского посольства об утере паспорта, а то без паспорта его на родину никак не отправить.
Марк уже ждал нас, дал бланк российского посольства.
– Что это, опять писать? – Потап сник и сидел на стуле косо, безвольно опустив между колен темную кисть, перевитую толстыми лиловыми венами. Другой рукой он подпер голову. – Устал я. Не могу боле. Чего опять царапать?
– Анкета. Ничего, скоро закончим. Фамилия, имя?
– Юрий Иванов, – вдруг отчетливо произнес Потап, на секунду как-то выпрямился, но тут же обмяк и ошарашенно уставился на нас, а мы – на него.
– Юрий? Тебя зовут Юрий?
– Что? Что такое? Юри? Юри? – всполошенно заверещал Марк.
– Кто сказал? Я сказал? Не знаю… Не помню… Голова болит, начальник!.. – Потап обхватил череп двумя руками и потряс его так сильно, что Марк отскочил к окну, а я, усмехнувшись про себя («Начальник!.. Это мамка в огороде научила?»), не выдержал:
– Потап, возьми себя в руки. Что ты порешь?
А Марк, придя в себя и бормоча под нос:
– Юри!.. Иванофф!.. Устал, потерял контроль и правду сказал, – приказал Потапу вынуть все из карманов на стол: – Возможно, у него документы какие-нибудь есть, бумажки, записки… Пусть вынет все, что у него есть.
Я сказал Потапу, что господин хочет узнать, что у него в карманах. Но в пыльных карманах ничего, кроме серой пуговицы, смятой бумажки и монеты в десять пфеннигов, не было. Марк шариковой ручкой опасливо тронул бумажку, повертел ее на столе, раскрыл:
– Чек из магазина «ALDI»… Датирован двадцатым июля двухтысячного года… А сейчас скоро весна две тысячи первого… – Потом поднял трубку и сообщил Шнайдеру, что беженец называет себя другим именем, а в кармане имеет чек из магазина «ALDI» со старой датой, отсюда вывод, что он давно в Германии, а не три дня, как он утверждает, и он, очевидно, совсем не та личность, за какую себя выдает.
Потап сонно следил за ним:
– Чего он кобенится?..
Когда я объяснил ему вкратце, в чем дело, он косо усмехнулся:
– Мой азям украли, этот куртяк чужой, в лагере у одного доброго человек одолжил. А Юрий… Так это меня мамка дома так звала. Она вообще хотела Юрой назвать, а отец настоял, чтобы как деда. Вот и вышло.
– Плохо вышло. Видишь, какой переполох?..
– Что, назад отправят? – Потап зашевелился на стуле. У него опять потекли из глаз слезы, он стал их утирать подолом робы и стонать: – Не поеду назад!..
Марк предпочел отойти и с брезгливой осторожностью спросил от окна:
– Что, он больной? Нервный?.. – а потом негромко сообщил мне, что Шнайдер считает, что все это не имеет уже принципиального значения и дополнений в протокол вносить не надо.
На вопрос о паспорте Потап пожал плечами:
– Не ведаю, где он. Не знаю, кто и где выдавал. Я его и не видел никогда. У мамани в шатуле лежал. Шатула на комоде стояла, я в нее и не лазил никогда, запрещено было.
Я сделал в графе «паспорт» прочерк, и Потап подписал бланк корявой закорючкой, не читая текста.
Марк вернулся к столу и принялся собирать бумаги:
– Скажите ему, что за пределы нашей земли ему выезжать запрещено. Если захочет куда-нибудь ехать, пусть нам скажет, мы подумаем.
Я перевел.
– Куда ишшо езжать? – настороженно уставился на меня Потап, а потом, когда понял, махнул мокрой от соплей клешней: – Куда там!
– К подружке, например, – криво пошутил Марк.
– Какая еще подружаня?.. Нету у меня подружани. Молиться и работать – вот наше дело. Бог не позволяет. Добрые люди помогут.
– И предупредите его, чтобы в лагере ни с кем не общался. Он молодой еще, а там всякие албанцы из Косово есть, с ними пусть не связывается. С кем он живет в комнате?
– Три шриланка и я, грешный. – Потап сгреб со стола бумажку, монету, засунул их в карман. – В молчанку играем.
Вдруг Марк отпрянул, указывая на его ремень:
– А это что у него? Что это?
– Что именно? – не понял я.
Потап хмуро смотрел на нас:
– Чем еще опять немцу не угодил?
– Что у него – мобильник? Хенди? – визгливо спрашивал Марк.
На ремне у Потапа торчала какая-то пластмасса.
– Не, это будильник, мамка дала. – Потап снял с пояса портативные часы, которые крепились наподобие сотового телефона. – Я иногда засыпаю, на молитве или в огороде. Вот мамка и дала. Чего он разорался?
«Что так испугало Марка?» – подумал я, но тот сам объяснил:
– Если у него есть хенди, значит, можно по номерам узнать, куда он звонит и откуда сам получает звонки. И отослать по месту жительства. А теперь что с ним делать? Русское посольство ответит – такого не знаем, паспортных данных нет, кто он такой?..
– Можно идти? – сонно спросил Потап, ворочаясь на стуле и посматривая на часы. – Обед скоро.
– Вы уже читали ему перевод протокола? Как, еще нет? – удивился Марк.
Но когда я сказал о протоколе Потапу, тот решительно отмахнулся:
– Не хочу ничего. Плохо мне. Устал. Репа пухнет. Балда лопается.
– Ладно, это, в конце концов, его дело. Но подписать протокол он в любом случае обязан. Ничего, это и без вас сделаем. Да, час денег вы потеряли, раз он не хочет слушать обратный перевод. До свидания! Мы будем звонить, если кто-нибудь появится.
– Лучше, чтоб меньше было, – отозвался я.
– Что вы, что вы! Тогда нас закроют. Пусть больше будет!.. – визгливо засмеялся Марк.
– Для нас лучше, чтоб больше, а для Германии – чтоб меньше, – подытожил я, надевая плащ.
Все это время Потап встревоженно смотрел на меня, как собака на хозяина, не знающая, куда тот задумал идти, но готовая следовать за ним. На мое прощание он кивнул и пробормотал:
– Доброго человека бог спасет, а худого – побьет.
И эта фраза вертелась у меня в голове, пока я шел к вокзалу через городок, где ездили машины и гуляли люди, ничего не знавшие о лагере, где сидит Юра-Потап и ждет, чтобы добрые люди его спасли.
Щупляк
Нигде ничего успокоительного, родной. Шум в балде, как говорил Потап, – упорный, стойкий, вязкий. Поплелся к Ухогорлоносу, а он новыми версиями пугать начал: «Тиннитус может быть оттого, что у вас ушная жидкость высохла…» – «А где она должна быть?» – «В среднем ухе». Хорошо, думаю, что просто высохла, а то могла бы и в дыхательное горло вытечь… Но это еще не все. «Или, может быть, у вас хрящ в позвонке стерся и в ушной нерв резонирует». Ну, спасибо тебе за нерв, мудошлеп!.. Хорошо, что только резонирует, а не замыкает. «Вам, – говорит дальше этот мандюк, – надо в спецсанаторий ехать. Есть такой, для тиннитусников, под городом Дюрен. Я туда скоро собираюсь, могу с собой захватить. Посмотрите, что и как. И бензин пополам, разумеется». Ну, на братьев по несчастью посмотреть не помешает. Насчет бензина тоже понятно: чем человек богаче, тем он жаднее. Между прочим, деньги на бензин он уже сделал, пока со мной о деньгах на бензин говорил. Это у врачей так: ты задницу для укола заголяешь – а у него в люксембургском банке уже касса звякнула.
Через неделю поехали. В машине душисто пахнет. Сам Ухогорлонос – аккуратен, причесан, в бабочке. По дороге про войну, Сталина-Гитлера поговорили. Он ехидно поинтересовался, почему русские так много водки пьют. «А что еще делать?.. – отвечаю. – Опиума в открытой продаже нет. Притом водка войны выигрывает», – и про нашествия хана Батыя и Наполеона присовокупил, о псах-рыцарях напомнил, Мамаев курган описал, Сталинградской битвой закончил – он и заткнулся с глупыми вопросами.
Потом разность менталитетов обсуждали. Вот у нас черную кошку боятся, если она слева направо дорогу перебегает, а немцы – если справа налево. Или, к примеру: мы боимся, если тринадцатое число на понедельник падает, а немцы – если на пятницу. У нас говорят «отдать Богу душу», а у немцев – «отдать Богу дух»… Даже сама смерть разна: у нас она – женского рода, а у немцев – мужского. «Косарь с косой явился». Да что там смерть!.. Даже обычные собаки по-разному лают: наши – «гав-гав», а немецкие – «вау-вау!» – хотя, казалось бы, собаки языкам не подвержены. Видно, не только народные души, но и народные уши разные.
В санатории – тишина полная, мертвая. По аллеям люди гуляют, у всех на лицах скорбь написана. Все с дурцой: один – тихо с ума сходит, другой – в себя не приходит, третий – бредит, у четвертого – крыша едет. Кто в горячке, кто – в черной спячке. И врачи тоже всё какие-то пришибленные, на пауков похожи. Начали нам эти мясники кабинеты показывать: тут, мол, мозг просвечиваем, источник шума ищем (как будто его найти можно). Там кровь на густоту исследуем (кровь, наверно, спустят в тазик, кислоты плеснут и давай мензурками мерить, коновалы).
Ведут по коридорам дальше: здесь нервы на шок проверяем, тут шмерцарцт[7], доктор-боль, сидит. А вот это – наш психотерапевт, стрессы анализирует. И сам псих-терапевт из кабинета хорьком драным выглядывает. Худющий, в дурацком халате (нужен ему халат, как собаке пятая нога: как будто стресс на пиджак капнуть может), глаза дикие, полубрит – чистый параноид. «Заходите, говорит, поговорим по душам!» – «Нет, спасибо, спешим, в следующий раз». Тут санитары покойницкую каталку куда-то поволокли и на нас как будто с намеком недобро поглядывают – мол, не хотите ли прилечь, отдохнуть перед долгой дорогой?.. Жутко стало, на воздух потянуло.
Показали нам эти костоломы все хозяйство, включая морг (правда, издали), а потом говорят, что, по правде, науке о причинах тиннитуса ничего не известно, ибо тиннитус – одна эфемерность, вроде уголовного дела без трупа, однако лечение активно проводится и двадцатидневный курс 1235 марок стоит. Без гарантии успеха, конечно. Нет, думаю, спасибо, в сумасшедший дом я и без денег попаду.
Проспектов надавали! А там в основном – про их санаторий: какая тут хорошая сауна, аппетитный ресторан, теплый бассейн и удобные номера. Про тиннитус – два изречения великих больных: слепого Канта: «Слепота отделяет людей от вещей. Глухота отделяет людей от людей»; и глухого Бетховена: «В моих ушах день и ночь свист и вой. Конец моей жизни мерзок». Обнадеживающие слова, ничего не скажешь.
Потом Ухогорлонос с главврачом в кабинете заперся, а я по саду погулял, с одним больным поговорил. «Чем тут занимаетесь, уважаемый?..» – «Ничем. Сидим, шум в голове слушаем. А потом о результатах медсестрам докладываем». – «А им зачем?» – «Те в компьютер вносят. У кого гудит, у кого шуршит, у кого жужжит, у кого фонит, а у кого шелестит и перекатывается». – «Лечение есть?» – «Какое лечение? Свежий воздух, покой, уют и регулярная жизнь – вот лечение. Я уже вылечился, почти… Скоро домой».
Ну, это известно: каждый, кто утром с постели сползти может, уже имеет право смело говорить, что он – в отличной форме. Так, во всяком случае, считают те, кто с кровати уже не сходит и только на горшок ходит. И все хорошо. И каждый триппер излечивается, кроме первого. А надежда никогда не умирает. И то, что нас не убивает, делает уродами и инвалидами.
Приехали назад. Ухогорлонос бережно деньги за бензин взял, в бумажник вложил и лицемерно мне доброго здоровья пожелал. Я-то знаю, что ему, алчной ехидне, лучше, чтобы люди болели. Помнишь нашего знакомого, венеролога Ванечку, который своих больных блядей посылал людей заражать, чтоб побольше пациентов было? Блядей за это лечил бесплатно. А блядям что? У них шанкры чешутся – не дай бог. А тут еще и деньги, и веское слово врача. Ну, Ванечку убили, а эти, его коллеги-гады – пока живы, к сожалению…
Если уж о смерти заговорили, то сообщу, что в Брюсселе ярмарка похоронных дел прошла, Безенчуку и не снилась. Гробы обиты бархатом и золотом, еще Тутанхамон в таких леживал. А как насчет прозрачного медальончика с пеплом усопшего супруга?.. Или кулона с прахом любимой женщины?.. Мечта фетишиста. А за шесть тысяч долларов Америка берется твой прах из спецпушки во Вселенную выстрелить! Будешь, как тот топор, вокруг земли вращаться вечность.
Ну эта ярмарка – цветочки. Сейчас по Европе другая выставка ездит, «Миры человека», там настоящие трупы без кожи и скальпов выставлены. Пластинаты называются. Садист-художник с беспризорных покойников кожу обдирает, тела в формалине маринует и в разных позах по залам рассаживает. Впечатляет. Особенно бегущие розовые венозные спортсмены. Их бы на стадионах, как пособие по анатомии, выставлять – пусть юношество любуется.
Ладно, ну их всех. Из хороших новостей вот какая – стала ко мне малая мошка наведываться. Прилетит, сядет на лист, за карандашом следит. Или на газету прыгнет и по строчкам бегает. Я ее уже от других мошек отличаю. Чрезвычайно умная Мушка. Любознательная. Часами со стены не сходит, если я усну, сторожит… Может, муза моя?.. Мала уж очень… Или это какой-нибудь Конфуций, который до мошки дореинкарнироваться умудрился?.. С мудрецами это бывает: от мудрости до мудачества – один шаг, а иногда и его нет, рукой подать (недаром одного корня). На всякий случай эту странную Мошку очень осторожно со страницы стряхиваю. Кто его знает, с кем дело имеешь, поэтому лучше тихо сидеть, божьих тварей не обижать и думать позитивно.
Третьего дня опять ездил переводить – позвонили из лагеря, попросили приехать: «Молодая дама из Украины хочет, чтобы ее выслушали!» Хочет – выслушаем. Дам вообще интересно слушать, а в таком пикантном месте – наверно, и подавно… Из-за этого утром чуть не проспал: всю ночь голые зэчки в тюремных камерах мерещились.
По дороге в лагерь все представлял себе эту «молодую даму из Украины». И я – не жалкий толмач, которого при заварухах первого в кипятке варят, а суровый и могущественный комендант большого лагеря, и после отбоя каждую ночь отбираю себе какую-нибудь новую жертву. В моих руках – и хлеб с мясом, и жизнь со свободой, а женщины голодны и жить хотят. Но я, император Клеопатр, непреклонен и каждое утро отправляю жертву в печь, чтобы железно-огневое правило: «Только на одну ночь» – не нарушалось…
Бирбаух плохо брит и явно в дурном настроении. Протягивая мне обходной, он понуро сообщает, что неважно себя чувствует – давление, веса много, худеть надо, а как – неизвестно:
– Пива не пить?.. Пиво не пить – жизнью не жить! Без пива – как без денег. А без денег – как без рук: глазами видишь, а взять не можешь… – завел он свои басни, я в ответ рассказал о царе Мидасе, который имел способность превращать в золото все, к чему прикасался. – Ничего себе! – восхитился Бирбаух и украдкой отхлебнул из бутылки. – И что?
– Ничего. Умер от голода. Хлеб возьмет, а вместо хлеба – слиток!.. Мясо хватает, а вместо мяса – самородок!.. Вместо сахара в чай золотой песок сыпется!.. Пива выпить желает, а в руках – золотая бутылка!..
– Да? – усомнился Бирбаух, допивая бутылку. Подумал. – Я бы так сделал: меня бы слуги кормили-поили, а я бы руками шевелил, только когда золотишко пополнить надо. Вообще деньги лучше золота: места мало берут, зато пользы много приносят!
– И кушать не просят, тихо лежат! – поддакиваю я и иду в комнату переводчиков, где от фрау Грюн узнаю, что надо ехать переводить в тюрьму.
Вот те на, какая такая тюрьма?.. Этого еще не хватало!.. А дама из Украины?.. А даму потом опрашивать будут.
– С Марком поедете, он по дороге объяснит.
От этого известия весь мой брутальный сентиментализм улетучил. Комендант лагеря в недоумении остался стоять посреди плаца, не зная, что ему делать: ни милых дам, ни лепета с трепетом, вместо этого – тюрьма, куда надо ехать с противным очкариком Марком.
А Марк в кабинете уже собирается: переносной ящичек для снятия отпечатков, походный поляроид, стальной дипломат для бумаг и актов, сумочка с диктофоном, лекарства, перчатки, пенал для карандашей и точилок, разная канцелярская колбасня, в пакетики и мешочки аккуратно завернутая и разумно разложенная. По дороге он объясняет:
– В этой тюрьме не уголовники, а беспаспортники сидят. Люди без бумаг. И все эти бродяги, конечно, заявление на политубежище подают, чтобы время выиграть и под депортацию не попасть. А мы к ним в тюрьму – на дом, так сказать, – приезжаем, там же опрашиваем. Сервис.
– А дальше?
– А дальше нас не касается. Мы дело рассмотрели, отказ дали, предписали домой уезжать. А дальше пусть разбираются, кому за этим следить положено, Ausländeramt, например, или погранвойска, или полиция, – сухо закончил он и перевел разговор. – Вы только не пугайтесь: в тюрьме охрана частная, морды такие, что от заключенных не отличить. Имейте в виду.
– Чего мне бояться? У меня документы в порядке, – отвечаю.
– Ну и хорошо. Лишь бы работа была и документы в порядке, это самое главное. – И Марк прибавил газу. – Тюрьма в лесу. Надо побыстрей туда доехать, чтобы успеть потом даму из Украины опросить.
«Видно, не я один ночью сны видел!» – подумал я: Марк еще с этим типом, куда едем, не начал разбираться, а уже о даме из Украины думает, мечтает.
Мы долго ехали по автобану, потом лесной дорогой взбирались по склону горы. Впереди замаячило белое строение.
– Это ресторан, и очень известный, со всей округи люди съезжаются. Немецкие блюда готовят. Как вы к ним относитесь?
– С детства люблю сосиски.
– Вот и хорошо. Самая вкусная и здоровая пища. Один немец, говорят, в Нью-Йорке наши большие красные сосиски «ротвурст» продавать надумал – так очереди стоят, и он уже миллионер. Людям надоела эта птичья китайская ерунда, дурацкие макароны и турецкое дерьмо. Я, к сожалению, мало что могу есть: изжога, язва и гастрит, всё в одном флаконе…
А я слушал вполуха, смотрел на темные ели, покрытые налетом снега, на ветки в белом инее. Вот и до тюрьмы довела судьба. Хорошо еще, что самого на нары не усадила… «Кому Канары, а кому – на нары», – вспомнил я Лунгаря.
Марк тем временем обстоятельно описывал свой адский пищеварительный триптих, порожденный чем-то, съеденным на базаре в Израиле, куда Марк с женой умудрился поехать. Черт его дернул купить в пятидесятиградусную жару какой-то сомнительный пирожок. Печень чуть не полетела, отказали почки, и его спасли с большим трудом:
– Так я поплатился за грехи предков, – суконно засмеялся он. – Я, кстати, лично никакой своей вины не чувствую – мало ли что там было сто лет назад, я никого не убивал, а отвечать за всех?.. Нет уж, избавьте. Сейчас у нас палку опять перегибают. Все-таки очень глупый мы народ!.. Всему подчиняемся, что приказывают. Даже анекдоты еврейские, самые смешные, нам нельзя рассказывать – коллеги тут же донесут. Вот в Карлсруэ случай был недавно: сотрудник одного амта в шутку спросил у другого: «Хайнц, как ты думаешь, сколько наших контингент-беженцев можно перевезти в одном “Мерседесе” и сколько это будет стоить?» Хайнц начал высчитывать: автобус «Мерседес» обычно на сорок мест, если двухэтажный – до восьмидесяти, а стоить будет в зависимости от того, куда перевозить. «Ну, например, из Карлсруэ в Дахау, на экскурсию?» Хайнц все высчитал, дает полную раскладку, а тот сотрудник смеется: «А я тебе более выгодный вариант предложу: их всех в одной пепельнице уместить можно!» Ну, глупый анекдот. И что же? Этот дурачок через пару дней уволен, потому что их болтовню третий коллега слышал и даже умудрился частично на диктофон записать. Вы же видите, у нас все двери открыты…
– Я думал, чтобы взятки не брали, – ответил я.
– Ха! – усмехнулся он. – Взятки?.. Кто дает?.. Нет, это чтобы слышать все… Я лично ничего против евреев не имею, но зачем постоянно выпячиваться?.. Они умудрились даже из собственного несчастья сделать весьма выгодный гешефт, – говорил он, и в его глазах прыгали желтые огоньки, которые обычно вспыхивают у немцев в глазах при слове «юде».
– Вы, кстати, не читали недавно в газете объявление, что комплекс в Дахау работает в музейном режиме, но при необходимости может быть за сутки переведен в рабочий? – спросил я у него невзначай.
– Нет, не читал. Когда это было? – оживился Марк и тут же сообразил: – Ах, это опять анекдот!.. А я думал – вы правда читали. Но я этот анекдот не слышал, учтите. Нам этого не только говорить, но и слушать нельзя… В рабочий режим, хе-хе… чего только не придумают… Вот, последний поворот. Скоро будем на месте.
Мы проехали знак закрытой зоны. Сквозь поредевший лес уже видно здание с башенкой. Да, недаром слово «тюрьма» произошло от немецкого «Turm», башня. Вот она, тюрьма. Окружена забором из крупной сетки и спиралью из крученой проволоки. Виден собачник, где с хрипом мечутся овчарки. Несколько угрюмых блоков с решетками на окнах. У ворот, в будке, виднеются какие-то широкополые личности.
– Паспорт с собой? Хорошо. Документы надо оставить при входе. Такие вот правила. Охрана – сущие бандиты, но ничего! Вперед! – Марк храбро полез из машины, начал вытаскивать багаж.
В решетчатом окошке показалась розовая курносая морда и сурово спросила:
– Кто? Куда? Зачем?
Марк с достоинством объяснил, кто мы и по какому поводу. Рядом с мордой показалась небритая харя с золотой серьгой в ухе, подозрительно нас осмотрела, забрала документы, обнюхала их со всех сторон, долго пялилась на наши лица, сверяла и проверяла, но кнопку в конце концов нажала. Ворота разъехались.
Псы с лаем запрыгали в клетках, когда мы проходили мимо. Из здания вышел пузатый, наголо бритый детина в черной майке. Здоровенные лапы в татуировках. На поясе болтались дубинка, наручники, телефон, рация, револьвер в кобуре, тесак в ножнах и баллончик с газом. Он прикрикнул на собак – те замолкли. Он поманил нас – мы покорно пошли на зов.
Внутри, за стеклом, сидели вахтеры – кряжистые, в шапках-козырках. Перед каждым стояла чашка кофе. Двое смотрели в мониторы, один что-то царапал в конторской книге.
– Тут наша комната. – Марк глазами уперся в дверь, которая распахнулась под пинком детины, обнажив два некрашеных массивных стола, четыре стула, раковину и батарею отопления.
– Кого вам надо? – спросил детина, поглядывая в коридор, где четверо здоровяков тащили обгоревший остов дивана.
– Нам никого не надо. Это мы кому-то понадобились, – с достоинством ответил Марк, осторожно выглядывая из комнаты и с удивленным неодобрением провожая глазами остатки дивана. – Это что же, пожар у вас был?
– Да, подожгли вчера босяки зачем-то, – флегматично кивнул детина и рыками стал командовать, как лучше тащить и кому с какой стороны браться.
– Вы их держите слишком вольно, вот и результат! – сверкнул очками Марк. – Они у вас в коридорах гуляют, телевизор смотрят, чай пьют…
– А что с ними делать? В карцерах держать? – удивился детина. – Они же не преступники, а просто босяки, бездомные, пеннеры[8]. Пусть смотрят, не жалко.
Марк исподтишка показал мне глазами: «Какова охрана, а!..» Тем временем вахтеры за стеклом деловито расстелили бумагу, выложили сыр, колбасу, хлеб, двухлитровые бутылки кока-колы и принялись закусывать. Детина, уточнив фамилию нужного нам сидельца и пророкотав ее в коридор, поспешил к товарищам, бросив на ходу через плечо:
– Сейчас приведут.
Марк, качая головой: «Никакого уважения!» – начал аккуратно раскатывать на столе черную резиновую полоску (куда надо было мазать чернила для отпечатков), включил в сеть поляроид, проверил кассеты, вытащил из сумки диктофон, шнуры, микрофон. Начал раскладывать бумаги и анкеты, раскрывать сумочки и пить свои желудочные пилюли.
Я вышел покурить, стоял у стены. Вахтеры степенно закусывали сардельками, едва видными под слоем горчицы. Здоровяки, оттащив горелый остов в конец коридора, вразвалку отправились в коридор, ведущий вглубь тюрьмы. Оттуда – звон посуды, бормотание телевизора, голоса.
– Вот его данные, просмотрите! – высунулся из комнаты Марк и подал мне анкету, на которой была фотография изможденного молодого человека с длинными волосами и тусклыми глазами.
фамилия: Золотов
имя: Валерий
год рождения: 1975
место рождения: г. Калуга, Россия
национальность: русский
язык/и: русский
вероисповедание: православный
Тут решетка отъехала, и показался массивный мордоворот с багровой физиономией и складчатым подбородком, похожим на затылок. Руки верзилы, величиной с мою ногу, не свисали вдоль тела, а топорщились в стороны из-за непомерных бицепсов. Он был в кожаной безрукавке с заклепками. Пуки волос торчали из-под мышек, на тумбах-ногах – пятнистые хаки и черные сапоги, на голове – косынка, повязанная по-пиратски. На шее болтался огромный черный свисток с серебряным черепом.
За ним тащился тщедушный худой парень. Он с тревогой озирался по сторонам, зевал и ежился. Видно было, что он со сна. Длинные волосы стянуты на затылке в косицу. В комнате он понял, что мы не из полиции, и стал спокойнее. Молод, лет двадцати, в потертом «Адидасе». Я сказал ему, что это чиновник по его заявлению, а я переводчик, но парень никак не мог понять, кто мы такие и что нам от него надо:
– Какое убежище?.. Когда писал?.. Какое заявление?.. Ничего не знаю!.. – Но потом до него дошло: – А!.. Да это я с похмелюги нацарапал, один чеченчик подбил – пиши, говорит, Щупляк, хуже не будет. Нет, не надо мне этого совсем, едрить его серпом налево! Все равно не дадут, пусть лучше скорей домой посылают. Устал я. Точка.
Эти слова удивили Марка донельзя:
– Такого я не упомню!.. Как, он сам просит, чтоб его домой отослали? Почему?
Щупляк махнул рукой:
– Шансов у меня нету. В газетах писали, что всего два процента получают, так что… Чем тут еще месяцы сидеть – лучше уж домой…
– А там что делать будешь? – спросил я его, пока Марк радостно рылся в портфеле в поисках анкеты отказа (которую он, очевидно, как раз и забыл в лагере, не предполагая такого хода событий).
Щупляк нервно, как кошка, зевнул пару раз подряд:
– Посижу немного – и опять сюда приеду. Свои бабки получать. Кинула меня немчура. Я по-черному полгода пахал на стройке, а они, суки, денег не дали.
Я перевел это Марку. Тот обронил:
– Одни аферисты других дурят. Поделом, так ему и надо. Будет ему наука… Если он хочет уехать – то мы ему поможем, обязательно поможем… Но фото и отпечатки все-таки надо снять.
Парень усмехнулся:
– Пусть снимают. Уже четыре раза брали. Спросите у него, сколько времени мне запрет будет на въезд в Германию?
Марк перелистал документы:
– Вы ничего преступного не совершили. Если добровольно уедете, может, и вообще без запрета обойдется. Только нам надо точно знать ваши анкетные данные, чтобы русский консулат выдал вам временную справку для въезда на родину.
Парень закивал:
– Хорошо. Ладно. Тогда я честные данные дам, пусть меня побыстрей назад шлют, едрить его серпом на лево!
Марк обрадованно-иронически пошевелил бровями в мою сторону:
– Приготовьтесь честные данные записывать!
Когда с отпечатками было покончено, мы стали заполнять анкету об утере паспорта. Парень оказался не Валерием, а Вадимом, не Золотовым, а Кожевниковым, не 1975-го, а 1980-го года рождения, не из Калуги, а из Смоленска. Марк повторял трудные слова:
– Кошефникофф… Смольенск… Спросите его, зачем он все это бессовестно врал и обманывал?
Ответ был короток:
– А чтоб не выслали назад.
Потом Валерий-Вадим сказал, что в Смоленске делать нечего, с водки подпольной сгоришь, думал, приеду в Германию, поработаю на стройке, денег наберу, автобус маленький куплю и буду тихо шоферить:
– Но нет, кинули, суки-немцы, тут тоже гнид полно… Паспорт был, но я его потерял на стройке. Или украли, не знаю. Кем и когда паспорт выдан – не помню, пусть сами найдут. Получил я его летом 97-го, в Смоленске, в Ленинском РОВД.
– Найдем, найдем, не проблема, лишь бы он правду говорил, – радостно суетился Марк, заполняя какие-то бесконечные листочки и подшивая новое фото к новому делу с «честными» данными.
Парень насмешливо смотрел на него:
– А зачем мне врать теперь? Я же сам хочу уехать. Не хотел бы – так и сидел бы, как все другие, едрить его серпом налево…
– А кто сидит? – спросил я.
– Да кто хочешь. Всякие. Китаезы, индусцы, кубинцы, курдяки, негритосы, чечены, узбекцы, афгане… Полный хрислам! Даже один грузинский вор сидит, Камо кликуха, всеми чурками верховодит вместе с Фараоном Нахичеванским.
– Что за фараон? Кличка тоже?
– Нет, имя такое, он армянец.
– Спросите у него, как он вообще в Германии оказался? – сказал Марк, от руки набрасывая текст заявления о том, что беженец отказывается от своих претензий и просит отправить его домой.
Щупляк охотно принялся объяснять:
– По турпутевке приехал, на автобусе, из Москвы. Во Франкфурте зашел на стройку, поговорил с каким-то хмырем в каске, тот сказал, что работа есть, но раз разрешения на работу нет, то и деньги потом, сразу все вместе. Так и пахал полгода. На жизнь он мне давал немного, а потом исчез. Я к другому прорабу – тот отказывается: «Ничего не знаю, тебя впервые вижу, какие деньги?..» Просто всё. Не только наши кидают, но и немцы, волки противные, не лучше. – Он сладко потянулся. – Ничего, поеду сейчас, отлежусь, отдохну, баб попилю, травку покурю – и обратно в Германию…
– А если запрет будет?
Он поправил косичку, усмехнулся:
– За двести долларов я паспорт на любое имя сделаю, хоть на Ельцина, хоть на Хо Ши Мина, едрить его серпом налево!..
Марк, закончив заявление, попросил перевести его беженцу, со смешком добавил для меня:
– Да, а часа два денег вы на этом потеряли, дорогой коллега. Да, потеряли, потеряли… У вас работа почасовая, а у меня время казенное. Вы потеряли, а Германия приобрела!.. Или, вернее, избавилась… – деревянно шутил он. – Так… Теперь скажите ему, пусть подпишет и может идти, а я завтра же позвоню в российское посольство и попытаюсь ускорить дело. Это надо же – сам человек уехать хочет!.. Как не помочь?.. Но недели две-три ему еще придется посидеть, пока то да се.
Вдруг раздались странные шорохи и стуки. Что это?.. А, вот серая невзрачная птичка бьется о стекло. Ее явно ввели в заблуждение черные силуэты нарисованных на стекле птиц. Она, очевидно, решила заглянуть за кулисы этого птичьего театра. Мы уставились на птицу и молча слушали ее назойливое царапанье и глухие толчки о стекло.
– Кто внутрь, а кто наружу, – сказал я.
– Упорная, – отозвался парень.
– Глупая! – подытожил Марк. – Не понимает, что убиться может.
Я вышел, чтобы позвать охранника для парня. Вахтеров не было. Мордоворот в пиратской косынке доедал в одиночестве колбасу. Увидев меня, он остановил челюсти и неприязненно, как собака от полной миски, уставился мне в лоб:
– Как, всё? Так быстро?
– Он забрал заявление. Домой хочет.
– Что так? Не понравилось у нас?
– Тюрьма все-таки.
– Все равно опять к нам попадет.
И он засвистел в свой пиратский свисток. Видя, что никто не отзывается, он спрятал колбасу в карман, вытер сальные лапы о косынку и загремел ключами:
– Пошли!
Щупляк степенно попрощался со мной за руку:
– Удачи тебе!
– И тебе всего хорошего! – ответил я, подумав, что и в лагере, и тут все желают друг другу удачи – главного в бродяжьей жизни.
Марк сноровисто собрал вещи: спрятал фотоаппарат в чехол, диктофон – в сумочку, папки и бумаги – в портфель. Я взял ящичек для отпечатков. Мы вышли из здания и под грызню овчарок направились к проходной. Возле будки остановились. В окошке показалась розовая, словно ошпаренная харя. И, очень недобро поглядывая на меня из-за решеток, сообщила, что у меня паспорт просрочен и надо заявить в полицию.
– Вот! – тыкался мясистый палец в паспорт.
– Продление на другой странице, – вежливо ответил я.
Харя перевернула страницу и, шевеля губами, долго читала текст. Потом заулыбалась, как свинья из прутьев хлева:
– А!.. У!.. Э!.. О’кей!.. А то мы видим – непорядок!
И решетки разъехались, выпуская нас на волю, где и дышалось легче, и было как будто даже теплее, хотя на елях все еще лежал слой розоватого инея, а на земле кое-где виднелись серые пятна талого снега.
По дороге в лагерь Марк все удивлялся, что мы так быстро управились. И как было бы хорошо, если бы все побродяжки были так сговорчивы и покорны! Правда, Марк каждый раз не забывал суеверно добавлять, что, с другой стороны, это было бы и весьма плохо, потому что тогда наш лагерь обязательно закрыли бы:
– Как это с русскими немцами-переселенцами случилось: когда их поток был велик – до четырехсот тысяч в год – пришлось открывать лагеря, набирать персонал, а как поток сократился, то и лагеря пришлось закрыть. Кого-то перевели куда-то, кого-то на пенсию, а кого-то и так…
Он со вздохом принялся высчитывать проценты потерь в зарплатах и пенсиях, а я думал, что пусть те паникуют, у кого есть с чего проценты высчитывать и что терять, а мне-то с чего голову такой ерундой забивать?! Лучше о приятных вещах думать… Вот сейчас я, комендант лагеря, еду встречать новый эшелон с женским пополнением… Большие вагоны, раскаленные от тепла женских тел. Первым делом в строй поставить и вдоль строя пройтись, на лица посмотреть, в глаза заглянуть… Марк, видимо, думал о чем-то сходном, потому что, закончив с процентами, пробормотал:
– Сейчас даму из Украины будем опрашивать… – и плотоядно спросил: – А правда, что русские женщины очень красивы?
– Правда. Немки перед ними, извините, это просто истуканы с острова Пасхи.
– Да, все говорят, надо поехать, посмотреть… Хотя, знаете, с годами как-то все труднее передвигаться с места на место. Правильно люди шутят: в молодости все время чего-то хотелось, а сейчас все время чего-то не хочется!..
Я рассказал ему про одного немца, который поместил в российской «Учительской газете» брачное объявление («солидный обеспеченный моложавый немец ищет приличную женщину с добродетельными целями») и ездит теперь часто в Москву на «отбор».
Марку идея очень понравилась, и он принялся высчитывать, скольких женщин можно «отобрать» за две недели.
– Причем дамы съезжаются к нему со всей России за свой счет, – подлил я масла в огонь. – Он платит только за ресторан и номер, где происходит отбор.
– О, это хорошо, Россия велика, дорога дорого стоит. И он до сих пор наверняка холостой? Никак не отберет? – развеселился Марк. – И жениться пока вообще не собирается, наверно!.. Знает он русский язык?
– Зачем?.. Он и так неплохо объясняется. Дает понять женщине, что всё о’кей, вот только надо в постели «пробу снять». Все понимают: немец – человек основательный, без пробы нельзя. Ну, и стараются, как могут. А после пробы он фотографирует их на память, дает свои визитки и обещает позвонить, как только приедет домой и примет решение, потому что так сразу окончательного решения принимать нельзя, надо как следует подумать перед таким серьезным шагом.
Марка окончательно добило то, что работает этот отборщик-пробирщик в Бюро путешествий и летает в Москву почти бесплатно:
– Это надо же – столько плюсов и никаких минусов!
– Минусы тоже есть – один раз триппером заболел, – остудил я его восторг.
– Ну, это уж его вина.
– И один раз обокрали: опоили снотворным и обобрали до нитки, все документы и кредитные карточки унесли.
– Это тоже ясно – не следует в номере ценные вещи держать и алкоголь пить в такой ситуации.
– А без алкоголя неинтересно.
– А если пить, то немного, чтобы здоровью не вредить, – Марк свернул с автобана и погнал по улице, в конце которой виднелось здание с черным двуглавым орлом на желтом фоне. – Успеем к полудню.
Но в лагере фрау Грюн сообщила, что беженка, «молодая дама из Украины» (приходившая с подругой, как будто тут кафе или дискотека), прождав два часа, больше ждать не пожелала и ушла. Придет завтра.
– Вот какие они обидчивые, – ощерился Марк. – Один не помнит, что заявление писал, другая ждать не желает, торопится куда-то. А куда, казалось бы, если ты беженка, торопиться? И что в жизни важнее этого интервью для тебя может быть?.. А мы всё это терпеть должны!.. Когда же она явится?
– Обещала завтра утром прийти.
– Ну что ж, вы и там деньги потеряли, и сейчас теряете, сегодня не ваш день, – сказал мне Марк. – Но завтра, надеюсь, все будет в порядке. Приходите, ждем.
Я уныло потащился на вокзал. Так, наверно, чувствовал себя начальник лагеря в последний день, когда надо сматывать проволоку, кидать свой скарб в грузовик и драпать от наглого неприятеля, разрушившего сладкую жизнь.
Колодец, рельсы и петля
Звон в голове не утихает. Эх, говорила мне бабушка в детстве: надо гимнастикой заниматься, обтирания делать, а перед сном рысцой бегать. А я что?.. Вместо гимнастики – сигарета, вместо обтираний – бутылка, вместо рысцы и спортзала – женский пол. Добегался, завяз по самые уши. Ухогорлонос давеча обещал, что когда-нибудь этот шум пройдет. Так когда-нибудь все пройдет. А пока, будто от уха к уху провода натянуты, столбы в зубы уперты, а сквозь барабанные перепонки ток бежит и товарняки грохочут.
К шуму в голове золотые червячки в глазах прибавились, такие серебристо-золотые личинки, которые в черноте изворачиваются, шевелятся. Смотрю вперед – и ничего, кроме этих червячков, не вижу… Проклятый Ухогорлонос эту мерзоту объяснил повышенным давлением, шутил, что у других тараканы в голове, а у вас – только в глазах, потом пошутил, что когда вместо личинок мыши появятся, надо будет о таблетках подумать.
Утром поспешил на вокзал. Сел в поезд. Напротив – девушка-гимназистка. Короткая прическа, сережка в носу, глаза ясные, куртка, джинсы. Я ее уже встречал в поезде. Она сидела на том же месте, о чем-то вздыхала про себя, теребила волосы, смотрелась в темное окно, где наши взгляды встречались. Отводила глаза, ежилась, начинала тыкать пальчиком в карманный телефончик.
И вспомнилось, как летом в поезде «Кёльн-Амстердам» ко мне в купе подсели две гимназистки, русские немки-переселенки, не признали во мне бывсовчела и защебетали между собой по-русски. Два часа из жизни женщин. Толстому не снилось, Тургеневу – и подавно. Было не только пронзительно интересно, но и поучительно. Ругань стояла крепкая. Пухлые губки выговаривали матерные слова с особой сочностью и смаком. Конечно, подслушивать – некрасиво, но я не приникал к замочным скважинам и не слушал через кружку, а принимал к сведению то, что само по себе возникало в купе. И было обидно, что болваны-мужчины так идеализируют женщин, принимая их капризы за решения, инстинкты – за ум, а похоть – за любовь. Но если уж красивым бабам все прощается, то с некрасивых надо, ради общей справедливости, строже спрашивать – кто-то же должен отвечать за всеобщие заблуждения?..
Дорогой друг, раз уж о губках и романтике речь зашла, сообщаю тебе, что недавно книжку хорошую прочел, то ли «Приключения скверной сучки», то ли «Похождения дрянной шлюшки» называется, в Москве издана и даже в двух томах, как у Гоголя. Если встретится – обязательно купи, не пожалеешь. Скромная практикантка Моника только с президентом уединялась, а авторша полстраны орально удовлетворила, ибо она – народная патриотка, у нее девиз простой: всегда везде всем давать. И в этом ее сила. Сразу берет быка за яйца: у кого стоит – иди сюда, у кого нет – иди отсюда, ты нам не нужен. И правильно, нечего между ног путаться. Мозг задействован в основном спинной. Ротовое отверстие отлично приспособлено для орала и жратвы – эти две сюжетные линии менструальной нитью проходят сквозь все живое и мертвое в тексте.
Авторская позиция ясна и конкретна – чаще всего раком, но можно и передом. Как нетрудно догадаться, мужские гениталии – главные герои ее повествования. И как легко можно понять, больше всего авторше нравятся большие, толстые и эрегированные члены, о них она пишет с восхищением, поклонением и даже подобострастием. Оргазм – другой истинный герой ее повествования. Описывая оргазм, авторша поднимается до романтизма: «нектар оргазма», «слоистые облака оргазма», «прекрасна гибель в момент оргазма», «закипающий оргазм», «свирепый оргазм», «взрыв оргазма», «жариться на огне оргазма».
В целом эта книжка-коблограмма – поучение молодым блядям, кодекс шлюхи. Кодекс прост, как половой акт: давать всем, кто просит, жрать все, что можно украсть, пить с кем попало, всем лгать, думать только о себе и дрыхнуть между едой и елдой. Странно, что это живое влагалище умеет не только пи́сать, но и писа́ть. Однако в любом случае очень важно такие книги давать молодежи, чтобы та не мучилась с романтикой, любовью и прочим вздором – зачем?.. Вот она, голая правда, лежит на заблеванной койке в общежитии!.. Полезная, нужная книга!.. Многих Вертеров с того света вернуть могла бы.
Побольше бы таких искренних книг – и мужской пол избавился бы, наконец, от своих вековечных иллюзий, сомнений, страхов и ненужного уважения к женщине, не тратил бы время на чтение глупых «мадам-бовари» и «анн-карениных», а действовал бы просто и надежно: пожрал-выпил-отодрал. Выдра Бовариха и швабра Анка – вот они кто. Меняю руку и сердце на ляжки и сиськи. И народу было бы куда легче жить.
Книжка должна иметь успех. И даже в Европе, где в последнее время все на сексе помешались, включая безобидные некогда рекламы. К примеру, если раньше на экране жизнерадостная бабулька средство для мойки унитазов в заскорузлых, но чисто вымытых руках вертела, то теперь эту бутылочку обязательно какой-нибудь шлюхе в бедра всунут, но так, конечно, чтобы лобок фирму не закрывал. Если раньше розовощекий ветеран, чудом избежавший Нюрнберга, на альпийской лужайке граблями «Solingen» восхищался, то теперь обязательно кто-нибудь среди садового инвентаря интимом занимается, а грабли «Solingen» рядом стоят и ждут, когда на них наступят. Если прежде карапуз биг-мак прилежно со всех сторон объедал, то теперь от биг-мака обязательно Он и Она откусить вместе норовят и тут же котлетными жирными губами поцеловаться: «Я люблю тебя, бэби!» «Я тебя тоже, бэби!»
Бирбаух встретил улыбками и кивками:
– Вот ваш обходной, время пошло. Деньги никого не ждут, зато за ними все гоняются… Штучный товар!..
Не успел он развить свою мысль, как в приемной бесшумно появилась фрау Грюн, основательно потрясла мою руку и дала просмотреть сопроводиловку:
– Она сейчас придет, с подругой явилась. Уже были тут, пошли по телефону звонить.
С фото смотрела девушка с короткой стрижкой, открытым лбом и пухлыми губами подростка. К сожалению, фото кончалось на уровне ключиц.
фамилия: Денисенко
имя: Оксана
год рождения: 1978
место рождения: г. Харьков, Украина
национальность: украинка
язык/и: русский
вероисповедание: православная
Не успел я дойти до комнаты переводчиков, как услышал за собой шум каблуков, шуршание колготок и шелест курток. Фрау Грюн уже открывает музгостиную, две женщины идут за ней. Одна, с длинным лицом и противным взглядом, одетая по-здешнему, войдя в комнату, тут же начинает тараторить по-немецки с фрау Грюн, задавать дурацкие вопросы. А другая, Оксана, стоит неподвижно у стены, не зная, что делать. Разница между фото и нынешним днем весьма ощутима: пополнела, вместо открытого лба – челка (обычно скрывающая прыщи или морщины), губы обветрены и сухи. Я пожал ее мокро-ледяную ладонь и попросил садиться – надо уточнить данные.
– А вы прямо из паспорта перепишите! – посоветовала фрау Грюн.
– Как, есть паспорт? – удивился я, привыкший, что тут ни у кого ничего нет, все сгорело, пропало, исчезло, украдено.
– Она по путевке приехала, никакого криминала, все официально… – тут же вмешалась подруга.
– В графе «язык» тут указан только русский. А украинский? – спросил я.
– В этом-то и все дело, – затараторила подруга, нагло усаживаясь боком на край стола. – Семья Оксанки всю жизнь во Владивостоке жила, отец моряком был, а мать – русская, Оксанка тоже в русскую школу ходила и украинской мовы не знает, поэтому теперь ей на Украине жить никак невозможно.
– А где родители?
– Умерли, – ответила курильщицким голосом Оксана и застыла.
От волнения она временами впадала в столбняк. Зато подруга рта не закрывала, переходя поминутно с немецкого на русский и обратно: успела сообщить, что она сама уже десять лет в Германии, приехала по немецкой линии из Владивостока, куда в свое время сослали ее прабабушку-швабку; у нее есть две машины, один дом, двое детей и одна собака, а Оксану она знает с детства и хочет ей помочь:
– Как вы думаете, получится?
– Откуда мне знать? – пожал я плечами. – Зависит от разного. И в датах пусть не путается – немцы этого очень не любят.
– Какие там даты-то, господи?.. Родилась, училась – и все. Ни мужа, ни детей. Что еще? – опять вылезла подруга.
– Всякое могут спрашивать, – уклончиво ответил я и, открыв паспорт, сравнил фото с оригиналом.
– Жизнь потрепала, – заметив мой взгляд, хрипло усмехнулась Оксана, выходя из спячки.
– Никто не молодеет. С кем сегодня работаем? – спросил я у фрау Грюн, закончив заполнять анкету.
– С господином Тилле. Так, всё?.. Давайте на отпечатки.
– Что это?.. Зачем?.. Что я, преступница?.. – узнав, в чем дело, слабо засопротивлялась Оксана, но подруга ей объяснила, что такое правило. Раз немцы говорят – надо делать.
Она безропотно протянула фрау Грюн свои ухоженные пальцы. И стояла во время всей процедуры, отвернувшись в сторону, как дети во время укола. Подруга из солидарности торчала возле нее, а я подумал, не потащится ли эта болтунья с нами к Тилле. Но фрау Грюн, окончив дело, твердо запретила подруге идти с нами, потому что такие интервью – не кафе или дискотека, а дело личное, и, если есть желание, можно привести адвоката, но не посторонних лиц.
– Нет, нет, зачем, – услышав слово «адвокат», по-советски испугалась подруга, пожелала Оксане ни пуха ни пера и удалилась в комнату ожидания, а мы отправились на второй этаж.
Тилле сидит за столом, заваленным папками и документами. Как всегда, в свитере и джинсах. Увидев нас, он очень удивился:
– Как, ко мне?.. Я же эту неделю с черной Африкой работаю?..
– Разве мы похожи на Африку? – шутливо ответил я. – Оба белые и красивые.
Оксана молча стояла у стола. Тилле коротко посмотрел на нее, что-то уточнил по телефону, жестом попросил садиться, а мне сообщил:
– Придется заменить Шнайдера, нету его, уехал на совещание. Не сидится старичку!.. Кто у нас сегодня?
– Не дезертир, во всяком случае. – Я подал ему дело.
Он вынул паспорт, цепко осмотрел его со всех сторон:
– Даже и документ есть. Отлично! И виза еще на три месяца… – удовлетворенно положил паспорт перед собой и, пододвигая диктофон и разбирая шнуры, спросил, искоса поглядывая на Оксану (которая в параличе смотрела куда-то в угол, закусив губу и сжав перед собой руки): – Что привело милую даму к нам?
– Нужда, – выдавила она, неуклюже поворачиваясь на стуле (изящества, главного в женщине, в ней было явно маловато).
Житие Оксаны было нехитрым и коротким: родилась в Харькове, ходила в детсад, отца перевели во Владивосток, там училась в школе, потом отец потерял работу, надо было возвращаться в Харьков…
– Родители живы? – спросил Тилле.
– Умерли, – ляпнул я за нее, помня о разговоре внизу.
– Когда, где, как?
Я перевел вопрос. Оксана вдруг замялась:
– Вообще-то они живы, но я с ними навсегда поссорилась. Это в моем сердце они умерли.
Я опешил:
– Ах, в сердце!.. Здесь не опера! Я уже сказал, что умерли, – зловеще прошептал я, подумав: «Если все бабы дуры, то эта, видимо, из самых больших…»
– Ну, пусть тогда умерли, – согласилась она.
– Когда, как?.. Он ждет ответа! – в панике подстегнул я ее.
– Авария? – Она полувопросительно уставилась на меня.
«Вот дуреха!» – разозлился я и перевел:
– Да, говорит, в дорожном происшествии.
– Когда? Где? – Тилле ждал конкретных данных.
– На шоссе, в 1995 году, дождь лил, скользко было, они с грибами шли и под грузовик оба попали, – ответила Оксана, а я, переводя эту чушь, с холодком подумал, что вляпываюсь в глупое дело: зачем-то вру сам и вынуждаю врать ее, нарушая тем самым главные заповеди толмачей.
Но, к счастью, Тилле удовлетворился этими данными и перешел к братьям и сестрам, которых не было, а я в душе зарекся вылезать с инициативами.
– Есть ли родственники, бабушки-дедушки, дяди-тети? – продолжал Тилле.
Оксана в замешательстве растянула локти по столу, уложила свою объемистую грудь на стол:
– Неа, никого нет. Бабуня умерла, а дедушка в дурдоме сидит. Рехнулся после смерти бабуни: стал всюду в ее шляпке и с ее сумкой ходить… Из дому убегать… Вот и посадили. Отец сам повез и сдал в дурдом.
– Когда?
– А вот в прошлом году.
– Как – в прошлом году? Вы же говорите, что ваши родители погибли в 95-м? – прищурился Тилле.
Оксана растерянно захлопала глазами. Я смотрел в стол. Она, глубоко вздохнув, убрала со стола грудь и начала плести:
– А… Э… Это… А это папа его раньше сдал, когда дедушка первый раз свихнулся и всех курей перерезал. Дедушка потом убежал из дурдома, а когда бабуня умерла, то он опять погнал и сам пошел в дурдом сдаваться…
– Это тебя надо в дурдом сдать! – проворчал я, переводя этот бред слово в слово.
Тилле сменил тему:
– Дальше. Чем занимались после школы? Работали?
– На бухгалтера училась, но потом не работала. Где работать, если бухгалтера со стажем голодают?.. Да, еще полгода в индейковедческой раболатории уборщицей отпахала…
– Где?
– Ну, у нас есть колледж битой птицы, при нем есть раболатория, где мясо индюшек под микроскопами смотрят… Мышца тазобедренного отруба…
– Лаборатория? Индейковедение? Отруб? Бред какой-то!
Но Тилле прервал нас:
– За рубежом бывали?
– В Турции и Чехии.
– Чем там занимались?
– Работала, – неуверенно сказала она и тише добавила: – На полях.
Тилле, посмотрев на ее холеные руки, поморщился:
– Руки что-то не очень для сельских работ…
– Давно было. Зажили, – она спрятала ладони между колен.
Тилле опять углубился в паспорт и спросил в конце концов:
– У вас виза была в Чехию на три месяца, а вы уехали оттуда через три недели. Почему?
– Начальник домогался… Сексуально, – ответила Оксана, уводя глаза в сторону.
– Просили там убежище?
– Там?.. А чего там просить?.. Там жизнь не особо лучше, чем у нас.
Тилле закончил осмотр паспорта, переложил бумаги по столу, перешел к другой теме:
– Как попали в Германию? Когда?
Оксана рассказала, что на поезде поехала в Москву, работу искать, жила там у подружки, один раз в Ленинград смотались: «В этом, как его… соборе Исаака… ну, где маятник болтается, была…» – там случайно познакомилась с одним немцем, он тоже из Москвы на день на экскурсию приехал, по-русски немного балакал; вместе на «Красной стреле» в Москву вернулись, в купе выпили, она ему всю свою жизнь рассказала, он и посоветовал: «Езжай, мол, в Германию, там тебе помогут!» – и помог.
Эта информация очень заинтересовала Тилле. Он выключил диктофон и спросил, знает ли она адрес, телефон и имя этого благодетеля и чего тот требовал за свою помощь.
– Переспать, наверно, что еще? – вполголоса предположил я, не дожидаясь ответа, но Тилле настойчиво повторил:
– Нет, нет, спросите. Может быть, он ее для проституции выписал. Такие случаи очень часты. И за такие вещи его посадить надо. Торговля людьми!
Но Оксана ответила, что немец Гюнтер, телефон и адрес неизвестны, ничего от нее не требовал, после поезда позвонил и пригласил в ресторан, был очень вежлив, танцевал с ней вальс, на другой день взял паспорт, зашел в посольство и сделал визу на Германию, ничего за это не требуя… ну, почти ничего…
– Почти?.. Как это понять?..
Она потупилась, покраснела:
– Ну… Даже стыдно сказать…
– Говорите, тут, как у врача.
– Попросил, чтобы я ему разрешила свои ноги полизать… И еще что-то… Глупости, в общем. Он был очень хороший, добрый… Старичок уже, лет сорока… Даже билет на автобус купил и денег на дорогу дал. На этом автобусе и приехала сюда.
Тилле усмехнулся, тихо сказал мне:
– Ничего, мы этого Гюнтера найдем, он и будет ее возвращение домой и все издержки оплачивать. – Потом включил диктофон: – Расскажите подробнее, через какие страны вы ехали.
– Да я и не знаю точно. Всюду не по-нашему написано. Через Польшу, наверно. До Франкфурта. А потом вот сюда, к подруге, она у нас в Харькове во дворе жила. У нее сейчас квартирую.
– А чем вы вообще обосновываете свою просьбу об убежище? – с некоторым раздражением спросил Тилле.
Я перевел и добавил, видя, что она опять впадает в коматозное состояние:
– Важный вопрос. Соберись.
Она встряхнулась и запричитала:
– Жизнь заела. Там жизни нету совсем. Там я с голоду умру или в колодец брошусь. Лучше сразу в петлю или под поезд. Там жить страшно, защиты нет никакой. И жить мне негде.
– Позвольте, как это «негде»?.. Вы сказали, что жили в Харькове с родителями, но они в 95-м умерли. Значит, у вас осталась квартира? Почему вы в ней не можете жить?
– Там же родичи, – удивилась Оксана.
– Они же умерли! – окрысился я, подумав: «Вот оно, пошло-поехало!.. Ложь сама себя клонирует!»
– Ах да, умерли… – Она почесала в затылке. – А… А квартира в таком состоянии, что там жить нельзя. На ремонт денег нет. Все протекло. А по стенам – здоровущие трещины, опасно для жизни. Из трещин тараканы таращатся. Это правда! В последнее время я даже у соседа жила.
Теперь пошли выяснения, что за сосед и сколько она жила. Оксана говорила то одно, то другое, путалась в датах, цифрах, адресах и в конце концов разревелась, сквозь слезы повторяя, что если назад – то лучше уж сразу в колодец или под поезд.
– Да хватит с этим поездом! Анна Каренина нашлась! Тут это не проходит, говори что-нибудь конкретное! – одернул я ее.
– Более веских причин нет? – подавая ей воду, настойчивее спросил Тилле.
Но она, всхлипывая, все вспоминала про колодец, рельсы и петлю. Потом прибавила:
– И голод! Голодала сильно! Вот!
– По ней не очень скажешь, – скептически покачал головой Тилле.
– Он сомневается, что ты так уж страшно голодала, – перевел я и добавил злорадно: – По фигурке действительно не скажешь.
– Это я с пшена опухла, – парировала она, кокетливо утираясь платочком и глядя на меня влажными глазами.
«А может, с икры и осетрины,» – хотел сказать я, но промолчал. Между тем Тилле наговорил несколько заключительных фраз и окончил интервью:
– Подождите внизу, – и тише добавил: – Случай простой. Надо уложиться в срок визы. Если сама уедет до истечения визы, у нее не будет проблем на границе. Нет денег на билет – найдем через посольство этого Гюнтера, он обязан оплатить.
Пока мы спускались, она канючила:
– Что, плохо, да?.. Плохо?..
– Да чего уж хорошего. С этим дедушкой-психом, подругой, родителями!.. Зачем живых людей хоронить?.. Видишь, чем обернулось?.. В глупое положение и себя и меня поставила!
– Ну, не сердись, миленький, – виновато сказала она и тронула меня за рукав, и от этих простых слов что-то сжалось внутри, я сразу забыл все неувязки, но одернул себя и солидно объяснил:
– Вместо того, чтобы про топор и колодец плести, надо было что-нибудь конкретное рассказывать. За что им уцепиться в твоем рассказе?.. Где тут политика?..
Внизу, в комнате переводчиков, у окна стоял высокий, хорошо одетый (в бабочке и вельветовом костюме-тройке) сухощавый негр с бородкой и пил чай из стаканчика. Открытый термос дымился на столе.
– Суза, переводчик с суахили и многих других языков, – представился он по-немецки.
Я пожал ему руку и пошел на балкон курить. Оксана – следом, попросила сигарету.
– А вообще как думаешь, дадут? – закуривая и ежась на холодке, опять с надеждой спросила она, заглядывая мне в глаза.
– Не знаю. Мало нужного рассказала. В колодец, под поезд, в петлю!.. Это не аргументы. Пол-Союза под поезд не прочь. Ничего хорошего. Одни глупости. Плохо дело. «Кушать нечего». Это экономическое беженство, а тут другая контора, – заговорил во мне комендант лагеря, который знает, что жертву сперва надо испугать, а потом уж брать голыми руками.
Она замерла с дымящейся сигаретой в губах.
– Это все Валька, подругин муж, неправильно научил: иди, говорит, и скажи, что жить негде и кушать нечего, они и дадут. Вот он жлобяра в натуре! А я, дура, уши развесила!
– А что твоя подруга говорила?.. Что ты, мол, украинского языка не знаешь, вот тебя и терроризируют…
– А меня, между прочим, правда какие-то уроды-хохлы на базаре избили один раз, когда я не смогла им по-украински ответить!.. Правда-правда!.. Убить грозились: «Вначале всем взводом тебя, кацапка, отдерем, а потом на осине, как Олега Кошевого, повесим!..» – сообщила она, стряхивая пепел с балкона.
– А почему не рассказала?
– Паравилна!.. Учи!.. Учи!.. – вдруг раздалось из комнаты.
Мы оторопело посмотрели друг на друга. Я в замешательстве заглянул в комнату – это негр лыбился во весь свой белый рот, с ужимками жестикулируя и повторяя, то ли шутя, то ли серьезно:
– Твой зачема девучка учаши?
– Ты понимаешь по-русски? – спросил я, а в голове мелькнуло: «Вот оно! Этого еще не хватало! Сейчас донесет!..»
– Суза пять лет Руссия жити, Ростов-дедушка, Одесс-бабушка быти.
Оксана с изумлением смотрела на него.
– О, харашо девучка! Помогай нада. Паравилна, политик, политик нада! Суза знати.
– Она уже дала интервью, поздно теперь думать, – сказал я, намекая, что моя учеба уже не имеет значения.
– Нича, адваката можно потома сказати, девучка на интервуй валнавай, а патом вспаминай… – невозмутимо ответил Суза и вытащил из портфеля два пластиковых стаканчика: – Чая?.. Откуд девучка?..
– Из Харькова.
– Как ими?.. О, Оксана, Натьяша, Ленучка, рули сюда, вали туда! – развеселился Суза. – Ранша вся Натьяша и Ленучка мой быти!.. Иди, разгавора буди. Нада, нада!.. Давай-вставай! Сувай-давай! – углубился он в забытые сладкие слова, а у меня отлегло от сердца, хотя я и подумал, что, видно, в этом здании уши есть даже у балконов.
Тут появилась подруга. Оксана плаксиво ей пожаловалась, что противный Валька все неправильно насоветовал, но подруга хладнокровно махнула рукой:
– Ладно, попытка – не пытка. Тут не выйдет, по-другому попробуем. Вот, есть же Холгер, за пять тысяч фиктивно расписаться может с тобой. А деньги ему потом отработаешь… – Она тут же сообщила, что Холгер – это бывший казахстанский немец Олег, Олежка-героинист, за деньги готовый жениться фиктивно хоть на собственной матери. – Ладно, пошли, я опаздываю на работу.
– Надо еще протокол прочитать и подписать, – напомнил я.
– Да? Тогда я пошла, а Вальку за тобой пришлю, у нас две машины есть, о’кей?..
Она деловито застучала каблучками по тихому коридору. Суза передразнил ее движения:
– Бизнес-вумен! Ое, ое, ое!..
И принялся рассказывать о своей счастливой жизни в «Руссии», куда его, продав полплемени в рабство и снабдив деньгами, послал папа-вождь из Экваториальной Африки. В общаге каждый день шли кутежи с музыкой, «пянка и бладка», а он, Суза, был всеми любим и всем нужен, потому что папа-вождь, продав еще раньше другие полплемени, обучал его с детства языкам, а русские братья и сестры никаких языков, кроме «иоб-твоя-мати», не знали; и Суза помогал им готовиться к экзаменам и писать курсовые работы («девучка, адин работ – адин крават, ибиомат»). Кроме того, он был помощником коменданта общежития и имел всех девочек, которых хотел, а хотел он всех, даже кривых, косых и косолапых.
– Ишо, ишо, Суза!.. Давай-ебай! Давай-давай!.. Ишо-ишо!.. – кривлялся он, изображая экстаз этих девушек, и кричал так громко, что в комнату заглянула фрау Грюн:
– Тише, Суза, не пугай людей!
Суза подскочил к ней и заплясал, целуя ей руки, выделывая па и громко напевая:
– Negerkuss, Negerkuss, was ist süßer?[9]
Мы захлопали в такт, и во время общего веселья зазвонил телефон – протокол был готов. И пока мы шли по коридору, вслед нам неслись топот и вскрики суахильца:
– Рули суда, подльюка-сука, сидим-говорим, чай пити, колбасилы кушати!
Тилле по телефону обсуждал план поездки на какую-то ярмарку, где перед закрытием можно будет купить товары со скидкой. Он указал нам на отдельный столик под картами:
– Садитесь там, кабинет большой, друг другу мешать не будем, переводите… Вот протокол.
За маленьким столиком наши колени сразу и неизбежно соприкоснулись да так и остались. Она ногу не отодвигала, комендант лагеря тоже прижал свою ногу плотнее. Смыкались косточки колен, сливалась плоть. Тепло тел перемешивалось, мешалось, месилось, мешало думать…
С Оксаны сон как рукой сняло, она смотрела на меня очень внимательно, шевеля ноздрями и часто откидывая волосы с висков и ушей. Этот жест меня всегда злил: если волосы падают, то их надо уложить или закрепить, а не зачесываться поминутно по-обезьяньи, руки, уши и шею лишний раз показывать и глаза мозолить: смотрите, дурачки.
Уже наученный работать не спеша (дела идут, контора пишет), я начал торжественно читать протокол по-немецки, а потом так же обстоятельно переводить на русский:
– Вопрос номер один, двоеточие, большая буква, назовите ваше имя и фамилию, точка, абзац. Ответ номер один, двоеточие, меня зовут Оксана, запятая, фамилия моя Денисенко, точка, абзац… А как тебя правда зовут?.. – прервал я свое оракулье чтение.
– Ты чего, это же мой настоящий паспорт!..
– Ладно, просто спросил. Прошлый раз парень весь день говорил, что его зовут Потап, а в самом конце оказался совсем другой, Юрий… Вопрос номер два, двоеточие, назовите число, запятая, месяц и год вашего рождения, точка, абзац. Ответ номер два, двоеточие, я родилась двадцать пятого февраля тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, точка, абзац… Рыба?..
– Рыба… Миленький, слышь, помоги… Раба буду пожизненно… А?.. – И она очень определенно посмотрела мне в глаза, всей тяжестью налегла на ногу и даже попыталась опустить под стол руку: – Давай, миленький, зайчик, помоги.
И она так надавила бедром на мою ногу, что столик заскрипел и сдвинулся с места. Тилле, не прерывая разговора, подозрительно посмотрел в нашу сторону. Я заерзал на стуле, якобы устраиваясь удобнее, она сообразила отпрянуть – наши колени разомкнулись, тепло исчезло, повеяло могильным холодом.
– Он смотрит, сиди прилично, – прошептал я среди чтения.
– Да, миленький…
Наконец Тилле закончил разговор и начал перебирать бумаги. Заметив, что я несколько раз посмотрел в его сторону, он спросил:
– Есть проблемы?
Прикинувшись дурачком, я сказал:
– Шнайдер говорил мне, что все факты надо охватить. Просто я подумал, может, это важно…
– Что?
– Пока мы ждали внизу, она рассказала мне, что в Харькове на базаре, где она торговала, ее терроризировали украинские нацисты за то, что она не знает украинского языка, не может отвечать на их вопросы. Палатку переворачивали, товар отнимали, портили, били, даже чуть ли не изнасиловали…
Тилле покачал головой:
– Это все равно не меняет дела. В таких случаях следует обращаться в местную полицию, а не в Германию.
– Да там, наверно, и полиция такая же? – наивно предположил я.
Тилле развел руками:
– Вполне может быть. Но у нас другие функции. Мы не можем принимать всех, кого бьют на базарах. Базаров на свете много. И половина конфликтов – из-за языка. Обломки Вавилонской башни, так сказать… Кстати, помните нашего знакомого, который всю Италию пешком прошел?
– Да, Лунгарь. А что, сбежал?..
– Куда ему бежать?.. Нет, просто это никакой не Лунгарь, а некто Сергей Выхристюк. Определили по отпечаткам пальцев. Уже один раз пытался сдаться в азюль в прошлом году.
– Преступник?
– Кто его знает? Год назад этот Выхристюк, получив отказ, исчез, а теперь вот опять объявился, заново пробует.
– Раз он был тут в прошлом году, значит, весь его рассказ – ложь? – подсчитал я.
– Конечно. Как он мог быть одновременно и тут и там?..
– А я, знаете, поверил ему. Он так складно рассказывал, в таких подробностях, – признался я.
Тилле усмехнулся:
– Я тоже… Я попросил переслать мне дело, посмотрим, какие небылицы он в прошлом году плел… Уже закончили с протоколом?.. Не буду вам мешать.
И он вышел в коридор, а я сообщил Оксане о своей безуспешной попытке и о совете Тилле обращаться в местную полицию. Она неопределенно отозвалась:
– Да ну!.. Лучше с урками спать, чем с полицаями на сексоповал идти… Живой не выпустят… Спасибо тебе, солнышко, за все! – И ее колено опять уперлось в мою ногу, горячо приросло к ней, и я решил, что для коменданта лагеря настало время действовать:
– А там, где ты живешь, есть телефон?.. Дай на всякий случай, может, адвокат тебе понадобится или еще что…
– Ага, ага, очень понадобится, – закивала она и, оторвав прямо от протокола малюсенький лоскуток, стала на нем царапать цифры.
В этот момент внезапно вошел Тилле, мы невольно обернулись на его шаги и, как нашкодившие школьники, уставились на него, а он – на нас. Он явно видел бумажку с цифрами, и я был вынужден пояснить:
– Вот, телефон свой даю, она хочет потом к адвокату обратиться, а у меня есть знакомый, который специализируется по таким делам…
Тилле скептически посмотрел на меня:
– Не советую с этим связываться. Никакой адвокат ей не поможет, а деньги с нее будет тянуть исправно. А еще, чего доброго, и с вас, если ваше протеже исчезнет, с ним не расплатившись.
– Но я вовсе не собираюсь ей протежировать, просто дал телефон, – накрыл я протоколом бумажку, в который уж раз ругая себя за мальчишество: не мог подождать с этими глупостями до коридора? Нет, надо было прямо на глазах у Тилле телефонами обмениваться!.. Есть дурачки умные, а ты, видно, из самых глупых…
Я взглянул на часы и уже по-быстрому, без точек и абзацев, доперевел остаток текста. Тилле пошел вместе с нами вниз улаживать какую-то проблему. В коридоре маячил парень в кожаной куртке – муж подруги, приехавший за Оксаной. Заглянув в комнату переводчиков, я увидел, что там сидит Суза и пьет чай; напротив на стуле пристроилась тоненькая молодая негритяночка, а из-под стола выглядывает светло-кофейный негритенок, сосущий шариковую ручку с того конца, которым пишут.
– Вота протоколу ждёмы. С немец жилась тут, а сразу он ей бросал с дитёном… – радостно сообщил мне Суза.
– Политическое дело, надо разобрать в бундестаге, – буркнул я.
– Канецна, политик!.. – заулыбался он и перешел на свои русские воспоминания: – Ленучка, Натьяша, вали-рули сюда, ой-ей, юхнеми, зачема не нада, нада-нада!..
Когда я выглянул в коридор, там уже никого не было. Бирбаух громко вызывал по телефону для кого-то такси. Оказалось, для коллеги Хонг. Попросив подвезти к вокзалу, я подсел в машину и под небесное щебетание вьетнамки думал о том, что после сегодняшних ошибок меня вряд ли пригласят опять. И поделом. «Да какие там ошибки? – говорил другой, упорный голос. – Ты только пробовал помочь человеку, разве это ошибка? Все равно это как мертвому припарки!»
На перроне, шаря по карманам в поисках зажигалки, я обнаружил крохотный лоскуток с ее номером. Успела сунуть! И я перепрятал лоскуток в бумажник. Вдруг ей и правда понадобится адвокат? В конце концов, «всем помогать» – это самая святая заповедь не только толмача, но и человека. Как с этим быть?..
Однако выводы делать надо. А какие? А простые – держать язык за зубами, переводить, что слышишь, – и все, свободен, а со своими советами никуда не лезть и молчать, пока не спросят. Ведь толмач – это только говорящий язык без мозга и головы, хоть и с тиннитусом.
Инспекторши из Азии
Дорогой друг, чем дальше в чащу – тем гуще страх: то лежу, как баклажан в овощехранилище (тепло, темно, уютно, спокойно, никто на куски не режет и в кипящее масло не кидает – чего еще надо), а то глаз сомкнуть не могу, чего-то все ворочаюсь. Вот вчера ночью доворочался: встал в туалет – и вдруг поясница раскололась надвое, натрое, на осколки разлетелась, да так, что упасть пришлось!.. Что за напасть?! Два дня с лежанки вставать не мог, столько на одном боку лежал, что левую часть головы отлежал: глаз слезится, в ухе какие-то новые звуки появились, ноздрю прижало к перепонке, из-за чего дышать только ртом могу, отчего губы обветрены и носоглотка сохнет.
Пришлось к Поясничнику плестись, на кусок бамбука опираясь.
Этот доктор-травматург на кушетку уложил, стал щупать, говоря, между прочим, что у людей с позвоночником проблемы потому, что у человека скелет рассчитан на четырехлапое хождение, а он взял да раньше времени на две ноги поднялся – вот и результат! Человеку среди прямоходящих делать нечего! Его место – в другом подвиде. Конечно, когда обезьяна сообразила встать на задние лапы, а передние высвободить для всяких глупостей и мерзостей, то это был поступок, веха, этап. Но встав, она (или бог с природой) не позаботилась о том, чтобы таз и крестец укрепить, поэтому две бедные задние лапы так и остались в тени, в виде немых слуг, обреченных тупо ходить по грязи, непомерные тяжести носить и гудеть от перегрузок.
«Да и мозг человека желает куда лучшего, – добавил Поясничник, ноги мои туда-сюда двигая (чтобы межпозвоночную грыжу исключить и гангрену опередить). – Пока что у человека активно работают только ящерные участки мозга, отвечающие за разбой, грабеж и агрессию, а следующие слои еще как следует не отформатированы. Да и что вы хотите?.. На вырост лап у рыб миллионы лет понадобилось. А первые люди у своих костровищ и пещер только сорок тысяч лет назад копошиться начали. Нам еще расти и расти, так что ничем вам, дорогой мой пациент, помочь не могу, все претензии – к богу, пусть он вам поможет, если он есть, конечно. А если его нет, то от тупой, злой и бескрылой природы помощи ожидать не советую, она только процессами спаривания, еды и испражнений занята, не до вашего скелета ей сейчас».
Потом начал человеконенавистнические речи о том, что принцип природы прост, как ньютоново яблоко: выживет хомо сапиенс как звено эволюции – хорошо, не выживет – еще лучше, без него жизнь на земле гуще расцветет и в свой ритм войдет, флора и фауна, оклемавшись, благоденствовать будут без нашего, крайне беспокойного и злого, подвида обезьяньих приматов, которые день и ночь атмосферу загаживают, леса рубят, реки травят и мусор тоннами в океан спускают. Да если бы только мусор в океан!.. На небе кометам с астероидами летать скоро места не будет – всё спутниками занято! На Марс и Венеру зарятся, как будто на Земле дела все переделаны и можно по гостям ходить. А дома – дел невпроворот: надо одни города разрушать, а другие – бомбить, старых идолов разбивать, а новых на их место водружать…
Пока я штаны натягивал и с кушетки на кресло перебирался, успел услышать от Поясничника богословский тезис о том, зачем, мол, вообще бог создал разные религии – ведь и одной какой-нибудь хватило бы за глаза людям мозги пудрить и в узде держать?! Зачем разных божков на небо насаживать и насаждать?.. Чтоб во славу их людей истреблять и садизм культивировать?.. Или это просто от нечего делать: развлечение, боговы кубики-рубики, аллахи-маллахи, баалы-ваалы, астарты на старте, а на земле от всей этой галиматьи уже какой век кровавая пена пузырится?..
Я молчал, не возражал, ждал, чтобы он рецепт на таблетки от боли выписал. А он разошелся и совсем уже богохульственные беседы завел: вот ему, как специалисту по позвоночным, не совсем ясно, а вернее, совсем не ясно, как вообще понимать тезис о том, что бог создал Адама?.. А остальных кто создал – тоже бог или уже сам Адам, по своей инициативе?.. Или надо понимать так, что бог создает каждый раз нового человека по образу и подобию своему? Если так, то он должен трудиться не покладая рук – ведь в мире каждый день рождается 365 тысяч детей… Иными словами: человек – это штамповка или ручная штучная работа? Стандарт или феномен?
Нет, решили мы сообща, бог создал только Адама, а остальные люди создались сами, уже без божьей помощи, а с помощью пениса и вагины, потому и бардак царит, и больничные кассы за боль в пояснице не платят, хотя, конечно, на всех страховок не напасешься, люди же совсем свихнулись: одни на крокодилов охотятся, другие, слепые, ощупью на скалы лезут, третьи из космического корабля на парашюте прыгать хотят, четвертые с гор на лыжах мчатся, пятые в подводные пещеры намыливаются… Сошлись на том, что «Sport ist Mord»[10], а лучшего места на свете, чем удобный диван, еще и не придумано.
Напоследок врач-палач успел еще систему питания покритиковать: зачем надо было создавать хищников и травоядных?.. Зачем чья-то смерть должна лежать в основе чьей-то жизни?.. Чем эта курица провинилась перед нами, что ей надо было родиться, сидеть в клетке, а потом быть зарезанной для того, чтобы мы два раза рыгнули после обеда, а назавтра выпустили бы божью душу в унитаз?.. И не противоречит ли себе бог, создавая курицу для унитаза, а человека – для могилы и червей?.. Притом волк бегает, чтобы жрать, а заяц – чтобы выжить. Антилопа целый день траву щиплет, в себе, в своем мясе, энергию концентрируя, а лев дрыхнет в тени, но раз в три дня жрет пол-антилопы и тем самым ею с таким трудом собранную энергию захватывает и в себя всаживает – и опять спать… Право сильного еще никто не отменял. Немецкие дотошники-ученые доказали, дерьмо разных зверей проанализировав, что процент усвояемости пищи у царя зверей – самый высокий и выгодный… Впрочем, на то он и царь.
Ушел я от Травматурга с болью в крестце, но с просветленной головой. Он меня всегда на высокое настраивает. А с высоким даже низкое как-то меньше беспокоит. Это я уже знаю: как боли в спине – так о Вселенной думать надо; тиннитус донимает – о начале времен: что было до времени и что после него будет; палец порезал – тут же мысли в сторону Большого взрыва уводи – в какой точке это случилось, и где эта точка висела, из чего состояла и кто ее вообще поставил. Это, наверно, идиототерапия называется, при которой ты сам себе и идиот, и терапевт.
Плетусь по улице и думаю, сколько психов вокруг, кому идиототерапия и дебилография не помешали бы. Совсем недавно сосед-Монстрадамус возмущался: демократия в Германии до того докатилась, что психически больным разрешено телефоном и Интернетом пользоваться, как один его знакомый ресторанщик Шульц из Мюнхена, который попал в дурдом с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз», а через три месяца сидеть ему стало скучно, и он удумал устроить «бразильский вечер», да не где-нибудь, а в отеле «Маритим» в Мюнхене, благо его пригородный ресторан был хорошо известен (но никто не знал, что он попал в психушку, – врачебная тайна). Он позвонил в «Маритим», управляющему, которого знал лично, все обговорил, заказал стол на 100 персон, самбу, румбу, тумбы с бабами в павлиньих опахалах, факелы, декор из страусовых перьев, пирожные, коктейли, все подтвердил в электронном письме. Часто звонил, обсуждал подробности, что-то добавлял, что-то корректировал (типа какого цвета скатерти желательны, в чем заключен секрет расстановки салфеток, куда розы, а куда – тюльпаны, у кого можно одолжить чучело пумы и где заказывать самых пухленьких танцовщиц).
Потом разослал по Интернету пригласительные билеты своим знакомым (также ничего не подозревавшим), вплоть до Австрии и Голландии. Честь честью был указан план Мюнхена с отелем, и просьбы сообщить, сколько персон приедет, встречать ли в аэропорту, авиабилеты сдавать ему, он тут же оплатит наличными…
Почему «бразильский вечер» выполз из больной головы?.. А потому, что Бразилия играла большую роль в его психозе: год назад именно в Рио-де-Жанейро, от обилия живого голого мяса, с ним случился первый приступ – он стал бросаться на женщин, и его, избив, в смирительной рубашке услали в Мюнхен, а из аэропорта отвезли прямо в клинику, но там подержали и выпустили, списав весь психоз на жару и длительное воздержание. Но болезнь тлела. И когда он принялся украшать фасад своего дома гигантскими порнофото, его забрали во второй раз, после чего он и решил, что пора самому браться за дело и устраивать праздник души и тела.
Бразильский вечер лопнул только в день банкета: гости не могли понять, где главное лицо, почему их не встречают лимузины и кому сдавать билеты. Управляющий был в смятении. За все, в итоге, расплатилась медицинская страховка, так как психбольной за свои действия не ответчик. Ну и кто виноват? Демократия, как всегда.
…Так лежал я пару дней в дыре, и какая-то странная напасть меня одолела – мурашки. Да не в ноге, а на полу: вдруг стал замечать, что под одеждой, сброшенной на ночь на пол, мелкие и шустрые, как живые чаинки, мурашки появляться начали. Нигде по комнате нет – а там вдруг возникают. Что за черт? Откуда? Я все углы дезодором попшикал – безрезультатно. И откуда приходят – непонятно. Я одежду на себя напяливаю, а их, грешен, бью и давлю. А что делать?.. Смотреть на них? Так размножатся, чуму какую-нибудь муравьиную занесут, ее не хватало… Были бы мыши – мышей бы убивал…
И глупые эти мураши – сами под ноги ползут и лезут, как люди к своим богам. А бог их раз – и в каталажку, или в кипяток, или вообще на тот свет, откуда ответа нет… Интересно, знает ли эта мурашка, что сейчас на свою смерть в мою тапку тычется, что живет она на планете Земля, которая вместе с Солнцем, в числе прочих миллиардов звезд, мчится в лихорадочной гонке по спирали галактического диска, в огромной тьме и вечной пустоте, со скоростью 220 километров в секунду?.. Вряд ли, а то от страха умерла бы, как я чуть не умер, когда от соседа-Монстрадамуса эти вычисления услышал и представил их, на минуточку…
Но не дали отлежаться – звонок из лагеря был: «Выручайте, переводить надо! В данных у беженки местом рождения “Узбекистан” написан, мы вызвали тюрколога, а она, оказывается, русская. Так что работа ждет!» – «Ходить не могу, люмбаго!» – «На такси приезжайте, мы оплатим».
Что делать? Пришлось палку у Монстрадамуса одолжить и кое-как потащиться, причем зловредный старик, узнав, что е́ду русским переводить, шепнул мне, что русские – загадочный и мистический народ, неизвестно, чего от них ожидать можно, и не исключено, что они потопчутся, потопчутся – и назад, обратно в свой социализм попросятся. И Бисмарка вспомнил, говорившего, что никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе, и никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.
Времени отлаиваться у меня не было, а про социализм показалось нереальным, но напугало: ведь если социализм – то граница на замке, как народу бежать?.. И нам, толмачам, что делать – зубы на полку?.. Дважды один и тот же кусок хлеба не прожуешь – все время новый в рот вставлять надо… Но делать нечего – надо идти. Беру свои полкубометра воздуха и иду.
Приехал раньше времени – у Бирбауха еще первая бутылка пива непочатой стояла, а сам он деловито возился под столом, что-то в мешки из картонного ящика перекладывая. Увидев меня, почему-то смутился и поспешил прикрыть ящик.
– Что, героин из Карачи подвезли? – вежливо спросил я.
– Да какое там… Если бы… – распрямился он, еще розовый от наклона. – Корм для кошек… Сосед мой на этой фабрике работает, иногда подкидывает по дешевке – для своих у них там скидка. У него самого – ни собак, ни кошек, кроме параличной тети. А у моего деверя – целых три кошки, он всегда берет по полцены… Да чего только за деньги не сделаешь!.. Они родства не знают…
Тут в дверном проеме замаячила фигура в пальто песочного цвета.
– А, господин Хуссейн пожаловал! – приветливо нажал Бирбаух на кнопку. – Пожальте!.. Ваших много сегодня!.. Уже сидят, плов кушают!
Мы поздоровались с Хуссейном. Он взял свой обходной, заглянул в приемную и что-то грозно сказал притихшей семье. Мать в чадре, кормившая курчавого ребенка, застыла на месте, спрятала коробку. Отец шикнул на других детей, курочивших под стульями многострадальные игрушечные вагончики.
В комнате переводчиков – пусто и темно. Мы включили свет и сели за столы. Хуссейн достал из внутреннего кармана термос.
– Зима. Работы мало, – сказал он, поглаживая багровый и мясистый нос. – Холодно им сейчас бежать, по домам сидят, чай пьют.
– Ну, вам-то жаловаться грех, – ответил я. – Если у вас работы мало – то что мне говорить?.. В Чечне притихло, в Карабахе больше не стреляют, в Белоруссии спячка…
– Ничего, не унывай, что-нибудь случится. На Индостане тоже тихо было – а сейчас?.. Афганистан день и ночь по ТВ показывают! – уверенно обнадежил он меня, наливая зеленый чай в пластиковые стаканчики. – Одного знакомого переводчика посылают в Кабул с делегацией. Хорошо заработает. Интересно из 21-го века попасть в Средневековье!..
– Правда, что по мусульманскому календарю сейчас идет 1375-й? – вспомнил я.
– 1380-й, от дня рождения пророка, – уточнил Хуссейн. – Говорят, что там скоро наступит демократия и у каждого афганца будет личная зубная щетка, которую не надо делить с соседями! – невесело пошутил он.
Потом мы, взяв стаканчики, смотрели в окно, где вдруг завихрились ошалелые снежинки. Хуссейн грустно качал головой:
– Надоело все… Устал… Давление мучит… Климат плохой… Люди другие…
– Каждый день работаешь, вот и устал, – с хорошей завистью заметил я, отходя от окна.
– А что толку?.. – почесал он лысину. – Денег все равно нет.
– Деньги – понятие растяжимое. Как умирающий и воскресающий Осирис. Их никогда нет, но они всегда появляются! – махнул я рукой.
В дверь неслышно вошла фрау Грюн в джинсах и бесшумных тапочках.
– Доброе утро! Самые исполнительные уже тут! – сказала она, крепко тряхнув нам руки и бросая на стол папки. – Это для вас, Хуссейн. А ваши дела пока не готовы – кое-что уточняется.
– Дела? – переспросил я. – Что, много людей?
– Мать и дочь. Надо перезвонить, узнать кое-что. Ну вы же понимаете – понедельник, никого еще на рабочих местах нет. – Фрау Грюн ловко присела боком на стол, сплющив свою крепенькую спортивную ягодицу. – Вообще у нас в Германии люди работают только в четверг…
– Почему в четверг?
– А судите сами: в понедельник они еще приходят в себя после выходных, во вторник – собираются приступать к работе, в среду – приступают, в четверг – работают, в пятницу отходят от рабочей недели, а в субботу и воскресенье – отдыхают! А в понедельник – всё сначала.
– Хорошо, что еще хоть в четверг работают. У нас в Ираке вообще никто не работает, – заметил Хуссейн. – Всё стоит, производства заброшены. Союз раньше много помогал, а сейчас нет Союза, некому помочь… А во всём проклятый Буш-отец виноват!.. Он же преступник, его под трибунал надо! – рубанул он рукой по воздуху.
– Почему? – удивилась фрау Грюн. – При чем тут Буш-отец?
– А кто в 91-м по приказу своего сообщника, Саудовской Аравии, и с помощью продажной Турции Ирак разбомбил?
– Да, все мы под американцами ходим, – вздохнула фрау Грюн. – Кстати, сейчас по радио сказали, что опять какой-то палестинец себя на бомбе взорвал. Не могу этих людей понять. Идею свою уважают, а себя – нет.
– Бомбы есть – ума не надо, – отозвался Хуссейн, вспомнив старую шутку о разнице между демократией и тиранией: в демократии – много голосов и одно оружие, а в тирании – один голос, но много оружия.
– Хорошо сказано. Ну, пойду посмотрю, как дела. – Фрау Грюн ловко соскочила со стола. – А вы, Хуссейн, идите, разберитесь там с вашими, узнайте, на сорани или корманчи они говорят, чтоб потом не было недоразумений.
И она бесшумно исчезла. Хуссейн тоже пошел, проклиная по дороге Турцию, семью Бушей и всех евреев мира. А я сел на подоконник, уставился в окно, стал ждать, вспомнил свой первый приезд в лагерь… Тоже был снег, запотевшие окна, белый пейзаж…
Да, с разными людьми столкнула тут судьба, свела на несколько жизненно важных часов, переплела кармы… В начале люди обычно напряжены и насторожены, в конце – спокойны и раскованны. Хорошо, когда начальное недоверие меняется на конечную благодарность. И плох тот толмач, с которым происходит наоборот. А впрочем, не все ли равно? Атомы встретились, столкнулись, разлетелись…
Пришла фрау Грюн с папкой и, передавая ее мне, сказала:
– Вот дело матери. А дочка попозже будет готова… Компьютер у секретарши что-то барахлит…
– Кто это у нас сегодня? – принимая папку, спросил я.
С фотографии на меня взглянуло лошадиное лицо с многострадальными глазами бывсовчела и большими грубыми скулами времен татарского ига:
фамилия: Чичерина
имя: Варвара
год рождения: 1946
место рождения: г. Маргилан, Узбекистан
национальность: русская
язык/и: русский
вероисповедание: атеистка
В приемной Хуссейн грозными окриками наводил порядок, указывая, кому за кем идти. В другом углу, близко друг к другу, почти прижавшись, сидели две фигуры: большая, широкая, и малая, щуплая. Лиц против света не разобрать. Я подошел ближе.
– Варвара? Чичерина?
– Я самая! – встала большая женщина во весь свой высокий рост. Не только лицо лошадиное, но и фигура. Здоровая мосластая ломовая из страшного сна Раскольникова.
– А это дочь?
– Да, Аннушка. – Женщина широко пряданула головой. – Доченька.
Та тоже встала. Около мамы-лошади она смотрелась жеребенком с конским хвостиком и гнойными прыщиками на вытянутом лице. Ногти покрашены темно-зеленым лаком, отчего руки похожи на лапки с коготками.
– Так, дорогие мои. Я ваш переводчик. Вначале пойдет мама, потом дочь.
– Ясно, – кивнула Варвара, а Аннушка тихо зашипела:
– Я тут одна не останусь, мне страшно. – И она покосилась на Хуссейна, который что-то азартно объяснял папе-курду с висячими усами и глубокими морщинами на небритых щеках.
– Не бойся. Вон охрана сидит, тут тебя никто не тронет, – кивнул я на Бирбауха, занятого раскладкой почты. На его окне уже блестели две порожние бутылки из-под пива. («Ну и что, что всего 4,5 градуса?.. Градус к градусу – вот и набегает»). – Нет, я с вами пойду, – заныл жеребенок.
– Сколько ей? – удивился я.
– Да двадцать пять уже. Не маленькая. Ну чего ты, Аннушка, в самом деле? – погладила ее по голове мать. – Сиди тут, я скоро приду. Вон, журнал почитай… Кто тебя тронет тут?
Видя, что Хуссейн пока не собирается идти (он обсуждал теперь с папой какую-то справку, указывая, как на невольничьем рынке, на одного из детей), я пропустил Варвару в дверь. Она покорно зашагала впереди. При ходьбе ее сходство с лошадью стало сильнее – она не только топала ногами в подкованных сапогах, но и как-то странно и часто мотала головой, как бы отбиваясь от назойливых мыслей или мух. Круп двигался мерно и ходко.
– Такая застенчивая дочь? – спросил я.
– Поздний ребенок, я ее в тридцать родила, – обернулась она (я чуть не налетел на ее широкую спину). – Да и запугана очень…
– В тридцать? – усмехнулся я. – Тут в Германии в тридцать только о замужестве начинают подумывать!..
– Так то тут. А я в Узбекистане выросла. Там сами знаете, какие законы. Нашу семью в блокаду из Ленинграда в Узбекистан переселили, там и родилась. Назад уже не вернулись… Жили там тихо-мирно, пока вот вся эта переройка не пришла… Перерыли всё, перекопали… – Она подвигала большими скулами в угрюмой улыбке. – Пришлось в 90-м году в Кострому бежать…
– Почему именно в Кострому?
– Да муж мой беглый, алкаш проклятый, там жил…
Мы вошли в музгостиную. Фрау Грюн приветливым жестом попросила Варвару раздеться. Та скинула плащ. Была она широкотела, костиста, высока, одета в странный полумужской пиджак. Бурые, начавшие редеть волосы, вытянутое лицо. Перед аппаратом сидела строго и прямо, но дважды мигала именно в тот момент, когда фрау Грюн щелкала затвором.
– Ну и реакция! – Фрау Грюн попробовала в третий раз. Вышло.
Потом Варвара долго и тщательно мыла руки, сильно двигая лопатками и локтями, так что фрау Грюн даже одобрительно подмигнула мне – мол, какая тщательная, молодец. Наконец, мы принялись за уточнение данных.
– Имя, фамилия, год рождения – все верно… – бегло проглядела Варвара предварительные записи. – Да, место рождения – Узбекистан.
– А какой паспорт у вас?
– Российский, вот пожалуйста. – Она вынула из кармана плаща паспорт и положила на стол.
– Спрячьте в дело, – вполголоса сказала мне фрау Грюн и тут же добавила: – Хотя чего я вам говорю – вы и сами всё уже знаете.
– Да. И вы были моей крестной мамой, всему научили, все показали… – поддакнул я льстиво.
Чуть порозовев, она ответила:
– Учить особо нечему. Все и так ясно. Спросите, кстати, как это у нее российский паспорт, если она родилась в Узбекистане? – Она заглянула через мое плечо в анкету.
– Я как раз об этом спрашивал.
Варвара мотнула головой:
– Муж-алкаш помог, сделал. Он тогда еще не так пил, успели… И мне, и доченьке…
– Сам он из России? – уточнил я.
– Нет, он тоже из наших, из узбекских русских, как и я, – сказала она, сообщив дальше, что после рождения Аннушки муж начал ездить в Россию по делам, да так и застрял в Костроме, связался с какой-то шалавой, а потом, когда в Узбекистане погромы пошли, с турок-месхетинцев началось и на русских перекинулось, они к нему уехали, жили втроем на десяти метрах в коммуналке, пока у мужа крыша совсем не поехала: – Он вообще алкоголик третьей ступени…
– А это как? – заинтересовался я, бегло объяснив фрау Грюн, что беженка получила российский паспорт через мужа.
– Третья ступень – это когда уже глюки видят, белая горячка, белочка, – объяснила Варвара. – Первая ступень – когда каждый день пьют, она у него в Узбекистане началась. Вторая ступень – когда из дома выходить не могут – у него была, когда мы к нему приехали. А потом – третья… Хорошо, я сразу работу нашла. Я – бухгалтер высшей квалификации, меня знакомая в налоговую инспекцию под Костромой устроила.
– И документы есть?
– Конечно.
Она полезла во внутренний карман пиджака, но я остановил ее:
– Немцу покажете, мне не надо.
Мы стали писать дальше.
– Вера?.. Да какая у нас вера?.. С 17 лет в партии. Мой отец парторгом на заводе был, мать в школьном месткоме работала. И я все прошла: пионерию, комсомолию, компартию…
– И сейчас в членах?
– Нет, сейчас уже нет. Не до партии. Выжить бы. Партия нас бросила, предала. А этот алкаш проклятый нас вообще по миру пустил…
Тут в дверях появилась Аннушка.
– Мама, я там сидеть не хочу. Можно я тут побуду?
Я объяснил фрау Грюн, в чем дело. Та позволила Аннушке пока остаться.
– Так, давайте веру напишем православную, а то немцы юмора не поймут. И о своей партийности лучше помалкивать, тут диссиденты в почете, а не партийцы…
– Ясно. Пишите, что надо, вы лучше знаете… Как вообще думаете – это уважительная причина, чтобы нас приняли? – вдруг, нагнув упрямо голову, спросила она.
– Какая? – не понял я. – Что муж-алкаш из квартиры выгнал?
– Ну… А что?.. Нам-то жить негде…
– Это вообще не причина. Это бытовуха. Я думал, вы скажете: я, налоговый инспектор, открыла крупные махинации, меня преследует мафия, гонит полиция. Тогда да, понятно. А это что за причина? У половины мира мужья – пьяницы, а у другой половины жены – шлюхи… Нет, этого мало…
– А… – сглотнула Варвара. – А… Это конечно, гонят… Конечно… Понятно… Жить не дают…
Аннушка жадно слушала, стреляла глазами, шмыгала носом, теребила прыщи, как-то жалась и вздрагивала.
– Вам бы, как налоговому инспектору, в палатах золотых жить, а вы – честная, принципиальная, взяток не берете, вот и пострадали, – продолжал я, поглядывая на фрау Грюн, которая молча чистила станок.
– А… Ну да, ну да… – кивала Варвара, значительно посматривая на дочь (та зыркала ей в ответ). – Честная, конечно… Так и было все… Понятно…
Тут фрау Грюн сделала какое-то движение, и мне вдруг почудилось, что она не только внимательно вслушивается в мои слова, но и все понимает. «Лучше заткнись!» – сказал я себе и начал деловито складывать бумажки:
– Все проверено. Все правильно. Нам уже идти? К кому?
– К Шнайдеру. – И фрау Грюн махнула рукой, приглашая войти Хуссейна, за которым стояла широкая фигура небритого папы-курда, а дальше маячила вся семья – по росту.
Варвара взяла плащ и затопала из комнаты. Аннушка в замешательстве приподнялась со стула, завертела головой (белесые прыщи беспокойно заблестели, конский хвостик мотнулся на затылке).
– Пусть сидит, она мне не мешает, – разрешила фрау Грюн.
И Аннушка осталась наблюдать, как фрау Грюн радушными жестами приглашает главу семейства занять место перед аппаратом. Хуссейн подмигнул мне, когда я проходил мимо. Пока мы шли лестницей и коридорами, Варвара перекладывала плащ с руки на руку и бормотала:
– Это все ясно-понятно. Это конечно… А доченьке что говорить?..
– Откуда я знаю, милая? Откуда мне знать ваши дела?.. – отвечал я. – Только в любом случае пусть доченька говорит то же самое, что вы, слово в слово…
– Это как? – упрямо прядала она головой.
– Знаете, бывает, что мать говорит: «Я сто лет в лесах скрывалась, в берлоге жила, никого не видела!» – а дочь говорит: «Мамочка из комнаты не выходила, я ей каждый день туда еду носила и помойное ведро вытаскивала!» – туманно ответил я. – Она что у вас вообще делает? Учится? Работает?
– Работает. Тоже в налоговой инспекции. Когда она техникум кончила и диплом взяла, я ее сперва делопроизводителем к нам устроила, а потом в соседний городок в налоговую, она в Нерехти младшим инспектором была.
– Сколько там этих инспекций понатыкано? – удивился я. – В каждом городке – своя?.. Тогда понятно, почему до государства ничего не доходит!.. Ну вот, раз она тоже в инспекции работала, тогда, значит, и у нее большие проблемы из-за вас появились… Вам грозят – и ей угрожают. Вам говорят – ее убьем, а ей говорят – вас убьем! – заглянул я в ее измученные глаза бывсовчела, повидавшие всякое, многое, разное. – Правильно я вас понял?
– Правильно… Конечно… Как же по-другому-то?.. Именно так, – широко махала она головой, перебирая в уме какие-то детали.
Мы оказались возле открытой двери. Шнайдер разговаривал с кем-то по телефону, вежливым кивком указал на стулья. На столе у него горел новый, плоский и яркий, монитор. Варвара положила плащ, с храпом и вздохами уместила за столом свое нелепо большое тело, мельком огляделась. Шнайдер, закончив говорить, улыбчиво посмотрел на нее:
– Добрый день!
– Гутен таг! – ответила Варвара и, смутившись до румянца, пояснила, что еще в школе учила немецкий, но кроме «гутен таг», «хенде хох» и «гитлер капут», ничего не помнит, потому что немецкий язык им преподавал узбек-учитель, который предпочитал на уроках пить чай, угощать учеников насваем, считая, что после такой войны с фашистами немецкий язык долго никому не понадобится.
– Видите, как он ошибался! – заметил я на это.
Шнайдер спросил, что такое «насвай».
– А это зеленые шарики такие, вроде таблеток, узбеки их с утра до вечера сосут. Этот насвай вроде анаши… В Азии его все знают. За щекой как обезьяны держат, – пояснила Варвара..
– Так она из Азии? – удивился Шнайдер, просматривая дело.
– Она там родилась. А последние десять лет жила в России. Там и гражданство получила. В деле паспорт есть.
– Вижу, нашел… Это очень, очень хорошо… Кто она по специальности?.. Учительница?.. Врач?.. – оценивающе взглянул он на нее.
– Бухгалтер. В налоговой инспекции работала. Есть удостоверение.
– В России всякие удостоверения на любом базаре купить можно, – уклончиво сказал Шнайдер, внимательно рассматривая визы через лупу. – Еще две недели действительны… Отлично! Она с семьей?
– С дочерью.
– А где дело дочери? – перебрал он папки на столе.
– Еще не готово, пишут, компьютер у секретарши барахлит.
– Вы, я вижу, в курсе всех наших событий? – ласково посмотрел на меня Шнайдер. – А помните ваш первый рабочий день? Мы тогда с вами этого мнимого чеченца слушали… И вот, представьте, недавно от этого бандюги пришло забавное письмо… – Он порылся в бумагах, подал мне линованный листок бумаги. – Прочтите.
Это был короткий факс с грифом одного из спецприемников. Обращаясь к «господам», беженец писал, что он обманул их, зовут его не Жукаускас Витас, а совсем по-другому, и родился он не в Чечне, а в Литве, вот адрес и другие правильные данные, пусть поскорее сделают ему эрзац-паспорт и отправят домой, а то в тюрьме, без вины виноватым, устал сидеть.
– Почему вы должны ему делать документы и отправлять?
– У нас сдавался. Но вообще у нас все вверх ногами, нет даже единой картотеки отпечатков пальцев: у МВД – своя, у пограничников – своя, у ведомства по иностранцам – третья, у нас по беженцам – четвертая… Иди и работай в таком хаосе! – ворчал он, раскручивая шнур микрофона. – Так, пусть беженка представится! Где родились, выросли?
Варвара передернула головой и скороговоркой пробубнила данные:
– Родилась в Узбекистане. В блокаду туда семья была переселена… Тогда фашисты сильно давили по всему фронту, дорогу жизни на Ладоге перекрыли…
Шнайдер поспешил уйти от этой неприятной темы:
– Родственники за границей есть?
– Нет, откуда у советского человека родственники за границей могут быть? Нет и не было. Не дай бог.
– На родине?
– Был брат, в смуту сгинул. Где сейчас – не знаю. В Сибирь на заработки уехал – с тех пор ни слуху ни духу. Я и доченька – больше никого.
– Как и при каких обстоятельствах получили российский паспорт?
– А я не знаю толком. Мужу-алкашу дала денег, он нас прописал… Ему тогда еще можно было деньги в руки давать… Потом и гражданство сделал… Мне и доченьке. А у него уже раньше было.
Шнайдер что-то пометил у себя на листе и попросил рассказать, где Варвара училась.
Варвара пару раз упрямо мотнула головой, прерывисто вздохнула:
– Училась там же, где и родилась, – в Маргилане Ферганской области. Ходила в русскую школу № 12. Окончила десять классов в 1963-м. Потом поступила в финансовый техникум. Закончила в 1966-м. Работала бухгалтером сначала на мебельной фабрике, а потом – старшим бухгалтером на ткацкой.
– Что дальше?
– А что дальше? Дальше – перестройка, все лопнуло. Ничего хорошего. Вот человек знает, – кивнула она в мою сторону. – Помните, еще говорили, что у нас в Узбекистане все из-за клубники началось?.. И началось, и началось! Турок-месхетинцев жгли живьем, потом за русских принялись. Дома громить и баб насиловать. Бежать пришлось.
– Когда это было? – остановил ее Шнайдер.
– В конце 80-х, при Горбаче. Он же слабак был, ничего сделать не мог, вот и пошли бесчинства. Что русские цари веками собирали, этот дурачок в два счета за гроши продал… Эх, Русь обшарпанная! Не везет тебе! – заволновалась Варвара, угрюмо поблескивая глазами и качаясь на стуле.
Шнайдер начал что-то искать по компьютеру. Я молчал, Варвара что-то проворчала сквозь зубы (можно было различить «сосунок», «гад меченый»); найдя, что искал, Шнайдер сказал: – Дальше, пожалуйста.
– Дальше пошло и поехало: прибыли в Кострому, к бывшему мужу-алкашу, он там с 85-го года окопался. Его шалава к тому времени уже в психушку попала, мы у него поселились.
– Когда это было?
– В 1990 году, осенью.
– Адрес!
Варвара продиктовала, я записал, Шнайдер с трудом передиктовал адрес в микрофон, потом попросил рассказать о работе.
Варвара оживилась, замахала головой, переступила под столом ногами:
– Я много работала. Всю жизнь работала. Когда мы в Кострому приехали, как раз налоговые инспекции создавались, людей не хватало, а у меня диплом, стаж, опыт. Меня сразу взяли. На хорошем счету была… Вот, пожалуйста! – Она порылась в плаще и подала Шнайдеру удостоверение, на которое он взглянул мельком, кисло и невнимательно. – Вначале в Судиславле работала, недалеко от Костромы, потом в Первушино. Этот городок побольше будет. Жила в Костроме, ездила на работу в электричке. Пока все это не случилось…
– Что именно?
– А то… На крупное дело наткнулась, вот что… Человек вот знает… – пересохшими губами сказала Варвара, так вытянув в мою сторону свое конское лицо, что оно стало похоже на верблюжье. – Одну фирму проверяла, «ФАКТ» называется, экспортом-импортом занимались… И большую недостачу открыла – утайка налогов в особо крупных… Полмиллиона в долларах… Ну, я отчет написала, все указала. А меня начальник вызывает и говорит: «Мы, Варвара Захаровна, этого оформлять не можем!» «Почему?» – спрашиваю. «А потому. Знаешь ли ты, кто хозяин этого “ФАКТА”, будь он проклят? Нет? А мэр наш, вот кто! Это там дурак Буряк только фиктивным директором оформлен, а хозяин – наш любимый Иван Мелентьевич. Так что будь добра, перепиши отчет, пока не влипли!.. К тому же у нас только филиал, а центр фирмы – в Москве, вот пусть московские инспектора и ищут, а наше дело маленькое… Перепиши, христом-богом прошу, пока время есть!..» Я не стала переписывать. Он меня и просил, и умолял, и грозил, и пугал, я – ни в какую. Во-первых, думаю, может, провокацию строит?.. Он так иногда сотрудников проверял: сперва подбивает на всякие гадости, а потом с работы гонит. А во-вторых, я вообще всегда очень принципиальной и честной была, с пионерских времен неправду ненавижу… Так воспитана, что делать?..
Она перевела дух, я перевел ее слова, а Шнайдер в ответ сказал, что да, в это он верит, потому что он знает, что русские никому не доверяют и всегда перепроверяют своих людей и агентов, и что он слышал от отца о так называемой «чекистской мельнице», а на мой вопрос – что это такое, вид пытки? – объяснил, что это особый способ проверки: вот русская разведка строит на своей территории, где-нибудь в Сибири, лже-погранзаставу, например, точную копию японской, со всем антуражем и с квази-японскими пограничниками, забрасывает куда-нибудь рядом с ней своего агента, а лжеяпонцы ловят его и начинают допрашивать и пытать, кто его заслал и зачем, если он сдался и все рассказал – его депортируют в Союз, а там – расстрел или зона, если нет – тоже возвращают, но потом разведка уже ему доверяет и забрасывает реально, куда наметила.
Потом перевел разговор в более конкретное русло:
– Ну, не будем отвлекаться на абстракции, ближе к делу. Дальше что было?
Варвара помялась, поправила лацканы пиджака:
– Дальше?.. А что дальше?.. А, ну да… Стала меня донимать всякая нечисть по телефону. И на работу, и домой трезвонят, матом кроют, грозят: «Если отчет не перепишешь – дочку украдем, замучим, мужа повесим, тебя в землю уроем! Смотри, баба-дура, забирай отчет, не то плохо будет!» Я – к начальнику. Он руками разводит: «А я предупреждал, Варвара Захаровна, а я говорил… Покупай теперь оружие, носи для самообороны, я могу только с разрешением на ношение помочь, сестрин сын в инструкторах, подешевле сделать может». Какой совет дает, а?.. Где это видано, чтобы женщина с оружиями ходила? – Варвара вытащила мужской серый мятый платок и громко высморкалась, широко мотая головой в разные стороны.
Шнайдер, пережидая трубные звуки, что-то записал у себя на листке, еще раз заглянул в паспорт, потом спросил:
– Где располагался этот «ФАКТ»? Где у них было центральное бюро?
– Центр – в Москве. А филиалы – в разных местах. Один – у нас в Первушино.
– Продолжайте…
– Вот иду как-то домой, до станции с километр по леску идти, подъезжает какая-то черная машина, четыре лба вылезают, меня к дереву припирают и разговор про этот «ФАКТ» начинают… Хорошо, что знакомый на машине проезжал, остановил. Бугаи посопели, но отошли. Он взял меня с собой, спас. Я назавтра – к начальнику. Он мне говорит: «Придется теперь тебе, Варвара Захаровна, по другой дороге к станции ходить и каждый раз пути, как зайцу, менять!» А как их менять, когда одна дорога и есть. Что это – Москва, что ли, или ваша Чикага?.. Такая грязь на этой дороге, что в сапогах кирзовых приходилось весь год ходить… Я бы с удовольствием ее поменяла, эту дорогу, да на что?.. – (Она так пристукнула кулаком по столу, что Шнайдер вздрогнул и поспешил успокоить ее, сказав, что дороги – это общая проблема и что пусть лучше она говорит конкретно о своем деле.) – Дальше – хуже. Домой Аннушке звонят, гадости говорят, пугают: «Поймаем, говорят, тебя и вшестером в лифте снасилуем!» Ну, девочка боится, конечно. В лифте, вшестером… Это надо ж такое удумать, змеи!..
– А кто это были – бандиты или полиция? – спросил Шнайдер.
Варвара запнулась:
– Бандиты, кто же еще?
– Ну почему же: если предприятие принадлежало, как вы говорите, мэру, то вполне правомерно предположить, что он посылает ваш любимый ОМОН или продажную полицию, сплошь и рядом такое слышишь, – с искрой смеха взглянул он на меня.
Варвара почесала в голове:
– А правда… Да кто их сейчас разберет? Одеты все одинаково, в кожаные куртяги, все на ненаших машинах ездят, морды у всех разбойничьи… Не знаю. Я вообще после этого случая стресс получила нервный, в поликлинике консультации брала. На больничный вышла. Так эти подлюки не успокоились – ночью влезли в нашу инспекцию и все мои папки сожгли на месте…
– Как это? Пожар устроили? Инспекцию сожгли?
– Да нет, только мои папки в ведро мусорное побросали и сожгли… У нас ведро большое железное было, в каких воду носят… Я пошла в полицию заявлять, а там мне говорят: «Факт поджога будем расследовать. А вот прописку вашу аннулируем». Как, почему?.. «А потому, – смеются, – что ваш муж квартиру продал и сам куда-то уехал, вот бумаги!» – «Как так – продал?» – «Очень просто. Там теперь другие люди жить будут». Выяснилось, что правда, муж-алкаш пару дней назад от меня тайком по белой горячке продал комнату, а деньги в Окуневке со своим дружком пропил. То-то я смотрю – нет его дня два. Нам спать негде, пожили у соседки, я деньги заняла, визы сделала – и сюда…
– У нее муж алкоголик, – пояснил я Шнайдеру.
– Ах, вот оно что… Для России не большая новость, насколько мне известно… – шевельнул он бровями и исправно записал что-то, а потом спросил, не было ли больше эпизодов по шантажу и угрозам.
Варвара поворочалась на стуле, покрутила головой, но больше ничего особого припомнить не могла, кроме того, что в аэропорту Шереметьево к ним с доченькой подходили какие-то типы, похожие на тех, кто ее прижимал в лесу, и хотели помочь нести чемоданы…
– Всё?.. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, разве вы не можете, с вашей квалификацией и опытом, найти работу где-нибудь в другом регионе России – и жить спокойно?.. Гражданство у вас есть, работу вы всегда найдете, как нашли ее в Костроме, не лучше дома жить?.. Дома, как говорится, и стены помогают… – начал вкрадчивым тоном Шнайдер.
Варвара беспокойно скосила на меня тревожный глаз бывсовчела, почуявшего подвох:
– Ну… Это… Как его… Мафия всюду достанет!
– А зачем вы теперь мафии? – ласково продолжал Шнайдер. – Мафия украла и сожгла весь компромат, зачем ей теперь вас преследовать, на вас время, бензин и силы тратить?.. Россия большая, очень, очень большая… Если вы, к примеру, поедете жить, ну, например… – он склонился над открытым атласом, – в Екатеринбург, а еще лучше куда-нибудь подальше, в Красноярский край, например, или в Томскую область?.. Родных у вас нет, муж-алкоголик вас не держит на месте, а?.. А у вас, кстати, и брат где-то в Сибири, встретитесь! – сказал ей Шнайдер, а мне, тише, заметил: – Я всегда удивляюсь наивности ваших людей. У меня такое впечатление, что они все время витают в облаках. Вначале – коммунизм, братство, равенство. Теперь – что Германия или Франция их примет и будет за них решать все их бытовые проблемы… Вы говорили, дочь с ней?.. Ну, две инспекторши как-нибудь себя прокормят. Где-нибудь и как-нибудь проживут, не обязательно в Германию для этого ехать… – заключил он тихо, а ее официальным тоном спросил: – Были ли раньше у вас проблемы с властями?
Варвара размашисто и честно мотнула головой:
– Нет. Никогда! Боже упаси!
– А чего вы конкретно опасаетесь в случае возвращения в Россию?.. Россия большая, – напомнил он.
– Ну, как чего… Мести… Этих, как его… Бандюков… Полиции… Газпром… Саботаж… Всего боюсь и опасаюсь… – с остановками и вздохами перечислила она. – За доченьку боюсь, за себя тоже боюсь…
– За мужа… – добавил я.
– Нет, вот за него, гада, совсем не боюсь! Не выгнал бы нас – не мыкались бы по свету! – зло дернулась она. – Сколько он у меня крови попил! Ничего, отольются кошке мышкины слезы… Небось под забором сейчас где-нибудь валяется…
– Что за кошки-мышки? – не понял Шнайдер, перематывая кассету.
– Это поговорка такая. Означает, что за обиду слабого сильный будет когда-нибудь отвечать.
– А, ну да, ну да, кто-нибудь когда-нибудь должен за все ответить, хотя я лично очень в этом сомневаюсь… У меня больше вопросов нет. Хочет она что-нибудь добавить? – заключил он.
Варвара уставилась на него.
– Ну, что добавить?.. Прошу в беде не оставить, помочь, чем можете…
– Мы посмотрим, что можно сделать, – суховато кивнул Шнайдер. – Всё. Перерыв – полчаса. Потом приходите с дочерью, – сказал он мне.
Мы ушли из кабинета. Варвара громко цокала по притихшим на обед коридорам, молчала, прядала головой. Когда мы спустились вниз, музгостиная была уже закрыта, а Аннушка маялась одна в пустой приемной.
– Ну, вы тут поговорите… по факту «ФАКТА»… и вообще… А я через полчаса подойду, – сказал я.
Варвара цепко схватила мою руку своим холодным копытом, сжала до боли, заглянула в глаза:
– Спасибо за помощь и совет! Дай вам бог здоровья! – Сейчас ее мудро-скорбные глаза бывсовчела были полны благодарности.
– И вам того же, – ответил я, высвобождаясь из ледяной руки. – Посидите, поговорите с дочерью, чтоб она знала, что к чему… А я съем сосиску с булочкой и приду за ней. Аннушка, со мной пойдешь, не испугаешься?..
– С вами пойду! – ответила Аннушка, шныряя глазами, по-жеребячьи прильнув к материнскому боку и ухватившись за плащ зеленой жабьей лапкой.
Варвара резкими жестами погладила ее по голове и вдруг расплакалась так громко и горько, что Бирбаух беспокойно завозился у себя в закутке. Поискав глазами воду и не найдя, он налил в стакан пива, протянул сквозь прутья решетки. Я подал Варваре. Она выпила в два гулких громких глотка и помотала головой, прогоняя минутную слабость:
– Извините меня, дуру. Всё, легче стало, спасибо…
– Сто грамм тоже не помешали бы, – сказал я, на что она широко закивала:
– Да, да, правильно, не помешали бы…
Бирбаух тоже расплылся в улыбке. Поглаживая кудлатую голову, он сказал:
– Пиво от всего лечит.
– Градус к градусу – вот и набежало… – согласился я с ним, но все-таки добавил с уколом: – Пиво лечит, а водка излечивает. В этом – великая разница.
Часть вторая Весна
По рогам – и с копыт
Дорогой друг, спасибо за письмо. Вот и еще одна Пасха дарована нам! Я и тебя, и себя троекратно целую и обнимаю: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Он за нас на кресте умер, взял наши грехи. А мы, рохли-тюфяки, ничьих грехов на себя не берем – своих в достатке. Мы богу только всякими глупостями досаждаем. Да и чем заняты, господи?.. Убиваем-режем кого?.. Ты рифму-вертихвостку всю жизнь ловишь, я краски смешиваю, грязь развожу и деньги на холсты только зря трачу. Маламзя мы ползучая, тюти-растюти. Ну чем бог нам, таким дубиналам недоделанным, помочь может?.. И как вообще это хитро придумано – все свои грехи богу перепроваживать?..
Кстати, интересно, как думаешь: Христос взял только те грехи, которые были на тот момент совершены людьми, или вообще все, включая и будущие, которые потом будут делаться?.. Народ, очевидно, как-то превратно понял и вовсю разошелся: раз, мол, все сзади-спереди искуплено, полная индульгенция выписана, то чего тогда жаться, себя стеснять – пей, гуляй, веселись, греши, бей и режь, куражься и подличай, человек, за все уже по счетам наперед уплочено и даже заново но лито, можно дальше между собой войны и бойни вести, распри стряпать или мировое добро огнем и мечом насаждать, кому что нравится!..
Я лично и тому уже рад, что бог, жизнь подарив, не поставил меня в звериную пищевую цепочку, где все друг друга день и ночь убивают и жрут в виде мяса и протеинов, если утром кого-нибудь не съешь – то к вечеру тебя самого съедят… А может, вообще правы атеисты: бог не умер, а просто не рождался, даже и не думал рождаться (хаос жизни на земле убедительно доказывает отсутствие разума на небе), поэтому главный вопрос не о том, есть ли жизнь после смерти, а какова твоя жизнь до смерти?..
Опять таскался по шарлатанам. От Ухогорлоноса новую версию слышал: это мол, у вас в голове от трамвайных проводов звенит. Разве я не говорил тебе, что переехал?.. На прежнем месте жить больше нельзя было, пришлось снять подвал – гибрид норы с дырой. Ныра, короче, но большая. Но и трамвай на уровне ушей ходит. Свой скарб, рамки-подрамники, сюда перетащил. Так и живу, крыса подвальная. Может, и права эта противная ехидна – от проводов звенит и в голову резонирует?.. Во сне даже видел, будто мы с тобой стоим где-то под линией высоковольтных передач, ты в грязные пиалы горячую водку строго поровну разливаешь и почему-то за сфинкса в Африке пьешь – мол, долгой ему жизни, чтоб он не чихал, а то клубы пыли и песка поднимает, по утрам дышать нечем…
Утром по телефону Ухогорлоносу сон рассказал, а он смеется: «Вы что думаете, психика у вас в порядке?» Пошуршал своей книжкой и вычитал: «Нет лекарства от всех болезней, но есть болезни для всех лекарств. Среди причин тиннитуса можно выделить разные инфекции, отравления, травмы черепа, изменения в шейных позвонках, нарушения положения челюсти». Ну спасибо, теперь знаю, что к чему. Зевнул слишком широко – вот челюсть и съехала. Или шею отлежал. Или упал в ванной – и готово. Ну и гады эти врачи!.. Ведь и кошке известно, что любое лечение состоит в отнятии лишнего и прибавлении недостающего. А они что делают?.. Отнимут последнее – и прибавят лишнее. Вот и результат.
В общем, жизнь треплет. А трамвай действительно вровень с моим окошком стучит, обе остановки хорошо видны. И каждый раз можно наблюдать, как опаздывающие ноги к вагонам бегут. Захватывающее зрелище!.. Думаю тут видеокамеру поставить, а потом пленку на ТВ продать, warum nicht?
Сейчас, к слову, тут скрытая камера – самая популярная вещь. Ею шефы за своим персоналом тайно следят. А потом самое интересное на ТВ просачивается. Интересно, что люди делают, когда за ними (по их мнению) никто не наблюдает.
Секретарши все больше на копировальную машину без трусов садятся, ксероксы со своих мохнаток снимают. Или соседке по рабочему месту в бутерброд плюют, пока та в туалет выходит. Или по карманам пальто шарят. Одна работница вообще умудрилась в окно содержимое чужой сумочки вытряхнуть. А другая референтка со злости шефу на диван помочилась, да так хитро – подушку подняла, пописала и подушку назад положила: пусть, мол, источник запаха ищет. Это надо же додуматься!.. В наши мужские мозолистые мозги такое ни за что бы не влезло…
Впрочем, вру, мужики еще похлеще делают: повара сморкаются в супы, харкают в соусы, мочатся в бачки с кофе, пекари запекают всякую дрянь в булки, официанты с тарелок еду в новые порции сгребают и пепел на готовые салаты стряхивают – жрите, мол, буржуи!.. Иные служащие коньяк втихую лакают, иные просто спят, как суслики. Один сосисочник, сидя без клиентов в своем пустом кафе, даже умудрился от нечего делать в бочонок с кетчупом сдрочить. Чего только от скуки и плохой погоды не сделаешь!..
А погода на Пасху тут, в Европе, исключительно мерзкая: дождь, слякоть, туман, буран, дурман. Если солнце – это жизнь, то в Северной Европе жизнь еще не зародилась. И вообще странно, но факт: чем страна цивилизованнее, тем отвратительнее в ней погода. Очевидно, от холода и дождей прячась, люди прогресс вперед двигать стали – а что еще делать, когда за окном ливмя льет и снега по крыши?.. Поневоле за книжки возьмешься, начнешь думать, как непогоду победить и природу усмирить. А на юге что?.. Лежи себе круглый год в сиесте на берегу синего моря и ешь финики и оливки, что на голову сыплются. Так прогресс на север сместился, а юг загнил.
Мне про это много чего сосед-немец Монстрадамус рассказывал, как немцы всех людей на две расы поделили: умные с севера и звероподобные – с юга, и умные северные должны править диким югом, на что я ему отвечал, что немцы части света попутали, не туда смотрели, вот Восток их и прихлопнул, но он обычно не успокаивался и начинал в пример всякие аферистские греции-италии ставить, предрекая, что Евросоюз с ними еще наплачется, им же ни в чем доверять нельзя, они генетические воры уже от одной жары, при которой работать очень трудно, а красть – очень легко.
И вообще – по прогнозам немецкого ТВ на бедную Германию отовсюду смерчи, дожди и холодные массы надвигаются. Между строк это надо понимать так, что вообще-то над нашей хорошей Германией всегда солнце светит, но вот плохие соседи гадят: из Норвегии дожди стеной идут, Атлантика вечными штормами грозит, с побережья Франции тучи наползают (чего еще от лягушатников ждать?), со стороны Польши постоянно злые ветры дуют, из проклятой Англии, вместе с ящуром, коровьим бешенством и свиной чумой, вечные туманы плывут, из Италии сыростью тянет (неймется макаронникам), даже из Австрии отдельные дождевые облака являются (казалось бы, свои братья-сосисочники, ан нет, туда же, гадить и подсиживать). А в далеком Руссланде, в дикой Сибириен такой чудовищный циклон зарождается, что скоро конец. Бежать придется. Не знаешь случайно, какая на острове Пасхи на Пасху погода?.. Жаркенько, наверно. И конопля с кокой на опийном поле зеленеют… Мой сосед-немец собрался туда в отпуск. Не сидится немцам в Германии, пять раз в году в отпуск ездят, а полмиллиона немцев каждый год вообще уезжает восвояси. С немецкой пенсией всюду можно жить, как Гулливер среди лилипутов.
Странно, но весной дел в лагере поубавилось. Бирбаух впустил меня в здание, предупредив, что фрау Грюн в отпуске и фотками-пальцами занимается практикант Зигги.
– Он сейчас в третий отдел побежал, скоро будет. Ваше время пошло. Пейте спокойно кофе с коллегами! – подмигнул он и расписался на обходном. – К деньгам надо относиться с уважением, тогда и они тебя уважать будут… А бедность – это не только порок, но и позор, и срам! Бедный – что парализованный: глаза есть, а рук нету. Все хочет, а взять не может.
– Может-то он может, но не дают, – поправил я его, взял обходняк и отправился в комнату переводчиков.
Коллеги-арабы, Хуссейн и Рахим, уже пьют зеленый чай из замысловатого термоса, кидая в стаканчики живую мяту. Оба похожи на Саддама Хусейна. И оба в душе благодарны ему, но каждый по-своему. Рахим был послан на учебу в Европу, откуда уже не вернулся. А Хуссейну тиран так вовремя прищемил хвост, что тот успел сбежать и увезти вещдоки. Получил убежище и живет двадцать пять лет в Германии. Он изредка, под видом немецкого туриста, наведывается в Ирак навестить родню, но всегда испытывает дикий ужас в багдадском аэропорту: если его вычислят, ему не поздоровится – Саддам с дезертирами расправляется строго, а иногда даже и самолично, что бывает особенно мучительно. А сейчас он же и снабжает их работой – новыми беженцами. Словом, отец родной.
Увидев меня, арабы шумно поздоровались, усадили за стол, налили душистый чай и приступили к обычным расспросам. Больше всего они интересовались Сталиным: как при нем жил народ, когда простые люди жили лучше – раньше или теперь; уважают ли в России Горбачева и правда ли, что пятна на его голове похожи на Курильские острова; у какой из республик есть атомное оружие; что я думаю насчет Средней Азии; сколько сейчас стоят в России сигареты, почему русские пьют так много водки; где воруют больше, в Москве или Багдаде; был ли Путин шпионом КГБ и что делает сейчас Шеварднадзе.
Прихлебывая душистый чай, я отвечал как обычно, что Сталин мир от фашизма избавил, войну выиграл и Сибирь обустроил, а народ при нем жил хорошо и сплоченно шел от сохи к атому. Средняя зарплата была сто рублей, и всем хватало. Раньше народ жил лучше, а цеховики – хуже, а теперь наоборот: цеховики живут лучше, а народ – хуже. Горбачева не уважают, потому что Союз развалил и веками накопленное за бесценок спустил. А на голове у него, в виде укора, не все Курилы, а только та гряда, которую русские не хотят возвращать Японии. Атомное оружие есть у всех республик, если еще не продали налево. Насчет Средней Азии думаю, что со временем она отойдет к свирепым талибам, и они устроят в Самарканде свои стойбища. Сигареты в России стоят по-разному, смотря где и у кого покупать, а водки пьют много потому, что в России холодно и страшно, а водка согревает, придает силы и помогает спасаться от тиранов, воров и ОМОНа. И в Багдаде воровство никак не может быть выше, чем в Москве, потому что выше, чем в Москве, не бывает. Путин был не шпион, а резидент, а Шеварднадзе, как всегда, борется с коррупцией и даже для вида племянника жены посадил, но потом выпустил под давлением семьи.
Появился практикант Зигги, одетый в джинсу и замшевые шузы, волосы в бриллиантине. Из нагрудного кармана магнитофончик выглядывает, наушник на одном ухе сидит, другое свободно для общения. Он сказал, что арабов еще нет, как всегда опаздывают, так что начнем с русского. Мы перешли в музгостиную. Насвистывая и старательно проделывая все приготовления, Зигги рассказывал мне о том, что если у беженца руки влажные, то это значит, что он нервничает, а если холодные – то боится.
– А если холодные и влажные вместе?
– Это хуже всего. И нервничает, и боится.
– Все нервничают. И ты бы нервничал.
– Понятно.
Исчерпав запас практикантской премудрости, Зиги дал мне просмотреть дело, а сам ушел в приемную.
фамилия: Шварц
имя: Дмитрий
год рождения: 1978
место рождения: с. Новое, Казахстан
национальность: немец
язык/и: русский / казахский
вероисповедание: лютеранин
«Дата въезда в Германию – двухлетней давности…» – удивился я, но, перечитав данные, понял, что это казахстанский немец. Ему-то что тут надо? Они же въезжают официально и легально?.. И этим контингентом занимается, кажется, другое ведомство?.. Знаю, потому что пришлось пару лет прожить бок о бок с такой семьей – это была еще та семейка!.. Они приехали откуда-то из-под Джамбула. К паровозу – столетней бабушке-немке Эльзе Карловне – был прицеплен состав из двадцати двух детей, внуков и правнуков с раскосыми глазами и генетически кривыми (от лошадей) ногами. Казахской крови было явно больше. В Германии они сняли два дома и продолжали жить общим кланом: варили в тазах суп из конины (специально привозили из Франции), лепили тысячами манты, мариновали морковь на корейский лад и тщательно справляли все дни рождения и праздники (как немецкие, так и советские). Жили весело, а занимались в основном тем, что на разные лады обманывали Германию по социальным линиям. Например, ушлые внуки заставляли бедную Эльзу Карловну пи́сать и какать под себя, чтобы доказать комиссии, что дело плохо, нужно больше денег по уходу. А правнуки даже умудрились вытатуировать на руке у старушки цифры, выдав ее за узницу концлагеря, за это получили добавочное возмещение, тут же купили «Мерседес», который и разбили о первое дерево.
Зигги ввел низкого, плотного и коренастого парня в кожаном жилете на голое тело и черных кожаных джинсах. На шее, пальцах и во рту блестит золото. Он энергично пожал мне руку:
– Димок! – и резво сел перед поляроидом, вежливо отвечая Зигги: – Данке. Бите[11].
Зигги спросил у него, знает ли он немецкий.
– Айн бисхен[12], – охотно откликнулся Димок. – Жена бывшая, подлюка, научила. Ее родичи, гансы поганые, меж собой по-германски балакали. На курсы год ходил, но кроме «битте айн бит»[13] ничего не помню. Даже дни недели в башку не лезут. Зер шлехт[14].Какие-то слова знаю только. Понимать – чуток понимаю.
Мы занялись уточнением данных.
– Имя, фамилия правильно?
– Все путем.
– Лютеранин?
– Ну да, теперь вот лютером стал. А так в бога не верю. Херня все это. Нету никакого бога, все понт людей дурить. Как считаешь?
– Трудно сказать, – уклонился я от диспута. – Казахский хорошо знаешь?.. Стоит вписывать в данные?
– А чего его знать?.. Там у них три слова и есть всего. Темный народ. Нас в селе поровну всех было: косых, немчуры и русаков. Немчура лучше всех жила, вурст[15] делали и бир[16] варили. Русаки тоже ништяк хавали. А вот косые совсем крысы: в навозе спали, чтоб теплее, коровьи кишки ели и кошек вялили. И до Горбача все дружно жили, а потом перегрызлись. Ловить там нечего, одни чурки остались.
Зигги тем временем раскатал каточком чернила по полосе и велел Димку вымыть руки холодной водой, добавив, что именно холодная вода делает отпечатки пальцев четкими, а горячая, наоборот, расширяет руку, и отпечатки видны хуже, ибо линии сливаются между собой. А на фотокопии отпечатки вообще видны лучше, чем на оригинале, только не забыть кнопку «КОНТРАСТ» нажать. Видно, курс маленьких хитростей ему преподавал ушлый спец.
Димок стал отнекиваться:
– Да чего мыть?.. Я каждый день купаюсь… Е-мое, отпечатки!.. Что я, вор?.. Наин, их виль нихт![17] – начал было он, но Зигги споро управился с одной рукой и, переходя к другой, спросил:
– Кто он вообще?.. Откуда? Что ему у нас надо?
– Из Казахстана, русский немец. Он уже два года тут, – показал я ему дату въезда.
– Как два года? – остолбенел Зигги: – О, черт!.. Два года!
– А что такое?
– Как что?.. Если беженец не является к нам сразу по приезде, то он автоматически переходит в группу нелегально живущих, а это – другой контингент, которым занимается другое ведомство.
И Зигги, набрав чей-то номер, изложил суть проблемы, выслушал ответ:
– Понял… Да… Так и сделаем, – и попросил меня идти наверх, к Тилле: – Он разберется в этом казусе. Идите. И папку не забудьте.
– Курить не хочешь? – спросил я у Димка, зная, что спешить некуда (дела идут, контора пишет). Курить Димок, конечно, хотел.
– Ладно, покурите, – важно разрешил Зигги, вкладывая лист с отпечатками в сканер.
– Сто грамм тоже не помешали бы для храбрости?
– Клар[18], – ответил Димок. – Но мне нельзя, крыша едет. Я киксом занимаюсь, если что – въебу насмерть.
– Кикс?
– Ну, кикбоксинг.
– Это что за спорт?
– А такой: хуярь и пизди, куда можешь – и все. По рогам – и с копыт! Хороший спорт.
– Очень, – согласился я. – Но поднятие покрышек от грузовиков мне больше нравится.
– Рихтиг[19], тоже ништяк, – кивнул он, закуривая.
– А курить тебе можно?
– Да делай чего хочешь. У нас в секции все чего-нибудь нюхают или хавают. А два немца – так вообще фиксеры[20], на игле всю дорогу сидят. Главное – удар поставить, чтоб ногой сразу по башке попадать. У нас схватки быстро кончаются: раз-два – и готово!
И Димок, вдруг подпрыгнув, ударил ногой по календарю на стене, оставив на нем грязный след от подошвы.
– Ты что, сдурел? – удивился я.
– А что?.. У них много есть, другой повесят.
На балконе я узнал, что Димок в разводе и под судом, все жена-потаскуха виновата. Больше ничего узнать не удалось, потому что в комнату переводчиков ввалилось темное арабское семейство, за ним следовал коллега Хуссейн с горой папок в руках. Помахав мне через балконную дверь, он начал зычным голосом опрашивать небритых мужчин и забитых женщин, к которым жалась смуглая детвора. Сейчас Хуссейн был чем-то похож на своего тезку-тирана, когда тот ведет Военный Совет. Он так орал на перепуганных арабов, что дети подняли плач, и мы поспешили уйти с балкона.
Тилле был не в духе, мельком кивнул, продолжая возиться с компьютером. Долго налаживал диктофон, внимательно изучал паспорт, потом спросил, не включая диктофона:
– Дата въезда в Германию – два года назад. Почему?..
– Въехал как потомок немца-переселенца, по параграфу 8.
– Шварц. Это ваша фамилия?
Димок живо отозвался:
– Это жены-хуры[21] фамилия.
– А ваша фамилия как?
– Семёночкин.
– Sе-mjo-nоtsch-kin… Уф, трудно… Китайские даже легче. Недавно вот целая цистерна китайцев сдалась. Как селедки друг на друге, под видом мазута, от Харбина до Берлина, тряслись, трое не выдержали, задохнулись, так с трупами и ехали… Ну ладно, продолжим. Паспорт казахстанский. Срок паспорта истекает в этом году, а срок визы – через три месяца. А въехали вы в Германию вообще два года назад. Что вам тут надо?.. – поморщился Тилле.
Димок важно начал:
– Помогите, спрячьте!.. Я самбо, киксинг, спорт, могу хорошо драться!.. Битте!..
– Где семья?
– Нету жены. Капут. Развод. Разошлись. – И Димок для убедительности раздвинул руки до краев стола. – Я ее муттер-мать прибил. Выпила кровь, сука. Мне тогда еще восемнадцати не было, когда я ее утюгом ухнул. Условно трояк вмазали. Вот и маюсь.
– В чем вообще дело? – не понял Тилле. – Что вам от нас надо?
Димок сгорбился, явно готовясь к исповеди:
– Да как сказать… Где начать… С чего начать, не знаю…
– Что?..
– Не знает, с чего начать.
– Пусть покороче и по существу. Русские любят долго рассуждать. А мне еще на совещание ехать. В чем суть?
– А суть такая, что я всех их мать ебал, фашистов! – твердо ответил на это Димок, стукнув мозолистым кулаком по столу.
Тилле насторожился, услышав знакомое слово:
– Нас ругает? Мы фашисты?
– Нет, семью. Тещу свою.
Димок с горестным видом полез за сигаретами.
– Тут курить нельзя, – предупредил Тилле.
– Тогда выйду. Устал. Волнуюсь. Паузе, битте, – добавил он. – Очень прошу выйти на минуту.
Тилле кивнул и повернулся к компьютеру, бросив:
– Перерыв пять минут! Пусть соберется с мыслями. Он немецкий знает?
– Говорит, на немке был женат. Кое-какие слова знает, – ответил я.
– Ясно. Он просто боится, что ему визу не продлят, раз он в разводе, – предположил Тилле. – Идите, взгляните, что он там делает…
В коридоре мы встали у окна. Димок нервничал, ходил туда-сюда.
– Димок, я тоже что-то не понимаю. Что ты от них хочешь? – Я кивнул на дверь кабинета.
– Развод, суд. Что дальше будет – неизвестно. Виза нужна.
– И ты думаешь, что они дадут тебе политубежище?
– Пробирен[22] можно. А что, шансов нет?..
Я пожал плечами:
– Какие могут быть шансы?.. Кто тебя преследовал?..
– Теща!.. Жаль, не добил. Она весь развод и сварганила, сука.
Он плюнул в окно и швырнул окурок – тот попал прямо на капот сверкающей «Ауди».
– Ты чего, ошалел, Димок?..
Окурок тлел. От капота начал подниматься дымок.
– Ничего не будет, спецпокрытие.
В кабинете Тилле включил диктофон и продолжил:
– Родители живы?.. Нет?.. Прочерк. Братья-сестры есть?.. Нет?.. Отлично. В армии служили?.. Нет?.. Почему?.. Освобожден по здоровью?.. Но он же спортсмен?.. А, плоскостопие, понятно… Где работал?.. Слесарь в автомастерской. Запишем… Ну, а теперь расскажите о причинах, почему вы пришли в этот кабинет. Что вам надо?
– Я человек тихий. Но если меня замкнет – тогда все, плохо дело…
Тилле, видя, что опять начинается долгая предыстория, посмотрел на часы и сказал мне:
– Пожалуйста, переводите по предложениям. Может быть, так он будет короче говорить.
– Он говорит, чтоб по предложениям переводить. Говори от точки до точки, пунктиром, – сказал я Димку.
Он кивнул:
– Гоню пунктиром. Женился на русской немке. Баба ничего была. Семья – здоровая, в войну выслана. Но у всех их в паспортах стояло «русский» – и рыбку съесть, и на хер сесть. А я только женился. Вижу – надо что-то делать. Продал хату, дал баксы баблососам из ментовки, они переписали паспорта на немцев, все стали дойчи. Вначале выехали мы с моей нутой[23] и ее сестра с семьей. Там осталась теща – ее мужа, Додика, не выпускали, он в молодости на атомном реакторе полгода буфетчиком работал. Потом выпустили. Вот приперлась эта сучья теща со своим жидом Додиком. Села на социал, вонунг[24] ништяк получила, мебель дорогую купила, себе всякие наряды каждый день с магазина тащит…
Тилле прервал его:
– Пожалуйста, ближе к теме!
– Данке зер[25]. Уже близко. Начала эта обезьяна задаваться. Просит ее моя дура с ребенком посидеть, а у ней времени нет, к парикмахеру спешит. Сама вся лысая, на копфе[26] кожа розовая, зоб болтается, как у индюшки, в гроб давно пора, а туда же – прически делать, тварь!.. Другой раз попросили с дитем побыть – а она в ответ: вы, мол, женщину наймите, у меня времени нет, педикюрку должна делать. Это ей-то, на ее кривые когти!.. Совсем офашистилась, себя Гердой называет, хотя всю жизнь Надькой в сельпо корячилась… В общем, такие понты. Вот тварь, думаю, ну, я тебя уделаю, обезьяна лысая… Потом с ее жидом сцепился. Этого Додика день рождения был, барана зарезали. Сидим на травке. И стал свояк Ахмед этого Додика подкалывать: «Вы, мол, суки, зачем Христа убили?» А тот Додик вдруг как завизжит: «Да какое вам дело, что мы с одним нашим недоноском сделали?.. Мы со своим евреем разобрались, вас не касается, чего вы нос свой туда суете!» Ферштейн зи?..[27] Это Христос-то – недоносок!.. Ну, Ахмедке все равно, у него свой аллах, а мне обидно стало. Дал я Додику по рогам, он – с копыт. Скорая, менты… Еле отмазался…
Тилле давно уже выключил диктофон и с тоской слушал Димка, а тот рассказывал дальше:
– Потом еще Ахмедка этого Додика порезал из-за машины. Три раза ударил мессером[28] в задницу. И домой побежал, в ванной заперся и сидит. Полиция пришла айн маль[29] – он не открыл. Потом Ахмедкин брат, Зубаир, выпивши со свадьбы пришел, ничего не знает, сидит мильх[30] пьет – он, как водярой нарежется, потом обязательно молоко тринкает[31].Полиция пришла ночью опять. «Где, говорят, Ахмед?» – «Не знаю». – «Хорошо, поищем». Пошли по циммерам[32]. А это что?.. Дверь в ванную. «Откройте!» Зубаир видит – правда заперта. Удивился – что такое? Взял по пьянке топор и начал рубить. А там Ахмедка… Увели в наручниках, теперь в кнасте[33], суда ждет…
Тилле, горестно вздохнув, проникновенно попросил:
– Короче, пожалуйста!
Димок закряхтел на стуле:
– Да уж куда короче. Ладно. Аллес клар[34].Вот пришла как-то эта сучья теща как будто ребенка навестить, а сама все своими аугами[35] туда-сюда крутит – что, мол, еще нового купили, да за сколько, да зачем?.. Слово за слово, я не выдержал, дал ей по рогам. Она – с копыт. Скорая и так далее…
– Мы-то тут при чем?.. Все это – для уголовной полиции. Дело заведено? – устало спросил Тилле.
– Найн, – твердо ответил Димок.
– Ну и радуйтесь, что в тюрьму не посадили. Других причин для просьбы о политубежище нет?..
– Да вроде бы все…
– Что вас ожидает в случае вашего вероятного возвращения в Казахстан? – задал Тилле дежурный вопрос, который испугал Димка.
– Да уж ничего хорошего. Убьют – и все.
– Добавить ничего не хотите?..
Димок встал и жалобно уставился на Тилле:
– Битте, хельфен зи мир![36] Помогите! Мне бы пару месяцев перекантоваться, а там срок придет, можно будет на постоянку заявление подавать, адвокат поможет, свой парень, из Джамбула…
– На три месяца у вас и так есть! – отмахнулся Тилле и протянул ему временное удостоверение беженца. – Вот, тут написано, что можете три месяца находиться в территории Германии, пока мы вам отказ выписывать будем.
– Серьезно?.. Ну, ништяк, зер гут. Всего-всего вам!.. – вскочил Димок и полез к Тилле с протянутой рукой – прощаться.
Тилле нехотя ответил на рукопожатие. Потом Димок крепко потряс мою руку и выбежал из кабинета, забыв на столе свое удостоверение.
– Дайте ему. Псих какой-то!.. Ну, мне пора на совещание. За восемь недель третий летучий голландец с курдами из Ирака в Триесте причаливает. Команды нет, одни беженцы. Полюбилась им Германия! Положение серьезное. До встречи!
Димок курил на лестнице. Я дал ему удостоверение и увел на балкон – курить и ждать, пока будет напечатан протокол. А там услышал печально похожие друг на друга истории о том, как Димок за разные провинности снес с копыт все родство, включая самых близких. Отца покалечил за то, что тот не давал ему киндергельд[37]. Мать избил за рысканье по карманам. Сестре сломал ключицу, застав ее роющейся в его кошельке. Палкой надавал бабке по рогам, когда она его в похмелье побеспокоила. А столетнему деду сломал руку, когда тот пытался украсть у него бутылку бира.
– Тебе за все это пожизненно полагается. – Я загасил окурок и вернулся в комнату.
– Да, – согласился Димок, следуя за мной. – Но что делать?.. Если крыша поехала – все, одни рефлексы. У меня удар смертельный. Как у Стрельцова, знаешь?
– Я вообще со спортом не очень-то… Тренироваться всегда было лень…
– Думаешь, я тренируюсь?.. Больше делать нечего! Удар поставил, точки знаю – и все, чего еще надо?.. Любого с копыт снесу, кто пасть шнуровать не будет!
И он, вдруг вспрыгнув на стол, дал ногой по лампе, которая с треском взорвалась и осыпалась.
– Ты что, опомнись! – Я едва успел уклониться от осколков.
Он спрыгнул со стола.
– Сама взорвалась! – и начал собирать осколки.
«Прав Тилле – это настоящий псих!» – подумал я и пошел искать Зигги, чтобы сообщить о взрыве лампы.
В коридоре встретился Рахим – он гнал перед собой черное семейство, подстегивая отстающих гортанными вскриками.
– Работа есть? – подмигнул я ему.
– Слава Аллаху и Саддаму! – возвел он глаза к седьмому небу, куда мешал добраться белый потолок земной тюрьмы.
– И Кабиле с Каддафи, – добавил я и, увидев в глубине коридора Зигги, поспешил к нему.
А Димок, выглядывая из комнаты, крикнул:
– Пусть ганс веник захватит, руками не собрать! Осколки мелкие. Я, если бью, то все, до тода[38], по рогам – и с копыт!
Сачок Савчук
Дорогой друг, в последнем письме ты интересовался, что средний европеец видит и слышит о таинственно-бескрайнем Руссланде?.. Ничего хорошего, могу тебя заверить. Представления самые смутные и тревожные. Не поленюсь дать сколок того, что по германскому «туннель-видению» передают.
ОМОН ломает двери и челюсти, ходит по спинам и головам. Бичи и бомжи на грязных лестницах. Лилово-синие трупы в моргах. Битые рожи блядей в полиции. Тощая средневековая провинция: крыши текут, двери спадают с петель, худые коровы жуют гнилуху, пастух спит в навозной куче. Безрадостные алкаши в кепках набекрень. Рахитичные сироты на голых больничных койках. Кувалдой развороченные унитазы, текущие бачки, вырванные с корнем телефонные трубки. Адские подъезды, где малолетки нюхают клей. Мухи, тараканы, крысы, стаи бродячих собак и кошек. Набитые битком тюрьмы. Дикие сцены в вытрезвителях. Барахолки, толкучки, толчки, тычки. Нищие и калеки. Больницы без воды и света. Кучи мусора. Трещины в стенах атомных реакторов. Ржавый лом в портах, рельсы в бурьяне. Брошенные цеха. Заводы в агонии, среди мертвых станков чумазые типы с мятыми папиросами в зубах мозолистыми лапами забивают «козла». Безумные политики в распущенных галстуках на толстых шеях. Коммунисты в рваных кацавейках, с портретами Ленина и Сталина, вопят что-то беззубыми ртами…
И – водка, водочка, водяра. Всюду, везде и всегда. Каждый уважающий себя немецкий журналист считает святым долгом во время любого репортажа показать крупным планом бутылку и пьющие рты. И каждый уважающий себя бывсовчел тоже считает своим святым долгом обстоятельно поговорить по душам с немецким корреспондентом – ну, а какой разговор по душам без бутылки?.. В общем, еще одна страна олухов, воров, лентяев и недотеп – вздыхает средний бюргер, и словами его трудно разубедить. А на упреки, почему надо показывать только плохое, журналисты оправдываются: «Что делать?.. Там, куда ни направь камеру – всюду одно и то же!..» Насколько все это соответствует действительности – не берусь судить, тебе виднее, ты в ней варишься. В общем, скука, скучища, скукотища. И думать позитивно как-то не удается.
Между прочим, известно ли тебе, что слово «недотепа» происходит от старорусского «тети», то есть «бить», «убивать». Недобиток, значит?.. А слово «наглец» – от «наголо» (бритый, каторжанин)?.. Это я узнал от одной молоденькой аспирантки-голощелки. Сама она из Волгограда, стипендию получила и на год приехала диссертацию писать. Она мне и понарассказала всякого. Знал ли ты, например, откуда слово «толмач» пошло?.. Уверяю тебя, что не от «толма», как ты, наверно, думаешь. Есть тюркская версия – от «тел» («язык»). Есть и европейская: «толмач» – это искаженное немецкое «Dolmetscher»[39].
Все может быть. А по-простому толмач – это тот, кто толкует на толковище. Знает толк, толковый парень. Толковник. Толкач. Толмачу на толковище все толки известны. Он и сам толковые вещи проталкивает. Толчется на толкучке в толкотне толчеи. А если даже толком ничего не знает, то все равно толчет воду, пока не выгонят в толчки… Знаешь в Москве Толмачевские переулки возле Ордынки?.. Там, оказывается, пролегала дорога в Золотую Орду, там жили толмачи, которых брали с собой, когда ехали в Орду с татарвой толковать.
Все эти лингвоновости рассказала мне мокрощелка. Какая из себя – еще не знаю, не видел, только по телефону пока говорил. Лишь бы не блондинка с длинными волосами. И без голубых глаз. Блондинок я почему-то с детства не терплю. С короткой стрижкой – еще куда ни шло, но эти аленушкины патлы – избавь. Да и опасно. Длинные волосы крайне непрактичны вообще, а в постели – особенно: все время куда-то лезут, попадают, защемляются, закрывают обзор, сужают кругозор… Так и тянет намотать их на руку, а там и до визга недалеко. В общем, одни проблемы.
Еще возникла у меня с этой аспиранткой грызня по поводу ударений. Я в разговоре, говоря о рыбе на волгоградском базаре, сказал: «Рыби́на». Она меня поправила: «Ры́бина». Тогда я ответил: «А волчина, домина, дубина, скотина?» Она выпаливает: «Соломина, горошина, телятина, говядина». Я ей в ответ: «Оленина, свинина, парусина, балерина!» Она опять за свое: «Трещина, хижина, родина». А я в ответ крою: «Древесина, лососина, витрина, машина, личина, стремнина, гробина, мужчина, дурачина». Так и не решили, где в таких словах ударение ставить. Думаю, я выиграл у наглой мокрощелки этот спор.
Потом из-за другого суффикса поссорились. Она говорит: «Я не ворожея́, чтобы знать, когда у вас свободное время». А я поправил: «Вороже́я». Как она возмутилась!.. «Нет, надо говорить ворожея́, потому что “швея”, “змея”!» Я тут же отбрил: «А камея, ассамблея, аллея, траншея, идея, затея?» Она уже ничего не нашла и кричит: «Струя!.. Сбруя́!..» – «Что, сбруя́?.. Ни хуя!» – вырвалось у меня. А она обрадовалась: «А вы сами сейчас где в этом плохом слове ударение поставили?..» Я было испугался – ударение-то на «я», тут сомнений быть не может, но потом сообразил, что слово в родительном падеже стоит, а мы об именительном спорим (не зря у меня в школе твердое «четыре» по русскому было). Так что и эту баталию я у лингвоковырялки выиграл. Как считаешь?.. Тебе, охотнику за рифмами, лучше знать, где ударения ставить.
Работа в лагере есть, беженцы понемногу просачиваются. Конечно, не так обильно, как хотелось бы толмачам. Но вот недавно целое семейство с Украины пожаловало. Бирбаух, стукнув печатью по обходному, кивнул:
– Много работы сегодня у всех. Видите, грустные какие! – указал он на понуро сидящих в приемной людей и сделал свой вывод: – Да уж, конечно, мужик без денег – что бык без рогов!
– Они не из-за денег грустные. У них другие причины.
Бирбаух усмехнулся, с сомнением покачал кудлатой головой:
– Да?.. Будь у них деньги – тут бы не сидели! У кого деньги – сидит в другом месте! – поднял он толстый палец. – И я бы тут не сидел, будь у меня деньги…
– А где бы сидел?
– А там, где тепло и марку уважают, – мечтательно произнес он, расчесывая жирной отечной пятерней безволосую грудь в разрезе рубашки. – Где вечный рай и отпуск!
– Тогда на остров Пасхи надо, там тепло и туземцы задницы листьями коки подтирают.
– Вот-вот, – просунул он мой лист под стекло. – Или на Гавайи.
Я заглянул в приемную. Много глаз уставилось на меня. Угол темнел от курдов. Две семьи. Курчавые арабовидные дети играют под стульями с вагончиками. Рядом три щуплых китайца смотрят в никуда. И тихая испуганная обычная семья – муж, жена. Между ними – сын. Забитость во взгляде. Плохо крашенные волосы жены. Старый маникюр. Мой контингент. Бывсовлюди. Я кивнул им:
– Из России?
Мужчина привстал:
– Оттуда. 3 Украины. Против Кучмы.
Курды затихли. Китайцы, не поворачивая стриженых голов, скосились на нас. Муж в кожанке и джинсах, дороден и широк. Белобрысый мальчик тихо катает по стулу грузовик, испуганно поглядывая на шумных курденят. Жена – увядшая, но тоже дородная, сильно крашенная, с шиньоном (такой взбивают перед танцами на селе). Губы и глаза грубо нарисованы. Чем-то похожа на обрюзгшую бабу с лубка, на располневшую матрешку. Но одета в мини-юбку, которая едва налезает на ее толстые ляжки в серых чулках. Черная блузка расшита желтыми блестками.
– Я ваш переводчик, буду помогать вам объясняться. Из Киева? – пожал я их потные и холодные руки.
– Из Запорожжя.
– Хорошо. Я сейчас узнаю, как там дела.
– Аха, аха, – закивали они, а тихий мальчик, мельком взглянув на меня, тоже кивнул белобрысой головой:
– Аха.
Тут вошла переводчица Линь Минь, старая седая карга-китаянка, с которой у меня были не очень дружественные отношения после того, как я сказал ей, что китайцам, такой древней и мудрой нации, не пристало есть собак, что это варварство и собака лучше человека, а многие люди – хуже собак. На это она ответила, что, во-первых, собак едят только в Северном Китае, где одни горы; во-вторых, она лично собак не ест; ну, а в-третьих, во время войны в Ленинграде съели не только всех собак, но многих людей, она точно знает. На это я возразил, что такое случилось по вынудиловке («Вы же знаете, кто осадил Ленинград?.. Не будем сейчас и тут уточнять…»), а вот китайцы устроили из собак праздник желудка, да еще бьют их палками до смерти, чтобы мясо нежнее было. И за это их следует исключить из Лиги Наций и самих бить палками. На это карга повысила свой китайский голос. Я тоже в долгу не остался. В общем, поцапались.
Теперь мы холодно поздоровались. Она заглянула в приемную, что-то щебетнула, китайцы кивнули и остались сидеть. По дороге в комнату переводчиков я кисло спросил, как у нее дела и появились ли уже китайцы из цистерны, о которых рассказал Тилле.
– Да, – ответила она (ее немецкий был тоже с бубенцами и колокольчиками, китайская музыка). – Под видом мазута привезли.
– И сколько времени этот мазут везли?
– Долго. Они не знают уже сами.
– А как они там ели и… в общем, все остальное?.. Путь не близкий от Харбина до Берлина…
– Едой запаслись, а для остального заранее в полу дыру вырезали, – скупо сообщила она.
Тут появился Зигги. Он был в белых джинсах, шел танцующей походкой, с наушником на одном ухе.
– Горячо сегодня? Много работы?.. – улыбнулся он, зачесывая назад и без того зализанные бриллиантином вихры и бросая папки на стол.
– Да, да, – согласились мы. – Очень хорошо.
– С китайцами работает сегодня Шнайдер, его пока нет. Русские тут?.. К Марку пойдете.
– Там целая семья. С кого начинать?
– С мужа, с кого же еще? – удивился Зигги.
– А что, с жены нельзя? – удивился я его удивлению.
Зигги важно объяснил:
– В принципе, можно. Но если муж скажет, что его жена безграмотна, ничего не знает и всю жизнь со двора не выходила, то мы слушаем только его одного. Надо уважать законы шариата! – блеснул он умным словом и стал мазать чернилами каток (из свободно висящего наушника рвался тяжелый рок).
– А если муж и жена – одна сатана, почему два дела заводят? – вздохнул я, раскрывая дела.
Зигги секунду подумал.
– Потому что в разное время сдаться могут: вначале муж, а следом жена. Или наоборот. Но, кстати, я лично вообще считаю, что каждый должен за себя говорить. – Он прекратил натягивать вторую перчатку и серьезно посмотрел на меня. – Что значит – она со двора не выходила?.. Она же не корова, а человек, на простые вопросы отвечать может?.. Пусть расскажет, как бытовая жизнь шла, что делали, как жили. Мы человека ведь на всю жизнь принимаем – не должны разве знать, кого берем?..
– А что можно узнать из этих вопросов? Много информации не возьмешь… – возразил я. – Она будет говорить, как муж прикажет, – и все.
– Много чего можно узнать, если сравнивать, – уклончиво ответил Зигги, выключил магнитофончик, стащил с головы наушники и ушел в приемную, сказав напоследок: – Просмотрите дела. Я его сейчас приведу.
фамилия: Савчук
имя: Иван
год рождения: 1962
место рождения: г. Запорожье, Украина
национальность: украинец
язык/и: украинский / русский
вероисповедание: православный
Дата въезда – пять дней назад. Паспортов нет. Я начал просматривать второе дело, жены, но не успел – появился Зигти, а за ним покорно тащилась вся семья.
– Отпечатки и фото сразу у всех возьму, – объяснил он мне, направляясь к станку и с треском вскрывая кассету для поляроида.
Притихшая семья в растерянности стояла посреди комнаты, загораживая ему дорогу к аппарату.
– Чего это он? – с испугом пролепетала женщина, наблюдая за порывистыми движениями Зигги.
– Вы садитесь, – указал я ей на стул. – Он фото снимать будет, для паспорта вашего, беженского.
– Что, так сразу и дают все?.. – уставились на меня две выцветшие ягодки глаз, когда-то голубых, теперь потухших, грязно-серых.
Она с трудом протиснулась к столу, кое-как села боком и теперь пыталась затолкнуть под стол толстые ноги, скованные нелепой коротко-узкой юбкой.
– Нет, не так сразу, – ответил я, думая: «Надо же столько ума иметь – мини-юбку на такое место напяливать!.. И блестки эти дурацкие, как на деревенских танцах!..»
Тихий мальчик, не отпуская грузовичка, стоял рядом с матерью. А Савчук-папа плотно сел на стул и расправил плечи. Кожанка на нем была добротная. Да и туфли ничего. После щелчка аппарата он сказал:
– Хотово. Давай, мамко! – и помахал жене.
Она потянулась из-за стола, оправила юбку и плотно уселась на заскрипевший стул, а я подумал, что муж мог бы и посоветовать жене одеться поскромнее, если она сама не понимает, что не в ресторан явилась, а в лагерь. Впрочем, мое дело – переводить. И все. И от советов воздерживаться.
В музгостиную начали заглядывать китайцы, их привела Линь Минь. Они оторопело смотрели на большую белую дебелую бабу с полуголыми толстыми ногами. После щелчка она, краснея, встала со стула и протянула руки со старым маникюром и дутым золотом на узловатых пальцах. И Зигги поочередно брал ее за каждый палец, опускал его на станок, а потом ловко вкручивал в лист. Китайцы бесшумно встали возле стен и смотрели куда-то в свое дао.
– Все. Теперь вы с мальчиком подождите в приемной, – сказал Зигги.
– Стоп! – остановил я ее. – Тут вопрос с фамилиями… Я сравнил обе папки. Значит, фамилия мужа Савчук, а фамилия жены – Савченко?.. Это правильно записано или в полиции спутали?
– Ну як же… Я – Савчук, а вона – Савченко. Людка не хотила, Савченко краще, каже… – ответил муж.
– Свою девичью оставила, – добавила жена. – У нас пол-Запорожья или Савченки, или Савчуки. Савченко на левом берегу Днепра живут, а Савчуки – на правом, – пояснила она, после чего удалилась с ребенком в приемную, а мы с Савчуком пошли на второй этаж к Марку, у которого я еще не был.
Я с трудом нашел его кабинет. В самом конце коридора, возле кофеварки и ксерокса. Кофеварка была неисправна, от нее время от времени исходил поносный шум. Кабинет у Марка оказался маленький и темный. Все стены завешаны плакатами, календарями, дипломами и снимками (в основном из серии «Марк на море», «Марк в отпуске», «Марк на теплоходе»). А сам Марк был едва виден за горой папок на столе.
– Давно не встречались, – поправляя очки, осклабился он мне, а Савчуку важно кивнул на стул: – Садитесь вон туда.
Он возился с диктофоном и спрашивал у меня, как дела, как успехи, а сам исподтишка поглядывал на Савчука, который смотрел на него, как белая мышь на очковую змею. Савчук-папа был полноват, брюшко вылезало из-под короткой кожанки. На пальце назойливо блестел перстень с черным камнем.
Перехватив мой взгляд, он встревоженно спросил:
– Может, снять до бису?
– Поздно уже. Да и зачем?
Марк тем временем просматривал папки.
– Спросите у него, почему он просит убежище? – вдруг попросил он меня.
Савчук растерялся:
– Так то ж не я… То жинка моя… Я простой человик, а вона институты кончала и в депутаты полизла. Вот и отримали… – он развел длинными руками. – Достал нас Кучма, спасу нет.
– Ах, вот как, интересно. Обычно жены следуют за мужем, а тут, значит, наоборот. Надо ли это так понимать, что у вас лично причин просить убежища нету? – сверкнул Марк очками оторопевшему Савчуку.
– Ну як же ж… А це ж?.. А мамка?..
– Что за «мамка»? – уловил Марк знакомую фонетику. – Ваша мать тоже тут?
– Нет, это он так жену называет, – объяснил я.
– А, ничего, это пусть, а то я испугался, что и родителей уже привозить начали. А у сына вашего есть отдельные причины просить политубежище?
– У сына? – теперь удивился уже я. – Какие могут быть причины у шестилетнего ребенка отдельно от родителей?
– А вот могут, – Марк торжественно откинулся на спинку кресла. – Когда царь Ирод приказал убить всех младенцев и семья Иисуса бежала в Египет, то только у Иисуса была личная причина просить убежище в смежной стране: ведь он был младенец, а именно младенцев было велено убивать, заметьте, не взрослых. А у его матери Марии и приемного отца Иосифа этих причин не было, потому что их лично царь Ирод не приказывал убивать. Как родителей, их, конечно, могли сделать в Египте опекунами, но с ограниченным сроком визы…
И Марк довольно заулыбался. Савчук, открыв рот и ничего не понимая, сидел в затишье, а я принял к сведению эту притчу: действительно, у Иисуса была веская причина покинуть родину. Но не менее веская была – и вернуться, когда настало время.
– Выходит, Христос потом сдал свой паспорт беженца и добровольно вернулся? – сказал я.
– Хотя знающие люди его предупреждали, чем это может кончиться, – поддакнул Марк. – А кстати, почему у этих господ нет паспортов?..
– Вкрали, хадюки. Одна баба по дороге зперла, – ответил Савчук-папа. – Все одне к одному! Эх, бог не карае, не карае, а як карнэ, так и срацю не пиднемешь!
– Одна баба сказала, одна баба украла, – поморщился Марк. – А другие документы есть?
– Та у мамки, тьфу, Людкы, спытать надо. Можэ, и есть каки папэры.
– Папэры! – покачал головой Марк и со вздохом принял таблетку (на столе отдельной стайкой белели порошки и пилюли). – Ну ладно, по порядку. Прошу вас назвать себя, сообщить ваше последнее место жительства до выезда за пределы родины.
Савчук-папа набычился и обстоятельно облокотился о стол:
– Савчук Иван. Родився в Запорожжя, вулиця Пэрвомайска, будинок 11, квартыра 5. В 1979-м кончил школу. Пошел в армию, был в ХДР…
– О!.. В ГДР?.. Немецкий знаете?..
– Нет. Нас з казармы не выпускали. Потом вернулся. На заводе пять лет пахал. Рыбачив три хода…
– Куда ходили?
– В Норвехию и Африку.
– Бывали в этих странах? Сходили на берег? – навострил уши Марк.
– Не, з корабли не выпускалы. В 1990-м женився на Людци. Дочка родилась…
– Дочь?.. Вы же с сыном приехали? – поворошил Марк папки. – Где данные дочери?.. Почему нет данных дочери?
– Та мене не питав нихто… – поджал губы Савчук.
– Где сейчас дочь?
– С мойими старыми, дома. От стрессу витходить.
– От какого стресса?
– Ну, допэкли нас дюже… Дочь у шоку.
Марк сделал скептически-удивленную мину:
– Если дочь в шоке, то ее надо в первую очередь сюда привезти. Не так ли?..
– Как привезешь?.. Она ж у шоку…
Марк покачал головой:
– Логикой эти люди не отличаются. Выпишите на лист данные дочери и точный адрес, где она сейчас. Все надо проверить… Консулаты наши на всем экономят деньги, а то многое уточнить можно было бы на месте… – Марк злобно сверкнул очками. – Скоро совсем заэкономят нас всех насмерть. Вы знаете, во сколько стране обходится содержание одного беженца? Это такие суммы!
На это я предложил, почему бы не давать эти деньги чиновникам и милиции на местах, в России, чтобы они сами там искали? Послать им фото с отпечатками, да заплатить за каждого тысячу-другую марок – так на местах менты сразу все найдут: и место рождения, и адрес, и всех живых и мертвых родственников из-под земли выкопают, уверяю вас! И Марку эта мысль так понравилась, что он тут же поспешил записать ее на бумажке, чтобы обсудить с начальником лагеря.
Папа-Савчук покорно переждал наш диалог, потом продиктовал еще раз свой домашний адрес и продолжил:
– Мы, когда поженилися, спочатку у меня жили. Когда Людкы ридня помэрла, мы ее хату продалы и на автостанци кафе виткрылы. «Ирыска» называлось, – вдруг широко улыбнулся он. – Хороше кафе было. Сихареты и горилка. Зачем с жрачкою связываться?.. Тама санстанция, там пожарка, плиты, вытяжкы, сантэхника… А тута ничего не надо: зашел, тяпнул и сел в автобус. Тилькы успевай бутылки открывать. А нам копийка капае.
– И много капало? – осведомился Марк. – В месяц, в среднем?
– Да було трохы… Покы ця катавасия не пошла, с Кучмой и вообще… Зря мамка в эту политику влизла. Говорив я ей – не надо, не лизь! Люди горилку пьють, вареники идять – чого тоби ще?.. Нет, полизла, упряма – так, мол, бизнес лучше поставлю. Она у меня баба огрызанистая… А я що?.. Гроши-то за ее батькив дом были?.. Ее фирма. Ось поставила бизнес, холи-боси по лахерям ходым.
– А в чем вообще суть проблемы?
– А в том, что не туды свой нос сунула, куды надо. Да пусть она лучше сама вам расскажэ. Я на их митингах не был, в кафе цилыми днями сыдив на касси.
– Значит, вы не знаете, за что вы преследуетесь? – уточнил Марк.
– Из-за жинкы. За то, что она с такими связалась, яки против сволочи Кучмы… Да яй ничо не знаю. Знаю только, что она достукалась: и кафе забралы, и ее чуть не знасиловали, и меня зкалечылы, и дочку побылы. – И Савчук опустил глаза к столу. – Що ще надо?.. Вы ее саму спросите, она вам бильше расскаже.
– Хорошо, – неожиданно согласился Марк. – Мы поговорим об этом с ней подробнее. А о вас поговорим с вами. Расскажите, как вы сюда приехали.
Савчук встряхнулся, выпрямился, обстоятельно потрещал кожанкой:
– Значить, так. Кохда вже решилы бежать, мамка к юристу у Кыев похнала. Той ей сказав: «Бежите без охлядки, пока времечко есть!» Людка дала подружке Ленке восемьсот пятьдесят долларив и паспорты, у той хахаль где-то работал, визы сделали скоро. Вот второго числа выехали з Кыева на автобуси…
– Подождите, не так быстро. Восемьсот пятьдесят долларов за сколько виз?.. Какой был автобус?.. А главное – какие были визы? – насторожился Марк.
– Визы мне, жинци и сынку. Визы на Нэметчину были.
– Значит, немецкий консулат в Киеве выдал? – вздел уши Марк.
– Значит, так. Да я ж особо и не в курси – мамка усе делала, – утер он рукой пот со лба.
– Ничего, проверим! – сказал Марк и, набрав короткий номер, что-то прошептал к трубку. – Дальше!
– Автобус был велыкый, желтый такой. Автобус должен был через Венгрию и Австрию йихать. На венгерской границе не пропустылы – что-то у водителя с папэрами не в порядци було. Водитель раздал нам хроши, сказав на поездах в Вену шпарить, а там, мол, на вокзали другый автобус ждать будэ и в Нэметчину завезэ. Приехали в эту Вену… Ждали на вокзале тры дни – никого.
– А вы не пробовали связаться с той фирмой, которая вам билеты продала?.. Спросить, что делать? – досадливо поморщился Марк.
Савчук развел здоровенными ладонями:
– Тэлэфона ж ныма… Откуда тэлэфон знаю?.. Потом на вокзале з какой-то женщиной познакомились, она русськи немного знала. Чы Алейка, чы Алюйка, чы цыханка, чы венхерка, черна така, бис ее знае, суку. Вроде нормальна баба була, а воровкой оказалась. Обещалась помочь. Поселила у себя, за хородом. Жили три дни, искупнулись, пойили…
– Где жили?.. Какой был дом?..
– Панэльный дом, а квартира двухкомнатна. Река еще недалеко була – по ночам слышно. А на четвертый дэнь взяла эта сука Алюйка наши паспорты, хроши, чтобы билеты до Берлина брать, – и счезла. Так черна блядь и стянула паспорты. Мафии продасть. А хроши пропие, сучка… Хлопчик как раз простудился ще. У меня был загашник, я пошел в хород, лекарства ему купил – я еще з флоту по-английскому немного моху… Посидели ще два дни. Я у хород пару раз вышел, одного кацапа встретив, он за мои часы и стольник долларов, что у жены остався, перевиз нас у Нэметчину.
– Какая была машина? – прервал его Марк, возясь с микстурой.
– Машина така грузова, с кузовом здоровым, слон влизе… Тут в полицию пишлы. А оттуда полицаи нам сами билеты до сюда купылы и у поезд посадылы. Вот мы и тут. Дужэ прошу помохти, мы вже полулюды сталы. Дочку так побылы, что на одно ухо охлохла и холовою трясэ. Мэнэ приризаты кавказци хотилы, а Людку так вообще чуть не знасиловалы, лэдвэ спаслася… Мне тяжко говорыты.
– Не надо, не говорите, – согласился Марк, помечая что-то на листке бумаги. – Мы никого не заставляем ничего говорить, это вы сами хотите нам что-то рассказать. Ну что ж, с дорогой тоже ясно. Еще раз спрашиваю: какие у вас основания для просьбы о политубежище?.. У вас лично?.. Не у Людки, Ленки или Алюйки, а у вас, Савчука Ивана?..
– А то, что против гада Кучмы я. З йохо политикой нэ согласен, – вспомнил Савчук-папа. Марк поморщился:
– Я тоже не согласен с политикой нашего канцлера, но это не значит, что я бегу в Россию убежища просить. А ну, если все побегут?.. Тогда будет уже не Германия, а Украина, например, или Китай. Разве это хорошо?..
– Ни… – согласился Савчук-папа.
– Ну вот видите. – Марк встал из-за стола размяться, открыл окно: – Воздух нам не помешает. Мы с вами закончили. Вы теперь посидите в приемной, а ваша супруга пусть сюда прибудет.
Я отвел Савчука-папу в приемную. Там было пусто. Тихий мальчик завладел вагончиками, прицепил их к грузовичку и таскал под стульями. Савченко-мама сидела квашней на стуле и испуганно хлопала пустыми глазами.
– Ну что? – испуганно спросила она у мужа, с треском и шуршанием пытаясь натянуть юбку на толстые ноги.
– Не знаю. Как, пиде? – спросил, в свою очередь, Савчук у меня.
– Что пиде? – не понял я.
– Ну, оповидь моя.
– Исповедь?.. Трудно сказать. Вы практически ничего не рассказали. Я лично не понял, в чем дело.
– Ну, Людка розповисть кращэ…
– А чего это всегда Людка?.. Ну и сачок ты, Савчук!.. – Хлопки ресниц замерли. Она выжидательно-трусливо смотрела на меня, закрыв колени увесистыми кулаками в золотых дутых кольцах.
– Вот кольца лучше снять, – посоветовал я ей. – А то как-то несолидно получается: пришли убежища просить, а в золоте купаетесь.
– Да-да, снимы, к свиньям собачым, – поддержал меня Савчук-папа. – Слышь, мамко?.. Знимай, кажу тоби!..
Опасливо оглядевшись, мамка начала стаскивать кольца с распухших и разбухших пальцев. Кольца не сходили. Тогда она обстоятельно обсосала каждый палец и так стянула дутое сусальное золото.
– Давай сюды! – И Савчук-папа спрятал кольца в нагрудный карман.
– Кстати, немец про документы спрашивал. Вы говорили, что у жены есть что-то. Он ждет, учтите. И обязательно потребует, не забудет, – предупредил я.
– Есть у тэбэ шо-нибудь? – спросил Савчук у жены.
– Не знаю уж… – боязливо переводя взгляд с мужа на меня и дуя на красные пальцы, испугалась она. – Есть, кажись… Только паспорта стибрили, а так вроде все на месте… В лагере лежат.
– Как в лагере? Пусть муж быстрее их принесет сюда! Немец ждет!
– Где они, мамко?
– Да в зеленом кульке, где колбаса была.
Изнасилованная мамка
Ничем тебя, родной, порадовать не могу. Плохи дела. Звон в башке, хруст в ушах, скрежет в костях. И вокруг странные дела творятся. Непонятные. Особенно в королевских домах. Это у нас королям да царям в семнадцатом по шапке дали, а тут они – первые люди, белая кость. На них все блицы направлены, весь их интим наружу вывернут, как уши у английского принца Чарльза, про которого прессе все известно. Детские шалости (кошки в петлях, лягушки напополам, переезды через черепах и прочее, интересное только придворному психиатру). Юношеские забавы – половая связь с камердинером, издевки над слугами, бешеная мастурбация. В зрелости – неразрывная связь с первой и последней женщиной в его жизни по имени Камилла. У этой Камиллы все зубы давно сточились, волосья повылазили, шерсть истерлась, морщины даже лазер не берет, а принц с тем же трепетом, что и сорок лет назад, получает от нее особой бандеролью с гербовой печатью ее месячные тампоны, которые и хранит в специальном сейфе у себя в спальне в Букингемском дворце, рядом с подвесками королевы.
Вот тебе и кошки в петлях, верь потом придворным ломброзам – какой верный и преданный оказался, хотя сам из себя не сказать, что красавец: все-таки пятисотлетние внутрисемейные браки дают о себе знать, без специальной оптики видно, до чего бесконечный инцест довести может. Но верный и преданный. Казалось бы, мог, как принц, пол-Англии перетрахать, но нет, принципы не позволяют, только белла Камилла – и все!.. Так безумно любит, что поминутно звонит ей по внутрибукингемскому телефону (звонки эти все военные разведки мира слушают), в любви признается и обязательно добавляет, что хотел бы в жизни только одного: влажным тампоном уютно лежать в любимом влагалище.
А эта придворная крыса Камилла очень даже неглупа: тихо сидит, редко куда вылезает (чтобы на нервы королеве-маме не действовать). Да и прыгать ей особо нечего – она уже в каменно-мочевом возрасте, хотя молодости старается не терять: врачи сделали много подтяжек, оттяжек, пристяжек, четыре силикона (два – в бюст, два – в круп), поменяли местами большие и малые губы, перешили зад наперед, гормонов впрыснули, шерсть с ног обрили, колени вправили – словом, омолодили, как смогли. Теперь сидит Камилла у себя в норке и ждет своего принца. А он каждую третью ночь по Букингему втихаря мимо гвардейцев в подсобку пробирается, куда она свои грязные трусы бросает. Она уже сорок лет знает, куда их кидать, а он уже сорок лет знает, где их брать.
Около подсобки гвардеец дежурит – чтоб не украли ничего. В подсобке – чан, тайник (вроде дупла в «Дубровском»). Горничным под страхом смерти запрещено что-нибудь из чана брать или, тем паче, стирать. Вот подберется принц к чану, скинет мантию, встанет на свои четыре белые кости, зароется носом в грязное белье, ищет, как ищейка. А как найдет – так с урчанием из общей кучи выхватит – и назад бежать. Гвардейцы на караул отдают, шталмейстер двери закрывает, охрана свет тушит – теперь и отдохнуть можно, его высочество изволило скрыться в опочивальне, отбой до следующей королевской эрекции!
Другой сын королевы, младший принц Эндрю, хоть и лыс, кос, заика и левша, но ничего, внешне на человека похож. Однако другая беда – тайный гомик. Англичанам вроде как-то неудобно за него, но воспитанная нация, молчат. Он тоже так тихо сношается, что особо под блицы не попадает. А вот жена его, принцесса, недавно большую глупость сделала, даже невозмутимая королева-мама швырнула в нее любимой болонкой: «Я знала, что у меня в семье все болваны, но чтоб такие!..» – и выгнала дуру-невестку из Букингема в Шотландию: пусть поющие камни послушает, сплетница набитая!.. Это надо же – такие глупости делать!.. Оказывается, дура-принцесса какими-то гешефтами с арабскими шейхами занималась (мало ей королевской казны, надо и на карман наскрести). А один ушлый журналист, под видом шейха, к ней в доверие втерся, с помощью шампанского, кокаина и оргазма вызвал ее на исповедь, которую тайно и записал.
Ну, что может невестка о своей доминантной свекрови и муже-гомике говорить – представить нетрудно. И королева-мама такая-сякая, тиранка-скупердяйка, лицемерка-злючка. И на кого похожа?.. Ходит, как дальтоничка-домработница, страдающая плоскостопием, а когда говорят ей, что желтое и оранжевое не подходит ей по возрасту – огрызается и шипит, упряма до безумия. И муж ее, Филипп, в свои восемьдесят всю женскую прислугу в своем гареме держит, ни одной прачки не пропустит, снохач противный. И Эндрю со своего любовника-садовника не слезает. И дети-уроды, и нравы блядские, и дела темные. И даже склерозная королева-бабушка недавно корону утащила и в ночной горшок спрятала. Дура принцесса все это журналисту выложила, а тот с ходу на ТВ продал. Так-то. Конечно, ничего нового мир не узнал, но королева-мама почему-то очень расстроилась. Она – женщина осторожная и умная, не в пример родне, скандалов не выносит. Один за ней грех – любит лисью охоту. Ну это кому что: кому кошки в петлях, кому лисы в капканах, пятисотлетняя генетика, ничего не попишешь.
Инцест кого хочешь съест. Он не только на острове, но и на континенте буйствует. Вот в Монако дела плохи, дальше некуда. У тамошнего владыки – трое детей. Ну, про сына ты знаешь – не наркоман, не гомик и не убийца, что уже хорошо и весьма редко в королевских домах встречается. Но вот с дочерьми проблемы. Младшая принцесса уже была замужем за официантом, почтальоном, шофером, рыбаком, теперь вот в директора цирка влюбилась – в шапито каждую ночь бегает. Дальше придворный дворник или служитель морга на престол претендовать будут. Неймется принцессе. Демократия наружу просачивается. Понятно: у рыбаков да шоферов никакой тяжелой наследственности нет, они – народ румяный, у них и без виагры целый день стоит – а что еще в супружестве надо, если у самой деньги есть?..
Старшая принцесса по другому пути пошла: ждала своего Ромео – и дождалась немецкого принца. А тот недавно на ЭКСПО по пьянке умудрился на турецкий павильон пописать. Казалось бы – принц, а того не понимает, что с турками надо быть предельно осторожным: их в Германии миллионы, если кебабную забастовку объявят, кушать нечего будет. Вот рядом павильон Шри-Ланки – писай на здоровье. Вот Новая Зеландия – обкакай ее всю. Нет, он именно возле турок… Конечно, сразу шум, гам, честь, месть, кровно-мочевая обида. А принцу хоть бы хны, такой наглый: позвонил в редакцию и послал всех к едрене фене, а на ТВ факс отправил: не желаете ли, мол, мою задницу полизать?..
Такой глупый мартышник. Правильно Дзержинский с Махно их вешали – нечего нос задирать. И прав был Петр Великий, первый демократ, когда голубую кровь порол по конюшням. Пусть не задаются. Надеюсь, что в России этих проблем нет, там у руля – все твердые люди, из народа, куда там всяким ушастикам, головастикам, педикам и прочим выродкам. Там кровь молодая, сильная, энергии много. Говорят, где-то в Сибири очень удачно выборы прошли, перспективного молодого авторитета в губернаторы выбрали. Его даже по немецкому ТВ показывали, фильм сняли, где губернатор (говорят, между прочим, что бывший киллер) сообщил, что больше всего на свете спорт любит, дважды на дню в бассейне плавает и по пять километров бегает; бизнес свой теперь оставить намерен, а зарплату на благотворительность отдавать будет. «А чем жить, если бизнес оставит, а зарплату отдавать будет?.. И когда же он работает, если дважды в день на бассейн ездит и по пять километров бегает?..» – удивляется наивный немец-комментатор, не понимая, что работает с документами губернатор по дороге в бассейн и по пути в ресторан, а жить будет исключительно на взятки, доли, проценты и откаты – чего тут непонятного, взрослые все люди?.. Кто общак держит – тот и прав.
Ну ладно, не судите – да не судимы будете. Расскажу лучше, как маму-Савченко опрашивали – почище Камиллы ужасы вскрылись. Если помнишь, Савчук-папа ушел за бумагами. Бирбаух, поглядев ему вслед, меланхолически заметил, открывая очередную бутылку пива:
– Да, семья, друзья – хорошо, а деньги – лучше. Не имей сто друзей, а имей много денег. От друзей одни напасти – придут, пожрут, выпьют, жену потискают, драку устроят, обманут или обкрадут – и все. А с деньгами будешь жить как бог. И сам чужих жен тискать!
Послушав его, мы с Савченко-мамой двинулись в комнату переводчиков. Там я, стараясь не смотреть на ее подагрические колени и ляжки с крупными синими венами, раскрыл папку:
– Надо данные уточнить.
фамилия: Савченко
имя: Людмила
год рождения: 1960
место рождения: г. Запорожье, Украина
национальность: украинка
язык/и: русский
вероисповедание: православная
– Все правильно, – шатнулась она ко мне, обдав запахом пота.
– У вас только русский язык записан. Украинского не знаете?
– Понимать – понимаю, а так не знаю. Откуда? Я же городская и старая – кто в наше время по-украински говорил?.. Это сейчас «Рух» насильно молодежь заставляет учить, а в наше время все по-русски говорили.
– Понятно. Ну все. Пойдем.
Мы пошли к Марку. Она плелась за мной. И жуткий треск чулок разносился по коридору, сливаясь со всхлипами кофеварки. У Савченко-мамы так пересохло горло, что я спиной слышал, как она чмокает, пытаясь отлепить от нёба испуганный язык.
– Можно кофе взять! – предложил я, кинул монетку, дождался поносного водопада и передал ей стаканчик: – Выпейте – и пойдем!
– Спасибочки, – хлопнула она глазами и качнула шиньоном, в три глотка опорожнив стаканчик.
Я постучал в дверь.
– Войдите! – сказали изнутри фальцетом.
Марк стоял у окна. Он скорчил улыбку, уставился на мини-юбку, потом на лицо. Я передал ему папку. Он подошел к столу, сравнил оригинал с фотографией:
– Садитесь, – а сам еще раз прошелся по кабинету, посматривая исподтишка, как она пытается втиснуть под стол свои толстые ляжки. – Ну, как себя чувствуете после долгой дороги?.. – поинтересовался Марк, успокаиваясь и садясь за стол. – Такие приключения… Ладно, пойдем по порядку. – Он взял микрофон: – Имя, фамилия, год рождения. Почему у вас другая фамилия, чем у мужа?
– Это моя девичья, – оцепенело застеснявшись, ответила она. На пальцах были видны светлые следы от свежеснятых колец, что не укрылось от Марка и вызвало его легкую понимающую ухмылку.
– Так… Sav-tsch-enko… Sav-tsck-uk… Уфф, трудно… Разве это не одно и то же? – вполголоса спросил он у меня.
– Корень один, но окончания разные. Разные фамилии.
– Ну, все равно. Где вы жили до приезда в Германию?
– Когда?.. В Запорожье, – испугалась она.
– Адрес!
Я под диктовку записал адрес и передал его Марку.
Он тщательно сверил его с адресом, данным Савчуком-папой.
– Кто сейчас там проживает?..
– Родители мужа.
– И все?
– Ну да, все…
– А дочь ваша где? – ощерился Марк. – Где ваша дочь, я вас спрашиваю?
– А, ну да, ну да, сейчас и доча там со стариками. Я думала, он спрашивает, кто прописан там, – объяснила она мне.
– А что, дочь прописана не с вами? Почему?
– Она у моей сеструхи прописана. Из-за квартиры. Сеструха бездетная и вдовая, в Вольнянске, от нас недалеко, вот мы и прописали дочу туда… – опять объяснила она мне, я передал Марку, он поморщился:
– Ах, опять эти бесконечные истории про прописки и квартиры!.. Не могу их больше слышать!.. Я еще ни одного советского не видел, который жил бы по прописке!.. Это какой-то ужас! Неужели хоть в этом вопросе нельзя навести порядок? – искренне поинтересовался он.
– Этот вопрос со всеми другими связан, – уклончиво ответил я.
– Да уж… Чего ожидать, если там до сих пор судьи сидят, которые при коммунистах людей расстреливали?.. Ладно. Значит, дочь живет отдельно от вас?
– Да с нами она живет, у сеструхи просто прописана. Куда уж немцу наши проблемы понять… – И Савченко-мама, которую мучил жестокий сушняк, почмокала губами и беспомощно облизнулась. Она сейчас была особенно похожа на толстую красную бабу с лубка.
– Пожалуйста, координаты сестры. Есть еще родственники?
– Нет. Одна она у меня.
– А на Западе, за границей?
– У кого?.. У меня?.. Да боже ж упаси! – инстинктивно испугалась она.
– Детей сколько у вас, мадам?
– Двое.
– И все?
Она потупилась:
– Еще один есть, от первого мужа. Но он уже взрослый, отдельно живет…
– Где?
– Где-где?.. В Караганде!.. Не все ли ему равно?! – с агрессией загнанной кошки произнесла она, а я понял, что точного адреса тут не дождешься и бумагу готовить не надо.
– Если старше восемнадцати лет – неважно, – пробормотал Марк, заканчивая писать столбиком цифры и переходя к биографии: где училась, кем работала.
Савченко-мама села прямее, утерлась и начала:
– Училась в Запорожье. В русской школе. Потом в пединститут поступила, на учительницу ботаники. Диплом получила.
– Работали по специальности?
– Нет, не пришлось. То первый брак, то второй, то вот третий… Не до работы, когда дети маленькие.
– Значит, вы домохозяйка? – вывел заключение Марк.
– Была. А как дом родителей продали – менеджером стала.
– О!.. Вот как?.. Любая домохозяйка может так легко стать менеджером? – развеселился Марк.
– Деньги считать могла – и хватит, чего еще?.. – искренне удивилась Савченко-мама, перекладывая на столе руки с набрякшими венами и прошлогодним маникюром.
– Ну да, конечно. Потому у русских все так хорошо идет. Деньги считать умеют в основном в чужих карманах, – криво усмехнулся Марк. – И зачем этот канцлер им постоянно деньги дает – непонятно. Все равно мафия все крадет.
– Ничего, Запад не проигрывает. Мафия крадет – и назад на Запад в банки несет.
– Да-да, вы правы. Какой-нибудь Берег Слоновой Кости – далеко, а Россия – близко. Надо учитывать. – Марк тяжело вздохнул.
– И Китай недалеко, – напомнил я ему, чем вызвал новый тяжкий вздох:
– Вот-вот. Это еще похуже. Русские хоть белые и христиане, а те?..
– А русские если взбунтуются, то и китайцев за собой привести могут, – поддал я жару. – Были уже гунны, скифы, Аттила… И дикие готы, которые Рим разрушили, – напомнил я.
– Остготы? Или вестготы?
– Всякие, – уклончиво ответил я. – А что, есть разница?
– Конечно. Вестготы – это мы, а остготы – это австрийцы… – сказал Марк и выпил пару пилюль.
«А, ну да, старая песня, все хорошее – немецкое, а все плохое – австрийское. Бетховен и Моцарт – немцы, а Гитлер – австрияк!» – хотел я ответить, но решил не злить Марка, который и так был на взводе.
Савченко-мама сидела тихо, как мышь, ловя слова и ничего не понимая.
– Что, на нас злится? – шепотом спросила она наконец.
– Нет, на древних германцев, почему они Рим разрушили…
– Когда разрушили?.. Сейчас?..
– А черт его знает, когда, – закруглился я, видя, что Марк подозрительно посматривает на нас.
– Она хочет что-нибудь сказать? Нет?.. Тогда продолжим. – И Марк включил диктофон. – Как называлась ваша фирма?..
– «Ириска». Кафе. Мы на автовокзале место откупили, столы-стойку поставили. Дело хорошо шло. До 98-го года. – Она шумно вздохнула и с шуршанием подвигала под столом ногами. – Кафе было, «Ириска»… Это меня второй муж так называл, когда я тоненькая была… А теперь вот сосиска, – зарделась она, и какие-то быстрые чувства промелькнули в ее пустых глазах, оживили их на миг. – Да… А в 99-м я решила в районные депутаты податься. Думала, для бизнеса лучше будет. Не прошла. Партия собаки Кучмы победила. И началось… Звонки, угрозы, ругань…
– От кого, почему?
– Меня же на заметку взяли. От них, проклятых, и было это все. Песий сын Кучма – их заправила.
– И что этим «им» было надо? – искренне пытался понять Марк.
– Бросай, говорят, ты эти идеи, а то плохо кончишь. Чтобы, говорят, эти идеи больше не высказывала, а то прибьем. Но я решила не сдаваться и против всей этой сволоты пойти. – Она встряхнула шиньоном. – Потом начались угрозы детям. Мальчика не взяли в детский садик – нет, говорят, места. Один раз какие-то типы приходили в кафе, кричали, ругались, чуть не изнасиловали, чтобы я бумаги подписала, что от своих идей отказываюсь, на митингах выступать больше не буду и продам им мое кафе. Я не подписала. Вот. Тогда в мае мужа забрали в милицию, избили, опять заставляли продать кафе, а меня по телефону матерно крыли и по-всякому обзывали, – она утерла пальцами уголки рта, пошлепала губами.
Марк слушал-слушал и вдруг остановил ее:
– Стоп! Подождите. Я что-то не понимаю. Вы не прошли в депутаты, что, впрочем, не очень удивительно – чего же еще?.. Какие идеи?.. Вы что, Рузвельт, Че Гевара или Черчилль?..
– Какая еще черчиль? – не поняла Савченко-мама, и я объяснил ей суть вопроса:
– Ну, за что вас преследовать? Вы занимали какой-нибудь пост? Состояли в какой-нибудь подпольной организации?.. В партии?.. Делали что-нибудь нелегальное? Ну, как Ленин при царе?..
– Да ни боже ж мой!.. Я лично ничего такого никогда не делала, – закудахтала она в панике. – Я просто помогала одной депутатке. Вот за связь с ней, наверное, и мучили меня… И кафе наше крепко хотели откупить. Потом машину разбили и гараж разбомбили…
– В прямом смысле? Бомбой? – уточнил я.
– Нет, кувалдами. Мы в милицию – ноль внимания. Еще и пригрозили – дескать, сутяги, дельцы чернильные, пошли вон отсюда! Потом зимой пришли в кафе, трое. Муж в Киеве был. Выманили они меня в машину, отвезли куда-то за город и бумаги вытащили, чтобы я подписала, что им свое кафе продаю. Я не хотела. Они стали бить, чуть не изнасиловали…
– Подождите! Вы уже второй раз повторяете эту фразу. Что вы имеете в виду, когда говорите, что вас «чуть не изнасиловали»?.. Как это понять? – остановил ее Марк.
Савченко-мама запнулась.
– Ну, как сказать… Применили насилие…
– Не понял, – продолжал Марк. – Применить насилие – это одно, а изнасиловать – это совсем другое. Вам как учительнице ботаники это должно быть известно. Был совершен с вами половой акт или нет?
– Ну, был, – обиженно облизнула она пересохшие губы.
– Где?
– Где?.. В машине.
– В машине?.. А какая была машина?
– «Фиат».
– А, малолитражка?.. – понял Марк. – И сколько их было, говорите?
– Трое.
– Хм, их трое. И вы четвертая. – Он выразительно окинул взглядом ее здоровую фигуру. – Практически трудно представить. Места мало. – Он даже на секунду закрыл глаза, как бы представляя себе эту толкотню.
Савченко-мама подумала и сказала:
– А они… В извращенной форме…
Марк застыл:
– Что вы имеете в виду?
– Ну, это, как его… Как сказать… Оральный секс, что ли… – густо покраснев, выдавила она.
– А, вот оно что… А справка есть?
– Какая может быть справка? – искренне удивилась она (и я вместе с ней).
– Какая?.. А синяки, ушибы, побои… Вы же сопротивлялись?
– Да, но… В тот раз я побоялась заявить и мужу сказать, стыдно было. Это уже потом, когда второй раз случилось, уже не стала скрывать…
– Был и второй эпизод? – задушенно-плотоядно спросил Марк.
– И третий. Ой, да мне трудно говорить… Можно я выйду на минуточку? – попросила она.
– Пожалуйста. Дамский туалет напротив.
Проводив ее взглядом, Марк нервно засмеялся:
– Слыхали бредни?.. Такую бабищу в маленьком авто трое изнасиловали!.. Это надо же!..
– Всякое бывает. Она же сказала, как дело было, – заметил я.
– Мой дорогой, чтоб вам было известно, французская любовь к категории изнасилований вообще не принадлежит, – важно сообщил он.
– Почему? – удивился я.
– Во-первых, следов спермы никогда нет, они всегда в желудке. А без фактов – какое же дело? Даже у трупов находят, а в желудке что найдешь?..
– Или еще если с презервативом, – поддакнул я. – Маньяки сейчас тоже умные стали.
– Вот именно. Ищи черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет… А во-вторых, раз во время этого дела она член не откусила, а довела дело до конца – значит, была согласна, хоть, может, и против своей воли, но согласна. Это по-простому можно насильно сделать, а по-французски – нет. Логично?.. Вот и все. Состава преступления нет! Фактов нет! Недоказуемое дело! – радостно блеснул он очками, а я поддакнул в том смысле, что Сенат США даже принял закон, по которому оральный секс к сексу вообще не причисляется – так, упражнения для лицевых мышц, логопедия.
В дверь просунулась Савченко-мама, с трудом запихнулась за стол и оловянно уставилась на Марка.
– Продолжим. О втором эпизоде изнасилования, пожалуйста.
Она захлопала ресницами:
– А, ну да… После митинга это было. Забрали меня в милицию, посадили в камеру, а потом изнасиловали…
Марк вскочил, нервно прошелся по кабинету, погладил коротко стриженный череп, поправил очки, снова сел.
– Так. Сколько было насильников?
– Пятеро…
– Так, число растет. Все вместе вас насиловали или по очереди?
– И так, и так.
– Обычными способами или опять французская любовь?
– Больше по-простому. Об этом справки есть. Травмы нанесли. Муж в больницу возил.
– А муж ваш, между прочим, об этом факте умолчал, сказал: «чуть не случилось», – зловеще напомнил Марк.
– Это я ему так сказала. Не хотела, чтобы он знал. А то брезговать будет. У мужиков это ведь как?.. Тебя же изнасилуют, и тобой же потом и брезгуют… Поэтому и не сказала ничего.
– Это ваше право. Значит, вас насиловали прямо в камере милиции?
– Ну да.
Марк снял очки, потер глаза.
– Если верить всем этим людям, то милиция в России – это место, где в основном пытают, шантажируют, вымогают деньги, мучают, бьют и насилуют. Это действительно так? – уставился он на меня.
– А что, в черной Африке, у Саддама или в китайских подвалах – что-нибудь другое? – уклончиво ответил я.
– Да, везде одно и то же. Но у нас это не так!
– В Европе это иначе, конечно, – согласился я, вспомнив предсказание Монстрадамуса, что если демократия и дальше такими темпами будет развиваться, то скоро жизнь на воле станет столь трудной, что очереди в тюрьмы выстроятся – там хоть можно будет отъесться, выспаться, поиграть в пинг-понг, накачать мускулы, научиться плаванию и компьютеру, закончить школу, получить профессию и вообще постичь еще массу нужной премудрости.
– Дальше. Еще эпизоды по изнасилованию?
Савченко-мама потупилась:
– Был еще один. В кафе пришли кавказцы. Дверь закрыли, накинулись и сразу зверски изнасиловали… И так, и сяк, и по-всякому, и по-своему…
Марк замахал руками:
– Что она говорит? Переводите! – а я уточнил:
– «По-своему» – это как?
Она густо покраснела:
– Ну, так… Эдак… Как сказать… Ну, задом… Нет, через зад…
Я перевел:
– В том числе и анально.
Марк всполошился:
– О, это худшее посягновение на половую неприкосновенность! Справка есть?.. Врачебное свидетельство?
– Есть, сама в больницу съездила… С документами справки.
– А где вообще ваши документы?.. И какие у вас есть документы?.. И почему вы их не принесли с собой?.. – начал злиться Марк. – Как можно вообще без документов являться?
– Да мы ж не знали… Всякие есть: метрики, о браке, справочки из больниц, из домоуправления, даже мужа военный билет…
– Все есть, только паспортов нету. А паспорта где?
– Украли.
– Предположим. А другие документы где сейчас?
– У мужа.
Тут Марк взвился:
– Вы что, в кошки-мышки играете?.. Как у мужа?.. А муж говорит, что у вас!
– Он принесет сейчас из лагеря, – пояснил я ему. – Я послал его.
– Пусть бы и паспорта захватил – они, без сомнения, тоже где-нибудь в лагере спрятаны! – язвительно произнес Марк и позвонил Зигги, попросив его прислать русского с документами, если он уже сидит в приемной. – Что за хаос?.. Идут сдаваться – а документы в лагере держат. Дальше что еще было?.. Еще эпизоды?
Савченко-мама набычилась, в ее коровьих глазах появились крупнокаратные слезы:
– А дальше – что?.. Надоело мне все это – то бьют, то насилуют. Я со злости еще пуще на митингах выступать принялась. Так они дочу по дороге из школы выслеживать начали – мне звонят, говорят: «А знаешь, сегодня на ней голубая куртка, черные джинсы и серые кроссовки…» То есть хотят показать, что следят. А один раз дочу так избили, что она заикаться стала и голову клонит. Я ее еще в Италию на реабилитацию возила…
– В Италию? – настороженно выпучился на нее Марк. – Когда? Куда?
– А вот в прошлом году.
– Уже после всех эпизодов?
– Ну да. Там две недели в монастыре жила. Монахини дочу откачивали.
Марк быстро включил микрофон:
– Беженка говорит, что была в 2000 году в Италии. Вопрос: почему не попросили в Италии политубежища?
– Да не знаю уж… Как-то не захотелось… – поджала губы Савченко-мать. – Противные они, эти итальянцы, все под юбку смотрят…
«Немудрено при такой длине», – подумал я, а Марк зловеще кивнул:
– Понимаю. В Италии не захотелось, а тут вот захотелось. Как на рынке: это купим? – нет, лучше вот это, дешевле стоит. Хорошо, это все мы обязательно занесем в протокол, – Марк торжествующе посмотрел на меня. – Обязательно занесем. В Италии!.. Вот и идите в свою Италию, где уже были, тоже европейская страна, мы-то тут при чем?..
Тут открылась дверь и под дристанье кофеварки появился Савчук-папа с зеленым кульком в руке. Он передал его жене и тут же скрылся за дверью, сказав:
– Мамко, я внизу.
Савченко-мама полосатыми от снятых колец пальцами начала раскладывать по столу документы:
– Вот. Метрики детей. Свидетельство о браке. Моя метрика. Права мужа, военный билет, билет рыбака, – а я просматривал их, коротко переводил Марку, он говорил «о’кей!» и откладывал в сторону. – Вот даже билеты на поезд до Вены есть… – вытащила она какие-то синие бумажки.
– О! Давайте их сюда! – всполошился Марк и долго рассматривал их, а потом, вложив в дело, пробормотал: – А почему, собственно, вы не остались в Австрии?.. Что, тоже не понравилось?.. Или как?..
Савченко-мама простодушно захлопала чернильными ресницами:
– Да не знаю уж… Сюда уж решили ехать, юрист сказал: «Езжай в Неметчину, там всех принимают и социалку хорошую дают…»
– Вот-вот, всех принимаем и деньги на ветер бросаем. – Марк злобно переложил на столе папки и ручки. – Мы самые глупые, как всегда. Значит, после Италии вы спокойно вернулись домой?
– Вернулись. Но жизни уже не было. После дочи они добрались до моего отца, избили его, вот справка… – она поправила шиньон двумя руками, вздохнула, с хрустом потерла под столом ногу о ногу. – Как папу избили, так я кафе за бесценок продала и к юристу поехала в Киев. Он мне говорит: «Беги, Людка, пока время есть. Пес Кучма тебя в покое не оставит. Он еще долго сидеть будет и еще сильнее людей жрать, собачий сын! Беги в Неметчину, там помогут! Ты за правое дело пострадала. Обязательно помогут». Я визы взяла – и сюда.
– Как ехали?
– На автобусе.
– Какой марки, фирмы?.. Большой, маленький?.. Какого цвета?
Савченко-мама завздыхала:
– Да не упомнить… Синий был, кажись… Не очень большой… В Венгрии через границу не пустили, что-то не так было…
– У кого: у вас?
– Нет, у водителя. У нас все в порядке было. Паспорта, визы.
– А какие визы у вас были, если не секрет?
– Зеленые, что ли. Я уж не знаю точно. За деньги сделали в Киеве.
– За сколько?
– Пятьсот долларов за три визы. На поезде до Вены доехали. На вокзале три дня сидели, пока с какой-то женщиной не познакомились.
– Как звали?
– Ириана, что ли. Или Ариадна. Светлая такая, немка или австрийка. У ней и жили в доме.
– Какой был дом?
– Двухэтажный. В лесу стоял.
– Что рядом было?
– Ничего. Город.
– И реки не было?
– Нет, не было.
Марк усмехнулся и заметил в мою сторону:
– Даже такие элементарные детали не могут обговорить. Муж говорит – река была, она – не было. Дальше!
– Потом эта бесовка все у нас украла – билеты, мол, куплю – и пропала. Сын заболел, муж в город ходил, лекарство покупал… Муж нашел одного типа, русского, он за часы и деньги и перебросил нас в Германию.
– Сколько заплатили?
– Не знаю, муж расплачивался.
– Он говорит по-другому, – поморщился Марк. – Какая машина была? На чем ехали?
– Маленькая, еле чемоданы влезли.
Марк протер очки бархоткой.
– Послушайте, дорогая, почему вы морочите нам голову? Ваш муж говорит – приехали на грузовике, вы говорите – на маленькой машине…
– Ну да, маленький грузовик…
– Так, хватит. Полное несовпадение фактов. Мне картина в основном ясна. – И он значительно посмотрел на меня. – Теперь последний вопрос беженке: сформулируйте вашу просьбу о предоставлении вам политического убежища. Иначе – почему вы просите нас об этом?
Савченко-мама, сидевшая до этого мешком, приподнялась и произнесла с запинками:
– Прошу спасти меня и мою семью от верной гибели в лапах собаки Кучмы и его бандитов! Нет жизни там никому! Насилуют и убивают! Убивают и насилуют! Помогите, защитите!
(А до меня вдруг дошло, почему она явилась в мини-юбке – чтобы столько раз быть «зверски» изнасилованной, надо, чтобы объект насилия выглядел бы более-менее привлекательно, насильники тоже люди… а юбка сейчас тут – как бы косвенное доказательство).
– Других причин нет?.. Отлично, так и запишем. Подождите в приемной, пока перепечатают протоколы.
Она шумно начала прощаться, вылезать из-за стола, задела ножку, стол дернулся, с него чуть не слетела вазочка с дешевыми конфетками, которые все время мозолили мне глаза: кому нужны тут эти конфеты, которые не могут подсластить горькие пилюли, выдаваемые Марком?
Когда она вышла, Марк начал собирать бумаги, перематывать пленку.
– Дело ясное. Я думаю, этих людей мафия потеснила, доходное место отняла, вот они и будоражатся. Это надо же… Да если она кулаком даст – от насильника мокрое место останется… Да еще в «фиате»… Я вспомнил: этот «фиат» как-то по телевизору в хронике про ГДР видел, туда сесть невозможно, не то что такую здоровую бабищу изнасиловать… Да, долго сегодня работали, для вас был удачный денек.
– Дай бог здоровья собаке Кучме! Это он меня работой кормит! – засмеялся я, на что Марк тоже кисло улыбнулся:
– Да-да. И Кучма, и этот, как его, Лукушко… нет, Лукушенко, ну, белорусский президент, что на ходячее дерево похож, такой же дуб. От него, говорят, недавно генеральный прокурор и председатель суда в Америку убежали. Про эскадроны смерти рассказывают. А какие там эскадроны?.. Два-три наемных убийцы – и все. Таких у каждого президента всегда парочка под рукой. Вот этого белорусского прокурора или судью можно было бы принять, они много чего интересного знают, а этих кафешников зачем?.. – Марк указал рукой на дверь, из-за которой раздавались поносные стоны кофеварки. – Зачем они нужны?.. Если есть квота и если уж брать беженцев, то с пользой для Германии, а не всякую шушеру. Чуть не изнасиловали… Немного беременна… Что за чушь?.. Вот ваш обходной лист, перерыв на полчаса, а потом прочтите им обратный перевод с листа, чтобы под своими бреднями подписались.
Я спустился на перекур. Заглянул в приемную – тихая семья Савчуков стояла возле проходной и что-то пыталась втолковать привратнику. Бирбаух не понимал, чего от него хотят. Выяснилось, что мальчик очень хочет взять с собой грузовичок. Я перевел, привратник махнул рукой:
– Конечно, пусть берет, ребенок же!.. Эх!.. – И в глазах у него показалась неожиданная слеза. – Несчастные люди! По миру ходят! Бери, бери! Вот еще конфета!.. – (У него в столе всегда лежали сладости для детей, которые он, если не было детей, съедал сам в процессе дня.)
Белобрысый мальчик тихо расцвел от счастья, радостно вздохнул и, прижав к груди грузовичок с конфетой, пошел к дверям. Родители двинулись за ним.
– Далеко не уходите. Скоро протоколы читать и подписывать надо, – предупредил я их.
– Нет, нет, мы только туточки постоим, никуда не уйдем, – заверила меня мама, поворачиваясь всем корпусом и обдавая волной пота. – Спасибо за помощь!
Я вернулся в комнату переводчиков, вышел на балкон. Тихое семейство стоит у кромки дороги и смотрит на лес. Савчук-папа что-то говорит, мамка слушает. А мальчик вдруг поворачивается, видит меня и машет свободной рукой – в другой зажат заветный грузовичок. А конфета уже съедена.
Муж все знает
Дорогой друг, слышал ли ты, что где-то в Туле создана ПАА, то есть «Партия активных алкоголиков»?.. Не всяких там анонимных хлюпиков, а крепко пьющих людей, которые закладывают по идейным причинам, из принципа: «пьющий – хороший, а непьющий – плохой». Об этой партии рассказал мне тут один парень, Шаломчик (из контингента «вечных беженцев»). Раньше он жил в Туле и перед отъездом успел стать членом этой очень веселой партии, при вступлении в которую новый член ставит ведро коньяка и ящик закуски, а потом платит помесячно взносы пивом или водкой.
Сходки – регулярны и неукоснительны: если хорошая погода – на природе, плохая – по хатам (многие живут одни, жены ушли, больны, убиты или сами умерли). Время встреч деликатно не оговаривается – кто когда сможет. Много – из врачей, учителей, но много и черной кости, простого люда, однако все друг друга крепко уважают. А секретарем у них – бывший завкафедрой политеха, профессор.
И спорят, вопросы решают. До палок доходит – все, кроме заснувших, спешат высказаться. На мой осторожный вопрос, не помешал ли при вступлении его пятый пункт, Шаломчик пояснил, что да, действительно, один бывший швейцар Вася начал было вякать: «Жидов не хватало еще, их не принимать, они пьяницами никогда не были, только прикидываются. Может, это шпион из синагоги?» Но Шаломчик справками доказал, что мать у него без стакана спирта спать не ложится, отец всю жизнь по ЛТП корячится, дед с бабкой пили дуплетом, а сам Шалом с пятнадцати лет из вытрезвителей не вылезает. Ничего, пронесло, только наглый швейцар настоял, чтоб еще штрафной ящик водки со шпиона стребовать – с паршивой овцы хоть вина чуток.
В программе партии – важные пункты: не пить без закуски, соблюдать очередность тостов, не выхватывать друг у друга стаканы и бутылки, беречь тару, не мешать водку с пивом, коньяк с ликером, одеколон с клопомором. Строго запрещено пить из неопознанных бутылей и с несовершеннолетними гражданами. Не забывать отца родного и старушку-мать, не бить жен, детей, стариков, тещ и домашних животных. Стараться не дебоширить. И все в таком христианском духе.
Шаломчик был рад: «За одну встречу столько нового узнал, что за всю жизнь не услышишь!..» – и рассказал о первом заседании, на котором он успел побывать. Сходка проходила с утра до вечера под железнодорожным мостом, пока последний партиец не заснул непробудным сном под грохот товарняков. (Шаломчик называл этот мост «железнорожим».) Вначале почтили память старейшего члена партии, Матвеича, погибшего при исполнении – зачерпывая на посошок, он упал в чан со спиртом (работал сторожем в подпольном цеху). Отметили особо, что это не фатум, а Бог наказал его: ведь сказано – и в программе, и в уставе – не пить левых напитков!.. А Матвеич пил, постоянно нарушал устав. Старый член партии, многое повидал, а вот дисциплина никуда не годилась. Потом обсуждали проблему случайности, закономерности и фатализма. Новых членов представляли: доктор философии вступил, будет семинар по Фихте вести.
Напоследок сообщу, что в партии даже касса взаимопомощи есть, на случай травм, ментов и морга. Если с кем несчастье – сейчас же казначей выезжает. За бабки все неполадки устранить можно, кроме смерти, хотя в морге больше всего, оказывается, дерут – выходит опухший бальзамировщик со шлангом на шее и условия ставит: «Не дадите, ребята, на десять бутылок с закусью, так мы вашего дружка выпотрошим, а потом не газетами, как честных покойников, за которых уплочено, а какой-нибудь гадостью, гнилыми опилками, например, набьем!.. Так что думайте!..» Ну, когда такое услышишь – чего еще думать, как не дать?.. Хотя врет бальзамировщик – газетами сейчас уже никого не набивают, это раньше на рубль «Правдами» двух больших покойников нашпиговать можно было, а теперь бумага дорога, а типографская краска так плоха, что из трупа капает и другие казусы случаются. Такая вот партия. Узнай при случае, можно ли заочно в нее поступить – с умными людьми и на расстоянии пообщаться приятно.
С этим Шаломчиком и тут, в Германии, неприятная история приключилась: поймали его за пьянку за рулем, отвели к судье, тот постановил: «Лишение прав на год, штраф 2,5 тысячи евро, или на месяц в тюрьму». Ну, Шаломчик пересчитал в уме и решил идти в тюрьму, месяц перекантоваться в санаторных условиях. Пришел в тюрьму, попросился, дескать, так и так, месяц у вас отсидеть должен, вот приговор, не возражаете?.. Возражаем, отвечают, места нет, видите, на улице холодно стало, к нам люди садятся, чтобы иметь крышу и еду на зиму, так что ждать придется до весны, а там тоже неизвестно, будут ли места. Ну, плюнул Шаломчик и заплатил штраф, а то мог бы и дешевле отделаться.
А от морга, тюрьмы и сумы никто не застрахован, это точно. Вот недавно под велосипедиста угодил. Конечно, куда хуже могло быть: в турбину самолета втянуться или под рухнувшее дерево попасть. Но пронесло. Синяком отделался. Велосипедист вякает, что он, мол, по своей дорожке ехал, а я не вовремя качнулся. А какое его дело, когда я качнулся?.. Раз качаться не запрещено, значит, разрешено, тут все так. Будь он проклят, этот спортсмен!.. Дальше как ни в чем не бывало поехал, а я, под стрессом, еще полчаса у ратуши сидел. Стыдно. Тут бургомистр ходит, туристы щелкаются, свадьба шушукается: «Пьяница, мол!» – а встать не могу, тело ломит после падения. Ну, мне к мучениям не привыкать. Посидел, отдохнул, об аспирантке вспомнил – и ноги сами понесли за сорокаградусным лекарством, а потом – к ней в общежитие, Кафку и Камю обсуждать. В жизни вообще себя надо постоянно, как осла в цирке, чем-нибудь поощрять. Сделал что-то – вот тебе сахар. Удалось то-то – вот тебе морковка. Плохо только, что в конце уже за самые малые подвиги поощрение требуется: дошел от кровати до стола – вот тебе штрафной, добрался от стены к унитазу – вот тебе сто грамм за то, что акцию до конца довел…
К слову, на Западе есть даже профессия такая – «Aktionskünstler» (мастер по акциям, творец акций, художник-акцист, словом). Этим австриец Флац славен. Начал с того, что в синагоге между двумя гонгами вниз головой повесился и бритым черепом о них бился. Потом в резной стол-рококо кельтский топор вонзил. Жуткое зрелище было!.. А недавно в Берлине воздушную акцию провел: прилетел на вертолете, над толпой покружил, ободранную коровью тушу из простыни вымотал и вниз, на толпу, сбросил – война, мол, пришла. А сам, обмотавшись кровавой простыней, на тросе алым ангелом парил.
Другой швейцарец еще лучше придумал: собрал народ перед домом с закрытыми ставнями и шампанским угощал. Потом выстрелил из пистолета – ставни распахнулись, а из каждого окна по стулу выпрыгнуло!.. Эффектно!.. Или кровать в четыре сапога ставит – и она вдруг в высоту скакать начинает!.. Полные до краев чаши так ловко друг под дружкой установил, что одна – последняя – капля заставляет воду из чаши в чашу переливаться. Или придумал машину, которая конфетами швыряется: ты в зал входишь, а тебе в харю трюфели летят.
Между прочим, у нас тут недавно тоже одна акция произошла. Художник ее, правда, не планировал – сама провелась (хорошо, что без смертельного исхода). Год назад этот художник, тоже наш бывсовчел, мой приятель, на одну плодотворную идею набрел – из тонкой проволоки и алюминиевых трубок объекты мастерить. Моторчик объект вращает, проволока под светом играет, люди смотрят – любуются, а художник рад: ему за выставку деньги платят. Вот получает он заказ от мэрии – свить большую громадину и на конгрессе по техосмотру повесить. И обещают столько заплатить, что художник месяц-другой пивом обеспечен будет по уши, за глаза и выше крыши.
Начинает он вить, как сумасшедший. Вьет и вьет, как Вий, этот объект, разные детали придумывает. Потом идет в магазин за моторчиком. Тех, которые он обычно берет, нет. Есть другие. Продавец-турок говорит: «Вот есть другие, турецкие, но не хуже немецких, да и дешевле немного». Ну, Вий, бывсовчел, хочет верить продавцу на слово. Тем более что и дешевле – что может быть лучше?..
День открытия очень эффектен: на сцене президиум сидит, объект под потолком вращается. Все ахают, охают и поздравляют. Вий рад и пьет пиво. А на второй день в скучный зал даже не входит, глупых докладов не слушает, в буфете с продавщицами кокетничает и с шампанского прямо начинает.
Вдруг слышит сильный звон, но пока не знает, где он. Видит завхоза, идущего на него с каменным лицом, и понимает, что звон грянул не зря. «Идите, на ваше художество полюбуйтесь!» – кричит ему завхоз и недобро так глазками поблескивает…
В общем, хорошо, что объект рухнул, когда на трибуне никого не было (один докладчик уже сошел, а следующий – еще не взошел). Дело малой кровью обошлось: крайнему депутату ухо оцарапало, а другому трубка в ногу впилась – к счастью, неглубоко, ранку тут же коньяком прижгли. Закрытие конгресса – насмарку, еще бы – о надежности и качестве техосмотра говорим, а нам на голову обломки падают!.. Кривой объект за сцену с позором затащен. Ну, а Вий с горя бутылку берет и к любовнице едет. И правильно делает. Теперь сидит, крыса, на похмелье, гадает, дадут ему денег за подвеску или нет. Угораздило же тебя турецкий мотор купить и объект над людьми помещать, да еще на такую высоту! Акция!.. Радуйся, что еще на свободе!..
Вот и я под велосипед попал, тело болит, а надо ехать работать в лагерь. Вызывали недавно: «Тут, говорят, целый детский сад прибыл. Приезжайте в семь тридцать, помогите разобраться!» Я обнаглел и спрашиваю: «А на девять часов нельзя разбирательство отложить?» «Можно, – говорят, – но нельзя. В семь тридцать приезжайте!» Ладно, раз можно, но нельзя, укутался в шерсть и поехал.
Бирбаух, одетый в желтый жакет и синюю рубаху навыпуск, готовился открыть первую бутылку пива. Увидев меня, он поспешил выписать обходной:
– Вот, извольте. И не забывайте: лучший друг и коллега – это марка! Никогда не подведет, не предаст и не продаст – зачем ей деньги, она сама – деньга?! – сказал он, глядя, как пес с цепи. – Выпил вот вчера в гостях, голова болит… У тетки жены были… Богачи: кухня пятьдесят тысяч стоит, на космический корабль похожа, я холодильник найти не мог… А тетка плиту включать так и не научилась, мужа зовет, а тот тоже в сенсорах мало смыслит. Так на довоенной электроплитке и готовят… Конечно, у кого деньги есть – могут, как тот царь, золотое пиво пить, а мы, грешные?.. – отхлебнул он из бутылки, просовывая под стекло мой обходняк.
В комнате переводчиков мирно пьют чай коллеги-арабы, Хуссейн и Рахим. Пожатия, приветствия, усаживания, наливания. На повестку дня сразу вышли вопросы: о Сталине (правда ли, что он убил своих жену, мать и детей?), о болезни Ленина (умер ли тот от сифилиса?), о Троцком (которого, по сведениям Рахима, Сталин приказал сжечь в топке паровоза). Я ответил, что Сталин убил только жену, детей убили немцы, водка и блядство, а мать Сталина, темная женщина по имени Кэкэ, умерла сама, причем перед смертью спросила у сына, кто он, и Сталин ответил, чтобы ей было понятно: «Я – вроде царя, только по-другому называюсь». Ленин действительно умер от сифилиса, но где он его подцепил – неизвестно. К тому же у Ленина усохло одно полушарие мозга – превратилось в горстку извести, которая издавала каменный стук, когда врачи били по нему ланцетами. А Троцкого Сталин приказал не сжечь, а убить ледорубом, что и сделал один псих-коммунист-испанец.
Так, мирно беседуя, мы пили чай. Тут в комнату вошла молодая женщина в светлом, поздоровалась, а мне приветливо сказала:
– Фатима! Переводчица с арабского. Из Марокко.
Они начали говорить по-арабски. Фатима о чем-то спрашивала, Рахим отвечал. А Хуссейн, вдруг насупившись, замолк и недовольно уставился на нее. Фатима спросила его о чем-то. И вдруг Хуссейн покраснел, стал повышать голос, а в конце вообще перешел на крик. Фатима вначале пыталась отвечать ему, потом только заикалась, наконец расплакалась и убежала из комнаты. А Хуссейн, выскочив за ней в коридор, всё выкрикивал ей вдогонку какие-то гневные лающие тирады. Из кабинетов высунулись чиновники.
– Что случилось? Что она ему сказала? – спросил я Рахима.
– Она спросила, сколько раз он за этот месяц переводил, – засмеялся тот.
– Ну и что?.. Мы ведь тоже об этом говорим, кто сколько раз работал?.. О чем еще толмачам болтать?..
– Да, но у нас с тобой языки разные, а мы все работаем с арабами. Конкуренция! Пойду, успокою его, ему волноваться нельзя – давление.
Он привел красного Хуссейна, стал увещевать его, тот глядел вокруг, как обиженный верблюд, отвечал злобным клекотом.
На шум вбежал Зигги:
– В чем дело?
– Фатима его рассердила, – объяснил Рахим.
Хуссейн опять возмущенно зарокотал, но уже по-немецки:
– Она не первый раз у меня это спрашивает – надоело!.. Какое ее дело, кого сколько раз куда вызывали?.. Любопытная женщина, всюду свой нос сует! Еще как-то по телефону домой звонила, выспрашивала!
Зигги, поняв, в чем дело, рассмеялся:
– Не кипятитесь! Мы стараемся всех поровну вызывать. Так. Сейчас принесу весь бумажный хлам, начнем, – а Рахим примиряюще добавил:
– Где у женщины мозги? Шайтан украл и съел!
Хуссейн, ворча, уселся за стол. Он все не мог успокоиться, утирался платком, нервно пил чай:
– Какое ее собачье дело, сколько раз меня вызывали!.. Ты – баба, сиди и молчи!.. Кто тебе право дал спрашивать?.. Я же тебя не спрашиваю, сколько и куда тебя зовут!
Чтобы замять этот разговор, я спросил их мнение насчет предсказаний моего соседа-Монстрадамуса о том, что если и дальше так будет продолжаться, то арабы взбунтуются, поубивают своих тиранов, начнется хаос, потом – власть бородатых мулл и догмат шариата, после чего в конце концов арабы купят, украдут или сами сделают атомную бомбу и ударят по Израилю.
Рахим не успел ответить – Зигги принес дела:
– Сейчас за курдов и арабов примемся. Госпожа Фатима, входите! Тут для вас папка!
Фатима несмело вошла в комнату. Молода, мила, пухла. Черные волосы, смуглая кожа, маленькие руки, увесистая грудь под свободным светлым балахоном. В темных глазах – блестки тайны.
Хуссейн опять зарычал, но Зигги выразил общее мнение, сказав:
– Разве на такую женщину можно сердиться! – и сунул ему папки, велев пойти в приемную и разобраться, кто там курд, а кто иракец, а мне сказал: – Вот ваша папка! Ваша беженка с тремя детьми пришла, один грудной. Как интервью проводить – не знаю. Вообще сумасшедший день сегодня!.. Будто ад раскрылся.
фамилия: Ибрагимова
имя: Мирзада
год рождения: 1969
место рождения: г. Кизилюрт, Россия
национальность: неизвестна
язык/и: неизвестны
вероисповедание: мусульманка
На фото – лицо усталой женщины. То ли молода, то ли стара – не разобрать. Внизу приписаны три сына: Ибрагимов Альбаган, 1996 г. р., Ибрагимов Бальбаган, 1997 г. р., Ибрагимов Зульбаган, 1998 г. р.
– Почему данные о нации и языке неизвестны? – спросил я у Зигти.
– Не знаю. Надо выяснить. Приведите ее.
– С детьми?
– А куда их денешь?
Я вышел в приемную. Там стоял гвалт. В центре возились дети разных народов, родители сидели по стенам. Китайские болванчики, вьетнамские статуэтки, курдское черное дерево, арабские балахоны. Отдельно сидит женщина в черном, с грудным младенцем. Под ногами возятся двое бодрых ребят.
– Мирзада? Я ваш переводчик. Буду вам помогать.
Она встала. Я увидел, что в животе у нее четвертый сын.
– Надо идти делать фото. – Я посмотрел на детей. – Мужа нет?
Она покачала головой:
– Муж турма Махачкала… Кагда муж здэс приди, с нам посэлит?
– Не знаю. Надо будет спросить.
Братья на секунду замерли, когда я подошел к ним, а теперь подрались из-за рваного зайца.
– Бальбаганчи! – строго сказала Мирзада и, подкинув на руках младенца, добавила что-то на неизвестном мне языке (мальчик кивнул и продолжал рвать зайца на себя). Говорила она по-русски плохо, с явным кавказским акцентом.
В музгостиной братья-разбойники тут же разбежались по углам и стали с остервенением вырывать интернетовские вилки и отвинчивать счетчики с отопления. Кое-как мы усадили их за стол, дали бумагу, они похватали ручки и начали деловито мазать листы. Мирзада села у стены и оглядывалась, не зная, куда деть грудного ребенка, но Зигги, сказав: «Не надо, пусть держит, я так сниму, что он в кадр не войдет! – быстро щелкнул затвором поляроида. – Но как дальше?.. Один ребенок – куда ни шло. Но трое?..»
– Она спрашивает, когда ее муж приедет, поселят их вместе или он должен где-нибудь в другом бараке жить?
Зигги хитро посмотрел на меня, потом кивнул на окно:
– Уверен, что муж тут, где-нибудь в лагере под кустом ждет… О, если там, в лагере, поискать, много чего интересного найти можно! – мечтательно добавил он, заканчивая с отпечатками.
– А почему не ищут?
– А потому, что на обыск санкцию прокурора надо брать. А как ее возьмешь, если нет состава конкретного преступления? – важно объяснил Зигги. – А вот раз сделали обыск – и много паспортов обнаружили, беженцами попрятанных. И сразу много дел закрыть сумели! Лично я бы каждый день обыск совершал!
– Но демократия не позволяет, – поддержал я его, однако заметил, что если б каждый день в лагере обыск делали, то беженцы перестали бы в лагере паспорта держать – и все. Так что лучше редко, но метко.
– Тоже верно.
Дети, закончив с рисованием, тихо добрались до клавиатуры включенного компьютера и стали жать на все клавиши. Зигги едва успел их отогнать:
– Знаете что, идите лучше в комнату переводчиков, там уточняйте данные! Идите, идите, а я курдами из Ирака займусь. Их целая куча сегодня. И дальше, видно, будет все больше.
Мы табором пошли в коридор, причем братья обязательно хотели взять с собой особо полюбившиеся им предметы: зайца, ручки, салфетки, резиновые перчатки из мусорного ведра, Альбаганчи умудрился ухватить коврик из-под компьютерной мыши, пришлось вернуть его на место.
Поручив Рахиму присмотреть за детьми, мы сели к столу у окна. Я впервые разглядел Мирзаду. Лицо усталое, грубоватое, с резкими морщинами на лбу и щеках. Проседь в волосах. Рабочие руки. Застиранное платье. Золотые зубы. Глаза добрые, спокойные.
– Мирзада, тут написано – нация неизвестна. Кто вы по нации?
– Даргинка.
– Тут также написано – язык неизвестен. Какой ваш родной язык?
– Даргин-язык. Руски мало знай. Я полицай говорил, он не знай такой…
Я занес данные на лист. Уточнять больше было нечего.
– Зигги, идти наверх, к Шнайдеру? – крикнул я из комнаты.
– Шнайдер пока занят, он сам за вами спустится! – ответил мне Зигги из музгостиной, куда потек темный ручеек небритых курдов.
Мирзада, подкинув младенца, пошла ожидать в приемную. За ней потянулись дети. К зайцу, ручкам и салфеткам присоединилось мусорное ведро, которое я успел вовремя отобрать у сметливого Бальбаганчи.
Не успел я сесть рядом с марокканкой Фатимой и спросить, какая погода в Марокко и где живет весной их король Хасан Третий, как появился Шнайдер. Он молодцевато кивнул седой головой. И мы пошли в приемную смотреть, как можно решить вопрос с детьми.
В приемной сидела одна Мирзада и кормила грудью младенца. Братья, получив в полную власть все игрушки, дружно разымали их на составные части: колеса – сюда, а вагончик – туда, лапы – туда, а хвост – сюда. При виде Шнайдера Мирзада спрятала грудь и привстала. На вопрос, что делать с детьми, она сказала, указывая на младенца:
– Спита, я кормила. Эти тиха играт.
– Говорит, что младенец спит, а эти будут тихо играть.
– Будут ли? – усомнился Шнайдер и вздохнул. – Но что делать? Не оставлять же их тут без присмотра? Пошли.
Но дети не хотели уходить без игрушек, и нам со Шнайдером пришлось нагрузиться плюшем, пластиком и куклами. Я взял за руку одного брата, Шнайдер – другого, а Мирзада шла позади с третьим.
– Далеко едет многодетная семья? – сощурился Тилле, встретясь нам в коридоре.
– Скоро приедем, – бодро ответил Шнайдер и сказал мне тише: – Надо побыстрей закончить, пока младенец спит и эти не буянят.
Это «закончить побыстрее» мне совсем не понравилось, но я пожал плечами: как скажете. На лестнице братья подняли вой из-за заячьего хвоста, но я дал им по жвачке, и они, умолкнув и сосредоточенно засопев, на время затихли.
В кабинете мы устроили в углу аренку из стульев, сложили туда все игрушки, запас бумаги и карандашей. Мирзада села у стола. Младенец Зульбаган, к счастью, пока спал.
Шнайдер бегло просмотрел скудные данные.
– Откуда она?.. Какой нации?.. Какой язык родной?..
– Она из Дагестана. Это республика такая на Каспийском море. По национальности даргинка. И язык родной – даргинский. Я уже записал все это. И она уже раньше, в полиции, об этом говорила, но чиновники записали почему-то «неизвестны».
– Дело в том, что у нас в компьютере этой нации и этого языка нет, поэтому написали «неизвестны», – объяснил мне Шнайдер, позвонив вниз и все выяснив.
– Мало ли чего в компьютере нет. В реальности же они есть! – возразил я, но Шнайдер был непоколебим:
– Если у нас в компьютере нет, мы всегда пишем «неизвестны».
– Мне все равно, – ответил я, удивляясь такому узколобию: раз нет в компьютере, то и на земле совсем нет – так, что ли?..
В этот момент Альбаганчи дал брату громкую затрещину, тот в долгу не остался. Возня и визги. На шум прибежал сотрудник-сосед, увидел наш цирк и принес шоколадку и чипсы. Братья, забыв слезы, углубились в чавканье и хруст, а мы успели записать первые вопросы, причем все ответы Мирзада начинала со слов: «Я нэ знай, муж знаэт», чем очень рассердила Шнайдера:
– Вы что, свой день рождения без мужа назвать не можете?.. Или адреса не знаете?..
– Эта да, а другой всэ муж знаэт.
Выяснилось, что она с семьей жила в Кизилюрте, на улице Ленина, 3, кв. 11. После школы окончила медтехникум и работала медсестрой в медпункте. Вышла замуж. Пошли дети.
– Сколько их у вас?
– Ну… Три здэс. И один – здэс. – И она указала на живот.
– Да, да, очень хорошо… Будьте осторожны. Моя дочь тоже сейчас беременна, вчера чуть не упала… Так, а где сейчас ваш муж?
– Турма сидит.
– Почему? За что?
– Точна нэ знай, муж знаэт. Мой дэла малэнки была – муж ранэны приводил, я лэчил.
– Каких раненых?
– Не знай, муж знаэт. Из Чэчня, из другой места. Милиц был, ранэны и муж забирал. Потом от муж с турма писмо бил: говорит, я и дэти эхат нада. Бэжат.
– Куда ехать?
– Откуда я знай?.. Утро грузовик-машин нас забирал – и все, тут приехал сразу.
Тут Бальбаганчи отнял у старшего брата последний чипс, что опять привело к стычке. Младенец Зульбаган проснулся и заверещал. Шнайдер поспешил выключить диктофон. Мирзада, отвернувшись, начала кормить младенца грудью, а я разнял детей, переключив их внимание на обрывки плюшевого зайца. Воспользовавшись относительным затишьем, Шнайдер щелкнул диктофоном:
– Давайте по порядку. Что за раненые? Откуда?
Выяснилось, что осенью 99-го года муж несколько раз привозил домой раненых, их раскладывали на первом этаже, приходил врач («Какой, кто?» «Нэ знай, муж знаэт»), давал указания, что и как делать. И она их выполняла: перевязывала, колола, давала пилюли, меняла повязки, выносила судна, мыла, стирала, поила раненых супом и урдой.
– Что за урда? – не понял я.
– Кокнар, э!.. Из мак микстур дэлал, от бол, – пояснила Мирзада.
Кто-то из соседей донес, пришла милиция, увезла раненых и мужа. Что дальше было, она не знает, муж знает, но не говорит, а она знает только то, что ей муж говорит, больше ничего ей знать не полагается.
Мы со Шнайдером переглянулись:
– Видите, как у мусульман дело хорошо поставлено: женщина знает только то, что муж считает нужным, чтоб она знала, – сказал я.
– А у нас бедный муж знает только то, что женщина соизволит ему сообщить. А чаще всего – солгать, – поддакнул Шнайдер довольно печально и тут же вскрикнул: – Возьмите у детей мои ключи! Они их сейчас проглотят! Дайте им лучше вон тот календарь, что за вашей спиной, на полке.
Братья, не без боя отдав ключи, схватили календарь и тут же принялись рвать его на части.
– Ничего, пусть, – махнул рукой Шнайдер. – Что было после того, как раненых и вашего мужа увела полиция?
– Нэ знай, муж знаэт. Он милиц дэнги давала и домой пришла. Один года тиха была, а этот года – опять милиц был, федерал.
Оказалось, что в этом году, зимой, вновь пришла милиция и забрала мужа. Сказали, что прокуратура возбудилась и дело опять открыла. Мирзада думала, что они снова захотели денег.
– Они же уже взяли один раз? – удивился Шнайдер.
Мирзада усмехнулась такой наивности:
– Ну и что? Опят возмит. Они как собак бэшэны, дэнги лубит. Муж нэ дал – эво турма посадил. Потом писмо приходил, муж из турма кричал, эхат нада. Мы машин-грузовик сэл и поэхил. А когда глаз открывал – Гэрмания был.
Шнайдер усмехнулся:
– Она хочет сказать, что с тремя детьми, беременная, проехала через десять границ в грузовике?.. Это же не картошка, а дети. Тут полчаса посидеть спокойно не можем, чтобы они не шумели или не плакали. Не верю.
Мирзада спокойно пожала плечами:
– Урда давал, дэти спал. Вай, Альбаганчи, осторожна! – вскрикнула она, видя, что тот, насыпав на брата остатки календаря, начал рвать обложку свода законов, вытащенного под шумок с нижней полки.
Теперь, после шоколада и чипсов, дети захотели пить и писать. Я отвел их в туалет, где они дружно и бойко пописали в высокие для них писсуары, ни за что не соглашаясь пописать в унитаз, считая, очевидно, это недостойным мужчин занятием. Шнайдер тем временем рассчитал что-то на бумаге и сказал:
– В начале 99-го года в Чечне активных действий еще не было. Откуда взялись эти раненые?
Мирзада отозвалась:
– Мала-мала вэзде вайна был. Зачистка. Руски рэйды дэлал.
– Брали вы деньги за постой раненых?
– Я нэ знай, муж знаэт. Мнэ кто сказал, откуда знай?
– Ладно, спросите тогда ее: после первого эпизода, в 99-м году, она еще принимала у себя раненых?.. Это-то она знать должна!
– Нэ принимал, – ответила Мирзада.
– А какой был состав раненых? – не унимался Шнайдер. – Кто они были? Ну, русские, чеченцы, узбеки?
– Кавказки был, чорны. Руски всяки чорны убивала, паспорт не смотрэла, всэм стрэляла.
– Кстати, а где ваш паспорт?
Мирзада удивилась:
– Гдэ? Откуда знай?.. – Она покачала младенца и спокойно объяснила: – Муж грузовика сказал, куда эхат. Грузовика привэзла, я глаз открывал – уже Гэрмания. Вай, откуда знай, гдэ паспорт?.. Муж знаэт.
– Хорошо, хорошо, – отмахнулся Шнайдер. – Ваш муж все на свете знает, я понял, а вы ничего не знаете.
Братья тем временем подобрались к штепселям и розеткам. Я предупредил об этом Шнайдера, он попытался их остановить, но они подняли шум, обошли его и начали с воодушевлением выдергивать шнуры. И тогда Шнайдер подхватил старшего Альбаганчи и посадил себе на колени:
– А вы второго возьмите. Как-нибудь закончим.
Мирзада тихо спросила меня, соединят ли ее с мужем, когда тот приедет. Я перевел вопрос Шнайдеру. Придерживая правой рукой на колене малыша, левой он молодцевато потер свой бобрик:
– Муж, наверно, тоже тут, с вами вместе приехал, где-нибудь сейчас под окнами стоит… Я ни за что не поверю, чтобы какой-нибудь нормальный человек отправил бы беременную жену с тремя детьми в грузовике в неизвестном направлении. Да еще мусульманин!.. Быть такого не может!..
Тут Альбаганчи выхватил у него из кармана удостоверение и швырнул его на пол, а Бальбаганчи с моих колен дернулся вперед и опрокинул стакан с водой на младенца, которого Мирзада, устав держать на руках, положила на стол. Младенец заплакал.
– Давайте в темпе! – сказал скороговоркой Шнайдер. – Были у вас когда-нибудь какие-нибудь проблемы с полицией или другими органами безопасности? Не у мужа, а у вас лично?
– Нэ знай, муж знаэт. Он охрана жэлэзны дорога работала.
– В охране железной дороги, вот оно что!.. Значит, он государственный служащий?
– Да, служба ходил. Иногда нэдэли дома не была.
– А может, он просто деньги растратил – и потому в тюрьме сидит, – прищурился Шнайдер. – А?.. Ладно. Неважно. Чего вы лично опасаетесь в случае возврата на родину?
– Нэ знай, муж знаэт. Как муж говорит – нада дэлат.
– Хотите что-нибудь еще сказать?
– Муж скажэт, когда здес будит. Я что знай?.. Ранэны кормил, бинт-пэрэвязка делал, дэти смотрел, дом убирал, кушат готовил, работа ходил. Э, все дэлал… Устал…
Тут Альбаганчи схватил со стола очки Шнайдера и швырнул их в монитор. Одно стекло вылетело из оправы, но не разбилось. Шнайдер с кротким ворчанием ссадил мальчика с колен. Тот кинулся ко мне и начал стаскивать брата с моего колена. Под возню и плач Шнайдер выкрикнул:
– На этом закончим! – выключил диктофон и начал прилаживать стекло в оправу.
Мирзада еще раз поинтересовалась, будут ли они жить вместе, когда приедет муж? И сколько ей полагается социала за троих детей? И возьмут ли их тут в детский сад, а то она совсем измучилась без мужа с тремя детьми в чужой стране без языка и денег.
На это Шнайдер рассеянно ответил:
– С мужем жить лучше у себя дома, а не в лагере… Спросите ее, не хочет ли она что-нибудь добавить, сообщить?
Мирзада подумала.
– Я нэ знай, муж знаэт. Вай, Бальбаганчи! – крикнула она, увидев, что дети сообща выволакивают с нижней полки папки с делами.
– Все! Все! – засуетился Шнайдер. – Берите игрушки! Идите! Все!
И мы пошли вниз, в приемную. По дороге дети теряли то остатки зайца, то ручки, то шоколадные обертки. Приходилось останавливаться, ждать и подбирать. А Мирзада шла позади всех. И глаза у нее были такие же спокойные, как в приемной, когда я впервые увидел эту беременную женщину и прошел с ней вместе кусок жизни по дороге времени. Мудрые глаза бывсовчела, измученного жизнью и судьбой.
Невезучий куровод
Дорогой мой друг, никаких отрадных новостей, только всякая пакость: телевизору капут пришел, а на меня миозит проклятый напал – сыра уж очень ныра. А что делать?.. Одеялом укроюсь и сижу. Или сплю, как хомячок, целыми днями. У других одна сонная артерия, а у меня – все сонные. Сон вообще на человека хорошо действует. Лучше иногда вообще не просыпаться и жить в лунном дне, который бывает куда интереснее солнечного. Впрочем, все эти напасти – звенья одной цепи. Расскажу по порядку.
Недавно затеял я уборку – от костей не продохнуть было, уже дух пошел, как от старца Зосимы. Эти кости три месяца у меня в подвале в углу кучей лежат. Ты не думай, что я тут людоедом сделался, – нет, я кости вывариваю в спецрастворе, сушу, покрываю лаком, полирую, а потом в дело пускаю. Вот недавно от местного тубдиспансера заказ пришел – в фойе на стену горельеф из костей сделать.
Сделать нетрудно – сбей плоский ящик, битум растопи, в ящик влей, а потом в расплавленную смолу кости в виде пляшущего скелета всади, следом в морозилку сунь – и все: смола застынет навечно. Да все лень было возиться. Куриные кости три месяца исправно собирал («для собачки» – и в салфетку). Даже на бойню не поленился съездить, свиных и говяжьих ножек набрал, вареное мясо знакомому обдахлозу[40] Фрицу отдал, а кости обработал и в углу сложил. Что делать, если муза в мою ныру редко заглядывает, по другим подпольям шастает?..
И начали в костях, несмотря на лак и полировку, жучки сновать. Думаю, надо выбросить – за червивый объект шум большой будет, в суд подадут и деньги отнимут. Выбросить нетрудно, а с заказом что делать?.. Тогда, думаю, надо кости перебрать. Или собакам дать, хотя тут бездомных собак нету, а домашние собачки лучше многих наших знакомых питаются и вряд ли на кости с лаком позарятся. Собаки тоже свой интерес понимают и от хозяев помаленьку эгоизму учатся – умнеют. Были собаками – станут скотами, эволюция называется.
Решился наконец на уборку. Выпил для энергии, сел по-турецки. Роюсь помаленьку. Чистые кости в одну сторону, червивые – в другую. Удивляюсь, как это жучки по подвалу не расползлись, палочкой их ворошу и вспоминаю, как недавно Монстрадамус предсказывал, что скоро новая медицина будет в моде – «жукотерапия»: больным будут разных специальных живых жуков, пиявок и личинок давать глотать перед едой, чтобы те, в желудке кончаясь, какие-то полезные ферменты выпускали; на Мадагаскаре уже давно этим все болезни лечат, кто-то говорит, очень помогает, а кто-то не советует и жалуется, что были случаи, когда жучки в агонии в желудках плеши и язвы проедали, чем смерть вызывали. Всё может быть.
И вдруг показалось мне, что одна индюшачья крылья кость туда-сюда двигается: то ли на что-то указывает, то ли взлететь хочет. Я в страхе отпрянул, о стол ударился. Стол наперекосяк пошел, телевизором по плечу угодило, а лампочка прямо на черепе взорвалась и волосы выжгла. Хорошо еще, что электродами вообще всю систему не замкнуло. Но – думать позитивно! Телевизор на шею упал – радуйся, что трамваем ноги не отрезало. Лампочка на черепе взорвалась – будь доволен, что вирус Эбола пока только черную Африку косит. Все могло быть гораздо хуже.
В общем, телевизора нет. Надо бы бродяге Фрицу заказать: они на заказ воруют, а потом по полцены продают. Эти обдахлозы около ратуши целой ватагой, с собаками, детьми и блядьми сидят, с утра все как один героином заряженные. Тут, брат, цивилизация – кто хочет, по утрянке бесплатно уколоться может, только на учет встать надо. Потом пива накупят, собак к велосипедам прикуют и гомонят целый день. Здесь свадьба ходит, бургомистр гостей встречает, а им хоть бы хны. На моей первой и последней выставке я спросил у бургомистра, почему он их не гонит взашей, а он говорит: «Это же наши больные дети, пусть они лучше у нас на глазах сидят, чем по притонам». Вот такой подход к делу. А у меня – чисто советский: гнать с глаз долой – и точка. Болезни прошлого.
Кстати, о болезнях. Здесь наши бывсовлюди все время болеют. Почему?.. А потому, что лекарств всяких до ебени фени. Ими скорее убить, чем вылечить можно. А у нас было пять лекарств, зато от всех болезней: анальгин – от болей, корвалол – от сердца, валерианка – от нервов, бисептол – от воспалений, а но-шпа – от всего остального. А тут!.. И такого, и сякого, и разэтакого!.. Не привык советский организм к такому ненужному разнообразию, тонкостей этих заморских не понимает, неадекватно реагирует. Даже сами врачи в этом лекарственном аду ничего не волокут. У них-то самих ничего не болит, им плевать, черствые твари, больше о своей мошне, чем о твоей мошонке пекутся. К слову, известно ли тебе, что «мошна» и «мошонка» – одного корня?.. Гордая мошна у атлантов между ножищами солидно висит, покачивается, а у всех прочих мужичат жалкие мошонки меж кривых ножек болтаются – аспирантка объяснила.
Вообще по Европе в последнее время много всякого психа-совка шатается. Встретился как-то сумасшедший профессор литературы из Воронежа. Вид – как у Эйнштейна в плохом настроении: волосы стоймя, усищи лежмя, уши торчком, очки наперекосяк. И шиз у него редкой формы: он собирает (а вернее – ест и пьет) реалии литературных произведений. Давно без визы, ночлега и приюта, день и ночь рыщет по лавкам и магазинам, трется возле товаров. А чем занят литературовед?.. Что ищет, исследует?.. Оказалось – специалист по гастрономии в литературных произведениях. Вот, нашел: «О, божоле!.. Ведь именно его воровал д’Артаньян у Бонасье!.. А, шабли!.. Розовый шабли!.. Любимый напиток отца Горио!.. А это что – ах, сыр бри, из “Милого друга”?! Дайте, взвесьте!»
Накупит свой материал для анализа, съест и выпьет все до капли и крошки, этикетки пронумерует, на карточки наклеит, внесет в картотеку, вкусовые ощущения в отдельный блокнотик запишет – и дальше: «Бог мой, гусиная печенка, ее обожала мадам Бовари!.. Ах, трюфли, роскошь юных лет!.. А это?.. Неужто лимбургский, живой?.. Заверните побыстрей!» И побежал в общежитие на сковородке те трюфли жарить. Изжарит эту дрянь, съест в оргазме – и по новой.
А я лично подозреваю, что ему тайно какой-нибудь Сорос платит, а то откуда у этого бывсовпрофа деньги на эти гадкие трюфели, которые даже свинья не ест, а только из земли выкапывает?.. Сам-то Сорос уже ничего, кроме йогурта, кушать не может, вот и дает деньги другим, чтоб хоть они чем-нибудь полезным занялись. И правильно делает – в последнем костюме карманов нету. Говорят, недавно надумал Сорос цыганам высшее образование прививать. Скоро до чукчей доберется, научит их рыбу варить. А зачем, спрашивается, чукче вареная рыба, а цыгану – вуз?.. Известно всем, что сырая рыба полезнее вареной, а цыган неволи лекций и плена экзаменов терпеть не будет, свободолюбив очень. Чукче вареная рыба – что цыгану вуз.
Есть и хорошие новости – моя Мушка стала чаще появляться. Раньше только по вечерам вылезала, а теперь и по утром стал ее замечать: ползает по столу среди красок, в кистях блуждает, в пепле барахтается, по грязным стаканам виражи дает. Пару раз я ее от верной смерти спас: из чая выловил и со свежей краски снять успел, пока она в нее не всохла. Очухалась: крылышками помахала, полетела в порядок себя приводить. Я ее по-разному зову: Мошка, Мушка, Машка. Как она меня называет – не знаю, ответа у нее не допросишься, молчалива очень. Так и коротаем вечера. Да и что делать?.. Всякая балагурь в веселые стаи сбивается, а умные существа живут одни и умирают одни – недаром «Горе от ума» на самом деле «Горе уму» называлось (об этом факте аспирантка после Кафки поведала, когда спину мне мазью натирала).
Вот я тебе про куриные кости начал – и вспомнил, как недавно одного куроеда слушали. Чего только в жизни не бывает!.. Я из ныры давно не вылезал, забыл, что свет на свете есть. Вылез – а жизнь кипит: улица идет, машины бегут, люди на работу летят. Кто рано встает – тому бог отдает то, что у поздновстающих отнимает.
Бирбаух, вытаскивая из стопки чистый обходной лист и записав туда время прибытия, заботливо приложил печать:
– Пожальте, затикало. Теперь – не спешить!
– Спешить – вообще недостойно человека. Лучше опоздать или вовсе не прийти, чем спешить, – откликнулся я.
– Но не на работу На работу пришел – а деньжата уже на счет потянулись! – хитро прищурился Бирбаух, отечными глазами шаря по глубинам своего необъятного стола, заваленного расписаниями, гроссбухами, планами, календарями, бумагами, канцдрянью; тут же монитор, телефон-факс.
Он с вожделением пощелкал открывалкой и добавил, мечтательно улыбаясь чему-то своему:
– А все равно – лучше наличных денег ничего на свете нет!.. Через карман душу греют! Ни налогов, ни вопросов. Иди куда хочешь, всюду с радостью примут. У кого деньги – тот и царь!
В комнате переводчиков – сюрприз: элегантный Суза жует бутерброд. Сегодня он в бежевом парусиновом дорогом костюме и шелковой черной рубашке с набивным узором из красных попугаев. Каракулевая голова аккуратно подстрижена под бараний зад.
– О!.. Ленучка!.. Натьяша!.. Баб!.. Пянка-бладка!.. – воскликнул он, бросил бутерброд в мусорное ведро и по-братски обнял меня, обдав хорошим одеколоном. – Как рада! Как твоя?
– Спасибо, все хорошо. Ты тоже выглядишь отлично! Чем занимаешься, кроме переводов? – с интересом посмотрел я в его живые глаза (как будто две маслины во взбитом белке).
Он поднял обе руки:
– Перевода – хуи-хуи, нет денга. Суза богаты баб женил. Теперь фирма имей. Суза умны! – И он громко постучал по своей каракулевой голове. – Экспорт-импорт. Понимай?.. А жена немецки, богат. Суза баб харашо ебай – баб его мужа брай. Фирма открывай. Из Сенегал – дерево и минерал, из Эджипт – чулок-трусок, этта… трикотажа, куртка-трапка… А в Нигерия – гандон и порно, они толка ебай целый день, болше дел нету… Я недавна Руссия был!.. Сколки девучка ден-ночу ебай!.. Виски-водка пити, колбас-соль кушати. Хотиш? – открыл он портфель, в котором, как рыбы в ведре, блестели мерзавчики с коньяком.
– Нет, работать надо, куда сейчас? Если я один выпью – я и остальные прикончу.
– Ха-ха, русски болезн, – захохотал он, отвинчивая колпачок и выливая в себя коньяк. – Я после Руссия пити и пити, стопу нету. – Он утерся галстуком и закусил долькой маринованного чеснока (банка с чесноком белела у него в открытом портфеле среди мерзавчиков, как камень среди рыбешек). – А где ты быти? Что делати? – Он бросил мерзавчик в мусорное ведро.
– Увидят, не надо, – предупредил я его, на что он весело отозвался:
– Хуи-хуи!.. Мой плевай! Мой денга ести, плевай на работ!..
И он для убедительности громко харкнул в ведро, закурил черную сигарку (хотя курить было строго запрещено) и принялся рассказывать, где он был:
– Москва-батюш ехай, всяку братку взатку давай. Патома хараш бизинес с братка делай, денга есть, хараш! – Он оттопырил двухцветный, розово-черный большой палец. – Патома городу был, где цар убил.
– В Екатеринбурге?
– Да. Там ден и ноч девучка сосай. Всяки бывай: и Натьяша, и Ленучка, и Валючка, и Надьюша, и всяки другой подльюка-сука. Весь Руссия толки денга давай – и ебай! О, как девучка кричил!.. Давай-давай, ебай!.. Хуи балшой – весь девучка мой! Хороши русски девучка!.. Давай пят опят! – протянул он розовую ладонь для хлопка, и я с силой по ней треснул. Суза подскочил к портфелю и выхватил еще мерзавчик: – Пити давай!
В эту минуту вошла практикантка с оленьими глазами и большой грудью. Увидев разгоряченного негра с сигарой, она застыла с папками в руках. Суза тоже оторопело и плотоядно уставился на нее:
– Эта какой девучка?
– Это практикантка.
Суза бросил мерзавчик обратно в портфель, поправил галстук и важно представился по-немецки:
– Суза Саз Сизил Сузивил! Очень рад!
– Очень приятно! С какими языками работаете? – вежливо спросила практикантка.
– Мандинго, фулла, сарахулла, юла, крео! – подробно перечислил Суза и протянул свою длинную и узкую ладонь.
Она, покраснев, утопила свою ладошку в его руке. Потом передала ему две папки:
– Ваши девушки!
– А, о!.. Опят клитор из Африка приходити! – воскликнул Суза.
– Какой клитор? – оторопел я.
Суза захохотал:
– Наш глупы африкански народа девучкам клитор режил, чтоб не ебай. А черны девучка тут Джормени иди и говори, что Африка не хочет жити, там клитор ему режил, а она прав клитор имей и ебай сколка хочил… И политзащит просил. О, девучка клитор болше все любит!.. Суза хараша сосай! Эти девучки тоже хараш! – указал Суза на фотографии двух молодых негритянок на папках. – Сегоден вечер Суза их ебай! Сначал один, спатом другой, – щелкнул он пальцами по фотографиям. – Я всегды мой беженеси ебай!.. Ести клитор, нету – все равна ебай! Дики люди в Африк! Они клитор режай, потом сушай, порошока делати и с чай пити – полезны продукта!.. Да-да, Суза пити, очень скусна!..
Практикантка, терпеливо дождавшись конца жаркого монолога, протянула мне папку:
– У вас какой-то заморыш. Как будто только что из хлева.
Я взял папку. На фото – сонное патлатое лицо. Сигареты в зубах не хватает. Пэтэушник. Ученик слесаря на заводе. Токарь на фабрике.
фамилия: Суров
имя: Василий
год рождения: 1972
место рождения: с. Бобынино, Россия
национальность: русский
язык/и: русский
вероисповедание: православный
Я пошел в приемную. Между тихими китайцами и небритыми курдами сидит мой клиент. Правда, как из хлева. В нечесаных волосах только соломы с перьями не хватает.
– Василий?
Он уставился на меня серенькими глазками и неслышно сказал:
– Этоть.
– Я переводчик, буду помогать с немцами объясняться. Пошли! – говорю я, чувствуя себя Хароном, снующим по реке смерти. Только коллега Харон возил по воде, а я – по суше, по кабинетам и коридорам.
Василий покорно встает. Он в мятых штанах, в сандалиях на босу ногу, рубашка навыпуск. Проходя мимо, он обдает меня затхлой вонью немытого тела. Сальные волосы лежат на плечах. Лицо пусто-бессмысленно.
Держась от него подальше, я осторожно следую за ним.
– Куды итить?
– Направо. Где дверь открыта.
В музгостиной практикантка усаживает его у стены, наставляет аппарат и тихо говорит мне:
– Боже, что за запах!
Мне стыдно за Васю Сурова, но я молчу, пожимая плечами, – дескать, я же не могу отвечать за весь бывсовлюд? Когда Вася косолапо подходит к станку и практикантка, надев две пары перчаток, на расстоянии с невольным отвращением берет его за руку, я все-таки с неприязнью говорю ему в спину:
– Ты бы, Вася, помылся. Неудобно как-то…
На это Вася затравленно смотрит в пол:
– Хде?.. Еле жив ишо осталси. Гонют.
– Кто тебя гонит?
– А все, – флегматично отвечает он, не удивляясь ни отпечаткам, ни фотографиям, как будто уже сто лет живет в этой комнате.
– Баня тебя преследует, вот кто!.. Давай, садись вон туда! Уточнить данные надо, – говорю я ему, но практикантка просит меня побыстрее увести беженца – у нее аллергия на запахи, и она боится, что может случиться приступ:
– Идите к Тилле, там и уточните!
«К Тилле – это хорошо, там кабинет большой, можно будет подальше от этого придурка отсесть. У Шнайдера было бы плохо. А у Марка задохнулись бы сразу в его душегубке. Кроме самого Васи, разумеется. Он, видать, привычный», – думал я, идя по коридорам. Вася шаркал сзади.
Тилле был в хорошем настроении (его любимая команда вчера взяла кубок). На нем – рубашка с короткими рукавами, серый галстук.
– О, кого это вы привели сегодня, дорогой коллега? – увидев нас, засмеялся он.
– Не знаю, надо спросить.
– Спросим. Садитесь как обычно… – настраивая диктофон и просматривая папку, говорит Тилле.
Вася, поозиравшись, сел бочком у края стола, затих и только иногда украдкой скреб в ребрах.
– Он что, из сумасшедшего дома сбежал?.. Что за вид у него?.. Что за амбре?.. Бог мой!..
– Вот немец интересуется, почему у тебя вид такой?
– Хтой?.. – испугался Вася.
– Ну, вид такой грязный, чумной…
– Та я ж у бяхах, куды ишо мытьси?.. По дорохе ишо лишай схватил, дохтур сказал, мытьси нельзя.
И Вася, задрав ветхий рукав, показал мне красные пятна, а я стал лихорадочно вспоминать, жал ему руку при встрече или нет – лишая мне только не хватало к лому в костях и звону в балде!
Тилле тоже в недоумении уставился на пятна:
– Что это?
Я сказал, что это кожная болезнь, а сам он в бегах, потому и выглядит так дико.
– Но он в лагере мог бы привести себя в порядок. А эти пятна надо врачу показать.
Я перевел.
– Та был ужо… Дохтур мази дал, а сосяды в лагярю покрали, нету тяперя мази. Невязуч стал штой-то, совсем олаберный…
Передвигая диктофон по столу и готовя бумагу для записей, Тилле прервал его:
– Я чувствую, что опять начинается длинный русский рассказ о мази, которую у него украли, и о докторе, который эту мазь прописал. Давайте начнем. Пусть скажет имя, фамилию, адрес, где жил до выезда, год рождения!
– Суров, Василий, рожден в 1972 годе, сяло Бобынино Калужска облась. Чаво ишо? – тухло посмотрел Вася на меня.
– Языки какие знаете?
– А никакия.
– Было у вас еще какое-нибудь гражданство?
– Чаво? – не понял Вася, а после объяснений энергично покачал скуластым лицом: – Не, не было… Што я, шпиен?
– Почему нет документов?
– Пашпорт в мялицие.
– Родственники за границей есть?
– Чаво?.. Не. Маманя помярла, папаня ишо раньшее от сярдца. Один я жил.
– Братья-сестры есть?
– Сяструня была, да ономнясь куда-то деласи. Давно не слыхать. Хде, што, не знамо мне… – он подвигал руками, показывая недоумение и погнав по кабинету волну потной вони.
Тилле неодобрительно посмотрел на него, отъехал на кресле к окну и открыл его.
– Где учились?
– А у сяле. Восемь классков. Да не мох я эти книха читать. Глаза болять. Пользы-то с них…
И Вася обиженно завозился на стуле, поджал губы и почесал щеки в жидкой татарской щетине.
– Армия?
– Было. На два ход похнали. Очки мыл и картоху чистил.
– Где служили? В каких войсках?
– В Белоруссие. Ракеты хде. У хозчасти был.
– После возвращения что делали?
– Потом? – яростно чесанул себя под рубашкой Вася. – А разное. У нас большая села. Что у села делать надоть – то и делал. Кому навоз на ободворок, кому забор, кому крыша переложить. Всякое делал. За бутылка и за так, по дружба. Это уж кому как. Если друх, то так, а если врах – то за бутылка. Ежели там тялка резать или охород полоти… Или, к прямеру, углю грузить… У нас села большая, сельпо и махазина два. Ишо гусина ферма есть, бабья общежития рядом, ябля цялы врямя идет несусветна, комендан дажа на дошшечка напясал: «Хандоны у окна не кидать – хуси давятси». Там тожа дрова колоти или труба там чисть…
– Спасибо, ясно – работа по случаю. Дальше! – подстегнул его Тилле.
– А дальше сдялал я курфирму…
– Что? – удивился я. – Курортную фирму?
– Не, фирму курей.
– Птицеферму?..
– Ну да, курей разводить, – и Вася почему-то показал рукой от пола полметра.
– И что куроводу надо у нас? – Тилле обреченно выключил диктофон и приготовился к длинному рассказу.
Вася помолчал, горестно покачал головой, сухо ответил:
– А то надоть, что фирму отняли. Вот чаво.
– Кто отнял у вас ферму?
– Хто?.. А хто ж яво знаеть?.. – Вася меланхолично и основательно почесался и замолк до тех пор, пока Тилле не попросил его продолжать. – Я, когда маманя помярла, дом продал и сарай на селе купил, там усе смастерил, где кура живуть и нясутьси. Я ихь до полторы кила растил, а потом на птиц-фабрик сдавал, там их пасли дальша, а потома рязали. Ийцо усе моя была. Пух-перо драл понямноху. Сам усе дялал, три ход одна курятина питалси, сам по угрям кукорякать стал. Економил, дяньги собрать думал, дальша дела делать…
– Деньги на развитие производства хотел пустить, – одобрил Тилле. – Все это хорошо и похвально, но в чем суть дела?… У русских никогда не добьешься прямого ответа. Эти бесконечные долгие истории, идущие от адамовых веков!.. Попросите его быть покороче. У меня сегодня совещание в прокуратуре – албанцы покоя не дают.
Вася грустно посмотрел на меня, на Тилле, пару раз чесанул по кадыку, по ребрам и сказал:
– А дальша то, что пряшли бандюхи, сказали по сотка долляр платить в мясяц, а нет – сожжем сарай и тябя вмясте с ним. А я, правда, тама и жил с курьми. Я туды-сюды, ничяхошньки не выходить, надоть платить. Ну, и платил два ход… Потом мор был курям, вся перядохли. Потом ишо в Москва вся деньги покрали, шум-бум, корма больно дорохи стали. И крыша протякла, на рямонт не была, кудыть ишо бандюхам давать?.. Вот пряшли бандюхи, говорят, плати, а то хужее будет, мы знаем, что дяньги у тябя есть. От сука-кассирша в сбяркасса узнали, что у меня ишо пятьдесят тысяч рубли на счет есть. Я не дал. Так они ночью на грузовик прямо у сарай вперлись, всех курей передавили, кинули два лямонки, а мяня измудохали до смярти, мясяц на больничке ляжал. Ну ничего, отляжалси. И одного бандюху, ково в лицо знал, выслядил и молотом яму нога сломал…
– Ничего себе! – удивился Тилле. – Вы?.. Молотом?..
– А чаво? У мяня сила есть, моху, – сжал Вася грязный кулак и угрожающе задвигался, опять вызвав колебания вони в жарком воздухе.
– Не гони волну, – попросил я его, украдкой отодвигаясь.
– Дальше! – поторопил Тилле.
– Дальша етоть бандюхан на мяня у мялицие жалоба напясал – мол, Суров избил мяня молотом. А они с мялицие рука об рук, кянты, одна шайка. Взяли мяня в хород и мясяц в одиночка дяржали, хороводили. Били еженощно, штоб я им бумаха подпясал, штоб им дяньги со счету даю… Думаю, пусть убьють, ни копья не дам. Ну, пустили, сказали, идь и тысяча долляр принесь, тогда пашпорт дадим. Я – в сбяркассу, а там на счяту пусто. Хто снял, кохда – не знамо. И счет закрыт и деньга нет. Сучовина-кассирша лыбитси: «Сам закрыл, да с похмелюги не помнишь!» Это я-то?.. Мясяц в милиции маюсь!.. Плюнул в харя и побрел к дружку, он обода для тялег делаеть. Выбрал дубье и пошел с теми разбяраться, что фярму топтал и жег охнем. Одному холову разбил, а у друхово позвонок хрястнул, до сих пор в крясле на очко ездить… Так отомстил гадам. За кур и за сябя. Тяперя тут сяжу, помоши прошу.
Тилле покачал головой:
– Очень печальная история. Это все?
– Усе.
Тилле включил диктофон и в сжатом виде изложил рассказ невезучего куровода, а потом перешел к дороге в Германию:
– Теперь расскажите, пожалуйста, ваш путь из села до Германии. Как вы вообще сюда попали, без документов и денег?..
Выяснилось, что у Васи была тетка в Одессе. Он уехал к ней, крутился в порту, познакомился с моряками и те за триста долларов взяли его зайцем на корабль.
– Откуда деньги взяли, эти триста долларов?
– А у тетке. Одолжился.
– Дальше!
Задумчиво почесавшись, Вася громко хлюпнул носом, сглотнул соплю и продолжал:
– У Ляссабону выляз, в город попал. Все бялым-бяло, дома святлы, чисты. Жарко ужа с утря. И жратва всюду навалом. Воровал и ел. Под мост ночявал с бродяхам, один Диго, а друхой – Товариш. Обаче в Портухалие много люди Товариш зовуть – дела!.. А опосля на Страсьбурх пешим поперси…
– И вас никто по дороге не остановил? – усмехнулся Тилле. – Дорога неблизкая. И как это вообще возможно из Лиссабона в Страсбург пешком дойти, до меня не доходит.
Вася, выслушав вопрос, кивнул и охотно стал объяснять:
– А проселком надо идтить. Тута – шосса, а ты иди сябе тута. А в Страсьбурхе уже обяссилил. У поезду сял. Проводник-хад причяпилси: «Куды? Хто? Билет!» А я ховорю, как у Одесса рябяты научили: «Хермание! Азюль!» Он мяня с поезду снял, полицаю сдал, полицаи к сябе взяли, билет до Франкфурьт купили, у поезд сунули, сюды послали. Вот так-то было.
Тилле что-то быстро писал у себя на листе. Потом включил диктофон и уточнил:
– Значит, вы пришли в Германию из Франции, а туда попали из Португалии?
– Из нее.
– Очень хорошо. Так и запишем. Знаете, я вам почему-то верю. Но мы-то чем можем вам помочь? У вас дело чисто уголовное. У вас ферму разбили, вы мафию избили… Это к политике не имеет отношения. Так что не знаю даже, что вам сказать… И вообще: почему вы не остались в Португалии или Франции?.. Это такие же западные страны, как и Германия. Зачем надо было так мучиться, пешком полконтинента идти?
Вася осоловело посмотрел на него, сглотнул комок и произнес хрипло и тихо:
– Я слыхал, чта у Хермание хороших людев спасають. Тута вобше хорошо люди живуть, а мы нищи, босы, нету у нас счастьи. И не будять. Поэтом прошу дать человечью жизню, не бросать волкам обратноть у пасть. Курей моих они сожрали – и мяня сожруть. Как пить дать сожруть.
– А почему бы вам не открыть такую же ферму где-нибудь в другом месте России? – спросил его Тилле. – Что вам мешает поехать жить куда-нибудь в другое место, где вас никто не знает, и там начать дело? На Байкал, например? Или за Урал? Может быть, у вашей тети найдется еще немного денег, чтобы дать вам для начала?
– Хде?.. И хто мяня пустить?.. Опять бандюханы придуть, усе возьмуть. Не, лучшее тута, у Хермание, своя фярма открыть…
– Это уж конечно. Но учтите, на Западе большая конкуренция и слишком много всяких птицеферм, – заметил на полном серьезе Тилле и перешел к завершающим вопросам: не имели ли раньше проблем с органами безопасности и не хотите ли чего-нибудь добавить?
– Да ужа усе сказал. – Вася задрал руку и яростно начал чесать в подмышках.
Тилле засуетился, зашуршал бумагами:
– Все, закончили. Протокол возьмите у машинистки, а я должен уже идти. Как вам вообще нравится наша работа?.. – вдруг спросил он меня, когда Вася вышел. – Правда, неблагодарный и тяжкий труд?.. Следователи работают с вещами, а мы – только со словами. У следователей под рукой целый арсенал, начиная от обысков и кончая судмедэкспертизой, а у нас что?.. Диктофон и карандаш. Все. Дальше мы должны доказывать беженцу, что он – не верблюд…
– Даже если это и без очков видно, – поддакнул я.
Стараясь держаться от Васи подальше, я пошел по коридорам. Он шаркал впереди. У лестницы нам встретилась практикантка с оленьими глазами и спросила, как прошло интервью, не понадобились ли нам противогазы.
– Окна открыли.
– От кого он бежал?..
– Он имел куриную ферму, а бандиты ее разграбили.
Она кивнула:
– Веская причина для политубежища! – и в ответ доверительно сообщила, что в Кельне сдался целый автобус туристов из Белоруссии и, наверно, скоро будет работа: – Но самое интересное, что весь автобус рассказывает одну и ту же историю.
– Какую?
– А вот услышите. Но чтоб все одно и то же говорили?.. – она покрутила пальцем у виска.
По пути к вокзалу я думал о словах Тилле о верблюде. Вот приходит некто: «Я верблюд, пришел к вам просить убежища. В Сахаре львы преследуют, жизни угрожают!» – «Какой же вы верблюд?.. Где ваш горб, если вы верблюд?» – «Потерял в дороге». – «А где хвост?» – «Украли обезьяны». – «А копыта куда делись?» – «Отъели волки». – «А шерсть?» – «Сползла, линяю». – «А губы почему такие маленькие?» – «Похудел в побеге». – «А плюнуть прицельно можете?» – «Слюны нет, сушняк, волнуюсь очень». – «А как ваша подпольная кличка?» – «Дромедар моя кликуха. Если не верите – ваши проблемы, докажите обратное. И где тут коновал, мне на прием пора, уши мерзнут, простудиться боюсь! Где мои колючки на обед?» – «Ну ладно. Для вас есть три пути: в зоопарк, на бойню или обратно в Сахару. Идите на три месяца в клетку, посидите, отдохните, а там видно будет, что с вами делать».
Скоты в сапогах
Дорогой друг, движения особого нет, но это и к лучшему. Под лежачий камень вода не течет?.. Ну и не надо, зачем чтоб текла? Чтобы унесло потоком, костей не соберешь? И без водопадов проблем по горло, новые злые сюрпризы на каждом шагу ожидают.
Я сейчас только начал понимать, почему все врачи-рвачи такие румяные и довольные. Они – вампиры, чужими несчастьями питающиеся! Им это маслом по сердцу, когда они видят, как люди мучаются. Они, сволочи, видами этих мучений прирастают! Поясничник – настоящий травмофил, Ухогорлонос – заядлый ларингоман. С одной стороны, на мучения ближних всегда интересно смотреть (в прошлые века главным развлечением на базарной площади было), с другой – за это еще деньги получать. Это как если наркомана каждый день морфием колоть и ему за это еще деньги давать. Такой уж вид их врачебного вампиризма: они получаемый от больных негатив тут же в свой позитив перерабатывают, как пчела из нектара – мед: «А, ты больной и бедный, тебе плохо?.. А я – здоровый и богатый, мне хорошо!.. У меня денег много, скоро на Мальдивы с любовницей поеду, а ты по больницам таскайся!..» Накачаются эти человекофаги чужими муками, свою карму почистят – и следующего вызывают.
Вот, по ним таскаючись, я тоже научился свой нектар собирать. Если вижу, что кому-то хуже, чем мне, – сил прибавляется, ощущения такие странные, типа что не все еще потеряно, жить можно, вон другие с куда худшими исходными позициями существуют, а у тебя всего-то ничего – звон в ушах, огонь в костях или гной в залобных пазухах… А есть ли жизнь до смерти и есть ли смерть после жизни – за нас давно решено, нас даже не считают нужным в известность поставить, как и что там дальше намечается. И правильно. Зачем? И так сойдет. Меньше знать – крепче спать, а лучше – и вообще не просыпаться. Что ж… Даже сам бог, амритой закусывая, однажды раскаялся в том, что создал людей, решил потопом замести следы, но зачем-то спас Ноя… А зачем спас? Нелогично. Если решил всех топить – то топи уже, а чего сепаратировать?.. Но ной не ной – лучше не станет, и я не буду ныть, а буду кричать: «Уйдите, беси, на мхи и болоты!» – как меня аспирантка научила…
Зато слава моя как толмача так распространилась, что недавно из синагоги звонили и просили на немецкий язык одну жалобу перевести, 30 марок обещали. Кто жалобщик? В чем дело? А в том, что сейчас тут, в Германии, много всяких «русских» магазинов, дискотек, ресторанов, газет и турбюро появляться стало, на наших бывсовлюдей рассчитанных, чтобы было где купить ржаной хлеб, селедку, сгущенку, тушенку, пряники, пельмени, хамсу, веники, мантоварку, горчицу и т. д. Понятно, что в основном этот «бизьнесь» такие же бывсовлюди крутят. Что из этого выходит – можешь себе представить: совок и на том свете совком останется: в раю без очереди за амброзией суетиться будет, в аду побежит с утра пораньше место в топке занимать (чтобы ничего не пропустить, никуда не опоздать и побольше набрать того, что дадут, даже если это раскаленные гвозди, огненные щипцы или пудовый молот), а в чистилище умудрится, наверно, ларек с левым пивом открыть или дохлыми курицами торговать.
Как можно легко догадаться, основным контингентом этих фирм и турбюро наши бывсовлюди оказываются, в основном русские немцы и люди из «контингента вечных беженцев», привлеченные низкими ценами. Чем это иногда кончается – видно из жалобы, которую дали мне в синагоге для перевода, 30 сребреников пообещав, а я, переводческую тайну нарушив, цитирую ее тебе дословно, чтобы ты не думал, что только в бывшем Союзе такое возможно. Нет, Совдепия – там, где бывсовлюди, они ее с собой возят, она в их головах, в крови, в сути, а не в ландшафтах и пейзажах вокруг.
Малоуважаемые дамы и господа!
Мы ужасно, до всех душевных глубин, возмущены тем, как ваше турагентство «Аленка» организовало нашу поездку в Италию. Такой отдых даже в страшном сне не может присниться!
Я поехала одна с ребенком на море для оздоровления души и тела. По состоянию здоровья на автобусе я ехать не могла, потому посчитала поезд самым оптимальным видом транспорта. Нам пообещали комфортный переезд на поезде к месту отдыха, который займет всего лишь 12 часов.
И что же вы думаете себе? Мы провели в нечеловеческих условиях около 20 часов, в ужасную жару, без малейшего намека на кондиционер, в полной антисанитарии, испачкав одежду о гнутые сиденья и подорвав здоровье в грязном вагоне, где даже не подмели мусор. Такие вагоны уже давным-давно не эксплуатируются ни в Германии, нигде, откуда их вообще взяли???!!! Разве допустимы они к перевозке людей, тем более в Европе? Мы же не в дикой Азии, а в цивилизованной, казалось бы, стране??!!
При любом торможении поезда мы задыхались от удушливого запаха горелых тормозов! В жару +35 градусов стояли на каждом полустанке, изнемогая в раскаленном купе. При моем сильно больном сердце такая поездка едва не оказалась последней! Это таки не преувеличение, а факт. Но это было только начало!
Мы выбрали отель «Вилладже Резиденс», три звезды, который находится в 50 метрах от моря, с интернетом (что было для меня необходимым условием). При прибытии на место мы вынуждены были 3 часа ждать заселения в отель. Когда же мы, изнуренные «комфортабельной поездкой» и измученные невыносимой головной болью, дождались заселения, нам сообщили, что в отеле для нас мест нет и нас отвезут в другое место, которое, якобы, ничуть не хуже. Я пыталась уговорить администрацию отеля оставить нас здесь, ссылаясь на состояние здоровья и пр., но безрезультатно. Нас отправили в другой город, в отель «Камилла Савелли», который потом оказался двухзвездочным, с тараканами и вечно подгоревшими спагетти каждый день с утра и до вечера.
Когда мы уже подъезжали к отелю, мы обратили внимание на то, что моря там поблизости вообще нет! Как мы потом выяснили, до моря оказалось идти вниз 3 больших квартала, а потом под мост и наверх! Мы потом подсчитали шагами – там было-таки не меньше трех километров до моря!!! Это же просто издевательство!!! Разве мы согласились бы покупать путевку в такой отель?!!! Разве я в состоянии, возвращаясь с моря, подниматься с больным сердцем в гору на такое расстояние? Разве это отдых???
Отель большой, восьмиэтажный, в нем жила в основном молодежь, а это значит – постоянный шум, крики, песни, рядом всякие дискотеки и караоки, так что ко всем моим «радостям жизни» прибавились еще и бессонные ночи!!! Но что меня окончательно сразило: отсутствие WLAN, а интернет – 8 евро в час!!!
Обратную поездку вспоминать вообще страшно. Во-первых, нас не внесли в списки отъезжающих. Вместо того, чтобы находиться с ребенком на пляже, я посвятила полдня поиску представителей фирмы, ответственных за наше отправление. С горем пополам наши фамилии были-таки найдены и внесены в списки.
Наш автобус самым первым прибыл на вокзал. Нам было сказано, что поезд отправится в 8 часов вечера. В 5 часов мы уже были на перроне. Люди все прибывали и прибывали. К 7 часам на перроне было уже не протолпиться. Люди стояли как селедки в бочке, как это мы видели в разных кино про концлагеря. К тому же служащие на пальцах сообщили нам, что поезд будет стоять всего лишь пять минут, поэтому все должны примерно сориентироваться, в какой вагон им нужно будет войти согласно нумерации. Люди, порядка 1000 человек, пытались равномерно рассредоточиться на узком перроне в ожидании состава. Сесть было негде. Мы простояли там на ногах более 4,5 часов!!! Я несколько раз была на грани сознания!! А поезд подошел только после 21.30!!!
Но самое интересное началось тогда, когда поезд подали не на тот путь. Вот тут-то пошло настоящее смертоубийство! Озверевшая толпа с чемоданами, с колясками, багажом, зонтами и складными стульями шла в лобовую атаку, прочищая себе путь к своим вагонам. Такого ужаса я еще не видела! Разъяренные пассажиры оттеснили моего ребенка в колонну, движущуюся в противоположном направлении, а потом один из них чуть не сбросил его своим чемоданом прямо под колеса поезда!
Было такое впечатление, что мы находимся в гетто, и единственное спасение в этом поезде, такая была паника, хаос и давка. Обратная поездка была не менее мучительной. Жара, сквозняки, невыносимая духота во время долгих стоянок. Я всю ночь, лежа на третьей полке под потолком раскаленного вагона, молила Бога о том, как бы дожить до утра. Я уже молчу о том, что поезд приехал с пятичасовым опозданием.
Вот уже прошла неделя после нашего приезда, а я все пытаюсь восстановить свое здоровье. Я простудилась в поезде, заработала ужасный бронхит, сижу на антибиотиках и бета-блокерах. Сердечные боли не дают возможности вставать с постели, нервная система окончательно подорвана. Завтра еду на прием к кардиологу. И это называется оздоровлением???!!!
Я этого так не оставлю! Я требую возмещения морального и физического ущерба в размере 1000 марок! Если мои требования не будут удовлетворены, я буду обращаться в суд, подключу адвоката и т. д. Мы живем в цивилизованной стране, и никто не имеет права обращаться с нами, как со скотом!!!
Без всякого уважения – имя, фамилия, дата.
Жалоба впечатлила меня. Я перевел все честь честью, адрес написал и отослал в турбюро. Ответа нет. Потом звонит мне авторша жалобы и слезно просит позвонить в это проклятое турбюро и узнать, как дела, а то когда она звонит – они ее голос слышат и трубку вешают, в прошлый раз даже сказали, чтобы не хулиганила.
Ну, почему не позвонить? Звоню. На том конце провода помолчали, послушали и ответили:
– Это все сутяги и жалобщики, деньги урвать хотят. Вы этих людей поменьше слушайте! Они все врут! И всегда всем недовольны! Им бы за мало марок и рыбку съесть, и в ложу сесть! Экскурсоводы жалуются: как автобус с этим контингентом – так брюзжание, недовольство и ропот!
– Как так? – удивляюсь. – Почему?
– А вот так, по кочану! Такой народ они! – отвечают. – Я сама группы водила, знаю. Всегда всем недовольны! Привезешь их в Голландию, а они: ой, какой Амстердам грязный!.. Какой домик Петра маленький!.. Хлеба и колбасы мало дают за завтраком!.. В прошлый раз кока-кола в автобусе стоила 1,80, а сейчас – 1,89!.. Сыр голландцы неправильно варят, шкурка неровная!.. Воздух негодный в Роттердаме, загазованный!.. Суп слишком острый в китайском ресторане, а мясо сухое! Арбузы не сладкие, помидоры травянистые, капуста без вкуса! Летом жарко, а зимой – холодно! Это мороженое слишком холодное, а чай – слишком горячий!.. Так что поменьше их слушайте, они вам все уши прожужжат! А ее жалобу мы в Италию отослали, ждите ответа!
Я трубку повесил, жалобщице перезвонил и все пересказал. Она возмутилась и сказала, что так этого не оставит. Что дальше было – не знаю, пока 30 свои сребреников жду, жалобщица обещала занести «при случае», сказав, правда, что намерена платить только в том случае, если жалоба будет удовлетворена. Ну, посмотрим, подождем. Думать позитивно. И на жизнь не дуться, как тараканы – на подгоревшие спагетти.
Да, эти насекомые вообще – гады еще те, куда хуже млекопитающих. Недавно аспирантка просвещала: жучье и тараканье, мол, главные каннибалы в природе! Божьи, казалось бы, твари, а туда же, каннибальствовать, нектара и пыльцы им не хватает!.. Самые злые из них называются этнофаги, то есть пожиратели насекомых, а среди них самые злые и прожорливые – это блестянки, верблюдки, жужелицы, красотелы, журчалки, карапузики, кокцинеллиды, ктыри, муравьежуки, сетчатокрылые златоглазки, стафилиниды, стрекозы, не говоря о таких монстрах, как пауки, клопы или клещи. Эти твари никого не боятся, ведут открытый образ жизни и жрут почем зря разных других фитофагов, которых подло подкарауливают и жестоко убивают, а иногда и так съедают, живьем…
Ну, тараканы – это одно, а с мурашками у меня опять война. Грешен в мурашках – давлю. Ну, а что поделать?.. Жизнь меня тоже топчет, и сам я живу в постоянном ожидании огромной стопы, которая в один непрекрасный день закроет солнце, обрушится и придавит. Если повезет – проползешь между протекторами, уцелеешь, нет – извини, никто не обещал, что жизнь вечна и смерти не будет…
А иногда надену на себя майку и трусы, мурашей вижу, но сразу не давлю, смотрю на их суету, понять пытаюсь, что в их головах творится, откуда пришли, куда идут и что обо мне, своем боге, думают… И знают ли они, что на самом деле не сидят сейчас, затаившись на полу, а мчатся вместе со всеми по эллипсу Вселенной, которая так велика, что облететь ее один раз можно только за 200 миллионов земных лет, чему я не поверил, но Монстрадамус показал книгу, где было написано, что 200 миллионов лет – это галактический год, и из этих расчетов наше Солнце очень молодо, ему всего 23 галактических годика, Земля – и вовсе во младенчестве с ее двумя галактическими сутками, а жизнь человека – и того меньше: одна галактическая секунда… И прожить ее надо так, чтобы не было потом стыдно всю вечность…
Нет, я мироздания никак не понимаю. Да и как понять? Из точки (что за точка, где она была, из чего сделана, кем?) произошел Большой взрыв (почему? что взорвалось? кто тротил положил?), все стало разлетаться и расширяться (куда? во что? в чем?) и превратилось в миллиарды пылающих солнц и планет… Ага, вот так вот: из пустоты – миллиарды планет?.. А как быть со школьными законами «из ничего ничего не происходит»?.. Откуда эти миллиарды миллиардов тонн материала взялось?.. Верится в это как-то плохо, тем более, что никто этого не видел. Мало ли что там Коперник на костре кричал или Эйнштейн у себя на манжетах по пьянке записал?.. Иди и докажи! А чего я не понимаю – того я и знать не хочу, и мне куда лучше думать, что земля – плоская, на четырех слонах стоит, хрустальным куполом накрыта, звезды – серебряные гвозди, а солнце – сгусток золота, бог, верховный начальник… И вообще миров столько, сколько голов, включая зверей, рыб и насекомых…
А говорил я тебе, как недавно в лагере нарвался на одного бывшего альпиниста, тоже сутяжника и склочника, который с России 10 миллионов долларов получить пытается?.. Очень смешной случай, не поленюсь рассказать, если у тебя есть время мои глупости слушать.
В поездах теперь мало народу ездит – весна, очередные каникулы. Еду почти один, в окно смотрю – уже не темень, как зимой, а зелень и свет кругом. От вокзала перехожу окольными путями через стройку и дальше, мимо церкви. Лавки, будки, спящие дома. И вот уже лагерный ареал: с утра пораньше фигуры возле зданий слоняются, ковры из окон вывешены, дети на площадке темнеют, женщины из окон переговариваются. Немудрено – некоторые годами так по лагерям живут, пока их дела по судам и прокуратурам кочуют.
Бирбаух, переложив пивные бутылки из ящика под стол, доброжелательно приложил печать к обходному листу:
– Касса открылась. Теперь – не спешить. Вы сигарету курите – а денежки уже где-то в вашу сторону заворачивают. Они сами знают, кого любить. К одним ручейком текут, а к другим – реками и океанами.
– Да, у некоторых наводнение, а некоторые вообще без воды, засуха в пустыне, – поддержал я его.
– Вот именно, ничего не поделать! Это уж так. Если бы я в баронской семье родился, я бы тоже горя не знал… Прошу, ваш обходной!
В комнате переводчиков – коллеги-арабы. Но не успел я подсесть к ним и получить стаканчик зеленого чая из термоса, как появился Зигги и, передавая мне папку, сообщил:
– Там какой-то кинг-конг из России. Просмотрите дело. Ну и здоровяк! – а Рахим заметил, что все русские, кого он встречал, высоки, крепки и сильны и что, видимо, в России природа такая, здоровая и крепкая.
Я открыл папку. На фото: массивное лицо, голый череп, щеки в шрамах, перебитый нос. В общем, морда не только просит кирпича, но уже не раз его получала.
фамилия: Малой
имя: Иван
год рождения: 1959
место рождения: г. Барнаул, Россия
национальность: русский
язык/и: русский
вероисповедание: бывший член компартии
Решив, что это урка, я пошел за ним, но он уже сам пыхтел мне навстречу: здоровый буйвол, сильно хромает и громко сопит, в нелепом голубом галстуке на бычьей шее, с огромным красным пластиковым мешком в руке.
– Малой? Иван? – остановил я его.
– Так точно, – ковыльнув, застыл он. – А вы кто будете?.. Из российского консульства?..
– Нет, ваш переводчик.
– А, хорошо, а то я думал, что это уже за мной приехали…
– Есть основания бояться?
– Еще какие!.. Я в мировой суд жалобу подал, ущерб в 10 лимонов баксов оценил – еще бы не бояться! Прикончат как котенка.
– На кого подали жалобу?
– На Россию.
– Надеетесь получить с России 10 миллионов? – уточнил я.
– А как же! По одной простой причине – они мне полагаются!
Решив, что это не урка, а псих, я ласково указал ему на дверь музгостиной:
– Прошу!
– Понял.
Он благодарно пропыхтел мимо меня, сопя и свистя перебитым носом. От хромой ноги его во время ходьбы исходил деревянный стук. Озираясь, куда бы положить мешок – «Документы!» – он спросил меня, не снять ли галстук, все-таки не на свадьбу пришел, но я, с вожделением поглядывая на мешок («Может быть, работа появится, письменные переводы!») – пожал плечами:
– Вы в костюме, так что и галстук при деле.
– Да? – недоверчиво переспросил он, поколебался, но галстук с толстой шеи все-таки содрал и, не развязывая, кинул его в свой необъятный мешок. – Не нужен он мне. В Страсбурге одевал, а тут – не надо. Сниму лучше эту ебаторию, на глотку давит.
– Давно из Страсбурга?
– Пару недель назад там был. Оттуда в Голландию заехал, в Гаагский трибунал, оттуда – прямо в Дюссельдорф. А оттуда уже сюда прислали. Мне терять нечего. Мое дело правое. Но мое дело плохо. Вмандякался в дерьмо. Давай я тебе документы покажу!.. – И он споро полез в мешок, но я успел остановить его: позже, сейчас отпечатки и фото, документы – потом. – Понял. Как скажешь. Будем на «ты»?.. Что делать?.. Куда идти?..
Я указал на Зигги, стоявшего к нам спиной (он мазал чернила на станок):
– Сейчас он пальчики снимет!
– Чего это?.. Я не бандит. Я альпинист. И конезаводчик.
– Конезаводчик? – повторил я слово, рождавшее какие-то странные ассоциации с дореволюционным прошлым.
– Ну да, лошадей развожу. Ахалтекинцев. Слыхал?.. Вот. Кем только в жизни не был!.. И альпинистом, и циркачом, и подводником, и в кино снимался… Теперь вот пиздецом накрыт лежу, ничего нет, все отняли, бляди ебучие, сучьи вскормыши…
– Кто отнял?
– Понятно, кто – внучка президента, кто же еще?.. Чтоб ей пусто было, давалке!..
Он не успел досказать – Зигги взял его мощную руку и начал тыкать пальцами в чернила:
– Спортсмен?
– Я, я[41]! Спорт, гут спорт! – подтвердил Малой с гримасой улыбки на обезображенном лице (от перебитого носа и шрамов лицо съехало на сторону, перекосилось, как после пареза, – вид был диковат).
– Поставьте мешок, никто не украдет! – сказал Зигги.
– Понял. – И Малой кинул мешок на пол, однако недалеко от своих ног: видно, он крепко надеялся на эти бумаги. Свист из его носа был то громче, то глуше.
Зигги управился с отпечатками и усадил Малого к стене, начал настраивать поляроид.
– В кадр не вмещается, – пошутил он. – Все русские такие здоровяки?
– Все. Потому и войну выиграли, – завел я беспроигрышную шарманку.
– Ну да, Шталинград… Слышал от деда. Он там руку потерял.
– Хорошо, что не голову.
– Верно. Там большая мясорубка была. Без руки жил потом, ничего. Левая, к счастью.
– Могла быть и правая, – предположил я.
Малой тем временем заковылял к умывальнику – отмываться от чернил.
– Что это с ним? – кивнул Зигги на его хромую, вывернутую ногу.
– Все очень просто – с горы упал, – лаконично ответил Малой. – Хорошо еще, не убился, только одну кость сломал и сотрясение средней тяжести получил.
– Ногу сломать лучше, чем позвоночник, – заметил я.
– Позвоночник у меня тоже не в порядке – винтом рубануло, когда под водой был. И нос мучает – с трапеции в цирке сорвался. Теперь вот на роже вечный хмурняк… И сотрясений штук восемь, все и не упомню. Беда! – покачал Малой массивной бритой головой. – Я сам с Алтая, с детства по горам лазаю. Это потом в Москву поехал жить, будь она трижды проклята, а в детстве там жил, на воле.
Когда все было закончено, мы отправились наверх. Я шел впереди, Малой, шурша мешком, хромал сзади и громко, надрывно, с заливистым свистом сопел.
Дверь в кабинет Тилле открыта, там два сотрудника. Когда они увидели Малого, один сказал:
– О-о!.. – а другой пожелал Тилле удачной работы.
Оба, опасливо косясь на Малого, вышли, а Тиле пробормотал:
– Бог мой… – и начал распутывать шнуры диктофона.
Мы сели, как обычно: Малой напротив Тилле, я – между ними. Перебирая бумаги, Тилле спросил:
– У вас в паспорте виза на Францию. И французские пограничные штампы. Были во Франции?
– Объясняю: был. Из Москвы прямо в Страсбург, через Париж полетел. Оттуда в Гаагу смотался, в трибунал хотел жалобу подать, но сказали, что от частных лиц не принимают, только коллективные заявки…
– На кого жалобу хотели подать?
– На гада Ельцина, его повесить мало, говномеса. В Голландии русские на вокзале в Гааге посоветовали: «Езжай, говорят, в Дюсик, там сдавайся, там у них сборный пункт, оттуда тебя немцы сами дальше пошлют, куда надо». Вот на поезде в Дюсик и поехал.
– И билет есть из Гааги в Дюссельдорф? – невзначай поинтересовался Тилле, настраивая диктофон и распечатывая новую кассету.
– Есть, есть, как же, у меня все есть, я ничего не выкидываю. – И Малой извлек из пакета билет, а я подумал, что его дело уже решено: есть паспорт, есть виза, есть билет – чего еще?.. Или по паспорту отправят в Россию. Или по визе – во Францию. Или по билету – в Голландию, правило третьей страны: откуда пришел, туда и иди сдаваться. А то, что тебе Голландия меньше Германии нравится – извини, на вкус и цвет, как говорится, всем не угодишь…
Тилле тоже что-то тщательно отметил у себя на листе. Он всегда работал с листом бумаги, куда вносил все, что ему было надо, а во время пауз и перекуров (иногда и прямо во время разговора) поворачивался к компьютеру и вносил туда свои заметки. Да, недаром говорят, что самое страшное – это когда немецкий чиновник во время беседы вдруг тихо поворачивается к компьютеру и незаметно вносит туда несколько слов: наверняка ничего хорошего.
– Начнем. Пожалуйста, год и место рождения. Адрес до выезда из России.
Малой продиктовал то, что уже было известно из папки и паспорта. Но я все равно еще раз тщательно записал данные на бумаге, а Тилле перечитал их с листа в микрофон.
– Родственники в России или за границей есть?
Малой засопел:
– Объясняю: никого. Сирота. Ни братов, ни сватов. Один как перст судьбы, как собака дикая…
– Очень хорошо, вопросы отпадают, меньше писанины. Что это у вас в мешке? – выключив микрофон, спросил он, видя, как Малой время от времени проверяет, на месте ли мешок.
– Вся моя жизнь.
– Но у нас нет столько времени, – усмехнулся Тилле. – Нас, по большому счету, кроме вашего паспорта и рассказа о гонениях, мало что интересует. И кстати – все остальное можно подделать или налгать.
Малой пожал плечами – мол, ваши проблемы.
– Паспорт тоже можно подделать, – сказал он резонно и с хрустом потер свой бритый череп.
– Есть машинки, проверяющие паспорта. Мы как раз купили такую. Можно попробовать, – холодно ответил Тилле.
– Он что, думает, что я ксиву подделал?.. Да моя она, моя!.. Вот, зачем вообще паспорт? Читайте! Пресса!
И Малой молниеносно-безошибочным жестом выхватил из мешка пожелтевшую газету, загнутую на статье «Просчет альпиниста» с фотографией Малого в окружении людей и коней.
Я показал газету Тилле. Тот склонил голову.
– О чем?
– О том, как меня травили. Вытравливали как таракана. Жить не дают, скоты в сапогах… – ответил Малой.
– Что за газета? – спросил у меня Тилле.
– «Барнаульская правда».
– Барнаул?.. Постойте! – Тилле заглянул в папку. – Он же родился в Барнауле?
– Точно так.
– Знаете лично автора статьи? – вдруг строго спросил Тилле.
– А как же, он со мной в школе учился. Дружбан мой. С детства кенты. Мы сели, выпили, я ему все рассказал, он говорит: «Давай я про тебя статью напишу!» Вот, и написал, не обманул, потому что кент верный, мы с ним вместе по лесам бегали…
Тилле что-то черкнул на листе, а мне сказал вполголоса:
– Конечно, школьный друг что хочешь напишет… Как русские наивны!.. Я испытываю к ним симпатию за это. С ними легко работать. Они доверчивы, как дети. И мечтательны. Раньше верили в коммунизм, теперь – в то, что Германия всех примет и обогреет…
– Наивность и есть форма мечтательности, – ответил я на это.
Малой в это время смотрел в газету, но по стихшему сопению чувствовалось, что он вслушивается в наш разговор. Когда я вкратце передал ему суть, Малой ответил:
– Как бы не так!.. Мечтатели!.. Да таких завистливых гузноебов, как мы, на свете еще поискать!.. Если у кого что получается путевое – тут же сожгут, испоганят, разграбят, хуже татарвы: раз у нас нет, то и ты соси. Подлые твари, лизоблюды, жополизы, лентяи, пьяницы!.. Правильно говорят: русские долго запрягают, а потом никуда не едут!.. Наша Дубляндия стала непригодной для жизни!.. В ней опасно жить!.. Карлики и пигмеи захватили власть!.. Да и где эти русские?.. Это же так, фьють, этнический эфир, в котором другие распылены…
Я перевел. Тилле усмехнулся:
– Ну-ну, не горячитесь. Это в вас обида говорит. Кстати, в графе «вера» вы пишете, что вы бывший член компартии. Вы, собственно, кто?.. Политик?..
Малой обиженно засвиристел носом:
– Да какой на хрен политик!.. В партии был, да. А кто там не был? В партии верить в бога не разрешали – только в Ленина и коммунизм. Когда вся эта партия мандой накрылась, я лошадей разводить стал. Вот, пферд, ферштейн?[42] – И он ткнул в снимок изуродованным пальцем без ногтя. – Мы должны были уже на скачки в Висбаден ехать. Все на мази было, если б не эта ебучая внучка…
– Внучка? Чья? Ваша?
– Да нет. Ельцина-гада.
– А какое внучка Ельцина имеет к вам отношение? – удивился Тилле.
Малой заскрипел стулом.
– Все очень просто. Ко мне лично – никакого. Но вот лошадки мои ей понравились. Тут вся заварка дела. Коней отняли, ферму закрыли, меня на 450000 рублей оштрафовали, убить пытались – чего еще? Но Страсбургский суд разберется! – погрозил он пальцем и пристукнул деревянной ногой.
Тилле вздохнул и включил микрофон:
– По порядку. Когда и где вы закончили школу? Что делали потом? Где учились, работали?
Малой полез в мешок. Тилле жестом остановил его:
– Просто расскажите пока. Бумаги – потом. Кое-что, может, и перевести придется, – добавил он мне, на что я ответил, что сделаю это с удовольствием, чем больше – тем лучше.
Малой сел плотнее, постучал под столом хромой ногой, укладывая ее поудобнее, и приступил к рассказу.
Школу он закончил в Барнауле в 76-м году. Пошел в армию, был парашютистом (два перелома, три сотрясения). Хотел даже остаться в армии, но передумал, поступил в Москве в институт физкультуры, решил всерьез заняться альпинизмом, ходил на Эльбрус и Памир (три перелома, два сотрясения).
– Но успехи были. И большие. На самых пиках стоял, землю всю под собой видел…
– Чем жили? – охладил его Тилле земным вопросом.
– Стипуху получал. В цирке подработка была. Отец немного подсылал – он тогда жив был еще, в милиции работал, на блядовозке шоферил. Хотя и сержант был простой, но иногда нет-нет, да перепадало от блядей. В Барнауле у нас страшное блядьмо идет, милиция рейды делает. Ну, менты всегда хорошо жили, это мы вот, честные люди, мучиться должны… Как говорится, кто не работает – тот не только ест, но даже жрет, как свинья, выше крыши… – И Малой провел рукой по кривой шее. – Справедлухи бесполезняк искать.
– Дальше что делали? – не дал ему Тилле углубиться в философию.
Дальше пригласили в кино сниматься, дублером: он с детства хорошо на лошади сидел, прыгать мог и все такое прочее. По тем временам большие деньги загребал, до тысячи в месяц. Пару лет даже подводником-аквалангистом поработал на Дальнем Востоке у друга отца, с которым тот вместе Берлин брал…
– Берлин? – разобрал Тилле. – Он был в Берлине?
– Нет, это его отец был. Во время войны.
– А… На рейхстаге он, случайно, не расписывался? – кисло улыбнулся Тилле.
– Не знаю, – честно признался Малой. – Но отец фрицев всегда очень хвалил и уважал – культурный, говорит, народ, честный и добросовестный, не то что мы, распиздяи, ничего толком сделать не можем… Как говорится, главный враг нашего военно-морского флота – это само море!.. А фрицев отец очень тепло вспоминал, это да, правда. Мы, говорил, рабы, а они – свободные люди, и вообще людей в рабов превратить очень легко, в вот сделать их свободными трудно, невозможно… Очень уважал.
Тилле недоверчиво посмотрел на него, но Малой возразил:
– Я, я. Точно так. И перед смертью, когда у меня уже непруха поперла, он мне из Барнаула по телефону говорил: «Если что, беги, говорит, в Германию, там примут, спрячут».
– Ближе к делу, – суховато остановил его Тилле. – Семья есть?
– А как же?.. Женился в 88-м, дочь родилась.
– Адрес жены, дочери. Где она сейчас?
– В Барнауле у друзей спрятаны.
– Где работали в последнее время?
– Конеферму имел, дружбаны с Памира надоумили. – Малой скорбно склонил голову, засвиристел носом сильнее и полез было в мешок, но Тилле не дал ему вытащить бумаги:
– Потом. Пока рассказывайте.
– Как прикажете. Я хотел фото фермы показать.
– Ну, давайте.
Малой радостно извлек фотографии: он с лошадьми и Софией Ротару, он с лошадьми и патриархом всея Руси, он с лошадьми и с какими-то модными девками. Тилле просмотрел все это, отметил, что ферма была, очевидно, большая, и попросил продолжать, а еще лучше – сразу сказать, что его привело сюда, в Германию, но поконкретнее и покороче, а то ему еще на совещание в министерство надо.
Малой вздохнул, с сожалением посмотрел на мешок, посопел, потер с шорохом бритый затылок, поскрипел ногой под столом, печально произнес:
– Все очень просто. У меня ферма не отапливается. – И замолк.
Тилле, почуяв долгий зачин, еще раз попросил его излагать компактнее.
– Понял. – Малой опять с сожалением посмотрел на мешок. – Так вот. Ферма довольно холодная, а ахалтекинцы тепло любят. А по Рублевке, в часе езды от меня, конный завод. Там все есть – стойла теплые, попоны, накопытники. Я всегда туда лошадей на зиму ставил, чтоб не померзли, а за постой платил честь честью, сколько договорено было. Сдал и в 98-м году туда своих восемь жеребцов, чтоб в тепле отзимовали. Весной пришел забирать – а меня два жлоба-конюха гонят: «Не дадим, говорит, тебе твоих кляч, пока ты за постой, прокат и аморт не заплатишь»…
– Аморт – амортизация? – уточнил я.
– Ну да. Как так?.. Что за еблематика?.. Я ж заплатил 45 тысяч?.. Ничего себе веселуха!.. Будут эти жопошники мне лапшу на уши вешать!.. «Ничего не знаем, пошел к директору завода», – говорят и вилами направление указывают… Иду. Тот, скот в сапогах, на меня щурится: «После дефолта все поднялось в цене, вот калькуляция, вы нам должны не 45, а 450 тысяч платить». Как так, мать твою так?.. Чего ты мне, дятел, впихиваешь?.. А вот так. И все. Я в горотдел милиции, с заявлением – ноль внимания. А другой конюх с завода (их там шестеро), брат моего сторожа, говорит мне по пьянке: «Не дадут тебе твоих жеребчиков, не надейся!» – «Как так?» – «А вот так! Их себе такая кобылка высмотрела, которой отказа быть никак не может». – «Кто?» – «А ты забыл, чей забор на забор завода смотрит?» А там то ли Ельцина, то ли его дочки дача рядом!.. И все дети и внуки на этом заводе скакать учатся. Как же, надо же им по парадам ездить, шику-блеску наводить! Дело ясное, что дело темное. Попал, короче, в ебистос. Вмандяшился по самые уши. Что делать?.. Я в прокуратуру – мне от ворот поворот. Более того, говорят, что против меня дело открыто: «Конный завод встречный иск подал, по неуплате 450 тысяч. Так что давайте думайте. Или платите – или сядете, на пять лет минимум».
– Справки, бумаги из суда есть?
– Есть, есть, как не быть! – Малой радостно дернулся к мешку, но Тилле опять рукой остановил его:
– Стоп. Потом. Дальше.
– Понял. Объясняю: я – в суд, а они мне – готовое решение: лошади конфискованы в счет неуплаты, а если я появлюсь на заводе, то жлобью-охране приказано стрелять без предупреждения.
Тилле усмехнулся и спросил:
– А сколько вообще стоят эти лошади?
– Есть и 50, есть и 500 тысяч рублей. Есть и 500 тысяч долларов. А есть и 5 миллионов. По-разному. От породы зависит. У меня не очень дорогие были, в эти 450 тысяч и садились как раз все восемь.
Малой с шорохом долго тер обеими руками бритую голову. Голубые глаза его покраснели, он начал громко посапывать, лицо задергалось.
Тилле с беспокойством выключил микрофон:
– Воды дайте ему! Чтобы припадка какого-нибудь не было. После стольких падений, сотрясений и переломов…
Малой притих, объяснил:
– Просто у меня внутри все горит, как вспомню, что дальше было… И почему это я должен был платить, ебена крест?.. У нас договор был на 45 тысяч за постой?.. Был! Я заплатил? Заплатил! А что они там, твари болотные, потом повысили – какое мое дело?.. Они сто миллионов написать могут, с них станет, беспредел же. Да эти деньги только причина была, чтоб коней отнять! Просто кони этой внучке очень приглянулись – вот и все дела!
– А зачем ей восемь лошадей?
– Откуда мне знать?.. Своим подружкам-давалкам подарить хотела. Или еще что. Ну вот, после жалобы в суд и напали в первый раз: летом пробрались ночью на ферму, где я спал, били, кричали, что буду солянку сборную мясную жрать из собственных органов… руку сломали… пытались задушить подушкой…
– Подушкой?.. Странная форма убийства. Особенно такого, как вы, здорового и крепкого человека. Рискованно, – скептически покачал головой Тилле.
– Вот не знаю, сам удивляюсь. Но точно так все было. Я апелляцию в генпрокуратуру – и тут же, осенью, второй раз накинулись сзади, бздюхи, избили кастетом, завязали глаза, заволокли в машину, предупредили, чтоб перестал дергаться, поганых лошадей забыл и по судам пороги обивать завязывал, а не то буду омлет из своих яиц хавать, а потом эскадрон смерти меня прикончит, как пса бешеного, да так, что и следовых остатков не останется… Потом влили в рот водки с клофелином и выбросили около «Сокольников» у мусорных баков. Вот, справки есть, сотрясение второй степени с тяжким ушибом мозга. И второй раз нос сломали, он у меня уже до этого сломан был. Так они его в другую сторону своротили, совсем дышать не могу. Ебальник уже на рукомойник похож стал, где нос, а где глаз – не разберешь. – И он полез в мешок за справками, но Тилле властно сказал:
– Потом! – и Малой продолжал, сжав кулаки и кривя лицо:
– Я жалобу в Думу, в Комиссию по правам человека – а на меня в третий раз нападают: зимой оглушили трубой, раздели догола, закопали по горло в снег и еще льдом обложили, скоты в сапогах… Это же чистая попытка умышленного причинения смерти! – Он бурно засопел и заворочался на стуле. Левый глаз его начал слезиться, в углах рта выступила белая пена. – Вот такие права человека мне показали. Так хорошо разглядел, что искры из глаз посыпались.
Тилле предусмотрительно попросил меня открыть окно и дать беженцу воды. Сам он во время рассказа Малого что-то усиленно писал на своем листе и сейчас повернулся к компьютеру, чтобы внести туда несколько фраз и цифр, сказав:
– Пусть продолжает!
Малой молчал. Сопение и свист перебитого носа. Шрамы глубоки и замысловаты. Из левого глаза сочится слеза. Помолчав, он говорит:
– Тогда я решил прямо на Страсбург выйти, один знакомый юрик из коллегии помог написать, перевести и отправить жалобу. И тогда эти суки избили в подъезде мою дочь, сотрясение и перелом ключицы, документы тут. А в карман ей на прощание записку для меня сунули: «Следующая – твоя блядюга. Вели ей подмыться – скоро будем»! – И он грохнул по столу кулаком. – Каково?
– Тише, Иван. Немец при чем? – сказал я ему. – Хорошо говорил. Говори дальше, до конца доведи. Оставь этот шум.
Он по-бычьи секунды три смотрел на меня, мигнул и обмяк:
– Понял. Все. Объясняю: точно так все и было. До меня дошло, что это конец. Я-то ладно, но жена, дочь!.. Я их спрятал в Барнауле, ферму продал, а сам вот сюда. Вначале в Страсбург ткнулся – узнать, что к чему. Вот, говорят, в декабре суд будет. Мне бы до декабря продержаться, а там 10 миллионов долларов возьму, может, что-нибудь вместе и состряпаем – фирму откроем или дело какое завяжем, а?
И он откровенно подмигнул нам: сначала Тилле, потом мне. Когда я сказал об этом Тилле, он засмеялся:
– С кем, со мной совместно фирму открыть хочет? Шутник, однако! А что бы он хотел открыть? Какую фирму?.. 10 миллионов долларов – большие деньги.
Малой расплылся в блаженной улыбке:
– А то же самое, что и там. Коней разводить. У меня в Висбадене корешок есть, немец, скачками заведует…
– Фамилию знаете?
– Кристофом зовут, знаю, а вот фамилия… То ли Шриттер, то ли Дриттер, а может, и Бриттер. Он там самый главный… Ферму бы открыли, с отоплением, манежем, по «Мерседесу» бы купили – и жили бы хорошо. Вот вы люди грамотные, много чего можно было бы вместе накумекать…
– Например, сосиски продавать, – поддержал я его. – Тут шутят, что три профессии никогда не умрут в Германии: пивовар, мясник и могильщик.
– И все вполне доходные профессии, заметьте, – поддержал разговор Тилле, заметив мне тихо и мимоходом: – Ну как же русские не мечтатели? Он уже ферму с нами вместе открывает… – Потом включил микрофон и спросил: – До этого случая с кражей лошадей у вас были когда-нибудь проблемы с российскими органами безопасности?
– Все очень просто – не было. Я же спортсмен, а не бандит! Это они, скоты в сапогах, на меня нападали, а не я на них. Вон, там написано, кто я такой, – Малой указал на пожелтевшую газету с мятыми краями (она весь разговор лежала перед нами на столе).
– Со статьи ксерокс надо сделать, а то порвется вся скоро, – посоветовал я ему, подумав, на скольких столах эта газета уже побывала и в скольких руках была мята.
– Что вас ожидает в случае возвращения на родину? – продолжал записывать на пленку Тилле.
– Лютая смерть.
– А в Барнауле, например, вы не могли бы открыть подобную ферму? Вы же спрятали там вашу семью. После продажи фермы у вас и деньги есть наверняка. Так почему бы вам не поехать в Барнаул? Там за десять миллионов долларов многое сделать можно, – осторожно предложил Тилле.
Но Малого было не пронять.
– Мафия всюду найдет, – уверенно отрубил он.
– Какая мафия?
– Эскадроны смерти, пятнистый ОМОН… Одна бульда. На кого им «фас» скажут – тому и врезают шершавого…
– Других причин, кроме названных, нет?
– А что, мало?
– Мы не на рынке: мало, много. Нету других причин?.. Хорошо. Может быть, хотите что-нибудь добавить?
– Дайте стойло до декабря. А там деньги придут…
– Да-да, фирму откроем, лошадей пасти будем, – ответил Тилле, выключил магнитофон, начал собирать бумаги. – Три месяца законные у вас есть, а дальше видно будет.
– Можно и продлить, через адвоката. – добавил я вполголоса Малому, на что тот согласно кивнул, а Тилле, услышав слово «адвокат», бегло посмотрел на меня, но ничего не сказал, только вздохнул и сообщил, что беседа закончена.
Малой, шумно вздыхая, со стуком, свистом, топом, сопом и храпом полез из-за стола, выволок хромую ногу и, массируя ее и глядя снизу на Тилле, попрощался:
– Ауфвидерзен![43]
Тилле сделал мне знак задержаться и, выждав, когда Малой, доковыляв до двери, исчез, спросил:
– Как вы думаете, он из мафии?.. Мне кажется, что он поссорился из-за денег со своими сообщниками и сбежал сюда, чтобы спрятаться.
– Может быть. Отдельные жаргонные слова есть. Но это ничего не значит – многие бывшие советские люди любят говорить сочно, – ответил я. – А может быть, все точно так и было, как он рассказывает. Этого тоже нельзя исключать.
– Думаете, в России все возможно?.. И закапывание в снег?.. И льдом обложили?.. И эта мифическая внучка?.. – с сомнением покачал головой Тилле, вопросительно-серьезно глядя на меня.
– Внучка – тоже часть России, в которой, как вы говорите, все возможно, – ответил я ему, слыша из-за двери колотушку и призывное сопение Малого.
Мы пошли вниз. На прощание Малой долго жал, мял и тряс мою руку, благодарил за помощь и попросил номер телефона:
– Как только бабки возьму – сразу к тебе. Дело откроем. Или лучше в банк положить на проценты?..
– Лучше пополам: и в банк положить и дело открыть, – осторожно отвечаю я, видя, что лицо Малого опять наливается кровью, а сопенье и свист усиливаются.
Он говорит:
– Хорошая мысль. Вот веселуха пошла бы… – На миг он расцветает, но тут же гаснет: – Пока ждать надо. До суда. А там лишь бы наши скоты в сапогах не украли, с них станет прямо со счета украсть, когда Страсбург в Москву капусту перечислит…
– Почему Страсбург?.. Тебе же не Страсбург, а Россия платить должна?.. Вот она тебе прямо в Москве и заплатит…
– Ага, кувалдой по башке!.. Держи карман шире!.. Нет. Надо счет в Швейцарии открыть, туда пусть перечисляют.
– Тоже верно. И деньги чистые, и налогам не подлежат, – поддержал я его, на что он с жаром пообещал ввести меня в полную долю, как только деньги прибудут на счет и если скоты в сапогах их не стырят. Мы расстались добрыми друзьями.
Часть третья Лето
Татары достали
Дорогой друг! Кроме того, что лето пришло, ничего отрадного сообщить не могу. Да и что за лето это?.. Темно и прохладно, как белой ночью. Телевизора тоже пока нет. Приходится от бестелевизорья книжки читать. А книжек у меня – кот наплакал: справочник по психиатрии и брошюрка «История народонаселения в Китае». Решил вчера на ночь про Китай почитать. И много нового узнал. Суди сам.
Китайцы – народ древний. Выдумали все, что на свете есть: бумагу, порох, фарфор, календарь, компас, керамику, чай, шелк, ружье, пушку, картографию, плавильную печь, манты, графику, амальгаму, сковороду, ксилографию, ксилофон, терракоту, зеркало, домино… Теперь уже две тысячи лет отдыхают. Курят больше всех в мире. Все о велосипедах мечтают. Едят все, что о четырех ногах, кроме стола. Воробьев извели (нетрудно было: каждый китаез по воробью съел – и готово). Ласточкины гнезда изжарены, уток давно нет – все «по-пекински» улетели. Без воробьев и ласточек насекомые развелись – их тоже в сковородку: чего протеин почем зря летает, добру пропадать!.. Кошка мяукает – давай и ее сюда, чтоб зря не мяукала. Собаку видят – сковородку на огонь. Червей как спагетти на палочки наматывают, а тараканов сырыми глотают, чтоб пользы больше было. Словом, сметливый народ, не теряется.
Но главная проблема китайцев не прожорливость, а великая похоть. День и ночь, как кролики, трахаются всей страной. И давно этим занимаются, за три тысячи лет до нашей эры начали. Поэтому и народу столько настрогали, хотя могли бы из патриотических соображений на минет перейти… Минет наверняка тоже они выдумали, хотя Тур Хейердал и утверждает, что египтяне. В любом случае минет – одно из первых завоеваний человека разумного. Звери до этого своим неразвитым мозгом не додумались (только павианы небезопасные попытки делают, не понимая, куда во время акта клыки девать). Онанизм – это пожалуйста, от кита до кузнечика все шустрят. А минет – нет, сложно, мозга не хватает. Вообще, по большому счету, с минета и следовало бы человеческую цивилизацию отсчитывать (к примеру, XII век до минета, или IV век после минета). Человек человеку бескорыстно добро делает – это ли не христианство в действии?.. Конечно, точную дату отсчета – день первородного (перворотного) орала – трудно установить, ну да ученые на что?.. Им все равно делать нечего, пусть покопаются в окаменелостях, поищут отпечатки языка или сперму в лаве, определят, правил ли Хамамон Великий в VIII в. до м. или в VII.
Китайцы не только сметливы, но и практичны. Например, проблема: что с растущим народонаселением делать?.. А очень просто. Раньше как было?.. Родилась девочка – в болото ее или к свиньям на корм. А теперь китайские ученые протестовать начали: зачем на свиней такое ценное биосырье тратить, не лучше ли его более рачительно употребить? Но как?.. В бордель младенца не продашь: любителей мало, а возни много. А на органы, на запчасти пустить?.. Продаем же требуху казненных – почему бы и младенцев женского пола тоже не разымать и не продавать?.. «Все есть ничто. Ничто есть все», – сказал Лао-цзы, поэтому и думать не о чем. Весь этот доходный бизнес мудрый Дэн Сяопин придумал. А ему в свое время большой друг всех толмачей, сам Пол Пот подсказал, у них там большой опыт наработан был. Пол Пот еще советовал внутренности прямо у живых вырезать – продукт свежее будет. Но мудрый Дэн не согласился – гуманизма мало, Лао-цзы не позволяет. И пошло-поехало: людей в Китае много, а пользы от них мало, поэтому в день не менее сотни человек казнить. Не успеют в затылок пулю всадить – а врачи уже бегут, тепленького выпотрошить. Китайцы теперь ни за что смертную казнь не отменят. Еще бы – кто такую статью дохода добровольно сдаст?.. Им вообще это дело на большой конвейер поставить надо и сразу две партзадачи решить (народу меньше, мошна толще).
Вот, если не веришь – считай сам, только большой калькулятор возьми, малый таких цифр не осиливает. С одной тушки китайца получаем: почки – тридцать тысяч долларов, печень – двадцать тысяч. Сердце маленькое, много не возьмешь – десять тысяч максимум. Легкие тоже легкие, мало весят, но хорошо приживаются – двенадцать тысяч за пару. Глазные яблоки по штуке пустить можно (правда, плохо, что у китайцев век нет – бог сэкономил сто пудов биомассы). И всякую мелочь оптом за пять штук: роговицу, сухожилия, мускулы (кроме полового члена, он для белых мал, а у черных своих в достатке). В итоге что-то около восьмидесяти тысяч долларов с особи натикивает.
Параллельно надо основательно пересмотреть Уголовный кодекс, за все преступления смертную казнь назначить и в месяц казнить, предположим, не сотню, а тысячу. Что получается?.. 80 000 долларов умножить на 1 000 человек – что-то уж очень много в месяц набегает, сам считай, я с нулями не в ладах. Да денег столько соберется, что свободно еще одну Великую Стену поставить можно, вдоль нее Великий Ров вырыть, а потом закопать туда лишние рты. Много легче жить станет. И воробьи прилетят, и ласточки вернутся. И Госсовет рад, и мошна полна. И больные во всем мире улыбаются: китайскую требуху привезли, дешево дают, можно даже впрок запастись ушами или селезенкой.
Лежу и радуюсь: как хорошо, что я не китаец, что рожден не по ту, а по сю сторону Великой стены, что я не приговорен в Поднебесной к смертной казни и что меня, живого, не потрошат на органы косоглазые живодеры этой Подземельной империи!.. Чем не повод для оптимизма и позитива?..
Словом, народ древний, бывалый, тертый. У них, кроме минета и фарфора, и поэзия первая была: «Земля – желток, облака – белок, скорлупа – небо». Или: «Упала капля. Вздрогнула ветка. Прошли века». А где поэзия – там и сумасшедшие поэты. В VIII веке до м. император Понг-Пинг как-то услышал стихи лирика Ли Бо и тут же подарил ему пятьдесят ослов с золотом. Другой бы дом купил и жил бы себе припеваючи. А что делает этот лирик-хмырик?.. Отъезжает от столицы, разбивает лагерь, накрывает стол и начинает угощать всех встречных-поперечных, а потом, когда все съедено-выпито, от нечего делать выплывает по ночам в лодке на середину реки и любуется лунным отражением. Один раз пытается обнять его – и тонет… Такая неувязка мечты и реала с поэтами часто бывает, сам знаешь лучше меня. Так и утонул Ли Бо, но одна сказка от него все же до нас дошла. Оцени по достоинству доминетный пессимизм.
Собрались как-то гадкий утенок, черная овца, мокрая курица и белая ворона. Сидят. Нахохлились. Скучно, холодно, противно в Поднебесной. Жрать нечего, никуда не пускают, отовсюду гонят, дома нет – родня прокляла выродков. Сидят под плакучей ивой и думают, чем бы заняться. Раз мир к нам так враждебен, будем вместе кучковаться. Белая ворона стала на кражи подбивать: «Золото свистнем, дворец купим, жить там будем!» Черная овца смеется: «Тебя, дуру, сейчас же первую псы схватят!» «Почему меня? – гоношится белая ворона. – Все вороны крадут». «Но все они черные, а ты – белая! С тебя и начнут. Я-то знаю, сама такая. Как на плов ловить – так черненьких, их поймать легче…» – пригорюнилась черная овца, заплакала.
Тут заспорили мокрая курица и гадкий утенок, как от голодной смерти спастись. Дура-курица предлагает блядью поработать, по дорогам пойти, поискать, может, кто и соблазнится. А гадкий утенок шипит в ответ: «Кому о мокрых куриц пачкаться охота, когда столько пушистеньких цыплят вокруг?.. Лучше уж тогда опиумом торговать. Или к мандарину в слуги пойти. Или к апельсину в гарем. Или шелк через границу возить. Или юани в рост давать. Вы-то, твари, уже старые, а я, гадкий утенок, еще вырасту в лебедя. Живы будете – прокормлю и обогрею, подохнете – похороню. А может, и сам вам шеи посворачиваю – как настроение будет».
Долго клевались они под ивой, промокли, но так ни до чего и не доклевались. Ворона и овца отправились крестьянский двор грабить, а кончили плохо: черная овца оказалась в плове, а белую ворону сумел поймать пожилой коршун. Мокрая курица, взяв с собой гадкого утеныша, мерзла по обочинам, давала всем встречным-поперечным петухам, гусям и котам за пшено и крошки, но в конце концов самапопала в суп – из мокрой курицы и бульон оказался водянистым. А гадкий утеныш выжил, превратился в урода-селезня и в виде «утки по-шанхайски» угодил на стол к тому мандарину, которого собирался обслуживать.
Много у них еще всякого фольклора. Но лучше его не знать. И за Великую Стену не соваться. Ведь если китайцы вздумают, наконец, Сибирь, освоить, то защиты никакой нету: на Даманском пусто, колючая проволока налево ушла, кабели кобелями порваны, граница без замка. Китайцы Сибирь за пару суток возьмут. До Москвы в три дня доберутся. Через Европу в два прыжка перескочат. Через Атлантику переплывут. Америку перепрыгнут. И опять у себя дома, за Великой Стеной, окажутся. И пусть сидят, мы их не трогаем, лишь бы они сами не высовывались. Но на всякий случай достань учебник китайского, поучи иероглифы – могут скоро пригодиться.
Вот моей мошке Мушке китайские иероглифы очень по душе – я их на листе тушью нарисовал, а она мечется по ним, как по лабиринтам. Вообще если б не Мушка, от скуки сдохнуть можно. Интересная муза. Иногда приползает, иногда прилетает. Покрутится где-нибудь на светлом, чтоб я ее увидел, и – нет ее. Может, тоже когда-то толмачом была?.. При шахе персидском?.. Фараоне египетском?.. Все может быть. Ей больше всего в газетах большие гласные буквы нравятся. Найдет «А» – и присядет на жердочку. Добежит до «О» – и отдыхает в кругу. Покувыркается в «Ю» – и в сон впадет. Увидит «Я» – и прямо в окошечко норовит залезть. Вот думаю математику ей достать, цифрами заинтересовать – может, пифагорова душа в ней оживет?.. Ньютоновы искры зажгутся?.. Кстати, голощелка-аспирантка утверждает, что не яблоко упало на Ньютонову голову, а сам Ньютон упал головой на яблоко, что, в принципе, одно и то же. Яблоня от яблока, как известно, недалеко падает… Уверен: ударься он сильнее – человечество пару веков спокойнее бы прожило без всей этой атомной мутотени и ядерной ахинеи.
Пока о яблоках думал, станцию чуть не проехал. А когда на площадь вышел, Фатиму, переводчицу из Марокко, встретил – она на своем «Пежо» мимо проезжала. Оказалось, ей сегодня переводить какому-то марокканцу – тот, бедняга, год мыкался по французским лагерям, пока его в Германию не отослали, выяснив, что на него в Германии два уголовных дела за мелкие кражи заведено.
– Жаль мне его. Говорит, французы целый день по радио о правах человека кричат, а его, когда он пришел в лагерь, неделю не кормили, пока бумаги оформляли!.. Такое зверство!.. Как вообще такое может быть в Европе?.. – взглянула на меня Фатима глазами без дна, полными нежной неги.
Не в силах извлечь свой взгляд из выреза ее открытого платья, я пожал плечами:
– От французов всего можно ожидать. И бюрократов всюду много. А ты говоришь лучше по-арабски или по-французски?
– Одинаково. Мы дома, в Марракеше, по-французски говорили, потом я в Сорбонне училась. А по-арабски – только с бабушкой в деревне и с детьми на улице…
(От сочного слова «Марракеш» сладко защемило сердце: фонтаны, султаны, кальяны, спальни, купальни, звон струй, гам птиц, стуки-крики базарной площади, где показывают за динар ручных львов, колдуны глотают огонь, а у древних старух можно выторговать амулеты от сглаза и порчи, где до сих пор бродит среди бедного люда неприкаянный Гарун аль-Рашид, тайком оставляя динары у жилищ бедняков и калек…)
– …Дедушка и бабушка всегда в деревне жили. Мы с братом туда на лето ездили. После школы я в Рабат уехала, два года отучилась, а потом в Париж, в Сорбонну…
– Рабат богат?
– И красив. Я очень люблю Рабат. Там наш король живет. У него несколько дворцов. Зимой он – в Касабланке, весной – в Марракеше, осенью – в Фесе, а летом – в Рабате, потому что там всегда прохладно. Даже когда из Сахары самум веет, в Рабате двадцать пять градусов. Весь Марокко едет туда летом на отдых. Ну и в Агадир, конечно. В Агадире отдых самый лучший. Мохаммедия тоже хороша, на море лежит. Ее мавры строили, многие здания с тех времен стоят. Там, говорят, наш пророк побывал однажды, потому город так называется.
Я кивал, жарко поглядывая на нее, видя, что это ее смущает. Ну, что смущает, то и нравится. Спрашивать, есть ли у нее муж, дети и прочее, я не стал. К тому же слова из арабских сказок – «Марракеш! Рабат! Агадир! Фес! Мохаммедия!» – убаюкали меня до того, что я сказал:
– Моя мечта – побывать в Марокко. Нельзя ли отдохнуть недельку в деревне, где-нибудь в горах у бабушки и дедушки?
– Конечно, о чем речь. Старики будут только рады. У них там вообще рай. Особенно в мае, когда все цветет! – отозвалась она, тоже украдкой прокатываясь по мне взглядом, обдавая теплом замшевых глаз. – Я каждый год туда с дочерью езжу…
– А что, муж жару не переносит?
– Переносит. Но я разведена.
«Это очень хорошо!» – подумал я воодушевленно.
– Дочке сколько?
– Четырнадцать. В школу ходит. Лайла.
Это имя тоже пошло в копилку волшебных слов.
Потом я набрался смелости и спросил:
– Может, возьмете меня как-нибудь с собой?
Она зыркнула, прыснула, поправила бретельку на полном плече, машинально погладила бедро:
– Смотря как ты себя будешь вести, зависит от твоего поведения!
Это «ты», и поглаживание бедра, и озорной взгляд, и сам ответ мне очень понравились: когда речь заходит о поведении, есть много шансов выбиться в первые ученики. Хотя бы на время. Потом можно расслабиться, на заднюю парту пересесть…
Фатима, въезжая в лагерь, стала грациозно вытягивать шею туда и сюда, чтобы проверить, не задевает ли бампером за ворота. Груди тоже подымались и опускались.
В лагере мы получили обходные от Бирбауха, который был занят перекладыванием под столом пустых бутылок. Он не стал с нами шутить, заметив только, что, по его мнению, где лучше платят – там и родина. И если его лично пошлют в Африку и будут платить по десять тысяч марок в месяц, то он обязательно поедет, несмотря на риск, жару и обилие пауков и людоедов. Мы заглянули в приемную.
– Народу много! – пробегаясь по лицам, сказал я.
– Вон мой сидит! – указала Фатима на низкого чернявого парня, который издали подобострастно поклонился.
– А из Марроко под каким соусом вообще бегут?.. Ваш же король – не страшный, никого особо не мучает?..
– Да он главный преступник: весь мир гашишем снабжает! – с возмущением заколыхались налитые груди. – Мой брат в МВД работает, такое рассказывает!
– Всюду вожди или президенты – главные преступники и барыги. Не он один. Что он – рыжий?.. Что есть – тем и торгует.
В комнате переводчиков – никого. Мы сели друг против друга. Я пялился на нее со сладкой тоской. Фатима сказала, что после университета начала работать переводчицей на радио в Париже, потом вышла замуж и попала в Германию.
– У немцев глаза есть, – льстиво вставил я.
– Он араб был.
– Ну, у арабов глаза тоже есть…
Внезапно и бесшумно вошла фрау Грюн. Основательно пожав нам руки, сказала, куда Фатиме вести своего карманника, а мне сообщила, что там какой-то малахольный русский сидит:
– По документам он уже год живет в Италии. Там тоже подавал на беженство. И, кажется, получил отказ. На что он надеется?
– А что, варианта нету?
– Нет, конечно. Никакого. Ну, смотрите сами, – фрау Грюн присела на стол (Фатима, выставив из-за стола ножки в сиреневом маникюре, тоже не спешила уходить). – Если ему итальянцы отказали – мы его и слушать не будем: по Шенгенскому соглашению, если человек получает отказ в какой-нибудь одной стране сообщества, то его в других странах и слушать не станут. И правильно, а то будут толпами бесконечно из страны в страну скитаться. Здесь отказали – туда пошел. Там отказали – дальше двинется. Границ же нет, езжай куда хочешь. – Усевшись поудобнее, фрау Грюн кивнула светлой, коротко стриженной головой: – Да, вот так. В Европе всюду – одни критерии. И если итальянцы или французы отказали, посчитав его доводы неубедительными, то почему должна Германия их вновь слушать, время и деньги тратить?.. А если у него, – фрау Грюн кивнула на коридор, – отказа от итальянцев еще нет, то вступает правило третьей страны: откуда пришел – туда и иди назад… Неважно, куда он шел, важно, откуда пришел…
«Кому вся эта блядуистика известна?» – подумал я, а ей сказал:
– Все эти тонкости широким кругам не известны. Впрочем, если все умными станут, переводчики от голода перемрут!
– Как это не известны? – напустилась на меня фрау Грюн. – Вы в Интернет зайдите, в поисковую машину слово «Asylrecht»[44] введите – и читайте себе все законы подряд. А этот «закон третьей страны» так вообще наши клиенты наизусть знают – недаром они часто говорят, что приехали в грузовиках, ничего не видели и никуда не выходили… Если беженец пришел из так называемой надежной страны (Италии, например, где он тоже может получить убежище), то пусть туда и идет обратно. А так – в Интернете все есть.
– У меня компьютера нету, – ответил я. – Я ничего этого не знаю.
– Ничего, кому надо – тот всё знает! – Засмеявшись, она соскочила со стола: – Так. Работаем. И – да здравствует Саддам Хусейн, как ваш коллега Рахим говорит!
– И Ким Ир Сен, первый друг всех толмачей! – добавил я, открывая папку.
фамилия: Перепелищев
имя: Игорь
год рождения: 1965
место рождения: г. Красноперекопск, Украина
национальность: русский
язык/и: русский / итальянский
вероисповедание: лютеранин
«Так, начинается… Итальянец-лютеранин из Красноперекопска…»
По дороге в приемную я встретил в коридоре Фатиму и еще раз прошвырнулся по ней собачьим взглядом – она явно почувствовала его жар, как-то даже передернулась. Нагло посмотрев напоследок, как она поднимается по лестнице (за ней тащился печальный марокканец с плохой участью в глазах), я вышел в приемную.
Вон он сидит, беленький среди заросших курдов и желтых китайцев. В руках – сверточек. Одет по-пионерски: светлая рубашечка, темные брючки. Аккуратная голова. Приличное выражение лица без особых примет. Голубоглаз и тщательно выбрит.
– Игорь?.. Я ваш переводчик!
– А, очень приятно! – привстал он, левой рукой придерживая сверточек у живота, а правую несмело протягивая для приветствия. Рука холодна и липка.
– Пойдемте!
Он неслышно пошел следом, а в музгостиной вежливо поздоровался с фрау Грюн:
– Buongiorno, signora![45]
Фрау Грюн приветливо кивнула:
– Пусть положит сверток на стол. Вначале – фото.
Потом она начала снимать отпечатки, приговаривая:
– Какие пальцы длинные. Не музыкант случайно?
Игорь кивнул:
– Si, signorа, sono un chitarrista[46]. Классическая гитара. Скоро мой СD в Италии выйти должен…
– Видите, как хорошо, гитарист! – сказала она. – А то у нас все или трактористы, или террористы. Что его привело к нам?
Игорь честно пожал плечами:
– Деваться некуда. Жизнь к стене приперла. Защиты прошу.
– А что вы в Италии делали целый год?
– В Италии подал на азюль, ждал ответа…
– Отказ получили? – невзначай поинтересовалась фрау Грюн.
– No, signоrа[47]. От итальянцев я дождался только извещения о том, что я высылаюсь в Германию, потому что у меня первоначально виза была туда… То есть сюда, в Германию, совсем запутался…
– Вот как. Какая была виза на Германию?
– Транзитная. На сутки. Я через Германию в Италию ехал.
– И на два часа хватает… Вот видите, значит, итальянцы о законе третьей страны раньше нас вспомнили и нам его сюда пихнули… Понятно. Мы, как всегда, самые глупые…
– Самые исполнительные! – поправил я ее.
– Как видите, это одно и то же, – усмехнулась фрау Грюн, сняла перчатки и подвела Игоря к раковине. – Мой те руки!
– Grazie, signora![48] – ответил Игорь и тщательно стал тереть руки под водой.
Движения воспитанные, мимика услужливая, речь правильная. И все это как будто иногда даже утрированно, наигранно.
Потом он сел к столу, уставился на меня, я – в папку:
– Надо кое-что уточнить. У вас тут записаны два языка, русский и итальянский… Это правильно?
– Итальянский с детства знаю, у меня мать учительница итальянского была… Ну, а в Италии за год я его хорошо подучил. Практика.
– Украинского не знаете?
– Нет, откуда? Я в Крыму родился. Дома по-русски говорили. И в школе тоже. И везде вообще. Учился потом в Симферополе. Там тоже одни русские жили. Теперь вот татар много, житья нет… Достали эти татары!..
– Кого достали?
– Да всех. Меня вот хотели заставить ислам принять…
– Ислам? Зачем? – удивился я.
– А просто, – уклончиво ответил он.
– Кстати, вы – лютеранин? Это правильно записано?
– Да, протестант.
– Фрау Грюн, как мне лучше писать – лютеранин или протестант?
– И то, и то можете, – отозвалась она, укладывая лист с отпечатками в сканер. – А лучше напишите – «евангелическая церковь», Evangelische Kirche. Это все одно и то же. Я тоже лютеранка. А он знает наши главные заповеди?
Игорь подумал.
– Их вообще-то много. Но главные… Послушание, бедность, работа, безбрачие…
«Невеселая картина!» – подумалось мне, а фрау Грюн скептически улыбнулась:
– Безбрачие?.. У протестантов?.. Это что-то новое… И соблюдаете?
– Да вот нарушил. E Dio mi punm![49]
– В смысле – ты женился? – не понял я.
– Ну да. Не должен был этого делать, а сделал. Из брака все проблемы вытекают, туда же и втекают, – Игорь тяжко вздохнул и начал внимательно осматривать свои аккуратные пальцы с длинными холеными ногтями. Потом поднял на меня внимательные глаза и, нервно поигрывая карандашиком, спросил: – А как вы думаете, мое дело надежное?
– В каком смысле? – не понял я.
– Ну, я так думаю: если бы итальянцы хотели отказать – они бы отказали, сюда не посылали…
– Но если бы они хотели взять, они бы взяли. И сюда не посылали бы тоже… – возразил я.
– Резонно. Может, по их правилам что-то не сошлось? – предположил он.
– Если там не сошлось – как тут сойдется?.. Правила общие. Но все может быть. Этой системы я не знаю, мое дело – переводить. Решают немцы, чиновники.
Закончив с писаниной, я спросил фрау Грюн, с кем сегодня работать и куда сейчас идти.
Она заглянула в свой список:
– Идите к Марку… И учтите, он в плохом настроении – у него обострилась язва…
– О!.. Он и без язвы не особенно сладок!.. – поморщился я. – И, кстати, не дает людям говорить: торопит и прерывает. Но это между нами! – испугался я, что она донесет Марку (лишние проблемы ни к чему), но фрау Грюн понимающе кивнула:
– Мы знаем. Мы все знаем. Мы всё обо всех знаем. Но его прислали сверху! – И она подняла глаза к потолку, туда, где должен был сидеть таинственный шеф, которого никто не видит и не слышит, потому что он то на курорте, то в поездках, то в командировке, то на конгрессе, то на лыжах, то на конференции в горах.
Марк, съежившийся в кресле, едва виден. На столе к общему хаосу и таблеткам добавились ингалятор и аппарат для давления.
– Плохо, плохо мне, – пожаловался он, увидев меня и прижимая ручонку ко лбу. – Еле сижу. Кого это вы привели? – капризно спросил он, как будто я, разносчик пиццы, принес ему не тот заказ, который он просил.
– Лютеранин-гитарист. Из Италии пришел.
– Да, я уже кое-что слышал… Транзитная виза на Германию, – сказал он, еще не заглядывая в папку (а я понял, что фрау Грюн успела по телефону дать ему основную информацию). – Ну и все, дело решенное… Но все равно, пусть садится. Отказ тоже надо уметь правильно оформить… Не с бухты-барахты, хвост вперед головы, а обстоятельно, веско, чтобы в другой раз не сунулся. Ничего, разберемся. Садитесь!.. – сказал он гитаристу, который все это время стоял и честно смотрел на Марка.
– Что, уже дают? – оживленным шепотом спросил тот у меня, радостно подсаживаясь к столу и укладывая недалеко от себя сверточек.
– Что это у него, не бомба ли?.. – кисло сострил Марк.
– Dei documenti, signоrе!..[50] Бумаги из Италии, разные, – ответил Игорь, с готовностью начиная разворачивать сверточек.
– Итальянские пусть себе оставит. А немецких нет?.. И где вообще ваш паспорт?..
– Ничего нет. В Мюнхене полиция в аэропорту отобрала, – сказал Игорь.
– Что, как, зачем?
Игорь удивленно пожал плечами:
– Сам не знаю, зачем. Мне итальянцы билет до Мюнхена купили, в самолет посадили, а в Мюнхене, в аэропорту, полиция отвела в комнату, обыскала… Какой-то толстый небритый Петер обыскивал, хорошо по-итальянски говорит. Все шутил без остановки, говорил, что у него жена русская и он очень любит борщ с икрой и селедку с водкой. Паспорт отобрали, дали билет на поезд и направили сюда… Вот, эти документы остались, – начал он опять ворошить сверток.
Марк взбудораженно схватил телефонную трубку:
– Вот идиоты! Зачем им документы?.. Не могли снять копии?.. Нет, им оригиналы нужны! – Он попросил кого-то проверить мюнхенскую версию. – Таких идиотов в полицию набирают! Я думал раньше, что это только в Казахстане или в Албании полиция такая тупая, а теперь вижу, что и у нас не лучше. Да. И фармацевтика ни к черту не годится. Вот, десятую таблетку пью – ничего не помогает, а казалось, что там – две сосиски жареные съел и стакан вина выпил, будь оно проклято… А эти дрянь-таблетки, между прочим, восемьдесят марок стоят пачка. Чем, интересно, русские изжогу лечат? – спросил он, выдавливая из пластинки пилюлю. – Небось, водкой?.. Я знаю – русские все болезни водкой лечат!
– Содой лечат. А водка войну выиграла, – холодновато напомнил я.
Марк брезгливо поморщился, но молча проглотил обе пилюли (какая горше?) и пробурчал сквозь икоту:
– Ради бога, не вспоминайте этот ужас! Ну сколько можно?.. Ну, мы виноваты. Но ведь мы платим, платим, платим! А кто еще платит?.. Может, эти ваши итальяшки, которые фашизм придумали и немцев с ума свели?.. Они за Муссолини платят?.. Или румыны? Или венгры? Никто, кроме нас, дураков… Так нам и надо. Все, начинаем. – Он включил диктофон. – Пусть он назовет свое имя, фамилию, год рождения и адрес.
– Игорь Владимирович Перепелищев, 1965 года рождения, родился и жил в городе Красноперекопске, Четвертая Банно-прачечная улица, 3, квартира 9.
Я начал записывать это по-немецки. Выглядело примерно так: «Igor’ Vladimirovitsch Реrереlischtschev, Krasnoperekopsk, Тschetvjortajа Ваnnо-Prаtschetschnaja 3, Wohnung 9». Затем медленно, громко и торжественно прочел Марку эти данные и протянул ему лист.
– Бог мой, что за кошмар! У китайцев и то легче! – ужаснулся Марк, потом, ломая язык, голос и глаза, начал диктовать всё это на плёнку; наконец кое-как справился с варварскими названиями и в испуге спросил, ожидая новой лавины ужасов: – Родители живы?
– No, signore.
– Ну и слава богу, писать меньше!.. – отлегло у него. – Сестры-братья есть?.. – уже с надеждой спросил он дальше.
– Нет.
– Еще лучше. Вопросы семь, восемь и девять отпадают. – Он почеркал что-то у себя на листике. – Где он учился? Кем работал?
– Si, signоrе, subitо[51]. – Игорь вытащил из сверточка пачку документов (там было все, чем побрезговал небритый Петер в мюнхенском аэропорту: дипломы, справки, метрики, какая-то итальянская абракадабра). – Ессо рrеgо[52]… Школу закончил в Красноперекопске. Потом пришлось в армию идти. Служил с 82-го по 84-й…
– Где, кем?
– В музыкальной роте.
– А, дезертир! – осклабился Марк.
– Почему? – удивился Игорь. – Я же служил?.. После армии окончил в Симферополе медучилище, пару лет работал фельдшером, но бросил это дело, начал играть на гитаре. Хорошо выходило. Ребята даже обещали CD записать, но не вышло что-то. Потом в музыкальной школе гитару преподавал вплоть до выезда…
– Значит, гитарист-самоучка, учитель музыки, – пожевал губами Марк, вытащил из футлярчика градусник и сунул его под мышку. – Теперь семья. Женаты?
Игорь изменился в лице:
– Да как сказать… Когда уезжал – как будто был женат. А теперь и не знаю уже… Она к родственникам уехала, в Джанкой…
– Адрес!
Поломав зубы, уши, нервы и язык о новый лингво-ужас: «Dschankoj, Krschyschanovskij-Strasse 8», Марк вернулся к вопросу жены, искренне удивляясь, как это человек может не знать, ушла от него жена или нет?
Игорь пояснил:
– Официально – нет, не ушла. А так… Ей родственники не разрешают жить со мной…
– Почему?
– Потому что я христианин, а она мусульманка.
– Что за чушь! – агрессивно возмутился Марк. – Сегодня инквизиции нету!
Игорь беспомощно развел руками:
– Мне и самому не ясно. Я думаю, все дело в том, что меня с самого начала невзлюбили родичи жены. Она сама – из крымских татар. Ее отец – имам у них. Он очень переживал, что дочь за русского вышла. Татар сейчас много из Казахстана и Сибири возвратились, куда их мудрый Сталин вместе с чеченцами выслал. Права и дома свои требуют назад. Многие татары с чеченцами вместе против русских воевали, теперь в Крыму всё громят и под себя подмять хотят. И турки рядом, деньги и оружие через море шлют. Татары с чеченцами делятся и русских в Крыму гоняют. Достали всех эти татары!
Марк прервал его:
– Мы не можем принять всех русских из Крыма или татар из России. И какое все это имеет к вам отношение?.. Вы что, татарин?.. Или чеченец?..
– В том-то и дело, что нет!.. Это моя жена татарка! В этом все дело! Недавно, года полтора назад, она решила принять христианство. Тут-то все и началось. Родня запретила – говорят, сразу по шариату в ад попадешь за это. Мне грозили. А потом вообще стали требовать, чтобы я ислам принял. Сам отец-имам на джипе приезжал. С сыновьями. Их там пять штук. Грозили, оскорбляли, еще особо ругались, что хотя бы православным, как все русские собаки, был бы, а то какой-то особый выродок – лютеранин…
– Но-но, я тоже лютеранин! – цыкнул на него Марк.
– Мне тоже обидно стало. Я не согласился. Они уехали. Потом подослали каких-то подонков, те избили меня, убить грозили… Вот я и решил сбежать.
Марк, вытащив градусник, покосился на него, покачал головой (37,2), вложил в футлярчик и, вздохнув, повернулся к диктофону:
– Когда все это случилось? Где? Кто избил?
Игорь встревоженно завозился на стуле:
– Избили в середине мая прошлого года. В Симферополе. А кто – не знаю. Татарва какая-то подлая. Что стоит ее отцу из своего медресе выйти и кого-нибудь нанять? Около мечети целый день весь их преступный мир ошивается, там их пункт сбора.
– А сколько лет вы вообще женаты, позвольте спросить? – прищурился вдруг Марк.
– Cinque anni, signore[53]. Пять лет женат.
– Так почему же эти мифические татары все эти пять лет вас не били и не убивали, а теперь вдруг решили это сделать?
Игорь смутился, запнулся, не сразу нашел, что ответить.
– Ну… Раньше жена не хотела принимать христианство, вообще была атеисткой. А потом, когда захотела, это и случилось…
– Ах, теперь и жена хочет креститься! Крайне неубедительно, – поморщился Марк.
Игорь подумал и сказал:
– Да, вот еще что… Как назло, мой день рождения, 18 мая, совпадает с Днем траура крымских татар. Так они всегда запрещали жене со мной день рождения праздновать, а потом как раз и избили в этот день. Проследили, подкараулили и избили. Да, 18 мая это случилось.
– Кто избил?
– Я уже говорил, какие-то татары.
Марк прошелся по кабинету, держась то за лоб, то за живот, открыл окно, кивком приветствовал кого-то во дворе, потом сел, утонул в кресле.
– Значит, вас избили и вы решили бежать?
– Да. А что было делать?.. Ждать, когда убьют?.. Каждый человек имеет право на жизнь, non и cosм, signore?[54] – Игорь с надеждой посмотрел на Марка.
Марк тут же откликнулся:
– Так, так. Только каждый человек имеет право на жизнь там, где он родился, а не там, где ему вздумается жить. Это какой же хаос наступит, если каждый пойдет жить туда, куда он хочет, а?.. Ну ладно. Что было дальше? Как выехали?
А дальше Игорь по объявлению в газете заказал визу в турбюро и за двести долларов довольно быстро получил ее в Киеве…
Марк резво повернулся к телефону, набрал короткий номер, что-то тихо сказал в трубку, потом уточнил, глядя с подозрением на Игоря:
– Куда была виза?
– В Италию. Туристическая. Я с самого начала хотел туда, в Италию.
– С самого начала чего?.. – откровенно ухмыльнулся Марк, кладя трубку.
Игорь растерялся.
– Ну… Жизни, можно сказать… Я же гитарист. Классическая гитара. La chitarra…
– А классическая гитара, кстати, больше к Испании подходит, оттуда пришла. Но это все равно. – Марк украдкой нацепил на запястье приборчик и, измерив давление, выпил еще таблетку. – Итак, вы с самого начала хотели в Италию, получили визу. А откуда взялась немецкая виза?
– Ну, через Германию же надо ехать на автобусе… Виза была на 24 часа, транзитная. На автобусе доехали до Франкфурта-на-Одере, там я пересел в микроавтобус, поехал в Милан…
– Кто организовал автобусы?
– Фирма какая-то, я не помню, тоже по объявлениям в газете нашел. У нас много сейчас такого печатают…
– Вот именно, – злобно поддакнул Марк. – А нам потом расхлебывать. Кто был в микроавтобусе, кроме вас?
– Пять человек. Их не знаю. Я и так с гитарами и скарбом еле поместился.
– В Италию когда приехали?
– Ночью третьего сентября.
– И сразу попросили убежище??
– Si, signore, на второй же день. Они дали мне вначале разрешение на месяц. Потом продлевали его. А вот две недели назад письмо из МВД Италии пришло, где они пишут, что высылают меня в Германию…
– Отказа, значит, от них не было?
– Нет.
– Вот бюрократы!.. Год держали!.. Не могли сами отказать, что ли?.. – фыркнул Марк. – Что весь этот год там делали?
– Жил. Играл на гитаре на улицах. Подрабатывал по-черному. С разными людьми познакомился. Связи завязал. Вот СD обещали выпустить. На учебу приглашение есть. – Игорь показал какую-то итальянскую бумажку с вензелями и гербами.
– Это все лирика, а мне нужны факты, – важно произнес Марк. – А кстати, где сейчас ваша жена-татарка?
– Non lo so[55], у родственников в Джанкое, наверно. Или у своей бабушки в Малореченском.
– Адрес бабушки жены.
Начитав в диктофон новую порцию лингво-ужаса «Maloretschenskoje, Saltykov-Schtschedrin-Strasse», Марк в изнеможении откинулся на спинку кресла, утерся салфеточкой и начал обмахиваться платком.
– Значит, отказа от итальянцев у вас еще нет? – снова переспросил он и, когда Игорь торопливо кивнул, с нажимом подытожил: – Вам надо ехать в Италию и там ждать решения, вот что! Чего это мы еще и за депортацию платить должны?.. Все так и хотят всё на нас спихнуть в этой проклятой Европе!
Тут в дверь просунулась фрау Грюн, неслышно подошла к столу, положила лист бумаги и так же неслышно вышла. Марк внимательно изучил его, потом сверился со своими записями, злобно-торжественно уставился на Игоря и отчеканил:
– Ну, вот и все. Весь ваш рассказ – чистая ложь.
– Почему? – побледнел тот.
– Вы сказали, что вас избили 18 мая и вы решили уехать. Так?.. А тут вот указано, – он потряс листком, – что вы обратились за визой 20 апреля. Как это понять?
Игорь глубоко вздохнул и беспомощно осмотрелся.
– Не я ж обращался… Фирма какая-то заказывала…
– При чем это, кто заказывал? Какая разница? Я вас о дате спрашиваю! – войдя в раж, Марк понес какую-то ахинею (об ангелах, которые с неба слетели, чтобы Игорю визу заказать, бог штемпели ставил, а святой Петр по небесным канцеляриям рассылал), но быстро опомнился и кисло продолжил: – Значит, вы заказали визу раньше, чем вас, по вашим словам, избили!.. А?.. Как же это не наглая ложь?.. Мы же не идиоты, в конце концов! – Он почему-то торжествующе посмотрел на меня. – Второе. Из мюнхенского аэропорта сообщили, что у вас должна быть на руках ксерокопия паспорта. – Он сделал строгую паузу и побуравил Игоря глазами. – Они, оказывается, специально не дали вам паспорт на руки, чтобы вы его не сожгли и не выбросили. Поэтому сняли ксерокопию и дали вам в руки, а паспорт вместе с другими бумагами отослали ценной бандеролью. И правильно сделали. Где она, эта копия, которую вам на руки дали? Что, тоже потеряли?.. Или черти украли?
Игорь помешкал, нехотя покопался в бумагах и достал один мятый серый листок с фотографией.
– Почему до сих пор молчали? – опять начал беситься Марк, взглянув искоса на бумажку. – И что это – один лист?.. Где остальные – главные – листы: с визами, штемпелями пограничных контролей?..
– Не знаю. Нету. Не дали. Так было. Non me ne hanno dato[56], – залепетал Игорь, покрываясь красными пятнами.
– Не морочьте мне голову своим итальянским!.. Как они могли не дать листы с визами и печатями?.. Они, хоть и идиоты, но не такие!.. Нет, это вы их выкинули в мусорный ящик, желая нас обмануть! Вот где эти листы!.. Потерял!.. Не знаю!.. Знаете, наших клиентов надо слушать не тут, а в психоклинике – у всех патологическая забывчивость, вранье и лживость!
Игорь оцепенело уставился в раскрытый сверточек, как автомат, произносил слова:
– Не знаю. Они мои вещи в аэропорту без меня обыскивали. Двое типов вещи в одной комнате смотрели, а в другой меня этот толстый небритый Петер обыскивал, селедкой и водкой голову морочил. Это разве по закону – без человека его багаж смотреть?
– Не бойтесь, героина вам никто не подложит, если своего нет, – осклабился Марк, бережно разглаживая серый мятый листок. Теперь, когда были получены искомые для отказа факты и копия паспорта, он стал как-то добрее и даже доброжелательнее, как кошка, поймавшая мышь, – ведь с паспортом можно депортировать кого угодно куда угодно, все обязаны своих граждан принимать обратно, только на авиабилет раскошелиться придется. – Картина мне полностью ясна. Кстати, вы вообще политикой когда-нибудь занимались?
– Нет. No, mai[57]. Никогда.
– Вот то-то и оно. А у нас тут, между прочим, разбираются дела политических беженцев. На что вы рассчитывали? – уставился Марк в упор на Игоря.
Тот зябко поежился, поднял покрасневшие глаза и не очень смело пробубнил:
– В немецком законе говорится, что из Германии нельзя выслать никого, кому грозит на родине смерть не только за его политические убеждения, но и за его веру, расу, цвет кожи, сексориентацию…
Марк тут же шумно напустился на него:
– Ох-ох-ох! Какие слова! Вера, сексориентация, раса!.. Слышали звон, да не знаете, где он!.. Мы принимаем только тех, кого преследует государство, а не частные лица!.. Когда СССР сажал в тюрьму лесбиянок и геев – мы их принимали. Когда в Ираке идет геноцид курдов – мы их принимаем. Или тибетцев из Китая. Или из Косово, будь они неладны, бандюги!.. А у вас что? Семейная личная история, частная, приватная неурядица… Если все после своих семейных распрей сюда соваться будут, что тогда получится?.. Здесь что – ЗАГС? Или полиция?.. Теперь объясните, пожалуйста, ему доходчиво, что его дело проиграно, нет никаких оснований для получения политубежища. И паспорт у нас в руках. И в Италию без визы его никто не пустит. Так что придется обратно на Украину ехать, – закончил он веско.
Я вкратце объяснил Игорю ситуацию. Он затравленно посмотрел на меня, явно не понимая (или не желая понимать) моих слов. Глаза его как-то прикрылись, лицо съежилось, по щекам пробежали тени. Но он сумел взять себя в руки и пересохшим ртом выдавил:
– Значит, не хотят принимать?
– Нет оснований, говорит.
– А чего же итальянцы сюда послали? – попытался он ухватиться за абсурдную соломинку, но я тут же вырвал ее:
– Просто не стали сами возиться, отфутболили, чтобы немцы за депортацию платили.
– А я еще специально в Италию ехал, думал, защиту найду от религиозной бойни и татар!
Марк поморщился:
– У кого вы, лютеранин, хотели искать защиту – у папы римского?.. Так он же католик, а вы протестант, по вашим словам, которым, впрочем, я уже не верю!.. Откуда взяться в Крыму лютеранам?
– Ну, все равно, там религию уважают… Что же мне теперь делать?..
– Не знаю, – жестко отрезал Марк. – В Италию и Германию вам визу больше не дадут – вы уже в компьютере. Кто один раз злоупотребит нашим доверием, того мы наказываем.
– А в Италию я не могу сейчас вернуться?.. У меня курсы начинаются и СD выйти должен… – встрепенулся было Игорь, но тут же увял от торжественных слов Марка:
– Как будто культурный человек, а ничего не понимает. Кто же вас сейчас в Италию пустит?.. Где у вас виза для Италии?.. Вы в итальянском самом-самом черном списке стоите, уверяю вас!
– Это что же – значит, весь Шенген теперь закрыт?.. – ужаснулся Игорь.
Марк помолчал, секунды две строго смотрел на Игоря, но потом смягчился:
– Нет, весь Шенген, может, и не закрыт. Если вы спокойно, своим ходом сейчас без шума уедете, то никто ничего не узнает, только штраф заплатить за просроченную визу надо, это тоже мы устроим, купим вам билет на самолет, отправим по высшему разряду. Мы никаких информаций никуда не шлем. А итальянцам и подавно плевать – они никаких решений не принимали, нам спихнули. Так что советую, как только придет ваш паспорт, тихо-мирно уехать домой… А пока сидите, играйте на гитаре. Русские музыку любят, я знаю. «Катьюша»… Хм! Мой дядя рассказывал, какую «катюши» музыку на фронте подняли, когда появились в 44-м… Вы знаете, – обратился он ко мне, – люди эти орудия «орга́ны Сталина» называли, «Stalinоrgel», хе-хе!..
(«Хорошо, что не “о́рганы Сталина”, тоже отлично звучит и по теме подходит!» – подумал я, но промолчал.)
– …да, доигрались мы, нечего сказать, теперь тихо сидеть приходится и за грехи предков отвечать, которые не совершал!.. Ладно, перейдем к заключительным вопросам. С органами безопасности раньше не конфликтовали?
– Нет.
– Ну и отлично, хорошо. Политикой не занимались, с органами не конфликтовали, дело чистое. Добавить больше ничего не хотите?
Игорь, потупившись, тихо спросил:
– Паспорт когда отдадите?
– Паспорт? – удивленно переспросил Марк. – А перед посадкой в самолет, у трапа. Стюардессе. А она вам – перед самым выходом.
Игорь огляделся, как после страшного сна. Он, казалось, мысленно уже проделал весь обратный крестный путь и смирился с неизбежным. Потом задал последний вопрос:
– А в паспорте будет что-нибудь отмечено?
– Ничего. Мы не КГБ или Штази. О том, что вы тут у нас были, никто, кроме нас, не знает и знать не будет. Даже макаронники не узнают, чем дело кончилось. Если, конечно, очень не попросят рассказать. А украинцы – и подавно. Вы не террорист или наркобарон, чтобы о вашем прибытии извещать. Вы – простой гражданин, у которого была просрочена виза по болезни. У вас болезни есть?
– Да, радикулит иногда…
– Вот и отлично: лежали с тяжелым радикулитом, поэтому визу продлить не смогли. Все. – И Марк встал, давая понять, что интервью окончено.
В коридоре, пока мы шли вниз, Игорь заглядывал мне в глаза:
– Что же делать в такой ситуации?.. Что делать?.. Страшно. Ужасно. Кошмарно. Все летит к черту! Учеба, СD, концерты… Что делать, что?..
Я остановился и против своей воли брякнул:
– Хочешь мое мнение знать?.. Езжай сейчас тихо домой, пока немцы добрые. А в следующий раз подготовься получше: купи новый паспорт и говори, что имам грозил тебе не как частный тесть, а как имам, от имени всех мусульман – может, пройдет. Хотя сильно сомневаюсь.
– Но правда достали эти татары!.. В любом случае – спасибо вам большое за помощь и совет! – сказал он, прижимая к груди сверточек.
А потом, когда я шел на вокзал через лагерь, мимо людей, поникло сидящих на корточках возле пыльных площадок, на ходу просмотрел короткое заявление какого-то человека, которое мне дала для перевода фрау Грюн. Текст был предельно лаконичным, и под ним наверняка могли бы подписаться многие чадры, чалмы и фески из беженских лагерей: «Я Иванцов Иван. Родился ни знаю где ни знаю кагда. Вырас в деддоме. Патом был в интырнате. Кагда началас война изза таво что я русски я уехал в Маскву, там жыл до 99, патом уехал нелегал в ФРГ. У меня нет дома, жены, некаких родственикав, родины и вобше моя жызнь плахайя. Прашу разрешыть жыть в ФРГ».
Аха-аха…
Дорогой друг, спешу поделиться смешными новостями. Вчера с голощелкой встречался. И такое узнал!.. Тебе, бумагомараке, будет особенно интересно. Как, думаешь, тема ее диссертации называется?.. «Роль туеска в былинном эпосе»? «Жареные трюфли как основа русского реализма»?.. «Значение точки с запятой в “Войне и мире”»?.. Нет, родной, никогда не отгадаешь и голову не ломай… «Латентная гомосексуальность в русской классической литературе». Слыхал ли такое?.. Тема, оказывается, столь серьезна и злободневна, что за нее можно сразу две степени отхватить: по филологии и психиатрии. Вижу, что удивлен, и спешу рассказать.
По мнению этой апсирантки (вижу опиську, но не исправляю), все герои русской литературы – латентные скрытые гомосексуалисты, а героини – тайные лесбиянки. Из-за этих проблем они и не находят себе места, мечутся, ищут, фрустра их грызет, либидо заедает. Поэтому они лишние, ненужные, униженные и оскорбленные. Уже и методология выработана – три признака, три составные части латентной гомосексуальности: 1. Повышенные эмоциональные связи со своим полом, выраженные в попытках телесного контакта. 2. Комплекс вечной неудовлетворенности. 3. Комплекс донжуана.
Хвасталась, что про ее исследование даже в журнале писали. «В каком, – спрашиваю. – В “Крокодиле” или “СПИД-ИНФО”?» Нет, отвечает, в «Огоньке», № 12 за 2001 год!.. Дала две свои главы почитать. Прямо прозрел!.. И как это раньше не ясно было, что к чему?.. Вот дурья башка с тиннитусом!.. А еще ругал ее – мол, молода очень. Молода, да не зелена… Сама, кстати, из себя тоже очень ничего… И наверху достаточно, и внизу хватает… А главное, молода. Нам скоро только такие нужны будут. Слыхал про бытовой вампиризм?.. Старик высасывает энергию у молодки, взамен снабжая ее своими старческими отходами, что и приводит молодку в колодку, а старика – в облака. Ну это так, к слову.
По мнению мокрощелки, героев русской литературы следует делить не на хороших-плохих или добрых-злых, а на активных и пассивных (на коблов и ковырялок, чтоб тебе понятнее было). Вот мы, к примеру, всегда думали, что бедный Максим Максимыч плачет оттого, что Печорин его обидел, руки при встрече не подал. А дело тут глубже: Максим Максимыч плачет, потому что такого хорошего ебача, как Печорин, потерял – такого ему в горах Кавказа ни за что не найти. Они свою телесную любовь Бэлой только прикрывали. Печорин – типичный скрытый педик и донжуан. С доктором Вернером потом у этого наглого болта много чего слепилось. А ярый эксгибиционист Грушницкий его на дуэль вызвал из-за Вернера, а не из-за Мери, как многие думают.
Теперь отгадай, за что Онегин Ленского пришил?.. Из-за сестричек-лесбиянок?.. Нет, родной. Когда Ленский из Германии приехал, Онегин-валет стал к нему клеиться. А Ленский-дама капризничал, кокетничал, не хотел вступать с ним в связь. Вот и схлопотал пулю. Дал бы по-хорошему – может, и жить остался бы. Или, к примеру, почему Швабрин с Гриневым на дуэли дрались?.. А очень просто: кому дятлом, а кому белкой быть (Маша там – только так, для разогрева, на ошейнике потаскать). Это уже традицией стало – женский образ для сокрытия тайных дел вводить. И выводить.
Как гоголевские Иван Иванович с Иваном Никифоровичем из-за последней палки поссорились, ты уже сам можешь догадаться. С Германном из «Пиковой дамы» тоже все ясно – типичный геронтофил, к старухе по ночам лазал, довел ее наконец до любрикации, а она возьми и умри от счастья под его елдой. Так и не успела тайны трех карт выдать, а ведь хотела уже, почуяв, как оргазм из глубины времен приближается. Но не судьба была ей кончить – сама скончалась. Чацкий, между прочим, тоже вовсе не к Софье, а к Молчалину всю дорогу клеился. Батон Молчалин там главной наташкой был. Скалозуб его замучил – где ни поймает, там и даст за щеку, даже грозился передние зубы выбить для удобства.
А Вронский?.. Конечно, вовсе не к Анне, а к ее мужу, Каренину, приставал. Вронский с детства был известен в Петербурге, как ножной фетишист. А у Каренина, ходили слухи, большие пальцы на ногах были соблазнительно оттопырены от подагры. Вот Вронский и ходил, крутил, не знал, как к делу приступить. А в итоге, как всегда, женщина пострадала. В «Войне и мире» – вообще полный содом: Пьер и князь Андрей, Пьер и Долохов, Пьер и масоны, Пьер и Куракин, Пьер и Наполеон, Пьер и народ – короче, затрахали бедного Пьера до безумия. Жена его, Ростова – типичная коблуха, у Элен Безуховой ковырялкой с детства состояла. И с племянницей Соней всю дорогу плотный телесный контакт крутила. Толстой традицию крепко развил и всех баб лесбиянками сделал. И правильно – чего героиням простаивать?.. Пусть, как могут, свою композиционную роль отрабатывают. В творчестве Толстого один только отец Сергий нормальным мужиком оказался, да и то под конец себе член топором отрубил.
О том, что активный дятел Штольц со школьной скамьи беспощадно драл пассивного белку Обломова, аспирантка целую главу написала, где на эмоциональные связи и телесный контакт особенно напирала. Но инцест между Адуевым-старшим и Адуевым-младшим почему-то проглядела и пропустила. Мала еще, не знает, что больше всего у дядей на племянников стоит.
Тебе наверняка известна история, как грубый мужлан Рогожин влюбился в тонкого супергея Мышкина, домогался, терзал и мучил его. Ведь проклятый кишкоправ Рогожин халду Настасью только из ревности убил – чтоб под ногами не путалась, между ним и князем не лезла. Опять женщины виноваты и должны пострадать. Ничего уже не поделаешь – традиция…
А вот с парой «Раскольников – Порфирий Петрович» мокрощелка просчиталась. Неправильно пары строит. Надо бы «Раскольников – Свидригайлов». Или, в крайнем случае, «Раскольников – Разумихин». А Кириллов из «Бесов»?.. Вялотекущий педик-невротик. Ну, не всадил ему когда-то в Америке Ставрогин, побрезговал. И Шатов отшатывается. Так что же теперь, стреляться?.. Вот это особенно поразительно в скрытых гомиках: достоинства с гулькин бублик, но амбиции – необозримые.
Плаксивая баба Тургенев и сам никого не трахал, и герои его все – зоофилы: Хорь Калиныча жарил за милую душу, Базаров-кукурузник с овцами баловался, но большего кайфа, чем Герасим от Муму, ни один герой не получал (даже в ночном, на Бежином лугу, с жеребятами сношаясь, ребятишки такого не испытывали). Герасим, бедняга, случайно заеб Муму до смерти – он же, глухарь, ее визгов не слышит!.. Испугался факта и утопил труп. Такой вот суп из семи залуп.
В общем, права мокрощелка – комплексы заели русскую литературу, все хотят через задние страдания до передней истины докопаться. Сущий Мертвый дом, а из окон голые кобелены пялятся.
Во второй части работы она хочет этимологию разных слов по теме изучить, у нее уже много разного материала собралось. Вот, например, известно ли тебе, что слово «шлюха» произошло совсем не оттуда, откуда Даль думал (от «шляться»), а пришло с Востока, где в древности была традиция по праздникам слать подарки градоначальнику, а подарки эти доставляла красивая женщина, которая с дороги оставалась ночевать у адресата, на иврите она называется «посланная», на слух же это звучит как «шлюха» (с ударением на «а»).
А вот такое упругое слово «блядь» – откуда оно? Думаешь, происходит от древнерусского глагола «блядити» (что означает «обманывать, пустословить», восходит к праиндоевропейскому «bhla», «дуть», отсюда знаменитое «bla-bla-bla» – «пустая болтовня»)?… Или как Даль думал – от «блуждать-блудить»?.. Совсем нет. Исток его – в мусульманском обычае, что приличная женщина не выходит на улицу иначе, чем опираясь на руку мужчины-провожатого; если же какая-нибудь дама оказывалась на улице одна, то это называлось «без руки», а звучит это на арабском как «бли яд».
Потом спорили с ней, кто у кого учится: писатели у народа или народ у писателей? Сошлись на том, что вначале писатели слушают, что и как народ говорит, а потом уже народ слушает, что и как писатели говорят.
Ладно, пора кончать письмо, поезд к вокзалу подходит, в лагере уже ждут не дождутся, давно не был.
Жизнерадостный Бирбаух с размаху хлопнул печатью по обходному листу:
– Готово! Время пошло! – Сделал украдкой глоток пива и произнес с иронией: – Идите, работайте, чтоб на черный день было. Хуже бедности может быть только смерть!
– Зато после смерти настоящая демократия наступает, – кивнул я, заглядывая в приемную.
Много глаз уставилось на меня. Страх, мольба, надежда, ожидание. Жутко. Я поспешил уйти. Неловко чувствовать себя ламой-похоронщиком, который помогает духу покинуть тело, перейти в мир иной. Паром между двумя берегами. И на каждом берегу на тебя что-то липнет, вяжется, льется, капает, наползает. Не прав тот глупый мудрец, сказавший, что вид чужих несчастий успокаивает. От всего остаются следы и раны, от которых приходится в грубый панцирь лезть, не то плохо будет.
В комнате переводчиков Рахим и старая карга-китаянка Линь Минь пьют чай и обсуждают вопрос, с какого времени Европа стала принимать беженцев.
– А вы как думаете? – спросили они у меня.
– Не знаю, – ответил я. – Как-то этой темой не интересовался.
Рахим, прикрыв глаза, сказал, что стали принимать после 1951-го, когда в Женеве подписали конвенцию о беженцах: рабочие руки нужны были, людей не хватало, надо было поднимать экономику после войны.
– Да, тогда получить беженство было куда легче, – отозвалась Линь Минь. – Даже когда я осталась, в 70-х, это было сделать нетрудно. Я была спортсменкой, с командой поехала на чемпионат мира и сказала в полиции Франкфурта-на-Майне одну-единственную фразу. И меня тут же приняли, дали курсы, работу, квартиру, гражданство и все прочее.
– А что за фраза волшебная была?
– «Не согласна с коммунистическим режимом в Китае».
– В каком году это было?
– В 1970-м, – подсчитала Линь Минь на серых пальчиках. – Тогда и гастарбайтеров наприглашали, а теперь не знают, что с турками, югославами и итальянцами делать, которые тридцать лет назад сюда приехали, а уехать не захотели. Даже в Южной Корее листовки по фабрикам разбрасывали: «Кто хочет поехать на работу в Германию, пусть явится туда-то тогда-то»…
Я слушал ее, помалкивая. Значит, старой карге всего около пятидесяти лет! А мне казалось, намного больше. Из-за морщин. И кожа желтая со временем сереет. Кофта с дурацкими дутыми рукавами, юбка-плиссе. И волосы в проплешинах. И каждый раз так нагло спрашивает у меня, когда, мол, ваши русские из Сибири выкатятся, чтобы китайцы могли на свои исконные земли вернуться. Китайцев только не хватало!.. «Сибирь “Газпрому” самому по горло нужна… Черномырдин лично за родной “Газпром” своими руками все полтора миллиарда китаёзов передушит!» – подумал я, устраиваясь в углу.
– Раньше было легче, потому что столько беженцев не было. Советский Союз все в границах держал – попробуй убеги! – сказал Рахим. – Я помню, когда я ушел из Ирака, большая дружба была между Саддамом и СССР. Саддам себя до сих пор социалистом называет. А его сынок, сволочь, по свадьбам ходит и невест себе в постель забирает, право первой ночи, как при ханах и султанах было…
– У него двое сыновей?
– Да, Удей и Кусай.
– Я где-то читала, что этот Удей – очень неприятный человек? – сказала Линь Минь.
– Неприятный? – удивленно переспросил Рахим. – Да он убийца, насильник и подонок, каких поискать. Весь народ его ненавидит. Говорят, ему недавно детородный орган отстрелили. Явно кто-то из мужей, братьев или отцов тех, кого он обесчестил… Кто такое может простить?.. Сам Саддам не лучше. Когда по школам, заводам и праздникам ездит, женщин себе выбирает: если женщина ему понравится, он на нее так ласково посмотрит, скажет что-нибудь и рукой по виску проведет – готово, охрана этот пароль знает. Вечером эта женщина будет у Хозяина во дворце… – И Рахим элегантно показал, как именно Саддам рукой в перчатке проводит по седому виску, а я подумал: «Вот Саддам – это настоящий начальник лагеря, а не маламзя ползучая, тютя-растютя!» – У него сорок дворцов, – продолжал меланхолично Рахим. – А у сына-подлеца – сто сорок машин. Тайная полиция по типу КГБ, советские инструкторы работали.
– Что делать будете, когда Саддам умрет? – поинтересовался я. Рахим тонко усмехнулся:
– Э, работы, наоборот, прибавится! После смерти Хозяина весь его аппарат побежит, вся тайная полиция, другие спецслужбы. А их там до миллиона. И они будут бояться мести людей за то, что творили. Все же всё знают. И им будет действительно грозить смерть. И немцы будут опять со всеми разбираться… И даже принимать кое-кого…
Линь Минь верещнула:
– Интересно получается: вначале принимаем жертв спецслужб, а потом – сами спецслужбы, когда они из палачей в жертв превращаются! Но кто нас, толмачей, спрашивает?.. Мы же – не люди, а переводящие устройства. Хоть на переговорах черта и Бога переводить должны, если надо.
– О, туда дорога будет хорошо оплачена! – хохотнул Рахим. – И суточные тоже будут по первому классу!
– И час работы будет подороже, чем тут, стоить! – со смешком добавил я, представляя, как получаю в небесной канцелярии у святого Петра небесный обходной лист.
– А кто у кого азюль будет просить? – развеселились мы.
– Черт у бога будет просить, – был уверен Рахим. – Скажет: довели меня противные люди, хуже меня стали, такие пакости делают, что мне и не снилось, не нужен я им стал, пусти, боже, в рай отдохнуть, отдышаться, с силами собраться, – на это Линь Минь шутливо зацокала:
– Нет, бог у черта: устал, мол, я от этих бестолковых людей, развлечься хочу немного у тебя в аду…
– А может, они друг у друга спрячутся: черт – в раю, а бог – в аду, там их никто не найдет, да и вряд ли искать будет, – предположил я. – Обоюдный азюль. На брудершафт, так сказать…
Фрау Грюн стремительно возникла в дверях, любезно поздоровалась и начала без долгих разговоров распределять папки. Больше всего работы было сегодня у Линь Минь – опять где-то высадился десант из Китая. Рахиму достались два брата-араба. Я получил три папки со снимками женщин. Начальник лагеря тут же беспокойно заворочался во мне. Но я пригляделся внимательнее – и он сник, залез обратно в черную дыру. Ничего интересного.
– Три интервью – это очень хорошо! – сказал я фрау Грюн.
Она заговорщически подмигнула мне:
– Автобус белорусов в Кельне… И переводить нетрудно – все одну и ту же чушь порют. У вас три дамы, на монашек похожие…
– Три монашки?.. – я еще раз уставился на фотографии. – Отлично! С кем работаем?
– Со Шнайдером.
«Это вот плохо, – подумал я, – он скор на расправу.
Но выбирать не приходится. И три монашки в любом случае лучше, чем одна».
– С которой начать?
– Которая вам больше нравится. Все ваши, – засмеялась фрау Грюн.
– Хорошо, я их помещу в отдельный барак. Вообще-то лучше одна молодая, чем три старых, – как-то не очень впопад ляпнул я.
Она на это заметила, что для женщины возраст – понятие относительное и растяжимое, и женщина молода, пока молодо ее тело, добавив:
– И душа, разумеется.
– Чудес не бывает. Что-то одно должно постареть, сноситься. Или сосуд дьявола лопнет. Или сосуд бога опустеет. Хотя душа, в принципе, возраста не должна иметь, если она вообще есть… А если ее нет – то и говорить не о чем. В любом случае женщине лучше быть старой, чем мертвой. Я начну с этой! – указал я на фото той, что посимпатичнее.
фамилия: Уринович
имя: Наталья
год рождения: 1961
место рождения: с. Козловщина, Белоруссия
национальность: белоруска
язык/и: белорусский / русский
вероисповедание: протестантка
«Что за лютерово нашествие!..» – вспомнил я гитариста-самоучку, даже не думая о том, что вымышленный протестантизм этих людей – скорее всего просто добавочный пункт в списке мифических наездов на родине.
Взяв папки, мы гуськом пошли в приемную разбирать подопечных. В дверях приемной остановились. Вон они, мои – три в черном. В руках – по Библии. Лица постны, стылы, снулы, поджаты, чем-то между собой схожи, как лица всех ханжей мира.
– Доброе утро, я ваш переводчик! – подошел я к ним. Они в растерянности встали. Одна – толста, низка. Другая – худа, высока. Третья – среднего роста, с живым выражением глаз и очень объемистой грудью, под которой скрещены руки с Библией. Ее папку я отобрал. Наталья. Присмотревшись, я увидел, что на них – не рясы, а просто черно-темные траурные платья. Ну и правильно, чего веселиться?.. Я вспомнил Савченко-маму в нелепой мини-юбке.
– Я ваш толмач, буду вам помогать с нехристями разговаривать, – тупо пошутилось против воли.
Они недоверчиво смотрели на меня блекло-синими глазами, не зная, что отвечать. Или не понимая меня. Я повторил, уже серьезно, что я переводчик и буду им переводить во время интервью.
– Аха, – сказала Наталья, перекладывая толстую Библию из одной руки в другую. Я заметил, что она держит еще одну книгу, поменьше и потоньше.
– Вы русский понимаете? – на всякий случай уточнил я.
– А як жа?.. Конечно, понимаем. Што мы, неучи?
– Ну. Понимаем, – подтвердили обе товарки кивками: – Аха-аха.
– Вот и отлично. А то у них переводчика с белорусского нет, – соврал я на всякий случай («Вдруг заупрямятся: подавайте переводчика-белоруса?.. Пропали тогда мои деньги»). – Теперь одна должна пойти со мной.
– Куды? – испуганно уставились они на меня.
– Как куда?.. Вы зачем сюда пришли?.. Убежища просить?..
– Аха. А як жа, – кивнули все трое.
– А для того чтобы его получить, вы должны ответить на ряд вопросов, которые вам будет задавать немец-чиновник. Мы сейчас в Германии, – напомнил я им, опять на всякий случай, видя по лицам, что они не очень соображают, что к чему и где они вообще находятся.
– Аха, ну да, ну да, – закивала Наталья за всех.
– Ты иди, – подтолкнули ее товарки. – Иди, иди!
Она была похожа на кассиршу – уютно-полноватая, с нерабочими руками в кольцах (одно, огромное, обручальное, другое – поменьше, с зеленым камешком). К этим рукам больше подошли бы пачки денег, а не Библия. Прическа – из тех, по которым сразу можно узнать в местной толпе бывсовженщину: начес с шиньоном под лаком. Лицо, когда-то явно милое, сейчас уже порядком обрюзгло. Намечена сеть морщин и мешочков, но глаза все так же упорно и грубо подкрашены.
– Мы с вами сейчас пойдем, – сказал я Наталье. – А подружки пусть подождут.
– Библию можна узять?
– Зачем она вам?
– Силы придаець.
– Тогда конечно. А что за вторая божья книга?
– Псалма.
– А, понятно. Дополнительно, так сказать.
Она кивнула товаркам:
– Ну, девоньки, сидитя, не скучайтя. Я пошла.
Обе с постными лицами закивали в ответ. Было видно, что Наталья – главная в этой библической тройке.
– Пойдемте быстрее! – поторопил я Наталью, увидев, что Линь Минь готова возглавить выводок однолицых китайцев, с которыми она до этого что-то с яростным цокотом обсуждала в углу. Однако я тут же упрекнул себя за глупость: зачем спешить?.. Дела идут – контора пишет. Наоборот, надо брести после всех, последним, замыкающим, после самого последнего китайца. Время идет – контора начисляет. И не вина толмача, что его китайцы опередили. Их много, а он – один.
Фрау Грюн уже все подготовила: полоса намазана чернилами, поляроид включен, монитор мерцает, сканер мигает, перчатки натянуты, лист с квадратиками для пальцев зажат на станке.
– Божья матерь! Што гэта?.. Я что, у гестапе?.. – вдруг запричитала Наталья.
Фрау Грюн, услышав знакомое без перевода слово, прянула головой, как лошадь от мух:
– Кто это гестапо – мы?
– Она шутит, – ответил я, а Наталье прошипел, чтоб она следила за своими выражениями, если не хочет вызвать неприязнь чиновников: – Это слово (не хочу повторять, какое) и без перевода всем понятно. И другие, подобные ему.
– Маучу, маучу. Сглупила. Проститя ради Бога! – испугалась она.
Фрау Грюн сухо сказала, чтобы она положила на стол свою библиотеку – никто ее не украдет – и дала снять отпечатки.
Наталья молча проделала все процедуры, помыла руки, взяла книги и подсела ко мне за стол.
– Фамилия правильно записана – Уринович? – спросил я, а фрау Грюн, опять услышав понятную ей без перевода фонему, насмешливо прыснула.
– Што? – вытаращилась Наталья. – Почему спрашиваетя? Почему смеетеся?
– Мне показалось, тут забыли первую букву приписать – «Б», «Н», «Г», «Х», «Ш» или там «Д»…
– Хто забыл?.. Нет, правильна все. Уринович я.
– От какого же слова образовано? От «урина»[58], что ли?.. – не удержался я от глупой шутки.
– Можат быть, – насупилась Наталья и крепче ухватилась за Библию, а фрау Грюн, пряча улыбку, посоветовала списать данные из паспорта:
– К счастью, у всего автобуса паспорта есть. С французскими визами притом, – добавила фрау Грюн многозначительно и посмотрела на меня.
Мне стала ясна судьба пассажиров летучего автобуса – куда виза есть, туда и иди, что тебе тут делать?.. «А почему автобус до Франции не доехал?» – хотел спросить я фрау Грюн, но удержался – какое мое дело?
Год рождения и адрес были записаны правильно.
– Где это – деревня Козловщина?
– Каля Слонима. Прыбыцце в Германию три дня назад.
Я посмотрел на календарь. 22 июня… Вдруг до меня дошло:
– А знаете, Наталья, какое сегодня число?
– Якое?
– 22 июня…
– Ну и што?
– А что случилось шестьдесят лет назад?.. «Ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася…»
– «…война»! Аха! Гасподзь бог!.. Прауда… – завозилась, заквохтала Наталья. – Это над жа такое!.. Ах, Матерь Божия!.. Плахи знак!..
– Вот именно… Сегодня война началась, народ воюет, а мы тут с немцами сидим, бумаги пишем… – согласился я (мне тоже на секунду стало не по себе).
Заметив наши переговоры и смущенные лица, фрау Грюн спросила:
– Что, вопросы какие-нибудь? – (Она заканчивала отщелкивать китайцев, немым рядом стоящих у стены в очереди к поляроиду.)
– Ничего. Просто вспомнили, что шестьдесят лет назад началась война между Германией и Советским Союзом.
– Как?.. Война же началась в 1939 году? – удивилась фрау Грюн.
– Это для вас. А для нас война началась 22 июня 1941 года. Все советские фильмы, книги и песни называют эту дату…
– Ну, и видите, чем все это закончилось? – И фрау Грюн резко обвела рукой комнату, вызвав этим жестом страх у отшатнувшихся китайцев и замешательство у щетинистого папы-курда, который уже входил в комнату (за ним чутко замерло все семейство). Дальше маячила флегматичная фигура Рахима.
– Аха, – покачала головой Наталья. – Хто жа думал когда?.. Вот как судьба вертиць рабом Божиим!.. Пришлося родину бросиць… Или родина цябе бросила…
Сойдясь на том, что шестьдесят лет назад мы бы тут не сидели, мы обсудили последний пункт: вероисповедание. Наталья сказала, что у них в Белоруссии много не только католиков, но и лютеран. Она лично перешла из католичества в «лютерьянство», потому что это правильная религия: соблюдаются законы Христовы, люди живут чище, чем католики, которые в золоте и разврате тысячу лет купаются.
– За гэта и страдаю, – неопределенно добавила она, перебирая страницы Библии.
– Так, надо идти. Прочтите из Библии что-нибудь. Где откроется, – попросил я неожиданно для себя самого.
Она открыла страницу, прочла:
– «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать».
Я усмехнулся:
– Видите, не мы одни – все непослушны. Откуда это?
– Послание ко римлянам.
– К вашим врагам, значит.
– Врагов у христианина нет, есць заблудшия. Их надобна вернуць на путь истинной…
«Некоторых даже в наручниках…». Я встал, уступая место Линь Минь, которая готовилась уточнять ксилофон иероглифов. Молчаливая стайка бледных от волнения китайцев выстроилась у стола. А к фотоаппарату степенно пошел кряжистый и волосатый, как шмель, папа-курд (семейство стояло у стены и с благоговением взирало то на него, то на фрау Грюн).
По дороге на второй этаж я сказал Наталье, чтобы она следила за датами, не путалась в днях и числах – это оставляет плохое впечатление у немцев, любящих точность.
– Аха, аха, – мелко кивала она, крестясь одной рукой, другой прижав книги к обширной груди. – Поняла. Правильна. Усе точна говорыть буду…
«Они и сами все по штампам и штемпелям в паспорте увидят», – хотел добавить я, но промолчал – зачем травмировать человека? Пусть хоть немного поживет в надеждах, что вот, завтра вдруг все изменится: дадут денег, квартиру, визу, работу, живи – не хочу.
Шнайдер встретил нас как старых знакомых:
– Доброе утро!.. Садитесь!.. Вы тоже были в том автобусе в Кельне? – любезно осведомился он у Натальи, которую окинул внимательно-быстрым взглядом.
– Аха, – потупилась она. – Была.
И веско положила Библию на видное место. Шнайдер увидел крест на обложке, но промолчал, погладил седой бобрик и задумчиво, как бы вспоминая, произнес:
– Митинг, газеты, участок, статья № 361, повестки, адвокат, побег?
Я перевел эту абракадабру, которая, однако, была Наталье как-то понятна – она с испугом уставилась на Шнайдера. Пальцы впились в Библию до побеления.
– Откуда ж ён знаець? – шепотом спросила она у меня.
Я пожал плечами, перевел вопрос.
– От Иисуса Христа, по секрету, – засмеялся Шнайдер. – Оттуда, что все ваши автобусные люди во всех лагерях одну и ту же версию рассказывают… Мы уже ее наизусть знаем. Хорошо, что визы у всех французские… Ну и забитые люди!.. Не понимают, что все лагеря между собой связаны!.. Впрочем, это неудивительно: оказывается, они три века у Польши в батраках ходили, одна дама-библиотекарь из автобуса мне вчера рассказала. И президент теперь у них какой-то чокнутый. Чтобы он после всех своих сограждан тоже к нам не прибежал убежища просить!.. – пошутил Шнайдер.
– Он, говорят, цыган, так что и основание есть. Прибежит последним и по цыганской линии сдастся – дескать, в институт не приняли из-за этого… – предположил я и для верности переспросил у Натальи: – Лукашенко ведь цыган?
– Аха, цыган, чтоб он провалиуся, чтоб яму пусто было, вражине рода человеческага!
– У него шансы есть. И как у цыгана, и как у президента, – подтвердил Шнайдер. – Ну хорошо, начнем.
Он включил диктофон и попросил Наталью полностью назвать себя. Живы ли родители?.. Братья-сестры?.. Бабушки-дедушки?
Все были живы. Услышав много трудной фонетики, он передал мне бланк, куда попросил занести имена и фамилии, хитро избежав ломки глаз и языка.
Житие Натальи было ничем не примечательным: выросла в селе Козловщина, там же ходила в школу, закончила в 78-м году, училась в техникуме в Слониме на счетовода, работала в заводской бухгалтерии. Затем чудесным образом и с Божьей помощью прозрела, перешла в лютеранство и стала посильно помогать в церкви.
– В чем заключалась ваша церковная деятельность? – перебил ее Шнайдер, кивая на Библию.
Наталья притянула к себе книги, уложилась на них большой грудью и начала перечислять:
– Отцу святаму помохала. В хоре пела. Свечи продавала. Царкву прыбирала. Отчеты святаму отцу помохала делаць. Усе, што надо было. Что Бох прикажець – то и делала.
– Платили вам за это?
– Не. Эта так, для души.
– Где церковь расположена?
– В Слониме. От Козловщины поучаса на поезде.
– Хорошо, дальше, пожалуйста.
– А кали лопнул СССР, то хозяевы – директор, парторх, местком, профком – разорвали завод на четыре СП и людей вышвырнули на улицу. Так осталися без куска хлеба.
– Есть у вас семья? – ввернул Шнайдер.
– Аха.
– Дети?
– Тожа, – потупилась она. – Троя.
– От одного мужа? – вдруг прозорливо спросил Шнайдер.
– Не… От троих, – порозовела она.
«Вот тебе и монашка!» – подумал я.
– Дети взрослые?.. Нет?.. Тогда имена и адреса всех детей! – протянул мне Шнайдер бланк.
Мы занялись писаниной, а Шнайдер повернулся к монитору и начал что-то искать в компьютере. Потом вернулся к заводу:
– Итак, что было дальше? Когда вы ушли с завода?
– В 92-м или 93-м. Не ушла, а выпярли. Сами-то хозяевы, ироды, усе растащили, а людям якие-то бумажки, ну, як бы акцыи, раздали. А потом выяснилося, што акцыи эти фиговы, потому что завода няма, а есть чатыре разныя СП, которыя знаць ничага про акции не знаюць, а могуць по дешевке скупиць эту макулатуру, а нет – так иди к шатану…
– Шатану? – не понял я.
– Ну, к бесу… Так оказалися мы усе без работы, без хлеба. – Наталья сокрушенно потерла переплет Библии. – Пришлося усякой ерундой занимацца, чем придецца.
– Чем конкретно? Что вы делали, например?
– Я?.. Газеты продавала.
Шнайдер усмехнулся:
– Видно, очень грамотный народ. Столько продавцов газет!.. Весь автобус говорит, что газеты продавал.
– Я про других не знаю, – обиделась Наталья. – Вот я, Вика и Аля, – (она кивнула на пол), – точна этима занималися. А что другия делали – мне неведомо. И знать не жалаю, – немного заносчиво закончила она.
– А кто это Вика и Аля?
– Подруги ее. Внизу, в приемной, – пояснил я.
– Понятно. Вместе веселее, конечно… Как на пикнике… Где газеты продавали?
– У Слониме. Утром и днем продавала, а вечером у царкве была.
– Где ночевали?
– Кали як. Кали домой, у Козловщину ездила. Кали при царкве оставалася. Когда и у подрух. У Вики вот квартера большая, муж сбежал, место есць, аха.
– У кого брали газеты, где конкретно продавали, какие газеты?
Наталья почему-то забеспокоилась:
– Брала?.. А дилер один давал. На машине подъезжал, выгружал, сколько надо. Вечерам ему деньги и остаток сдавала – и весь бизнесь. А откуль он брал – видиць Бог, не ведаиу, не знаиу!.. Продавала их у разных местах, где людей поболя. Места меняла, потому шта работала по-черному… От полыции убегала не раз…
– Как звали поставщика?
– Олег.
Шнайдер отметил что-то у себя на листе и попросил Наталью перейти к сути дела и сказать, кто и за что преследует ее на родине.
Наталья подумала, пошуршала Библией:
– Ну, няма мне жизни тама… Человек один раз живець, он счастия достоин, гавариць наш отец Иисус Христос…
– Попросите без философии, одни факты.
– Вот у феврале, четвертого числа, я продавала газеты…
– Около Дома профсоюзов? – вдруг вставил Шнайдер, хитро посмотрев на меня.
– Аха. Откум он знаець? – тоже уставилась на меня Наталья.
– Я колдун, все знаю… Эти ваши подруги, что сейчас в приемной, тоже были в тот день с вами?
– Да, мы усе умеим… Начался мытинг против ирода Лукашенки. У сентябре жа у нас выборы, вот мытинги и идуць, с начала голода… тьфу, года… Голод уже давно идець… Вдруг набежала полыция, усех стали хватать, мяне толпой отнесло у сторону. Я упала, газеты рассыпалися – они у мяне на руке были. Полицыя увидела, что там есть запрещенныя газеты…
– «Свобода» и «Новинки» – так, кажется, называются эти сверхкрамольные газеты? – опять спросил Шнайдер.
– Аха. Да откуда он усе гэта знаець? – изумилась Наталья.
– С неба известие имел! – Шнайдер указал рукой в потолок. – Потом вас отвезли в «рафике» в участок, избили и предъявили обвинение по статье 361, за участие в митингах против президента. Так?
– Так, аха, – ошарашенно впилась она в него недоуменным взглядом.
– Видите, ангелы мне все уже рассказали! – улыбнулся Шнайдер. – Так все было?
– Аха. Дакладна так. Вы ж усе знаетя…
– Хочу вашу версию услышать… Прошу, говорите!
Наталья непонимающе огляделась, завозила Библией по псалмам:
– Ну, сняли допрос, избили, в камере заперли, на второй день отпустили. А чераз няделю прислали повестку. Одну, другу, трэтью… Отец святый сказау пра повестки: «Иди, прими свою долю горя!» Пошла у полицыю. А яны там такия вдруг тихия, вежливыя, у полицыи, да садитеся, да чаю не хотитя ли… Я думаю – с чаго бы эта, аха?.. Может, за кого друхого прыняли, ошиблися? С чаго эта вдруг псы лютыя у ангелау небесных превратилися?.. А яны вот отчаго: о царкве выспрашивать начали. Да хто спонсор, да откуль деньги идуць, да скольки у святаго отца зарплата, да скольки жертвований в месяц приходиць, да што я там делаю, да што и как… И не могла бы я им кажны мясяц копию с царковнай расчетнай ведомости приносиць… Грозилися, что если не соглашуся, так яны меня прибьюць. И что вообще скора усех лютерьян перережуць, давно пора от этай нечисти избавицца, аха. Ну, пропала, думаю. От страха чуть не уделалася. На усе согласилася, лишь ба оттуль убежать. А как ушла – сразу к святаму отцу. То т – у панику попал: «С адвакатам гаварыць надо!»
– Конечно, надежнее, чем с архангелами! – улыбнулся Шнайдер. – Подписывали что-нибудь в полиции?
Наталья пригорюнилась, всхлипнула, утерла слезу:
– Аха.
– Что?
– Бумаху, что сотрудничествоваць буду, отчеты кажны месяц о царкве даваць… А што было делаць?.. Очень испугана была… Спросила у Вики и Али, что в полиции было? Ну, яны же православныя, их ничаго про царкву не спрашивали, только лаяли, статью 361 пугали и дела уголовныя, на них открытыя, у папках показывали…
– То, что какие-то бумаги в папках лежат, еще не значит, что дела открыты, – заметил Шнайдер. – Это часто в полиции делают, чтобы запугать малограмотных.
– Девонькам ящэ хотели другу статью, за сабатаж, даць, – сообщила Наталья. – У них ведь тожа газеты эти запретныя были…
– А что стояло в тот день в заголовках этих сверхопасных газет? – поинтересовался невзначай Шнайдер.
Наталья захлопала глазами:
– А я откуль знаю?.. Я их продаю, а не читаю. На што мне мирское?.. Стояло то, што и всегда: «Долой Лукашенку-скота!»
– Вы разве не знали, что эти газеты запрещены к продаже? Почему вы брали их на продажу?
– Знала. А что делать?.. Их-то люди и брали… Вот прислали мне опять повестку из полицыи у конце месяца. Я кинула усе – и к адвокату знакомаму, деверя сыну. Он говорыиць: «Бежать надо, Наталья, неаткладно бежать! Пока ты не у самом черном спыске, успеть надо!» У девочек – те же дела: повестки, угрозы. Ну, решили, делаць нечаво – надо бежать. Заказали у газете визу на Шенген, хотели на Германию, а они нам на Францию прислали…
– Почему именно на Германию хотели?.. Чем вам Франция не нравится?.. Вы же знаете поговорку: «Жить, как бог, во Франции»? – развеселился Шнайдер. – Не хотите жить, как бог?
– У русских нет такой пословицы, – заметил я, – русские хотят у бога прямо за пазухой жить, не больше и не меньше, – а Наталья объяснила:
– Ну, мы ж лютерьяне, а Лютерь немец был…
– Ах, вот что!.. Значит, вы из-за Мартина Лютера решили сюда приехать? – уточнил Шнайдер со смехом, который уже не мог скрыть. – Очень интересный поворот дела.
– Слыхали мы, што толька у Германии принимают тех, каго за религию гонюць.
– Так я не понял: вы по религиозным мотивам просите азюль или по политическим, за нелегальные газеты? – посерьезнел Шнайдер.
Наталья, застигнутая врасплох, задвигалась на стуле, зашуршала книгами:
– Аха, и тое, и другое, – ответила она наконец. Пальцы в кольцах нервно забегали по переплетам книг, а сама Наталья взмокла, поискала платок, не нашла и вытерла лоб ладонью. От волнения рот у нее пересох, источал затхло-кислый запах. – В общем, я против прызыдента и против веры, – наконец выдавила она из себя.
– Понятно. И то, и другое. Подстраховаться никогда не вредно, – кивнул понимающе Шнайдер. – Мне лично все равно, кто в какого бога верит, лишь бы людские законы не нарушал и с людьми уживался… Последний вопрос: у вас была виза на Францию. Почему вы вышли в Кельне?
– Да усе вышли – и мы. А мы што?.. Водитель говориць – раз усе вышли, чаго во Францию перецца?.. Развернулся и уехал, – честно захлопала она глазами. – А мы – на вокзал, полицыю искаць.
Шнайдер закончил что-то отмечать на листе, уточнив:
– Что, по вашему мнению, вам угрожает в случае возвращения на родину?
Наталья подумала, повозилась на стуле, пощупала Библию.
– Ой, дажа подумаць страшна. Усе. Арест, тюрьма. Можа быть, даже смерть. Да, да, скорее всяго – смертная смерть. То есть казнь.
– За газеты даже такой дуб, как ваш президент, смертную казнь не дает. Она и отменена, кажется, в Белоруссии?.. В любом случае все это вас напрямую не касается. А наличие французской визы и паспорта упрощает задачу. Ничего добавить не хотите, мадам? – любезно спросил он у Натальи.
Она с испугом повторила:
– Добавиць? – И, уставившись Шнайдеру в лоб, сказала, как на профсоюзном собрании: – Прошу просьбу рассмотрець в короткий срок!
На это Шнайдер поднял и тут же опустил брови:
– Не сомневайтесь, рассмотрим. В кратчайший срок. Так. Закончили. Перекур десять минут. И давайте следующую газетчицу.
Мы спускались в приемную.
– Ну, як, як? – спрашивала она меня, нервно прижимая книги к габаритной груди.
Я пожимал плечами – что отвечать?
– У Библии спросите. Там все вопросы и ответы.
Наталья открыла Библию и прочитала:
– «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет…» – Повторила с горечью: – У неимеющего усе отнимецца! – Остановилась как вкопанная и запричитала: – Ой, плохо, ой плохо!
В приемной обе товарки молча встали и уставились на нас.
– Плохо, девоньки… – сокрушенно сказала Наталья, в изнеможении плюхаясь на стул.
А Харон-поводырь уже выбрал следующую жертву – худую Вику, которая, крепко ухватившись за свою Библию, с понурой покорностью двинулась следом. Юбка у нее была длинная и узкая, и Вика могла идти, только мелко семеня ногами в стоптанных кроссовках.
В этот день я еще два раза слышал одинаковые истории-клоны: митинг, полиция, статья, повестки, адвокат, побег. Только камера в участке, где сидели три подружки, была то на двадцать, то на десять, то на сорок человек. И автобус, на котором они вместе приехали, был то красный, то синий, то зеленый. И газеты приносил дилер по имени Олег-Владик-Иван. И визы стоили то сто, то двести, то триста долларов. Только увечья были разной силы и тяжести. И Аля вдруг тоже оказалась тайной лютеранкой, стала опасаться за свою жизнь, хотя Шнайдер резонно возразил ей, что до тех пор, пока она тайная лютеранка, ей преследований бояться не следует, ибо никто не знает о ее секрете, который он не советует никому раскрывать, чтобы не было лишних проблем.
Когда я уходил, вся святая троица всполошенно, по-гусиному обступила меня. Предчувствуя недоброе, они в панике спрашивали, что делать:
– Куды подацца?.. Што делаць?.. Куды бежаць?.. Где до выборов отсидецца? Святая Матерь Божия, ничаго няма – ни денег, ни дому, ни защиты. О Господи, што дальша?.. Што с семьями, детями?..
Они голосили, а я стоял как болван, и на душе скребли кошки. Что мог я сказать утешительного этим женщинам, заброшенным в чужие края – без языка, понятий, средств, навыков?.. Что и сам я почти таков?.. Это им не помогало. Наталья на прощание перекрестила меня, сказав:
– Вы нас поддержали в трудну минуту, аха-аха. Благослови вас Бог!
Товарки тоже смутно кивнули.
– И вас также, – глупо ответил я, не зная, как правильно отвечать на благословение: всегда готов?.. И вам того же?.. Премного благодарен?.. Да и не имеет это значения, если все равно ничем реально помочь не в силах. Что же, толмач – не берег, не спасительная суша, а только паром, плот, лодка, весло и уключина. Средство, а не цель. Это явно к лучшему – меньше грехов на душе, хотя после каждой встречи с искореженной чужой судьбой остаются следы, царапины, шрамы и занозы на сердце.
Юсуп и горы
Родной, плохи мои дела: работы мало и денег нет. Не знаешь, что это там Лукашенко успокоился?.. И Кучма мало убивает?.. И Чечня увяла?.. Плохо, очень плохо… Нам, толмачам, надо день и ночь молиться, чтоб побольше войн и революций было. Чем больше тиранов – тем больше работы. Помнишь, один тип в какой-то повести говорит о мире и чае: пусть, мол, миру провалиться, лишь бы мне чай был?.. Вот говорит, а только не понимает, что без мира чай в одиночку скучно пить. Не знаю, может, таким мизерным желчевикам, как тот тип, и нравится в одиночестве холодный чай хлебать. А мне нет. По-моему, лучше пусть тираны тиранствуют. Тогда и денег прибавится, жить лучше и веселее станет.
А пока моя личная искренняя благодарность всем арабским диктаторам – они и свои народы мучают, и другим покоя не дают. В то же время – да здравствует доблестная курдская ПКК – без нее у турок нет повода гайки закручивать. Больше оружия, героина, бомб и взрывчатки, друзья из ПКК!.. Удачных киднеппингов и убийств!.. Великим восточным бонзам от всех переводчиков мира – нижайшее спасибо!.. Тысячи тысяч лет сыну Солнца и внуку Луны, величайшему из людей Ким Чен Иру!.. Зорких глаз и твердой руки мудрым китайским кормчим-палачам!.. Глубокий поклон большим, малым и средним балканским мясникам – их дело правое, они победят!.. Жаль только, успокоились что-то, одни албанцы стараются, но сколько же они могут убить и перерезать?.. Пора серьезно взяться за дело, а то за толмачей-балканологов обидно – приуныли без работы, лишних штанов себе купить не могут. И где вообще турки, чтоб на Балканах огнем и мечом пошарить и шариатный порядок навести? В торговлю сильно ударились. Хоть и много народу из Турции бежит, но все одни курды, а надо бы, чтоб и сами турки драпали, как у доблестного Саддама, который травит всех, наций и сословий не разбирая.
Жаль, Латинская Америка далеко. Там навалом хороших людей в президентах, которые из своих народов последние соки высосали. Но это – хлеб американских коллег. Дай бог многие годы вечному Кастро!.. Действует борода четко, свои задачи знает туго. На один доллар теперь на Кубе можно купить банан, гондон, косяк и бабу – жизнь хорошая, дешевая, солнце круглые сутки светит, люди целыми днями ламбаду танцуют – чего еще надо?.. Нет, капиталисты все щерятся. Ну, пусть их.
Но самая главная надежда толмачей – это черная Африка. Это наша опора, тыл, резерв, база и продмаг. За коллег-африканистов приятно – уж они работой на ближайшие тысячу лет обеспечены. В Африке в каждой странушке свой диктаторишко, в каждой деревеньке – свой тиранчик. Работы много. Особенно теперь, когда немецкие бюрократы решили, что отрезанный клитор – законный повод для просьбы о политубежище, ибо нарушено главное право человека – право на оргазм (хотя некоторые буквоеды и пытались доказать, что кончать и без клитора можно, если очень постараться). А там, между прочим, пол-Африки с отрубленными кицлерами[59] ходят, испокон веков режут – «чтоб не блядовали». А того, дикари, не понимают, что клитор женщину не только возбуждает, но и успокаивает. И без своего кицлера она – как заведенный перпетуум-мобиле, покоя не знает ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером. А с клитором кончит – и притихнет (на время хотя бы).
Потому в Африке и нестабильность, что бабам клиторы поотрубали, покоя нет, все чешется и горит (и не только из-за вшей), отчего СПИД свирепствует, триппер в ходу, сифон людей косит. С другой стороны, африканцы правильно делают, что клиторы рубят – в природе этого органа ни у одного зверя нет, это бог только женщине преподнес, от себя лично. Или обезьяна сама у себя вытянула, если по Дарвину. В любом случае: спасибо огромное всем бокассам и кабилам, которые в страхе черный буш держат!.. А то, что время от времени такая кабила какого-нибудь своего сенатора сожрет или у секретаря из черепа мозги ложечкой выест – это ничего, мудрее и зорче станет. Как известно, глазные яблоки врага – наилучшее средство от политической близорукости, а горячий, свежий, живой, даже живо трепещущийся мозг противника проясняет сознание… Ничего, сенаторов в Африке много, пальму потряси – сами посыплются… В этом смысле китайцы куда хитрее. Что папа-китаец говорит сыну перед свадьбой?.. «Помни, сынок: оргазм хозяйки – залог спокойствия в семье». Вот так-то. А потому, что древняя нация.
Спасибо и всем чеченским бойцам и полевым командирам, которые, не жалея сил, не только для своих людей хорошее делают, но и русским солдатикам помогают дезертировать. Некоторые наивные вроде Шнайдера удивляются, почему это Германия не возвращает России ее дезертиров (их, мол, в военное время без суда к стенке ставили, а теперь политубежище дают). Это устаревшие взгляды. Если возвращать будут – чем толмачу жить?.. Тамбовскому волку переводить?.. Нет, лучше так, как есть. Сейчас гуманизм и пацифизм в моде, а не всякий там изоляционизм.
Все, кажется. Никто не забыт и ничто не забыто. Ты тоже подумай, за какого тирана еще большую свечку поставить, чтоб работы прибавилось и деньги завелись. Тогда я тебе визу вышлю и поедем мы на Пасху куда-нибудь на Пасхи. Или в Панаму за панамами. Или, на худой конец, на Сардинию, сардины жарить. Кстати и свежих рыбьих костей наберем для объекта.
Одна тенденция меня, правда, беспокоит: как это сербы умудрились живого Милошевича продать?.. И дорого взяли – полтора миллиарда долларов. Ничего у него, правда, не вырезали, на органы не пустили, а просто на гаагскую скотобойню сдали. Теперь у сербов бабки есть. Потом другого какого-нибудь гада в гаагский ломбард заложат. Нехорошее дело сербы придумали!.. Ненужное!.. Вредное!.. А для нас, толмачей, просто губительное и опасное!..
Да, недаром сосед-Монстрадамус эту тему давно мусолит: если так пойдет, говорит, то народы быстро смекнут, где заработать можно, кому и за сколько своих тиранов, людоедов, царей и князей сдавать выгодно. Кубинцы тут же от своей бородатой рухляди избавятся. Саддам Хусейн дорого пойдет. За Каддафи на гаагской барахолке немало получить можно. Африканских диктаторишек оптом сдавать. Выжившего из ума Арафата евреям толкнуть – пусть мучают, приемы самбо на нем отрабатывают. Всяких мелких гадов вроде Эстрады, Дипендры или Сухарто тоже немало по свету наберется – всюду какая-нибудь сволочь сидит, соки из своего народа сосет. Так что если хорошо посчитать, то живой тиран куда больше денег принести может, чем миллион казненных китайцев. Эх, был бы я там, наверху, я бы знал, как госказну пополнить. Да вот на самом низу сижу, миозитом опутан, больную ногу в уксусе вымачиваю. Но одно четко понимаю: если народы от своих тиранов избавятся, то мы, толмачи, у пустого корыта и без всякой золотой рыбки окажемся. А это не дело. Такие вот дела.
Недавно ездил переводить людям из Чечни. Летним утром ехать приятно: тепло, светло, ландшафты открываются, как иллюстрации к «Сказкам братьев Гримм»: аккуратные деревеньки, кирхи, красная черепица, пруды, башенки, поля. Солнце светит. Все уже спозаранку добропорядочно работают. Кто-то лужок убирает, кто-то кусты от снега отряхивает. Тоже весьма полезное занятие. Мой старичок Монстрадамус регулярно столетние ели поливает, хотя этим елям воды уже не надо, они с Фридриха Великого стоят, но старичок, градусником жару измерив, обязательно ведер пять в день им подливает. Сознательно и дотошно, как и все, что немцы делают.
Бирбаух сегодня явно не в настроении – попросил показать паспорт, чего не делал с первой встречи.
– Что-нибудь случилось? – спросил я.
Бирбаух неприязненно покосился на потолок:
– Шеф приехал. В командировке был… Три недели в такси по Сахаре ездил, положение в беженских лагерях проверял… Да, деньги богатых любят. Из пфеннигов марки собираются. Из марок – тысячи… Деньги и мертвому нужны… – неопределенно добавил он, со вздохом косясь под стол на отсутствующий ящик с пивом.
– Только деньги не делают счастливым, – напомнил я ему целомудренную немецкую поговорку.
Бирбаух скривился в презрительной ухмылке, мечтательно запустил жирную желтую отечную пятерню в кудлатую голову:
– Не только счастливым, но и суперсчастливым!.. А несчастным они уж точно никого еще не сделали!.. Вы когда-нибудь слышали: «умер от денег»?.. – уставился он на меня своими выпуклыми, влажными глазами. – Или «скончался от роскоши»?.. Нет?.. И я не слышал. И никто не слышал. А «умер от нищеты»?.. «Подох от бедности»?.. Сплошь и рядом. То-то и оно!.. У кого деньги – для того всегда хорошая погода светит… С деньгами даже плачется легче…
– Как это? Что имеется в виду? – не понял я. – Если деньги есть – зачем плакать? Радоваться надо!
– Ну, на похоронах, например… Плачешь – и знаешь, что папа умер, зато десять миллионов ожили, твои теперь – приятно!.. Это имеется в виду. Ваш обходной, прошу, время затикало! – просунул он лист под решетку.
Из коридора я услышал голоса Рахима и вьетнамки Хонг. Обсуждают мир после распада СССР. Вьетнамочка – в сарафанчике. В матово-жестяных волосах одна прядь выкрашена лиловым – под цвет ноготков на ручках-ножках. «При Хо Ши Мине посадили бы тебя за такую вольность лет на десять…» Рахим, в темной рубашке, поджарый, флегматичный и неторопливый, рисовал что-то на листе:
– Я Саддама ненавижу, но мою страну мне жаль. Люди мучаются от нищеты. Раньше у нас лучше жизнь была. И вообще Советский Союз всегда арабов против Израиля поддерживал. А сейчас что?.. Жаль, что Горбачев такую империю продал…
– А почему вообще ваши коммунисты Израиль так не любили?.. – спросила у меня Хонг.
– А потому, что Израиль американским генералам и евреям-миллионерам очень понравился, – объяснил за меня Рахим и, не удержавшись, тихо выругался: – Противный народ, никому в мире покоя не дают. Все их ненавидят.
Хонг откинула прямые волосы и, неприязненно повернув свою мордочку к Рахиму, прощебетала:
– У вас есть разумное объяснение, почему иудеев все ненавидят?
Рахим усмехнулся:
– Есть. Пронырливые уж очень. Сильно деньги любят. А деньги любить – это себя любить. Чем больше деньги любишь – тем больше и себя любишь, а на остальных плевать хотел. Вот за это. У моего отца была в Багдаде продуктовая лавка. На нашей улице было много таких лавок. Отец покупал рис на складах оптом по пять динаров за кило, а продавал по пятнадцать. И все другие торговцы делали так же. Но вот какой-то арабский еврей…
– Есть и такие?
– Конечно. Их в Багдаде полно. Арабский еврей или еврейский араб – как хочешь назови. Короче говоря, те, кто в синагогу ходят… Вот этот еврей купил большую лавку и тоже начал рис, сахар, муку, сладости и всякую мелочь продавать. Но рис он продавал по десять динаров за кило. Так же и другие продукты. Много дешевле, чем у других лавочников. И у него, конечно, целый день толклись покупатели, торговля шла бойко, оборот был большим, и он быстро богател…
– А что он выигрывал, если покупал продукты на тех же складах и по тем же ценам, что и другие торговцы?.. – не поняла Хонг.
Рахим рассмеялся:
– Не угадаете, коллеги. Он сделал состояние на пустых ящиках, на таре, которой у него оставалось в десять раз больше, чем у других!.. Вот что такое еврей! Он и в аду чертей перехитрит. А если не перехитрит, так подкупит. Саддам, кстати, наших багдадских богатых евреев не трогает – с них можно драть налоги и прочее. Ничего, они тоже с других дерут. Люди без совести, на всем деньги делают. Противная нация!
Хонг на это заметила, что еврей – это вовсе не нация, а религия, и что во Вьетнаме тоже есть свои евреи:
– Те, кто принял иудаизм.
– И зачем вьетнамцу иудаизм? – искренне удивился Рахим.
– А арабу зачем? – парировала Хонг.
– Тоже верно. Хотите чай? – Рахим налил из термоса в стаканчики и передал нам двумя руками: – Прошу!
– Спасибо, – цокотнула Хонг, принимая чай и поправляя свои жестяные волосы. – А вот скажите, в каком состоянии находится туризм в Ираке? Ведь это колыбель цивилизации, древние памятники, можно же, как в Египте, поставить дело на поток, получать дивиденды…
– Дивиденды?.. Туризм? – скептически усмехнулся Рахим. – Все находится в таком же состоянии, как и вся страна – в самом плачевном. Все травой заросло, разграблено. Тот же подонок Удей в Британский музей на миллионы долларов экспонатов продает каждый год… Когда я ушел из Ирака, туризм еще был, а потом – все.
– А когда вы ушли?
Рахим нахохлился, посчитал в уме:
– Да уж давно. Выехал как переводчик на конференцию – и остался.
– Где, в Германии?
– Нет, в Германию потом попал, – уклончиво ответил Рахим.
– А что стало с родными? – поинтересовался я. – Если при Сталине кто-нибудь бежал, то родных расстреливали или ссылали.
– Да, к ним приходили… Но дело в том, что я остался, когда был в служебной командировке по рабочей визе. Мой отец, наоборот, на них кричать стал: «Где мой сын? Куда вы его послали?» И оставили в покое. Вот если бы я по турвизе выехал, тогда плохо…
– Значит, у тиранов есть своя логика. И даже чувство своеобразной справедливости, – сказал я. – Раз за тобой на службе недосмотрели – то это их вина. А вот если бы ты в личном порядке остался – тогда семья виновата, плохо воспитали – так, очевидно?
– Конечно. Кто такой тиран?.. Слишком строгий папа – и все. Управляет страной, как своей семьей. Один – мягче, другой – строже. Саддам – из самых строгих. За тридцать лет – ни одного покушения. А на Сталина? – посмотрел на меня Рахим.
– Тоже. Ни одного. И тоже за тридцать лет. Кстати, недавно по ТВ Саддама показывали – выглядит как огурчик, молодцом держится, подтянут, морщин нет, волосы темные, без седины… – вспомнил я.
– Красит, – меланхолично заметил Рахим.
Мы даже не заметили, как появилась фрау Грюн. Она неслышно стояла в проеме двери.
– Господи! Одно и то же! – сказала она со вздохом. – Уже пятнадцать лет я только и слышу: тираны, полиция, Сталин, Саддам, курды, Кабила, Хо Ши Мин…
Выглядела она сегодня, как и привратник, довольно понуро и пасмурно. И даже не скрывала этого. Видимо, приезд шефа всех привел в печальное настроение.
– Что, прибыл? – указал я пальцем в потолок.
Она мотнула головой:
– Да, появился… Слава богу, скоро опять уезжает на конференцию.
– Далеко?
Она усмехнулась:
– Да уж не в Сибирь… Они знают, где конференции проводить. На юг Франции едет. Делали бы уж прямо в Ницце, Каннах или Флориде… – Было видно, что и она явно не прочь побывать на той конференции, которая обходится во столько, что всех беженцев мира можно год кормить. – Ну ладно, надо работать. Это для вас, Хонг. Это для Рахима. А у вас семья из Чечни, – сказала она мне. – Но жену слушать не будут – муж сказал, что она дома все время сидела и ничего не знает.
– Значит, только один человек? – разочарованно открыл я папку:
фамилия: Агудаев
имя: Юсуп
год рождения: 1970
место рождения: г. Гудермес, Россия
национальность: чеченец
язык/и: чеченский / русский
вероисповедание: ислам
Ниже – имена трех детей: двух девочек и мальчика. Я решил не спешить, вышел за всеми и поплелся в хвосте, дожидаясь, пока Хонг подгонит свой вьетконг. Вот она. За ней – два перепуганных мальчика-старичка (один – в соломенной шляпе, будто только с рисового поля). Нырнув в туалет и выглядывая оттуда, я переждал, пока в музгостиной Рахим разбирался с таким же носатым, как он, но толстым, старым и одышливым арабом. Тот ни за что не хотел давать отпечатки пальцев, и Рахим уговаривал его, объясняя, что по-другому нельзя.
– Чего он боится? – спросил я шепотом Рахима.
– Что в тюрьму пошлют.
Наконец араб, недовольно сопя, отправился к станку, а я пошел в приемную. Там уже никого не было, кроме моих подопечных. Они сидели рядом, молчали. Дети были тут же: девочки рассматривали книжки, а мальчик возился с многострадальными вагончиками.
– Доброе утро, я ваш переводчик! – представился я.
Парень встал:
– Доброе утро.
Мы поздоровались (рука – суха, тепла, даже горяча).
Жена, похожая на старшеклассницу, величественно кивнула. Дети подняли внимательные глаза. Одна из дочерей, постарше – голубоглаза и светла, а другая, младшая – брюнетка с черными взрослыми глазами. Заметив мое удивление, Юсуп спросил:
– Что, не похожи? Все говорят. Беленькая на мою тетку похожа.
– Ну и родители не очень черные…
– А чеченцы вообще светлые раньше были, – сказал он.
– Раньше все были светлые, потом как-то потемнели, – согласился я. – Вообще человек по утрам светлый, хороший и пушистый, а к вечеру становится злым, колючим и темным.
Юсуп – в джинсах и футболке, коренастый шатен. Жена юна и худа, тоже в джинсах. Темные смелые глаза. Ногти обрезаны под корень, как у подростков. Скромная блузка. Величавые движения, свойственные южанкам и горянкам.
– Пошли, Юсуп. Жена и дети пусть ждут.
Юсуп что-то сказал жене. Та что-то сказала детям.
Те подошли к ней и молча встали рядом.
– В принципе, погода хорошая, часок погулять можете, – сказал я. – Только далеко не отходите.
Она вопросительно посмотрела на мужа. Тот опять что-то сказал.
– По-чеченски говорите? – спросил я, когда мы шли к фрау Грюн, на что он пожал плечами:
– А по какому еще, дорогой?.. Мы с женой – коренные чеченцы, там родились. Вся родня наша там. Кто жив еще, конечно… Жена молодая, по-русски плохо говорит, – добавил он, коротко, но цепко оглядывая музгостиную и усаживаясь перед фотоаппаратом. – А я в русской школе учился, знаю.
После отпечатков мы быстро пробежались по данным. Все было ясно. Юсуп только возразил по поводу страны происхождения:
– Надо писать не Россия, а Республика Ичкерия. Так правильно.
Я переадресовал этот вопрос фрау Грюн, но она качнула головой:
– Нет, пока в нашем компьютере – Россия. Никаких официальных изменений нам не известно, – а мне добавила тише: – Он не понимает, что если это будет называться не Россия, а Чечня, то и дорога им всем сюда будет закрыта. Сейчас они от русских бегут, а потом от кого бежать будут, когда Чечня в Чечню официально превратится?
– Тогда и бежать не будут – зачем? – резонно ответил на это Юсуп, когда я перевел ему слова фрау Грюн.
В дверях возник невозмутимый Рахим с лиловым от волнения арабом – тот теперь говорил, что плохо себя чувствует (давление, сердце, почки) и просит перенести интервью на завтра.
Фрау Грюн, взглянув на араба, заметила:
– Он правда плохо выглядит. Ну, что делать?.. Поведите его к врачу, он через пятнадцать минут откроет кабинет, – а мне сказала: – Отправляйтесь к Тилле, он ждет.
В коридоре я сказал Юсупу, чтобы он следил за датами и не путал числа, на что он ответил:
– А мне ничего врать не надо – как есть все скажу. Пусть проверяют. Пол-Гудермеса и Ойсхары – родственники.
– Я не говорю про врать. Просто немцы точность любят, вот и все. Паспортов нету у вас?..
Юсуп махнул рукой:
– Э, могут проверять. Мне скрывать нечего. Паспорта сгорели вместе с квартирой, что я могу сделать?.. Вы думаете, я ваххабит или еще кто-нибудь такой?.. – Он остановился. – Я портной был, тихо работал, семью кормил. Клянусь детьми, мне ни русские, ни ваххабиты не нужны, я сам свое дело знаю… Просто все разрушили, ничего нет. Четыре брата убиты. Что еще сказать, дорогой?
Говорил он по-русски правильно, но с теми квакающими интонациями, которые свойственны многим жителям Северного Кавказа, когда они говорят по-русски, притом как-то странно удваивая окончания глаголов («проверятть», «сказатть») и сильно напирая на хриплое «х».
Тилле читал газету. Увидев нас, он попросил садиться:
– Садитесь, сейчас дочитаю… Возмутительная статейка!..
– О чем?
– Да все о том же – что в нашем ведомстве работают одни жестокие бессердечные злодеи… Разве это так?
– Я бы сказал – даже наоборот: добрые ласковые волшебники! Каждый их штамп на моем обходном листе помогает не умереть с голоду! – ответил я.
– Вот видите. Это просто бессовестные журналюги, которые ищут жареное и желтое… Посидели бы они тут, на нашем месте… Нет, но какую ересь пишут! – возмущенно зашуршал он газетой. – Как будто где-то во время интервью какой-то беженец встал на колени, умоляя о политубежище!..
– Вполне могло быть, – сказал я. – Они там в Африке по каждому случаю на колени бухаются. А тут такое важное дело – почему бы и не встать?.. Вполне могло быть.
– Быть-то все может. Но зачем это раздувать? Зачем делать из нас монстров? Вот вы видели, чтобы у нас на колени кто-нибудь вставал?.. – искренне спросил он у меня. – Впрочем, послушайте, тут немного… Уже название какое глупое: «Пока смерть кого-нибудь не заберет»!..
И он вслух бегло прочел заметку:
– «“Добрый день, я решаю, можете ли вы остаться в Германии или нет!” – демонстрирует Дирк ван Фюрен свою позицию власти. Он – один из так называемых “решателей”. Он слушает беженцев и решает, получат ли они убежище или не получат. От того, считает ли он рассказы беженцев правдивыми или нет, зависит судьба этих людей. “Решено” – начертано на одной из печатей, в изобилии лежащих на столах дюссельдорфской службы по признанию беженцев. Но вообще-то такое название службы неправильно, ибо только 3 % беженцев получают убежище по § 76 Конституции Германии, и службу следовало бы назвать “службой по непризнанию беженцев”. Решения службы рождаются вдали от общественных глаз и ушей. Спешные приговоры беженцам из Индии, Белоруссии, Ирана или Сьерра-Леоне обычно основываются на том, смог ли беженец правдиво рассказать, как он преследовался, или нет. “Решатели” скоры на расправу. В арсенале их действий копание в деталях до мельчайших подробностей, ловля на датах, противоречиях. Беженцы настолько растеряны и беспомощны, что часто впадают в плач и даже становятся на колени перед “решателями”, от которых зависят вопросы жизни и смерти. “Бежишь от войны и пыток, пока смерть тебя где-нибудь не прихватит!” – жалуется пожилой курд из Ирака. Однако “решатели” глухи к подобным рассказам – они их слышат каждый день по несколько раз и априори уверены, что все беженцы лгут…» Вот такие глупости пишут! И как им не стыдно так поверхностно и огульно всех ругать?!
– Где это напечатано? – спросил я.
– Во вчерашней «Франкфуртер Рундшау».
Пока Тилле с негодующим бормотаньем настраивал диктофон, я хотел объяснить Юсупу, как будет проходить интервью, но он сказал мне:
– Ребята в лагере рассказывали. Обычный допрос. Что я, допросов не знаю?.. Эти хоть нормальные люди, а русские – шакалы, суки. Я два месяца в отстойниках сидел, пока меня не выкупили. Такое увидел… Раньше я никогда не разбирал, кто какой нации. Мой отец вообще так меня научил, что на свете есть только две нации: хорошие и плохие люди – и все. Мой дед говорил: не нация красит человека, а человек – нацию. Но после лагеря русских ненавижу…
Тут Тилле попросил Юсупа назвать себя и сообщить адрес, по которому тот жил до выезда. С адресом сразу вышла заминка – какой давать?.. Последнее время Юсуп скрывался в горах, у бабушки Патимат, а квартира, в которой он был прописан в Гудермесе, сгорела.
– Реальный адрес, где он находился. Вечная проблема.
Юсуп назвал одно из горных сел. Дальше выяснилось, что семья Юсупа вернулась из Казахстана в конце 60-х. Сумела забрать обратно свой дом в Гудермесе, заплатив немалые деньги жившим там пришлым осетинам, которых Сталин переселил в пустую Чечню. Там, в Гудермесе, Юсуп родился, ходил в русскую школу – он был самым младшим, и отец хотел, чтобы он стал врачом или юристом, поехал бы в Москву… Но Юсуп плохо учился, еле-еле дотащился до восьмого класса, а потом ушел в портняжное ПТУ. У него пять братьев и две сестры.
Тилле со вздохом протянул мне бланк, куда я медленно и аккуратно вписал всех семерых, хотя потом выяснилось, что погибших братьев вписывать не надо.
– В какой армии они были? Когда и где они погибли? – уточнил Тилле.
Юсуп удивился:
– Дорогой, в какой должны быть?.. В чеченской армии, конечно. Они в разных местах погибли. Во время первой войны. Один, Нури, – под Ачхой-Мартаном. Другой, Руслан, сгорел в машине около Кень-Юрта. Третьего, Алихана, убили стрелки в Гудермесе, прямо у дома. А четвертый, Нурдин, пропал в лагере «Гуашь» около Грозного.
Тилле корректно склонил голову:
– Я выражаю вам мое искреннее соболезнование, – а Юсуп, таким же корректным кивком, принял его.
После ПТУ его забрали в армию, подержали в учебке, потом отвезли в Белоруссию, но он вместе с двумя кавказцами отказался принять присягу. Военные не знали, что с ними делать, заперли на гауптвахту, но дали позвонить домой. Приехали родные, привезли деньги, и их отпустили восвояси, поэтому сказать, был ли он в армии или нет, он затрудняется.
Тилле внимательно посмотрел на него:
– Позвольте, но это же было в 87-м году, еще при Советском Союзе, когда чеченской проблемы еще не существовало?.. Почему же вы отказывались принять присягу?
У Юсупа залоснилось лицо. Он бормотнул сквозь зубы:
– Ну… Просто… Это… Не хотел служить просто…
– Ясно, просто не хотел служить. – Тилле отметил что-то, мельком спросив у меня, можно ли было в советское время так просто откупиться из армии?
– Просто – нет, обычно откупали на более ранних этапах, но в принципе можно было, вопрос денег, – ответил я.
После армии Юсуп женился и нашел работу в одном из «Домов быта». Хорошо зарабатывал и по-человечески жил, пока не началась война:
– Раньше одна у меня проблема была – мальчика хотел, а все девочки получались. Клянусь хлебом, все нормально шло, пока эти шакалы не напали на нас. Тогда и перевернулось все вверх ногами, как в цирке. – И он руками показал, как это произошло.
Тилле проследил за его движениями и спросил, что он делал во время первой войны:
– В 70-м родились, в 85-м пошли в училище, в 87-м – полгода в армии, а потом – работа в Гудермесе. Таким образом, вам, когда в 94-м началась война, было около 25 лет, опасный возраст… Воевали?
Юсуп, удобнее устроившись на стуле, отрицательно кивнул:
– Нет, дорогой, братья воевали, а я, младший, родителям помогать должен был. Как только война к Гудермесу подошла, мой отец пригнал грузовик, загрузил в него всех: маму, бабушку, мою семью и отвез к своей сестре. У отца – пять сестер. Одна, тетя Малика, живет в Каргалинской, на границе с Дагестаном. Там все и сидели, а мы с отцом – бегали, деньги надо было где-то брать. Иногда что-то в Дагестан отвозили, пару раз из Дагестана фрукты в Россию отправляли, продавали… Так, крутились кое-как, на еду хватало… Братья, пока живы были, тоже подбрасывали что-то. Старший брат, Ариф, давно в Москве живет, хорошее место занимает, он много помогал…
– В Москве? – насторожился Тилле. – Чем он там занимается?
– У него своя фирма. Он давно там живет, прямо из Казахстана туда уехал. Женился на русской.
Тилле отметил все это у себя, попросив меня уточнить адрес московского брата.
– Дети с вами тут?
– Да, внизу, а где будут?.. Жена и дети. Жена после первой войны так в Каргалинской и сидела, а мы с отцом, когда тише стало, в Гудермес поехали, квартиры посмотреть. У меня все целое было, а отцовский дом разграбили полностью. Ну, моя квартира на восьмом этаже, не дошли, наверно. Да и брать у меня нечего. Клянусь жизнью, никогда лишней копейки не было, все своим трудом зарабатывали…
– Были ли у вас раньше проблемы с властями, с русскими?
Юсуп удивился:
– Зачем?.. Какие дела?.. Все как братья жили, пока этот проклятый чатлах страну не разбил…
– Кого он ругает? – поинтересовался Тилле.
– Горбачева.
Тилле покачал головой:
– Заметьте: русские Горбачева ненавидят так же, как немцы – Коля. Только одного – за то, что развалил империю, а другого – что свалил страну в одну кучу.
– Людям не угодишь, всегда недовольны, – неопределенно сказал я.
– В этом вы совершенно правы, – ответил Тилле. – Пусть теперь расскажет, что его привело сюда к нам.
Юсуп вздохнул, пробормотал что-то (можно было разобрать «алла» и «акбар») и спросил:
– С какого момента говорить?
Тилле ответил:
– С того, как вы почувствовали угрозу для себя и семьи.
Юсуп насупился, вздохнул:
– Угроза всегда была. Когда первая война началась, я и от русских, и от чеченцев у бабушки Патимат в горах прятался, чтобы в армию не взяли…
– Позвольте, но вы же говорили, что откупились от русской армии? – прервал его Тилле.
– Как откупились, дорогой?.. Просто нас отпустили – и все. Никаких бумаг не дали… Ни билета военного, ничего…
– Ну ладно, это с русскими. Но вы говорите, что у вас четыре брата погибли, так?.. И вы единственный сын. Не хватит ли чеченцам четырех бойцов из одной семьи? Зачем от чеченцев было прятаться?.. – справедливо заметил Тилле.
– Всех брали, людей мало было. – Юсуп утер лоб ладонью. – На всякий случай лучше подальше быть. Родители уже старые, дети – малые, кто их прокормит, если меня убьют?.. Я смерти не боюсь. Вот, как мы сейчас с вами, – он показал рукой, – так близко видел ее, клянусь кровью… Но стариков, детей жалко. Они без меня не проживут. Это не советское время, когда с голоду никто не умирал. Сейчас каждый за себя. Война у нас тоже много испортила – люди адаты нарушают, с тейпом не советуются, свой тукхум не уважают, старший-младший забывают, наглеют и беспредельничают. Война людей портит, я это точно говорю…
– Он прав, – откликнулся Тилле, выключая диктофон. – Я тут одного из Уганды, где война уже 80 лет идет, спрашиваю: «Вы изменились после того, как на войне побывали?» Он говорит: «Конечно, я научился убивать. И делаю это с удовольствием…» Вот и принимай потом такого… Как будто своих маньяков и убийц не хватает!..
– Вот-вот, правильно, – поддержал его Юсуп, когда я перевел ему эту фразу. – Люди как звери стали.
Тилле попросил перейти к фактам. Юсуп начал:
– Все дело в том, что я часто оставался ночевать в Гудермесе…
– Как в Гудермесе?.. Вы же только что говорили, что скрывались после 95-го года у бабушки Патимат в горах? – удивился Тилле.
Это замечание, в свою очередь, вызвало удивление Юсупа – что тут непонятного?.. Скрывался – да. Год, два, три – сколько можно?.. Как будто тихо стало. Вышел наконец. Начал в Гудермес ездить. Уже и семья хотела из Каргалинской возвращаться. Вдруг – вторая серия началась: опять войска, война. В один из майских дней Юсуп, проснувшись утром в Гудермесе, куда он в очередной раз пришел проверять квартиру, увидел из окна русские танки и БТР. Через какое-то время они ушли. А ночью вошли чеченские боевики и стали готовиться к бою. Юсуп видел, как они расставляли стрелков, как прятали во дворе машины и еще что-то в чехлах. Потом к нему в квартиру пришли три боевика, сказали, что тут удобная позиция для гранатомета. Что он мог ответить?.. Ему пришлось вместе с ними тащить на восьмой этаж эту махину. Угостил, чем было. Они поделились своим…
– Почему они выбрали именно вашу квартиру, вы можете объяснить? – спросил Тилле в упор.
– Могу, дорогой. У меня окна прямо через дорогу на русский штаб смотрят, – сразу же ответил Юсуп. – Туда какой-то ихний чурбанфюрер приехать должен был… Вот почему. Раньше там был райком, а сейчас штаб федералов. Для обстрела мое окно удобное – впереди вообще ничего не мешает, восьмой этаж. Правда, листья уже были на деревьях. Но они знали, как надо стрелять через листья, специальные прицелы имели.
Потом Юсуп подробно рассказал, как было дело. Под утро начался бой. Боевики дали из окна несколько прицельных выстрелов и разнесли весь второй этаж райкома-штаба. Русские засекли гранатомет и выстрелили в ответ из танка. Квартира загорелась. Юсуп вместе с боевиками еле успел выскочить и по чердакам перебраться в соседний дом. Потом боевики ушли, а он отсиживался на крыше и только поздним вечером решил выйти и осмотреться.
Спустился вниз, а там сразу напоролся на русский патруль. Патруль обыскал его, нашел паспорт, сунул туда нос и увидел, что Юсуп живет в этом подъезде, откуда вчера бил гранатомет. Они вошли в подъезд, по почтовым ящикам узнали, в какой именно квартире Юсуп жил, не поленились подняться наверх. И убедились, что полквартиры снесено танком, а он и есть тот боевик, который вчера из гранатомета убил генерала. Это был приговор. Его взяли в лагерь, где он и сидел до тех пор, пока отец не собрал деньги – много денег – и не выкупил его:
– Мы сейчас вообще за все должны платить, клянусь хлебом! Вот за глоток воздуха – тоже! У нас каждое село по пятьдесят тысяч рублей в месяц русским собакам платит, чтобы они не бомбили… Что я в лагере видел – даже вспоминать не могу. И не хочу. Вот, в двух местах голову разбили, – наклонил он голову и показал хорошо видные на стриженой голове свежие шрамы.
– Да, да, не надо. Слава богу, вас выкупили оттуда, – ответил на это Тилле, а мне добавил: – Видите, и у коррупции есть свои положительные стороны: за деньги можно выкупить, а без денег могли бы и убить, пожалуй. Только объясните мне, как мог русский патруль увидеть ваш паспорт, если он, по вашим словам, сгорел вместе со всеми документами в квартире? – вдруг жестко уточнил он.
Юсуп замялся:
– Это… Там… Ну… Там заграничный паспорт сгорел, а у меня еще другой, простой был… Заграничный дома лежал, а другой с собой был, без документа нельзя там ходить…
– Предположим. Но зачем вам заграничный паспорт?.. Вы же сказали, что у вас нет родственников за границей и вы никуда не выезжали. Или выезжали?..
– Нет, просто взял. Думал, когда-нибудь поеду. Моя тетя в домоуправлении работала, сделала, на всякий случай.
Тилле что-то отметил у себя:
– А куда этот второй, простой паспорт делся?
– В лагере у русских остался, дорогой. Не дали эти шакалы. Когда деньги взяли, то сказали: «Паспорт не получишь. Мы паспорт сдадим, а тебя оформим, как будто ты сбежал. А сейчас чеши отсюда побыстрей, черножопый, пока мы не передумали!»
После выхода из лагеря Юсуп решил основательно спрятаться у бабушки Патимат в горах, где и сидел до выезда, даже в Каргалинскую к семье не ездил.
– А что вас заставило изменить тактику – выйти, уехать?
Юсуп кивнул (он явно ждал этого вопроса):
– Я узнал, что меня ищут. Оказалось, что тогда из гранатомета из моего окна какого-то большого генерала убили. Суд, следствие и такое прочее… Я испугался…
Тилле покосился на него:
– Зачем русским было вас искать – они же сами вас выпустили?
– Но оформили же, как будто я сбежал. А это значит – в розыск объявили, – объяснил Юсуп.
Логично. Тилле не нашел, что ответить, и стал спрашивать дальше:
– Хорошо. Второе – каким образом вы вдруг узнали о том, что вас ищут русские? Они вам что, сообщили об этом?
– Не. Тетя Асмат сказала. У моего отца пять сестер. Одна, тетя Асмат, работает в домоуправлении в Гудермесе. У нее есть знакомый русский полковник, мент, который за деньги дает ей информацию.
Тилле задумчиво слушал его, что-то чертя на листе бумаги.
– А гимн чеченский знаете? – наконец спросил он у Юсупа, одновременно заглядывая в какую-то брошюру у себя на столе.
– Конечно, дорогой, «Свобода или смерть» называется. Это еще дудаевский гимн, – с готовностью отозвался Юсуп.
– Знаете слова?
– Конечно. На чеченском или на русском?
– На чеченском.
Юсуп проговорил пару куплетов, которые Тиле тщательно сверил по какой-то брошюре. Потом невзначай спросил:
– А как будет «солнце» по-чеченски?
– Солнце будет «малх», дорогой! – ответил Юсуп, что-то добавил про себя и продолжал: – Видите, сам я не боевик, никогда оружия в руках не держал, а попал в такое дело… Поэтому очень прошу, ради детей, не ради себя, помогите, спрячьте! Дети маленькие. Трудно. Вернуться не могу. Некуда ехать, клянусь жизнью, – он заволновался, стал тереть шрамы на голове.
Тилле успокоил его:
– Да, да, я все понимаю. Подумаем. Скажите мне, как вы до Германии добрались? Опишите путь в Германию.
Юсуп удобнее устроился на стуле.
– А чего там много говорить? На такси до Ингушетии доехали, по проселкам. А в Назрани сели в грузовик, нас заложили ящиками – и поехали…
– С тремя детьми? – усомнился Тилле.
– Мы подготовились. Ночью остановки делали.
– Кто организовал грузовик?
– Отец все сделал. Какой грузовик был – не знаю, клянусь детьми, не до этого было…
– Да, но вы же делали остановки? Общались с водителем?
– Нет, он дверь открывал, сам в кабине спал, а мы в лес выходили. Ну, девочки взрослые, понимают, а мальчика жена держала, сказки рассказывала…
Тилле отъехал на кресле к окну, открыл его, вернулся к столу, открыто посмотрел на Юсупа:
– Если вы приехали легально, по путевке или еще как, и у вас есть паспорта, то не скрывайте, дайте их мне!.. Поверьте, это будет только в вашу пользу, если я получу доказательства того, что вы правда из Чечни.
– Да нету ничего, все сгорело. Только, кажется, метрика дочки где-то у тетки Малики в Каргалинской осталась. А так все сгорело, ничего нет, зачем мне врать?
– Жаль, очень жаль, – искренне посетовал Тилле.
Юсуп пожал плечами:
– Все можно в Гудермесе в ЗАГСе и ЖЭКе проверить.
– К сожалению, у нас нет столько средств, чтобы проверять всю информацию на местах, – ответил Тилле суше.
Юсуп опять пожал плечами – мол, ваши проблемы, – а Тилле сказал мне со вздохом:
– Извечная игра в верблюда и отгадайку. Спросите у него, что, по его мнению, угрожает ему и его семье в случае возвращения в Россию? Именно в Россию, а не в Чечню, – уточнил он. – У него в Москве, по его словам, богатый дядя…
– Брат, – поправил я его.
– Ну, еще лучше. Почему бы ему не поехать туда?
Юсуп усмехнулся:
– Кто пропишет сейчас в Москве чеченца, дорогой?.. Паспорта нет – куда ехать?.. И где жить?.. У брата своих пять детей и теща с тестем. Я в розыске, федералы поймают. В России меня быстро найдут, сейчас компьютеры всюду. Туда мне нельзя.
Тилле улыбнулся:
– Хорошо, туда нельзя. А обратно к бабушке Патимат в горы?..
– Я и бабушку и горы очень люблю, но мне нельзя туда тоже, хлебом клянусь, нельзя. Там ваххабиты поймают, в лес уведут.
Тилле перешел к концовке:
– Не хотите ли что-нибудь добавить, сказать, заявить?
Юсуп мотнул головой:
– Нет, дорогой, я все сказал.
– Машинистка отпечатает текст, и коллега переведет его вам. – Тилле выключил диктофон и начал перематывать кассету.
Когда Юсуп вышел, Тилле сказал мне:
– Он оставляет неплохое впечатление. И эти свежие шрамы… Я настроен больше позитивно, чем негативно… Но плохо, что нет бумаг. Скажите ему от себя, что, если есть, пусть даст… Впрочем, все это надо основательно проверить… Как вы думаете, он правда чеченец? На каком языке он говорил с женой?
– Был похож на чеченский. Но точно не могу сказать, – признался я. – Знаете, именно на Северном Кавказе Бог развалил свою несчастную вавилонскую башню. Там тысячи языков, диалектов, наречий, говоров, каждый аул по-своему говорит. Но то, что эта семья с Кавказа, – это точно.
– Кавказ большой, а Чечня – маленькая, – возразил на это Тилле, рассматривая что-то в атласе. – Если бы были паспорта – другое дело… А так?.. Может, он из Осетии или Кабардинии, а?..
А мне на секунду показалось, что я – участник спектакля в театре, где есть свои декораторы, визажисты, суфлеры, режиссеры, пожарники, осветители. И все заняты отбором актеров, а актеры съезжаются, приходят, прилетают, приплывают и приползают со всего света, чтобы исполнить свой монолог – авось возьмут в труппу. Но в театре ставок мало, а актеров – много. Единицы остаются. Другие разъезжаются, расходятся, разлетаются, расплываются и расползаются восвояси. Дальше их судьба мне неизвестна. Но в любом случае – удачи им!..
Злоумышленница
Извини, долго не писал – в больницу попасть угораздило. Ночью с лестницы упал. Черт бы побрал эти выставки, где пей сколько влезет за счет искусства… Влезает-то много. Но и вылезает потом многое… В общем. Как до ныры доволокся – не знаю, может, и привезли. Вместо влево – вправо шагнул. И вниз полетел. Вестибулярка подвела. А что с нее спрашивать, когда в башке арфы играют и филин ухает?.. Ухогорлый, утконос проклятый, недавно опять брюзжал и пугал: «Кровь разжижать надо! Жидкости больше пить!» Вот и пью, сколько могу. И если эта ехидна думает, что водка – не жидкость, то очень ошибается. Пью, потому что жидкая. Была бы твердая – грыз бы зубами…
В общем, доразжижался, не в ту сторону шагнул. А все дело в том, что на лестнице перил нету, автогеном срезаны. Тут, в ныре, раньше албанцы из Косово жили, напоследок все пластмассовое, стеклянное и железное увезли. Перил нет, ступеньки кривые. Местность незнакомая: мрак, темень… Рухнул. Очнулся. Думал, шейка бедра полетела или позвонок треснул. Но, слава богу, только ногу вывихнул. Доигрался с костями. Наказали они меня. Объект о себе напомнил. Это я уже потом понял. А тогда плохо было. Еле до телефона дополз, «01», «02», «03», «04» набрал. Никто не отозвался, только какие-то лягушки по-французски квакали. Ну, вспомнил слепого Павку и безногого Маресьева. Вполз по ступеням, на улицу вывалился, а тут как раз мой приятель, обдахлоз Фриц, со своей собакой по делу шел. Он и доволок меня до больницы (тут недалеко – евангелическая клиника, но не до религиозных разногласий, когда нога вывихнута).
Водка отходить начала. Боль давит. Две медсестры с солидными бюстами (под белыми халатами особенно хорошо видными) хихикают, анкету заполняя. Я им говорю: «Сделайте морфий, умираю от боли!» Они – в смех: «Вы на себя посмотрите, какой вам морфий!.. У вас же минимум пять промилле в крови!» – «Умираю, болит, прошу как коллег!» Они пошушукались и говорят: «Вот, только кодеин в каплях дать можем!» – «Спасибо огромное, только больше накапайте. И нет ли у вас случайно еще и ноксирона?» – «Какого еще ноксирона?» – «Ну, снотворного… Чтоб лучше уснуть…» – «Что, вечным сном уснуть хотите?.. Не спорьте, а то вообще ничего не дадим!»
Я с испугу заткнулся, но потом все-таки не выдержал, вякнул: «Сколько-процентный раствор кодеина даете, если не секрет? Я ваш коллега, врач-гинеколог». «А, врач-гинеколог, ха-ха-ха да хи-хи-хи…» – грудями трясут над лицом. «Дайте скорей сто капель, а то боль измучила, сил нет…» – «Ах, все мужчины трусы, от укола в обморок падают!» – «Я не упаду. Можете капли прямо в вену пустить. Где у вас жгут?» «Кого жгут? Где жгут?» – хихикают и округлыми задами прямо в руки просятся. А тронул – так взвились: «А, медперсонал трогать!.. Все врачи – подлецы, и вы такой же!»
Наконец одна сестричка рюмку с кодеином несет, другая сигарету тлеющую протягивает – в рай попал!.. Выпил, закурил и начал им про одного психиатра-академика рассказывать, который на лекциях всегда говорил, что если бы он был женщиной, то целый день игрался бы со своими грудями и этим бы в конце концов достиг нирваны. «Размечтался! – оживились, смеются. – Пусть с тем играется, что у него между ног!..» – «А что у него между ног?» «То же, что у всех вас…» – с какой-то брезгливостью говорят и друг на друга странно посматривают. Потом нирвана меня самого сморила, в лучший мир перенесла… Правильно обдахлоз Фриц шутит – лучше наркотика может быть только сильный наркотик… Очнулся в палате. Нога – на месте и даже тщательно помыта. Боль – кодеин – покой… Боль – кодеин – покой… Сестрички капали дня три, а потом сказали: «Хватит!» – дали костыли, рецепт – и выписали. Хорошего понемножку. И на том спасибо.
Пока в больнице лежал – много нового по телевизору узнал. Политики совсем с ума посходили, а главный псих – зеленый министр экологии, Юрген Триттин, который мечтает все атомные станции закрыть. Вид у министра дикий, будто только из дурдома. На Ницше поздней поры похож: усы топорщатся, взгляд исподлобья, пронзительный. И упрям очень: если что задумал – обязательно сделает. Станции закрыть не удалось. Теперь хочет двенадцать миллионов из бюджета взять – туннельчики под трассами проложить, чтобы беременные жабы могли беспрепятственно из лесов в болота рожать ползать, а то их машины сильно давят, популяция гибнет и число мошкары растет.
Ему говорят: «Юрген, очнись. Тогда и медведям берлоги строить надо, и лисам норы рыть, и змеиные яйца солдаты бундесвера охранять должны, чтобы их хорьки не съели!» А он уперся: нет – и все: равновесие нарушено, экология разрушена, право на икрометание у всех живых существ есть. «На хер тебе эти гады сдались, Юрген?» – прямо спросил его как-то наш крутой канцлер. «А затем, чтобы тебя и твою пятую жену комары не кусали, когда вы на террасе своей виллы чай из фарфоровых блюдечек и чашечек пить будете!» – парирует Юрген со злобным намеком (а сам явно в костюм от «Версаче» одет).
Ну, да Триттин с жабами – это ладно, божий человек. Сейчас другой скандал грянул. Выбрали нового бургомистра Берлина. Вот говорил-говорил он свою первую речь, а под конец как брякнет: «Чтобы всякие слухи сразу отсечь, говорю прямо и официально – я педераст и горжусь этим!» Зал затих, партия онемела, нация замерла. Как реагировать – не знают. Вначале гробовое молчание – а потом гром оваций: спасибо, мол, что правду сказал! И стал теперь этот педик самым популярным, всё около канцлера трется и под шумок уже свой первый, самый важный, закон протолкнул – чтоб педики могли жениться и жить семьями. Кстати, сестрички в больнице жуткую историю рассказали: один педик сунул себе в очко вибратор, а тот возьми и провались глубоко в задницу! Стал внутри биться и, пока батарейка не кончилась, все кишки разорвал и убил педика насмерть. Вот как бывает, если технику безопасности игнорировать и техосмотром пренебрегать!
А на твои упреки – почему я за своим здоровьем не слежу, в сырой ныре живу и мало воздухом дышу – ответ такой: много ли художнику надо?.. И не все ли равно, где сидеть: в ныре или в царском дворце?.. Всюду одним и тем же занят: краски мешает и на холст мажет. Вот Гоген домом владел, но плюнул и уехал к черту на рога. Филонов квартиру тоже имел, а что толку – в ней с голоду и помер. Ван Гог – тот, например, вообще только по лугам скитался, а потом устал, записал в дневнике: «…хватит, умереть трудно, но жить еще труднее…» – и пустил себе пулю в сердце.
А Гойя?.. В молодости всюду пожил, в разных постелях полежал и всяких мах, одетых и обнаженных, перепорол. Дублоны по сундукам прятал, с золота пил и ел. А в старости все потерял, на правое ухо оглох, в голове черти поселились. Поплелся куда глаза глядят, в трактире слег и умирать собрался, но его какой-то проезжий принц взял с собой, поселил в светлом сарае и спрашивает, что ему для жизни надо. А Гойя ему письменно отвечает: «Немного: эстамп с изображением Святой Девы, стол, пять стульев, сковородку, бутылку с вином, гитару, свечей, бумагу и свинец – все остальное будет лишним». Вот так-то. И пять стульев, заметь – для кого бы они?.. А холстов с красками даже не упомянул – и свинца хватает ад изобразить: черно-белый, он еще страшнее. Вот как Франсиско Гойя сказал. Поэтому мне на мою ныру грех жаловаться – могила куда сырее будет.
Не слыхал, кстати, про одного человека, который на Ван Гоге зациклился?.. На всех углах трубили. Был тут в Германии один банкир. Деньги, вилла, яхта, акции – все, как у людей. Молодая жена, умные дети, большой дом. Вдруг разводится с женой, продает имущество, покупает одну картину Ван Гога за сто миллионов долларов, несет ее в какой-то амбар и целыми днями сидит перед ней. И набирается такой энергии, что через год встает, выходит в свет, опять зарабатывает кучу денег, заново женится, заводит свой банк и новых детей… И что же?.. Скоро вновь впадает в тоску, все продает, покупает вторую картину, уже за двести миллионов – и обратно в амбар. Теперь у него там один стул и две картины. Вот это человек воли, не нам с тобой чета.
А художники сейчас много экспериментируют. Новые техники осваивают. Недавно слышал про одного художника, который т. н. эякрилятами работает: женские месячные выделения с акриловыми красками мешает и этим пикантным составом рисует. Ничего, прочно получается, только пованивает на солнце. Онанография разработана. Спермотушь в тюбиках уже есть в продаже. Навозантизм на подходе. Недаром говорят: «Если хочешь создать розу – сам навозом должен стать». Это значит – в полное дерьмо надо перегнить, чтоб из тебя роза выросла. Ну, розы мне и даром не надо, а в гумус мы с тобой и так уже давно превратились. Теперь ждать надо, когда ячменные зерна в нас попадут и прорастут, хотя сомневаюсь, чтобы что-нибудь путное на этом путаном пути путёво выйти могло. Из навоза пришли – в навоз уйдем. И все путем.
Недавно ездил переводить и Фатиму видел. Помнишь пышку-марокканку, переводчицу?.. Женщина 1002-й ночи. У ворот лагеря заметил ее машину. Сладко екнуло сердце. Померещился белый сарафан, бесстыжие, проказливо-скрытные глаза. Молчаливые груди с нагло выпертыми сосками, от которых ткань сарафана шла вниз под прямым углом. Загадочно-прекрасные округлости, которые можно созерцать до нирваны.
Бирбаух, в нелепой майке на необозримом брюхе, весел и активен. Одной рукой держит трубку, другой перекладывает бумажки. Монитор мигает, отражаясь в бутылке пива. Наконец Бирбаух хлопает трубкой по аппарату и выдает мне обходной лист:
– Все спокойно. Шеф в Ницце, совещается. Потом, говорят, в Бельгию поедет, на конгресс пограничников…
– Если деньги есть – почему бы и не поехать? – подкинул я ему.
– Вот именно. Тем более, деньги не свои, а федеральные. А что может быть лучше денег?.. – хитро смотрит он на меня. – Только большие деньги. Человек умирает, а деньги – никогда.
– А инфляция?
Бирбаух махнул вздутой от пива (как и все тело) лапищей:
– Э, дай мне двадцать пять миллионов – и я плевать хотел на всякую инфляцию. Сразу в Люксембург отвезу. Слыхали, на границе Германии и Люксембурга полиция стоит, «мерседесы» проверяет, у кого багажники деньгами забиты?.. Потому что все воры, – жестко закончил он, нажатием кнопки открывая дверь оборванцу-негру в шапочке козырьком назад.
В комнате переводчиков, у окна, присев на стол, Фатима подкрашивает губы.
– О! – мычу я, разводя в онемении руками. Взгляд мой лезет прямо в разрез сарафана и успокаивается в длинной ложбине со вздутыми краями. Вот она, сладкая река с кисельными берегами, по которой можно бесконечно плыть.
Фатима, поглаживая себя по бедру, улыбается:
– Доброе утро, коллега! – И невзначай садится так, что теперь вся хорошо видна.
Здороваемся. Я держу ее вкусную руку много дольше позволенного, однако она руки не отводит и не отнимает – наоборот, как будто даже подставляет щеку. И я целую ее один, второй и – «по-славянски!» – третий раз. Душистый, бодрящий дух помады. Шалые глаза с искринкой. Черное зеркало души.
– Как дела в Марокко? – спросил я, с сожалением отстраняясь от Фатимы и усаживаясь к окну, откуда она лучше видна в полупрофиль.
– О, в Марокко ничего не изменилось за последнюю тысячу лет. Солнце светит, фрукты растут, бездельники-мужчины пьют кофе и кальяны курят…
– А женщины все хорошеют и расцветают… – Мой взгляд теперь неудержимо полез от накрашенных пальчиков-карамелек вверх по стройной лодыжке. И выше.
– Это правда, у нас очень красивые женщины. Это оттого, что много смешанных браков. Французы, испанцы, берберы, мавры, – ответила Фатима и пошевелилась. Подол сарафана вдруг задрался, открыв смуглое колено и полоску бедра. Из-под кромки подола заструилась притягательная тьма, от которой захватывало дух, жгло под ложечкой и свербило в коленях.
Внезапно и тихо вошла фрау Грюн. Она сегодня тоже оживлена и настроена благодушно – ну, да в пятницу все чиновники в хорошем настроении, не то что в понедельник. Тем более, шеф укатил в Ниццу.
– Сегодня у нас женский день. Одни женщины. Как у вас дома дела, Фатима? Как дочь? – передавая папки, спросила фрау Грюн.
– Спасибо, хорошо. Учится, все нормально. Вот скоро собираемся еще раз стариков навестить.
– Дочь любит ездить в Марокко?
– Обожает. Вот и коллега тоже собирается, кстати, – Фатима озорно прорезала меня взглядом с головы до ног. – Хочет посмотреть, как там люди живут.
– Езжайте, не пожалеете, – сказала мне фрау Грюн, подавая папку. – Я была там пару раз. Рай.
– Я и не сомневаюсь, что рай. Да еще с таким ангелом, как Фатима, в этот рай ехать! – И я нагло взял Фатиму за локоток. – В раю с ангелом – что может быть лучше?
– Женщинам в рай вход закрыт, – пошутила фрау Грюн. – Визы не выдают.
– А какой рай без женщины, особенно если она прелестно сложена, красива и обаятельна? – не выпуская локотка, продолжал я. – Если без женщин, то это уже не рай, а ад. Вообще женщин надо в чистилище держать. Надо тебе – позвал. Нет – пусть сидит себе.
– Ага, вам бы всем гаремы иметь, – ввернула Фатима.
– Конечно. В чистилище – как в нашей приемной: не холодно и не жарко, жить можно, не убивают и не мучают, но и дальше не пускают… Если святой Петр визу выпишет – тогда отворяются врата рая, и ангелы встают в почетный караул… А разница между ангелом и человеком та, что ангел умеет делать только хорошее, а несчастный человек всегда стоит перед выбором…
Я молол все это, не выпуская прохладного локтя Фатимы. Фатима смотрела на меня в упор. А фрау Грюн, кашлянув пару раз, пошла открывать музгостиную. Обменявшись с Фатимой жаркими взглядами, я поплелся в приемную и только в коридоре мельком взглянул в папку.
фамилия: Лапицкая
имя: Раиса
год рождения: 1965
место рождения: г. Аргун, Россия
национальность: русская
язык/и: русский
вероисповедание: православие
В приемной, забившись в угол, сидела похожая на белую мышь седая худая женщина в огромных роговых очках. Она скованно держала на коленях объемистую черную потертую сумку.
– Раиса?.. Я ваш переводчик.
Она подняла на меня безжизненные глаза, увеличенные линзами очков:
– За что спрашивать будете?
– Я только переводчик. Спрашивать будут другие.
– Куда идти? – Она сиротливо подхватила сумку. Сизо-седые волосы неряшливо стянуты в жидкий крысиный хвостик. Предельно худа, в нелепом джинсовом комбинезоне и стоптанных кроссовках.
В коридоре, в дверях, я столкнулся с Фатимой, на миг прильнул к ней, напоролся на ее тугие соски, уколовшие, как гвозди.
– О, извините, коллега, дверь! – объяснил я.
Она пыхнула на меня откровенным взглядом:
– Да, дверь, я понимаю…
Раиса как вошла, так и замерла у стены. Фрау Грюн приветливо улыбнулась ей, но та не прореагировала, стояла как мумия в очках.
– Скажите ей, что мы хотим ей только помочь. Пусть не нервничает.
Я перевел. Но никакого результата – та же застывшая маска, дрожание крысиного хвостика-косички.
– О, какие руки ледяные!.. Мне через перчатки рукам холодно!.. Скажите ей, пусть она так не волнуется, расслабится. Здесь ее никто не обидит.
Но Раиса и на это не обратила внимания – как деревянная стояла у стены, сгорбившись и уйдя в себя.
– Замужем она? Дети есть? Семья? Родные? – чтобы разговорить ее, спросила фрау Грюн.
Раиса, буркнув:
– Мужа нема, хлопец при родах помер, – опять застыла в столбняке.
Когда с фото и отпечатками было покончено, я коротко пробежался по анкетным данным. Все было правильно, только она предложила приписать девичью фамилию – Бекмурзаева, но фрау Грюн сказала, что все это можно рассказать во время беседы, а сейчас пора идти к Марку.
– У него прошла язва? – спросил я ее.
– Она у него никогда не пройдет, – отозвалась фрау Грюн. – Вот и наша красавица Фатима своих клиентов привела.
Когда мы выходили, то в дверях я опять налетел на Фатиму, но буфера предотвратили смертельный исход столкновения…
– Извините, коллега, дверь узкая! – сказал я, на что Фатима, поправляя бретельку на медовом плече, понимающе улыбнулась:
– Понимаю. Та дверь тугая. Эта – узкая. Какая будет следующая?
– Дверь в рай, – сказал я уже из коридора.
– Рай для всех разный, – задорно отозвалась она, пропуская двух марокканок (в платках по глаза и в одинаковых темных хламидах).
Мы направились к лестнице. Раиса понуро плелась сзади. На втором этаже, под свист и дрист неисправной кофеварки мы подошли к кабинету Марка. Дверь открыта, но самого хозяина нет. Мы потоптались у двери. Вдруг из мужского туалета появился Марк. Выпучив на нас свои рачьи глаза, он почему-то смутился и нервно распахнул дверь:
– Вход для всех открыт, – а мне добавил: – Простуда отпустила, теперь желудок стал барахлить. Пять разных таблеток выпил – не помогает. Да еще и жара эта невыносимая… – (Он был в дурацкой детской распашонке с Микки-Маусом, шортах и шлепанцах на босу ногу – козырька от солнца не хватало.)
Под джазово-поносные всхлипы кофеварки мы втроем гуськом вошли в кабинет. Марк юркнул в кресло, открыл папку, пробежался по данным.
– Так… Аргун. Это что, Чечня?.. Очередная чеченка?… Эта Чечня что, резиновая?.. Сколько там людей проживало?.. Все лагеря Европы чеченцами забиты. А вы, сударыня, знаете, сколько человек жило на вашей родине? – сверкнул он очками в сторону Раисы, одновременно пододвигая к себе какую-то брошюру и заглядывая в не.
– А?.. Хто?.. Каких чеченцев, где жил?.. – не поняла Раиса, отупело уставясь на Марка (не выпуская из рук сумки, она присела на край стула да так и застыла).
Марк строго посмотрел на нее:
– Вы удобнее садитесь. Разговор у нас будет долгий. Ну, так сколько же, примерно?
– Ну, тысяч пятьдесят… – онемело ответила Раиса. – Откуда я знаю?
– Пятьдесят? – с иронией посмотрел на нее Марк. – Вы что-то очень свой народ сократили… Еще до полной реабилитации, в 1958 году, в Чечне проживало около семисот тысяч, а сколько еще потом вернулось! – отчеканил он, поглядывая одним глазом в брошюру. – Ну, а флаг вашей родины вы можете описать? Или изобразить? Нарисуйте, пожалуйста, вон бумага…
Раиса изобразила что-то, похожее на кривое футбольное поле с птичьего полета.
– Неправильно. А что изображено на флаге?
– На ем?.. Это, там, как… Луна с собакой… Не, со звездами…
– Никаких звезд и собак, уважаемая. Мы все знаем! – прихлопнул он по брошюре ладошкой. – Между прочим, как называют себя ваши люди между собой?
– Ну как? – удивилась Раиса, вскидывая роговые очки (рука – в пятнах, заусенцах, с обломанными ногтями). – Чеченцы?.. Себя?.. А, вот так: «Здравствуй, брат!» Вот. «Брат» говорят.
Марк скептически скривился:
– К какому тейпу принадлежит ваш президент Дудаев?
Этого Раиса тоже не знала. Марк отодвинул брошюру и, взяв микрофон, сказал в него:
– Прошу вас назвать честно вашу фамилию, имя, год и место рождения, гражданство.
Раиса серыми губами повторила свои данные, добавив полушепотом:
– Девичья фамилия – Бекмурзаева.
– Что такое? – вытаращился на нее Марк. – Так вы хотите сказать, что вы не только жили в Чечне, но и по национальности чеченка?
– Да. Лапицкая я по мужу. А так – Бекмурзаева.
– И родились в чеченской семье?
– Да.
– Посчитайте до десяти по-чеченски.
Раиса запнулась, потеребила и потискала сумку. Косичка дрогнула.
– Чеченский язык не знаю, мать русская была, в семье по-русски говорили, – выпалила она вдруг.
Марк остановил ее:
– Мало ли что в семье по-русски говорили. Вы, по вашим словам, родились и жили всю жизнь в Чечне?.. Как же до десяти посчитать не можете?.. Даже негр, если у эскимосов жить будет, до десяти считать научится по-эскимосски. Как у вас называются ваши родовые объединения?.. Тейп? Тукхум? Не знаете? Как по-чеченски «мать», «отец», «хлеб», «деньги», «сестра», «вода», «соль», «нож», «вилка», «ложка»? – опять косясь в брошюру, спросил он.
Раиса начала издавать какие-то нечленораздельные звуки, мало похожие на слова, причем ее явное южнорусское или украинское хаканье стало выпирать сильнее.
– Все неправильно. Ничего не знаете. Никогда там не жили и даже проездом не были, – заключил жестко Марк (а у меня тихо спросил, есть ли у нее чеченский акцент, на что я пожал плечами: «Пока не очень слышен»).
– Ну, почему вы так ховорите, людям не верите? – пискнула было Раиса, но Марк напустился на нее:
– А как же верить, если вы лжете?..
– Не брешу, я там жила, – упрямо ответила Раиса, а Марк продиктовал в микрофон:
– Беженец ни на один из краеведческих и лингвистических вопросов ответить не может. Где вообще ваш паспорт?
Раиса, как бы проснувшись от спячки, прошептала:
– Потеряла. Еще в 94-м, в бомбежке…
– Когда-когда? – сверкнул на нее очками Марк. – Вы что же, хотите сказать, что с 94-го года живете в Чечне без документов?
– Было удостоверение беженца. В лагере дали в Ингушетии.
– А где оно сейчас? Украли?
– Пропало.
– А сюда как приехали? У вас была виза?
– Да.
– А где же эта проклятая виза стояла, если паспорта нет?.. У меня на лбу, что ли? – разъярился Марк. – Как может быть, чтоб виза была, а паспорта не было?
Раиса, прикрыв глаза, тихо сказала:
– Паспорт был. В Москве сделали паспорт и визу, отдали водителю автобуса, он через храницы перевез, а потом мне не отдал…
– Что за ересь?.. Какой водитель какого автобуса? Я ничего не понимаю. Уточните, что она говорит, – попросил меня Марк и добавил: – И спросите, кстати, все ли у нее в порядке с психикой. Всякое бывает. Что-то совсем глупое несет.
Я тронул Раису за руку – она открыла глаза:
– Вот немец не понимает, что это за история с паспортом. Да и я тоже, признаться. Как это – паспорт был у водителя? Что за автобус?
Раиса бессмысленно смотрела на меня, повторяя:
– Ну, як же? Вот так, как было. Водителю автобуса чеченская диаспора дала паспорт, сказала, эту женщину – ну, меня – через границы перевезешь… А потом он паспорт мне почему-то не вернул, в туалете на бензоколонке меня оставил. Я вышла – а автобуса нема…
Марк потер налысо обритую голову, набрал номер и о чем-то тихо попросил, а в микрофон продиктовал официальный вопрос:
– Когда и где вы потеряли ваши документы?
– На войне. Мужа убили. По подвалам жила. Потом в лагерь посадили. В подвал. – Она всхлипнула и чмокнула пересохшими губами. – Били, насиловали, издевались. Потом в другой лагерь перевезли. Там еще хуже били, насиловали, издевались… Вся сива стала… Вот! – Раиса дернула себя за косичку и продолжала жестяным голосом раскручивать какую-то несусветицу: – Из лахерю бежали, в Новгород прибежали. Там жили, в мусорах копалися, оттуда в Москву перебралися, в подвалах ютилися, по помойкам рылися. Все в побеге, в перебехе, всех ищут, все без бумаг… В Москве незнакомые чеченцы помохли, купили паспорт, визу и сюда послали: «Езжай, говорят, Раиса, отдохни, ты много хоря видела»… Паспорт водителю дали, чтоб надежнее было. Я лично этого паспорта и в хлаза не видела… А водитель, хад, паспорт украл и уехал… Мафии отвез, наверно… – (Я вполголоса переводил сразу за ней, а Марк с опасливой настороженностью за ней следил, бормоча: «Боже, что за бред она несет?»)
В этот момент открылась дверь, под саксофонное хлюпанье кофеварки вошел Зигги и положил перед Марком на стол гибкую бумажку факса. Пока мы с ним перекидывались какделами и всехорошоми, Марк внимательно читал факс, и лицо его светлело от удивления. Зигги вышел, а Марк, не спеша сложив факс, прихлопнул его рукой, некоторое время сверлил Раису взглядом и наконец торжественно-зловеще произнес:
– Ну, вот и все. Ваша песенка спета, а дело решено. Негативно.
Раиса выпучилась на него (крысиный хвостик мелко задрожал):
– Что?.. Почему?.. Хто?.. – Она в ужасе смотрела то на Марка, то на меня, но я, тоже мало что понимая, пожал плечами.
– Вы, уважаемая сударыня, живете отнюдь не в Чечне, а на Украине, в Донецкой области, село Чутово, Красноармейская, 10. Вы – украинская гражданка. И визу вам выдали в Киеве, в немецком посольстве, 2 июня сего года. Сейчас двадцать первый век, все можно проверить, не выходя из кабинета… Так что вся ваша постыдная ложь открыта. А через пару часов мы получим и фотографии, которые вы там, на Украине, в посольство сдавали. Жаль, очень жаль, что отпечатки пальцев не берут у всех, кому визу выдают. Много легче было бы эти потоки контролировать и проверять. Да дурацкая демократия не позволяет, – добавил он мне. – Ну ничего, правда и так на свет выходит. У лжи не только короткие, но и кривые, слабые ноги. Теперь говорите, где ваш паспорт.
– Нету, пропал.
Марк злобно ощерился:
– Объясните этой женщине, что сейчас, когда все открылось, такое ребяческое запирательство уже не имеет никакого смысла. Нам известно, кто она. Вопрос депортации – дело времени. Лучше пусть вытащит паспорт. Для нее же будет лучше спокойно уехать домой. Если надо – мы ей и билет купим, и еще 100 марок карманных денег дадим на дорогу. Чего еще?
Я перевел, на что Раиса мотнула головой:
– Да нету, правда. Хоть обыщите, нету.
– Обыскать? – взвился Марк. – Вы хотите, чтобы вас обыскали?.. Очень хорошо. Выложите, пожалуйста, содержимое вашей сумки на стол!.. – приказал он ледяным тоном. – Я уверен, что паспорт там.
– Он шуткует? – спросила меня Раиса.
– Нет, не шутит. В экстренных случаях они могут это делать.
Раиса со вздохом начала выгребать из сумки мелкие вещи. Кошелек грозил соскользнуть на пол, я хотел поправить его, но Марк, крикнув:
– Не трогайте! Переводчик абсолютно нейтрален! Только я имею право! – через стол поворошил карандашом предметы. Блокнотик, тощая драная косметичка, ручки, красная и черная, заколка для волос, аптекарская резинка, бумажки, листки, затертые магазинные чеки… – А вон это что?.. Дайте сюда! – указал он мне на мелко исписанный лист бумаги, я подал, он пару секунд смотрел в него, потом поднял на меня счастливые глаза и торжественно сказал: – Знаете, что это?.. Это версия ее наглой лжи, вот что это! Сценарий, легенда, шпаргалка! Поглядите, разве я неправ?
И передал мне листок, где и правда мелким шпаргалочным почерком была написана вымышленная биография Раисы, а цифры, для более легкого заучивания, выделены красной пастой (обе ручки лежат тут же).
– Разве вы читаете по-русски? – удивился я его нюху, уйдя от прямого ответа.
– А вы даты посмотрите – рождение, школа, война… Совпадают с теми, что она говорит. Зачем человеку свои даты записывать? Он их и так помнит. Опыт показывает, что беженцы часто шпаргалки с собой таскают. Опыт, мой дорогой, опыт, – довольный собой, проговорил Марк (он на глазах становился дружелюбнее, что бывало с ним всегда, когда главная часть дела была позади).
– Я думаю, этот важный документ следует перевести, не так ли? – сказал я ему, указывая на листок.
– Совершенно верно. Вот вы и переведите. Лишний пфенниг никогда не помешает. Ну, дальше. Я уверен, что паспорт лежит на самом дне…
Раиса не двигалась, охватив сумку руками.
– Дайте сюда сумку! – приказал Марк.
Я передал ему сумку, показавшуюся слишком тяжелой. Тот залез в нее и с изумлением вытащил сетку картошки, кило на два-три.
– Боже, что это?.. Откуда?.. Зачем?..
Раиса, опустив голову, что-то шепнула. Марк, качая головой и приговаривая:
– Разное видел, но чтоб картошку носить?.. – поворошил картошку, паспорта не нашел, отложил сетку, потом высыпал из сумки последние предметы: две помятые игральные карты, клочок ваты, потертые бумажки, шелуху от семечек, монетки.
Вороша этот мусор, Марк кратко объяснил мне, что подобный мусор можно найти в сумочке каждой женщины и объяснено Фрейдом самим строением женских половых органов: тащить в себя все, что ни попадя, в то время как мужчина стремится все из себя вытряхнуть.
Я согласился:
– У меня в карманах всегда пусто.
– Вот видите! А у них сумочки всегда всякой дрянью набиты…
– С одной стороны – Фрейд, с другой – жадность? – предположил я.
– Очень возможно, – согласился он, ковыряясь карандашом в бумажках.
Основательно поворошив кучку карандашом и особенно внимательно рассмотрев ветхие бумажки, он нацепил резиновые перчатки и уложил все обратно в сумку, не дав Раисе помочь ему:
– Нет, не беспокойтесь, я сам! – Потом, порывшись в столе, вытащил пластиковый пакет, запихнул туда картошку и передал Раисе: – Так вам будет удобнее.
Потом он встал, выпил таблетку, прошелся по кабинету, потянулся и от окна произнес:
– Теперь подведем итоги. Как выяснилось, вы – злостная злоумышленница, которая воспользовалась добротой и гостеприимством Германии и решила нас обмануть. Ваши поступки уголовно наказуемы…
И Марк строго посмотрел на Раису (та съёженно, без движений оцепенело уставилась ему в лоб). Он выдержал значительную паузу и продолжил, размеренно и внятно:
– В Германии уголовно наказуемы следующие ваши деяния. Первое – мошенничество, выдача себя за другое лицо. Второе – подлог, для которого есть даже вещественные доказательства. – (Он кивнул на лист с ложной черно-красной биографией.) – Третье – обман, утаивание паспорта, который у вас, без сомнения, есть. Теперь я постараюсь кратко обрисовать возможные последствия ваших художеств. Есть два выхода, две дороги. Одна – нормальная, тихая и спокойная. И другая – тяжелая, грязная, плохая и очень неприятная. Вы угадываете, о чем я говорю?
– Нет, хде ж… – хрипнула Раиса (она вряд ли вообще что-нибудь уже понимала).
– Хорошая дорога – это если вы сейчас же подпишете отказ от ваших претензий на политубежище и вытащите паспорт. Может быть, и виза даже еще не просрочена. До какого была виза?..
– Не бачила.
– Ну, не имеет значения, на пару дней всегда продлить можно. Вы даете паспорт, мы решаем вопрос с визой, покупаем вам билет до Киева, даем 100 марок на дорогу, после чего вы улетаете подобру-поздорову, так, что ни одна живая душа, кроме меня, переводчика и секретарши, ничего не узнает. Вот это – хорошая дорога. Где паспорт?
– Нету, пропал.
Марк язвительно улыбнулся, пожевал губами, прогулялся до стола, отпил из бутылочки с соской какую-то тягучую дрянь, пробормотал странную фразу («В России – беззаконие, у нас – многозаконие, а в итоге – тот же хаос!..»), опять повернулся к Раисе:
– Значит, паспорта нет? Тогда слушаем вторую дорогу. Вас как злостную беспаспортную мошенницу придется поместить в заведение тюремного типа, где сидят всякие босяки и пропойцы, ждущие депортации. И будете там сидеть месяцы, которые понадобятся для того, чтобы украинский консулат в Берлине выписал вам эрзац-паспорт. А паспорт он выпишет, потому что все ваши данные у нас есть. Но это может длиться долго, очень долго, а в тюрьме сидеть ох как плохо, вот мы с коллегой там как-то были, еле ноги унесли… И самое главное – в конце концов вас все равно депортируют, но тогда все обо всем узнают, а это вряд ли пойдет вам на родине на пользу – попадете во все черные списки. Тогда Кучма покажет вам мать Кузьмы… или как там ваш Хруштшьоф говорил?.. Надо вам все это?.. Вот и решайте. Я не обманываю вас. Можете спросить у переводчика, он подтвердит.
Раиса понуро посмотрела на меня. Я кивнул:
– Да, что-то в этом роде. Ваши данные у них есть. Никуда не деться.
– Ну, тогда мне лучше первое, – выдавила Раиса, а Марк тут же кинулся к столу, схватил бланк отказа, вписал туда номер дела и передал его через меня: – Пусть подпишет!
Раиса дернула жидкой косицей и сделала на бумаге закорючку, а Марк удовлетворенно промурлыкал, расцветая на глазах:
– Хорошо. Главное сделано. Теперь пусть вытаскивает паспорт.
– Нету, – ответила она.
– Это уж совсем глупо, – сказал я ей от себя. – Лучше сделать, как он говорит. Тем более что вы отказались от всего. Они никуда никакой информации не посылают. А если паспорта нет – то им придется писать в украинский консулат. И вот тогда они там, в консулате, увидят, откуда запрос пришел.
– Но шо делать, если правда нету? – Она по-совиному водила головой, хвостик дрожал, руки бегали по сумке.
– Куда же он делся? Улетел?.. Вы же приехали сюда по визе?..
– В Неметчине украли…
Удивляясь ее упрямству, я перевел Марку, что паспорта нет, украли в Германии. Он покачал головой и поморщился:
– Это уже третья ложь: то война, то водитель, то Германия… Объясните ей доходчиво, что ей будет плохо, если она по-хорошему это дело не закончит и не вытащит паспорт. Не даст паспорта – в тюрьме будет сидеть, ждать. А за это время, может быть, и уголовное дело против нее откроют: по подлогу, обману и мошенничеству… Может, и эту картошку украла – кто знает, надо проверить?.. Где чек на картошку?.. Судить будут, а потом уж в настоящую тюрьму переведут…
Раиса сникла и тупо уставилась в стол, на сумку, рядом с которой горбился мешочек с картошкой.
– Ну нема паспорта, шо мне делать? – наконец выдавила она.
Марк пожал плечами, позвонил и попросил послать в украинское консульство бланк об утере паспорта. Потом, положив трубку, спросил:
– Почему она все это на себя вешает?.. Зачем ей это?.. Зачем вообще она приехала?
– Дома житья не было, грошей нема, – пробормотала Раиса.
Марк, услышав ответ, веско ответил:
– Это экономическое беженство! Впрочем, – он потряс бланком отказа, – мы с вами дело закончили. Вами теперь будет заниматься другое ведомство, Ausländeramt. Не хотели по-хорошему, прямым путем – пойдете окольным, ваш выбор. Вон оно тут недалеко, наше районное, из окна даже угол виден… Они и будут теперь решать, что с вами дальше делать. Очень, очень неправильно поступаете, уважаемая. Последний раз спрашиваю – где паспорт?.. Я еще могу позвонить, все остановить, решить по-хорошему…
– Раиса, дайте паспорт, если есть. Он не обманывает, – сказал я.
– Ну нету, можете это понять? Не-ту!
Марк, как Цезарь, поднял руку:
– Довольно. Не хотите ли что-нибудь добавить, заявить?
Раиса подумала и сказала:
– Можно в лагере трохи поробыть, пока в тюрьму отправите?
Марк не понял вопроса:
– Как подработать, где?
– Ну, в лагере, уборщицею или прачкою… Денех чуть-чуть штоб…
Марк с неподдельной жалостью вздохнул:
– Уф, несчастная женщина… О, господи!.. Можете, конечно. Я сейчас напишу коменданту, он распределяет черную работу. – Марк набросал на бумажке несколько предложений. – Вот, обратитесь к господину Кнорру, у него подряды на все стирки-уборки. И все. С нашим ведомством у вас дел больше нет. Мы вот еще заполним бланк об утере паспорта, отошлем – и все, финита. А вы, – сказал он мне, – вместе с ней идите в Ausländeramt. Как они решат – так и будет. Мы свою миссию выполнили. И неплохо, а, коллега? – обратился он ко мне.
– Переводчик абсолютно нейтрален, – ответил я ему. – Это ваши заслуги.
– И, кстати, ваше пребывание в Ausländeramt тоже будет оплачено по тому же тарифу, как и тут, – добавил он.
– Лишний пфенниг никогда не помешает, – резво согласился я.
– Вот именно. Как говорится, деньги не делают счастливым, а вот большие деньги – делают, да еще как. Все это нервов стоит. – Он вылущил пару таблеток и проглотил их с гримасой. – Вот от нервотрепок желудок стал барахлить. Теперь вы с ней идите к Зигги, пусть она подпишет бланк об утере паспорта, а потом идите туда! – И он указал в окно на угол здания, около которого стояли, слонялись и сидели на корточках лица исключительно темно-черного цвета кожи и курчавых волос. – Я сейчас туда позвоню, узнаю, кто там на букву «Л» обрабатывает.
Он поискал номер под стеклом стола, набрал его и, перекинувшись с кем-то добрыйднями и давноневиделисями, сообщил, что сейчас к нему подойдут.
– Идите к господину Рониху. И перевод не забудьте. Я скажу, чтоб оформили в бухгалтерии.
– А обратный перевод протокола? – напомнил я, раз уж речь пошла о пфеннигах.
– Хм, правильно. А может, она отказывается от него? Спросите.
Я спросил у Раисы, хочет ли она слушать текст протокола, как тут обычно делается.
– Мне все равно, – прошептала она.
– Это важный документ, на нем все базируется, – объяснил я.
Она кивнула.
– Да, она хочет, – сообщил я Марку.
– Ну, приходите тогда потом, попозже. А я пока на обеденный перерыв пойду. Кроме творога и сметаны, ничего нельзя.
Я встал. Раиса продолжала сидеть, уронив руки на сумку и картошку.
– Все, Раиса. Тут дело кончено. Надо идти, – сказал я ей.
– Куды, в тюрьму? – осоловело повела она глазами.
– Нет, до тюрьмы еще далеко. Просто теперь вы поступили в ведение другого ведомства. И ваш статус теперь – беспаспортный иностранец. Дали бы лучше паспорт…
– Нету.
– На нет и суда нет, – опять удивился я упорной тупости Раисы, ощущая жалость к этой измученной женщине с ее картошкой (возможно, и правда где-то украденной) и мечтой поработать уборщицей в лагере, где пачкают и гадят беженцы со всех континентов. От хорошей жизни картошку не тащат и о стирке не мечтают. – Я думаю, что с тюрьмой он переборщил и паспорт вы будете ждать где-нибудь в лагере.
– Вот и харно, подработаю трохи, – обрадовалась она.
Потом мы сидели в Ausländeramt, ждали с обеда Рониха. Раиса сняла резинку с косицы, растрясла волосы. Резинка – черная, советская, аптекарская, грубая. На стеклах очков – перхоть и черные пылинки. Взгляд направлен в себя. Раиса поникла, пожухла, сгорбилась и молча колупала ногтем скамейку.
Потом явился жизнерадостный толстячок Роних. Он тоже не знал, что делать с Раисой: спрашивал о паспорте, совещался с двумя полицейскими, которые привели какого-то заморыша в наручниках и ждали в коридоре. Они сказали Рониху, что лучше всего, конечно, было бы обыскать комнату этой женщины и найти паспорт, но без санкции прокурора это невозможно сделать. Роних возразил, что в особо экстренных случаях можно поручить это дело коменданту лагеря. Полицейские ответили, что это их не касается и без санкции прокурора они ничего обыскивать не будут.
В конце концов Роних приказал Раисе сняться на паспорт и прийти завтра с четырьмя фотографиями, а там посмотрим. На этом мы разошлись в разные стороны. А в поезде я перечитал данную мне для перевода шпаргалку жизни, найденную у Раисы. И на душе стало еще хуже и тоскливее. И не оттого, что это была сплошная ложь, а оттого, что ее реальная жизнь была наверняка не слаще этой лжи.
Письмо королеве
Вот и лето проходит. Да и что за лето было?.. Разве это лето?.. Дрянь какая-то. Помесь белых ночей с черными днями… А вредные синоптики по ТВ пытаются хорошие мины при плохой игре делать. Что им, бедным, остается? Как людям правду сказать и при этом настроения не испортить, чтобы люди в сердцах канал не переключали и рейтинг поддерживали?.. Вот они и идут на ухищрения. Им за это деньги платят. Один толстомордый синоптик с программы RTL мне особенно на нервы действует. Не только я – вся Германия эту «погодную лягушку»[60] ненавидит: как его на экране увидят – знают, что сейчас дождь пойдет, а завтра ливень будет идти, и послезавтра, и всегда…
Рожа у этого синоптика сугубо жабья: щеки – как две упитанные ягодицы (по-немецки: «Po-Backen», «жопьи щеки»). Жабоморда, короче. Его все ненавидят, а он старается свой сглаз сгладить, особые штучки придумывает. То морковок натрет перед камерой – «мол, ничего, что холодно, принимайте витамины!» То шубу на пляже напялит – «с шубой жить можно!» То каких-то людей на улице глупыми вопросами донимает. То с детьми в песочнице кувыркается. На мусорных бочках собак рассадит и интервью у них берет. Или на голову козлиный колпак нацепит – старушек пугать. В общем, помесь веселого идиота с игривым дебилом. Терпеть не могу этого синоптика. Да и всяких других синоптиков – тоже. Если плохая погода – скажи честно, прямо, по-человечески, а чего кривляться, как клоун?.. Это только папуасы разными действами солнце вызывают, зная от предков, что без человеческой жертвы не обойтись. Но кто тебе даст? Солнце богу самому нужно – на седьмом небе темно, холодно и пусто. А лучше всего было бы этого синоптика самого за жопьи жабры – и на алтарь, в жертву какому-нибудь богу Какайкакя, кривым кинжалом горло перерезать и сердце вырвать, больше пользы будет. Да демократия не позволяет.
Я вообще много чего не люблю, характер такой мерзкий. И чем дальше – тем хуже. Макароны, например, терпеть не могу. Душу воротит от мотоциклистов. Вид беременных женщин тошноту вызывает (в прямом смысле). Всяких лысых пейджеристов-интернетчиков не перевариваю. Цифры, формулы и графики тоску наводят. Ко всяким филососам, мутотень на плетень наводящим, тоже почтенья нет. Попов и святош презираю. Педофилов-пасторов придушил бы своими руками. Шумных оптимистов не выношу. Голодные поэты-птичкуны на нервы действуют.
А среди поэтов самые главные долбоебы – это мудаки-песенники. Недавно на вернисаже одна борода в свитере привязалась: «Ах, тише, пожалуйста, человек же поет!.. Да вы авторскую песню не уважаете, стыдно!.. Каждый интеллигентный человек должен уважать авторскую песню!.. Это выставка, а не балаган и не рюмочная!.. Не надо топать по вернисажу!» – «Верни?.. Сажу?.. Я у тебя сажи не брал!.. – отвечаю. – И плевать я хотел с большой горы на твою авторскую песню и на твои костры с мандавошками!.. Надо тебе в тайге комаров кормить – иди, но зачем другим свою глупость навязывать?..» Борода начала хорохориться – и получила пирожками по мозгам (потом за разбитое блюдо платить пришлось). Таких вот козлов на дух не переношу. Жлобоморы! Их надо лоботомией лечить – может, затихнут?! Ведь свое мнение навязывать – то же самое, что в скрипучих сапогах по трескучему паркету ходить. Любишь походы и хлеб с гнильцой – ходи, а других зачем гнать?.. И пусть у меня тело с дрябцой, зато у тебя башка с дурцой!
Еще к недалеким бездельникам-охотникам с недоверием и большим предубеждением отношусь: надо тебе зайчатины – пойди и купи, чего живую душу губить?.. А рыбаки – те совсем примитивы, вроде своих червей, их мозгов только на сидение и глядение в одну точку хватает. Я лично между сидением и стоянием всегда выбираю лежание.
Спорт особое омерзение вызывает. У спортсменов явно не те лобные доли развиты. Спортсмен – это уже самый низ эволюции. Ниже – одни кистеперые, моллюски, землеройки, черви, медузы и гидры. А хуже спортсменов – только математики. Особенно космические, которые миллиарды народных денег во Вселенную усылают – эти очень опасны. Чуть что – летим на Марс!.. А чего на этом недоделанном Марсе не видели?.. Что на ебанутом пустом Плутоне потеряли?.. Нет, надо им обязательно там зонд поставить. Или дощечку к скале прибить, чтоб марсианские сороконожки прочли, кто и когда на этот Марс прилетал, сколько экспедиция стоила, а «Кока-кола» главным спонсором была. Нужна эта информация сороконожкам, как собаке пятая нога. Там глаз нету. И камни читать не умеют.
Нет, полетят, пороются в грязи, насобирают всякой дряни, молотками скалы обдолбят, экологию порушат – и назад, факты обобщать. Как будто им в их жлобоскопы плохо видно, что Марс этот – сух и глух, и жизни там нет, одни смерчи и бури. Еще Галилей поглядел и сказал: «Нету ничего, понт, дохлая планета». Так нет же, Галилею не верят. Особенно американцы, от мирового господства разбухшие, стараются. Им бабки девать некуда, вот и летают, барыги проклятые, ищут рынки сбыта. Хотят в космосе зондов и антенн понаставить, чтоб всю Землю оккупировать, с неба ею управлять и всю нефть себе забрать. Раньше собак и крыс с собой в ракеты брали, теперь блядей возят: надо же узнать, как в вакууме оргазм протекает, куда сперма плывет и каково минетом в гермошлемах заниматься. Долетаются, завезут какую-нибудь венерическую гадость с Марса – а зачем?.. На Земле и своей хватает, чужой не надо, фак ю вери мач… Или «сак ю»?..
Да, надо бы английский подучить, чтобы приказы с неба понимать… Тем более, что скоро мировое господство Америки ожидается – мой сосед-Монстрадамус конкретно пророчит, что-де уже давно создан тайный план «Pax Americana», куда входит захват Южной Америки, Ближнего Востока и Северной Африки, сталкивание шиитов и суннитов, племен и народов, раздробление стран через создание бандитских оппозиций, снабжение этих бандюг оружием, засылки десантов, ставки на недовольные меньшинства, раздувание национальной розни, и вся эта подлость под красивыми лозунгами – «принуждение к миру», «защита мирного населения», «защитный щит», «строительство демократии» и т. д. Может быть, я ему верю.
А вот несчастные археологи, к примеру, безобидны. У них, бедных и убогих, размаху нет – одни черепки и монетки. Нашли черепок – теория. Накопали монеток – гипотеза (известно, что древние только на горшках сидели и монеты разбрасывали). Кусок вяленой мамонтовой задницы из вечной мерзлоты вырубят – давай новые карты мира кроить. Или обнаружат где-нибудь ломаную челюсть (дал грубый неандертал тихому кроманьону по кумполу, чего не бывает) – тут же пути расселения человечества менять. Археология – это псевдонаука, которая меняется с каждым днем, с каждой новой находкой. И чем глубже будут они в свой гранит вгрызаться – тем меньше понимать. А как до магмы дойдут – так совсем с ума сойдут: покажет им сатана, где потоп утоп и ковчег каюкнулся, будут помнить… Берегись, ученый!.. Магма – не смагма, а вулкан – не диван! Обожжешься о жгучие тайны – никакой Ухогорлонос не поможет!
Антропологи тоже не лучше: все люди, мол, пришли из Африки. А если все люди пришли из Африки, то как это они все по дороге побелели, пожелтели и покраснели, а негры на месте остались черными? Поленились? Проспали, лентяи? Или они вечным загаром покрылись? И где вообще черепа тех горилл, которые миллионами лет в человека превращались?.. Обезьяньих бошек – навалом, человеческих черепов – завались, выше крыши, девать некуда, а переходных – нету. Ну ни одного нет. Что, за один день череп от мозга взбух?.. Где черепа двух миллионов лет антропогенеза?.. Пусто. Не нашли еще, говорят. Ну ладно, ищите, попутного ветра, синяя птица!.. Дороетесь до сатаны, потом поздно будет, да кто слушает?.. Как об стенку горох, который лучше китайцу в суп, чем на вас тратить!
В общем, что делать – не знаю. Глуп, как самый последний археолог, стал. Совсем в своей ныре объешачился. Правильно люди говорят, что художник должен быть глуп. Я бы сказал – лучше, чтобы полный идиот. Я и художников мало люблю, прока от них никакого – одни склоки, пьянки и драки. Да что ты думаешь, я себя люблю?.. Себя я еще в детстве разлюбил. Так, терплю, а что делать?.. У меня вообще левое полушарие не знает, что делает правое, а все части тела по своим законам живут. Но все равно жизнь очень люблю, только не во всех ее проявлениях, нет, не во всех. Ведь чего только не бывает?! В больнице слышал, как одному панку (во время пикника на мусорной свалке) в ухо новорожденный слизнячок забрался. Проник в мозг и стал там жить. Панк головной болью мучается, ни пивом, ни героином снять не может. Сделали рентген – и врачи в обморок попадали, увидев, что опухоль жива! За лобной костью угнездилась и рожками шевелит. Ну, голову сразу распилили, улитку вынули (сейчас у панка в банке живет), голову обратно спецклеем склеили. Теперь не болит больше. Вот на что я врачей не люблю, но и от них в редких случаях (если сразу не убьют) польза бывает. А зачем такая вещь случилась – ответить не берусь. Фатум, случай или судьба – выбирай, что больше нравится.
Напоследок попрошу тебя, родной, выслать мне бандеролью пачку лезвий, самых опасных, «Балтика» или «Спутник». Тут таких уже давно в продаже нет. А мне надо – брови подправлять. Что-то густо стали расти в последнее время. Брился – вижу, как у Брежнева, топорщатся. Хотел волоски срезать, махнул по ним «Жил-летом», а он же с тремя лезвиями – полброви и снес. Хорошо еще, что глазное яблоко не рассеклось. Сейчас вид диковатый, как у Билла Гейтса, а так ничего, куда хуже могло быть.
А знаешь ли ты, кстати, почему миллионеры все так худы, плохо одеты и в трамваях ездят?.. Потому что им одного сознания своего могущества хватает. К примеру, едет голодный Билл Гейтс по улице, видит пиццерию, думает: «Я не только пиццу – всю пиццерию с поварами купить могу!» И от этого у него на душе сразу рай воцаряется, одним сознанием накормлен. Видит женщину – отворачивается: «Все – мои, куда спешить, не лучше ли о здоровье своем подумать?» И прав: когда много денег – жалко умирать, особенно если ничего еще не успел поесть, попить и потискать.
А так – весь мировой балаган своим чередом катит. Вот, кстати, нобелевская премия столетие отмечать готовится. Раздадут дармоедам-ученым омытые кровью деньги динамитчика Нобеля. Такой лицемерной премии второй на свете нет! Сам Нобель, убивший своим изобретением уже миллионов двести, выразил желание, чтобы премия давалась за «сплочение народов, уничтожение рабства, сокращение армий и содействие миру». Изящно!.. Мечта близка к осуществлению: с помощью динамита в братских могилах уже полчеловечества сплочено, половина армий перебито, дело за второй половиной. Недавно премию мира безумному мяснику Арафату дали – очевидно, за то, что динамит народным продуктом сделал и в потребительскую корзину средней палестинской семьи надолго ввел. На очереди Саддам Хусейн: он динамит тоже любит, много его закупает и нобелевский фонд значительно пополняет. Спасибо ему, как не дать?.. И Сталину, посмертно, не помешало бы – кто больше него сплачивал, уплотнял, сбивал, сколачивал и прессовал своих непослушных детей?..
Темы у нобелевских лауреатов тоже все какие-то странные пошли. В прошлом году одного ученого премировали за монументальный труд «Большое веселье в малых группах школьников». Другого астрофизика наградили за то, что толково объяснил, почему занавеска в ванной при мастурбации к телу липнет. Особой премии удостоился объемный труд «Расчеты оптимального времени намокания печенья при макании его в чай». Медики взяли свое за монографию «Избавление от икоты с помощью прямого массажа прямой кишки». Литературный куш отхватил аргентинец, пишущий на санскрите о проблемах Тринидада и Тобаго. А за поэзию дали алеуту, всю жизнь воспевавшему красоты Сахары. Вот тебе, родной, в этом году премии как своих ушей не видать. А поэт с острова Пасхи обязательно получит, если только с пальмы сойти соизволит, до Стокгольма вплавь доберется, под машины не попадет, а перед награждением белую бабочку вместо шеи на свой черный пенис не натянет.
Если уж о смокингах речь зашла, расскажу, как дама в бархатном платье в лагерь явилась. Недавно вызвали переводить: «Тут, – говорят, – дама в вечернем бархатном туалете пожаловала, как будто прямо из оперы!» – что меня уже не удивило, от бывсовлюда чего угодно ожидать можно: и бархата, и мини, и макси. Широк бывсовлюд, и сузить пока никак не удается.
Привратник Бирбаух говорил по телефону что-то гневное типа кто народ спрашивает, народ молчит и спину гнет, знает, что все равно правительство всех оберет, сами же шутят: чтобы ограбить банк, не нужны пистолеты, надо только его управляющим стать:
– Отцы города!.. Бургомистры!.. Они главные воры! – он возмущенно потряс в воздухе жирными лапищами, а потом, прижав трубку плечом к уху, стал вытаскивать из папки обходной и заполнять его для меня. – Помнишь сказку про Крысолова из Гамельна?.. Чиновники его наняли, чтоб он их от крыс избавил. Он крыс своей дудочкой увел. И что же?.. Они ему не платят! Говорят, за игру на дудочке таких денег платить не будем! Хорошо! Не будете – посмотрим! И он дудочкой уводит всех их детей! Очнулись богачи – а поздно! Нету детей! Так что скажи своему шефу, пусть вовремя платит, чтоб как те гамельнцы не оказаться! – взяв лист, слышал я его ворчанье, пока шел по коридору.
В комнате переводчиков Рахим и какой-то китаец (в сильных очках, с изрядным брюшком и розовой плешью) разглядывают на столе журнал.
– Вот и вот, правильно, так… Отсюда – туда… Оттуда – сюда… – бормотали они, авторучками прослеживая что-то на странице.
– Чем заняты, коллеги? Порнография? – заглянул я через их плечи. Заголовок: «Контрабанда людьми». Столбцы данных, диаграммы, схемы, карта Европы в стрелках и пунктирах.
– Пути беженцев. Коллега Шу журнал принес, – сказал Рахим. – Не знакомы?.. Наша Линь Минь больна, он ее заменяет. Доктор Шу! Работает в университете в Дортмунде. Преподает китайский язык. И отлично знает немецкий и французский, – добавил он с уважением.
Коллега Шу дружелюбно заулыбался, показывая стальные зубы. Вместо глаз сквозь толстые линзы были видны лишь темные прорези. Плешь и плюшевое брюшко показывали, что в Европе он уже давно (в естественных условиях плешивые, толстые и плоховидящие китайцы не выживают).
– В поезде купил. А там статья о беженцах, кто, как и куда бежит, что сколько стоит и кто это все организует… – По-немецки д-р Шу говорил внятно, без бубенцов и пищалок, не то что старая карга Линь Минь, мечтающая о Сибири.
– Что за журнал? – склонился я вместе с ними над разворотом.
– «Focus», № 37 за 2001 год.
На развороте – карта Европы. Стрелками – сухопутные пути. Пунктиром – водные. Точками – воздушные трассы. Все стрелки и пунктиры ведут с востока, из Азии, на запад, в Европу. Перевалочные пункты: Москва, Киев, Минск, Белград, Стамбул. Вот жирные стрелки «сибирского маршрута» – из Китая, Пакистана, Афгана, Индии. Ниже – «балканский маршрут»: морем, в обход Греции и Италии, и сушей, через Стамбул и Белград. Южнее – «магрибский маршрут» – путь алжирцев, марокканцев, египтян и других африканцев. Многие стрелки и пунктиры тянутся до самой Англии и замыкаются на ней. Тут же и цены в долларах, сколько стоит перекинуть человека в Западную Европу: из Китая – пятнадцать тысяч долларов, из Афгана – десять тысяч, из Ирана, Палестины, Ирака – по пять тысяч, из Турции – три тысячи, из Венгрии – полторы тысячи, из Греции – тысяча, из Чехии – сто.
– Ну и дешевизна в Чехии! – засмеялся Рахим. – Сто долларов! Как на базар сходить!
– А тут вот про бывший Союз, – указал пальчиком д-р Шу и прочел вслух: «По данным немецкой разведки, в треугольнике Москва-Киев-Минск около двух миллионов нелегалов из Китая, Бангладеш, Афганистана, Пакистана и Африки ожидают возможности проникнуть на территорию ЕС»…
– Доброе утро! – слышим мы от стоящего в дверях воздушного существа с озорной прической, в широких слаксах-клешах, с челочкой на лбу. – Я – Изабель, практикантка! Буду заниматься отпечатками и фото.
И она грациозно протянула гибкую ладонь. От волос веет шампунем, от тела – здоровьем. Блузка ощутимо дыбится на упрямых грудках.
– Значит, вы тут на учебной практике? – любезно уточнил д-р Шу.
– Да, я ацуби, – произнесла она ласковое загадочное слово, от которого нежность разлилась по всему телу.
– Кто это такие – волшебные ацуби? Они плавают в морях или живут на скалах? Летают как птицы или сидят на облаках с богами? – спросил я, задерживая в своей руке ее узкую ладошку.
– Нет, нет, все гораздо проще! – засмеялась она. – Ацуби[61] – это сокращенное слово, это тот, кто учится.
Мы стояли, глядя на нее, как гномы на Белоснежку. Она в замешательстве перебирала папки:
– Вот Ирак, вот Китай… А Россию – забыла!.. Сейчас принесу! – И упорхнула прочь.
Рахим прерывисто вздохнул, присев на стул:
– За такую и жизнь отдать не жаль…
Д-р Шу печальным кивком подтвердил его слова.
Ему-то уж контакт с этой Ацуби светил в самую последнюю очередь. Да и наши шансы невелики. Что она потеряла со стариками?.. Ей лет двадцать с небольшим. У нее наверняка есть спортивный парень на быстрой машине в модной одежде. Таким везде дорога. А что ей глупые старикашки-толмачи со стальными зубами и мировой тоской в глазах?..
Вот легкие шажки. Ацуби появилась с недостающим делом. Передав мне папку, она пошла открывать музгостиную. Мы потянулись за ней и, как три истукана, глазели на ее худые ключицы и вихры на затылке. Она была значительно выше д-ра Шу, и он с уважением поглядывал на эту белую молодую женщину – нежное создание, не в пример кобыльим негритянкам или жестким тайкам. «Белые женщины по деревьям не лазают и рис в грязи не собирают. Эти богини живут, чтобы радовать белых людей», – наверняка думал д-р Шу, печально почесывая одновременно плешь и брюшко.
Ацуби неумело налаживала станок, неуклюже мазала на него краску. Д-р Шу услужливо помогал ей включать поляроид и щелкать кнопками компьютера (ацуби – на то и ацуби, что должна всему учиться). Поглядывая кругом живыми глазами, натягивая перчатки на свои юные, еще не испоганенные жизнью руки, она порхала по комнате, иногда украдкой заглядывая в какой-то листок и пряча его потом в карман.
– Шпаргалка? – понял я.
Она мило улыбнулась:
– Да, чтоб ничего не забыть.
– В первый раз все трудно делать, – сказал я, вспоминая, как сам тут сидел в первый раз и фрау Грюн учила меня, что надо делать. – Есть даже пословица: мужу изменить трудно только в первый раз, а потом – пошло-поехало!.. Вы тоже так считаете?..
– Я не знаю, у меня мужа еще не было, – ответила она, а д-р Шу сказал:
– Если вы что-нибудь забудете, то мы напомним!
– Спасибо, – пролепетала Ацуби. – Можете вести беженцев!
– Кого первого? – спросил д-р Шу, поглаживая розовую плешь, выжженную изучением иероглифов.
– Давайте с русской дамы начнем, – сказала Ацуби. – Я видела, как она на такси приехала. В приемной сидит, вся красная. Ей, по-моему, плохо. Вы ее сразу узнаете – она такая грузная, полная, в черном бархатном платье…
– В бархатном? – удивился я.
Ацуби пожала плечиками:
– Мало ли что. Вот ее папка.
фамилия: Добрынина
имя: Вера
год рождения: 1939
место рождения: г. Ленинград, Россия
национальность: русская
язык/и: русский
вероисповедание: православие
Заглянув в приемную, я сразу узнал ее – это была одна из тех полных крашеных дебело-добрых женщин (похожих на жен наших генсеков), которые могут быть кем угодно – официантками, продавщицами пива, министрами, врачами, кассиршами, бухгалтерами, приемщицами ателье быта, сторожихами и бандершами. Не первой свежести, но и не последней. Ярко-желтые волосы окрашены ядовитой перекисью. Черное бархатное платье пятьдесят восьмого размера, с блестками и звездочками. Руки в кольцах с яркими камнями. Необъятная грудь. Мощный ствол спины, переходящий в необозримый зад.
– Доброе утро, я ваш переводчик! Как вас по отчеству?
– Вера Денисовна. Ой, хорошо, что вы пришли, слава богу!.. – заколыхалась она, пытаясь встать и смахивая слезы (два курда почтительно помогли ей подняться). – А то я уже сколько дней ни с кем слова сказать не могу!.. Безобразие!.. Всюду унижения, обыски, допросы!.. Со мной, заслуженным врачом, завотделением, профессором, обращаются как с воровкой, как с преступницей!.. – Она возмущенно вытащила из кожаной сумки веер и пару раз обмахнулась. Курды уставились на веер в изумлении. – Все!.. Ничего не хочу!.. Пусть отсылают домой! Хватит, нахлебалась! Достаточно! Для порядочного человека это невыносимо!.. Я уважаемый человек, доклады на конференциях делаю, меня лично академик Сломайносов знает, а они меня третируют, как мошенницу!.. Позор небывалый!.. С полицией в наручниках депортируют!.. – У нее полились слезы, она подтирала их веером, роясь другой рукой в кармане своего вечернего платья.
– Успокойтесь, прошу вас! Откуда вас депортировали? – забеспокоился я и жестом попросил воду у Бирбауха, который глазел на нас из-за решеток своего закутка, как бабуин из клетки. Один китаец побежал за водой.
– Из Бельгии. Там мой сын с семьей в лагере сидит. Я к детям приехала – и вот!.. – Крупнокалиберные слезы пошли обильнее, размазалась краска. Она приняла стакан, отпила пару глотков.
– Вера Денисовна, пойдемте, не надо тут стоять. Вот туалетная комната. Я тут подожду. А потом решим ваши вопросы.
– Спасибо вам большое, я забылась, извините, – прошептала она, утираясь платком, и тяжело, переваливаясь, заковыляла к туалету (из-за тучности ей было явно трудно ходить).
Когда она появилась снова, я предупредил ее:
– Учтите, тут тоже будут снимать отпечатки пальцев. Такое правило. Не реагируйте так нервно на все это. Эту рутину чиновники исполняют, как и всякое поручение. Не вкладывая в это тот смысл, который вкладываем мы, бывшие советские люди: раз отпечатки – значит, сразу в тюрьму!..
Она улыбнулась:
– Да-да, вы правы. Я уже смирилась. Ничего, надо до конца испить всю чашу. Но знаете, за эти несколько дней, что я тут, я стала уважать немцев – они обходятся со мной с уважением, с терпением. Конечно, лагерь – это не отель на берегу моря: грязь, дурные запахи, один душ на весь этаж. Но нет такой злобности, агрессии, как у бельгийцев! Те прямо как с убийцей какой-то обращались!.. Как узнали, что у меня виза на Германию, – сразу вон из страны вышвырнули, даже не успела вещи собрать: руки в наручники – и в машину! На всех постах обыскивали, смеялись, паспорт отобрали… Ужас, кошмар, не могу вам этого описать!.. В Кельн привезли. Завели на жуткий корабль-тюрьму, стоит посреди бухты, а людей в двухместных каютах по шесть человек набито. Я была там сутки, чуть с ума не сошла – чеченка с детьми и я. Да я одна полкаюты занимаю!.. Хорошо еще, что чеченка вежливой оказалась, а дети – воспитанными…
– Прошу вас! – уступил я ей дорогу, когда мы подошли к музгостиной.
– Благодарю вас. – Она спрятала веер и переступила порог, увидела станок для отпечатков, зловещий поляроид, страшный компьютер, резиновые убийцевские перчатки на руках у Ацуби, и по ее полным екатерининским щекам потекли новые слезы: – Опять, опять унижения!.. Сколько можно!
– Это простая формальность.
– Но я не хочу! Я вообще хочу отказаться от всего. Пусть посылают домой. Я этого не выдержу. Да и шансов мизерно мало… Надо смотреть реальности в глаза. Лучше уж с нашими тиунами дело иметь, чем с этими…
– В чем дело? – спросила Ацуби.
Я объяснил (вспоминая по ходу, кто такие эти «тиуны», но так и не вспомнив). Она взглянула в папку и сказала, что как раз отпечатков снимать и не надо – в Кельне уже снимали. А насчет отказа надо сообщить Тилле, он решит, что делать дальше:
– Идите к нему. У него были люди из мусорного ведомства, но, наверное, уже ушли…
– Из какого мусорного ведомства? – не понял я. – Из полиции?
– Почему из полиции? – в свою очередь удивилась она (живые глаза заиграли). – Те, кто наш мусор вывозит. В том числе и бумажный – старые папки, дела, факсы. А это же секретные материалы, спецмусор, его особым способом утилизировать надо, а это дополнительных денег стоит. Вот и спор – кто платить должен: лагерь или министерство! – (Было видно, что ей приятно нам все это объяснять.)
А Рахим, неподвижно стоящий у стены, добавил:
– Разве не знаешь, что Тилле тут главный по таким делам, профсоюзный босс? Отпуска, зарплаты, снабжение, мусор, пенсии, бюллетени – все на нем.
Я этого не знал, но сейчас понял, почему к Тилле так часто заходят люди с разными проблемами. И это очень хорошо. Пока он их решает – можно отдохнуть. Дела идут – контора пишет. В дверях показались молчаливые китайцы, за ними – д-р Шу. Я поглазел напоследок на нежную Ацуби и отправился на второй этаж. Вера Денисовна шумно ковыляла рядом.
Тилле у двери своего кабинета разговаривал с людьми в спецодежде. Тут же на полу стояли ящики с папками.
– Заходите, я сейчас, – указал он на открытую дверь, а сам продолжал обсуждать детали вывоза секретного мусора: надо ли его пропускать через бумагорезку до вывоза или после, на месте?
– Что, тайная информация может уйти? – спросил я его, когда он вернулся и предложил нам сесть.
Отъехав к стене, он распахнул дверцы железного шкафа, сплошь набитого папками:
– Я только жду пенсии, чтобы спокойно и обстоятельно все это описать… Человеческие судьбы, вот они!.. Фантазии, сказки, мечты, факты, детали! Целый роман можно составить!
Вера Денисовна, открыв накрашенный рот, следила за Тилле. Потом поколыхалась, поправила невидимую под бархатом бретельку, положила веер на стол и заявила:
– Скажите, пожалуйста, ему, что я устала, больше не могу и прошу отослать меня обратно в Россию. Денег на билет у меня нет, – покрылась она красными пятнами. – И вообще мне объяснили так: даже если дети получат убежище в Бельгии – их сюда, в Германию, не пустят жить.
– Нет, конечно. Они будут жить там, где получат убежище, – подтвердил Тилле, просматривая дело.
– А если мне тут, в Германии, дадут убежище, то мне в Бельгию нельзя ехать жить?
– Нет. Каждый должен жить там, где он получил убежище.
– Ну и вот, раз уж все так глупо получилось и нам вместе не жить, то я решила, что лучше уж я уеду домой, в Ленинград, а дети пусть остаются здесь, раз все равно не вместе…
Тилле захлопнул папку:
– Ну что же, я только могу приветствовать такое взвешенное решение. Мы во всем поможем. Сразу видно, что культурная женщина, – добавил он тише, для меня.
– Врач, завотделением, профессор! – сказал я.
– Видите, я не ошибся. С культурными людьми легче работать, они все понимают, могут мыслить масштабно и логично.
Когда я передал эти слова Вере Денисовне, она дернулась на стуле (блестки вздрогнули, по бисеру скользнули блики) и с жарким пафосом произнесла:
– Спасибо. Я стала немецкую нацию уважать. Они со мной как с человеком обращаются, а эти злыдни бельгийцы – как с убийцей… – И она опять коротко пустила крупноформатные слезы, закрывшись веером.
– Что? – спросил Тилле. – В чем дело?
– Бельгийцев ругает. Обыскивали и унижали.
Тилле серьезно кивнул:
– Да, бельгийская полиция – это проблема. Но французы еще хуже. А еще партнеры по Шенгену называются! – покачал Тилле головой. – Как беженец у них на границе появится и гавкнет: «Germany, asyl!» – так они его тут же сами до наших границ перекидывают, билеты покупают, на поезда сажают, лишь бы сплавить. А по договору должны брать и сами разбираться!.. Ну ладно. Мы, как всегда, самые глупые… Пусть уважаемая дама расскажет конкретно, в чем дело, чтобы я мог понять проблему. Почему ее депортировали из Бельгии? Где ее паспорт? По какой визе она въехала? Куда? Зачем?
Оказалось, что Вера Денисовна – врач клиники ортопедии, уважаемый человек. На Западе оказалась из-за сына – тот, работая в прокуратуре, начал распутывать какой-то клубок коррупции, на него совершили покушение, хотели убрать, но он сумел спастись и с семьей бежал через Финляндию в Бельгию, где сдался и попросил убежища. После его побега Вере Денисовне не давали спокойно жить – звонили и угрожали, как-то ночью ворвались в квартиру, все перебили, перевернули, ее избили и пригрозили, что если сын не вернет каких-то важных документов, которые он, дезертир поганый, с собой прихватил, то ее убьют и спустят в Неву под лед, как Распутина. Так пришлось ей тоже бежать. Через турфирму получила визу в Германию, где купила билет до Берлина, а там пересела на другой поезд и поехала в Бельгию – к детям.
– Куда же мне еще было ехать? – прослезилась она. – Приехала в лагерь, пожила там пару дней, а как меня вызвали на беседу и как бельгийцы услышали, что у меня германская виза, на второй же день в пять утра явились, в наручники заковали и в Германию отправили под конвоем. Вот так я тут и оказалась, – она заплакала сильнее, и Тилле поспешил налить и передать через меня стакан с водой.
– У сына есть уже какой-нибудь ответ от бельгийских властей?.. – спросил он.
– Нет, они только за месяц до меня сдались. Их послушали и сразу оставили, потому что Олежка много всяких документов вывез, отдал им, они сейчас разбираются. А меня – сразу вон выкинули. Ну да, кому я, заслуженный врач, на старости лет нужна?.. А я, между прочим, как только Олежка в Бельгию сбежал, тайком бельгийской королеве письмо написала, – хитро призналась она. – Так, мол, и так, написала, укройте и спасите. И представьте, ответ пришел: ваше письмо получили, о результатах известим. Я, как приехала в Бельгию, сразу во дворец помчалась – думала узнать в канцелярии, как дела, а может, и к самой королеве на прием записаться… Не пустили даже близко к воротам!.. Спросили, в чем дело, и сказали, что письменно известят. Я им попыталась объяснить, что я уже не там, в Ленинграде, а уже здесь, нельзя ли в устной форме поговорить, но куда там! Злыдни!.. – Она в сердцах хлопнула веером о стол. (Платье пошло нервным блеском, звездочки возмущенно задергались, блестки мрачно мигнули.)
Тем временем Тилле, достав из стола какой-то бланк, уточнил:
– Значит, вы отказываетесь от своей просьбы о предоставлении вам политического убежища? – И передал мне бланк. – Тогда подпишите. А потом подумаем, чем можно вам помочь.
– Где, тут?.. Тут? – суетливо схватила Вера Денисовна ручку и подписала бланк не там, где надо.
– Ничего, я дам другой! – протянул мне Тилле второй бланк, и я уже конкретно указал пальцем, где надо ставить подпись. – Ну вот и отлично, – принимая бланк, удовлетворенно сказал он и передал через меня временное «Удостоверение беженца» для Веры Денисовны: – Это для вас. Оно действительно три месяца, так что можете не спешить и спокойно оформить все бумаги. Билет мы вам купим. Вы на каком транспорте предпочитаете ехать? На поезде или автобусе? На самолет, к сожалению, не могу купить, бюджет не позволяет, по Европе на поездах и автобусах отправляем.
– И не надо, у меня все равно давление, летать нельзя. На поезде поеду. А паспорт где мой?
– Тут написано, что паспорт отобран на бельгийской границе и придет недели через две, не волнуйтесь. Мы вас известим.
– Виза там, наверно, уже просрочена…
– Ничего, мы продлим визу, сколько надо до отъезда. Вон, видите это здание? – мягко указал Тилле на окно. – Там продлевают визы. В вашем паспорте ничего не будет стоять. Никто не будет знать, что вы тут были, кроме нашей картотеки в этом железном шкафу. Но он молчалив и секретов не выдает, – добавил он поэтично.
– Вот спасибо, – Вера Денисовна благодарно шевельнулась на стуле. – Только у меня еще есть три желания. – (Тилле кивнул и приготовился писать.) – Человек ведь – это мешок желаний, и счастливы те, кто может их удовлетворить на физиологическом уровне. А другим что делать?.. Первое: хочу поговорить по телефону с детьми. – (Тилле записал.) – Второе: мне надо взять у них ключи от моей ленинградской квартиры. Без ключей я не попаду домой. Ключи лежали в моем чемодане, а мне не позволили ничего взять, такая дикость!.. Дети потом забрали. Так ключи оказались у них. Пусть пришлют, а то я в квартиру не попаду. – (Тилле что-то пометил на листе.) – И третье, самое важное: я обязательно должна увидеться с королевой, попросить ее за детей…
– Это не в моих силах, – серьезно ответил Тилле.
Вера Денисовна задумалась:
– Ну да, тогда увидеться с детьми.
Тиле ответил:
– Так, по порядку. Вот адрес Красного Креста, оттуда можете позвонить, куда хотите. Это тут, в лагере, недалеко, здание 5. Второе и третье желание можно объединить: вы встретитесь с детьми, и они передадут вам ключи. Но проблема в том, что вы по вашему временному удостоверению беженца не имеете права покидать Германию, а в Бельгию вас вообще не впустят, раз только что депортировали оттуда. Да и бельгийской визы у вас нет. А у вашего сына – та же картина: из Бельгии запрещено выезжать до решения… И в Германию его тоже не пустят.
– Что же делать? – У Веры Денисовны навернулись выпуклые слезы. Она уставилась на Тилле. Огромные кули ее грудей замерли. Веер зажат в руке. Платье струится блеском ожидания, трепещет с мольбой. – Что же делать?..
Тилле взял атлас, посмотрел что-то, подумал, усмехнулся:
– Можете сделать, как в кино про разведчиков. Выберите какой-нибудь пограничный между Бельгией и Германией город, где есть река, и пусть ваши дети с бельгийского конца моста идут, а вы – с германского. И в середине встретитесь, они вам кинут ключи. Тогда все будет по правилам – никакая полиция не сможет придраться.
– Поняла, спасибо за совет, – обрадованно засияла Вера Денисовна. – В каком городе?..
– В любом, куда удобно будет вам и им приехать. Поговорите в Красном Кресте, у них есть подробные карты. Они помогут и до Бельгии доехать. Подождите минутку! – Он снял трубку, поговорил с какой-то дамой, попросил помочь, написал что-то на листке: – Вот, фрау Бальцер, комната 8, здание 5. Тут недалеко. На фасаде большой красный крест нарисован. Идите сейчас к ней, она ждет.
– А переводчик у них есть? – испугалась Вера Денисовна (волна пошла по тучному телу, звездочки беспокойно задвигались, блестки в ужасе сверкнули).
– Должны быть. Но их тоже надо заранее приглашать.
– Может, я пойду? – предложил я.
Тиле, подумав, согласился:
– Ну хорошо. Я запишу вам час. Все, можете идти. А вас, мадам, мы сами найдем, мы знаем, где вы живете, сами вас поселили. Когда паспорт придет, тогда и обговорим конкретно детали, – сказал он ласково Вере Денисовне, а мне по-деловому добавил: – За обходным не забудьте вернуться – я не имею права наперед заполнять и подписывать.
Мы отправились в Красный Крест. По пути я хотел взглянуть на неземную Ацуби, но всюду все было закрыто – святой обеденный перерыв. На улице, вспомнив, что Вера Денисовна работает в ортопедии, я спросил ее, не знает ли она, чем лечить странные шумы и звоны в голове. Она сказала, что знает: тиннитус может быть следствием отложения солей, надо делать массажи заушных впадин и проверить глазное дно:
– Жаль, у меня нет с собой аппаратуры, я бы сама все сделала. Ничего, скоро вернусь, пойду на работу, приезжайте в Ленинград, приходите в клинику…
– В Ленинграде врач на зарплату может прожить?
Вера Денисовна остановилась:
– Знаете, что Сталин сказал: «Хорошего врача прокормят пациенты!» Конечно, что-то люди дают, но это так противно, когда тебе тайком в карман суют, как парикмахерше…
– У вас устаревшие взгляды. Это раньше в Союзе деньги плохо пахли – сейчас они благоухают, – возразил я.
– Может быть… Но я так решила: поеду назад, а дети пусть будут счастливы. Если это, конечно, вообще возможно на чужбине в шкуре беженца. Но сын ничего, не падает духом, язык зубрит. А жена уже в баре подрабатывает. Может, бог даст, все уладится!
В Красном Кресте нас приняли радушно, дали позвонить в Бельгию и с моей помощью объяснить сыну Веры Денисовны, в чем дело, а то она, когда брала трубку, вместо того, чтобы говорить по делу, начинала спрашивать, не кашляет ли Олежка, как себя чувствует малыш после поноса и что они ели сегодня на обед.
Потом сообща с фрау Бальцер стали составлять маршрут шпионской поездки, как в «Семнадцати мгновениях весны» – нам с Верой Денисовной обоим одновременно пришло в голову это сравнение, отчего она всхлипнула, укрывшись веером:
– Думали ли мы когда-нибудь, что будем вот так по миру скитаться, унижения глотать, защиты искать?.. Но и в России жить стало страшно. И с чего это в нашей дикой стране отменили смертную казнь?.. Я мирный, незлобный человек, врач, но в России казнить – не переказнить, сплошь дичайшие преступления, повальные убийства, серийные маньяки, зачем они нужны?.. Мы не доросли до цивилизации. Надо срочно ввести смертную казнь, а еще лучше – публичную, с четвертованием и колесованием, может, хоть тогда поприутихнут… Да-да, я не шучу, народ давно об этом говорит!
На прощание Вера Денисовна еще раз посоветовала мне проверить глазное дно, снять рентген затылка и крепко поцеловала в щеку, оставив следы красной помады. Их тут же стерла салфеточкой юркая и смазливая фрау Бальцер, которая решила сама отвезти Веру Денисовну на границу с Бельгией и под этим предлогом резво отпросилась у шефа на целых два дня. Шеф после обеда был в хорошем настроении и милостиво разрешил. Довольные все трое, мы разошлись в разные стороны.
Чорна, турецко-подданный
Дорогой друг, спешу сообщить, что в тяжелое ярмо вляпался. Даже и не поверишь – ремонт затеял!.. Казалось бы – зачем?.. Могилу и без меня украсят, а где жить – не все ли равно? Нет, туда же. А все из-за аспирантки-голощелки – ей, видите ли, не нравится сексом среди рухляди, развалин и мурашек заниматься и в ванне мыться, где до этого стая косовских албанцев всю жесть с ванны в дикой злобе сковыряла.
Ну ладно, думаю, можно сделать, хотя, по мне лично, в руинах куда как поэтичней трахаться, и чем руинистей – тем новой похоти прибавляется: я, типа, сейчас Тамерлан и Мамай, на своем пути всю крушу, рушу, всем «шу», а не то – у-у!.. Никому не поздоровится!.. Не с кем будет поздороваться!.. Обнажен и очень опасен!
Конечно, я попытался было отнекиваться и увиливать, но куда там – голощелка завела знакомую песнь про то, что больше в такой мерзости купаться не намерена, без нормального стола в кухне ей трудно, что ей родного ТВ не хватает, словом, хотя бы унитаз сменить, антенну повесить и какой-нибудь стол на кухоньку поставить, не все же на перевернутых ящиках убогую еду на половой плитке готовить!..
Мне не очень понравилось, что она так раскладывается и устраивается, но, на ее веско-весомые аргументы под лифчиком глядючи, решил не перечить – что там жить осталось, чтобы по пустякам размениваться?.. Живи, как Диоген в бочке – и все! Нет, надо ремонт. Мне не надо, но если ты хочешь – давай…. Эх, не знал я тогда еще, что лучше уж с норкой где-нибудь в норильской норке жить, чем ремонт затевать…
Тут же выяснилось, что у нее есть знакомые мастера из бывсовлюдей, которые «делают не ахти как, зато дешево». На вопрос, откуда она их знает, ответила, что в церкви на Пасху познакомилась (тут очень комично в местной кирхе православный уголок отделен, куда некоторые бывсовлюди по праздникам ходят и земные поклоны, даже и до ста штук, бьют, приводя в недоумение немцев, спокойно слушающих орган на скамьях). Ну, «ахти» нам и не надо, какое там ахти, не до жиру. А что дешево – это хорошо.
У меня немного денег от горельефа оставалось, хотел на них хорошие холсты и дорогие краски купить, но тоже в ремонтное дело пустил. Все, решили. И начали, несмотря на то, что сосед-Монстрадамус, узнав о моих намерениях сделать дешево силами русских умельцев, был настроен скептически и высказывал сомнения относительно возможного качества работы, но я не преминул о «катюшах», «орга́нах Сталина», напомнить, он и замолк. А что скажешь?.. Все «катьюши» в цель попадали и рейх разбомбили. Как хорошо, что в разговорах с немцами всегда есть серия аргументов, которые бьют наповал! «Сталин, “катюши”, Курская дуга» – и всё: все – молчок, в пол глядят.
Ну вот, появились два наших бывсовчела, два мастера на все свои четыре суперзолотые руки: похожий на Карлсона в комбинезоне Митя и тихий застенчивый пухлян Вован, откуда-то из глубинки, неизвестными ветрами в Европу занесенные. А что из этого вышло – суди сам: нарочно не придумаешь!
Первым делом надо было ехать с ними покупать раковину и унитаз (на старый, битый и обколотый – грызли его албанцы, что ли? – аспирантка отказывалась садиться – ей казалось, что снизу, из унитаза, что-то вылезает и в нее вползает).
В магазине Митя важно сообщил, что у нашего унитаза труба уходит вертикально прямо в пол, но на магазинных полках все унитазы были почему-то исключительно с трубами, уходящими горизонтально в стены, наподобие «Г». После долгих поисков мы были вынуждены поехать в спецмагазин, за двойную цену нам извлекли из запасников нужный экземпляр, причем продавец пояснил, что таких уже лет 10 как не выпускают… На квартире выяснилось, что труба уходит все-таки Г-образно в стену и куплен неправильный унитаз. «Да как-то мне так показалось… У нас таких глупостев не было, чтоб в стену… Ну, не переживай, сменяем, всего и делов…» – почесал Митя в затылке и отправился в магазин менять унитаз.
Тихий Вован долго разбирался с раковиной, собирая (!) ее, но когда аспирантка начала проверять закрывалку, то выяснилось, что закрывалка не закрыта и не открыта, а все время полуприкрыта, как щелка у целки. «Ну, если нажать…» – попытался было Вован, но она ему на пальцах объяснила, что надо не нажимать, а переделывать, что и было безропотно начато под шепот: «Да, тут я как-то не того… ошибся… Ну, с кем не бывает!..»
Хуже, что и раковина оказалась купленной на два сантиметра меньше нужного, пришлось стену долбить. По ходу дела выяснилось, что неправильно куплена вешалка для полотенец – она не совпадает с дырами в кафеле. «Шут его знает… Я так на глаз смотрел – вроде 30 сантиметров. Ну, дыры сейчас замажем… Не переживай…» – на что мокрощелка твердо послала их менять вешалку.
Сливной бачок был куплен по размеру, но вдруг стал наполняться черной водой и сразу засорился. Митя предположил, что на углу рабочие меняли что-то в земле и, наверно, пустили грязную воду, но тут уже я сказал ему, что мы в Германии, а не Джезказгане, и велел внимательно осмотреть внутренность бачка, после чего было обнаружено, что забыта главная прокладка. «Вот она, я ему давал, а он не слушал», – подал прокладку не в меру застенчивый Вован. «Надо было громче говорить!» – отрезала аспирантка и велела вычистить и обновить бачок, не обращая внимания на советы «не переживать».
Когда был приделан душ (модный, с двумя головками: одна большая, а другая – на змеевике), вначале не хватило метра шланга, когда же он был куплен и приспособлен, оказалось, что при переключении вода почему-то течет понемногу из обеих головок – я в своей косной тупости решил было, что это так и должно быть, что это такой новомодный понт и финт, но голощелка, уже поняв, с кем имеет дело, приказала Мите разобраться по схеме (которая валялась тут же, затоптанная, на полу, и была полностью игнорируема нашими золоторукими умельцами).
Из инструкции выяснилось, что душ приделан неправильно, то есть наоборот, его надо перелицевать, на манер зеркального почерка Леонардо. Душ был вырван из кафеля, тихий Вован начал замазывать дюбелевы дыры силиконом, а Митя – сверлить новые… (Вообще к инструкциям оба испытывали хроническое презрение и шли исключительно путем проб и ошибок: «Без инструкциев разберемся, не глупее их… Подходит та хреновина к этой?.. Давай винти их в бога душу мать!»)
Нечего и говорить, что пара полок в ванной оказалась не на равной высоте – где-то дюбель плохо зашел, где-то некстати вышел под ударами молотка – главного инструмента Вована, который, постучав и кое-как сравняв полки, сказал сакраментальную фразу: «Хрен с ними, и так сойдет!» – на что аспирантка среагировала мгновенно: «Нет, не хрен, не сойдет!» – и Вован пошел копаться в болтово-гаечном мусоре, а Митя тем временем сковыривал «ризетки» и менял выключатели, пока лампа под потолком (в которой был плохо закручен опорный винт), не скособочилась и не замкнула всю систему.
Утром под ванной была обнаружена лужа грязной воды. Срочно вызванный Митя осмотрел крепление, почесал в затылке и сказал, что так всегда бывает, потому что в трубе (?) остается вода, она вытекает и завтра ее не будет, словом – «не переживай». Успокоенный этим сакральным объяснением, я перестал переживать и начал вытирать лужу, но аспирантка полезла за ванну, что-то там усмотрела, заставила лезть и Митю, который нехотя признался, что да, может, пакля-шпакля пропускает, и нехотя принялся за доделку.
В это время позвонил мастер, который должен был поставить антенну для российского ТВ, и спросил, не знаем ли мы, какого размера гайки он должен захватить с собой (болты на наружной стене оставались от прежних албанцев и не были ими унесены, очевидно, по причине своей вбетонированности в кирпичи); он при осмотре места как-то не сконцентрировался на болтах… «А на чем этот болван концентрировался, на моей жопе или сиськах?» – не выдержала аспирантка и стала ему кричать в трубку, что правы те люди, которые говорят, что русским ничего нельзя поручать, все сделают вверх ногами, они хороши только канавы рыть!.. Но я забрал у нее трубку и ответил мастеру, что болты на глаз довольно большие и толстые, получив в ответ: «Не переживай, понял, наверняка 16, ну, до завтра» (хотя, убей меня, мне почему-то кажется, что и завтра я вряд ли смогу посмотреть программу «Время»).
Но аспирантка не хотела «не переживать», разошлась не на шутку, бранилась на чем свет стоит и даже поминала Энгельса, говорившего, что славяне – ненужный и ничтожный мусор истории, они воспитаны и выросли в ужасной и гнусной школе монгольского рабства, и было бы куда лучше, если бы Русь в свое время приняла не дутое византийское православие, а обычное католичество (благо, было все равно, что принимать) – тогда она и от татар была бы защищена, и не вела бы бесконечные войны на два фронта, и в цивилизацию вошла бы органично, и от рабства бы избавилась, и была бы нормальной страной, а не громадным монстром, как сейчас; и какая вообще разница, в какой крест веровать?.. Крест – он и есть крест, главное, что не полумесяц и не шестиконечник…
Я, как мог, успокоил ее физически и морально, и потом мы пили чай на бидоне с краской, которой Митя обещал покрасить стены ныры, и смеялись: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда! Такая планида!»
Но у всех этих несчастий есть одна положительная сторона – мурашки пропали! И не то, чтобы они сами исчезли, нет, просто мне стало стыдно их топтать, поэтому я решил пойти другим путем и перестал одежду на пол бросать. И мурашки пропали! Раньше бы так! Сколько мурашьих загубленных душ можно было бы избежать!.. Вот бы все мировые конфликты так же мудро решить можно было бы!.. Ведь люди, как верховные звенья пищевой цепи, могли бы и договориться как-нибудь… Так нет же: одни всё размножаются и ползают, а другие их всё топчут, давят и бомбят…
А если увижу зазевавшуюся мурашку, то не давлю, а тихонько палочкой восвояси подталкиваю, подальше от великой хищной черной дыры, которая, оказывается, в центре галактического диска, в созвездии Стрельца, расположена и вокруг которой весь сыр-бор и несется с несусветной скоростью. А размер этой дыры, уточнил Монстрадамус, – 4 миллиона масс Солнца, и в конце концов все в нее провалится, но когда будет этот провальный конец – никто не знает. И что потом будет, когда ничего не будет, – тоже никто не знает. И на вопрос, который час, тоже мало кто ответить сможет… Ну, или только с точностью до галактического года, плюс-минус 200 миллионов лет, пустячок, если уж на то пошло…
Несмотря на ремонтные мучения и усталость, успеваю в лагерь съездить поработать. Правда, вчера утром в автобусе уснул и чуть нужную остановку не проехал, благо дети разбудили – у них сейчас учеба в разгаре, они автобус оккупируют, а перед выходом шуметь начинают.
Бирбаух, весь в темных думах, расцепив желтые опухшие лапы, одутловатые от пшенного пива, нажал кнопку и впустил меня, кивнув большой кудлатой головой:
– Пожалуйте! Сейчас много работать надо, Рождество не за горами, подарки покупать придется. – И он тяжело вздохнул. Потом, с новым тяжким вздохом, убежденно сказал: – А вообще лучший подарок – это деньги. Да, да, сразу видишь, кто как тебя любит и насколько уважает. А потом – иди и покупай, чего хочешь. А еще лучше развестись перед Рождеством и вообще ничего никому не покупать, а поехать на Ямайку и трахать там толстых мулаток, а?..
– Это – конечно. Но где еще Рождество? – удивился я. – Осень же только началась?
– Ну и что? Сейчас осень, а потом зима будет. Скоро будет, не избежать. – Он тяжело прикрыл набрякшие веки. – Ох, много подарков надо покупать, много… – закряхтел и начал перечислять своих Лотхен-Гретхен, которым он должен будет искать подарки.
А я пошел дальше, мимо комнаты ожидания, где уже полно людей: несколько небритых черных мужиков в кожанках, одинаковые худые китайцы-клоны в черных штанишках и белых рубашечках, смуглые дети и курчавые мамы, две оливковые личности в чалмах. И яркая блондинка среди них, как солнце среди грозовых туч.
Из коридора я услышал знакомые возгласы веселого негра Сузы, но не успел дойти до них, как с лестницы спорхнула Ацуби и вручила мне на ходу две папки:
– Это для вас, русская семья. Начнем с мужа. И побыстрее – господин Марк плохо себя чувствует и должен пораньше уйти к врачу.
– Какие же это русские? – удивился я, проглядев данные первой папки, но Ацуби сказала, что Марк разберется.
Я с удивлением еще раз перечитал:
фамилия: Тоганлы
имя: Назым
год рождения: 1962
место рождения: с. Бурдахчи, Турция
национальность: турок
язык/и: курдский / русский
вероисповедание: неизвестно
Такой винегрет мне еще не встречался.
Кое-что прояснили данные жены: «Валентина Тоганлы, 1968 года рождения, город Тверь, русская, православная». Очевидно, смешанный, русско-турецкий брак. Только почему язык курдский?.. Я сказал Ацуби, что беженец показывает русский вторым языком и, может, ему нужен другой переводчик, турок или курд, но Ацуби сказала, что эта семья приехала из России, стоит под российским кодом и переводчик для них выбран правильно, а если что не так – Марк разберется.
– Ладно. – И я пошел в приемную, где сразу обратился к блондинке: – Вы Валентина?
– Да.
Я представился, сказал, что буду им переводить. Она кивала. Мальчик, уцепившись за юбку, не отходил от матери. Глаза у него были полузакрыты, а рот – полуоткрыт. От группы небритых курдов отделился кряжистый молодой человек:
– Я – муж, да, Назым. Издравствуи!
Я пожал крепкую ладонь.
– Может быть, вам лучше будет вызвать турецкого переводчика? – спросил я, но Валентина, вдруг заметно испугавшись, сказала, что Назымчик русский уже очень хорошо знает, в России десять лет живет, а турецкого переводчика совсем не надо, турки курдов ненавидят.
– Но он же турок? – заикнулся было я, но решил не ввязываться. – Мое дело спросить, чтобы потом проблем не было. Вначале пойдем я и Назым, а вы с ребенком подождите. Потом вас будут опрашивать.
– Долго ждать? Ребенок не завтракал еще, – ответила она.
– Не могу сказать. Лучше покормите ребенка. Вон, у него можно купить, – указал я на Бирбауха, который сортировал пришедшие письма и пакеты. – У него есть печенье, шоколад и всякое такое…
В музгостиной Ацуби ждала у фотоаппарата. Назым сел, уставился в аппарат. Он смотрел молча, упорно не мигая. По коридору, мимо открытых дверей, прошмыгнула группка китайцев, которых д-р Шу вел на уточнение данных (что всегда напоминало мне настройку инструментов в оркестре перед концертом). Назым, не поворачивая головы, все так же упрямо глядел в объектив. После щелчка он встал и так же молча перешел к станку, вытянул руки. Ацуби в перчатках осторожно ворочала его волосатые запястья и грубые пятерни, краснея до ушей.
Потом мы уточнили данные. Все было правильно: Назым был турком, родился в Турции, но в курдском горном селе, где жили практически одни курды, и поэтому турецкого языка толком не знает. А в 90-м году он уехал в Россию и жил там до тех пор, пока не начались проблемы. Говорил он по-русски коряво, но сносно, понять можно было:
– Миноги проблем били. Один дэл, что я чорны, миноги волоса имеу. – (Он отвернул ворот рубахи – волосы доходили до подбородка, а щетина заливала лицо до глаз.) – Все мине Чорна звали. Это один дэл. Другой дэл – что я турски граждан, а пашпорт нету. Милиси говори: «Чечен, бей ему мать!» Полиси говори: «Барыга, турма иди!» Базар кричает: «Черножоп, гяльбура, секир-башка!» ОМОН палка бить: «Кавказка морда, стреляи ему сердцу!»
– Ясно. Вера?
Назым фыкнул:
– Нэту. Нэту правда. И боги нету. Потом так писай.
Я кивнул – резонно: если бог есть – то где же правда?.. А раз правды нет – то где же бог?.. И не надо больших трактатов на пергаменте царапать – и так все ясно.
– Напишем «атеист».
– Да. Мой дома – там, Роси. Мой жена – руска, мой сина – руски. И точки. Мине другой мест нэт, – продолжал он говорить, когда мы шли на простуженные всхлипы кофеварки возле кабинета Марка (Марк уверял меня, что у него начался простатит от постоянного прободного шума этой кофеварки и надо бы подать в суд, чтоб за его лечение платило наше министерство из бюджета, а не он из своего кармана.)
Я постучал. После короткой паузы нам крикнули:
– Входите!
Марк сидел за столом, упершись взглядом в монитор. Мне, осклабившись, кивнул, а на Назыма посмотрел цепко и холодно:
– Такого черного русского я еще не видел… – пробормотал он.
– А он турок. Просто женат на русской, из России приехали, – пояснил я.
– Может, ему надо турецкого переводчика? – спросил Марк.
Назым начал так горячо отнекиваться, что Марк уже внимательнее взглянул на него и, пока мы усаживались, украдкой позвонил куда-то и кого-то попросил зайти. А потом начал долгую возню с диктофоном, шепотом кляня жадюгу-директора, который сам по сто раз в Испанию на конгрессы загорать ездит, а новых диктофонов купить не может или не хочет.
Парень сидел напряженно, скованно. Я сказал ему, чтобы он не нервничал:
– Назым, ты расслабься. Тут не тюрьма. Они ничего плохого сделать не могут. Это не наша милиция. Спокойно рассказывай. Самое большое – откажут. Но и потом опротестовать можно…
– Да, да, ви стопроцент прав, – кивнул он и захрустел курткой, усаживаясь удобнее на стуле.
Марк углубился в папку. Очки у него от удивления сползли на кончик носа.
– Как понять всю эту абракадабру? – наконец поднял он голову. – Если он турок – то пусть едет к себе в Турцию. Турция в ЕС рвется, скоро уже будет тут… Там демократия и женщин камнями не забивают… Так что Турция ждет своего турка. В Турции тепло, кебабов много… Противная вещь, у меня от них изжога…
Назым на это ответил, что он только по паспорту турок, а вырос в курдском селе, а жил вообще в Твери.
– Ну, а мы при чем?.. Паспорт-то у вас турецкий, и там написано, что вы – турок?.. Чего еще?.. Где он, кстати, ваш паспорт?..
– В турски кансулет в Москву. А сюда фаршивы пашпорт пришел, да.
– Фаршивый? – уточнил я.
– Ну, фарш сделан, обманка, – объяснил Назым, покрутив рукой для убедительности. – Фарш!
– А, фальшивый… И где этот фальшивый паспорт?
– Прокиляты банидит бирала…
Расспросив его, я уяснил картину: настоящий паспорт Назыма отобрали в турецком консульстве в Москве, а он потом купил два фальшивых паспорта с фальшивыми визами, с которыми они полетели в Гамбург. С ними летел один из шайки фальшивобумажников, и, когда они приземлились и прошли паспортный контроль, он забрал у них паспорта и обратным рейсом улетел в Москву.
– Интересно!.. Такой версии я еще не слышал! – с издевкой покачал бритой головой Марк и включил микрофон: – Послушаем. Пусть назовется и так далее…
– Я родил Турси, селу Бурдахчи. Ими – Назым, фамилие – Тоганлы. Отец-мать живой, не знай гдэ. Села шикола нэ бил, нигде работа был, дом сидила…
– Значит, школу не кончали?
– Нэ.
– Читать-писать не умеете?
– Вот жена, Валья, неминог научил. А так – нэ.
– В армии были?
– Какой арми, э!.. Турски язык нэ знаю – как армии идет? В села сидила. Полиси приходил, моя отэц пугал: если дэнги не даишь – тагда ялла, сина арми идет, плоха будэт… Отэц дэнги давала – и так жила.
В это время в кабинете появился Зигги. Марк (коротко, полузнаками) попросил его спросить что-нибудь по-турецки у беженца. Зигги что-то сказал, но Назым не среагировал, а я удивился, что Зигги знает турецкий язык.
– Он-то знает, а вот наш клиент турецкого совсем не знает, – заключил Марк, на что я (вспомнив анекдот про опыты Василия Ивановича с обрыванием ног у таракана: «Таракан, без ног, не слышит!») заметил:
– Он же сам об этом говорил, что турецкого не знает.
Марк усмехнулся:
– Мало ли что он говорил… Может, он вообще все лжет, турецкий язык отлично знает и сам чистый турок, а курдское село – просто предлог, чтоб в Турцию не ехать? Многие так делают. А может, и вообще он не из Турции, а откуда-нибудь из вашей Тартарии… У вас же много всяких тюркоязычных – Башкириен, Калмыкиен?[62] Впрочем, узнаем. Спрашивайте дальше – родственники за границей или в Турции есть?
Зигги, потоптавшись, засунув наушники в уши (украдкой закатив глаза и показав мне, что Марк побеспокоил его без дела), пританцовывая, удалился. Я перевел вопрос. Назым кивнул:
– В Турси отец-матец, бабушек-дедушек, сем шитука сестира…
– Всех сестер переписывать? – спросил я у Марка.
– Нет, нет, не надо, – перепугался тот, замахал руками и выпил минералку: – Изжога измучила. Геморрой заел… Нет, знаете, все-таки запишите… надо, что делать, а то на кой они нам?.. А я пока посмотрю кое-что…
Пока я переписывал на лист всех родичей Назыма, Марк листал атлас, потом начал орудовать линейкой, мерить что-то на карте, высчитывать на счетной машинке. Потом спросил у Назыма, какие большие города есть вокруг его села, какой главный город его провинции и сколько времени надо ехать на машине от его села до этого главного города.
Назым думал не долго:
– Ничего есть, гор толки. Никакая город есть… Ну, Анкара есть, Истанбул… Сикольки километир – нэ знай… Брат Роси ехал, Москва шуб-кожа магазина есть, а я помогаил… Москва общежитель «Спутник» жил, биратин магазин работа, потома Валья знакомил. Она как мой мать, сестира, жэна, учитэлниц, всио учил…
– Где и когда вы поженились? Где свидетельство о браке? – Марк закрыл ненужный атлас и принялся угрюмо рассматривать Назыма (пошла стадия запугивания и нажима).
Выяснилось, что он познакомился с будущей женой Валей в кафе, она работала на мясокомбинате неподалеку и после смены заходила поесть. Они стали вместе жить, челночить, товары возить, потом сын Абдулла родился…
Тут Марк прервал его:
– И что же помешало вам дальше так счастливо жить? Почему уехали из России? И где ваш турецкий паспорт?
Назым поднял плечи, похрустел курткой и объяснил, что он был «с Валья нэрасписан», но когда встал вопрос детского сада для сына, то без регистрации брака его не принимали, а для брака была нужна справка из турецкого посольства (что Назым не женат), куда он по своей глупости и пошел. В посольстве стали его ругать за то, что он турок, а своего языка не знает, и потребовали метрику будущей жены, а когда он отнес ее туда, то там пришли в полную ярость и стали его ругать за то, что он, мусульманин, собирается жениться на еврейке:
– Какой эврэйка, слюши?.. Она сами-сами руски баб, мой Валья. Вот, сматри, ви видел, – обратился он ко мне. – Какой она?.. Бели волоса, голуби глаза, хороши, здорови баб… Волоса нэ черни, нос нэ криви и жоп нэ жирни, как у эврэй…
Но из метрики выяснилось, что мать Вали зовут Роза Мойшевна Кацман. На это Назым стал говорить, что эту свою мать Валя уже двадцать лет не видела, но посольские спрятали его паспорт, стали подозрительно перемигиваться, куда-то звонить, и Назым, попросившись в туалет, решил сбежать:
– Я бистра окно пригнуил, а то они хотил минэ полиси дать…
– С чего вы это решили? – поджал губы Марк.
Назым убежденно развел руками:
– Как же нэт?.. Они пашпорт браил и железны ящика клаил. И телефон-трубка звоняил… Ялла – и все, турма!
Так началась жизнь без документов, проверки на улицах и базарах, где его постоянно останавливали, обыскивали и обирали. Приходилось откупаться, прятаться, юлить. Его ларек, где он торговал товаром из Турции, обложили налогом и милиция, и базарные громилы, работать стало трудно и опасно. А тут еще новая война с Чечней началась, ОМОН совсем озверел:
– Кажди дэн мне ловиил, кричаил: «Чорна чэчэн, ваххаб, секир-башка!»
– ОМОН всех бьет, не только вас, – заметил Марк. – Это что же будет, если все из России, кого ОМОН бьет, сюда прибегут, а?.. Вы говорите конкретно, что с вами лично случилось?
Выяснилось, что однажды он стоял с сыном Абдуллой на остановке автобуса (ехал к жене в больницу, где она аборт сделала). Мимо проезжал микроавтобус, притормозил, из него вышли два бойца и приказали предъявить документы или деньги, а когда у него не оказалось ни того, ни другого, они избили его резиновыми дручками, попало и сыну:
– Он на земли падаил, голова ударяил, тэпэр у Абдулла пастаян глаз закрыти, а рота открыти, вот, ви видел… – кивнул он на меня, я подтвердил, но Марк покачал головой, сказав, что это внутренние и частные дела, к политике отношения не имеющие:
– Впрочем, пусть рассказывает дальше. Были еще эпизоды избиений?
Назым монотонно рассказал, что еще одно столкновение произошло в День Военно-Морского флота: он с ребенком опять ехал на автобусе в больницу (навестить жену после другого аборта), была давка, он стоял на ступеньках. Над ним горланила толпа пьяных десантников. Когда автобус подошел к остановке и двери отворились, Назым получил такой пинок кованым ботинком в зад, что пулей вывалился на асфальт и поломал себе три ребра, а сын опять ударился головой – и с тех пор все время ест, не останавливаясь:
– Вот, ви видел, да, пастаян голодни…
Вдруг Марк, как будто что-то вспомнив, встрепенулся и по-ястребиному уставился на Назыма:
– Вы говорите, что паспорт у вас забрали до женитьбы, в турецком посольстве?.. Так?.. Тогда как же вы поженились?..
– А мы не женилси, так живаем, нерасписан, да.
– А если вы не женились, то почему ваша жена пишет в своей анкете вашу фамилию?.. А?.. Если вы не женаты, то это же преступление, подлог!..
– Ва, зачэма? – удивился Назым.
– А потому, что у нее нет права брать фамилию мужа, если она официально с ним не зарегистрировала брак! Это чужая фамилия! Мало ли кто с кем живет! Это что же будет, если все самовольно фамилии своих партнеров брать будут, а? Хаос, сумасшедший дом! Нет, чужую фамилию брать нельзя!
– Почем чужои, э?.. Мой фамили!.. Мы вместе хотел бить, потому мой фамили написаил.
– Да, но официально вы для нее – никто. А что у нее, в ее внутреннем паспорте написано? Какая у нее девичья фамилия? Кацман? Где ее паспорт?
Назым потупился:
– Не, какая Кацман… Чучуткина фамили…
– Что?.. О, господи: Tschutschutkina!.. Это надо же!.. Шу-шу-шу!.. Вот. А почему она пишет «Тоганлы»?.. На каком основании?.. Вот это и называется подлог. И отправятся они в разные страны: он – в Турцию, а она – в Россию, – добавил он тише для меня.
– Почему? – теперь уже удивился я. – Они же муж и жена? И ребенок есть…
– Ребенок не аргумент. Я вам сто детей с улицы приведу. Вот, по телевизору показывали, что пол-России беспризорники, на улицах в ямах живут… Взял одного – и поехал, все лучше, чем по чердакам и подвалам валяться… А женой я могу любую женщину назвать, по сговору… Ему, – Марк указал рукой на Назыма, – не дадут визу в Россию, он и так бог знает сколько уже там без визы околачивается, во всех черных списках стоит наверняка. Да и без паспорта куда его?.. А ей не дадут визу в Турцию, пока его вопрос не решат. Да и что ей в Турции без него делать?.. А его вопрос не решат, пока не восстановят паспорт, если он у него вообще был… А чтобы восстановить паспорт, турецкое посольство в Москве должно запросить его деревню в Турции, если вообще такая деревня существует на свете – на моих картах ее, например, нет… И сколько все это может длиться, представляете?..
– Нет, не представляю. А сколько, действительно? – спросил я.
– А вы посчитайте, – отреагировал Марк. – Скажем, семья из трех человек. Пока каждый член семьи отдельно заявление подавать будет, не сразу, а друг за другом, на каждое заявление по три месяца минимум уходит – это уже почти год. С апелляциями и адвокатами – еще года два, у нас суды не торопятся. За это время у беженца на родине узнали, что он тут околачивается, и теперь ему действительно грозит там наказание. Он заново подает заявление, и все члены его семьи, естественно, тоже. Это еще года три. Причем учтите, что даже неродившийся младенец из чрева матери тоже может заявление подавать! – победно сверкнул Марк очками.
– Как это?
– А вот так – адвокат вместо него подписывает… Так как плод уже после какого-то там месяца считается живым существом, у него может быть адвокат… Да-да, не смейтесь, так в законе написано! Если беженцы за это время не разбежались по мафиям, не переженились, не ушли в подполье, даже если мы нашли их паспорта и дело дошло до депортации – то приедут они в аэропорт, и матери, как всегда беременной и больной после сорока абортов, становится плохо, врач запрещает лететь, они возвращаются и ждут, когда ей станет хорошо. А хорошо ей станет еще через пару лет… За это время дети школу закончат, или замуж повыскакивают, или в криминал уйдут, или в тюрьму попадут, или еще что…
Потом Марк вдруг замолк, сказал:
– А может, он какой-нибудь чеченский боевик?.. Как, чеченского акцента нет?
Я не успел ответить – Назым, услышав знакомое слово, встрепенулся:
– Мине говорит – чэчэн? Э, я сам чэчэн как огон боиси. Какой чэчэн, э!.. – поднял он руку, как бы защищаясь.
– Ладно, ладно. Спросите, почему, интересно, он сюда, а не в Италию, Испанию или Португалию, поближе к своей горячей южной крови, прибежал? – поджал губки Марк.
Назым объяснил, что этого он не знает: какие «фаршивы визы» были в купленных паспортах, туда и поехали. А в Гамбурге сопровождавший их тип после паспортного контроля забрал паспорта («вам зачем?»), подвел к отделению аэропортовской полиции, велел войти внутрь и сказать одно слово: «Азюль!» – что они и сделали, вот и все.
– Значит, прилетели рейсом «Москва-Гамбург»? – уточнил Марк. – А по каким дням летает этот самолет?.. – Он украдкой заглянул в книгу, открытую на столе (всевозможные справочники занимали полстола и всегда были под рукой).
Тот изменился в лице, почесал в затылке:
– Как дэн бил?.. Чэтверга.
– Да, как же!.. – обрадовался Марк. – Самолет из Москвы в Гамбург летает по средам и пятницам!.. Ясно вам?..
– Нэ знай, я так помнилси, что чэтвэрга, – пожал плечами Назым.
– Отметим, – зловеще пробормотал Марк и записал что-то на листке. – Так. А что все это время делала ваша жена?.. Чем занималась?.. Где работала?.. Ее тоже так страшно преследовали, как и вас?.. Она же не черная, она белая, так? Славянка? – переспросил он у меня (я кивнул).
Назым покачал головой:
– Она бойна работаил, кость рубаил, супни пакет делаил. О, Валья – и мой сестира, и мати, и жэна, и брат, все учил…
– Да, да, знаем, – отмахнулся Марк. – Пусть лучше скажет, сколько денег и кому заплатил за визы.
– Обшичет: два пашпорт – 4 тисич долляр. Сина бесплатны, да, мали ишо, к жену написаил… А жена свою пашпорт потеряил…
– Печальная история, – притворно вздохнул Марк. – Спросите, что ему угрожает в случае возврата в Турцию?
– В Турси? Какой Турси? – изумился Назым. – Зачем Турси?
– А куда же?.. Россия вас не примет, у вас нет ни паспорта, ни визы, ни оснований для нее. Так что вы турецко-подданный. В Турцию придется ехать, на родину, где солнце светит и кебабы на деревьях растут, – веско заключил Марк и принял порошок.
Назым убито и затравленно смотрел на Марка. Наконец, как бы очнулся, спросил побелевшими губами, что, значит, лучше было бы, если бы он обманул и сказал, что курд, ведь курдов в Турцию не отправляют?
– Да, с курдами проблема… – неопределенно согласился Марк. – Но это не ваша проблема. Вы турок. А то, что языка турецкого не знаете – это частное дело, главное, что по паспорту вы турок, турецкий гражданин. Вот наши немецкие турки тоже языка не знают, однако их никто в Турции за это не убивает. Так что – домой, в солнечную Турцию, кебабы кушать!.. И я бы поел с удовольствием, если б у меня сразу изжога не начиналась!.. А с вами сделаем легко – запросим турецкое посольство в Москве, получим ваш паспорт и депортируем вас без хлопот в Турцию, вот и все!
Назым остолбенело и ошарашенно смотрел на него:
– Куд эхать, в Бурдахчи?.. Турси?.. Нэ! Нэ! Лючше Роси…
– Впрочем, можно подумать, – продолжал Марк (напугав жертву, теперь он был доволен, наступила фаза торговли с беженцем). – Если вы из России получите от соседей или от третьих лиц нотариально заверенные показания, что вы действительно жили с вашей женой одной семьей, имеете ребенка, то можно попытаться договориться с российским посольством. Жене надо поскорее свой российский паспорт восстановить, как потерянный, а вам выдать что-нибудь временное… В общем, въехать в Россию сможете, а там будете с русским разбираться… Но для этого надо иметь паспорт жены. Учтите это!
На фоне перспективы быть отправленным в турецкие горы высылка в Тверь показалась Назыму столь желанной, что он с жаром начал упрашивать Марка помочь им вернуться, на что Марк важно отвечал, что надо подумать, а пока время выслушать жену.
– Жена ничего знаит, – еще раз заверил Назым. – Она мяскомибинат кость рубаил, супны набор делаил – что она знаит?.. Мине смэрт грозялся, не ее.
– Какая смерть? От кого? – иронически из-под очков зыркнул на него Марк.
– Ну, я чорни, чэчэн, ваххаб, террорра…
– Пол-России черных. Всех принять не можем при большом желании. И все, хватит об этом. Хотите что-нибудь добавить? – сухо заключил Марк, распечатывая очередную коробочку с лекарствами.
Добавлять было нечего. На этом интервью было закончено.
Когда мы шли вниз, Назым сокрушенно вздыхал:
– Э, нада било курда говорил… Куда Турси иди?.. Нет, люче Роси…
– Да, не очень логично получилось. Ты пришел просить в Германии убежище – и сразу стал умолять, чтобы тебя в Россию отправили, – напомнил я ему.
– Ва, Роси лучше, чем Турси! – сказал он убежденно. – Вот, моя дядка, отэцин бират, турски язык нэ знает и Голланди убежищ браил…
– Дядя?.. Получил в Голландии убежище?.. А почему ты не сказал об этом? Это важно. Если дядя получил – могут и тебе дать. Данные дяди есть?.. Сейчас позвоним Марку.
Мы уже были возле музгостиной, где Ацуби колдовала около сканера. Я попросил разрешения позвонить, чтобы сообщить Марку, что дядя беженца получил политубежище в Голландии, но Ацуби сказала, что сейчас все равно надо вести жену на беседу, а там все это и расскажете:
– Ведите жену! Марк разберется.
В комнате ожидания было пусто, только Валентина грузно сидела у окна, а мальчик Абдулла, примостившись у ее ног, с полузакрытыми глазами тихо хрустел галетами, которые тяжелой рукой, привыкшей к рубке костей, давала ему мать: не глядя, вытаскивала из коробки и протягивала сыну, а тот брал на ощупь и безучастно начинал грызть.
– Что, теперь моя очередь? – подняла она на меня усталые глаза в обводах синей грубой туши. – Назымчик, он печенье уже две пачки покушал. Если еще захочет – купи у того толстяка. У него есть еще другие, батончики…
Мы пошли назад по коридору. Валентина тяжело ступала за мной, со вздохами рассказывая, какой добрый, хороший и отзывчивый ее Назымчик: он ей и брат, и отец, и муж, и товарищ в одном лице, просто черен, настоящий Чорна, за это его и мучают все. А мне думалось, в такт шагам, что-то смутное, что-то из школьного фольклора: «Чорна… Чорна… Чорный чорна-чорт очертил чортов чертог чортовой чертой… Черток! Черкет! Ялла! Гяльбура!»
Часть четвертая Осень
Амбужур
Не успел погреться – уже и осень наступает, реальная и гадкая. И перейдет она потом в долгую вечную зиму. Впрочем, все равно: в моей ныре что лето, что осень – одинаково противно. Никуда не вылезаю, сижу. Вчера думал над твоими словами. Да, наверно, ты прав, я – подпольный тип. Ну, а какой, суди сам? Живу в ныре, трамвай на уровне глаз ходит, ниже – только блохи, черви, мыши и вши. Доктора до смерти замучили. Картины не покупаются. Сосед-Монстрадамус страхи волной гонит. От вида полицейских тошнит и волосы шевелятся, а о женщинах и не говорю и при виде их сразу гусиной кожей покрываюсь.
А я скажу так – ну и что, что подпольщик?.. Чем ближе к земле – тем уверенней на ногах стоишь, чем выше в небо – тем больней падать. А лучше сказать, я – как тот парашютист, которого на морских курортах катер на тросе за собой по небу таскает. Вот и я так – моя душа парит где-то в небесах, а тело по жизни с тарахтеньем едет и эту неприкаянную душу за собой на нервах тащит. Лопнет капилляр, тромб застрянет – трос оборвется, и умчится душа туда, откуда явилась, а тело уйдет в утиль, куда ему и прямая дорога, из праха в прах…
Недавно, правда, угораздило на экскурсию съездить. Вообще-то я никуда ездить не люблю, на оперу палкой не загонишь, в балет на ошейнике не затащишь, от концертов держусь подальше, а всякие экскурсии с экскурсами и экскурсоводами очень не жалую, но аспирантка заставила. Что делать, согласился, хотя и думаю, что если художник – подмастерье бога, а бог целыми днями на облаках спит, то и подмастерье у него под боком посапывать должен, во сне хоть грешишь меньше и болезни не одолевают. И я бы спал, но аспирантка уговорила – мол, поедем, хочу Бельгию увидеть и выставку посетить. Ну, выставка – это всегда интересно посмотреть, как художник с ума сходит. Ладно, поехали.
Как выяснилось, экскурсию организует одно из этих наших турбюро, на которые жалобица из синагоги жалобу писала, а я переводил (тараканы на подгоревших спагетти). Я об этом мокрощелке напомнил, а она говорит, что хочет по-русски рассказы экскурсовода слушать, чего в немецких бюро нет. Ну, ладно. Приготовился к худшему, запасся лекарством от всех болезней в стеклянной таре, поехали.
Ехать надо в Льеж, а программа насыщенная: на первом этаже музея будет ретроспектива Шагала, на втором – выставка «Венера от Боттичелли до Модильяни». Собрался полный автобус бывсовлюда, казахские немцы и еврейские эмигранты. «Фашисты» и «жиды» – так они друг друга ласково называют, и я буду для краткости. На две партии четко поделены и с нескрываемой неприязнью друг на друга поглядывают. И мы с мокрощелкой в самом конце, на последнем сиденье, чтобы целоваться в дороге можно было.
Путь к прекрасному начался с плотного завтрака. «Жиды» – все больше булочки, маслице, ватрушечки, а «фашисты» сразу на котлеты с пивом налегли. Сидят, жуют, наворачивают. По автобусу колбасное облако поплыло. Гид им про барокко, а автобус ему – про жареную куру: закуси, родной, потом доскажешь. Гид про Брейгеля-старшего, а они ему – рюмашку: дерни, мол, легче будет горло драть. «Жиды» поели, сложили пакеты и заснули, а «фашисты» от пива к водке перешли. Скоро уже и первый блев случился. А в автобусном туалете кнопка слива всегда где-то, хрен знает где, под рукомойником спрятана, ее наши бывсовлюди никогда найти не могут – надписей не понимают. Поэтому часа через два после начала каждой экскурсии в автобусе дух нагнетается. Немецкие немцы тут же высадились бы и жалобы подали, а наш человек ничего, терпит, ко всему привык, котлеты жует и курой закусывает. Блев разбудил «жидов»: «Ах, да как это так?.. Что за хамье!.. Мы на прекрасное едем смотреть, а тут такое!.. От кого убежали, те за нами по пятам следуют!.. Деревенщины!.. Придурки!» И прочее в таком духе, брюзжат.
«Фашисты» тоже в долгу не остаются: «Это кто же за кем по пятам прибыл: мы за вами или вы за нами?.. Мы на родину предков приехали, а вам чо тут ваще надо?.. Откудова вас столько из города Жидомира?.. Нам из-за вас, шакалов, всю социалку ополовинили!.. Мало вас травили, гадов!..» И тоже в подобном духе. В общем, возле музея первая стычка произошла. Силы неравные: «жиды» – в возрасте, толсты, неповоротливы и все больше женского пола, а «фашисты» – мужики с крестьянскими кулаками (их, оказывается, скопом с курсов послали, сами ни за что бы не поехали, не хватает еще денег на всяких шагалов тратить, мало их по синагогам развелось). Ничего, обошлось без крови.
Вошли в музей гуськом. А в залах не пошумишь – там весь мир ходит: и голландец важный, и канадец поджарый, и итальянцы душистые, и датчане тихие, и американцы с наглыми улыбками. Парфюм, вежливые жесты, красивая одежда. Притих наш бывсовлюд, распри забыл, курточки-болоньи одернул, пошуршал-пошуршал – и пошел двумя стайками Шагала осматривать, причем «жиды» гаммы и цвета обсуждали («Видишь, Лева, вначале он больше светло-голубой использовал, а потом на синий перешел». «И как не побоялись поручить ему Оперу в Париже расписывать?» «Можно проследить движение вверх». «Изумительный сиреневый тон»), а «фашисты» все больше пытались понять, что именно и конкретно нарисовано: «А это чего, петух?» «Нет, козел, вон рог у него». «Сам ты козел, это не рог, а хохол». «Бабу безногую и пса-урода трехлапого видели?» «А слыхали, гид говорил, вот такую картинку за сто миллионов продали?!» «Не бреши, вот ту маленькую?..» «А это кто же, мамочка, то ли кот, то ли индюк…» «Он чего, краску в хозтоварах для обоев брал?.. Все синее и синее!»
А я тем временем в зал Венеры пошел. Всяких баб там повидал: толстых и худых, красивых и уродок, цветных и черно-белых, плоских и выпуклых, на холсте и бумаге, из железа и дерева, в бронзе и камне. От голого мяса в глазах зарябило. И с кем только эта Венера не трахалась!.. С Аресом и Зевесом, с Гефестом и Парисом, с Марсом и Вулканом, с Адонисом и Гермесом, еще со всякими античными плейбоями, кого мы и не знаем!.. Конечно, при такой клиентуре немудрено и венерическое подхватить: у Гефеста сто процентов простатит был, Парис наверняка от трихомоноза умер, а Гермес вековой гонореей страдал. А Венерам хоть бы хны – сидят без дела и только о ебле и елде думают.
Правда, одна рубенсовская Венера из общего веселья выпадала. Называется «Venera frigida»: сидит на корточках, задом к зрителю, и скучное лицо в сторону повернула. У ее ног злобный амурчик носом клюет, а из чащи Пан со вставшим членом выглядывает: почему, мол, не идешь?.. А вот не хочу – и не иду. Нет настроения. Фригидная я. Эй, Венера, сам Пан зовет!.. Он свое дело туго знает, чего кривляться?.. Нет, не хочу – и все. Бывает. Не в настроении. Или еще что мешает. Тут со времен Евы всегда понять трудно, в чем проблема: думаешь, слон, а оказывается – муха. Ловишь муху – и нарываешься на слона. А бабы, видно, и в рубенсовские времена такие же упрямицы были, как и теперь.
На обратном пути в автобусе – та же история: «фашисты» после музея дернули по двести и начали «жидов» дразнить: мол, чего вы, Розензафты и Цифербюмы проклятые, тут булочки кушаете, езжайте в свой Жидостан и с арабами бейтесь, если такие честные иуды!.. Геббельс лосей велел расстрелять за то, что у них жидовский профиль, а вы чем лучше сохатых?.. А «жиды» после такого количества прекрасного душевно устали: снулые сидят, отбрехаться не могут, изнемогают под бременем красоты. Только один какой-то бывший скрипач про культуру что-то вякал, пока жареной свининой по затылку не получил. Слава богу, скоро «фашисты» от пива, жратвы и тряски повырубались. «Жиды» пошушукались – и тоже подушечки под щечки подложили, засопели.
А мне все Венера Фригида мерещилась. И зад ее перламутровый, необозримый, лунным светом облит. И лицо злое – сама не знает, чего хочет. Так тебе и надо, толстухе!.. Рада будь, что хоть кто-то на твои телеса зарится, сейчас другие дамы в моде (мобильные, легкие в управлении, компактные). Конечно, одна кончает браком, а другая – раком, кому что по душе. Но когда сам Пан зовет – отнекиваться не надо, второй раз он своих рогов из чащи не высунет: не ты одна – весь лес его.
Таких вот баб-задавак терпеть не могу: есть причина – говори, нет – чего выкаблучиваться, как тот дубинал с жопьими щеками, что погоду на RTL ведет. А худшие из этих задавак – это рыжие: и упрямы до невозможности, и самые большие бляди. Это, оказывается, оттого, что бог им каких-то гормонов то ли переложил, то ли недодал – вот они свои эмоции сдерживать не могут, часто во внезапную похоть впадают и пилятся напропалую со всеми, кто им под клитор попадет. Или, наоборот, заупрямятся, как ослицы, – и все, с места не сдвинешь, дур набитых. Собаки на сене, кошки на соломе. Вроде моей упрямой мошки Мушки – она тоже на зов никогда не откликается.
(Вчера вдруг объявилась на зеркале, чуть я ее зубной щеткой не прикончил случайно. Очень телевизор любила: сядет на экран – и давай по диагонали бегать [так ей, наверно, удобнее смотреть]. Особенно научно-популярные передачи жалует – как динозавры передохли, ледники сошли и жизнь зародилась… Я ей гнездо из карандашной точилки сделал, но она туда редко влезает, предпочитает в кистях ночевать – свободолюбива. Наверняка в прежней жизни художником беспутным была, вот и пошла по нисходящей… Я ей колбасных крошек в точилку кинул – не ест, вегетарианка. Ей салаты из пыли нравятся, суп-пыльцу подавай или рагу из былинок. Ну, тогда пусть сама себе готовит, я ей не повар.)
Поездка закончилась хорошо – весь автобус всю обратную дорогу беспробудно спал и в темноте не слышал, как экскурсовод о венерах разоряется, рококо с барокко путая (о чем мне сообщила щекочущим шепотом в ухо аспирантка, украдкой вытирая мокрую от спермы ладошку о переднее сиденье).
А живая жизнь дальше идет. Недавно опять в тюрьме пришлось побывать. Противное ощущение, хоть и знаешь, что скоро наружу выйдешь. Вообще тут по спецприемникам много нашего бывсовлюда сидит, без документов, виз и денег. Немцы ума не приложат, что с ними делать. Не успел войти, как Бирбаух выдает мне обходняк:
– Счетчик включен. Без него денег нет. А без денег ничего нет…. Тут подпишите, чтобы все правильно было, – ткнул он в листок желтым от пива жирным пальцем и украдкой сделал значительный глоток из бутылки. – Вот мой сосед подарил сыну на день рождения «Порше». И что же?.. Сын сделал аварию. Теперь ни «Порше», ни сына. Зачем такие глупые подарки делать?.. Но богач! Деньги куда-то тратить надо?.. А теперь?.. Ни денег, ни сына…
– Печально. А слыхали, как у одного мальчика акула руку откусила?.. Прямо к берегу подошла и кинулась, – рассказал я в ответ. – Дядя мальчика сумел акулу на берег выволочь, спасатель ее ножом зарезал, а какая-то бой-баба зонтом пасть открыла, руку вынуть ухитрилась; успели в больницу отвезти и обратно пришить.
– А платить за эту операцию кто будет?.. Страховка?.. Люди, значит. Мы, народ, – всполошился Бирбаух (судя по пустой бутылке под столом, он сегодня с утра был занят обдумыванием печальных финансовых вопросов).
– Это в Америке случилось.
– А, тогда пусть янки платят, они богатые, – успокоился он.
В комнате переводчиков – Хуссейн и злая китайка Линь Минь. От нечего делать листают журнал «Focus» (оставленный д-ром Шу) и обсуждают судьбу корабля с беженцами, который вот уже две недели дрейфует в Индийском океане – ни одна страна не дает ему причалить, не желая принимать беженцев.
– Корабль должен быть сейчас где-то здесь, – Хуссейн указал на карте точку возле Австралии.
Линь Минь поправила редкие волосенки и сыграла на своем горловом ксилофоне:
– Афганцы с этого корабля рассказали репортерам по телефону, что каждый из них заплатил по пятьсот долларов. А тут в журнале написано, что нелегально перекинуть в Европу человека из Афганистана стоит пять тысяч долларов. Это как понять?
Хуссейн засмеялся:
– А вот так: если за пять тысяч в Европу привезут и до полицейского участка доставят, то за пятьсот долларов только до необитаемого острова подбросить могут – и все, не дальше.
– Для некоторых, наверно, лучше на необитаемом острове жить, чем от голода подыхать, – сказал я, а Линь Минь неопределенно добавила:
– Тем более что столько земли свободной, даром пропадает…
– Это где же лишняя земля? – неприязненно покосился я на нее.
– А в Сибири, – нагло уточнила она.
– Сибирь принадлежит России. Китайцев там только не хватало.
– Сибирь – это достояние человечества, а не только России. И по высшей справедливости в ней должны жить китайцы, которых так много, – возроптала Линь Минь, глядя на меня с таким возмущением, как будто это я с Ермаком Тимофеевичем резал и порол сибирских жителей. – И китайские племена там жили задолго до того, как русские вообще на свете появились. И будут жить!
Тут уж я не выдержал, огрызнулся основательно:
– Во-первых, кто виноват, что китайцы плодятся, как кролики?.. И во-вторых, да, в Сибири уже жили гунны, монголо-татары и всякие прочие дикари-кочевники – и что хорошего они сделали?.. Полмира разрушили, а другую половину сожгли. Пользы от вас – как от атомной бомбы!
– Россия захватила Сибирь силой, – заявляет эта противная китайка.
– Кто бы говорил! Китайцы весь Восток покорили, на Тибет зарятся и насчет золотого треугольника подумывают. Вот Лхасу показывали, в Тибете. Священный город. А там Потала, дворец изгнанного вами далай-ламы. А на Потале этой сейчас красные флаги развеваются, в дацанах вместо монахов китайские коммандос расквартированы, – ответил я. – Это как понять?
Тут вошла Ацуби. В комнате сразу посвежело, а пожилая китайка с индюшачьим подбородком стала еще противней. Ацуби раздала папки, сказав мне, что я вместе со Шнайдером должен ехать в тюрьму. Это было хорошо – время идет, контора пишет. Но когда Ацуби добавила, что и она едет с нами (снимать отпечатки и фотографировать), на душе стало совсем радостно.
– Подождите нас во дворе, мы сейчас придем. А тут поработает Зигги, – сказала Ацуби и, отперев музгостиную, хотела упорхнуть, но сегодня у нее на голове была такая тысяча африканских косичек, что я наивно удивился, как это волосы могли так быстро отрасти – ведь в прошлый раз она была стрижена под мальчика…
– Эти косы прицеплены, – доверчиво дала она мне пощупать стыки, где чужие косицы были вплетены в ее волосы.
– Сколько же времени длилась операция?
– Долго, часа три, – ответила она и довольно решительно отняла у меня косицы, которые я продолжал мять. – Пора. Я оденусь и выйду. Он уже ждет, идите же.
В машине я сел возле Шнайдера. Ацуби устроилась сзади, придерживая ящичек, чемоданчик и походный поляроид. Лэптоп бережно прижат к бедру. Шнайдер, покрутив ручку приемника, нашел музыку, но ее скоро перебили новости, и Шнайдер, прослушав информацию о проекте нового закона о беженцах (о котором в последние дни твердили все газеты), в сердцах выключил радио.
– Я одного не могу понять: эти люди в нашем правительстве – кто они вообще, враги немецкого народа?.. Только полный идиот может придумать такое, как эти психи из партии зеленых… – не удержался он.
– А что они предложили? – О новом законе я слышал, но без деталей.
– Сейчас мы принимаем только тех, кого преследует государство. А «зеленые» предлагают принимать также и тех, кто преследуется не государством, а частными лицами. – Шнайдер потер седой бобрик. – Вот две мафии в России поссорились, и одна к нам прибежит – сдаваться и прятаться. А потом и другая. Или директор базара какого-нибудь торговца притесняет – тот тоже к нам. Или самого директора мафия мучит – он тоже к нам!.. Это же бред какой-то!.. Но этого мало! – поднял он руку. – Эти идиоты предлагают принимать всех, кто терпит притеснения из-за своего пола. Мало нам гомиков, педиков, сексиков!.. Теперь всех женщин Востока, кто не хочет носить чадру и подчиняться законам шариата, милости просим в Германию!..
– Удивляться нечему – в партии «зеленых» одни женщины… А те мужчины, которые есть, еще хуже женщин, – поддакнул я.
– Совершенно верно. Сколько еще терпеть власть этих недоучек?..
Шнайдер был возмущен – обычно он держался в рамках, но сейчас не мог скрыть раздражения. Ацуби сидела молча. Я видел краем глаза ее матовые полудетские пальцы с короткими, но ухоженными ногтями. Она бережно придерживала лэптоп, которому я завидовал от всей души, – с удовольствием прижался бы горячей щекой к ее прохладному бедру…
– Не расстраивайтесь, – сказал я Шнайдеру. – Больше беженцев – больше работы.
– Это для вас. А у меня день нормирован. Мне больше совсем не надо, – откликнулся он. – А стране – тем более. И так на грани банкротства стоим, довели социалисты, скоро в ГДР превратимся… А как жили?! О, как жили!
И он принялся вспоминать, как было хорошо и весело жить в 70-х годах: марка была на вес золота, народ процветал, немцев всюду уважали, пенсии и зарплаты каждый год повышались, а инфляция падала, больничные кассы за все платили, но вот началось, как всегда, на Востоке – перестройка, падение стены, полумертвая ГДР, куда уходят миллиарды, как в пропасть, как в бездну…
Под брюзжание Шнайдера мы углубились в лес. Вот и проволока, черный собачник с овчарками, угрюмые здания с решетками.
– С этим типом, которого будем опрашивать, – осторожнее, это вор или бандит. Был пойман в ворованной машине с бандой угонщиков. Целый интернационал: албанец, чех, он, а четвертый скрылся. Вы за своей сумочкой следите и подальше от него садитесь, – предупредил Шнайдер Ацуби. – У коллеги недавно тут портмоне вытащили. Немудрено – охрана такая, что ее больше, чем зэков, бояться надо.
На проходной виднелись широкие торсы вахтеров. Мы подошли ближе. Из будки вылезла розовая харя в бейсболке и недобро взглянула на наши ящички-портфели:
– Кто? Куда? Зачем?
Следом на ступенях появилась небритая морда с серьгой в ухе. Она дожевывала бутерброд с колбасой. Шнайдер объяснил, кто мы и зачем.
– Все тут оставить! – указала харя дубинкой на наше снаряжение.
– Как же оставить? Нам это надо.
– Мы посмотрим и принесем. Это можете взять с собой, – указала харя курносым рылом на сумочку Ацуби. – Личные вещи не трогаем.
– А если как раз там бомба или пистолет? – прищурился Шнайдер.
Харя пожала плечами, а небритая морда, дожевав хлеб и сплюнув, сказала:
– Нет приказа личный досмотр делать. Через щуп прогоним – и все.
И действительно, щуп пошел вдоль наших тел. Пришлось извлекать ключи, очки, мелочь, снимать часы. Овчарки, внимательно слушавшие наш разговор, опять начали рычать и прыгать на прутья клеток.
– Пошли-пошли, а то собаки нервничают, – сказала морда и повела нас к зданию, где и сдала с рук на руки наголо бритому детине в черной кожанке-безрукавке и бандане. Он завел нас в здание и пинком сапога распахнул дверь:
– Вон ваша камера. Кого вам?..
Шнайдер подал ему бумагу с именем. Детина, посовещавшись с кряжистыми вахтерами, где искать этого оборванца, утопал прочь. Тут ввалилась небритая морда и беспардонно скинула на стол наше снаряжение. Шнайдер со вздохом начал доставать бумаги, ручки, бланки, диктофон, папки. Ацуби принялась неловко орудовать поляроидом, вытаскивать походную ленту для отпечатков, порошок для мытья рук, настраивать лэптоп. Я молча помогал ей, в тесноте касаясь то плечом, то локтем, пока Шнайдер не сказал мне:
– Оставьте, не надо помогать, она должна учиться сама все делать… Вот лучше просмотрите, – передал он мне папку. – Тут его заявление, протокол задержания, данные.
фамилия: Бурштейн
имя: Давид
год рождения: 1960
место рождения: г. Золотоноша, Украина
национальность: еврей
язык/и: русский / украинский
вероисповедание: еврейское
В заявлении нормальным почерком и без ошибок было написано, что он, Бурштейн Давид, будучи евреем-фотографом, много лет подвергался преследованиям со стороны властей, был ими неоднократно мучим и при побеге ранен в ногу.
Тут загремело, застучало. Из-за решеток (которыми был закрыт коридор) появился знакомый мордоворот. Голова повязана красной пиратской косынкой. На лбу складки, как на затылке. К поясу привешены наручники, револьвер, складной дрючок, нож, рация и баллончик с газом. На шее – свисток с черепом. За ним тащился небритый горбоносый парень с длинным лицом и голым черепом.
Я поздоровался с ним, сказав, что я переводчик, а это чиновник по беженцам. Парень кивнул и без приглашения сел за стол, но Шнайдер велел ему пересесть к стене. Увидев фотоаппарат, он сказал:
– А, мордолян?.. Ну пусть щелкает. – И нехотя перебрался на другой стул.
Ацуби сделала снимок, сняла отпечатки, с опаской касаясь его татуированных мосластых лап, а потом села за мной и не произнесла ни слова до конца интервью, что-то записывая в блокнот. Уточнили анкету. Все было правильно. Паспорт и виза отсутствовали, зато в клеточке «клички и подпольные имена» надо было поставить крестик – парень сообщил с важным достоинством:
– Я – Бура. Меня всяк бурундук от Черкасс до Киева сто пудов знает. Можно так называть, я в понятии. Кому разрешаю – пусть. А кому нет – того, аля-улю, в бараний рог скручу! – И глаза парня стали злыми.
– Что такое?.. – заволновался Шнайдер, но я успокоил его:
– Ничего, говорит, что его кличка Бура и его все знают на Украине.
– Еще бы, если он вор или бандит, – отозвался Шнайдер.
– Что это, он меня «бандитом» величает? – спросил Бура, недовольно щурясь и доставая сигарету из спортивных штанов.
– Ну, тебя же с автоугонщиками поймали… – ответил я от себя.
– Да не надо мне туфту шить!.. Я не васюрик вчерашний. Никаких фактов нет. К тем шалыганам касательства не имею! Просто в телеге вместе оказались. Пусть докажут. Хрен с редькой им в нос! Сто пудов чистый я! – Он угрожающе заскрипел на стуле, попросил пепельницу, но мордоворот в косынке, заглянув в открытую дверь и услышав его просьбу, громко щелкнул дубинкой по плакату с перечеркнутой сигаретой и погрозил Буре:
– Ферботен! Запрещено! – и со злобным стуком захлопнул дверь.
Шнайдер включил диктофон и попросил беженца назвать место своего рождения и адрес, по которому жил.
– Насчет рождения в папирах все тик-так. А адрес!.. – Бура усмехнулся, спрятав сигарету за ухо. – Их у меня за последнее время навалом. И в Америке был. И в Дании сдавался. И в родной милиции сидел, и в американской полиции побывал. И в подвалах хоронился, и в буре[63], аля-улю, гнил. Какой ему?
– Домашний адрес, где он реально жил, а не там, где только был прописан, – спокойно уточнил Шнайдер.
Бура подумал, нехотя продиктовал: «Stadt Solotonoscha Tshervonosavodskaja 15/10». Я записал и передал Шнайдеру. Он взглянул, не стал ломать язык, а сказал в микрофон для секретарши, чтобы та переписала адрес с листа.
– Уточните, кто из родственников остался у него на родине. Есть ли на Западе близкие родственники?
Родственников никаких ни на Украине, ни на Западе у Буры не было:
– Фатера убили, когда я еще соплежуем был. А мотейка померла года три назад… Сто пудов три года будет в январе.
– Где учился? Был в армии? Где работал?
Учился Бура в школе неплохо, мать была учительницей и заставляла его заниматься. Отец был инженер и много не пил. Но в последних классах Бура подсел на кокнар и попал в колонию, где отсидел три года за горсть мака, которого на любом огороде – хоть задницей ешь. В армии не был – судимых не брали. Работал фотографом в местной газете – с детства любил с фотоаппаратами и всякой техникой возиться.
– И с машинами, очевидно, – ехидно вставил Шнайдер.
– Да, и с машинами, а что?.. С детства несправедлуху терпел, все меня доставали – еврей, мол, жид пархатый, курчавенок, еще не висишь в петле?.. Ничего, сука, скоро тебя и других жидаев, жидовок и жидайчат на суку повесим! Что ни день – после школы в подворотнях били и мучили, гилье отнимали… Ну, деньги…
– Для евреев открыт Израиль. Почему вы не уехали туда, если вам было так плохо? – заметил Шнайдер.
Бура отмахнулся:
– Да ну, в самом деле!.. Был в том иудском Израиле, к родичам фатера ездил, больше не хочу, спасибо большое. Жара, вонища, грязь, только держись… Много Абрамов вместе – это очень плохо. Я вообще никуда б не дрыскнул с Украины, если б меня эти твари позорные не достали…
– Он говорил, что был в Америке? – спросил Шнайдер. – Когда? Где? Пусть скажет подробнее!
Бура насупился, потер небритые впалые щеки:
– Да, был. Смылился туда в прошлом году, просил убежище. В лагерь под Нью-Йорком загремел. Там – драка. Я дал одному китаезу по чану, а чан и распаялся. Воркуны настучали, надо было рвать когти. Увихрил на юг, где потеплее. Там опять сдался, убежище попросил. Чалился месяца три. И дело уже ништяк в мою пользу корячилось, но пришлось обратно на Украину гнать – на жену стали наезжать, не могла она без меня, она тогда с икрой была…
– С икрой? – не понял я и попросил его говорить понятнее, на что он ответил:
– Говорю, как могу… Ну, брюхата, ребенка ждала. Она у меня веревка упорная. Приезжай да приезжай!.. – выманивала меня из Америки. А я, дурак, тогда в нее вкляканный был… ну, любил, значит. Притрюхал на зов. Вижу: гилья нет, голый вассер…
– Вассер?.. – переспросил я.
– Ну, дело дрянь… А псы откуда-то узнали, что я в Америке убежище просил, и еще хуже привязались. Ну лаять каждый божий день – предатель, дезертир, мы тебя под землю уроем, голову отрежем! Вижу – пузырно дело, сто пудов бежать надо опять, пока эти братилы не замели. Ну и дернул в Данию, через Чухну. Потом и прищепка моя туда же рванула. И вот мне – отказ, а ее пока держат!
– Значит, ваша жена в Дании? – уточнил Шнайдер.
– Ну да.
– Вы же сказали, что за границей родственников нет?
– Жена – разве родственница? – удивился Бура.
Шнайдер записал даты и спросил дальше:
– Как вы в Германии в конце концов оказались?
Бура вздохнул и что-то прошептал про себя. Я переспросил, но он, помотав головой, ответил:
– Рвать копыта надо было из Дании, чтоб не депортировали после отказа. Решил в Неметчине азюль просить. Капусты нет – ехать как?.. На поездах – стремно, ксивы смотрят. Вот один румын предложил: «Поехали, мол, со мной до Неметчины, а там дальше – сам». Я в согласии. Он еще двух прохиндеев взял – албана одного, кабана, и чеха противного. И погнали…
– А кто четвертый был? – поинтересовался Шнайдер с карандашом наготове.
– Никого. Не было четвертого. Приснился всем четвертый.
– Приснился? – Шнайдер подозрительно посмотрел на него, но потом махнул рукой и попросил продолжать, а мне тихо сказал, что это, в конце концов, не наше дело, а следствия, пусть они и мучаются…
Бура оживился, потер щетину, прошелся рукой по черепу:
– Как въехали – так нас, аля-улю, полиция сразу и взяла за пищак. Обшмонали капитально. Мои личные котлы, браслетку зинберную, видик, камеру… – перечислял Бура на пальцах. – Все прахом пошло, все под ворованные вещдоки подвели, изъяли с протоколом. Откуда ж я знал, что этот чех противный и албан позорный – воры, а «пежопель» их блядский – в розыске?.. Чех, шалай, мне свой шперц с волчатами не показывал…
– Шперц?.. Волчата?..
– Ломик – замки ломать. И отмычки. И кто же знал, что албан этот хуев – земленог?.. Ну, беглый, значит, адда, его по всей Германии давно ищут. Я откуда знал?.. Ничего не знал сто пудов!.. Сел и поехал с ними по глупости.
Шнайдер иронично посмотрел на него:
– Вас поймали около Фрайбурга, на самом юге Германии. А из Дании в Германию въезжать надо, между прочим, с севера. Почему вы сразу не сдались, а бог знает сколько и где ездили?
Бура подумал, пожевал губами:
– Румын-гадюка не пустил, начал мне вола вертеть: сиди, мол, катайся, куда спешить, смотри природу. Ну и вот, досмотрелся, аля-улю. Сто лет не надо такой природы.
Уточнив даты, Шнайдер спросил, чего, собственно, Бура хочет, в чем его проблемы. Тут в комнату без стука заглянул верзила и спросил, не надо ли чего.
– Нет, нет, спасибо. Пожалуйста, не беспокойте нас! – твердо ответил Шнайдер.
Верзила с сонной подозрительностью поглядел на всех поочередно и захлопнул дверь. Бура повертел в руках сигарету и сунул ее за ухо:
– Я попал в самый черный список, когда в 1999 году снял на фото, как в Черкассах синагогу пожгли. Обидно мне стало. Мой дедуня там жил и в ту синагогу ходил – а эти гады красного петуха пустили, глазом не моргнули. Я после пожара фото щелкал, а меня мусора прямо на месте повязали, пленки и аппарат ногами истолкли. В скотовозку суют, товарят, дело открывают. В общем, еле откупился тогда рыжьем, что от мотейки осталось. Считай, краем прошел. Второй раз в их сучьи лапы попал, когда снимал сходку на площади: опять в ментуру поволокли, в бур кинули, держали без хлеба и воды. Сто пудов еле очухался. Я, как вышел, вбился в робу, галстук одел, попросил былиша моего, братана близкого (он со всем начальством вась-вась) к мэру завести – жаловаться. А мэр, сука ебучая, на меня ОМОН вызвал – мол, преступник, угрожает…. и всякие такие глупые песни…
– Без ОМОНа ни один рассказ не обходится, – весело вздохнул Шнайдер.
– Да, ОМОН. Эти быки меня на козлодерку сволокли, опять в бур забурили. А когда на допрос повели – я через открытое окно скакнул на улицу. Они – стрелять, собак пустили… Вот, весь покусан, и пчела в ноге сидит. – Объяснив мне, что «пчела» – это пуля, он задрал штанину, показывая на икре следы от укусов, более похожих на человечьи, нежели на собачьи. – Но я от гавок юзанул. И – сюда.
– Как? Какими путями? – спросил, прищурясь, Шнайдер, сказав мне вполголоса: – Хотя, конечно, правды не услышать…
Бура улыбнулся:
– Да не трудно, если зелень есть. За баксы через чухляндскую границу поводила переволок, а в Хельсинках за баксы на паром русские бомжи помогли нырнуть. Так в Дании оказался. Оттель досель прибег.
– Хорошо, – подумав, решил что-то для себя Шнайдер. – Спросите его, это все его причины?
– Да, а что, еще надо?.. Сто пудов могу еще много рассказать, как по бумажке прочитать… Сказок расскажу – заснете глубоким сном!
– Нет, нет, ничего не надо, хватит и этого. – И Шнайдер, уточнив данные жены, спросил: – По какой причине ваша жена просила политическое убежище?
– По моей причине. Жить нельзя там, стремно очень, погано, полный амбужур.
– Амбужур?.. Что это такое? – не понял я.
– Что ты, родной, простых слов не понимаешь?.. Тревога значит, паника, атас, – с сожалением посмотрел на меня Бура. – Беспредел, своевольняк, фашизм! Вот у нас бикса на диско похиляла, там ей в коктейль подлили что-то, она на второй день очнулась у себя в ванной, льдом обложенная, а на боку – разрез, через который почку вынули… Я бы вернулся туда, да мочи нет! Страну надо разбыковать, а тем, кто быкует, в ноздри кольца и в стойло! Вот тогда можно и цурюк[64]…
А Шнайдер гнул свое:
– Значит, у вашей жены отдельных причин нет?
– Да вроде нет. Какие?.. Она же прищепка моя. Куда я – туда и она.
Пока Шнайдер писал что-то на листе, я вполголоса спросил у Буры, почему тот не едет в Германию простым путем, как контингентный беженец, то бишь по еврейской линии.
– А потому, дядя, что у меня фатер – иудей, а мотейка – украинка. А немцам надо наоборот – чтобы мать еврейка была. По их кодексам так. Моя губася сунулась было с бумагами в немецкое консульство, понюхать, что к чему, – так они такой гандель подняли: нет и нет, не положено!.. Наоборот – пожалуйста, а так – не идет.
Время подходило к двенадцати. Шнайдер еще раз уточнил, где паспорт Буры и сколько времени он уже скитается.
– Ксивы?.. Давно нет. В Америке осталась. Мне срочно мотать оттуда пришлось, а ксивы в деле не было, где-то валялась, даже нищало не дали собрать, баладоха-сторож пришел, погнал… Нищало?.. Ну, сидор с вещами. Обещались переслать, но ничего пока нет. Сто пудов забыли. Так без чистого глаза и кантуюсь. В земленогих уже около двух лет, не могу больше, устал. Очень прошу помочь. И жену из Дании вывезти сюда, а то она жалуется, что в лагере албаны ее к проституции толкают. Я поехать не могу, чтоб тех скотов лично казнить. Так что сделайте милость – помогите!
– Хорошо, хорошо, посмотрим. А пока заполните!
Увидев, что это бланк украинского посольства о потере паспорта, Бура наотрез отказался его заполнять и подписывать:
– Да чего немец, свихнулся, что ли?.. Белочка у него?.. Ничего я не подпишу. Лучше тут на тюрьме сидеть, чем там, в Козлостане, гнить, клянусь аля-улю!.. Жар у фрица, видать… Чтоб я, своей рукой, подпись на возврат ставил?.. Да ни в жизни!..
– Ваше дело, пошлем и без вашей подписи! – ответил на это Шнайдер, услышав, что беженец не хочет подписывать бланк. – Но если вы сами подпишете, то вернетесь домой без проблем – мы визу продлим, на сколько надо. А не подпишете – будет куда хуже: если мы вас депортируем, тогда ваши власти узнают, что к чему, и вам не поздоровится…
– Как это вы меня без ксивы депортируете?.. – ядовито-сердито усмехнулся Бура. – Посылайте свои запросы!.. Сто пудов долго ответа ждать будете!.. Обыщитесь! Я давно на куклима пошел, – окончательно рассердился он и, не отвечая на мой вопрос, кто такой куклим, вскочил и постучал в дверь: – Больше ничего говорить не собираюсь!.. Я у вас, тварей, помощи прошу, а вы меня назад в зоопарк загнать хотите!.. Давай, вертухай, волоки на хату!.. Там больше понятий у людей, чем тут!..
Шнайдер велел ему подписать протокол. Бура фыркнул:
– Да что я, идиот? Ничего я не подпишу! – И пару раз ударил ногой по двери: – Веди в барак!
Мордоворот в косынке, притопав из глубин коридора, забрал Буру с собой. Я вышел за ними покурить. Бура остановился, прикурил от моей зажигалки и спросил:
– Ну, что делать будут со мной?
– Сидеть тут, наверно, будешь, пока они паспорт не найдут.
– Напугали волка мясом! – презрительно сморщился Бура. – Сидеть – не пахать. Посидим. Не впервой.
– Форвертс! Вперед! – рявкнул мордоворот и подтолкнул его в шутку под зад дубинкой.
– Но-но! – огрызнулся Бура. – Чухлан мордатый!
– Камо привет! – сказал я ему напоследок.
– Уже отослали, – кинул, не оборачиваясь, Бура.
Двигались мы обратно тем же путем, как пришли: от верзилы – к розовой морде, от морды – к небритой харе, которая вылезла из будки и еще раз щупом провела вдоль наших тел, но мелочь из карманов не приказала вынимать и снаряжения не тронула, отдала паспорта и, хрюкнув что-то неразборчивое, нажала кнопку. Решетчатые двери разъехались.
Снаружи было куда легче дышать. Шнайдер, галантно помогая присмиревшей Ацуби укладывать багаж, спросил:
– Ну, что скажете? Вы первый раз в тюрьме были?
– Интересно, но немного страшно, – созналась Ацуби, а я опять пожалел, что родился не лэптопом и не лежу, прижатый к ее бедру. Был бы лэптоп – и все тип-топ!
Разговор крутился вокруг Буры. Шнайдер был уверен, что Бура – вор международного масштаба и давно рыщет по Европе, просто делает вид, что он такой простой фотограф, только что приехал.
– Почему вы так думаете?
– А у него некоторые интонации и жесты такие, знаете, наши уже… И считает он по пальцам так, как тут, а не как у вас. У вас же пальцы при счете загибают?.. А он разгибал, как в Европе принято. Удивление изображал губами тоже по-нашему… – И Шнайдер комично зафукал ртом. – И вместо «ой» говорил «вау»… Или рукой перед лицом водил, когда возмущение высказать хотел… И веко оттягивал, чтобы презрение продемонстрировать… У вас так не делают, жесты другие…
– Откуда вы знаете? – вырвалось у меня.
– А я на семинаре был, а потом в командировке, год в России. Нас специально всяким психологическим штукам учили… Даже об отпечатках пальцев отдельный семинар читали.
– И что говорили? – пискнула Ацуби.
Шнайдер браво расправил плечи, коротко взглянул на нее в зеркальце (наверняка тоже не отказался бы от лэптопова места):
– Очень интересно. Оказывается, отпечатки пальцев бывают трех видов: завитки, дуги и петли. Завитки – сложные отпечатки, редко встречаются. Дуги – более примитивные. А петли – обычные, часто встречаются. Люди-петли терпимы, доброжелательны, оптимисты. Люди-завитки склонны к авантюре, лежебоки и лодыри, на ленивом Востоке частый тип. А люди-дуги – как танки, пробивные, толстокожие, равнодушные, среди начальников и политиков много таких. Впрочем, у обезьян узор пальцев много сложнее, чем у человека, а это значит, что в чем-то они умнее людей, – заключил он со смехом.
Ацуби вспомнила на это, что и по руке можно определить человека, они как раз недавно проходили это на семинаре: если кисть худощавая, то это указывает на живой ум, а широкая и толстая, мясистая кисть служит признаком грубости и животных инстинктов; люди с мягкими руками впечатлительнее и нежнее чувствуют, чем люди с твердыми руками. Дерматоглифика называется, руковедение.
Потом мы немного поспорили о том, может ли копыто лошади или верблюда нести столько же информации, как и отпечатки пальцев у людей. Шнайдер был уверен, что нет и что копыта подобны деревьям с их временными кольцами, а Ацуби, напротив, считала, что рисунок копыта так же индивидуален, как отпечаток пальца, ушная раковина или роговица.
– Вы, милая фройляйн, наверняка также уверены, что и подкова – неотъемлемая часть копыта, такой железный нарост, а? – старомодно пошутил Шнайдер.
– Нет, просто я биологию в гимназии любила, – ответила Ацуби, поглаживая лэптоп.
– А как вы относитесь к тому, что по черепу можно определить личность человека? – спросил у нее Шнайдер.
– Думаю, что теория Ломброзо неверна.
– Судя по головам наших политиков, очень даже верна… Вот нарядите в лохмотья наших политиков – это же классические преступные типы!.. Министр иностранных дел – типичный карманник: глаза бегают, походка вороватая!.. Министр труда точь-в-точь на грабителя с большой дороги похож!.. А сам канцлер на зазывалу в борделе смахивает, в своем бриллиантине и кашемировом пальто!.. – развеселился Шнайдер. – Если их ночью в темном переулке встретить – страшно станет. А мы терпим. Коля свергли, потому что «был глуп». Хорошо. А эти – что? Умнее?.. Да они – враги своего народа, если такие законы придумывают, чтобы всех встречных-поперечных принимать!..
– Все политики такие, не только в Германии, – вставил я.
– Знаете, о немцах говорят, что они всегда разрываются между звездами и картошкой. Вот наши сегодняшние деятели явно ближе к картошке, чем к звездам…
– А иные уже в пюре превратились, – поддакнул я, вызвав смех Ацуби. – Но для политика лучше быть ближе к картошке, чем витать в облаках.
– Они и в картошке витают – вот в чем трагедия. Некомпетентны и заносчивы. Заложники своих кресел…
– Вы сегодня говорите, как Фидель Кастро, – заметил я.
Шнайдер улыбнулся:
– Невольно покраснеешь и «Капитал» Маркса читать начнешь!.. Еще одна наша беда – исполнительность на грани глупости. У вас, в бывшем соцлагере, беда, потому что никто законов не исполняет. А у нас беда, потому что слишком рьяно исполняют. Вот пойдут теперь толпы «негосударственно преследуемых» – посмотрим, какое столпотворение будет. Что еще нас ждет?.. Впрочем, есть решение закрыть наш лагерь, – искоса посмотрел он на меня. – Вы уже слышали?
– Да, что-то краем уха… Но только очень дальним краем…
И мы принялись обсуждать эту невеселую весть. Хватило до самого лагеря, где мы распрощались: Ацуби со Шнайдером отправились в здание, а я зашагал к вокзалу.
Чокнутая Сусик
С днем рождения тебя, родной! Желаю и дальше на мир без очков смотреть и одних красивых женщин видеть, врагом бутылки не бывать, косяк не забывать и живую жизнь на рифмы не натягивать. О себе ничего утешительного сказать не могу. Вновь какая-то мерзость напала, стыдно даже признаться: правое яичко ноет, свербит, как будто из мошонки наружу просится. А что ему снаружи надо: всмятку или вкрутую переродиться?.. Новую жизнь начать?.. И что за мразота ко мне постоянно вяжется?.. И, главное, невидимая, вроде биооружия. Что прикажешь делать?.. Как до яичка дотянуться?.. Мошонку резать?.. И как будто при ходьбе даже мешать стало. Ну, известно, плохому ходоку… И отрезать – тоже нельзя: какой уж ходок без этого?.. И куда вообще тогда идти?.. Ухогорлонос говорит, что это проклятый тиннитус уже до нижнего этажа дотянулся. И зудозвон теперь все тело, насквозь, от плеча до мошонки, пробирает. Что делать?.. Поплелся к Яичнику. Он перчатки натянул, велел на живот лечь, колени к подбородку подтянуть… В общем, страшно даже вспоминать… Чистый козел опущения, как тот Лунгарь, что Выхристюком оказался.
Потом этот яйцевед говорит, что, на его яйцевой взгляд, все в порядке – яичко не спящее, не слоновое, не увеличено и не ущемлено. Приказал широкие трусы носить и алкоголя меньше пить. Ему легко говорить, у самого – вид цветущий, надменный. Вот тварь мудевая, вампир желточно-белочный!.. Чего уж, кажется, задаваться, если в мошонках целый день копаешься?.. Нет, туда же, над жертвами издеваться, гадина яйцеведная! Иуда-кастратор!
Или скажи, к примеру: зачем многоуважаемые боги эти злосчастные яички со всем генным кодом внутрь человека не спрятали, а снаружи к нему присобачили?.. Ведь всем известно, что яички предельно ранимы и крайне беззащитны: каждое неосторожное движение их травмирует и каждая блядь коленом так поддать может, что небо с овчинку покажется?.. Где их божьи глаза были?.. Вместо того чтобы яички глубоко внутрь сунуть, они их снаружи привешивают. Очень умно, нечего сказать!.. Или глазное яблоко – вместо того, чтобы прикрыть его понадежнее, как у крокодила, они его полностью обнажают: коли, кому не лень, и любая муха может укусить, и младенец ложкой с манкой выковырнуть!.. А всякую крепкую дрянь вроде костей, сухожилий и мускулов внутрь пихают и прячут. А ты по-умному сделай: костями важное защити, а нужное спрячь подальше, вот тогда польза будет, а не мучения, как сейчас.
Как видишь, родной, про новое время ничего хорошего сказать не могу – одни мучения. А про наше с тобой старое время специально не вспоминаю, чтоб душу не бередить. Да, было нам хорошо. Когда-то и где-то. Да, старая жизнь была наивно-простой и примитивной – партия позаботилась, уберегла совнарод от глупого изобилия и ненужных соблазнов. И правильно: зачем пятьсот сортов колбасы и тысяча сортов сыра?.. Только на ненужные мысли наталкивает, обжору в человеке тормошит и собственника будит – вставай, иди работай, чтобы четыреста шестьдесят восьмой сыр кушать. А зачем оно нужно?.. Сыр – он и есть сыр, сырье, не более того.
Да, было время, были люди, были места… А сейчас закон трех единств (опять, в который уже раз) нарушен. И порушен. И все главные герои умерли. И даже многих мест не осталось, где нам когда-то было хорошо – чего теперь вспоминать, души травить?.. Подлое время не остановишь. Вот один французский писатель в поисках утраченного времени намарал нуднятины миллион страниц, а что толку?.. Шиш получит на том свете.
Вообще эти писатели – хуже художников. Художник выпьет пива и сбацает что-нибудь по-быстрому. А псаки (вижу опиську, но не исправляю) сидят и пишут, пишут и сидят. Эти фраера двух пород бывают. Одни – быстряки-шустряки, которые пишут короткими фразами, потому что им писать некогда или лень (то бой, то дуэль, то карты, то бабы, то охота, то пехота, то неохота). И другие – рохли-размазни, которым на свете делать нечего, вот они и катают кирпичи в сто пудов. А что потом? Художник свое изделие хоть в детсад продаст, а эти эпусы кто читать будет?.. Ну ничего, жить этим писакам недолго: компьютер их заел, и чтение как процесс уже отмирает. Скоро на свете вообще только один большой монитор и останется, куда все мировое мудачье день и ночь пялиться будет. Мониторщики-экраноманы. Компьютерофилы.
Кстати, обдахлоз Фриц недавно мне популярно объяснил, что такое Интернет, а то я все слышу, да не знаю, что такое. Чтоб и ты понял, объясняю по-простому. Оказывается, Интернет – это большая мировая свалка-канализация, куда всяк свое дерьмо слить норовит. Компьютер – вроде твоего личного унитаза. Серверы – общие выгребные ямы, куда все дерьмо стекается. А провайдеры – это ассенизаторы, которые фекалии туда-сюда по адресам разносят. Спустил воду в своем персональном унитазе – и порядок: твое сообщение уже в общем потоке бултыхается, по трубам в выгребную яму попадает, а шустрые провайдеры его оттуда выдернут и адресатам доставят.
И грязный, говорят, этот Интернет. Вирусы по нему ползают. Включил свой унитаз – а тебе с монитора кто-то большую подмигивающую задницу показывает – мол, все твои файлы и мейлы уже сожраны. Ты думаешь, что какая-то очаровательная инкогнито в лифчике тебе «Ай лав ю!» говорит, а это на самом деле гадина-вирус по твоему жесткому диску ползает, все стирая, сам себя размножая и клонируя – «фак лав ю» делает. Скоро мировой герпес все компьютеры источит. Посмотрим, как тогда людишки жить будут.
Уверен: когда метеорит, астероид, комета и магнитная буря все электричество на земле вырубят (а ждать недолго, Монстрадамус говорит, что скоро все это случится), то развитые страны сразу погибнут, а выживут самые отсталые, которые компьютера и в глаза не видели, только слышали, что в горах есть один лэптоп, но у президента – ему без компьютера героин по странам не распределить, считать трудно. Кстати, знаешь ли ты, чем арабские цифры отличаются от римских? У римских нуля нет, счет с единицы начинают. Арабы усекли и тысячу лет римлян дурили, наживались, пока нуль в мире не всплыл.
Так-то, родной. Люди работают, новые вещи создают, нули находят, а мы с тобой?.. Валовой продукт потребляем, но не производим. И любой осел полезнее нас с тобой. Вот если тебя всего обрить, то сколько за твою волосню денег дадут?.. Ноль с хвостиком. А если мериноса обрить, то можно два кило шерсти снять, по две тысячи долларов за кило – итого четыре тысячи долларов с овцы. Да не один раз, а каждые пару месяцев. А с тебя если шкуру спустить – другой не вырастет. И не купит никто кожу твою, даже китаец побрезгует, на суп не возьмет. Понял теперь разницу между собой и овцой?.. Человек зверю всегда проиграет в честном бою. И по эволюции слаб: за одну эякуляцию из самца-мужчины пятьсот миллионов сперматозоидов выбегает, а один только до цели добирается. А у рыбы из ста тысяч мальков двадцать тысяч выживают и рождаются. Вот и смотри, кто больше к жизни приспособлен, у кого КПД выше и нормы лучше.
А живет кто дольше?.. Любая ворона и деда, и отца, и тебя переживет. И еще над гробом твоего внука летать будет. Или, например, пусть охотники со зверями посоревнуются: кто быстрей дичь найдет, убьет, разделает и сожрет. Человек на последнем месте окажется, уверен. Как вообще думаешь, кто сильнее: люди или звери?.. И что будет, если зверино-спортивную олимпиаду, спортсменов с животным миром стравить?..
Летняя Звериада где-нибудь в пустынях проходить будет. Зимняя Бестиада – в Гималаях. Вся легкая атлетика парнокопытным достанется. Про тяжелую не говорю – с носорогом и бегемотом вряд ли кто соревноваться захочет. Слону-дискоболу первое место обеспечено. В прыжках с шестом призы берут гориллы. В подводном плавании – рыбы. В боксе, борьбе, самбо – кошачьи. В пятиборье – страусы и кенгуру. Сила и ловкость у всех, кроме человека. Это и понятно – зверь алкоголя не пьет, трахается раз в году и ест столько, сколько надо. Пьяных и толстых зверей в природе нет, только среди домашних скотов, на своих хозяев похожих. Жирные звери не выживают – или сами от перегрева дохнут, или их кто-то на протеин рвет. И поделом.
А человек?.. Ох, далек он от природы, очень далек. У человека – непомерно развитый мозг и хилое тело (вставшее на две ноги раньше времени, отчего кости таза не держат, позвонки плющатся, а колени – высыхают). И это логично. Ведь эволюция произошла не из-за желания обезьяны трудиться, а как раз наоборот – из-за лени и вражды к труду: обезьяна поняла, что лучше в теплой пещере лежать, жрать, пить и трахаться, чем за дичью бегать и ждать огня с неба. И поэтому вынуждена была придумать лук и стрелы, рубило и кремень, западни-капканы, ловушки-заманки. А потом пошло-поехало: бронза, железо, колесо, веревка, сеть, плеть… Мозг у обезьяны додул, наконец, до денег – чтобы, вообще ничего не делая, все получить. Золото выдумали. Но золота мало, а желающих много. Тут без ножа, топора и огня никак не обойтись. Так из человекоподобной обезьяны развился обезьяноподобный человек.
После денег и оружия уже ничего важного не выдумали, только поняли: зачем самим золото наживать, если можно чужое, другими добытое, захватить?.. Начались войны, бойни, захваты, осады, блокады, дань, брань и всякая дрянь. Потом еще и религии прибавились. В кого веришь?.. В Аллаха?.. Голова с плеч!.. Сколькими перстами крестишься? Тремя?.. Отрубить пальцы. Христианин? Кол тебе в брюхо. Знали бы мифические боги, сколько из-за них реальной крови пролито, так вообще на свет не родились бы. Если бы, конечно, совесть имели. Садомазохисты небесные. Ничем другим мировой шиз не объяснить. Опера «Шизель» в трех актах: из шизели вышли, в шизели живем, в шизель уйдем.
Я бы и не выходил никуда, но вызвали недавно. Надо ехать. Потащился рано утром. Вовремя успел. Сквозь дверь увидел, что Бирбаух занят перекладыванием пива из ящика под стол. В этот момент его беспокоить – что цирковому льву на хвост наступить: загрызть не загрызет, но покалечить может. Рядом – коробки с печеньем, галетами и шоколадом.
– Запас пополняем? – спросил я его, когда он наконец впустил меня в дверь нажатием кнопки.
– А что делать?.. Надо же пару пфеннигов заработать, пока проклятый евро не пришел. Конечно, есть вещи важнее денег, но без денег их не купить. Дураки вот говорят, что за деньги, мол, здоровья не купить. Может быть. – Он усмехнулся и поднял кверху складчатый отечный палец с длинным ногтем на мизинце. – Купить, может быть, нельзя. Но значительно улучшить – можно! И даже очень значительно! Курорты, массажи, ванны, отдых и покой… Вот обходной. Работайте на здоровье. Правда, что у русских есть поговорка: «От работы кони дохнут»?.. Молодцы! – Но, отсмеявшись, он заметил: – Потому и Союз развалился, что все они там лодыри были… Да, раньше был «Drang nach Оsten», а теперь – «Drang nach Westen»[65]!
– Не развалился, а вы его развалили. Кто вас заставлял?.. Сами и развалили! Нечего теперь жаловаться. Пеняйте на себя! – парировал я, и он заткнулся.
В коридоре слышны голоса. Дверь в музгостиную открыта, но там никого нет, только мигает монитор и горит лампочка поляроида. В комнате переводчиков разговор идет на повышенных тонах. Красный от возбуждения Хуссейн что-то гневно доказывает угловатому парню в грязной дубленке, от которой несет бараном. Парень меланхолично молчит, уныло глядя на свои черные ногти. Коллега Хонг с копной прямых волос пытается что-то сказать Хуссейну, но ее птичье кряканье тонет в его гневных рыках. Арабы-переводчики и так всегда орут на своих клиентов, как пастухи на баранту (маленькие Саддамы). А тут еще какое-то возбуждение, понять можно. Парень безучастно смотрит на меня, облизывая губы, время от времени прикрывая глаза и лениво почесываясь. Перед Хуссейном лежит открытая папка – очевидно, уточнялись данные.
– В чем дело, уважаемый коллега? – спросил я. – Что, сына Саддама Хусейна поймал?
– А в том дело, что пусть для него вызывают другого переводчика! – нервно захлопнул папку Хуссейн. – Все. Пусть другой ему переводит.
– Почему?
– Потому.
Хонг поспешила объяснить: оказывается, Хусейн и парень-курд говорят на одном и том же курдском языке, но на разных его диалектах: Хуссейн – на сорани, а парень – на корманчи.
Хуссейн опять заклокотал:
– Да этот корманчи – базарный диалект, неучи на нем говорят. Я парня понимаю хорошо. А он говорит, что меня не понимает. Да он не меня – он вообще ничего не понимает!.. Посмотри на него, в каком он виде!.. Бледный, белый, говорить не может, рот высох, руки дрожат. Или опиум выпил, или гашиш покурил! Ничего не соображает! Гашишист! Опиист!
Услышав знакомые слова, парень глухо запротестовал. Хуссейн разразился тирадой, которой позавидовал бы сам Ашшурбанипал. Отругавшись, он заключил:
– Зачем я должен мучиться?.. Что, у меня заказов мало?.. Пусть ему другого вызывают!.. – и хлопнул папкой по столу.
Парень стал что-то возражать, но хватило его ненадолго: постепенно он сник, затих и прикрыл глаза. Лицо отливало лиловым.
– Вот. В каком состоянии на интервью явился!.. – указал на него карандашом Хуссейн. – В кайфе, не видишь?..
– Ну, а тебе что? – сказал я ему. – Не ты же в кайфе?.. Вы что, вообще не понимаете друг друга?..
– Как не понимаем?.. Но я говорю на литературном языке, а он его не понимает, тупица деревенская.
– А ты говори так, чтоб он понял, – посоветовал я.
– Лучше скажи начальству, – сказала Хонг. – Если дело до суда дойдет, он скажет, что переводчик все неправильно переводил, и тогда у тебя будут проблемы. Лучше заранее скажи!
– Правильно, коллега! – вдруг сразу успокоился Хуссейн. – Надо сообщить, пусть они решают. Чего я нервничаю?
– Лучше анекдот расскажи, – попросил я. – Про багдадских воров. Ты же много знаешь.
Хуссейн горестно поморщился:
– Э, у нас воров много, все воры!.. Вот поймали в Багдаде вора, который украл мешок собачьего корма. Посадили его в камеру к контрабандисту, который сидит за пять мешков опиума. Наутро контрабандиста отпускают домой. Песий вор спрашивает: «Как это так? Где справедливость? Я украл мешок с собачьим кормом – и мне шесть лет грозит. А тебя поймали с пятью мешками опиума – и домой отпускают?! Почему?» Контрабандист поправил чалму и говорит: «А потому, что судья собачий корм не кушает!» Ты вообще знаешь, какой суд у нас?.. – уставился на меня Хуссейн. – У нас главный судья – деверь Саддама. Заведет в зал сто человек. «Кто справа стоит, тем по пять лет. Кто слева – по восемь. А кто в середине остался – по десять!» И все – суд свою работу закончил. Вот такой суд!.. Недавно хороший анекдот про Саддама рассказали. Приходит к нему сын Удей и говорит: «Папа, дай один день страной поуправлять!» – «Тогда я тебя испытаю вначале. Принести сюда мешок с крысами!» Принесли. Саддам развязал его – крысы разбежались по дворцу. Саддам говорит: «Собери их теперь обратно в мешок!» Сын бегает, бегает, несколько штук только поймал, запыхался, устал. «Видишь?.. – говорит Саддам. – А теперь посмотри, как надо!» Принесли еще один мешок с крысами. Саддам истоптал его ногами, о стену раз десять трахнул, ножкой от стула побил, пару раз из своего золотого пистолета выстрелил, потом открыл мешок – а ни одна крыса и носа не высовывает. «Вот так надо управлять!»
Все засмеялись. Парень тоже закопошился, Хуссейн строго посмотрел на него, но милостиво пересказал ему по-курдски анекдот. Парень пожевал высохшими губами.
– Вот, понял же! – обрадовалась Хонг. – Ты скажи ему, что если нового переводчика вызывать, интервью опять перенесут. Ему невыгодно.
– Да он все равно выше сороковой параллели живет, ему ничего не поможет, – ответил Хуссейн.
– Это еще что такое?..
– А такое: тех курдов из Ирака, которые живут в зоне американского патрулирования, не принимают, – объяснил Хуссейн и, видя, что мы не понимаем, пояснил: – Американцы придумали зоны безопасности, между сороковой и сорок шестой параллелями, и патрулируют их. И вот тех курдов, кто живет в зоне патрулирования, тут не принимают – мол, они в безопасном месте живут, им ничего не угрожает. И этот балбес, – Хуссейн указал глазами на парня, понуро глядевшего в стол, – живет как раз в этой зоне. И поэтому ему ничего не светит.
– А по диалекту можно определить, кто где живет?..
– Можно, но трудно. У нас в каждой деревне – свой диалект. И за столько лет все смешалось, люди туда-сюда переезжают…
– Да, у нас в Союзе тоже так – всякие бамы, стройки, целина, лагеря, депортации, все не там живут, где надо…
Парень почмокал сухими губами, пытаясь что-то сказать, но это ему не удалось. Осовело оглянувшись, он попросил жестом воды.
– Дурень! – покачал головой Хуссейн и повел его в туалет.
Хонг ручкой поправила волосы, щебетнула:
– Нет, если с беженцем непонимание, лучше отказаться вообще. Знаете, были случаи… Вот раз на суде китайский беженец заявил, что переводчик во время интервью его не понимал и все переводил в пользу немцев. А этот беженец каким-то мафиози оказался. Тут у него сто человек родни живет. И родня стала грозить переводчику: обещали убить, потом избили, кажется…
– И что дальше? – спросил я без особого удовольствия (с сотней мафиози связываться никому неохота).
– Пришлось переводчику самому убежища у немцев просить. Те его перевели в другую землю, спрятали…
– Дали убежище?
– Не знаю деталей. Но неприятностей в любом случае было много. Так что надо быть очень осторожным. И если говорите на разных диалектах, сразу надо сообщать начальству… Лучше потерять двести марок, чем потом проблемы всю жизнь иметь…
Ацуби появилась одновременно с Хуссейном. Тот начал было рассказывать ей про сорани и корманчи, но Ацуби сказала, что с этими вопросами надо обращаться к Einzelentscheider, тот решит. И Хуссейн криками погнал парня в другую сторону. Хонг упорхнула за своим контингентом, а я открыл папку. На фотографии – женщина лет пятидесяти, темноволосая, носатая, похожая на сову. Данные:
фамилия: Ахмедова
имя: Сусанна
год рождения: 1955
место рождения: г. Волгоград, Россия
национальность: татарка
язык/и: русский / всякие другие
вероисповедание: выкрест
«Что за “выкрест”?.. Какие “всякие другие” языки?.. Белиберда какая-то…» – думал я, направляясь в приемную. Сусанну было нетрудно разглядеть среди плюгавых беженцев. Одета в темное ватиновое пальто довоенной моды – с громадными накладными плечами, блюдцами-пуговицами и карманами вполбока. Полная, расплывшаяся фигура. Около ушей завиваются темные баки. Под крупным носом – жесткие усики. Черные волосы – в какой-то хаотической прическе. Одна прядь неумело выкрашена помадой в красный цвет.
– Добрый день, я – ваш переводчик! Буду помогать объясняться с чиновниками.
– Ах, вас послал мне добрый ангел! – умильно уставилась она на меня, подавая руку (большую, грубую, мозолистую). – Нет, не послал, вы сами – ангел, добрый белый пушистый ангел!
«Ангел. Все понятно», – подумал я и ответил:
– Какой же я белый?.. Я уже полусерый…
– Нет, нет, вы белый. Знаете что?.. Замрите на мгновение! – Она, не выпуская моей руки, отклонилась всем корпусом назад. – Стоп, мгновенье, ты прекрасно!.. Я вижу вас на фоне черных гор… В профиль! Так Меершильд любил ставить актеров. В профиль к зрителям!.. Гм, у него и у самого профиль был очень и очень… А тот, другой – наоборот, ставил актеров в анфас… И даже иногда задом, если надо паузу выждать… Простите, я забылась, – спохватилась она, отпустив мою руку. – Мы тут не для театральных споров. Что делать? Куда идти?
– Идти недалеко, тут рядом, – уклончиво отвечаю я, пропуская в дверь ее тушу.
Бирбаух украдкой с одобрением поднял большой палец – мол, хороша! (Он всегда говорил, что бабы должны быть крупны и мясисты, и вообще толстухи добрее кляч.) В коридоре я замечаю, что идет она с большим трудом, ковыляет на каблуках.
– Что, с ногами проблема? Соли? Подагра? Артрит?
– По глупости надела новые туфли – и вот… Но ничего, страдания возвышают… Мой папа всегда об этом говорил… Да, да, не спорьте, это бесполезно. Он не ошибался. О, он был великий человек! Маэстро своего дела! Маркиз де Ад перед ним – ничто, ничтожество!
Мы вошли в музгостиную. Желтоликий вьетнамец послушно замер перед фотоаппаратом, хотя Ацуби была в другом конце комнаты, где измеряла рост у второго щуплого и покорного паренька-старичка.
– Прошу, садитесь, надо уточнить данные! – Я отодвинул стул от стола.
Усатая женщина-сова плотно уселась, уложила перед собой здоровую, потертую, видавшую виды сумку и с интересом уставилась на вьетнамцев:
– Боже, какие плюгавенькие… И желтенькие…
– Только желтый рис кушают, – поддакнул я, открывая папку и читая вслух данные. Имя, фамилия и год рождения – все было правильно.
– Меня с детства все называли Сусик. Вот я и сейчас Сусик. Вы же знаете, что душа у человека не меняется, только тело стареет… – пояснила она застенчиво.
– Лучше б наоборот… Можно и мне вас называть Сусик?.. Очень поэтично.
– Вам все можно. А как вы думаете, мое тело очень постарело? – Ее застенчивость сменилась топорной игривостью, она задышала чаще, хищно зашевелила пальцами в подагрических узлах.
– Трудно сказать, – сказал я, на всякий случай отклоняясь назад.
Она умильно уставилась мне в лоб влажными бараньими глазами:
– Нет, вы знаете! Вы все знаете!.. Вы – мой Херон!
– Харон, имеете в виду? – уточнил я, понимая, что у нее, помимо прочего, проблемы с именами и фамилиями. – А то Херон как-то плохо звучит…
– Ах, ну конечно, Харон!.. Ну, тот, который на цепи около реки сидел… Входы-выходы охранял.
– Ясно. Родились в Волгограде?
– И я, и мой папа – мы в Волгограде родились. Мой папа был скульптор-самоучка, гений. А мой дед оказался на Волге после сталинских депрессий, как крымский тартар. О, тебя, тиран, я ненавижу! – сжала она кулаки в синих разбухших венах и вдруг с такой грозовой ненавистью выкрикнула: – Задушила бы собственными руками усатую гадину! – что Ацуби в страхе обернулась, а вьетнамец вжался в стул; коллега Хонг, щебетавшая с другим беженцем, тоже в испуге замерла, исподлобья смотрела на странную женщину.
– Это она про Сталина вспомнила! – успокоил я их. – Он ее дедушку сослал.
– А, – кивнула Ацуби, но на всякий случай отодвинулась.
Сусик сидела красная, возбужденная, комкала сумку и была, кажется, готова заплакать.
– Успокойтесь, тиран давно мертв – чего теперь из-за него нервы портить? Забудьте!.. – приказал я ей и перевел разговор: – Значит, вы родились в Волгограде?
– Да, по языку я русская, но по паспорту – несчастная татарка. – (Речь у нее была чистая, без акцента и волжского оканья, но с сильным аканьем, свойственным югу России.)
– Имя у вас не очень татарское… больше на армянское смахивает, – заметил я, на что она гордо усмехнулась:
– Вы предельно наблюдательны. Моя мать была армянка. А меня назвали в честь ее матери, моей бабушки, только она Нушик, а я – Сусик. Эта бабушка Нушик в Нагорном Карабахе жила. А мать у меня была святая, чудесная, светлая!.. Столько лет жить с непризнанным гением – это тяжело, поверьте, всю жизнь – верх кармашками! Но она терпела! Страдала – но терпела!.. Такая женщина!.. Избу на скаку остановит!.. Вот такая, особая, не всем дано. Что, не верите? – с подозрительной неприязнью взглянула она на меня.
Я поспешил заверить ее, что верю, но добавил:
– Но и вашему отцу, наверно, нелегко было… Впрочем, скульптору – скульпторово. Сам виноват в своей беде, как и все художники…
Сусик гневно всколыхнулась:
– Как вы можете так говорить? Вы ничего не понимаете! Это великое чувство – когда тебя просто тошнит от желания по каплям отжать людям свое сердце… О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупать! Вот! Кто это сказал?
– Какой-нибудь дезертир, – предположил я. – Угодил за решетку и теперь хочет выйти сухим из воды. Только не «искупать», а «искупить», насколько я помню…
Сусик победно усмехнулась:
– А вот и нет, именно искупать! Слезами отмыть добела… Вы же сами говорите – из воды выйти!.. Не спорьте!.. Искупался – выходи! Мой папа всегда носил меня после ванны в постель. И всегда пел марш тореадора. Он носил меня до шестнадцати лет. И всегда пел этот марш. Ну, вы помните!.. – И она грубым голосом начала фальшиво и громко напевать известную мелодию, отбивая такт обоими каблуками.
Ацуби, через плечо поглядывая на нее, вполголоса спросила у меня:
– Может, врача?
– Не надо, она не буйная, – ответил я тоже тихо, а Сусик в это время на ломаном английском активно интересовалась у испуганного вьетнамца, откуда тот прибыл в сию благословенную страну.
– Оставьте его, Сусик, он ничего не понимает. Из вьетнамской глубинки. Вы его еще на французском спросите…
– А что? Народы надо освещать! – твердо ответила она.
– Но не здесь и не сейчас. Сейчас ваш вопрос решается. Забудьте о вьетнамцах. О себе подумайте.
Сусик упрямо покачала головой:
– Нет, позвольте. Ростом они такие же, как и тартары. У моего отца было семь братьев – и все такие же гномы, карлики. А я – в мать и бабушку. Бабушка Нушик у меня красавица.
– И отлично. Знание языков?
– Русский. Тартарский. Английский. Немецкий. Французский. Карабахский. Итальянский, – безмятежно глядя на меня, начала она гордо перечислять.
– Да вы полиглот! Sollen wir Deutsch sprechen?[66] – спросил я, но она шумно засмущалась:
– Я его еще нетвердо знаю. Только тут начала изучать. Но я полиглотица, быстро управлюсь. О, во мне есть силы! – добавила она с усмешкой, а ее совиные острые брови хитро поднялись.
– Все понял, – поспешил согласиться я. – Последний вопрос – вера.
– Презренный выкрест из тартар. Папа лично выкрестил меня в церкви, но в какой точно – не скажу, забыла… Он говорил, что мусульманская религия унижает личность, а христианская – возвышает. Значит, по исламу я унижена, а по христианству – возвышена, как это теперь понять?..
– Оставим эти философские вопросы, Сусик. Тогда я запишу просто – «христианка».
– Христианского во мне много, пишите! – разрешила она.
– Так. Закончили. Теперь у вас снимут отпечатки – и пойдем.
– А у меня уже во Франции снимали, – безмятежно сообщила она.
– Вот как? И давно?
– Месяца три назад.
– Вы что, там уже просили убежище?
– Да. Там живет мой племянник. Женат на француженке, бакалавре астрологии. Спой мне, чудесник, любовник богов… помните?.. Лучия Лямурмур… Эта дура-астролог, как цыпленок, сорок кило весит. Гороскопы составляет. По звездам читает. Думает, что москиты любят мускаты, а это совсем не так… И вот, когда пришел мой отказ, она составила для меня гороскоп и узнала, что я должна не во Франции, а в Германии просить убежище. И вот я тут, на земле Гёте… И никто не помешает мне припасть к задам европейской культуры… Да, да, я должна по гороскопу жить тут, на родине Моцарта. Оперу «Волшебный кларнет» помните? – И она начала напевать что-то несусветное.
– Моцарт – австриец, между прочим, – заметил я.
– Великий Моцарт? Австриец? – она смерила меня презрительно-агрессивным взглядом. – Что вы понимаете в австрийцах?! Это то же самое, что немцы. Вот вы можете мне объяснить разницу между немцами и австрийцами?
– Такая же, как между русскими и украинцами.
Сусик хотела что-то ответить, но я, видя, что лингво-диспут грозит затянуться, подошел к Ацуби на критически близкое расстояние и, ощущая свежий запах чистых волос и бодрого дезодоранта, спросил, с кем сегодня работать и надо ли снимать отпечатки пальцев, если во Франции уже снимали.
– Работать – со Шнайдером. А насчет отпечатков… Спросите у нее, был ли ею получен отказ от французов? – Услышав, что да, был, вот он, тут, в сумке, Ацуби покачала головой: – Тогда и фото снимать не надо было… В общем, Шнайдер разберется. Если что – потом успеем. Идите. Странная женщина. В чем ее проблема?
– Не знаю. Пусть Шнайдер разбирается. А как насчет кофе с кругленькими булочками? – нагло уставился я на ее остренький бюст.
Она зарделась, однако тут же бойко ответила:
– Насчет булочек – не знаю, но на кофе времени нет.
Мы шли по коридору. Сусик с приглушенными стонами ковыляла рядом. Волосы черны и густы. На щеках, под бугристым носом, на подбородке – кустики щетинок. Охая и с трудом переставляя опухшие ноги, она говорила что-то о немецкой философии, большим поклонником которой был ее папа, в то время как мама предпочитала марксизм и работала парторгом на рыбзаводе.
– Вы знаете, я выросла в атмосфере творческих регалий. О, эти золотые дни, где они, где?.. Не успела проснуться – а папа с мамой уже из-за Барайтынского ссорятся… Только позавтракаешь – тут же и танцы: встаньте, детки, встаньте в круг, вас обслужит добрый жук… Подождите, он Барайтынский или Бородайский? – вдруг замерла она, схватив меня за руку и подозрительно вглядываясь в меня мерцающими глазами.
Я поежился, вырвал руку и ускорил шаг:
– Поэт?.. Баратынский.
– Ах, да-да, как я могла забыть, что-то барать… Бородайский – это композитор, такой… в халате и с красным носом… Сам пахал и сеял, как птица небесная… Вот. Не успели помириться, сели обедать – новый диспут о Мандельштампе. Днем они всегда почему-то из-за «Живого» ссорились… Тарелки летят, весело!.. Из избы ссоры выносят… За ужином – схватки из-за Родона, ну, который тоже скульптор был, как папа… Папа его всегда очень ругал, не знаю за что, но очень-очень ругал… Это не скульптор, говорил, а недоразумение… Ночью – споры о Сталине и Ленине. Может быть, потому я и вышла такая талантливая, что жила среди творческих регат и разных висмутов… – опять остановившись, она доверительно наклонилась ко мне, обдавая запахом крепкого пота. – А как вы думаете? В чем главная причина?
– А вы сами в какой области трудитесь? – с опаской отстранился я.
Сусик непонимающе посмотрела на меня:
– А вы что, не знаете?.. Странно… Я думала, об этом всем известно. Я во всех областях тружусь. Во мне сил на десятерых! Я хочу тут, на этой земле, отработать свое право умереть… Вот дайте мне театр – и вы увидите мою классику. Я урожденный режиссер! В «Чайке», например, дядя Ваня всех убивает из своего ружья, а потом мажет трупы вишневым вареньем – чем не громкий финал?.. Там же не написано, что он не убивает?.. Ну и все. Буревестник революции, пингвины… Свое сердце Данко сдает в банко… Или, например, у Тургенева в «Беженском луге», когда беженцы скачут по лугам, по ночам?.. Это надо решать на сегодняшнем материале – не на конях, а на танках. И не скачут, а едут, прямо на сцену. Пришли и ушли обратно… Где Макар телят пас… Пришел, увидел, ушел… Или вот опера. Это вовсе не негр придушил свою жену, а она сама задушилась шарфом. Я даже приказала, чтобы у куклы был такой же длинный-длинный шарф, как у Айдаборы Душкан – параллели угадываете?
– Так вы в кукольном театре работали?..
– И в кукольном тоже, – назидательно посмотрела она в упор. – Мой папа всегда говорил, что кукла и Кук – одного корня. Так же, как и Китай и кит. Китай велик, как кит… Такая обоюдная харя-кришна… Когда милиция забирала моего папу на пятнадцать суток, он обычно кричал: «Вы все – по национальности мещане, вас я ненавижу!..» Ох, что-то нехорошо мне… Давит… Пелена какая-то… – Она расстегнула сталинское пальто, под которым обнаружилось что-то вроде темной потертой гимнастерки, натянутой на огромные арбузные груди.
– Может, лучше к врачу? Или пальто снимите…
– Нет, ничего, надо чашку испить до конца… А пальто снять не могу, потому что сегодня не в форме – ну, вы понимаете… – лукаво посмотрела она на меня совиными глазами. – Куда теперь?..
Дверь в кабинет Шнайдера открыта. Он сидит молодцевато, не касаясь спинки кресла. Смотрит в монитор.
– Гутен таг, дорогой хер! – сказала Сусик жеманно.
Шнайдер внимательно взглянул на нее, на меня, вздохнул:
– Guten Tag! – А у меня тише спросил: – Владеет немецким?
– Не знаю. Говорит, что владеет всеми европейскими языками.
– А, понятно, – сразу как-то успокоился Шнайдер. – Всеми языками владеет, все знает, всюду была…
– И все умеет. Режиссер.
– Вот оно что. Ста-ни-слав-ский! – по слогам выговорил Шнайдер, вежливо скользя взглядом по Сусик, которая с грохотом и шумом усаживалась за стол.
Сев, она с усилием расстегнула огромные черепаховые пуговицы пальто и с видимым омерзением произнесла:
– Что, он знает Стасика?.. Стасик не для вас, немцев. Немцы перевоплощаться не умеют, слишком рациональны, их ум их изнасиловал. Папа всегда говорил: «Сусик, заруби себе на шее: немцы не могут без ума что-то делать. Они – жертвы ума. А ум разрушает пластику». Где, скажите мне, немецкие скульпторы?.. Где немецкие художники?.. – вдруг громко вскричала она, и ее совиные брови зашевелились. – Где великие актеры-фашисты? В немцах нет живности, одно истуканство!
– Что такое, в чем дело? – боязливо поинтересовался Шнайдер, услышав печально знакомое слово. – Нас ругает?
– Нет, о немецких скульпторах рассуждает. Вам не жарко? Снимите пальто, – сказал я ей.
– Нет, что вы, мне холодно, – ответила она, хотя ее покатый шишкастый лоб был покрыт потом. – Мне все время холодно. И в голове гул.
«Собрат по несчастью», – проникся я к ней добрым чувством.
Шнайдер открыл папку, поискал паспорт.
– Где ваш паспорт, позвольте спросить?
– Пропал. Улетел! Улетучился и воспарился! – И Сусик сделала плавное движение рукой, чуть не задев меня широким рукавом, от которого шел запах нафталина.
– Что значит «улетел»?.. Утерян?.. Когда, при каких обстоятельствах?
– А вот во Франции, на вокзале.
– Вы что же, были во Франции? С какой целью?
– Сдавалась в плен Наполеону, – усмехнулась Сусик, подняв вверх пятерни. На правом запястье обнажился нитяной браслет, на левом – громоздкие часы на железном ремешке.
– И какой результат во Франции?
– Вот, отказ. – И она победно выложила из сумки мятые бумаги.
Я подал их Шнайдеру. Он пересмотрел их, отобрал скрепленные вместе листы, потом позвонил и попросил Зигги подняться:
– Он хорошо знает французский, пусть посмотрит, что это. Ладно. А пока пусть представится, расскажет о себе…
Сусик, услышав эту просьбу, надменно приосанилась:
– Что ему надо? Внутренняя жизнь? Или внешняя? У художника их две. Нет, даже четыре!.. Ну да, каждой – по паре. Две – днем, перед едой. Две – ночью, перед сном, – понесло ее в какую-то фармацевтику.
– Он хочет биографию.
– Извольте, милостивый государь… Ахмедова Сусанна Азадовна, родилась в Волгограде…
– Бывший Сталинград, – с внутренним злорадством пояснил я.
Шнайдер кисло кивнул:
– Знаю. Где немцы в котел попали. Там сейчас икры много.
– Икру ложками ели. Осетрину – пудами. А балык – тоннами, – подтвердила она энергичным кивком и согнула правую руку в локте. – Потому я такая сильная!
– Верим, верим, Сусик! – успокоил я ее, уклоняясь от кулака, а Шнайдер попросил назвать адрес, по которому она жила до выезда на Запад.
– В том-то и дело, что нету адреса. И дома нету, – плаксиво пригорюнилась Сусик.
– Почему? В Волгограде, кажется, войны нет еще?..
Сусик расправила плечи и шумно вздохнула:
– Что вы понимаете в жизни!.. Пигмеи!.. Дом был оформлен на моего племянника, а его жена-астролог прочитала по звездам, что дом надо как можно быстрее продать, а то он принесет несчастье. И продала прямо из Франции, с помощью подлеца-маклера. Так я оказалась на улице. Одна… Жаль-Вальжан с Клозеттой… Никого… Ничего… – Она поморщилась, щетинки на щеках зашевелились. – Поехала к племяннику во Францию – а у него жить негде. И визу мне не продлевают. И жена-астролог ненавидит… Ну, вы знаете: под каждой крышей свои мыши… и уши… Я и пошла в лагерь. Вернее, они сами меня отвезли, на проходной оставили и уехали… Вот такое роковое влечение обстоятельств. Как в греческой трагедии, где герой всегда погибает. Агамемнонс и Клитересса… Помните, он слепой, на арфе играет, а она – глухая, всех своих детей съела… Но я не ропщу, живу трудами своих рук…
Я объяснил Шнайдеру ситуацию. Он велел записать адрес проданного дома:
– И давно все это случилось?
Она подумала.
– Полгода назад. Вот когда в Москву Косе Харерас приезжал, помните?
– Нет, откуда?.. Что за Косе? – удивился Шнайдер.
– Она, наверно, имела в виду Хосе Каррераса. Она вообще часто путает имена и фамилии. Да и слова тоже.
– Это Альцгеймер в начальной стадии, – поставил диагноз Шнайдер.
– Или что-нибудь более раннее, – поддакнул я.
А Сусик уставилась своими большими бараньими глазами в окно. Засверкали слезы. Она молитвенно сложила пятерни, всхлипнула:
– Это был дом, где прошло мое невинное детство. И светлая юность. Но мой папа был столь наивен… Он даже не знал, что дедушка, умирая, оставил дом племяннику. А почему? А тот возил его в сад гулять… Вообще этот племянник Азиз – очень хитрый, с детства у всех деньги воровал и рояль на спор сжег… Настоящий тартар из тарталетки, как мой папа говорил… Вот и случилось. Лишилась божьего приюта. Даже адреса вспомнить не могу.
– Прискорбно. Учеба?
– Школа, простая никчемная советская средняя школа. Потом хотела учить поэзию или другие искусства. Но не прошла по конкурсу.
– Где это таким предметам учат? – усмехнулся Шнайдер.
– В университете, где же еще. Ну, может, еще в церкви где-нибудь… Или вот на рыбзаводе, в кружке… Моя мать была парторгом на рыбзаводе, уважаемый человек. Но и она ничем не могла помочь, только рыбой пахла день и ночь…
– Значит, образования никакого? – уточнил Шнайдер.
– Как это никакого? А автодидакт вам знаком? Кто из великих людей имел высшее образование?.. Никто! Тут все дело в строптивых музах, коих число неизвестно. Вот этих помню… – И Сусик начала на пальцах считать имена известных ей муз, безбожно коверкая античную фонетику: – Терпигора, Уриния, Хлуя, Меланома, Стулия…
Шнайдер, обреченно посмотрев на меня, попросил беженку рассказать, чем она занималась у себя на родине перед выездом.
Сусик шумно покопалась на стуле, шире распахнула полы пальто (блеснули какие-то серпы и молоты на пуговицах гимнастерки), потом гордо сказала:
– Скульптор и художник. Владею всеми видами прикладного искусства, включая макраме… Вот!.. – И она стремительно перегнувшись через стол, схватила ножницы, лист бумаги и с поразительной быстротой вырезала узорную салфеточку, которую тут же со стыдливой, но счастливой улыбкой преподнесла обомлевшему Шнайдеру: – Прошу. Вставить в рамку – и на стенку. Но рама не должна быть амбициозной… Хотите еще? Я еще очень хорошо умею вышивать мулине… Хотите?.. Только вы должны дать мне иголку с ниткой…
– Да боже сохрани!.. Нет, нет, спасибо, хватит, больше не надо, – поспешно кивнул Шнайдер, расстилая салфеточку на принтере и шепча мне углом рта: «Заберите у нее ножницы!». – Очень красиво! Ножницы у нее возьмите, – вполголоса повторил он, видя, что Сусик ножниц из рук не выпускает. – Пусть лучше дальше рассказывает.
– В Москве мне пришлось выучиться медицине, философии, а также парикмахерскому искусству, – с сожалением отдавая мне ножницы, сообщила Сусик. – Все сферы кукольного искусства мне подвластны. Мечта моей скудной жизни – поработать с германским театром кукол. Вы знаете, они ставят свои спектакли под водой!
– Что? Как?
– А вот так! Под самой водой! На дне! – И Сусик, грузно перегнувшись через стол, шаловливо схватила со стола Шнайдера резинку и бросила ее в мой стакан с водой.
– Боже, в чем дело? Что она делает? – испугался Шнайдер, прикрывая рукой печати, гроздью висевшие на маленьком стоячке возле монитора. – Вылейте сейчас же эту воду! И эту резинку выбросите! Сумасшедшая какая-то!.. Вот и Зигги, слава богу. Прочтите, пожалуйста!
Зигги танцующей походкой подошел к столу и, вынув один наушник, взял бумаги, просмотрел их, вынул второй наушник и сообщил, что это отказ французских властей на ее просьбу о политубежище.
– Я же говорила! – победоносно сказала Сусик, но я остановил ее:
– В этом ничего хорошего нету.
– Как же нету? – гордо возмутилась она. – Это дает возможность немцам показать свое гуманитарство… И принять изгнанницу, у которой злой рок отнял все, кроме доброго сердца и большой души. Туда, туда, где в уголке есть место для нас, где музыка и балет!.. Встаньте, детки, встаньте в круг!..
Тем временем немцы перекинулись короткими фразами, Зигги ушел, а Шнайдер удовлетворенно отложил отказ в сторону:
– Теперь вопрос ясен… – И что-то пометил у себя на листке. – Есть еще, кроме племянника, родня на Западе?
Сусик веско ответила:
– Родни нет, но родственных душ полно. Вот Ганс Ибсен, например… Папа всегда плакал… Он давал мне читать разные книги… «Два моряка»… «Белые паруса»… Китайская клирика… Вы знаете, я очень давно, когда мне было два года, прочла книжку «Павильон богов». Нет, подождите: павильон или пантеон? – вдруг замерла она.
– Наверно, пантеон. Павильон – это где пиво пьют.
– А, ну да, ну да, – обрадовалась она. – Конечно, как я могла спутать?.. Знаете, в голове все мешается что-то… О чем я?.. А, да… Вот с детства все ищу этот павильон… И представьте себе, недавно через невестку-астролога узнала, что он – в Германии!.. Да-да, тут! Значит, приюта мне следует искать только здесь, в Германии! Мои первые книги – это Гейне и Шиллерт, а также Жак-Жак, отец свободы. Я этому Жак-Жаку по горб жизни благодарна! – Она вдруг с размаху звонко шлепнула себя по мощному загривку. (Шнайдер вздрогнул от неожиданности: «Господи! Что еще?») – Человек свободен! А женщина – тем более!.. Но на Кавказе женщина запрещена. Это мешало мне жить там, где тучка молодая…
– Позвольте, какой Кавказ? Вы же из Волгограда? – удивился Шнайдер, когда я с трудом перевел ему эту галиматью.
Сусик смутилась, но тут же взяла себя в руки:
– А бабушка Нушик в Нагорном Карабахе?.. Всю жизнь в земле копается, кресты поливает… Нет, это не по мне. У меня – тризна вкуса, как мой папа всегда говорил. И ты, Брут, мамкин сынок!.. – вдруг грозно вытянула она руку.
Я отпрянул, Шнайдер тоже отшатнулся, покачал головой и осторожно ввернул:
– Это все очень интересно. А какая ситуация у вашего племянника? Он получил статус беженца во Франции?
Сусик сникла. С брезгливостью огляделась, как орел среди воробьев. Поджала губы, пробормотала мутно:
– Статус?.. Племянник?.. Да, было племя в наше время… Не то что нынешнее семя… Племянник… О, он жлоб! А кто хуже – жлоб или злоб? Оба хуже. Злобный жлоб сожрал от жадности свой зоб, разбил свой дурацкий лоб…
Я попросил Сусик выражаться яснее, и она круто перешла к другой теме:
– Знаете, мне лично в Германии очень нравится. Какие тут дороги!.. Какие машины!.. Какие уютные прочные дома!.. Плодовые деревья растут прямо на улицах!.. Как разумно расположены вдоль дорог деревни… А главный их король – это Фридрих Барбосса!.. – вдруг оживилась она. – Да, да, я читала… Он жил где-то на скале, на цепи… И лев клевал его печень… Что-то в голове мешается… Так, о чем я?.. А, о Карабахе… Там села строят как попало, неграмотно – где-то в горах, в недоступных местах. Туда так трудно добраться… Казалось бы, зачем строить село в горах?.. Не удобнее ли его построить внизу, в долине?.. Тогда все смогут приехать, бабушку навестить… Вы знаете, про карабахцев говорят, что они упрямы, как ослы. Вот и я такая. Очень упрямая и упорная. И своего добьюсь. Несмотря на то, что невестка даже день моей смерти предсказала. По звездам прочла.
– И… скоро?.. – спросил я.
– Не скажу. Это парижская тайна.
– Он, кстати, у вас о племяннике спрашивал. Какой у того статус? – напомнил я.
– Женат на ведьме – вот какой. Да-да, ведьма, буржуйка. Так бы ее и задушила! – И Сусик ударом руки по столу подтвердила свои слова, а потом привстала и со смаком плюнула в мусорное ведро.
Шнайдера передернуло, но он взял себя в руки и перешел к заключительному этапу:
– Какие у вас на родине были трудности с органами власти?
Сусик изумилась:
– А вы не знаете?..
– Нет, не знаю, – откуда мне знать? – удивился в ответ Шнайдер, нервно набрав номер телефона и что-то тихо сказав в трубку.
– Какие могут быть трудности у человека с государством?.. Наступили на нос песне… Схватили за шиворот! И прямо к морде он приник и вырвал грязный мой язык! Цунге, цунге![67] – Она с размаху впилась рукой в свою шею так, что остались красные следы от ногтей.
– Язык вырвать? Кому это она хочет язык вырвать? – с беспокойством прищурился Шнайдер. – В каком это смысле? Ее язык, по-моему, очень даже на месте и работает без остановок…
Сусик высунула язык, схватила его двумя пальцами, поводила из стороны в сторону, отпустила. Сглотнула.
– У меня одна мечта – выучить немецкий язык, прочесть в оригинале «Фаустуса» и почувствовать себя человеком! Вы понимаете меня, мой добрый хер?
Шнайдер корректно склонил голову:
– Я понимаю вас, мадам! Единственное, что я могу вам посоветовать, – вернуться домой, в Волгоград. Я уверен, что вы уладите свои семейные дрязги. Или, в крайнем случае, езжайте во Францию и опротестуйте отказ, пока есть еще неделя времени. Пусть ваша невестка-астролог поможет. Это будет самое лучшее. И конструктивное.
– Почему? – ошарашенно уставилась на него Сусик. – Неужели я ошиблась в грозных германцах?.. Карлик Маркс! Анри Барабас!.. Какие имена! Карфаген будет разрушен!.. Мой папа всегда кричал это, когда гонялся за мамой с долотом. Он ее очень, очень бил… Но он и пил, очень-очень пил… Пил и бил… Бил и пил… Но какой скульптор без алкоголя?.. Таких нет! Родон тоже пил. А этот, главный, на потолках что любил рисовать?.. Вообще пьяница беспробудный!.. С козла упал – шею сломал… Почему он гонит меня обратно во Францию?.. – вдруг как бы поняв смысл Шнайдеровых слов, возбужденно спросила она (вены на шее вздулись, кулаки сжались).
Шнайдер поспешил ответить:
– Я никуда вас не гоню, боже упаси! Я вам просто советую. Знаете, есть законы, которые надо соблюдать. Если одна страна ЕС дала вам отказ – это автоматически распространяется и на все другие страны. Таков закон. Кто-то в мире должен соблюдать законы?.. Вот мы, немцы, и соблюдаем. Единственные, кажется…
– А закон, между прочим, дает человеку право жить там, где он хочет, – злобно и трезво прошептала Сусик.
– Закон и нам дает право отказывать тем, у кого нет прав на получение убежища, – огрызнулся и Шнайдер, добавив веско: – Тем более, если одна из стран ЕС уже отказала. Французы не глупее нас. С них демократия пошла, пусть теперь и расхлебывают. Хотите что-нибудь добавить?
Сусик сумрачно смотрела в одну точку. Нахохлилась, брови сошлись на переносице, воротник пальто встал дыбом.
– Что я могу еще сказать?.. В вашей воле меня наказать… Хочу быть узником, которому дают хлеб, чтобы он мог свободно творить… Кровавую пищу клюет под окном… О, во мне открылась такая безграничная фантазия!.. Где дом Гайне? Я так готова творить! – шатаясь из стороны в сторону и сильно жестикулируя, произнесла она, добавив, что в храме Абу-Симбел – ровно 365 окон, и каждый день луч солнца падает на следующее окно, и она хочет встречать рассветы в новом окне.
Шнайдер выключил диктофон, сообщил, что интервью окончено, и велел ей сказать, чтоб она спустилась к Зигги – тот знает, что делать дальше.
В коридоре Сусик спрашивала меня, как, по моему мнению, она выглядела и смогла ли доказать чиновнику необходимость ее присутствия именно тут, а не где-нибудь в глупой Франции, хоть там и жил великий Вольтерьер?
Я отмалчивался, помогая ей спускаться по ступеням. Потом напомнил:
– Не забудьте, он вам посоветовал поспешить во Францию и там опротестовать отказ, пока есть время. Но времени мало, неделя, надо спешить.
– Ах, что вы! – Она беспечно махнула рукой. – Никуда я не поеду. Мне и тут хорошо. И даже отлично. Я счастливая Сусик, под каждым кустом для меня и стол, и дом… Но знаете, – она огляделась, прежде чем сообщить мне что-то тайное. – У меня сейчас нет времени заниматься земным. У меня другие сверхзадачи… Вы про Марию Оршич слышали? Ну, та, которая ракетометы в оргазме водит? Вот и я такая… Недалеко от Пасаргады стоят слоями наши гады… А лучше всего будет, если я нарежу много-много макраме и раздарю их всем здешним служащим немцам. Как думаете?.. Тогда они поймут, какого художника они потеряли! А? Или нарисую акварелью ночные луншафты… Знаете, все темное – и только одна полоска на меже еще не сбрита… Еще я очень хорошо умею профили вырезать, как у Мейершмита… Только нет красок, бумаги, ножниц и всего остального… И денег нет… Но идея хорошая – как вы считаете?.. Вы не могли бы принести мне в следующий раз ножницы? – умоляюще впилась она в меня большими застывшими глазами, отчего мне стало жутко, и я поспешил заверить ее, что обязательно принесу ножницы, иголки и нитки, а про себя подумал, что следующего раза, очевидно, не будет, хотя кто что знает? Неисповедимы пути, неисчислимы планы, а мы, блаженные, часов не наблюдаем и календари нам не нужны.
Русский монстр
Дорогой друг, мое тяжкое ярмо – квазиремонт – с грехом пополам как будто закончен. Да, наши бывсовзолотые руки потрудились на славу: из-под ванны течет, с косой полки шампуни валятся, раковина своенравно защелкивается и воду из капающего крана собирает, пока та на пол не польется; лампа под потолком периодически замыкает, а русское ТВ то видимо, то невидимо. Но и шуршащие черточки на белом фоне смотреть интересно, если рядом распаренная, разгоряченная аспирантка, в простыню завернувшись, всякие казусы рассказывает.
Она сейчас оживлена, только что из Аахена приехала, где по своей гомосексуальной теме доклад делала и, по ее словам, фурор произвела. А самое интересное, что на доклад она вышла в вечернем платье, у которого декольте было не там, где обычно, а сзади. Сейчас среди модниц – новое поветрие: декольте не на груди, а на спине, переходящей в задницу, носить. Очень впечатляет, а делается просто: спину обнажить не до пояса, как обычно, а ниже копчика, чтобы начало задовой ложбинки видно было. Вот и вся премудрость. Дешево и сердито. И если в обычном декольте видна притягательная межа между грудями, то в заднем варианте так же заманчиво выглядит овражек между ягодицами, а сами ягодицы выглядят как чудовищного размера груди. Неисчерпаема фантазия народа, одним словом. Из-за декольте или из-за темы, но доклад в Аахене имел аховый успех. Могу в тезисах пересказать, если интересно.
Главное внимание аспирантка уделила анализу основных терминов. Было проведено тщательное типологическое сравнение метафорических имен мужских и женских гениталий («пенис» и «вагина» по-научному, если забыл). Имен пениса количественно гораздо больше оказалось, чем вагины. Качественно они также намного разнообразнее и красочнее. Учитывая, что в основном прозвища пенису дают женщины, можно с уверенностью сказать: у женщин сильнее развито воображение и образное мышление, они проводят больше времени в сексуальных грезах и куда ярче представляют себе мир в образах и ощущениях, чем мужчины, у которых не только слабо развито ассоциативное мышление, но и наблюдается общая баранья тупость, помноженная на бычий напор и отбойно-молотковую скорость.
Имена пениса четко делятся на несколько групп, по главным метафорическим магистралям, их легко и просто идентифицировать по аналогиям:
1. Природа: жмых, корешок, коряга, косточка, отросток, плешка, хобот, хорь, шишка, зайчик, ежик, кабанчик, поросенок, ящерок, тычина, хомячок, свинюшка и др.
2. Механизмы: аппарат, болт, бормашина, вентиль, генератор, монтировка, инструмент, кожаный движок, кожаная игла, махалка, пихалка, сувалка, штык, дуло, уд, монтировка, плуг, прибор, паяльник, пистолет, ствол, шмайсер, штуцер, ялдометр, шланг и др.
3. Предметы обихода: градусник, кляп, мундштук, набалдашник, зубило, наперсток, мон, обрезок, оглобля, помазок, палка, тюбик, тяпка, сигара, торчило, трубка, смычок, узел, шампур, факел, шкворень и др.
4. Еда: банан, батон, колбаса, огурец, морковка, стручок, початок, эклер, кукурузка, перчик, бурачок, финик и др.
5. Типы: затейник, кишкоправ, запридух, репортер, ведущий, балда, балун, баловник, любопытник, плакса, ванька-встанька, дурень, красавец, нахал, пачкун, щекотун, хам, хохотун, живодер, убивец, фантомас, фигурист, подсердечник и др.
6. Библейская лексика: авторитет, антихрист, кара господня, радость, смерть, конец, крест, страшный суд, посох, жезл Моисея, меч Иоанна и др.
7. Тюркские заимствования: писюлек, секулек, кутак, секулет, юлда, елда, балда, ялда, ясир и др.
Как видим, пенис в основном ассоциируется с механизмами и предметами быта. Этот факт говорит о полном презрении женщин к мужскому духовному началу и подтверждает гипотезу о том, что мужчины в глазах женщин – лишь бездушные машины, детали обихода, вроде говорящей табуретки или курящего пылесоса, и, не будь у мужчин их гениталий, женщины наверняка объединялись бы в сообщества типа амазонок или львиц в львиной семье, где нет места самцам, которых надо использовать только раз в году как воспроизводящую силу, не более того.
Метафорических имен вагины намного меньше. И делятся они всего на две категории, а именно – по размеру: на большие и малые, причем большие обозначены с большой долей грубости, иронии и неприязненности, а малые – с удивлением, почтением и даже обожанием. По мнению мокрощелки, общая семантическая амбивалентность и лексическая скудость имен вагины очевидны и являются прямым следствием примитивности мужского ума:
1. Большие вагины: корыто, лохань, империя, поилка, хлебало, коридор, дыра, жерло, прорва, кратер, зев, пропасть, бездна, чемодан, багажник, влагажник, чан, бочка, таз, унитаз, биде (и все прочее, что имеет раковинообразную форму).
2. Малые вагины: бублик, муфточка, норочка, мышиный глазок, розетка, лохматка, пирожок, пичужка, мохнатка, ладушка, скважинка, междуножное пирожное, защелочка, эдельвейс, замшетка, родничок, трещинка, дырочка, пышечка, обтяжка, гнездышко, уютка, красавка и др.
Остальные имена с трудом поддаются узнаванию, образованы от непонятных корней, морфологически слепы, лексически аморфны и вообще крайне темны по своему лингвогенезису: вряд ли кто-нибудь из ученых-вульвоведов возьмется внятно объяснить корни таких слов, как «кунка», «лыха», «сип», «минжа», «транда», «фарья», «хавырка», «хипа», «шахна», «манда», «шмонка», «шмондя» и др.
Эти факты, по мнению аспирантки, свидетельствует о стихийной первобытности мужского либидо, находящего выход в бессмысленных звукоподражаниях, междометиях, фонемах и синтагмах, которые лишены разумной окраски, возникают в подкорке и там же умирают, не успев превратиться в осознанную речь. Проще говоря: кончает – рычит, потому что говорить не в силах, а кончил – молчит, потому что говорить уже не о чем. Объясняется это еще проще: при виде более или менее привлекательной женской особи у мужчин начинает непроизвольно, как слюна у павловской собаки, выделяться тестостерон, который затормаживает речевые центры – иногда до полного блеяния. Однако сразу после эякуляции (сброса секс-слюны) выработка тестостерона резко прекращается, центры радости тухнут, происходит откат гормонов. Вот тут-то и приходится женщине изощряться в ласковых именах, чтобы тестостерон опять пошел в рост и корешок еще раз доказал свою трудоспособность. Так что не от хорошей жизни у женщин развито образное мышление, а от плохой.
Один умнейший русист из шведских славистов пошел еще дальше и совсем уж неожиданное предложение внес: для полного равноправия полов давать русским людям не только отчества, но и так называемые «матчества» или «мамчества» – если у кого, например, был плохой отец (бил, обижал, пил, бросил семью, сбежал, сидит в тюрьме, алиментов не платит и т. д.), то зачем тогда его помнить (и поминать)?.. И не лучше ли тогда дать отчество по матери-мученице, типа Иван Еленович, Василий Натальевич или Алексей Татьянович?.. Мне эта идея очень понравилась – красиво и оригинально звучит, и с точки зрения правды-матки все в порядке, и женщине-матери приятно, и общий феминизм доволен.
Мы тут же стали с голощелкой разные имена придумывать, а кто лучше придумает – тот штрафную пьет: Николай Светланович… Валерий Авдотьевич… Дмитрий Екатеринович… Настасья Ариновна… Сидор Матреныч… Кузьма Елизаветович… Фрол Феклыч… Мария Мариевна… Потап Афросиньич… Нина Натальевна… Игорь Вероникович… Виталий Ольгович… Дормидонт Анастасьевич… Рита Маргаритовна… Марина Юльевна… Иннокентий Иннович… Виталий Надеждович… Вера Любовна… Варвара Варваровна… Галина Зинаидовна… Моисей Саррович… Матвей Марфович… Яков Юдифович… Виктор Ларисович… Терентий Маланьевич… Силантий Аграфенович… Иссак Руфинович… Дорофей Аленович… Константин Тамарович… Васисуалий Василисович… У, хорошо, прямо дух захватывает!..
Напоследок аспирантка рассказала, что видела в Аахене чудо-автомат для одурачивания жен, мужей и партнеров – в этом веселом кафе над баром была надпись: «Покажи голую грудь – получишь бесплатно выпивку!», а у туалета стояла звуковая машина, где, вместе с презервативами, можно купить различные звуки: бросил монетку, выбрал нужное – а из автомата звуки дождя, шум машин и уличного движения, или крики толпы, или звон бокалов, или бубнеж доклада и т. д. звучат, а на их фоне человек может врать что угодно, что его лжи и версии соответствует, звуки подтверждают! Умно придумано! В кафе весело – около автомата очередь все время, а девки у стойки майки за бокалы с пивом с удовольствием задирают!
Да, но это сейчас мне так весело, в связи с ее приездом оживился. А пока ее не было, я из ныры не вылезал и объект для детской школы пения из их старых стульев готовил, во дворе поставить. А ночами валялся без сна и чувствовал себя так, словно я связан лианами и брошен на берегу моря своим племенем, которое обрекло меня за какие-то неведомые мне провинности быть поглощенным ночным прибоем, как это практиковалось в древности, когда хотели казнь, но не хотели пачкать рук… Телевизора не включал и новостей не слушал. Но стали какие-то непонятные слухи в мою ныру процеживаться.
Началось с того, что зашел ко мне вчера обдахлоз Фриц с собакой Шнуффи и подружкой Анкой (эта Анка – с красно-синим шагаловским хохлом, в цепочках, коже, бляхах и заклепках во всех местах, куда рука изувера-пирсингиста достать смогла, тоже панкесса или панкуда, не знаю, как правильно, из панков, в общем, раньше на социологии училась, сейчас панкует, но зимой опять за учебу примется – диплом хочет взять). Забрели на огонек. Осмотрели новый объект – кусок железной лестницы, который я недавно на улице нашел, в ныру притащил, стальным хламом уснастил, в битом стекле обвалял, эпоксидкой покрыл и к стене на шесть дюбелей присобачил, без дюбелей не держалось бы (очень хороший человек был герр Дюбель, как и другие великие немцы, без которых человечество – как без рук: гг. Штепсель и Рентген, Штамп и Штемпель, Шмайсер и Штуцер, Порше и Клапан, Штифт и Рейсфедер, Циркуль и Штайгер, Тромб и Шприц… много еще других).
Собака Шнуффи грустно в куче костей порылась, что-то грызть начала из вежливости. «Они лаком покрыты!» – испугался я, но Фриц меня успокоил: «Ничего, она и жестянки от пива ест, когда голодна!» Шнуффи укоризненно посмотрела ему в глаза, бросила кости и с обидой грузно улеглась в сторонке. Ребята сели возле нее, разложили рюкзачки, вытащили травку, заделывать начали. Крутят мастырки и о чем-то все говорят: какие-то пилоты, атаки, взрывы, срывы. В чем дело?.. Что такое?.. Ничего не понять… То ли самолеты упали на небоскребы, то ли небоскребы – на самолеты…
Постепенно они мне объяснили, что Усама бен Ладен, друг всех толмачей, четыре самолета послал небоскребы в Америке таранить. И теперь якобы Америка хочет войной на террор идти и, террор террором поправ, победить террорью сеть во всем мире. Мол, нас разбомбили – и мы разбомбим, мечети посчитаем, мусульман пощелкаем. «Это говяжье бешенство дает о себе знать. Давно большой бойни не было», – заключил Фриц. И панкуда Анка тоже загоношилась: человечество, мол, сборище баранов, предводимое козлами: «Джи-ай разбомбят, а Европа потом строй, как в Югославии!» – так громко возмущалась она, что даже Шнуффи подала свой печальный голос.
Дальше Фриц еще более странные вещи говорить начал. Якобы имеет этот бен Ладен сеть арабских камикадзе, по всем странам разбросанных и на все готовых. А больше всего их в Германии сидит. Тут – тихая заводь, где они до часа X гнездятся. И сидит такой сонный спящ тихо-мирно до поры до времени, дремлет у себя в омуте. А как приказ получит – встает и идет делать, что прикажут. Помесь сомнамбулы с зомби. Сомби. И без всяких «но» и «если» известно, что этих самоубийц ожидает место в раю, прощение всех грехов и семьдесят семь девственниц (и даже семья может следовать за ним в рай и там где-нибудь в уголке сидеть).
Ну, насчет вечной жизни все ясно – не проверишь. А вот откуда столько девственниц на том свете?.. Если одних только самовзорванных палестинцев за последний год посчитать, то целок по другим галактикам собирать придется. Ну, да нас это не касается, мы целками не заведуем. Пусть те беспокоятся, кто мировым беспорядком заправляет. И будто бы президент Буш (которого панкуда Mauskopf – «Мышья голова» – называет) очень рассердился на бен Ладена и послал армию глобальную зачистку провести, террор террором извести и все страны-изгои на плаху уложить. Неплохо задумано (коллегам-толмачам с дари-фарси-урду работы обязательно прибавится, да и мне, может, что-нибудь через кавказских ваххабитов перепадет).
Фриц новую мастырку скрутил, напевая «Morgen ein Joint, und der Tag ist dein Freund»[68], Анка парой таблеток подмолотилась, бедная Шнуффи посмотрела поочередно на всех с бабушкиным укором, а я принесенным дешевым коньяком угостился и новые вещи от Анки узнавать стал. Оказывается, уже тысячи лет назад в том азиатском регионе неспокойно было. Именно там, возле Гиндукуша, в Каракоруме, родился Заратустра. Как всякий пророк, он был вынужден бежать от сородичей, скитался по соседним странам и наконец попросил убежища у князя Виштапсу. Однако прожил там немного – чернь, узнав о его присутствии, взбунтовалась и убила князя. Заратустре пришлось бежать дальше. «Азюль искать», – подытожил Фриц, что меня почему-то насторожило: на что он намекает, что я налогов не плачу с переводов?
Но нет, так болтают. Начали обсуждать, откуда эта Америка вообще взялась. Анка утверждала, что ее египтяне открыли, о чем в святой книге «Чилам-Балам» черным по белому подробно рассказано, как на кораблях прибыли бледнолицые боги с золотыми змеями на головах и научили индейцев строить пирамиды, подарили колесо, бальзамировку, астрологию. Фриц, чудовищными затяжками добивая мастырку, был согласен и в доказательство этому поведал, что в тканях египетских мумий обнаружены мелко нарубленные листья табака и коки, а сами мумии пропитывали никотином и кокаином, чтоб на том свете не скучно было. А откуда у египтян табак и кока, если не от индейцев?.. Клар унд логиш![69]
Потом они стали собираться. У них диспут с сатанистами на вокзале намечался, потом чемпионат по пинг-понгу, проигравшие покупают на всех «экстази», и ночью все вместе идут на дискотеку. Фриц аккуратно рюкзачки сложил, травку в носок под пятку сунул. Панкуда рваные гетры подтянула, по пирсингам прошлась, хохол взбила. Последней побрела лохматая Шнуффи, понуро повесив голову и грустно понимая, что ей опять предстоит валяться голодной всю ночь на голых камнях и грызть окурки и пустые жестянки. А я, вконец удивленный этими бредовыми рассказами про самолеты и небоскребы, решил побыстрее узнать, в чем дело. На счастье, случай скоро представился – вызвали в лагерь переводить.
В автобусе все только о бен Ладене и взрывах говорят: дети друг с другом, водитель с напарником, пассажиры, радио. Все ругают арабов, только два темноволосых курчавых мальчика сидят молчаливым особняком, затравленно поглядывая вокруг. С ними никто не говорит, на них только опасливо косятся.
Бирбаух, открыв дверь, озабоченно прошептал:
– Слыхали, что творится?.. А мы этих террористов принимать должны. Будьте осторожны. Всего можно ожидать. Вдруг и у нас взрывать начнут?
– Где? Тут? – удивился я.
Бирбаух поднял оплывший желтым жиром палец:
– А почему бы и нет?.. Вы думаете, этот бен Ладен один все сделал?.. Как бы не так!.. Он наверняка нанял американцев, чтоб те помогали. Американцы за деньги все что хочешь сделают, хоть маму родную взорвут. Деньги – сила великая. Перед ослом, груженным золотом, никакая крепость не устоит, сами же говорили!.. А за мистера бен Ладена американцы двадцать пять миллионов долларов назначили премию, а?.. Да я лично за двадцать пять миллионов сдам кого угодно! – радостно возбудился он, волнистыми движениями рук показывая невидимые горы золота и серебра.
– А откуда вообще известно, что это именно он сделал? – спросил я.
Бирбаух пожал плечами:
– Может, и не он. Никто ничего не знает. Но кто-то из таких… Из этих вот… – И он неприязненно кивнул кудлатой головой на пустую пока приемную. – Ваш лист, прошу!
В комнате переводчиков угнетающе тихо. За столом молча сидят Хуссейн и Рахим, уныло повесив большие носы. Рахим трет ладонями затылок. Хуссейн бесцельно шарит по полу глазами, иногда тяжело вздыхая. Поодаль сидит маленький и смуглый, как обезьянка, человечек в роговых очках и огромных усищах. Он корректно читает газету, иногда украдкой поглядывая поверх очков на притихших коллег.
– Салам, салам… – поздоровались со мной арабы и представили усача: – Познакомься, коллега Джахан, из Индии. – (Обоюдное рукопожатие.) – Видишь, что творится?.. Сейчас всем арабам конец. Янки нас съедят.
– Подавятся. Но репрессии будут. Я за своего младшего брата боюсь, он недавно в Америке политубежище попросил… – вставил сумрачно Хуссейн, краснея лицом, а Джахан, ласково глядя на меня поверх очков и расправляя усы а-ля Махатма Ганди, сказал со вздохом сожаления:
– Эх, нету нашего Старшего Брата, чтобы защититься от варваров!.. Нету русских братьев, нету Советского Союза… «Хинди-руси – бхай, бхай!» – всегда было, со школы помню, дружба навек, а сейчас что?..
И они, все трое, начали с горечью и восхищением вспоминать, какое было хорошее время, когда Хрущев с Анваром Садатом дружил, Брежнев с Асадом на охоту вместе ездили, иракский генералитет в Москве учился, Каддафи революцию в Ливии делал, иорданский король без ста миллионов из Москвы не возвращался, в Бейруте был покой, Палестина цвела, а весь арабский мир чувствовал себя как за каменной стеной. Тогда и поганый Израиль отогнать можно было. И людей накормить-одеть, грамоте научить. Плотины строили и города возводили. Школы и больницы появлялись, люди цель видели, надежду на избавление от рабства имели. А теперь что?.. Нищие, беззащитные, ограбленные… А этот Руссланд вообще всегда – побежденный победитель: что завоевал – отдал, что вложил – потерял, что говорил – забыл, теперь вот опять на капиталистов молится… Был бы Сталин жив – он бы им всем показал!..
– Проклятый Горбачев! Проклятое ЦРУ! Проклятые американцы! – шипели они, поглядывая на дверь. – Развалили Союз – теперь за весь мир взялись, шакалы!
Отругавшись, замолкли. Повисло молчание. Лица угрюмы. Джахан торопливо вытирает подолом белой робы очки, бормочет:
– Раньше, при Союзе, и Пакистан свое собачье место знал, на Кашмир свои грязные лапы не протягивал… А сейчас что будет?
– Что хорошего может быть? – пожал плечами Рахим. – Америка дружит с паками, их поддержит. А потом Афганистан разбомбит, талибы сюда к нам побегут сдаваться. Работы много будет.
– Как бы нам самим не пришлось куда-нибудь бежать, – мрачно заметил Хуссейн, а Джахан, расправив усищи, подытожил:
– Междоусобицы будут, как при англичанах. Мы на Индостане всегда тихо-мирно существовали, никаких границ не было, жили по племенам, как и положено. Пришли англичане, Индию разграбили, Китай на опиум посадили, Индию по-своему поделили – и началось… И в Афганистане то же самое будет…
– Ну и пусть. Тебе же лучше – больше работы. Пять языков знаешь, дом купишь… – буркнул опять Рахим.
– Не в деньгах дело – людей жалко. – Индус сморщил свое темное, как будто мятое или моченое личико с розовой точкой во лбу. – Опять резня. А на ваш Ирак уже точно нападут, давно зуб имеют.
– Эти дурные янки не понимают, что Саддам сегодня – это стабильность в регионе, – вдруг заявил Хуссейн и на мое удивление объяснил: – Пока Саддам жив – он не даст власти муллам. А вот как только Саддам умрет или его убьют, то все может случиться. В Иране давно уже мятежные аятоллы ждут, чтобы в Ираке власть захватить. Тогда Ирак и Иран объединятся, Сирию привлекут, Иорданию подтянут. Ливия всегда наша была. Аравия и Кувейт сами скоро подохнут – их нефть кончается. Вот когда евреям конец придет! И Америке с пустыми руками уходить надо будет с Востока.
Мы молча слушали этот прогноз, не замечая, что в дверях стоит Зигги с папками. Одет как всегда в джинсу. На голове – хаос из крашеных волос под бриллиантином. Слушая эти расчеты, он усмехается:
– Ну, до такого исламского рая еще далеко. И другие страны не дремлют, между прочим. А пока работаем, как работали. Вот папки. Беженцев-арабов подробнее описывать теперь надо: рост, цвет глаз-волос и прочую биометрию. Вот по этой схеме… – Он протянул чистые бланки, добавив: – Ну, вам же лучше: время – деньги.
Раздав папки, Зигги попросил индуса уточнить у его беженцев, какое у них гражданство, а то паспортов нет, код страны неизвестен и куда их вписывать – неясно. А мне сообщил, что работать сегодня с повторником:
– Ему уже один раз Германия отказала, а он опять явился.
– По отпечаткам поймали? – решил блеснуть я, но Зигги покачал головой:
– Нет, сам сказал. Новые обстоятельства открылись, говорит. Ну, в таких случаях обязаны выслушать. Повторная заявка называется. Здоровый, как шкаф. Сам, наверно, уже сто человек убил, а теперь от страха к нам просится. Черт знает кто такой.
Я взял папку. На фото – широкое лицо, угрюмый взгляд. Под глазами – мешки, на лбу – морщины, на щеках – шрамы. Ежик коротких волос.
фамилия: Дубягин
имя: Руслан
год рождения: 1970
место рождения: г. Мытищи, Россия
национальность: русская
язык/и: русский
вероисповедание: православие
Я вышел в приемную. Дубягин сидел поодаль от других, закинув ногу на ногу. В кожанке, серых твидовых штанах. Сапожки. Белое кашне. Здоровый детина.
– Из России? – спросил я у него.
– Чего надо? – недоброжелательно покосился он, не меняя позы.
– Ничего не надо. Я ваш переводчик.
– А, понятно. – Он по-милицейски немигающе уставился на меня ледяными голубыми глазами. Я тоже глаз не отводил. – Идти, что ли? – сморгнув, нехотя поднялся он со стула.
Курды и индусы, притихнув, с уважением поглядели на его широкую спину. Был он под два метра. Смотрел надменно, холодно, не мигая, по-удавьи. Руки всунуты в карманы куртки. Взгляд наглый, спокойно-жестокий, безмятежный в своей правоте. Наверно, один из тех, которые за луковицу (и без луковицы) зарежут. Я молча пошел впереди. Он двинулся за мной. Я слышал скрип его сапог, и что-то неприятное витало над моим затылком.
– Чего фашисты со мной делать думают, а? – спросил он сзади.
Не оборачиваясь, я ответил:
– Откуда мне знать?.. Я только переводчик, они решают.
– Ну, ты ж с ними в связке…
– Какая связка?.. Я сам по себе.
Голос хмыкнул, замолк. Не очень приятно слышать за собой шаги и дыхание. Затылок зачесался. Вот и музгостиная. Зигги жестом усадил Дубягина к стене, щелкнул аппаратом.
– Отпечатки снимать не будем, уже есть в картотеке. Данные тоже уточнять не надо, все раньше проверено, в актах лежит. Идите прямо к Шнайдеру, – сказал он, вытаскивая фото из аппарата, вкладывая его в папку и исподтишка оглядывая мощную фигуру Дубягина. – Спортсмен?
– Самбо, – коротко ответил тот.
Зигги не понял. Я объяснил, что это вроде карате или джиу-джитсу. Дубягин с сонным интересом прислушивался к моим объяснениям. Но когда Зигги в шутку хотел измерить его рост, Дубягин со скрытой руганью бесцеремонно оттолкнул его от себя:
– Не в цирке, еб твою мать!
По дороге к Шнайдеру он еще раз спросил, что немцы собираются с ним делать. Я опять ответил, что не знаю.
– Да все вы, псы, знаете! – проворчал он глухо.
– Полегче, без хамства! – предупредил я его.
– Да ладно там! – с презрением передернул он плечами, не вынимая рук из карманов и пригнув по-бычьи голову.
Шнайдер, увидев Дубягина, беспокойно зашевелился в кресле.
– Садитесь. Пролезет туда?.. Вот здоровяк!.. – Просмотрев папку, добавил: – А, ну ясно. В ОМОНе служил.
– В ОМОНе был?.. – переспросил я Дубягина.
Тот нехотя кивнул:
– Так.
– Кто же тогда пес выходит? – неопределенно пробормотал я.
Дубягин уставился на меня с пренебрежительным удивлением. Шнайдер секунду смотрел на него, думал, потом позвонил Зигги и тихо попросил его побыть где-нибудь недалеко от кабинета – от такого монстра всего можно ожидать.
– Чего этот фукс конопатится? – подозрительно спросил у меня Дубягин.
– Боится, чтоб ты хипеш не поднял тут.
– Да что я, дурной, что ли?.. Какой хипеш? Тут вешаться впору. Не до хипешей. Я чего, с дуба рухнул?
Подвигав скулами, он замолк и вытащил из кармана стопку бумажек. Шнайдер наладил диктофон и попросил беженца рассказать, когда тот сдавался и где получил первый отказ.
– Первый отказ?.. – переспросил Дубягин и недобро усмехнулся. – Скоро, значит, и второго ждать… Ничего не скажу – чего порожняк попусту гнать? Сами все знают.
Шнайдер повторил вопрос. Дубягин уставился ему в лоб, буркнул:
– В прошлом году. В сратом Карлсруэ сидел. Два месяца мандячился. Потом?.. Потом ваши фашисты рано утром нарисовались, захват слева провели, в железа взяли и в самолете отправили на родину-уродину.
Шнайдер, среагировав на «фашистов» легким поднятием бровей, проверил по компьютеру его слова – все было правильно. Не отрываясь от монитора, он попросил беженца повторить причины, по которым тот просил в первый раз политубежище.
– Не хотел больше в той мясорубке работать. Каждый день людей бить надоело, – лениво ответил Дубягин. – Одно ворье кругом. Зарплату задерживают. По черным делам используют. Удоя никакого. Понту нет. Надоело это обломово. Я к ним не Пятым легионом, а стражем порядка нанимался. А из меня киллера сделали: на кого укажут – того и фас!.. А с киллерами знаете что бывает? Трубой по балде – и в болото. Не хочу, чтобы от меня один костно-мышечный конгломерат остался…
«Ого, лексика!» – подумал я. Как это переводить?
– Ваша просьба была отклонена как необоснованная, – прервал его Шнайдер. – Какие новые факты вы хотите теперь нам сообщить?
Дубягин сумрачно посмотрел на него, помедлил с ответом, прикрыл глаза, веско произнес:
– А то, что через ваш отказ жизни чуть не лишился. – Порылся в карманах куртки, извлек новые бумажки и начал не спеша их перебирать.
При виде бумажек Шнайдер (очевидно, поняв, что дело затягивается и одной припиской к старому отказу не обойтись), сказал, что беженца надо опросить по всей форме, пусть расскажет биографию.
Выяснилось, что Дубягин родился в Мытищах, там ходил в спортшколу на самбо, доборолся до мастера спорта, выступал на чемпионатах (он вытащил истертую грамоту). С 88-го по 91-й год служил в десантных войсках, а после армии пошел в ОМОН.
– Как называлось ваше отделение? Задачи?
Дубягин усмехнулся:
– «Игрек-хуигрек» называлось… А задачи… Всякие… Лучше уж не буду об этом, а то у немецкого надоедалы волосы дыбом встанут… Как говорится, ОМОН – всем в глазу бубон… Что приказывали – то и делали… Запрещено тайны разглашать…
– Хорошо, хорошо, дальше… Тайны, тоже мне! – поморщился Шнайдер. – Здесь, за этим столом, у вас никаких тайн не должно быть!
– Как бы не так! – огрызнулся Дубягин.
– Родственники за границей есть?
Родственников у Дубягина за границей нет, не было и быть не могло, а сам нигде, кроме Германии, не был и быть не хочет.
– Чем это ему так Германия понравилась? – поинтересовался Шнайдер.
Дубягин так энергично пожал плечами, что скрипнула кожа куртки:
– Порядку больше. Это мне нравится. Я порядок люблю. Орднунг! И правильно Гитлер делал, что в строгости свою чадь держал! У нас Сталин был такой. А остальные – говноеды, все просрали, распродали. В обносках ходим, побираемся. Мой начальник правильно говорит: главный враг России – это сама Россия… С нее ничего путного не будет. И где эта Россия?.. Одни цитрусы, чернозадые и цукерманы кругом, все в руках держат, славян давят. Кроме Германии и податься некуда… А в Германии тихо, как на кладбище. Порядок.
Он криво улыбнулся и сообщил, что в Мытищах у него был дом, жена с двумя детьми, престарелые родители. И все было бы хорошо, но он решил подработать на стороне, а начальник его не пустил:
– Сцепились с ним. Я его всегда «нельзяин» называл – на все «нет, нельзя». Что плохого, что я хотел в сыскной конторе чуток подкалымить?.. «Нет, нельзя!» – начал залупляться. Я – в лай. Он меня – дубинкой. Я его – табуреткой… Еле ноги унес. В ОМОНе если что – наручниками к батарее прикуют, каждый по удару сделает – и амба, кто не спрятался, я не виноват… Я и сбежал, вам сдался, думал, поможете. А ваши писаки мне отказ по полной форме выдали. Подсекли, гады, на корню. Муниципалам сдали. Вот и вся катавасия кота Васи.
Шнайдер слушал его, глядя в монитор и что-то помечая у себя на бумажке. Потом, записав адреса и данные семьи, попросил сказать, где паспорт Дубягина и как тот без документов проник на территорию Германии.
Дубягин усмехнулся, вынул кулаки из карманов куртки, плотно и напоказ установил их на столе:
– Не сложно, если баксы имеются. Через Украину и Венгрию. Подробнее?.. А чего подробнее?.. – нахмурился он, но нехотя поведал, что через украино-венгерскую границу был перекинут в микроавтобусе, а из Венгрии в Германию его перебросили в грузовом контейнере, где перевозилась дюжина антикварных мотоциклов для богатеев. Через что ехали – не знает: наглотался порошков и спал всю дорогу, как медведь. Растолкали и высадили ночью где-то под Лейпцигом, он пошел в полицию, его послали в один лагерь, а оттуда – сюда.
Записав все это, Шнайдер еще раз попросил сказать о причинах, которые заставили его нелегально пересечь границу Германии и так же нелегально находиться в данный момент на ее территории:
– Зачем вы еще раз приехали в Германию?.. Вы же знаете, что вторично мы заявления не рассматриваем, кроме особых случаев.
Дубягин принялся его недобро изучать, сверлить наглыми глазами. Молчал. Потом покачал головой:
– Еще спрашивает!.. Сами, суки, выслали на смерть – а теперь зенки таращит. Вот это и есть особый случай! То заставило, что вы меня в железах назад в нашу Жлобению отправили, а в Шереметьево, будь оно проклято, мной сразу ФСБ занялось. Взяли правым захватом. Составили протокол, как на изменника родины. В воронке перекинули в Мытищи, а там уже местные костоломы за дело принялись. Майор-падла (я его раньше по городу знал) мне карточку под нос сует, где я с одним парнем на автобазаре снят. Это, говорит, агент НАТО, и ты с ним заодно, с 96-го года в связке. А я у того братилы страховку на автомобиль по дешевке купил – вот и весь шпионаж. В общем, по двум статьям пустили: агент спецслужб и изменник родины – до пятнадцати. Такая подлая подсечка… Майоровы подлипалы били нещадно, пытали, сейчас, кричат, на нас работать будешь!.. Водку жрали и пустой бутылкой грозили зад порвать, потом дали три дня подумать или деньги собрать для откупа, паспорт забрали и выпустили под подписку. – Дубягин замолк, перебрал бумажки. – Вот, подписка, фотокопия… Ну, вижу, дело плохо. Где мне 50 тысяч баксов собрать откупиться? Взял семью – и в Москву к братану сбежал. Там угнездился временно.
– Когда это было? Точный адрес! Где жили?..
Дубягин, чертыхнувшись:
– Замумукал своими адресами!.. – но все же назвал какой-то адрес, пояснив: – Жил нелегалом – паспорт и военный билет у них в Мытищах остался. Купил в метро фальшивую ксиву и по ней жил. Подкастрюливал чем придется – охрана, сыск, извоз. Работу одна жаба подкидывала… А потом, когда теракты в Москве пошли и проверки начались, поймали меня в метро. Выяснили, гниды, дуболомы, что я в побеге, и опять в Мытищи выслали. А там уже в полный ад угодил: и за шпионаж, и за побег, и за подделку документов – все на меня повесили.
И Дубягин рассказал, что его бесчеловечно били, несколько раз в морозные ночи вывозили «на расстрел» в лес, заставляли рыть могилу, голого укладывали в нее, заливали водой, избивали дубинками и душили мокрым полотенцем, требовали, чтоб сообщников назвал и на разведку работать начал.
– Словом, то же самое, что вы раньше с другими делали, – подытожил Шнайдер, ободренный присутствием Зигги (который, нацепив на пояс небольшую резиновую дубинку, крутился в коридоре и пару раз заглянул в открытую дверь кабинета); потом спросил, почему Дубягину показали эту карточку только сейчас, а раньше не показывали: – Вы же говорите, что снята она в 96-м году. Чего же они пять лет ждали?..
Дубягин пренебрежительно осклабился:
– А мне почем знать?.. Ничего не знаю… Держали в тюрьме три месяца. Потом – суд. Ничего не доказали, дали два года условно – хороший адвокат попался. Как мой нельзяин говорит, бойся не закона, а судью. В общем, разблокировка. Но и после суда покоя нет – звонят, кроют предателем и дезертиром, грозят: мы, мол, тебя сами достанем, если суд не достал… Дом в Мытищах спалили, отца поленом огрели, оглох на уши. Мать в пожаре чуть не сгорела… Куда ехать, куда идти? Жену с детьми на Украину отправил, там у нее маманя. Сам попозже тоже туда собирался… Шел как-то ночью домой…
– Куда домой? Дом же сожгли? – спросил невзначай Шнайдер.
Дубягин оторопело уставился на него, сглотнул.
– А… Ну да… А у бабы одной жил. Туда, стало быть, шел. А ко мне четверо шкафов подваливают, с ног сносят, сапогами топчут, «смерть предателю и агенту!» – кричат. А потом давай штык-ножом бить. Прохожие утром нашли, скорую вызвали. В больнице желчный пузырь убрали и полпечени срезали, вот справки. Пять ножевых колотых и три резаных. Перепонная барабанка лопнула. Чавку вот сломали! – указал он на челюсть, одновременно щелчком пододвигая по столу справки из больницы.
Шнайдер глазами спросил у меня, что это. Я просмотрел бумаги. Протокол доставки в больницу. Выписка из истории болезни: больному Дубягину вырезан желчный пузырь. Проведена операция на печени. Сам Дубягин недвижно смотрел в сторону. Шнайдер, выглянув из кабинета, попросил Зигги сделать ксерокопии справок.
Дальнейшие события Дубягин изложил так:
– Я из больницы вышел, в ментовку заяву подал. Они протокол по факту нападения составили, искать тех быков начали. И нашли. Лучше б не находили… Все дети больших начальников. Через это моя жизнь совсем под откос пошла, в полном партере оказался… Вызвали в ментовку и начали давить: забирай, мол, свою письню к ебаной матери, знаем, кто ты такой, предатель, агент, сука-блядь, бери свою марню, не то хуже будет. Я – туда-сюда. Ах, не возьмешь?.. В карцер ледяной на ошейник посадили, койку – к стене, и живи как хочешь. А не хочешь – подыхай, как мышь. Три дня по колено во льду стоял, думал, капец пришел. Палачи! Фашисты похуже вас, гестапо, эсэс! – Увидев, что Шнайдер поморщился, он нагло и открыто посмотрел на него: – Что, не понравилось?.. Ничего, пусть хавает.
Записав про карцер и полицию, Шнайдер попросил продолжать. Дубягин смотрел в окно, словно не слыша вопроса. Шнайдер беспокойно завозился, стал открывать и закрывать ящики стола. Наконец Дубягин, оторвавшись от окна и обстоятельно поправив кашне, нехотя разлепил губы:
– Ничего дальше. Обломали они мне роги – забрал свою писульку. А менты мне тут же в ответ – новую статью, за клевету! Это, значит, что я тех мордоворотов оклеветал!.. И если, мол, пять тысяч баксов не принесешь, на пять лет загремишь. В Пермь пойдешь, где всякая гнусь сидит… Ну, да у нас в России беспределу никто не удивляется… Я попросил время бабки собрать. Дали три дня. В тот же день я на Украину сбежал.
– Без паспорта?.. Сейчас же закон вышел о визовом передвижении между Россией и Украиной? – удивился Шнайдер.
Дубягин в ответ тоже искренне удивился:
– Да ты что, с луны свалился, что ли?.. Закон?.. Какие в России законы?.. Правильно мой нельзяин говорил: «У нас закон – что железо: когда испекут, из печи вынут – пальцем не тронуть, горит. А через час хоть жопой садись – остыло!»
– Все-таки, как проехали границу?
Дубягин с жалостью посмотрел на него:
– Сказал, что паспорт дома забыл, вместо паспорта пятьдесят баксов тоже хорошо идут.
– Где жили на Украине?
– Да чего он приебался, нерводрал!.. – Глаза Дубягина злобно блеснули. – У жениной мамани жили, впятером в одной комнатухе.
– Адрес!
Дубягин недовольно расправил плечи:
– Вот дался ему этот адрес!.. Не помню я. Чего он ко мне вешается? Что я ему – груша для тренировки? Я такие игры не люблю. Скажи ему, пусть в покое оставит.
– Он только адрес спросил, – заметил я.
– Ага. Знаю я, как он спросил. Видно ж, что уже шарики-ролики бегают, как бы покрасивей мне отказ оформить!.. Учен уже их псиным премудростям. В глаза лыбятся, битте-дритте, а за пазухой змею держат!
Шнайдер спросил меня, о чем он говорит.
– Про полицию рассказывал, – ответил я, а Дубягину посоветовал: – Руслан, соберись немного, немец не понимает, что к чему.
– А тебя кто вообще ебет? – холодно воззрился он на меня своими голубыми до пустоты зрачками. – Твое дело маленькое – переводить или молчать в тряпочку, если не спрашивают.
– Ты за языком следи! Не в омоновке тут! – холодно ответил я ему, что вызвало его кривую усмешку:
– Смотри ты, футы-нуты, ножки гнуты!
Внутри начало закипать, но я решил быть умней:
действительно, дело толмача маленькое – переводи или молчи, чего со своими советами лезть?.. Да еще к кому?..
Шнайдер тем временем стал уточнять даты приводов и вызовов в полицию. Дубягин нехотя буркал что-то в ответ, путал числа, даты, дни и месяцы, матерился, расстегивал и застегивал куртку и наконец сказал мне:
– Я вижу, он мне подлянку готовит. Ты переведи ему: если он меня укроет, спрячет – я ему пять тысяч баксов премии дам. У меня есть, заныкано на черный день. А если он мне отказ даст, я его порешу, как телка! Мне терять нечего, у них смертной казни нет. А в тюрьме тут, говорят, русских пацанов навалом. Лучше тут в тюряге сидеть, чем там пропасть.
– Ты уверен, что это надо ему сейчас услышать? – спросил я в ответ, тут же упрекнув себя за это уточнение.
Дубягин прикрыл глаза, подумал. И сказал твердо и колюче:
– Да. Пусть, гнида, знает!
Я перевел его слова. Шнайдер непонимающе посмотрел на него, тут же позвал Зигги и взволнованно сообщил в микрофон, что беженец предлагал ему взятку пять тысяч долларов, а потом угрожал смертью в присутствии двух свидетелей.
– Как он сказал?.. Повторите! – велел он мне.
– Может, сказать, что неудачно пошутил? – еще раз переспросил я у Дубягина, но тот медленно покачал головой:
– Какие уж шутки… Нет, скажи так, как я сказал. Пусть, гусь, не удивляется, когда в печь попадет. Его предупреждали. И тебе не поздоровится. Заодно.
Я подтвердил, что да, беженец грозит не только Шнайдеру, но и мне (мало ли что, пусть в протоколе будет, хотя, если убьют, от этой приписки мало пользы будет). Зигги и Шнайдер с неодобрением смотрели на Дубягина. Он взирал на них с наглым презрением.
– Полагаю, что на этом интервью можно считать законченным, – изменившимся голосом сказал Шнайдер. – Этот молодчик желает что-нибудь добавить?
Дубягин желал добавить еще пару слов в адрес матери Шнайдера и всех немцев. И опять пригрозил, что убьет его, если получит отказ:
– Я вижу, с ними по-хорошему нельзя. С ними надо – строго.
Я перевел и эту реплику.
– Все. Интервью окончено! – нервно заключил Шнайдер, стал собирать бумаги, а меня попросил задержаться, чтобы перевести справки и выписки.
Дубягин, бормоча ругательства, полез из-за стола, начал протискиваться у меня за спиной, между стулом и стеной. Боковым зрением, краем глаза я успел заметить, что он, оказавшись вблизи Шнайдера, то ли поскользнувшись, то ли замахнувшись, то ли желая по-хулигански испугать, вдруг сделал рукой резкое движение. Зигги перехватил руку, повис на ней, успев ударить его ботинком под колено. Дубягин взвыл. Оба упали на пол. Шнайдер выхватил из ящика стола гантель, но задел в спешке монитор, который рухнул вниз, увлекая за собой со стола всякую мелочь. В звоне и грохоте заискрили провода.
Зигги и Дубягин боролись на полу, ударяясь о полки. На них посыпались акты и книги, попадали календари и фотографии. Мусорное ведро перевернулось. Зазвенел поднос с кофеваркой и чашками. Сахаром обсыпало все вокруг. Я под шумок, делая вид, что разнимаю, пару раз крепко ткнул омоновца ногой под ребра. Зажатый мертвой хваткой Зигги, Дубягин с ревом ворочался на полу, как медведь, в которого вцепилась собака. Шнайдер рвал шнуры и провода, крича:
– Обмотать, обмотать!
В кабинет вбежали сотрудники. Сбили поднявшегося было на ноги Дубягина, обмотали его руки и ноги удлинителями и выволокли, как куль, в коридор. Полиция прибыла через десять минут. Два дюжих молодца в зеленой форме, развязав Дубягину ноги, подняли его, сняли провода с рук, а руки завели назад и закрыли в наручниках, после чего потащили его к машине. Дубягин дергался и орал, что всех замочит. Когда его впихивали в машину, к окнам прильнули лица. Отовсюду неслись реплики и восклицания:
– Бандиты! Мафия!
– Русское чудовище!..
– Такого даже албанцы не делают!..
– Всюду террористы!
– Шнайдера чуть не убил!
В кабинете сотрудники возились с разбитым монитором. Зигги прилаживал оторванный рукав. Ненужный резиновый дручок он снял. А Шнайдер держался героем и всем взволнованно рассказывал, как русский монстр на него напрыгнул и как он ловко скинул его на пол, а Зигги и переводчик помогли его скрутить. Шнайдер говорил со всеми одновременно, принимал поздравления и соболезнования, жал мне руку, благодарил за помощь и тут же собрался домой – «психотравму переработать», на что никто, конечно, не возражал.
Когда я с некоторой опаской выходил из здания (а ну, кореши Дубягина по кустам сидят?), Бирбаух взволнованно сказал мне:
– А что я вам говорил утром?.. Ведь и убить запросто могут, бандиты! Их же перед интервью не обыскивают, а надо бы. А то что?.. Взял под мышку топор – и готово. Опасно!.. Эх, недаром говорят, что все стоит денег, только смерть бесплатна. Зато она стоит жизни…
Не могу молчать
Дорогой друг! Опять ною: новая метафизика напала – давление. Отвратная штука. Еще от Остапа Бендера известно, что на каждого гражданина давит столб силой в двести четырнадцать кило. Но и гражданин давит на столб. И чем гражданин сильнее – тем сопротивление столба больше, особенно если гражданин – дубовый болван. В итоге – инсульты, инфаркты, удары, припадки, комы. Вот, в лагере рассказали об одном переводчике, который всю жизнь языки учил, да какие – верхненубийский, древнееврейский, санскрит – языков десять выучил, а как его кондратий апоплексиевич хватил – так семь из десяти напрочь забыл! Где-то сосудишко мерзкий лопнул – и все, инсульт-привет!.. Вот и учись потом всю жизнь, света не видя, иероглифы зубри! Зачем?.. Венка треснула – и все насмарку. Бляшка поперек капиллярчика встала – и опять белый лист, «пипи-каки» учить сызнова надо… Очень несправедливо.
И вообще – учишься всю жизнь, познаешь, а как все выучил и познал – так и умирать пора. Обидно!.. А нельзя ли учиться – и не умирать?.. Или, в крайнем случае, вначале умереть, а потом уже всю вечную жизнь учиться, чтоб усилия зря не пропадали?.. Это со всех точек зрения самым выгодным кажется. Ну, да от небесного террориста логики дождешься, как же!..
Впрочем, учись – не учись, а все равно на свете радостного мало, суди сам: в детстве слаб и неопытен, в юношестве пубертат гнетет, в зрелости всяких проблем по горло. Потом начинаются боли и болезни, переходят в хронические. А дальше – старость с ее маразмом и склерозом. И венцом – долгожданная смерть. А когда жить-то?.. Только садомазохист небесный мог такую свинью человеку подложить… Да, старость не радость, а маразм – не оргазм.
Не от хорошей жизни ропщу. Чуть не умер недавно опять. В последние дни начало что-то затылок ломить, как будто голову отлежал. Ломит и ломит. В глазах мушки роятся. Мурашки по мозжечку бегают. Я даже испугался – может, ночью настоящие мурашки в ухо залезли, как слизняк – тому панку в лоб?.. Или Мошка в нос влетела, в дыхательных путях кувыркается?… Всего от небесных насмешников ожидать можно. В общем, еду в трамвае, в окно смотрю. Чувствую – что-то затылок ломить стало. И ломота такая горячая, нежная. Вдруг какое-то праздничное, но мрачное и торжественное мерцание по телу и в глазах растеклось. Мурашки заспешили, заструились. А в голове как будто небо открылось и облака пошли…
…Ботинки, туфли, бумажки, острие зонта… Собачья морда, глаза в глаза, смотрит, мокрым носом обнюхивает… Какие-то розовые шары надо мной висят, как погремушки в люльке. Что такое?.. Оказалось, лежу на полу трамвая, а дурачье-пассажиры на меня сверху пялятся, только собака на моем уровне (вот как бедные псы мир видят: одни ботинки грязные да плевки черные – собачья жизнь!) Тут же человек в форме на корточках сидит, за руку меня держит, пульс щупает: «Лежите, лежите, сейчас скорая будет!» И вставать не дает. Какая скорая?.. Смерть скорая, что ли?.. Остановите, вагоновожатый, вагон!.. Кое-как шею повернул, огляделся. А вокруг уже много болванов столпилось – нависли, розовые хари, кровью налитые, любуются. Человека хлебом не корми – дай только посмотреть, как другая особь умирает!.. Из хлеба и зрелищ обезьяноподобный человек всегда выберет зрелище.
Собака испуганно в глаза смотрит. Ботинки. Туфли. Мятые салфетки. Кусочки печенья… «Эпилептик?» – спрашивает форма. «Еще нет». – «Диабетик?» – «Пока не был». – «Гипертоник?» – «Не успел». – «Ну, сейчас скорая приедет, вставать нельзя». «Да неудобно, – говорю, – люди смотрят. Я уже ничего, нормально себя чувствую…» «А вот этого вы знать не можете, как вы себя чувствуете. Сейчас врачи подъедут, они и решат». Вот такой разумный немецкий подход. Псина поближе подобралась, носом крутит, понять пытается, что к чему, почему человек на ее уровне лежит.
«Собаку уберите, а то укусит!» – заверещала завитая старушка. «Не укусит, – отвечаю, – пусть сидит!»
Первой полиция является. На корточки присела, спрашивает, кто такой, пил ли сегодня или, может, кокаин нюхал или героин колол – «Пристрастиями страдаете, словом?» «Нет, – говорю, – вот паспорт». Пока записывали и руки на проколы проверяли, скорая с тормозными визгами и сигналочьим гамом подъехала. Санитары перетащили на носилки. Так опять в евангеличку попал. И что бы ты думал – опять к тем двум веселым сисястым сестричкам-медичкам!
«Хи-хи да ха-ха, – пока раздевали, чтоб кардиограмму снимать. – Пили?» – принюхиваются, с двух сторон в четыре груди приникли, как в порнофильме (у меня давление тут же подскочило). «Так рано не пью», – гордо отвечаю (признаваться никогда нельзя). «Ладно, – смеются, – мы вам сейчас волосы на груди побреем, у вас шерсть такая густая, что клеммы некуда присосать» (спасибо, герр Клемме, что присоски придумал!). «Не уродуйте, прошу как коллега, я же не меринос. Как перед женщиной потом бритым явиться?» «А вы рубашку не снимайте, другие части тела показывайте, – нагло смеются и давление измеряют. – Низкое. Мало с женщинами общаетесь, наверное». «Нет, – говорю, – регулярно общаюсь, просто, может, сегодня критический день у меня?.. Вот и упал. И очень больно ударился. Поэтому очень прошу дать мне по-коллегиальному капель с кодеином, которые у вас есть в избытке».
Они пошушукались, бюсты поправили. «Нет, – говорят, – не дадим – ушибов нету». – «А вы смотрели?.. Осмотрите, может, и есть где-нибудь…» – «Хорошо, раздевайтесь, осмотрим!» Раздели донага, нахихикались вдоволь, грудь обрили, клеммы всосали, кардиограмму сняли и потом дали капель, штук тридцать. А может, и все сорок. И на том спасибо. Я капли быстро проглотил, водой на пол плеснул и панику поднял: «Ой, лекарство разлил!» И такое огорчение показал, что сестрички еще порцию капель нацедили, хотя и видели подвох. Пока на коляске в палату везли, задремать успел.
В палате очнулся. Доктор, злой и растрепанный (вылитый Бетховен перед смертью), шипит: «До завтра не выпустим, будем давление периодически мерить». Чистый человекофаг, людофоб! Я молчал и на него старался не смотреть, чтобы не возбуждать его. Ну, меряйте, лечите, думаю, лучше быть больным, чем мертвым. Так и провалялся сутки в больнице. Хорошо, что сумел подглядеть, куда медички капли прячут. Стащил и ночью пил себе потихоньку. Опять черные облака видел. Между делом и телевизор, под потолком прикрученный, посмотрел, и общему бардаку удивился.
Оказалось, что Америка уже бомбит почем зря террорью сеть в Афгане. «Мышья голова» каждый день по телевидению выступает, про последний бой между добром и злом плетет, брит Блэр ему подблеивает: «Все, мол, разбомбим, камня на камне не оставим!» Ширак, не будь дурак, в тени держится. А Россия отмалчивается: дескать, мы уже в Афгане побывали, теперь ваша очередь. А что еще кремлевские мудрецы сказать могут?.. Не хотели следовать за Жириновским, который мечтал ноги в Индийском океане вымыть, – теперь получайте и американцев с пушками, и Жириновского с грязными ногами (что страшней – неизвестно).
Всюду несладко. Во Франции – взрыв на химической фабрике. В Австрии ни с того ни с сего два поезда столкнулись. Трудолюбивые баски не покладая рук работают по принципу «Ни дня без бомбы, ни минуты без пули!» Палестинцы в рай к целкам спешат. Моссад арафатчиков постреливает. В самой Америке – наводнения, смерчи и цунами. На Филиппинах заложников на оружие меняют. В Бенгальском заливе пираты распоясались. В Молуккском проливе якудзы режутся. Тайфун на Тайване. Этна извергается. И даже в полумертвой Швейцарии какой-то псих вбежал в ратушу и из автомата полпарламента уложил, крича: «Смерть сахарной мафии!» В общем, жизнь идет.
А в Германии между тем тотальная проверка началась – хотят дремотных «спящей» выявить. Смотрят в компьютеры, по сетям шарят. Под подозрение автоматически попадают 1) одиноко живущие, 2) молодые, 3) бородатые, 4) мусульмане, 5) занимающиеся техническими науками, 6) регулярно получающие с Востока деньги. И если у кого все шесть крестиков, то проверяют уже особо.
Мне, кстати, из Аusländeramt тоже повестка пришла – приглашен на разговор. С чего бы?.. К чему бы?.. Не исламист, не молодой, точным наукам не обучен, бороду тщательно брею, денег не имею и ни от кого, к сожалению, ни с Востока, ни с Севера переводы не получаю – вот только если белый медведь не поленится на почту сходить… Может, что живу один?.. Да мало ли кто один живет!.. В общем, надо в этот проклятый амт идти, раз зовут. Очень не хочется, сугубо противное место. Как хера Челюсть вспомню – так жить не хочется.
А что делать? Хотел справку взять, что в трамвае упал. А потом думаю – чтоб хуже не было: скажут, нам припадочные не нужны, проваливайте, нет вам визы! Нет, раз вызывают – надо идти, в покое не оставят. Виза у меня еще на месяц есть… Что им надо?.. Ох, плохо дело!.. Затылок мазью от поясницы натру – и сижу, как мышь в клетке. Забыл тебе сказать, что, кроме давления, пристал ко мне еще «сухой глаз»: глаза так сохнут, что мигать с трудом могу. Валерьянку в глаза капаю – как будто помогает. Так и сижу, дрожу. Даже в лагерь не хотел вылезать, но вызвали – пришлось ехать.
У ворот увидел машину Фатимы – и сладко заныло под ложечкой. Померещились глаза в черной неге, медовая кожа лица, карамельки крашеных ногтей. Бирбаух был занят сортировкой бутылок под столом и не сразу заметил меня. А когда увидел, быстро нажал кнопку:
– Извините, занят был… Слышали вчера по телевизору воскресную проповедь?.. Нет?.. Жаль. Этот кельнский епископ, главный вор и педофил, пугал: все несчастья от денег, деньги портят характер, деньги убивают человека. Вот крыса церковная!.. Как будто не знает, что от денег характер становится куда лучше. И как раз наоборот – не деньги убивают, а безденежье!.. От денег еще никто не умер, поверьте!.. Вот обходной, прошу!
В комнате переводчиков Джахан возле окна читает газету «Indian Post». Рядом д-р Шу тихо перебирает какие-то бумаги с иероглифами. Фатима грызет печенье. Одета во что-то широкое, лиловое, бархатное. Соски, как шурупы, изнутри натягивают ткань. Я поздоровался со всеми, а Фатиму с чувством поцеловал в душистые щеки. Розовый блеск помады на упругих губах. Она со смехом отстранилась:
– Сейчас рамадан, целоваться запрещено!
– Да?.. Насколько я знаю, в рамадан запрещено мясное…
– Это и есть мясное… – И она машинально огладила себя ладонью по бедру.
– У тебя, я уверен, сплошные праздники, – пялясь на нее, сказал я.
Фатима поправила балахон, кивнула:
– Ты прав. Я лично праздную все праздники – как мусульманские, так и христианские. А что?.. Родилась я мусульманкой, но живу в Европе – что же мне делать?.. Приходится.
Скользя взглядом по изгибам ее фигуры под тканью лилового балахона, я поддакнул:
– Мы, бывшие советские люди, тоже празднуем все, что поддается празднованию: и византийское, и римское, и все языческие праздники, и все праздники времен СССР и царской монархии. А что еще делать?
– О, День революции! День Космонавта! – мечтательно вспомнил Джахан, складывая газету и расправляя усищи. – Это было хорошее время… Я ходил в Мадрасе на демонстрацию, красное знамя нес!.. Мы действительно верили, что народу будет легче жить!.. И правда было! Эх, где ты, Большой Брат?.. Осушение гангских болот, электростанции, заповедники – где все это?.. Все было – и ничего нет! – говорил он с неподдельным сожалением. – Чем плоха дружба народов?.. Я бывал в Союзе. Все любили друг друга, уважали. А сейчас?..
Д-р Шу поддакивал ему, вспоминая о вечной дружбе Великого Кормчего и Отца Народов – вот были люди, не то, что нынешние!.. В молодости д-р Шу был студентом в Шанхае, побывал в хунвейбинах и до сих пор помнит справедливый гнев, который его охватывал каждый раз, когда они раскулачивали спекулянтов и саботажников.
Я сел возле Фатимы. На мои расспросы, как поживает марокканский король, какие рабаты[70] в Рабате и что за погода ожидается в Марракеше, она отвечала, что король шлет мне привет, а в Марокко плохой погоды не бывает:
– Не то, что тут!.. Я очень люблю Германию, но ненавижу ее погоду! Она вызывает депрессию, упадок, разбитость. Мало солнца!
Джахан и д-р Шу присоединились к ее словам. Некоторое время все вместе дружно ругали германскую погоду в частности и европейский климат в целом.
– В Мадрасе сейчас солнце, тепло, – сказал Джахан.
– В Бейджине персики цветут, – поддакнул д-р Шу и, видя мое недоумение, пояснил, что Бейджин – это настоящее название Пекина, добавив, что и все другие китайские города тоже называются совсем не так, как их слышит грубое европейское ухо и произносят неуклюжие европейские рты. – И вообще европейцы мало что понимают в Китае, – в сердцах заключил он, нервно потирая розовую плешку. – Кун-Цзы извратили… Ну, Конфуция по-вашему… Какую-то религию ему приписали. А у нас вообще нет и не было религии…
– Как это? – удивился я. – Как империя могла стоять без религии?
– А так: зачем религия, когда сами императоры – живые боги?.. Им не нужны соперники. Ни на земле, ни на небе.
Слушая про Кун-Цзы и обожествленных императоров, я жадно шарил взглядом по лицу Фатимы, по ее фигуре. Она видела это и нагло смотрела в ответ.
– Теперь я понимаю, почему талибы закрывают сеточками даже глаза у женщин, – пробормотал я. – Лучше не видеть, чтобы не страдать.
Она прыснула:
– Смотреть не запрещено. – И откровенно призналась: – Я люблю, когда на меня смотрят…
– Когда поедем в Марокко, буду день и ночь на тебя смотреть… – сказал я ей на ухо.
– Тогда короля не увидишь! – приблизилась она.
– Зато на королеву насмотрюсь вдоволь!
И я невзначай прижался локтем к ее руке. Она не отодвинулась. Так мы и сидели, слушая монолог д-ра Шу о том, что европейцы не только в китайских верованиях не разбираются, но и в китайском языке мало что смыслят: в Китае пятьдесят шесть племен и все говорят на разных диалектах – какой из них главный?.. Только самых главных – шесть.
– Кстати, это правда, что за перевод строчки с китайского на немецкий вам по четыре марки платят?.. А нам – всего по две! – спросила Фатима, на что д-р Шу уточнил, что не четыре, а пять марок.
– Да у них одних определенных артиклей штук двести, а неопределенных – все триста, иди и переводи! – сказал Джахан, отрываясь от газеты.
Я вежливо спросил у него, что новенького пишут из Бенгалии. Джахан, расправив усищи, сообщил, что все про войну пишут. Вот, например, американцы во время бомбежек Афганистана следом после бомб скидывают пакеты с продовольствием:
– Вчера пакетами с рисом пробило крышу в Кандагаре и убило мать с двумя детьми!.. Людей рисом убило!.. Это надо же!..
– Какое лицемерие!.. Лучше бы они пакеты до бомб бросали, чтобы люди перед смертью хоть рис поесть успели… – ядовито вставила Фатима.
Тут вошел танцующей походкой Зигги и принес груду папок. Всё, работать!
– Я тебе позвоню! – сказал я Фатиме, нехотя отдираясь от нее.
– Позвони. Только меня часто дома не бывает, – с кокетливым сожалением оправила она рукава своего плюшевого балахона.
– Ничего, попробую. Кто ищет – тот всегда найдет!
– Найти, может, и найдет. Но часто совсем не то, что ищет! – не унималась она, дразня меня глазами.
А Зигги уже раздавал дела. Мне досталась папка с фотографией улыбающегося во весь рот полного мужчины с сытыми глазами.
– В приемной сидит. Одет, как от Кардена! – указывая на фото, сказал Зигги. – Парфюм, шик, лоск! Давайте его сюда! С него начнем.
фамилия: Рукавица
имя: Аким
год рождения: 1965
место рождения: с. Кремидовка, Украина
национальность: украинец
язык/и: русский / украинский
вероисповедание: иудей
В приемной он восседал отдельно от курдов и что-то негромко, но с жаром говорил мрачному худому типу в дешевой кожанке, сидящему рядом; тот меланхолично хохлился, оглядываясь вокруг:
– Ну, ты прикинь, Максимка: десять тракторов по двести пятьдесят тысяч гринов каждый. А мне от сделки – шестнадцать процентов. Сколько это выходит, режешь?
Я прервал его вычисления:
– Добрый день! Я ваш переводчик. Буду помогать во время интервью. Вы Рукавица?
– Да, да, я! Очень рад! – расплылся Рукавица и протянул пухлую мягкую теплую большую ладонь. Его приятель тоже нехотя вытащил из кармана свою ледяную лопаточку:
– Максимка.
– Вы вместе?.. – удивился я. – У вас тоже интервью?
– Нет, мы не вместе, мы тут познакомились, в лагере… А интервью у него завтра, – ответил за него Рукавица, расстегивая пуговицы бежевого верблюжьего пальто-колокола. – Ну и топят у вас! У нас даже у мэра в кабинете так не топят, как тут.
– Где это?
– А в Одессе-маме. Слыхали про такой городок?.. Вот в нем самом. Я мэра хорошо знаю. С детства.
Максимка скептически посмотрел на него, но ничего не сказал.
– Ну, ты сиди тут, а я пошел. Куда?.. – спросил Рукавица.
– Сюда, на фото и отпечатки.
А Максимка, косо и коротко посмотрев ему вслед, напутствовал:
– Давай. Большому кораблю – большая торпеда…
Приближаясь к музгостиной, я слышал из коридора, как Зигги учит д-ра Шу:
– Нервничает беженец или нет – установить нетрудно. Надо только внимательно на него посмотреть: если лицо блестит от пота, если он крутится и ерзает на стуле, ногами передвигает, если голос у него ходит туда-сюда, если глаза прячет или слишком много болтает, чушь несет – значит, нервничает…
– Они все чушь несут, – отвечал д-р Шу, поглаживая плешку.
– Или если он часто глаза закрывает – значит, или сосредоточиться хочет, или вообще подсознательно хочет от всего внешнего мира отключиться, избавиться, – продолжал Зигги.
– Они все глаза закрывают, – отвечал д-р Шу, теперь ласково поглаживая брюшко.
Увидев нас, д-р Шу смутился и поспешил выйти, а Зигги жестом попросил Рукавицу раздеться.
Тот со смехом скинул пальто, остался в зеленом полосатом пиджаке и коричневых брюках, дородный и веселый.
– А! – удивился он при виде станка для отпечатков. – Как в кино!
– Вначале фото.
– Подождите, волосы приглажу, негоже так… – И он, по-хозяйски открыв кран и зачерпнув воды, пригладил свои курчавые, но уже с проредью и проседью волосы. – Теперь готов! Можно регистрироваться! Только невесты не видно!
– Кто он по профессии? – спросил Зигги, вытаскивая из аппарата фотографию с четырьмя Рукавицами.
– Профессия?.. Делец! – гордо сказал Рукавица. – Гешефтман, как у них говорят! Сорок и сорок – рупь сорок. Самая лучшая профессия в мире. Базар копейку любит, а копейка – умного. Как в Азии говорят: су мы – в сумму, сумму – в суму, а дальше все по уму!
– Ясно. Мафия, наверно, прижала? – не удивился Зигги.
– Нет. Сама жизнь. Все вместе. Бывает, все вместе в такой снежный ком сходится. – Рукавица жестами показал этот снежный ком. – И падает этот ком на тебя, валится, а ты от него – бегом, бегом, как заяц от орла!..
– Ком до комы доводит, – невольно пошутилось у меня.
– Вот-вот, именно, до комы!
Пока он смеялся, Зигги снимал отпечатки, по одному макая в чернила его короткие мясистые пальцы с узкими полумесяцами ногтей. Из-под рукавов пиджака каждый раз выскакивала на свет божий золотая запонка. Блестели кольца на пальцах, зубы во рту, запонки в манжетах, булавка на шелковом галстуке с алыми цветами.
– Что, хорош? – скосил он глаза на галстук. – В Абу-Даби купил. Арабский! А правда, что Америка Афганистан бомбит? – вдруг вспомнил он. – Тут в лагере телевизора нет, а все что-то говорят.
– Бомбит. Каждый день налеты делает.
– Это они хотят там, на месте, опиум и героин контролировать, вот и залезли, – доверительно перегнулся он ко мне (мы уже сидели за столом).
– Может быть. Надо кое-что уточнить. Имя, фамилия, год рождения сходятся? – показал я ему лист с предварительными данными. – Хорошо. Место рождения правильно?
– Да. Село Кремидовка. От Одессы недалеко. Возле Куяльницкого лимана. Не бывали?.. Жаль. Места – только душой отдыхать. Рыбкой классной угоститься можно. Мы часто туда на выходные ездим, с дамами. Душа отдыхает, а тело работает… ха-ха-ха… Знаете, пока есть шары в шароварах… Бодрый бобер попер!
– Ясно. Какие языки знаете?
– Русский главный, мать учительница русского была. Ну и украинский понимаю. Даже белорусский чуть-чуть. Знаете, что это такое – белорусский язык? Это когда в дупель пьяный хохол пытается говорить по-русски! – Он захохотал.
Посмеявшись, я вернулся к данным:
– Тут стоит «украинец». Это правильно?
– Да, батька хохол был, Мыкола. Но дома почти не жил – всю жизнь в сезонниках, строил чего-то…
– А откуда тогда в графе «религия» – «иудей»?
Он вальяжно расправил полы пиджака, обстоятельно объяснил:
– А это мать у меня еврейкой была. В первом лагере спросили, кто я по нации. Я ответил, как есть: отец – хохол, мать – еврейка. А они говорят, что такой нации – «еврей» – нет, что это не нация, а религия. Вот и написали… Хотя синагогу я только издали видел, а в церкви в жизни раза два был – мне в церквях почему-то плохо становится, аллергия на елей или черт его знает на что – на что-то божественное, словом…
Я вкратце передал Зигги этот разговор:
– Какую нацию писать? По советско-русским и прочим законам он – украинец, по вашим и еврейским – он еврей, раз мать еврейка. Но вы говорите, что такой нации нет. Что же в итоге писать?
– Конечно, еврей – это не нация, а религия. Если француз исповедует иудаизм, то он еврей. Перепишите, как есть. А там Тилле разберется. Ну, всё?.. Идите, тут уже новые клиенты ждут.
И он жестом пригласил в комнату д-ра Шу, который тихим цоканьем подгонял наголо бритого и бледного от страха китайца, рукой указывая ему, куда идти.
– Мерси боку! – подхватил Рукавица пальто. Помедлил, вытащил пузырек духов и прыснул себе на лацканы. – Сейчас порядок. Хотите? Зря!
Мы шли по сумрачным серым коридорам. Я слушал какие-то фразы Рукавицы о маркетинге. Он, с его громким смехом, пижонской одеждой, выбритыми брыластыми щеками и сытыми глазами, смотрится как-то нелепо в этих унылых стенах.
– А этот, к кому мы идем – мужик как, ничего вообще? – спросил он, наконец умолкнув о маркетинге и серьезно глядя на меня.
– Вообще ничего. Но это смотря с какой стороны смотреть. Он опытный человек, а это значит, что для беженцев он плох.
– Больше отказов дает? – понял Рукавица.
Я пожал плечами:
– Это мне неизвестно. Нас не информируют ни о чем, мы только переводим. Но он умен. Тут же одни словесные кошки-мышки, все на словах построено, на информации. Даты, числа, адреса не надо путать.
Рукавица задумчиво покачал головой:
– Понятно, понятно. – И вдруг тихо, по-деловому, спросил: – Взятки берет?
– Не знаю, не думаю, – искренне признался я. – Недавно один пытался подкупить чиновника, пять тысяч долларов предлагал, так немец сразу внес это в протокол, – вспомнил я Дубягина.
Рукавица удивленно поджал губы:
– Вот как… Не может быть, чтоб не брали. Нету таких людей… Мало, наверно, было пяти тысяч, вот и все.
Я не стал развивать эту тему и ускорил шаг. Рукавица на ходу поправил галстук, завязанный модным узлом с несколькими ложбинками, пригладил ладонями виски, помотал головой, прежде чем зайти к Тилле:
– Все. Сейчас готов к труду и обороне.
Тилле просматривал бумаги, сверяясь с монитором и прихлебывая из чашки кофе. Любезно поздоровавшись с нами, он предложил садиться, внимательно обвел Рукавицу емким взглядом, и глаза его повеселели. Он отложил папки:
– Приятно видеть культурного человека!
Рукавица склонил голову, потом широким жестом кинул пальто на подоконник (пола придавила цветок) и с размаху сел на заскрипевший стул.
Тилле помедлил, потом прошелся к окну и невзначай расправил цветок. Тут в открытую дверь заглянул сотрудник, плюгавый и хромой Ганс, и спросил у Тилле, как быть с уборкой в праздничные дни – уборщица Фарида ушла в отпуск.
– Кто там следующая в списке?.. Азиза?.. Пусть она убирает.
Ганс уковылял прочь, а Тилле, усаживаясь за стол, сказал мне:
– Скоро уже и убирать самому придется. Обо всем должен я один думать. И тут работы полно, – показал он на заваленный папками, делами, брошюрами, бюллетенями и книгами стол. – Все на мне.
– А шеф? – указал я на потолок.
– Шеф сейчас на Мадагаскаре, на месте тайные пути беженцев изучает, – усмехнулся Тилле.
– Все ясно.
– Вот и мне тоже все ясно. Притом уже давно.
Рукавица слушал молча. Для приличия я перевел ему:
– Шефа ругает.
Рукавица заулыбался:
– Это святое. У них тут тоже, наверно, как у нас: «Правило № 1 – шеф всегда прав, правило № 2 – если шеф не прав, то см. правило № 1»?.. – Он вдохнул и с шумом выдохнул воздух. – У немцев хоть правила есть, а у нас и правил никаких… Бей своих, чтобы чужие боялись. Каждая пипетка мечтает стать клизмой. Свою власть показывает… Видимо, одна такая нелепая страна, как наша, должна существовать на земле, чтоб другие народы смеялись. И делали выводы… К сожалению, Россия сегодня превратилась в страну дилетантов, неумех, фраеров, озлобленного агрессивного жлобья… Вот и целуйся со своей генетической связью с Россией теперь! Вы как считаете? – вдруг добавил он, заглядывая мне в глаза.
Я с неясным бормотаньем: «Все хороши» – пожал плечами. Он, не дождавшись вразумительного ответа, тоже замолк.
Тилле тем временем взял микрофон и продиктовал первые дежурные вопросы. Рукавица назвал себя, дату рождения. Тилле сверил с паспортом, кивнул:
– Все верно. К счастью, паспорт тут. А в нем – много-много пограничных штампов. Что, много ездите?
– Приходится, – важно ответил Рукавица, но тут же исправился: – Приходилось, вернее… Сейчас уж куда?..
Тилле отложил паспорт, спросил о родственниках. У Рукавицы была большая родня в Одесской области. За границей никого. Пока я переписывал на лист всех братьев и сестер, а также жену с тремя детьми, Тилле поинтересовался:
– В каких странах конкретно бывали в этом году?
– Да в разных. Всех и не упомнить. По делам фирмы ездил. Во Франции был, грецкие орехи на их рынок проталкивал. В Голландию заезжал, два вагона еловых семян продал. В Греции приходилось бывать – отдыхал с семьей…
Тилле удовлетворенно кивнул:
– Это очень хорошо. И по штампам ясно видно… Ну, об этом позже. Расскажите коротко вашу биографию. Где учились? Служили в армии?
Рукавица потер щеку (запах духов активизировался, Тилле одобрительно повел носом):
– Биография вполне обычная. Родился в Кремидовке. Отец – украинец, мать – еврейка… Знаете, книга есть такая: «Что такое еврей и как им быть»?.. Очень интересная, всем советую почитать… Учился в селе до пятого класса. Потом к дяде Доне, брату матери, в Одессу переехал. У него жил, учился в школе № 12, на улице Моисеенко. Это в центре. Мы и жили там недалеко, на улице Клименко, 6. У дяди Дони свой дом был, еще с дореволюционных пор удалось как-то сохранить. От отца перешел, а тому – от деда. Хороший был мужик дядя Доня, недавно от сердца умер. Как говорится, мой дядя самых честных грабил… Дядя Доня был директором базара. Знаете, что такое в Одессе директор базара?.. Это немного ниже Бога.
Когда я перевел эту замысловатую тираду, Тилле засмеялся:
– У меня дядя тоже хозяином мясной лавки был.
– Так то хозяин, собственник, владелец! А дядя Доня был только директором: на базаре ему ничего не принадлежало, а домой приходил распухший от денег – карманы пачками забиты были. А когда пьяный приходил, то сам уже не мог шевелиться и заставлял нас, детей и внуков, вытаскивать деньги из карманов. А сам сидел в кресле, пил горячее молоко с водкой и учил нас жизни. Дети, говорил, не забывайте: лучше брюхо от жора, чем горб от работы. Лучше переспать, чем недоесть… Жена, говорил, что собака: пока не наорешь – не успокоится!.. Женщина, как и рыба, начинает гнить с головы…
– Ясно, умный был человек, – вежливо остановил его Тилле. – Что было дальше, после школы? Учились дальше?
Рукавица широко заулыбался:
– А как же. Меня в восьмом классе хотели на второй год оставить, химическую лабораторию поджег, так дядя Доня определил меня в торговый техникум. Потом окончил заочный Киевский пищевой… Диплом, все честь честью…
– Служили?
Рукавица испугался:
– Да боже упаси! Дядя Доня на корню откупил. У нас в армию идут самые бедные и безродные. А директора базара кто посмеет обидеть? Притом за деньги все можно купить. Даром – только за амбаром. «Я, говорит, от тебя мандавошек нахватался!» – «А ты за три рубля чернобурок хотел получить?» Хе-хе-хе…
– Чем занимались после института?
– Ох, разным. – Глаза Рукавицы заблестели. – Чем только не занимался!.. И СП открывал, и рестораны закрывал. И ларьки имел. АО организовал. Цехом владел, контрафакт производил…
– Это что, алкоголь? – уточнил я.
Он важно объяснил:
– Ну… В России сейчас оригиналов нет, все фальшивое… А фальшивый алкоголь четырех видов бывает: суррогатный, нелегальный, безакцизный, поддельный… – Вдруг остановившись, как будто вспомнив что-то, на секунду замолкнув, Рукавица круто перешел на другую тему: – Но знаете, я такой человек, что не терплю неправды! Поэтому всегда с властями в пикировку попадал. Казалось бы, что мне на митингах надо?.. Сиди себе и ешь солянку рыбную сборную отборную. Так нет же ж, не могу молчать! И на митингах бывал, и газеты левые финансировал, и петиции подписывал. За это и пострадал. Пострадал за правду, можно сказать. Лучше б сидел тихо и икру ложками лопал. Теперь вот лагерной баландой питаться приходится. Да, жизнь бьет ключом, и все – по голове. И не промахивается, главное…
Тилле со скрытой улыбкой выслушал его монолог о правде и икре и попросил подробнее рассказать, чем тот занимался последний год – ну, кроме фальшивого алкоголя.
Рукавица сцепил руки под животом:
– Всяким. Своей фирмой в основном, пока не допекли. У меня фирма «Лилия» есть… вернее, была, – поправился он. – Экспорт-импорт, ширпотреб, пищевка, пивко голландское, колбаска немецкая, ветчинка австрийская, машины подержанные, одежонка б/у… ну, и так далее… Что Бог пошлет…
– На кого оформлена фирма?
– Была оформлена, была, – уточнил Рукавица. – На меня была оформлена. У меня еще восемь людей сотрудников… Было.
– Есть счета в западных банках?
– Как не быть?..
– Ваши личные или фирмы?
– Разные. Но фирму продал, а мой личный счет остался. Наш с вами счет, можно сказать! – вдруг уставился Рукавица на Тилле.
– Не понял? – ответил тот.
Рукавица завозился на стуле, забормотал льстиво:
– Ну, имею в виду, что если мое дело положительно решится, то мы с вами можем этим счетом совместно пользоваться…
Тилле, усмехнувшись, всем корпусом повернулся ко мне:
– Сколько тот монстр Шнайдеру предлагал? Пять тысяч?
– Мало, конечно, – откликнулся Рукавица, когда я ему коротко поведал о Дубягине. – Я ему тут же пятьдесят тысяч дам, если он мне дело сделает!
Я перевел. Тилле махнул рукой:
– Забудьте. Тут не Советский Союз. И больше не предлагайте. С какими фирмами сотрудничали на Западе?
Рукавица разочарованно потер затылок:
– Значит, не клюет? – тихо уточнил он у меня. – Жаль, очень жаль… Надо было наличкой принести, прямо сюда, чтоб увидел… Ну да ладно, на нет и суда нет… С какими фирмами работал? С разными. Тут ведь тоже много всякой рыбицы в мутной водице. Список большой. Даже Максимка не всех знал…
– Какой Максимка? – шепнул я ему, напомнив: – Вы же сказали, что с Максимкой в лагере познакомились!
– А… ну да, ну да… – закудахтал испуганно Рукавица, но Тилле успел уловить имя:
– Что, Максим?.. Максим?.. А, вчера такой тут сдался – Максим! – он покопался в папках, достал какой-то замызганный паспорт и принялся его сличать с паспортом Рукавицы, потом спросил невзначай:
– Этот человек, Максим Чалый, вам знаком?
– Нет, тут, в лагере познакомились. Земляками оказались.
Тилле, держа оба паспорта в руках, серьезно уставился на Рукавицу:
– Еще раз спрашиваю – этот человек, Максим Чалый, вам знаком? Вы вместе приехали в Германию?
– Нет, тут познакомились… Это я про другого Максимку, что у меня на фирме работает… работал… – заерзал Рукавица, но Тилле прервал его:
– Почему же тогда у вас и у этого, по вашим словам, ранее вам незнакомого Максима за последний год в паспортах все пограничные штампы совпадают?.. А?.. Как вы это объясните?
– Не знаю, – растерялся Рукавица. – Может, он тоже в те же дни ездил?..
– В те же дни и часы? И в те же страны? – Тилле покачал головой: – Нет, таких совпадений не бывает. Вы с ним путешествовали вместе. Раз уж мы начали об этом, то прошу вас рассказать, как вы проникли на территорию Германии?
Лоб и нос Рукавицы залоснились, он вытащил платок, вытер лицо. Веселости в нем поубавилось.
– Ну как прибыли… Прибыл, вернее… Когда я понял, что надо бежать, я быстро продал фирму.
– Кому? Когда? За сколько?
– Кому?.. А брату своему. А за сколько – это уже коммерческая тайна, извините.
– От нас у вас тайн нет, – сухо и жестко оборвал его Тилле, но не стал пока копаться в этом вопросе и попросил продолжать.
– У меня бизнес-виза была. Поездом доехал до Вены, а там пересел на другой поезд и доехал до Дрездена.
– Зачем надо было делать такой крюк?
– Максимка ждал, – вырвалось у него.
Я взглянул на него, но опять было поздно – Тилле, услышав, усмехнулся:
– Опять таинственный Максимка!.. Почему он так прячет и скрывает, что они вместе? В чем дело? – заинтересованно посмотрел он на Рукавицу.
Тот совсем сник и ничего не отвечал. Тилле стал спрашивать дальше:
– В Австрии не просили политическое убежище? Почему?
– А… А у нас… У меня знакомые были в Дрездене, поэтому решил там сдаться. Борчик и Ленуся, друзья, документы на отправку тракторов подготовили, взять надо было… Ну и поехали, то есть поехал… И приехал…
– Не очень-то вы преследовались, раз могли свободно через границы кататься! – заключил Тилле и что-то внес в компьютер, а мы с Рукавицей переглянулись.
Пот катил с него. Он прерывисто вздыхал, а Тилле настойчивее попросил рассказать, с какой целью Рукавица приехал в Германию.
– Документацию надо было отвезти, для фирмы, – признался тот.
– Фирму же вы уже продали? – прищурился Тилле.
– Ну… Да… Продал… Но брату продал… А мы вместе работаем… Надо было еще…
Тилле закрыл паспорта, посмотрел на него проницательно.
– Вы, я вижу, солидный человек, имеете фирму, деньги, семью, ездите по Европе. Что вам, собственно, тут, у нас, надо? От кого и от чего вы бежите, скажите откровенно?
Рукавица огляделся, как после сна.
– Последние два года стало невозможно жить. С одной стороны – подлец Кучма буйствует. С другой – антисемиты донимают. Звонят на фирму, ругаются, стекла бьют, машину взорвали, «Вольво». Убирайся в свой Израиль – и все. Когда машину взорвали, я пошел в милицию. А там эти тупорылые рожи смеются: «От машины что-нибудь осталось? Ничего? Ну, раз трупа нет – нет и преступления. Станете инвалидом – приходите, поможем, а пока советуем на фирме охрану увеличить. Можем пару надежных людей посоветовать!» Сами, наверно, и взорвали, как думаете? – (Тилле пожал плечами.) – Потом на вывеске фирмы краской буквы подрисовали, плохое слово вышло.
– Как это? – спросил я.
– Дайте листок, покажу. – И он написал крупными печатными буквами «ЛИЛИЯ», в первом «Л» продолжил наверх ножки, а к первому «И» добавил хвостик вниз. Вышло «ХУЛИЯ». – В общем, житья не было. А у меня на фирме, как назло, одни евреи, только грузчик-хохол затесался. Двух сотрудников, которые лицом пожидовистее, хулиганье палками избило. Не поверите – в почтовый ящик дерьмо клали, не лень же ж было!..
– Я верю вам, – сказал Тилле. – Но это к нам не имеет отношения. Подобные локальные криминальные конфликты – дело полиции.
Рукавица вытер пот с лица и приосанился:
– Вот в том-то и дело, что полиция – самые главные бандиты. – (Тилле на это опять пожал плечами – мол, я вашу полицию переделать не могу.) – Полиция меня и мучила. Когда хоронили поэта Белозира, я тоже пошел на похороны. Был митинг. Я выступил, сказал, что пора кончать с этим произволом. Через неделю какие-то люди стали звонить. «Плохо кончишь, гад, лучше заткни свой пархатый рот, не то язык вырвем, в задницу вставим! И никакой Иисус Иосифович тебе не поможет!»
– Кто? – не понял я.
– Ну, Иисус Иосифович Христозон, это шутки у них такие, Кучма однажды сказал, а эти болваны повторяют. В общем, все в таком виде: звонят, грозят и ругают. Через пару месяцев, в начале февраля этого года, опять же ж был митинг, выступал Мороз – есть у нас такой оппозиционер, если только еще жив, не знаю. Я опять пошел…
– А чего вы по митингам ходили? Вам лично чего не хватало? Сидели бы в бюро и работали! – прервал его Тилле.
Рукавица пресекся, будто грудью налетел на что-то твердое. Оторопело посмотрел на Тилле.
– Ну… Я человек такой. Не могу молчать. Как где митинг – ноги сами туда несут!
Тилле махнул рукой – мол, сами виноваты, а Рукавица продолжал с неудержимой прытью дальше:
– Шли с митинга, подъехал «черный ворон», всех в него покидали, три дня в полиции держали, ругали: «Не играй в демократию – как Гонгадзе кончишь!» – и дубинками своими молотили. Ну, у нас как?.. Папуас папуасу друг, товарищ и корм. Вот и съели меня. Еле живой выбрался. Максимке ногу сломали…
– А вы откуда знаете? – язвительно остановил его Тилле. – Вы же с ним только тут, в Германии, познакомились?
Рукавица оторопело уставился на него, сглотнул и начал быстро молоть дальше:
– А это… Он там… Потом, тут… здесь… рассказал, сегодня утром… Оказывается, мы на одном митинге были… Но там не встретились, а только в Дрездене… Где и как познакомились, трудно сказать… просто увиделись, тут…
Тилле поднял руку:
– Стоп! Ближе к делу. В чем вообще проблема? Не ходите по митингам – и не будут вас по полициям таскать. Кстати, раньше имели какие-нибудь проблемы с органами власти, с МВД и КГБ?
Рукавица в ужасе отшатнулся:
– С Кагебой? Ничего никогда. Боже упаси! Я только одного майора КГБ лично знал. Это был самый веселый шикарь, которого я в жизни встречал. Он говорил на пяти языках, пел, играл на всех инструментах и знал наизусть «Слово о полку Игореве». Я вообще политикой никогда не интересовался.
Тилле усмехнулся:
– Как это понять?.. А зачем тогда на митинги ходили?
– Ну, людей поддержать, – нашелся Рукавица.
– На филантропа вы мало похожи, – прямо сказал ему Тилле. – Скажите откровенно, что вас привело к нам? Мафия? Неоплаченные счета? Черные дела? Междоусобицы?
Рукавица замолк, скорбно смотрел на Тилле. Потом со вздохом произнес:
– Знаете, у нас сейчас так: или подыхай с голоду, и тогда тобой никто не интересуется; а если голову высунул и жить хочешь по-людски – знай, что ее тебе снесут или платить заставят за крышу. Измучен крышами и штрафами. Знаете, ведь у нас как?.. У нас у людей в головах полный социализм остался. А что социалист может?.. – воодушевился он немного. – Вот, к примеру, если ресторан плохо идет, не дает прибыли, то социалист начинает жаться: урезает порции, уменьшает отопление, экономит на рекламе и прочем – и проваливает все дело окончательно. Так провалили Союз. А капиталист возьмет ссуду в банке, наймет отличного повара, купит хрустальные люстры, позаботится о порциях, вазах, цветах, красивых официантках, рекламе – и ресторан пойдет вверх, начнет давать доход. Вот и я хотел так… Да не вышло…
– Значит, платить заставляли? – по-отечески переспросил Тилле.
Рукавица кивнул:
– Сил нет. Съели живьем.
– Ну хорошо, посмотрим с другой стороны. Вы, богатый человек, разве не можете найти способ легально жить на Западе? Вон сколько ваших сограждан тут виллы и дворцы покупают!
– В том-то и дело, что на виллу не хватает, – пробормотал Рукавица. – Купить-то еще можно, но вот содержать ее… Ну и вообще…
– Почему бы ему легально, как контингентному беженцу, по еврейской линии не приехать? Мать же еврейка? – спросил я у Тилле.
Тот пожал плечами:
– Не знаю. Не хочет, наверно.
– Спросить?
– Только от себя. Меня это не касается. Я не имею права такие советы давать.
И он выключил диктофон, а я спросил у Рукавицы, почему он, если у него мать еврейка, не едет обычным путем, как пол-Одессы выехало?
– Так мать же ж умерла, – удивленно посмотрел он на меня.
– Ну и что?.. Метрика же осталась?..
– Метрика осталась. А что, так можно? – уставился он на меня. – С метрикой, но без мамы?
– Что он говорит? – спросил у меня Тилле, я перевел, на что он выразился весьма туманно:
– Еврейка и после смерти остается еврейкой… – но тут же, как бы спохватившись и одернув себя, сказал: – Если, конечно, документы в синагоге зафиксированы. Впрочем, я этих законов особо не знаю, не моя область. Пусть спросит у себя в Киеве или в немецком консульстве. Или в синагоге. Только переведите это от себя, пожалуйста, я этого не говорил, не имею права говорить.
Я перевел его слова Рукавице. Тот задумчиво поправил галстук, спрятал платок (лоб уже высох, нос не блестел). Подумал.
– А это идея… Надо попробовать… Я думал, если умерла – то все, пропало дело. Как-то особенно не интересовался. Из головы выпало. Думал, если не жива, оформлять нельзя же ж…
Я напомнил:
– Сами говорили, что за деньги можно мертвого живым сделать и наоборот. Особенно в Одессе. Приедете сюда официально. Если капитал есть – можно и тут дела делать.
– Вы делаете? – с живым интересом спросил он.
– Нет, я из другой области.
– Да-да, эта идея с синагогой – хорошая идея, – повеселел Рукавица (было видно, что в голове у него начали роиться какие-то новые планы).
– А что, никто из ваших родственников еще не уезжал? – спросил я в свою очередь.
– Представьте себе, нет. Даже удивительно, но факт. Да и зачем было уезжать?.. Нам и там неплохо жилось, пока вот не припекло…
А Тилле, включив диктофон, официальным тоном попросил беженца закончить рассказ о своих мытарствах.
– Да я, собственно, уже все изложил… – поднял плечи Рукавица. – Дотравили меня гады до того, что бежать решил. Рожденный ползать упасть не может, говорят. А я вот упал. Да если б там все было спокойно – я б тут сидел?.. Я же ж бы на крыльях полетел домой! – И он изобразил руками крылья. – Дома и стены помогают. Знаете про еврея и козу?.. Пришел еврей к раввину: тесно жить, рабби, что делать, не знаю. «А ты козу купи!» – советует рабби. Купил еврей козу. Скоро опять приходит. «Житья нет, рабби, совсем теснота, да еще с козой!..» «А ты козу выгони, легче станет!» И правда, как выгнал козу – так легче стало… Вот и я, как та коза выгнанная… – неожиданно закончил он.
– Добавить ничего не хотите?.. Тогда беседу считаю законченной, – сказал Тилле. – Желаю всего хорошего. Вы в лагере остановились? Куда вам корреспонденцию пересылать?
– В лагере. А что, можно и в другом месте жить?
– Хоть в гранд-отеле, только в пределах нашей земли. Но мы должны знать ваш актуальный адрес. Вот ваше удостоверение беженца, на три месяца, и времени терять не советую – ожидается новый закон, могут быть сокращения квот для еврейских беженцев… А паспорт пока у нас останется. Вместе с ответом получите. Виза, слава богу, у вас еще на два месяца открыта.
– Мерси боку! – Рукавица бережно принял удостоверение, взял пальто с подоконника и направился к двери. Вдруг, что-то вспомнив, он остановился и с мольбой взглянул на Тилле: – Насчет нашего совместного счета – точно нет?.. Окончательное решение?..
Тилле погрозил ему пальцем:
– Чтоб я больше об этом не слышал. Пустите ваши деньги на другие цели.
– Понял, – кратко ответил Рукавица и вышел в коридор.
По пути вниз он перекладывал пальто из руки в руку, покашливал. До самой приемной молчал, а там сказал:
– Спасибо вам большое за помощь и, главное, за совет. Ну, гора с горой…
– Даст бог. И вам всего хорошего!
Через стеклянную дверь я увидел, как он жестом позвал Максимку, тот нехотя поднялся, побрел за ним. В комнате переводчиков – пусто и накурено. Я тоже начал одеваться. И увидел в окно, как Рукавица с Максимкой шли по тротуару, Рукавица что-то оживленно рассказывал, а Максимка нахмуренно и недоверчиво слушал, ежась в своей короткой кожанке. Вдруг он остановился, что-то сердито говорил-говорил – и вдруг демонстративно плюнул на землю. Рукавица удивленно посмотрел на Максимку, потом захохотал, шлепнул его по спине, обнял за плечи. И они пошли дальше.
Залетная птица
Дорогой друг! Не хочу обременять тебя ропотом и скулежом. Смысла никакого – на бога в суд не подашь, адвокатов не натравишь, бог сам кого хочешь засудит. Все в его руках, на все его воля. А воля его – небесный тоталитаризм и грозовой террор. И никакой солнечной демократии. И если в мировом пространстве демократии нигде нет, то с чего бы ей на отдельно взятой планетке быть?.. В свое время один шустряк рогатый захотел равноправия, выступил не по делу – и загремел в тартарары. До сих пор горит – сгореть не может: рога сильно чадят, в виде смога над землей стелются. Так что лучше с небесным террористом не связываться, себе дороже станет. Сиди и молчи в тряпочку (заодно и от смога помогает). И рад будь, что еще молчать в силах – на том свете и этого не будет…
Ладно, позитивно думать. На хорошем сосредоточусь. Из Майнца письмо-приглашение пришло – в выставке «Постсоветский постмодернизм» участвовать предлагают. Выставляться будут исключительно иностранты и эмигранцы. Надо бы Вия, художника по витым объектам, предупредить, пусть совьет пауков потяжелее и над толпой повесит – будет им акция.
Это если позитивно думать. А если негативно – то пожалуйста: ходил в амт, куда вызвали. Место вроде газовой камеры. В приемной люди сидят, дрожат: продлят им визы или нет?.. И ты жди. Тут не пофанфаронишь. Не пофонбаронишь. Сиди, молчи, на табло пялься, жди и дрожи. Тем более что и сосед-Монстрадамус, в прошлом году фальшивку о деньгах написавший, вдруг заартачился, заупрямился, про немецкую честность вспомнил и ничего не написал (тоже, наверно, из-за самолетов и небоскребов, сейчас немцы всех ненемцев подозревать стали).
Вот номерок подоспел. Зашел в кабинку. А там мерзкий хер Челюсть сидит. Морда угрюмая, в угрях и хотимчиках, плешь тусклая, облезлая, взгляд противный, скользкий. Сидит проклятая Челюсть, руками шевелит (как улитка – рожками), злобно на меня выпучился, важничает, слова не молвит, бумажки перебирает. И я на него смотрю, думаю о том, что люди правильно говорят: чтобы быть образцовым чиновником, надо родиться дураком и жизнь прожить подлецом.
Потом зашипела Челюсть: «Я вас, кажется, предупреждал – вот, у меня записано, 28 января сего года, в 11:48. Я вам говорил… Теперь пеняйте на себя. Виза у вас еще на четыре недели. Больше визу продлевать не намерен, потому что ваш месячный доход лежит ниже нашего прожиточного минимума». «Помилуйте, вот он я, жив, чего вам еще, чем не минимум?..» – отвечаю. «Это нам все равно, что вы живы, – говорит проклятая Челюсть. – У нас граница в месяц на человека в тысячу марок определена, а у вас и шестисот не набирается, если все ваши так называемые нерегулярные доходы на 12 месяцев поделить. Значит, по нашим законам вы мертвы. И через месяц будьте любезны покинуть Германию!» – «Живым или мертвым?» – «Нелегальное нахождение мертвого тела на территории Германии так же запрещено, как и живого. Притом сейчас все ужесточено. Видали, что в Америке ваши коллеги сделали?» – отвечает.
Я – в панику: «Какие они мои коллеги?» – и давай юлить и врать: мол, как раз вчера картины продал, вот-вот деньги придут, и от дяди-богача на днях перевод ожидается, и товарищ долг вернуть должен, и богатая невеста намечается… Челюсть посмотрела-посмотрела, губами пошлепала, плешь почесала, на часы взглянула – на обед пора – и дала три недели: если за это время выписки из банка не принесу, изволь выметаться. «Из какого банка я их тебе принесу, если счет давно закрыт за ненадобностью? – думаю. – И куда выметаться, скажи на милость?.. В Совок?.. Отвык, не выдержу…» Пообещал ему, что все бумаги представлю, и убрался прочь.
Иду и думаю, что дальше делать. И здесь тошно, и в Совке отвратительно. Валаамов баран на прокрустовой койке под дамокловым ножом – вот кто я теперь. Тяни-толкай, жизнью затраханный… Маламзя ползучая, фистула!..
Возле ратуши обдахлоз Фриц с друзьями встретился. Все радостные, возбужденные, красные, опухшие – только что героином в медпункте заправились, теперь траву курят и о мусульманстве дискутируют: разрешает ли ислам опиум глотать – или только курить?.. И меня заставили что-то с зеркальца через трубочку занюхать. Сразу расцвело все вокруг. Жарко стало. Тиннитус замолк. Полегчало на душе. Поделился с Фрицем своей проблемой, а он смеется и между затяжками советует: «А ты сдайся в азюль, как Заратустра. Скажи: русская мафия достает, КГБ мучает, милиция гонит…» – «А за что гонит?» «Мало ли причин?.. Хоть бы за то, что ты переводчиком у немцев в концлагере служил…» – смеется.
Потом начали шумно легализацию наркотиков обсуждать: дескать, почему бы и не дать нам, народу, всю эту кокаморфихуану в свободную продажу? Всем будет лучше! Пошел в аптеку, шило – в жилу, и все нормально!.. И чем шнапс от гашиша отличается? Ничем, только от шнапса человек шалеет, дичает и все вокруг крушит и убивает, а от гашиша становится вежливым, ласковым, добрым и неагрессивным. И здравые доводы приводят: зашел в аптеку – купил – ушел, огромные налоги начнут поступать в казну, а не в мафию, полиция займется другими делами, цены на наркотики будут стабильны и низки, не надо грабить и воровать, преступность пойдет вниз, и люди не будут криминализованы, как сейчас (для того, чтобы купить травки, сейчас человек должен с пушерами и дилерами связываться); и аптеки расширят штаты, и медицинские страховки будут рады: кто насмерть заширяется или занюхается – туда ему и дорога, похоронные бюро, «Фениксы» и «Осирисы», радовать, он сам свою нирвану выбрал и с баланса снялся, а остальные, кто жив, пусть тихо по углам сидят и «Пинк Флойд» слушают – они и в больницы обращаться не будут, потому что наркотики все физические болезни сдерживают и душевную психику лечат…
Тут за углом какой-то шум случился, полиция вязать кого-то пришла. Побрел я от греха подальше – не хватает еще за хулиганство залететь, тогда уж точно визы не видать, как своих ушей. По дороге 0,75 лекарства от всех невзгод купил, за голощелкой зашел… А потом, когда она все свои щелки смежила, о словах Фрица думал, про рассказ коллеги Хонг о беглом переводчике вспоминал… Действительно, если сам Заратустра в азюль попросился, почему бы и простым смертным не попробовать?.. Хуже не будет…
Что надо для этого иметь?.. Доказательств, всяких, материальных. Чем больше – тем лучше. Документы. Фотографии. Письма. Записи телефонных угроз. Повестки из милиции. Справки из больницы. Вызовы из военкомата и прокуратуры… Что-нибудь вроде статьи в газете или передачи по ТВ… Шрамов и отметин своих хватает, тут жизнь постаралась… Стоп!.. Какие справки-повестки, если ты уже столько лет тут, в Германии, околачиваешься?.. Кто это тебе повестки присылает?.. И какое, скажи на милость, государство тебя вообще преследует – немецкое?.. Если немецкое – то и уезжай себе домой, там тебе спокойно будет…
Очевидно, надо сделать по-другому: спрятаться месяца на два-три – как будто законопослушно уехал из Германии. А потом явиться, в свежих синяках, и объяснить, как было дело: вы, немцы, мне, вашему честному псу-толмачу, визу не продлили. Пришлось уехать. А там, в бывшем Союзе, в Москве (лучше всего там, в самом сердце мафии, где концов не найти), КГБ-ФСБ-милиция-ОМОН-шмомон начали мстить, преследовать… За что, почему?.. Да за все! За эмиграцию! За сотрудничество! За предательство! За измену! А еще лучше – чеченцы прицепились: их родственнику переводил, он отказ получил, а я виноват. Специально неправильно переводил, собака, режь ему глотку, еле ушел… Болотами пробирался, в грузовиках через границы переезжал, теперь вот к вашим стопам припадаю – видите, что со мной случилось (из-за работы на вас, между прочим). Помогите-спасите-спрячьте… И справки – на стол. А паспорт – под стол, чтоб по штампам не проверили, выезжал или нет…
Где конкретно подвергались преследованиям?.. А всюду на территории бывшего Союза. В Москве рубят – по городам щепки летят. За что преследовались?.. А за все: дезертир, беглец, изменник, саботажник, пособник ЦРУ, шпион НАТО, предатель, на немецкий абвер работаешь, фашистский прихвостень, палач из гестапо и вообще гад ползучий… Хорошо бы к Тилле попасть, с ним разговаривать легче всего…
Тилле?.. А почему именно к Тилле?.. Другие не хуже. Или не лучше. Все зависит от уровня интеллекта: Тилле на содержание упор делает, Шнайдер – на параграфы и законы, ну а Марк на противоречиях, ошибках, оговорках и датах ловит. Но где вообще гарантия, что в этот лагерь распределят?.. Квота покажет, где свободное место есть. Сказано квота – и все, возражать не моги… Ну, куда пошлют – туда пошлют. В чужой лагерь, может, и лучше попасть, чужим врать легче…
В общем, сделать можно. Решиться только надо. Конкретно никого не называть и, кроме мертвых, никого не упоминать. Попробовать можно. А что?.. Я – как тот пес, которому если на хвост наступить, из друга человека сразу превращается в его заклятого врага. Наступаете?.. И я цапну. Топчете?.. И я укушу…
Ко всему еще одно горе прибавилось: мою Мушку проглотил – угодила в коньяк, ушла в нирвану моего желудка. Была бы водка – я бы ее не проглядел: черное в прозрачном хорошо видно. А главное, голощелка видела мошку в моей рюмке, но сказать не успела – в туалет ей приспичило. Я и выпил. Она вернулась, говорит: «Ах, ты уже успел выпить?.. А там, между прочим, мошка плавала!» – «Красивая?» – «Да, ничего, с крылышками». Тут я понял, что Машку проглотил. Обидно, да ничего не поделаешь – видно, пришло ей время инкарнироваться. А может, и мне вместе с ней… За мной наверняка приходила… Жаль, хорошая подруга была – верная, молчаливая, необременительная… Мало сейчас таких. Мне ее будет не хватать. И зачем только небесный пахан мне такую иудину роль подсунул – никто не знает, кроме него и Мошки.
Недавно вызвали переводить. В лагере застал Бирбауха и хромого Ганса за веселым разговором – они рассматривали какой-то листок.
– Что это? – спросил я после приветствий.
– Доказательство Эйнштейна, что баба есть зло. Вот, черным по белому, смотрите!
– А что, без Эйнштейна не ясно? – заглянул я в листок, послушал вычисления, посмотрел на формулы, которые Бирбаух охотно (и явно уже не в первый раз) пояснил:
– Исходные данные просты: бабы требуют времени и денег. Значит, баба = время × деньги. Как мы все знаем, время = деньги. Отсюда: баба = деньги × деньги = деньги##2###. Однако пословица гласит, что деньги есть корень зла (деньги = √зла). Таким образом, баба = √зла##2###, а это значит, что баба = зло. Все просто… Только мне совсем не нравится, что деньги злом называют, – ощетинился Бирбаух, почесывая в кудлатой голове. – Какое же это зло?.. Деньги делают человека умным и добрым.
– Зато дурака окончательно с ума сводят! – ответил я.
Ганс подтвердил мои слова убедительным:
– Яволь![71] – хромо переминулся и кивнул на приемную. – Вон, кстати, сидит один такой лакомый кусочек зла!.. Вас ждет, между прочим! Вот почему это так: как красивая женщина – так русская?..
В приемной, среди черных хламид и кожанок, сидела яркая блондинка с выпуклыми голубыми наглыми глазами и ярко-желтыми волосами (немудрено, что такие особи чаще всего бросаются хищникам в глаза). Я издали кивнул ей:
– Доброе утро! Я ваш переводчик! Посидите пока, я узнаю, как там дела.
Она ответила долгой улыбкой и поворошила полу короткой дубленки. Пола отпала, открыв длинные ноги в жатых сапожках до колен. Черные колготки с ромбами. Накрашена, сидит изящно, нога на ногу, мало кто так сидит в этой скорбной приемной. Залетная птица. Не наш контингент. Старый грузный курд в телогрейке, с добрым лицом и желтыми от табака усами, с умилением смотрел на нее. Два молодых араба пялились в упор. А стайка китайцев даже и смотреть не решалась.
– Посидите пока, я посмотрю, все ли готово! – повторил я, и проснувшийся во мне комендант лагеря пошел чеканным шагом по гулкому коридору.
В комнате переводчиков вьетнамка Хонг о чем-то спорила с морщинистой китайкой Линь Минь. За другим столом Суза меланхолично жевал дешевые галеты.
Я поздоровался с маленькими женщинами, а к Сузе подошел с объятиями:
– Давно не виделись!
Суза ответил, но не так жарко и оживленно, как всегда:
– А, друга! Привета! Как живеши?
– Ничего, все в порядке. А у тебя как дела? Как бизнес в России?
Лучше бы я этого не спрашивал!.. Суза поморщился, помрачнел (если негры вообще могут мрачнеть), сел за стол и опять принялся за галеты:
– Хуи-хуи бизнес в Руссия. Прокляты суки-блади вся денга украй! Капут! Нету бизнес!.. Иоб твоя мать!.. Вот, дажа брука нету, – мотнул он курчавой головой.
Действительно, одет не так шикарно, как обычно: мятые штаны, кроссовки, какой-то индюшачий женский жакет. И даже похудел как будто.
– Что такое? Что случилось? – участливо спросил я, догадываясь о причинах краха.
Суза махнул рукой:
– А… Руска многи товар брай и денга не давай. А потома я узнавай, что этот фирм ужа нету, банкрота. Директур в Эспана бежил, весь денга украй, свулуч!
– Ну, ты в России долго жил, должен был знать, что к чему, – ответил я.
– Чтой чемуй я знай! – подскочил Суза со стула и близко подошел ко мне. – Но таки подлюки не думай! Москва-батюш прокляты был, жирны сука взатка давай, все брай, а сичасы? – повысил он голос и так агрессивно зажестикулировал, что мне пришлось остановить его:
– Спокойнее, я при чем?.. Это не я тебя кинул! Если кому-то борщ не нравится – я не виноват!
– Борщи?.. Нет-нет, друга, я знай, ты не виновай, пруста я волновай! Даж никаки девучка в Руссия не ебай, так езжай. Плох! Такий подлюка не ожидай! – И он злобно, с размаху плюнул в мусорное ведро (от щелчка слюны о целлофан обе маленькие женщины вздрогнули и замолкли).
– И что сейчас делать?
– Хуи делай! Фирма закрывай – и вот. Такой не думати!.. Кавиар кушай, баня ходи, всяки свулуч братка денга давай, все брай – и потома такая ответа давай!.. Почема?.. Такой глупы дурак руска! Хотит сразу денга украдит. Мозг нету башка, тиха-тиха бизнес делай!..
Слушая одним ухом проклятия в адрес «свулуч Руссия», другим я прислушиваюсь к спору Хонг и Линь Минь. Они говорят о каком-то звере Воа, про которого была недавно передача по ТВ.
– Что за зверь такой? – спросил я у Хонг.
Она откинула жестяные волосы, объяснила:
– Этот сказочный зверь Воа, из китайского фольклора, похож на оленя с рогами и питается только ядовитыми змеями. Его рога – лучшее противоядие. А экскрементами можно врачевать укушенных змеями людей и животных.
Суза, слушая это, презрительно сморщился:
– Глупы баб, всяки черт вериги!.. Воа!.. У нас в Африк многа всяки звер маска делай!.. – И он скорчил рожу, подняв над затылком растопыренные светло-розовые ладони.
В ответ я ему громко (пусть Линь Минь слышит!) рассказал о том, что в китайским ресторане «Дары будки» ежемесячно проводятся выставки породистых собак, причем участников, занявших последние три места, тут же сервируют для членов жюри в вареном, жареном или печеном видах.
Тут в комнату вплыла Ацуби – и все умолкли, уставившись в ее юное лицо. На Ацуби был белый свитер в обтяжку, черные слаксы и ботиночки на высокой платформе. Она приветливо поздоровалась и начала перебирать папки:
– Вот Вьетнам… Китай… Это вам, Суза, многодетная семья из Танзании… А для вас – молодая дама из России, прошу.
Homo erectus во мне распрямился и заговорил во весь голос:
– Вы выглядите сегодня очаровательно, просто роза с мороза! Не обижаетесь на комплименты?.. А то недавно одна студентка в суд подала на своего профессора, который сказал ей, что она хорошо выглядит. Оказывается, по-научному комплимент женщине называется «сексуальное домогательство». Вы знали?.. – начал я ей заливать, подходя ближе положенного и ощущая запах душистых волос. Да, сегодня в лагере много дел у коменданта!..
– Нет, я так не считаю, – зарделась Ацуби. – Люди имеют право высказывать свое мнение. В разумных границах, конечно.
– А где они, эти границы?
Ацуби постучала пальчиком по виску:
– Здесь, где же еще?
– Там у всех по-разному. Может быть, мы как-нибудь обсудим этот вопрос в более уютной обстановке?.. – тише спросил я у нее.
– Зачем? – удивилась она. – У меня есть фройнд[72].
– Ну и что?.. Один есть – два будет!.. Разве запасной не нужен? Всегда хорошо иметь запасного игрока, это сделает вас более независимой, поверьте!
Она странно посмотрела на меня, поджала губы, повернулась и ушла в музгостиную. Тут Суза, с большим неудовольствием поковырявшись в своих папках (многодетная семья из Танзании явно не вызывала его интереса), со вздохом произнес:
– Метелица-бар ходити, там пуста, люди нетути, толки тристы крашены шлюха и три черна морда сидити, апельсин кушати… Никто давай ебай, пока денга не положай…
– И что? – не понял я, куда он клонит.
Суза возмущенно повел головой, похожей на бараний курдюк:
– Да, за двести доллар один глупы баб покупай. Толки нумер входити и пятнад минут играти, ишо сто доллар давай, ужа твоя времени кончай, говорит этот наглы Дашутка. Как кончай? Ишо не начинай нормаль?.. Бодигард мине гнал, драк быти. Такой свулуч все!
Я пожал плечами – «Не ходи в “Метелицу”, кто теперь виноват?» – и открыл папку.
фамилия: Викульская
имя: Инга
год рождения: 1976
место рождения: г. Грозный, Россия
национальность: русская
язык/и: русский / английский
вероисповедание: христианка
В приемной было людно: прибавились шумные албанцы, семья из Африки громко возилась в углу, тут же тихо совещались какие-то оливковые личности в фесках. И все исподтишка глазели на яркую блондинку. А она нервно покачивала обнаженной ногой, щурилась и нагло поглядывала в ответ.
– Инга, пойдемте! – махнул я ей рукой.
Она послушно и быстро встала, но медленно продефилировала мимо всех. Высока, стройна. Дубленый рыжий полушубок – до середины мини-юбки, а мини-юбка – до середины бедра. Длинные, породистые ноги. Глаза выпуклые, как у фарфоровых дев. Лицо ухожено. Маленькая театральная сумочка. Подойдя ближе, чем надо, она обдала меня бодрящим запахом помады и спросила с табачной хрипотцой:
– Идти?.. Куда?.. Сюда? – и мотнула сумочкой на зев коридора.
– Да, пожалуйста. – Я пропустил ее в дверь и подмигнул Бирбауху, который ошалело пялился из своей клетки на это чудо.
– А что сейчас будет? – спросила она в коридоре, воровато оглядываясь и беря меня двумя пальцами за рукав.
– Сейчас?.. Ну, как обычно: одежду сорвут, в цепи закуют, в кожу залепят, на наручниках подвесят – и давай!.. – серьезно объяснил я ей и, увидев всю гамму чувств, пробежавших по ее лицу, поспешил участливо пожать узкую льдистую кисть на моем рукаве: – Не бойтесь, ничего страшного. Снимут фото, отпечатки. А потом расскажете о своих проблемах – и все.
– Ох, а то я испугалась, что вы меня, правда, кожуру скинуть заставите, обыскивать будете… Это женский туалет? Я забегу на секундочку?
– Пожалуйста. Помощь не нужна? – помог я ей открыть тугую дверь женского «00», нагло и жадно заглядывая в это обиталище мальчишечьих грез.
– Пока сама справляюсь, а дальше видно будет, – ответила она с понимающей улыбкой. – Ну-ну, наглый какой! Сюда нельзя! Пропусти!
Думая о том, что если я перестану думать о женщинах как о секс-объектах, то кончусь как мужчина, это же ясно, как летний день в темную ночь, я ждал ее у музгостиной, где злая Линь Минь переливчатыми гласными звуками гоняла от стола к станку, от фотоаппарата к умывальнику трех китайцев:
– Ааа-ою!.. Ууеее-э!.. Юю-юу-аии!.. Уиу-иу-у! Яйиин!
Китайцы с белыми от страха лицами послушно перемещались по комнате, а Ацуби молча делала свое дело.
– Уже шпаргалка не нужна? – вспомнил я нашу первую встречу, на что она сухо не ответила и отвернулась.
Зацокали каблучки, появилась Инга. Все, кроме Ацуби, опять уставились на нее. Волосы полыхают сусальным золотом, на веках – лазурь небес, ресницы черны, как планетарий. Она по-хозяйски прошествовала к столу и небрежно кинула на него шитую фальшивым бисером сумочку:
– Я готова. Что делать?
Я указал ей на стул перед фотоаппаратом. Ацуби сменила кассету.
– Как в милиции. Там тоже ужас любят щелкать, – сказала Инга, после фото направляясь мыть руки перед отпечатками, которые Ацуби сняла быстро и споро, с насмешкой поглядывая на длинные холеные пальцы в белесых полосках от снятых колец.
Китайцы в замешательстве сгрудились возле Линь Минь. Та, недобро оглядываясь (свободных стульев мало), погнала их в комнату переводчиков. А в музгостиной появился Суза, дожевывая галету. Увидев Ингу, он застыл:
– О, каки девучка!.. О, красив баб! Давай-ебай!
– Она понимает по-русски, из России! – предупредил я его, но Суза в восхищении пялился на нее во все глаза, повторяя:
– Руссия многи таки баб!.. О, Суза знай! Давай-сосай, Ленучка, Натьяша!.. Такой баб Москва-батюш сичасы многи доллар прайз ести!
– Веселый негр! – заметила Инга, нисколько не смущаясь. – Откуда по-русски так хорошо талдычит? – (Выговор у нее был чистый и певучий, с проглатыванием гласных – «в’с’лый, х’р’шо, т’л’д’ч’т»). – Сын Олимпиады, что ли? Младший брат?
– Учился в Ростове. Сын царька. Из Танзании, кажется…
– Ни фига себе! Класс! Вот бы мне такого в мужья! Свекорник – царь обезьян в Тарзании!.. Это ж надо, а! – весело поправилась она на стуле, закидывая ногу на ногу и обнажая крепкое и упругое бедро.
– А, каки лажька! – вытаращился Суза.
– Слышал?.. Хочет за тебя замуж, – объяснил я ему.
– Да-да, сичасы, давай-давай! – закивал Суза и подскочил к ней целовать руку. – Свадеб балши делати, ресторан ходити! Асютра кушати! Пол-Африк приглашати! Негус Негести!.. Телефона ести? – резво закончил он, выхватив ручку.
– Ишь, шустрый, захотел! – усмехнулась Инга. – Нету телефона. Какой телефон – в дыре непролазной живу, в комнате еще две девки из твоей вонючей Африки, помереть. Вот женись, с папой-царем познакомь – тогда все будет!
Ацуби, видя, что без ее вмешательства не обойтись, строго посмотрела на Сузу, стоящего с ручкой наготове:
– Хватит! Ведите ваше семейство! – (Суза, с большим сожалением облизываясь и что-то урча, поплелся в приемную.) – А вы побыстрей уточняйте данные, а потом – к Марку! – сказала она мне.
Мы сели друг напротив друга. Инга уставилась на меня своим голубым фарфором, поворошила желтые кудри. Я копался в бумагах.
– А ты, котик, ничего! – сказала она.
В ответ я предложил ей прочесть анкету. Мы склонились над листом так близко, что я чуял запах свежей туши на ее веках. Она тоже замерла, не дыша.
– Все правильно, – наконец сказала она, закончив водить веселыми глазами по листу. – Имя, фамилия – все верно. Год рождения – тоже. Жаль, конечно. Но что делать?.. Четвертак стукнул, назад не отсчитать… Место рождения?.. Тут же написано. Ну да, Грозный… А что?
«В Грозном таких фифочек давно нет, если и были вообще когда», – подумал я, но промолчал – какое мое дело? Толмачить – и баста. Но я все-таки поинтересовался:
– Чеченский язык знаете?
– Нет.
– Вообще?
– Вообще. А что, нельзя? – Она усмехнулась. – В русской семье родилась, в русскую школу ходила, среди русских крутилась… А потом… Ну, в общем и целом… Всякое пришлось пережить… К чему об этом?.. Ты лучше скажи, заинька, как тут остаться?.. Хотя бы на год, на полгода?..
Я пожал плечами:
– Что я могу?.. Если б от меня зависело, я бы вас сразу и навсегда оставил…
– Да уж, не сомневаюсь… Давай на «ты», а?.. Так лучше ведь? Мы, советские люди, должны помогать друг другу, как считаешь? – она прищурилась.
– Конечно, бывсовлюди… Я и так помогаю… Но в моих силах очень мало…
– Ничего, сколько можешь… Умничка… Курить тут можно?
– Нет. Сейчас пойдем, по дороге покурим.
– Я еще раз в туалет сбегаю. Ведь можно? Что-то неможется, простудилась в дороге…
– Конечно, – ответил я, гадая, от страха или от триппера бегает она в сортир, или занюхивает что-нибудь? – слишком уж оживлена, глаза блестят, шальные, нахальные, обыска боялась…
Инга с шелестом и хрустом поднялась, вышла. Ходила она, как манекенщица, – нарочито-мерный шаг с выбрасыванием бедер, прямая спина, горделивая осанка. Только взгляды разные: у манекенщиц – таинственно-загадочные, бесстрастные, даже презрительные, поверх голов, а у нее – бойкие, шалые, наглые блики, прыгающие, как солнечные зайчики: с короткими остановками и резкими перебежками. Я видел из комнаты, как в коридоре она столкнулась с Сузой, который еще раз поцеловал ей руку. Следом за Сузой двигалась темная масса танзанийцев, только зубы и белки поблескивают в полутьме коридора. Надо было уходить из музгостиной.
Я дождался Ингу возле лестницы. Пока мы шли наверх, она хватала меня то за плечо, то за руки, обдавая табачным перегаром:
– Ну, сделай чего-нибудь, котик, я в долгу не останусь!.. Помоги на годик зацепиться, позарез надо!
На это я отвечал, что переводчик мало что может сделать. И в ответ тоже не отставал в троганьях и поглаживаньях, особенно когда надо было открывать тугие двери, пропускать ее вперед и поддерживать на ступеньках. Нам встретился Тилле с двумя рабочими в желтых робах. Остановился, удивленно осмотрел нас:
– Ко мне?.. Нет?.. – и проводил нас философским взглядом.
Пока мы шли к Марку, желторобые рабочие не спускали глаз с моей спутницы. Да, по этим коридорам редко летают такие яркие и пахучие птицы, все больше – сирые мыши.
Под нарастающие всхлипы и стоны хронически больной кофеварки мы приблизились к открытой двери в кабинет. Марк читал что-то на мониторе. Увидев Ингу, обомлел:
– О!.. Пожалуйте! Кого вы это привели?.. Какая женщина! – и начал бесцельно передвигать на столе предметы, плотоядно (как низкие мужички – высоких женщин) оглядывая ее ненасытными глазами.
Она села за стол, как в ресторане – легко и свободно. Сумочку положила перед собой и замерла, оглядывая исподтишка кабинет и особенно Марка. Тот в замешательстве чесал свою бритую голову, словно забыл, с чего надо начинать. Потом собрался с мыслями, глубоко вздохнул и открыл папку, просмотрел данные.
– Этот, что ли, главный? – шепотом спросила Инга и, услышав «да», протянула с хрипотцой: – Ясно-понятно. Вот пялится, мудошлеп! Он по-русски, случаем, не волочет?
– Не думаю, хотя кто знает…
Наконец Марк пришел в себя, выпил таблетку, завозился в кресле, взял микрофон, постучал по нему, подул, пошикал и посвистел, ворча между звуками:
– Что такое… опять… не работает… напасть… – и полез проверять контакты.
Инга спросила меня:
– Чего такое? Чего этот фетюк мельтешит?
– Диктофон барахлит.
– А… А чего, весь базар записывать будут или как?.. На видео случайно не снимают?
И она тревожно и внимательно оглядела кабинет.
– Что, бывало уже?
– Всякое бывало… – Она повела плечами. – Раздеться можно?
– Даже должно.
– Ишь, лисенок! Но если поможешь…
И она вытянула полные губы трубочкой, изображая поцелуй. Это не укрылось от Марка:
– Заигрывает с вами? Какие ужимки! Откуда она?.. Из Чечни?.. – он поморщился. – Из Чечни все черные и маленькие приходят, а она вон какая, белая и большая… Эффектная особа!.. Она так же из Чечни, как я из Гренландии…
Инга тем временем блядско-царским вызывающим жестом скинула с плеч дубленку и удобно расположилась за столом. Блузка была под стать сумочке – с голубым блеском и шитыми птицами. Под натянутой тканью – очень весомые груди, нагло смотрящие в разные стороны.
– Мы как будто в ресторане сидим, меню не хватает, – сказал я, откровенно любуясь ею (Марк тоже пялился, как креветка, облизывая высохшие губы и поминутно попивая из стакана).
– Меню?.. Точно! Класс! Я бы сейчас осетринки заливной скушала… И мороженого! Люблю! Я вообще овощежралка, фруктоядица, но от парочки куриных жюльенчиков сейчас не отказалась бы!
– Да, привычка… В Грозном жюльенчики на каждом шагу… – с серьезным видом поддакнул я.
Она поцокала языком:
– В Грозном все есть. Надо только поискать. Вообще большие бабки есть у народа… Ну да народ весь давно уже в жопу выебан. – Она тщательно и отчетливо произнесла последние два слова и жестом (суя указательный палец в ладонь, свернутую кулечком) показала для убедительности, что сделали с народом.
Марк обомлел:
– Это что такое?..
– Народ, говорит, изнасиловали, – пояснил я.
– Ах, вот как… Она что, народная активистка? Оппозиционерка?.. Диссидентка?.. – Марк ехидно прищурился. – Таких красивых правозащитниц не бывает, там все уродки, как в партии зеленых… Ну ладно, начнем. Пусть назовет себя!
Она посмотрела на него как на идиота, кивком указала на лист в его руках:
– Там что, не написано? Или неграмотный? Чего чавкалку раззявил?.. Он чего, читать не умеет? Вот чванливый фриц! Пиздобол хуев!
– Хочет от тебя лично услышать. Ты вообще не спорь с немцами, а то хуже будет… – предупредил я ее. – Это он сейчас хи-хи да ха-ха, а как засунет тебе потом отказ – поздно будет! Отвечай на вопросы – и все.
– Понятно. Спасибо, котечка. – И она покорно-старательно назвала себя.
– Фамилия что-то на польскую похожа… Может, она вообще из Польши?.. – насторожился Марк в мою сторону. – Как думаете?
– Да нет, по-русски чисто говорит… А фамилия может быть какая угодно – и русская, и польская, и белорусская, и украинская…
– Вот именно. Не из Киева ли? – Он продолжал подозрительно смотреть на Ингу.
– Из Грозного, говорит.
– Какого года рождения?
Инга подумала и ответила:
– Ну, грубиян – у женщин разве такое спрашивают?.. Четвертачок разломала, вот и считай… Что, в отстой пора? Жизнь кончается?
Марк пожевал губами, чесанул хрустящий бобрик, смягчился:
– Что вы, в двадцать пять лет жизнь только начинается…
Когда я перевел это Инге, она сразу по-деловому предложила:
– Вот пусть и поможет начать новую жизнь… Сколько я их уже начинала… Начну еще одну, не проблема… – Она вздохнула, посмотрела открыто на Мар ка. – За мою новую жизнь я его райским счастьем обеспечу… – И добавила жеманно: – Дважды в неделю…
Марк, услышав перевод, весь преобразился, засмущался, закудахтал:
– Да что это она, в самом деле… Как это?… Что она имеет в виду?.. – Потом собрался с мыслями и строго сказал: – Пусть оставит эти глупые намеки! У нас тут амт, а не пуфф, бордель…
– Бордель? – услышала она знакомое слово, оживилась. – В бордель уже потянуло?
– Тут не бордель, говорит.
Она сделала большие глаза:
– Ну, а я что говорю?.. Его в бордель никто и не зовет. Как раз наоборот. Пусть дома сидит, а я буду его навещать… Вот охуярок… Да что, пошутить нельзя? – заключила она, нагло переводя свои голубые стекляшки с меня на Марка и обратно.
– Так ты что, шутишь или говоришь серьезно? – уточнил я.
– Да уж какие шутки… – вздохнула она. – Пусть поможет – рабой ему стану, ноги мыть и воду пить…
– При мне он может не согласиться, – заметил я.
– Ну, пусть без тебя. Или с тобой вместе… Мне все равно – лишь бы тут зацепиться на годик… Помогите даме! – Она театральным жестом прикрыла ладонью наглые глаза.
– О чем вы там говорите? – ревниво посмотрел на меня Марк.
Я сообщил ему, что беженка просит о помощи, предлагает за это себя в рабыни, обещает ему ноги мыть и эту воду пить, а от себя шутливо добавил:
– Вы же знаете – у переводчика нет ни глаз, ни ушей… Как у тех обезьян – ничего не вижу, не слышу и ничего никому не скажу. И я нем, как та немослепоглухая обезьяна!
– Ах, бросьте!.. Ты смотри, какая… Воду пить! Столько воды ей не выпить… – косо заулыбался Марк, но тут же добавил: – Это несерьезно… Нет, несерьезно…
– Это серьезно, – заметил я.
Марк недоверчиво блеснул очками, упрямо повторив:
– Нет, это несерьезно… Это она сейчас тут говорит, а потом… – Он безнадежно махнул рукой. – Сперва вообще послушаем, что она расскажет…
– Вначале послушать тебя хочет, – объяснил я Инге.
– Вначале? Значит, возможна и вторая серия? – резво и трезво уточнила она.
– Даже сериал, – ответил я, думая, что из могучего коменданта лагеря постепенно превращаюсь в презренную сводню.
Она взялась за сумочку, сжала ее.
– Ну, расскажем, коли хочет. Шахерзадой еще не была, попробую.
Марк, вдоволь наглядевшись на ее бюст, включил диктофон и попросил назвать место рождения и последний адрес. Инга заученно произнесла:
– Город Грозный, Чеченская Республика Ичкерия, улица Ленина, 16. Там и жила, пока матушку не грохнули и квартиру не заставили продать….
Марк покачал головой:
– Скажите пожалуйста, какие ужасы… И когда это было?..
– А вот уже давно, десять лет назад. Да, ровно десять. Мне тогда пятнадцать лет было… Ну да, месячные уже вовсю шли, – подсчитала она.
– Интересно, – язвительно сказал Марк. – Месячные, может, у вас и шли, но десять лет назад в Чечне никакой войны не было. В этом проблема.
– Была война, как не было! Там всю дорогу война… Дикие люди! – уверенно ответила Инга. – Матушку убили на улице солдаты. А квартиру чеченцы-соседи отцокали. Хорошо, что еще денег дали немного, могли бы и просто так… Или замочить. Запросто. Если русская.
– Где же вы потом жили? По какому адресу? – допытывался Марк, хотя уже понял, что серьезностью тут и не пахнет.
Инга в упор ответила на его дотошные взгляды:
– Какой вам адрес? Последний, предпоследний?.. Предпредпоследний?.. Москва, пионерлагерь «Сережкины слезки»…
– Вы что, пионерка? Какой лагерь? Какие слезки? – обомлел Марк.
– А там сейчас беженцы. Помогли, устроили… Обогрели-накормили-постирали-отъебали, – добавила она тише, для меня, и прыснула.
– Давайте по порядку, – решил Марк. – Только вначале запишем адрес этого лагеря. Где, кстати, ваш паспорт?
– А я без паспорта сбежала. В ауле паспорт остался. У любовника в шкатулке спрятан был, чтоб я не убежала, – пояснила она задорно.
– Вот оно что, у любовника… – опешил Марк. – То пионеры, то любовники, аул какой-то… А виза в вашем паспорте была?.. Хотя какая виза, если паспорт у любовника в шкатулке спрятан… Откуда ей быть… – ответил он сам себе. – Родственники живы?
– Одна-одинешенька, без ласки и крова. Сирота. Матушку убили, отца угнали чеченцы…
– Это до войны, заметьте, десять лет назад, – насмешливо ввернул Марк.
– Об отце ничего не известно. Может, и убит. Или сидит. У него вообще-то три судимости. – И она сделала из длинных пальцев решетку перед глазами. – Он у меня резкий…
– Понятно. А на Западе родственники имеются?
– Нету, откуда им быть? Если бы были… Тетя-миллионерша… Или дедушка-богач… Или двоюродная бабка с бабками… Что может быть лучше?.. Фешенебель!.. Только откуда им взяться? – Инга сделала удивленную мину и пошевелила рукой волосы, перекладывая свою золотую копну так и эдак.
Марк следил за ней не отрываясь, как кошка за воробьем, потом надиктовал в микрофон, что у беженки родственников нет, уточнив:
– Братья-сестры?
– Тоже пусто. Одна росла, балованный ребенок, пупуська, – надула она свои блестящие мясистые губы в пахучей помаде и вдруг откровенно-вульгарно поправила груди в лифчике, ладонями резко подкинув их снизу вверх.
Марк вздрогнул:
– Что такое? Раздевается? – и вперился в нее.
– Чего этот мозгачок залупляется?.. Сиськи на место вставила, только и всего, сиськи, – сочно и с присвистом произнесла она последнее опорное слово и еще раз основательно поворошила и поколыхала свой бюст, нагло глядя в упор на Марка. – Новый лифчик жмет – не могу!
Марк спрятал глаза, вздохнул, достал из коробочки таблетку, принял ее:
– Что-то нехорошо я себя чувствую.
– Довела человека до инфаркта, – сказал я ей.
Она подмигнула:
– Не умрет, он крепенький, зайчушка.
– Какой там крепенький – не видишь, на аптеку работает! – я украдкой указал на батарею склянок, порошков и таблеток на столе.
– Такие дольше живут.
Марк, что-то побормотав себе под нос, перешел к учебе-работе:
– Где учились? Когда?
– Ну, где люди учатся – в школе, где еще? Хорошо училась, отличницей была… До восьмого класса…
– А потом что случилось? – предвосхитил я вопрос Марка.
Она огрызнулась веселым взглядом:
– Много будешь знать – импотентом станешь… Я же одна осталась, вот чего! Крутиться пришлось, не до учебы было…
– Чем занимались после школы?
Она потупила глаза:
– Ничем. В ауле у любовника жила. В каком?.. В горном, в каком еще. А любовник… Он меня от смерти спас, к себе в Хал-Килой увез. Там и жила у него… в избе… – добавила она не совсем уверенно.
– В сакле? – уточнил я.
– В каких еще ссаклях?.. Нет, жила нормально, ничего, ништяк, жить можно было. Скучно – это да. А так – ничего, идет.
Марк попросил меня записать название аула, что я и сделал: мы опять склонились над листом бумаги, и я, касаясь ее рук, чувствовал, что ее нога, и так давно прижатая к моей под столом, как будто стала горячей и тяжелей. Пришлось даже обронить:
– Осторожней, увидит, – на что она беспечно отозвалась: – Плевать с большой горы… С той, где стоит верблюд, которого все ебут, – и опять подчеркнуто, нарочито прокатила последнее слово.
– Не все, а только шестеро, – ответил я ей и подал листок Марку: – Вот тут она жила!
Марк посмотрел на листок, как баран на новые ворота:
– Что, деревня? Как вы попали в эту деревню?
– Одна осталась, по улицам таскалась, от голода всякой фигней занималась… Ну и встретился человек… Уже в возрасте был. У нас большая любовь закрутилась. Как звали?.. Муса звали. Фамилию не знаю… Очень просто, я же не с его фамилией, а с ним спала, для чего мне фамилию знать?.. Взял с собой в горы, с ним жила.
– С пятнадцати лет в гареме, что ли? – уточнил, навострившись, Марк.
– С пятнадцати – это да. Почему в гареме?.. Нет, я, он и его мамаша жили. Он сам часто уезжал по делам, деловик был, а мы скотину накормим и сидим, телевизор смотрим…
Марк усмехнулся, а я сказал ей:
– Не знаю, какую скотину ты кормила, но что-то мало верится, что ты прямо с гор спустилась…. И он тоже не дурак, учти.
– Ну и пусть. Я всегда правду говорю. Не верит – его проблемы, – упрямо мотнула она желтой копной и начала гладить свой подбородок, шею, плечи.
– Как раз твои проблемы, а не его.
– Мужики никогда бабам не верят. Я правду говорю.
Марк замахал руками, когда я сказал ему, что она говорит правду:
– Да ну, ради бога. Она так же в ауле жила, как я на Северном полюсе!.. Ну, неважно… Пусть дальше говорит.
Далее выяснилось, что деловик Муса часто уезжал, и ей надоело сидеть одной, но бежать она не могла.
– Почему?
Инга прищурилась:
– В горах все друг друга знают. Как бежать? По горам тыщи километров идти, ноги бить? Ноги у меня хорошие, красивые, – припевая, сказала она, не спеша вытянула из-под стола ногу, распрямила ее на полкабинета и начала с любовной тщательностью оглаживать обеими руками с двух сторон. – Ноги у меня класс, что надо…
– Как же вы выбрались оттуда? – завороженно следя за ее руками, по инерции спросил Марк, но тут же спохватился: – И кончайте этот стриптиз!
– Чего он меня шнурует? – Инга обиженно, с грохотом, забросила ногу под стол и сообщила, что во время частых отлучек Мусы у нее завелся еще один любовник, который в конце концов и вывез ее тайно из аула. Хотел к себе в аул перевезти, но она сумела от него сбежать.
Марк остановил ее:
– Момент! Вы говорите, что не могли бежать, потому что все всё видят в деревне. Тогда каким образом вы смогли завести себе там любовника? Как вы встречались с ним, когда все всё видят?..
– Встречаться?.. – Она насмешливо посмотрела на нас, оправляя лифчик и опять вороша свои налитые груди. – Да если женщина захочет – она место найдет, чтобы дать…
– Как звали этого вывезшего вас любовника? – смутился Марк и приготовился писать.
– Джамбул. – Она зажмурилась. – Ух!.. Джамбульчик!..
– И где же вы встречались, у свекрови на глазах? – продолжал допытываться Марк.
– Почему?.. – усмехнулась она. – Когда как. Бывало, что и в лесу – я скотину гоняла пасти…
– Вы, скотину?.. Вы на свои руки посмотрите!.. Вы что, нас совсем за идиотов считаете? – рассердился Марк.
– А что руки?.. В перчатках гоняла…
– Ага, Баковского химфармзавода… – поддакнул я. – Резина все стерпит.
– Ох, не скажи, милок! Рвется иногда, – отозвалась она. – Нет, ну чего он не верит, чван противный?.. Вот мозгоеб!.. Где да чо… В подвалах, в лесу, в избушке, на чердаке, в машине – мало ли где я ему давала?.. Было бы, как говорится, желание. Конечно, боялась, что Муса узнает. Но пронесло! – Она широко перекрестилась. – Муса вообще меня очень любил. Старики-балкаре приезжали, продай, говорят, эту бабу нам, мы ее в горах на цепь в пещере посадим и помаленьку ебашить будем до смерти: добровольно-де нам уже никто не дает, а русскую блядь до смерти заебать – только Аллаха порадовать… Не продал!.. Три мешка анаши предлагали – не отдал, потому что любил сильно. О, у нас такая любовь была – куда там!.. Но и Джамбульчик меня тоже очень сильно любил. Вот и вывез. В багажнике.
– Вас, в багажнике? – Глаза Марка изумленно забегали по ее статной фигуре. – В какой автомашине?
– В «Жигулях», – невозмутимо подтвердила она, тряхнув головой и опять начиная манипулировать волосами, передвигать копну с одной стороны на другую.
Марк криво усмехнулся:
– Видел я эти «Жигули», в них и курицы в багажнике не провезешь, не то что такую, как вы… Ну, да все равно, это дела не меняет. Где вы от этого Джамуля сбежали?
– А в Грозном. Он до Грозного доехал, там у него дела были. А я в туалет попросилась – и дворами, дворами… Я же выросла там, все знаю, где какая проходная, где какое парадное, все облазила, как кошка… Все просто.
– Действительно, проще простого, – ядовито засмеялся Марк и почесал бритый бобрик. – Блокпостов, ГАИ и патрулей нет, никто нигде не обыскивает, паспортов не проверяет, тишина и спокойствие в Чечне, а?
– Про это мне ничего не известно. Я в багажник влезла в ауле, а в Грозном вылезла – и все.
– Когда это было?
– Да чего эта чувырла приеблась ко мне – что да когда?.. Когда-когда?.. А вот год назад. До Москвы. Как потом в Москве оказалась?.. Очень просто – на поезд попросилась, один молодой проводник спрятал, запер в своем купе. Не за просто так, разумеется. Была вынуждена своим телом расплачиваться, пусть внесет это в протокол… Вообще у нас в России так – если баба не даст, кому надо, то ничего не получит.
– А бывает, что даст – и тоже ничего не получит, – заметил я.
– Точно, бывает. Сексуальные пытки и террор хуя… – весело согласилась она.
Марк прошелся к окну, отворил его, вдохнул воздуха, вернулся к столу, покопался в листках, что-то уточнил, спросил:
– Что делали в Москве?
– Что могла делать? Слонов продавала! – Инга перестала играться с волосами. – По улицам слонялась. Кусок хлеба искала, как псина побитая. Пока один мент не сжалился и не отвез в лагерь «Сережкины слезки» – там у него директор знакомый, устроили без документов. Мент наезжал в лагерь, продукты привозил, мелочи всякие подкидывал… Не за красивые глазки, разумеется… Опять телом и губами торговать пришлось, а оно не казенное, пусть запишет… А потом надоело менту, новую себе завел, а меня отправил сюда… Тебе, говорит, Ингуля, только в Германии помогут. Самые лучшие люди на свете там, даром что фашисты… Езжай, говорит, я все устрою…
– Каким путем прибыли в Германию? – Марк приготовился писать.
Инга отъяла свою ногу от моей, выставила из-за стола колено и принялась ласково его поглаживать (Марк следил за ней, как змея за дудкой заклинателя):
– Этот мент повез меня на вокзал и посадил в товарный вагон. Снаружи даже опечатали для верности. Так и приехала. Днем сидела внутри, а ночами проводник приходил… Молодой, рисковый… Ну, платить за дорогу надо… Опять пришлось потереть пупочек… Пусть сова запишет…
– Ясно… Легко женщинам живется на свете, – осклабился Марк. – Тому дала, этому дала – и готово. А нам за все платить надо.
Инга согласно кивнула, в упор уставилась на него:
– Ну! А я чего говорю-то!.. Заплачу тебе сполна, слово честной женщины, ты только помоги. И тебе дам, если дело сделаешь… – добавила она мне.
Услышав это, Марк поперхнулся водой (как раз принимал очередное лекарство):
– Ну и наглая баба!.. Спросите лучше, в чем вообще ее проблема? Что ей тут надо?.. Мы не приют для гаремных дев. И не профсоюз «Гидра». Слыхали про такой?.. – спросил он у меня. – В Гамбурге проститутки организовали. Теперь они платят налоги, а им за это – пенсия и медпомощь. В реестр профессий внесли, все честь честью…
– Ну, профессия древняя, уважаемая… – ответил я.
А Инга чрезвычайно заинтересовалась профсоюзом и убедительно попросила дать ей телефон, а когда услышала, что телефона Марк не знает (он ему не нужен, он не проститутка, зачем ему телефон союза проституток), то попросила меня хотя бы записать на листочке название по-немецки. И заботливо спрятала листок в сумочку, на что Марк насмешливо заметил, что иностранку вряд ли примут в немецкий профсоюз, хотя бы и проститутский.
– А в этом деле иностранок нет – все сестры, все свои, родные! – открыто ответила Инга и двумя руками подкинула увесистые груди, не нуждающиеся в силиконе.
Марк не нашелся что ответить. Он перебирал листки у себя на столе, приговаривая:
– Ну и экземплярчик! Давно таких не видел! Эту женщину бог явно сотворил в полном безумии… Перейдем к главному вопросу – что ей от нас надо?
На это Инга ответила коротко:
– Помощи.
– Хорошенькое дельце, – прищурился Марк. – Если мы всех проституток принимать будем – что тогда?.. Вся Германия в «Гидру» превратится!
– Во-первых, кто это вам сказал, что я проститутка?.. Я несчастная женщина. А во-вторых, у меня случай особый: на родине война идет, некуда ехать, дом отняли, ничего нет, беженка, прошу о помощи! – И она, сухо всплакнув, полезла в сумочку, вытянула оттуда платочек с монограммой, утерлась.
– Вначале надо разобраться, откуда вы вообще. Пока паспорта не будет – ничего решить не можем, – жестко заключил Марк. – Где гарантии, что вы из Чечни, а не из Ростова или Ленинграда? Где доказательства?
– Дались ему эти доказательства, – в сердцах сказала она, закусив губу.
Марк важно продолжал:
– Конечно, отсутствие доказательств не есть автоматически доказательство отсутствия оных… Все может быть. Но все надо проверить. И тщательно. И перепроверить. Других причин, кроме побега от любовников, у вас нет?
– Да вроде нет. – Она засунула платочек обратно в сумку и тяжело вздохнула. – Пусть хотя бы на годок даст.
– Год и так можно продержаться, – заметил я тихо.
– Как?.. Помоги, родной!
– Подумать надо.
– Чего тогда ты меня сюда привел? – с удивлением плеснула она в меня фарфором наглых глаз навыкате.
– Я тебя привел?.. Ты что-то путаешь. Тебя жизнь сюда привела, не я. Я только переводчик.
– А как можно остаться? – настырно продолжала она.
– Если деньги есть, то по-разному.
– Ну, так это если есть… – разочарованно протянула она. – Если б они были – чего мне тут, среди вас, уродов, делать?.. В том-то и дело, что бабок нет. Подработать хочу, долг отдать…
Тут Марк, перебиравший бумаги, с подозрением спросил меня:
– Что вы шепчетесь?
– Спрашивает, как остаться можно, – не соврал я.
– Ну, для такой, как она, большой проблемы не будет, – процедил он и испытующе спросил: – Где она вообще живет? Тут, в лагере?.. Где ее лист проживания? Пусть покажет!
Инга изящно вытряхнула из сумочки свой беженский обходной, где отмечалось все: выданные ей продукты, карманные деньги, белье, болезни, адрес в лагере. Подала его Марку. Тот внимательно просмотрел его и исподтишка что-то списал:
– Чтобы знать, куда почту посылать… – пояснил он мне косо.
– Конечно, надежнее будет, – отозвался я, делая вид, будто не знаю, что рассылкой почты занят первый этаж.
Инга тоже сделала вид, что ничего не заметила, только ее тонированные щеки чуть порозовели и она скрыто-облегченно вздохнула.
– Последний вопрос – что, по ее мнению, ожидает ее в случае возвращения на родину?
Инга удивленно пощелкала ресницами:
– Это куда еще?
– Куда?.. – холодно воззрился на нее Марк (так смотрит начальник лагеря – с превосходством и безмятежной холодностью). – В Чечню, куда же еще?.. Сейчас там уже тихо, военных действий нет, исламские террористы побеждены… Так что в наручниках самолетом до Ростова, там в спецвагоне до Грозного, а там пусть разбираются, фильтруют, – закончил он хищно.
– Правда?
Я скептически прищурил правый глаз, не видимый Марком.
– Уф, а то я испугалась, – шепнула она в ответ, и ее колено под столом порывисто прижалось к моему.
– Что? – замер Марк, заметив дрожание стола и нервно оглядываясь кругом. – Что она говорит?
– Говорит, что она в правовом государстве и ей полагается адвокат, а не наручники, – безмятежно ответил я ему за нее.
Марк, что-то буркнув под нос, отпил из стакана, еще раз спросил:
– Так чего же она конкретно боится в случае своего возвращения на родину?.. Сутенеры опять поколотят?.. Любовники в горы увезут?.. Клиенты побьют?.. Старики в пещеру утащат?.. Болезнь Венеры навяжется?.. Чего она боится?.. Пусть скажет прямо, в чем дело, что ей надо!.. Для чего эти кошки-мышки?
– Чего он ерепенится? – спросила у меня Инга.
– Хочет знать правду, почему ты тут и что тебе надо.
– А вот пусть в лагерь вечерком заглянет, я ему правду и расскажу… И даже покажу, если хорошо себя вести будет… – ответила она, распрямляя плечи (голубые птицы на блузке заиграли блестящими хвостами). – И переводчик нам не понадобится.
– Конечно, в этом деле толмач – только помеха, – грустно согласился я и передал Марку смысл ее слов: – Она скажет правду, если вы заглянете к ней вечером в лагерь.
Марк сделал круглые глаза:
– Да что она, свихнулась, что ли?.. Я – и в лагерь?.. Этого не хватало!.. Все, раз ей нечего сказать, пусть идет… Даже выдумать ничего не может, такая глупая, – пожирал он ее глазами. – Интервью окончено!
Инга принялась обиженно собираться: с шелестом поправила колготки, основательно поворошила бюст, достала зеркальце и помаду, подвела глаза, обильно накрасила губы, чмоками и языком сажая помаду на место. Потянулась за дубленкой. Я помог ей.
– Спасибо, котик, один ты у меня… Пошли отсюда, злой дядька попался…
– Не забудьте обратный перевод, через полчаса будет готов. До свидания, мадам! – осклабился Марк.
Инга холодно кивнула ему и раздраженно ткнула дверь.
Громко ругаясь под всхлипы полумертвой кофеварки:
– Вот мудоеб фашистский! Сука противная! – она вытащила сигарету.
– Внизу покурим, тут нельзя, дымовые сигналы стоят, паника будет. Надо подождать, пока печатают протокол, а потом подписать.
– Да змей же очкатый!.. Пусть засунет протокол себе в жопу, – она округло и ясно произнесла последнее слово, щелкнула меня по лацкану пиджака красными ногтями и в упор громко спросила: – Ну, говори теперь, как остаться?
– Ты потише. Не коридорный разговор, – ответил я. – Три месяца, например, я могу сегодня же обеспечить. Гарантированно.
– Правда?.. Сделай, а?.. Хоть три… – Притихнув, она с нежной мольбой смотрела на меня.
– Кое-кому кое-что сказать надо… – загадочно ответил я, отлично зная, что три месяца и так всем полагается. – Ты подожди меня в приемной, я сейчас попробую!
Сделав пустой круг по коридорам, наведавшись в туалет и хлебнув отвратного кофе под урчанье умирающей кофеварки, я вернулся. Она стояла у стены, откинув полу дубленки, упершись рукой в бок и изогнувшись в бедре. Картинно курила. Я поспешил обнадежить ее:
– Все в порядке, сказал кому надо. На три месяца сразу дадут. А там видно будет.
– Ну, молоточек!.. Вот заинька!.. Может, еще чем поможешь? – обрадованно-просительно заглядывала она мне в глаза.
– Ты сперва за первый шаг расплатись, – ответил комендант лагеря.
На это она серьезно сказала:
– Я честная женщина, в долгу оставаться не люблю… Это за мной. Да и ты не урод… Жена есть?
– Нет. Не было.
– И правильно. На хер на себя эти кандалы вешать. Это ерунда, что говорят, будто к жене привыкаешь, как к собаке, жить без нее не можешь. Собака, между прочим, с хозяином гулять ходит, а баба – сама по себе… Вообще, это от жен у мужиков в основном крыша едет. Хошь не хошь, а супружеский долг исполняй! – Инга дымящейся сигаретой подтвердила свои слова. – А он не хочет этот долг исполнять, хоть ты тресни! Надоело до смерти!.. Он вообще совсем другое хочет… – Что-то вспомнив, она прыснула. – Анекдот есть на тему, классный. Люську муж перестал харить – надоела ты мне, говорит, хуже горькой редьки. Люська в панике соседке жалуется: так и так, мол, Васька не ебет. А та советует: «Внезапностью надо брать. Когда ты услышишь, что он ключом дверь открывает, беги в переднюю, скидай трусы и встречай его раком! Он и накинется, куда денется!» Ну, сказано – сделано. На другой день Васька своим алкашам во дворе говорит: «Все, завязываю пить! До белой горячки допился!.. Захожу вчера домой, а там в передней – карлик!.. Во-от с такими щеками!.. Во-от с такой бородой!.. И, главное, в Люськиных шлепанцах!..»
Отсмеявшись, я спросил ее серьезно:
– Зачем вообще ты тут?
Инга поморщилась, скинула на пол пепел:
– Долг на мне повис. Скрыться с глаз долой на время надо. А девочки говорили, тут работа непыльная, капусту запросто рубить можно, ушастики все. Так это?
– Кто его знает? Я по проституткам не ходок. Но в случае отказа можно адвоката подключить. И пойдет молоть машина – в полгода по письму…
– А жить где?
– Это уж где хочешь, никого не касается. Но пока суд да дело, тебя выслать трудно. Да и куда?.. Паспорта нет. Эти ужасы про наручники он так, для страху… Но в тюрьму для беспаспортных отправить, в принципе, могут.
– Да ты чего? – испугалась Инга, забыв про пепел.
– Ну, а куда с тобой, если отказ?.. Паспорта нет, никакая страна не принимает. Здесь без статуса тоже никто бегать не даст. Значит, одна дорога – в тюрьму… – объяснил я ей ситуацию. – Я ездил туда переводить, видел своими глазами, как люди годами сидят, пока самим не надоест. Такая вот тюрьма: можно выйти в любую минуту, надо только правду о себе сказать и точные данные дать…
– Выходит, люди сами себя в тюрьме гноят? – удивилась она. – Чего только наш народ над собой не делает!
– Не только наш. Там всякие сидят, со всего мира.
– Ни фига себе, тюрьма… – протянула она, нахмурила лоб, с беспокойством мазнула по мне взглядом. – А на три месяца точно сделал?..
– Увидишь сама. После протокола он даст тебе временный паспорт беженца, где будет написано, что он действителен три месяца со дня интервью, – важно сообщил я ей.
Инга с сомнением покачала головой, затушила сигарету:
– А этот… тушканчик очкастый… – мотнула она головой вверх. – Наведается ко мне, как думаешь?
– Кто его знает?.. Адрес как будто списал. Прийти – вряд ли. Может, даст о себе как-нибудь знать. А скорее всего, испугается.
Инга усмехнулась:
– Ну а ты, лисенок, тоже пугливый? Сам где живешь? Тут близко?
– Не очень. Но, как говорится, было бы желание… И, кстати, долги отдавать – это святое… – напомнил я для верности.
Она прищурилась:
– Сперва посмотрим на эти три месяца. А потом решим. За мной не заржавеет! Я женщина честная.
Мы поднялись на чтение протокола. Марк стоял возле кабинета, морщась от надрывной агонии кофеварки и о чем-то совещаясь с соседом по коридору. Сели за стол. Я принялся читать Инге вопросы и ответы, существенно сжатые Марком. Она рассеянно слушала, ногами под столом не шарила и дубленки не снимала. Только раз крепко почесала голову, с досадой спросив:
– Далеко до Гамбурга?..
– Километров шестьсот будет.
– А где тут вообще дамы собираются?
– Проститутки, имеешь в виду? – безмятежно уточнил я. – Тут, в этом городке, они вряд ли есть. А в больших городах их в центре найти можно, тут это все полулегально. По объявлениям в газетах надо посмотреть – там постоянно свеженьких ищут.
– Ну, когда встретимся, посмотришь газеты? Поможешь, зайчик?..
Помощь пообещал я ей твердо. Тут Марк принес и бросил на стол временный паспорт беженца. Инга открыла его и с любопытством стала рассматривать, а я, переводя и объясняя ей значения граф, украдкой ткнул в даты:
– Ну, теперь видишь?.. На три месяца, как и обещал.
– Ой, да… На три месяца, точно, – посчитала она на холеных пальцах и расцвела. – Спасибо, рыбонька. И дальше поможешь? Мне туда сейчас никак нельзя. Я в долгу не останусь. Должница буду твоя по гроб…
– По кровать будет достаточно… – поправил я ее.
И мы от души рассмеялись, вызвав ворчливое удивление Марка, затравленно смотревшего на нас. Скоро чтение протокола было завершено, Инга ловко расписалась на последней странице и с мольбой посмотрела на Марка, сказав:
– Я жду, – на что Марк замахал руками:
– Идите, идите, дайте мне покой!
Мы спустились вниз. Инга забежала в туалет, а я зашел в комнату переводчиков за пальто. И увидел на стене новое объявление: «Уважаемые господа переводчики! Большая просьба – сохранять должную дистанцию с коллегами-женщинами, с женским персоналом нашего учреждения и с беженцами женского пола. В противном случае провинившийся переводчик будет отстранен от совместной работы. Руководство лагеря».
Я онемело смотрел на текст, лихорадочно думая, что бы это значило: предупреждение мне со стороны Ацуби за комплименты и просьбу о встрече? Сузе за настырство и публичные ухаживания? Реакция ли Марка на наши с Ингой обнимания в коридоре? Или вообще донос Бирбауха о телефоне, который я написал для Инги на клочке бумаги, когда мы курили у входа?.. Все могло быть в стране, где исполнение гражданского долга в основном выражено во взаимной слежке и повальном стукачестве. В неприятном оцепенении я поплелся к выходу. Из туалета появилась Инга, догнала меня, уцепилась за рукав, о чем-то затараторив, но я оторвался от нее:
– У тебя есть мой телефон, звони! Мне сюда! – решив держать язык за зубами, а пасть – в наморднике, чтобы не оказаться отстраненным от совместной работы.
Инга, обиженно пробормотав мне в спину:
– Ну и мудак! – вдруг яростно зацокала обратно по коридору.
В зоотеатре (бред в осеннюю ночь)
…Темно… …Холодно… …Тряско… …Тянет сквозняками… …Что-то жестяное ухает, бьется, железно крякает… …Рев мотора… …Качает…
«Куда-то везут…» – понимаю я сквозь муть в мозгах. Звон перекатывается в голове. В теле – гул, комки под сердцем, холодный озноб. Глаза слипаются. Рукой не пошевелить – все чугунное, налито тяжестью, как после снотворного.
Вдруг меня высоко подбрасывает. Лечу на ледяной пол. Ударяюсь о железные скобы, замираю, пытаясь понять, где я, что со мной… В голове вьются вязкие мысли, какие-то обрывки фраз. И нет сил очнуться, понять…
Глаза привыкают к темноте: проступают какие-то длинные блики, пятна, отблески, зыбкий каркас в мохнатой тьме… А, это стальные полосы, которые кузов держат…
Я с трудом сажусь по-турецки на лежбище, покрытом вонючими одеялами. Оглядываюсь. Ящики, картонки доверху… Укреплены ремнями… А что это там шуршит?.. А, клетка висит… А в ней что-то живое… Мышь, крыса?.. Хомячок. Тупо смотрит на меня и быстро-быстро жует магнитофонную ленту из треснутой кассеты, застрявшей в прутьях клетки.
«Это моя кассета…» – понимаю я, но тут опять подкидывает на колдобине. Что-то звенит, падает, разливается. По гулкому настилу с грохотом катится жестяной бидончик, за ним поспевает крышка. На полу – темное вонючее пятно. Запах мочи. Рукав до локтя мокр. Поймав за ушко прыткую крышку, нахлобучиваю ее на бидончик, втискиваю его между лежбищем и ящиками.
Ощупываю себя – замочен только правый рукав. Снимаю рубашку, ищу воду… В изголовье что-то вроде канистры… Нюхаю: как будто вода… Рядом – плетеная корзинка, где трутся друг о друга полхлеба и палка колбасы, постукивают белые пятна яиц… Застирываю из канистры рукав. Шум в голове переходит в треск, как будто где-то замкнуло провода, искрит, готово взорваться. Кипящий треск заливает голову. Вспоминаю о снотворных таблетках – где они?..
Но поздно – таблетки белой россыпью лежат в черном круге разлитой мочи… Не беда, собрать можно… Узнать бы, куда еду. Или куда везут. И, главное, кто везет?.. Собирая влажные таблетки, приглядываюсь к ящикам. Сверху донизу – иероглифы. Кроме «Made in Mongolia», ничего понять не могу. В картонах что-то позвякивает, постукивает, поскрипывает. Может, швейные машины в тавоте, а может – автоматы в опиуме. Или опиум в автоматах…
Натягиваю рубашку с мокрым рукавом, безрукавку, запиваю две таблетки водой из канистры, ложусь и накрываюсь какой-то жесткой кожей. Голова – на чем-то твердом… А, папка с моими бумагами… Сую ее поглубже под влажную от грязи подушку. И слушаю…
Позвякивает в ящиках… Бидончик трется о картон. Шуршит колбаса в корзине. Ревет мотор. И приливы бурого гула заливают уши, отдаваясь эхом под сводами черепа, переполняя его… И я, засыпая, понимаю, что первая капля, которая из него выльется, будет последней каплей жизни…
…Вдруг резкий удар в бок. Я опять на полу…
Машина стоит: тормоза еще отдуваются, но кузов уже замер. Что-то лязгает за ящиками. Я жду с тупым страхом. Сопение. Шорох раздвигаемого картона… В проеме – безволосая голова с китайскими глазами и козлиной бородкой. Она что-то лепечет. Потом появляются руки, они призывно машут: «выходить!». Я вытаскиваю из-под подушки папку, бумаги из нее рассовываю по карманам, а папку оставляю около корзины с едой.
Хомячок перестал жевать, попискивает в клетке, цепляясь лапками за прутья. «Куда его?.. Сам не знаю, куда… Китаец съест…» Беру кожаный полушубок и продираюсь сквозь раздвинутый холодный картон. С трудом вываливаюсь из грузовика.
Вокруг – серая слизистая темень, то ли утро, то ли вечер. Пустынное шоссе. Молчаливые угрюмые леса. А дальше – громоздкая гора, похожая на немую старуху в панаме. Съезд с шоссе ведет к зданию за забором. Здание напоминает огромный двухэтажный театр-шапито. Какое-то странное, крепостеподобное, замкообразное строение. Водитель-монголоид, карлик с редкой бородой тычет мне в грудь, потом – на здание:
– Лагерь! Азюль! Ялла!.. Лагерь! Азюль! Айда! Гяльбура!
Вдруг, что-то заметив в лесу, он лепечет:
– Воа!
Лоб его покрывается испариной, он спешно заскакивает в кабину и рвет с места.
Я всматриваюсь в лес, ничего не вижу, но понимаю, что надо идти. Схожу с шоссе и плетусь по дороге. Идти трудно – в асфальте кочки и выбоины. Даже пни попадаются. «Как по такой дороге машины ездят?.. – удивляюсь я, одновременно мучительно думая, куда иду и что мне там надо. – Лагерь?.. Азюль?.. А, лагерь!.. Убежище просить!» – начинаю я припоминать.
У ворот нахожу кнопку звонка и жму на нее, отчего вдруг во всех окнах вспыхивает свет и визжит сирена. Из ворот выскакивает привратник с длинным багром в руках. Да это же наш Бирбаух!.. Он бежит ко мне, крича:
– Бегите во двор! Не оборачивайтесь! Там воа! Опасно! – а сам спешит куда-то к калитке.
Я бегу во двор, слыша за спиной шум и рычание, но не оборачиваюсь. За мной, вместе с лязгом, вбегает Бирбаух, захлопывает ворота и сует мне какой-то предмет:
– Сувенир! На память! Willkommen in der Hölle![73]
Я принимаю бугристый и витой обломок рога, от которого несет грязной шерстью и свежей землей:
– Зачем мне?
– Спрячьте, пригодится. Если змея укусит или яд какой-нибудь, то потолочь, выпить – и все пройдет, – советует мне Бирбаух, багром указывает куда-то за ограду: – Звери оттуда приходят, с горы…
– Что за звери? Что за гора?
– Гора Броккен… Вон, за лесом… Там и олени, и кабаны, и воа, и коалы, и верблюды – что угодно есть.
«Броккен?.. Это же гора мировой нечисти!..» – вспоминается мне.
– Мы что, в Нижней Саксонии, что ли? В Гарце?
– В нижней, самой нижней, ниже некуда… Даже подземной, – шутит он, багром сбивая темные плоды с дерева: – Ешьте! Ядовитые, но полезные!.. И пошли быстрее!
«Ядовитые сам ешь!» – мысленно отвечаю я и засовываю обломок рога в карман кожанки.
Привратник идет впереди и фонариком тщательно освещает путь, хотя света достаточно. На втором этаже, в оконных проемах, торчат какие-то одинокие, неподвижно-печальные силуэты в капюшонах, как на венецианском карнавале, что-то внимательно рассматривают во дворе. Из окон первого этажа слышны голоса, вскрики, плач, взрывы смеха.
– Веселое местечко! – говорю я.
– Поскорее, опасно! Воа всюду бродят! – подгоняет он меня. – Вам туда! И не забывайте – деньги делают несчастным и одиноким! Деньги – всегда проблема!
Я забегаю в дверь.
Очень большой зал, тысячи две квадратов, где бродит разношерстная толпа. Стены заляпаны черными отпечатками рук, как будто обиты кожей далматинских догов. Кое-где на стенах видны следы копыт и звериных лап. Откуда-то громкий щебет птиц. Ручьи разноязыкой речи… Всплески каких-то перекличек возле массивных дверей… Клубятся людские водовороты… Кого-то куда-то несут, переводят, перетаскивают… Стайки китайцев шныряют тут и там… Негры. Много носатых и узкоглазых лиц.
Я жмусь к стене, присматриваюсь: все люди с каким-нибудь изъяном: у этого руки висят до колен, у того – горб, кто скачет на костылях, кто сидит на полу, раздутый водянкой… Одетые в бурнусы инвалиды размахивают культями рук, у одного вместо ушей – черные провалы. Двое арабов на корточках едят, загребая трехпалыми руками, рис из коробочки. Рядом с ними – семья слепых: женщина в бельмах, ребенок с пустыми белками, мужчина с неподвижными зрачками. Старуха без глазниц что-то говорит им. Старик чутко тянет вверх незрячую голову в красной феске…
Птичий грай усиливается. Я смотрю вверх. Что это?.. Мелкая сеть растянута под потолком!.. Между сетью и потолком мечутся птицы. Их так много, что помет сыпется беспрерывным серым снежком на людей, а пол покрыт такой плотной массой, что прогибается под ногами, как резиновый. Птицы поминутно ссорятся и дерутся. Летят перья. Птичий щебет и гомон то громче, то тише. Летучие мыши мечутся черными точками над сеткой, гроздьями висят в углах лепного потолка, верещат и попискивают.
Трехпалый араб протягивает мне полупустую коробочку:
– Хочешь? У меня еще есть. – И выворачивает карманы халата, откуда сыпется рис.
Я жестом отказываюсь, иду сквозь толпу. Вдруг вижу, что рядом пробирается черноволосая женщина с младенцем на руках, еще два чернявых ребенка цепляются за ее цветастую юбку. Я же ее знаю!.. Это беженка Мирзада с ее беспокойными детьми, Бальбаганчи и Альбаганчи!.. Окликаю ее. Она, вздрагивая, но не оборачиваясь, исчезает за спинами мужчин, несущих на подстилке человека с багровым, словно ошпаренным, лицом.
Ближе к массивным дверям людей больше. Густо воняет потом, спертым кислым дыханием, нестираной одеждой. Я сталкиваюсь с каким-то здоровым бугаем. А, это папа Савчук!
– Вы? – радуюсь я знакомому лицу. – Что делаете тут?
Он доброжелательно жмет мне руку, шепчет:
– Визы продлевать хотели, да вот что-то творится… неладное… Говорят, визы не нужны будут, а Европа теперь – от Лиссабона до Владивостока… А я вот жену потерял, сына ищу…
Тут за дверным стеклом я различаю женское лицо. И оно мне явно знакомо… Кто же это?.. Знакомое лицо в любом случае отрадно видеть… А, да это же наша фрау Грюн!.. Но почему-то в траурном платье и в черном платке до глаз. Что-то читает. Я стучу в дверь, машу ей. Она вздрагивает, всматривается, потом жмет на невидимую кнопку. Дверь открыта. Я протискиваюсь внутрь.
– Здравствуйте, милая фрау Грюн! – говорю я. – Вы?.. Тут теперь работаете?..
– Да, сюда перевели. – Она оглядывает меня, принюхивается.
– А почему столько народу? – спрашиваю я, мысленно проклиная бидончик с мочой.
Фрау Грюн подозрительно смотрит на меня:
– А вы не знаете?.. Толмачи опять бастуют, на работу не выходят. Ну, а мы без них работать не можем – кто с этим сбродом объясняться будет? – Она брезгливо машет на дверь, за которой беснуется толпа. – Видите, сколько босоты со всего мира принесло?.. А мы – принимай!.. Бедная Германия!.. Armes Deutschland!
Мне не нравятся ее разговоры, я обрываю ее:
– Чем это Германия бедная? Что две мировые войны затеяла и от Сталина по шапке получила?.. Мне толмач не нужен. Я сам толмач. Мне бы с кем-нибудь поговорить… Где тут взять анкету?..
– Анкету? – Она смотрит на меня, постепенно догадываясь. – Ах, вот оно что… Так вы не работать пришли, а сдаваться?.. Да-да, о вас уже говорили… Ну, идите, вас ждут. Вам на 8:30 назначено. Вы, как всегда, вовремя… Кстати, и дело свое захватите, по старой памяти, – она протягивает мне серую папку. – Музгостиная там, дальше. Вот, пожалуйста… – Она отрывает номерок с цифрой «1001» и подает его мне. – Идите! Только будьте осторожны и с женским персоналом в ухаживания не впадайте! Запрещено!
«Да-да, понял…» Беру номерок и иду по коридору, очень странному, будто из пузырящегося пенопласта. Он хрустит под ногами, как снег. Мои ботинки оставляют следы, постепенно исчезающие. Я на ходу пытаюсь заглянуть в «дело», но не могу понять, на каком языке оно написано – буквы мне неизвестны и больше похожи на рисунки.
Возле следующей двери сидит строгий и хмурый вахтер в костюме. Вместо галстука у него на шее завязана узлом живая змейка. Он щелкает на допотопных счетах, сделанных из окаменелых рыбьих глаз. Увидев мой номерок, говорит:
– Подождать надо. Вы же читать умеете?.. Что тут написано?.. 1001. Ну и все. Ждать!
– Но других же нет! Чего ждать? – отвечаю я. – Где эта тысяча людей?
– Мне плевать! – грозно горячится он (змейка тоже шипит, томно извиваясь и зыркая глазками). – Когда тысячный человек пройдет, тогда и вы за ним. Порядок должен быть! Ordnung muss sein![74]
– Конечно, орднунг должен быть, но сейчас это неорднунг – мне не нужен переводчик, а раз не нужен – значит, сейчас моя очередь, потому что та очередь ждет переводчиков, а я в той очереди, которая переводчиков не ждет, я сам переводчик, – плету я и оборачиваюсь в замешательстве к фрау Грюн: та издалека делает тайные знаки вахтеру, и он нехотя, большим амбарным ключом, отпирает следующую дверь:
– Вперед!
Откуда-то льется красный свет. Фотолаборатория?..
Так и есть: в полутьме две фигуры в противогазах и клеенчатых фартуках возятся возле чана. «Проявитель-закрепитель», – понимаю я, но, подойдя ближе, вижу, что в чане плавают кисти рук…
– Так куда надежнее! – гудит из-под противогаза одна фигура, замечая мой удивленный страх. – Одна рука у нас, другая – у беженца. Всегда сличить можно.
– Конечно. А как же. Надежно! – со смехом соглашается другая фигура, вороша палкой в чане скукоженные пятерни, похожие на кривобоких лягушек.
Я в ужасе пячусь назад, в коридор, где вахтер кричит мне со своего места, чтобы я не лез, куда не следует, а шел бы прямо, а потом наверх, в комнату 101.
Покорно поднимаюсь по щербатым мраморным ступеням. Вот этажная площадка. В гулком коридоре пусто. Прохладно, даже холодно. И тихо. Где-то то ли плачет женщина, то ли тявкает собачонка.
Иду вдоль стены, шарю глазами по табличкам. Вот кабинет № 101. Надпись: «Фрау Ильзе Мизера». Ничего хорошего не предвещающая фамилия… Но деваться некуда. Ощупываю бумаги в карманах, обломок рога запихиваю поглубже, стучусь.
Ни звука. Молчание. На третий настырный стук на пороге появляется хрупкая миниатюрная женщина с рыжими волосами, в золотых очках. Одета в строгий костюм: белый верх, черный низ. Против света лица не разобрать, но что-то очень миловидное.
– Ко мне? – Она смотрит то на номерок, то на меня. – Входите, только тихо, тут спят. Давайте сюда ваши бумаги!
Она выхватывает у меня из рук «дело» и идет в кабинет, я – следом.
– Садитесь сюда, – указывает она на стул возле громадного стола, а сама, неожиданно по-спортивному перелетев через стол, приземляется напротив в старинном инквизиторском кресле.
Полутьма. Кабинет неожиданно велик и высок, с готическими мутными окнами и стенной кафельной печью. Два шкафа резного дерева. Второй овальный столик с книгами, бумагами и огромным потемневшим глобусом. Из-за ширмы виден допотопный рукомойник. Справа – несколько раскладушек. На них лежат, укрытые с головами, скрюченные небольшие тела под сиротскими серыми одеялами.
Фрау Мизера просматривает «дело». Ее современный костюм как-то не вяжется с этим угрюмым помещением из пыточных сказок братьев Гримм. Волосы – блестящие, до плеч, ярко-рыжие. Таких называют «красноволосыми». Губы – пухлым кружочком. Оторвавшись от папки и пару раз втянув воздух изящным носиком, она неодобрительно качает головкой:
– Стыдно приходить на интервью в таком виде!.. Вы что, в мусорной куче валялись?..
Я начинаю смущенно что-то плести про побег, грузовик и бидончик, но фрау Мизера кивает на ширму:
– Идите, примите душ, приведите себя в порядок! Так невозможно работать! Идите!
Удивляясь этому сервису, я вытаскиваю из карманов кожанки на стол бумаги, обломок рога, неуверенно следую за ширму. Там стоит кушетка. А то, что я издали принимал за рукомойник, оказалось дверью в ванную с вполне обычным душем, туалетом и даже теплым полотенцем.
Бросив одежду возле раковины, влезаю под душ, сделанный из огородной лейки, и задвигаю занавеску из грубой клеенки. Сильная струя бьет из душа. Паром заволакивает все кругом. Я с наслаждением смываю грязь и пот.
Вдруг слышу из-за клеенки какой-то звук. Украдкой выглядываю. И сквозь волны пара мне чудится, что фрау Мизера стоит на коленях возле раковины и, по-собачьи пригнувшись, с жадностью нюхает ворох моей грязной одежды. Я уже внаглую выглядываю из-за клеенки… Нет, это не белая блузка фрау Мизеры – это белая индюшка задумчиво стоит возле одежды и косо-неподвижно поглядывает на меня неодобрительным холодным зраком!..
«Альбиносов еще не хватало!» – машу я на нее рукой:
– Кыш! Брысь!
Нелепая птица переминается на уродливых лапах, поворачивая голову набок, издает какое-то бульканье, потом неторопливо уходит, переваливаясь, тряся бородкой и возмущенно взбалтывая: «бла-бла-бла… бла-бла-бла…».
Прогнав противную птицу, я быстро заканчиваю купание. Неприятно влезать в грязную одежду, но что делать?.. Как будто отвечая на мои мысли, фрау Мизера кричит из кабинета:
– Там, на полке, чистое белье!.. Можете надеть!..
«Ничего себе сервис – беженцев купать и переодевать…» – думаю я, вылезая из-за занавески. Нахожу серую арестантскую шерстяную фуфайку. Натягиваю на голое тело странные, обтягивающие холодные лосины с ремнем и глупым гульфиком вместо ширинки. Сверху напяливаю свою кожанку.
В кабинете фрау Мизера, уложив на стол миниатюрные ножки в каблучках, ест яблоко. Обломок рога лежит перед ней.
– С легким паром! Садитесь! – она огрызком приказывает сесть на стул, где я уже прежде сидел.
Делать нечего. Я с опаской сажусь, осматриваясь в поисках белой индюшки. Но все тихо, никакого движения, только тикают напольные массивные часы с маятником в виде рыцарского меча да сквозь пол, с первого этажа, слышны стуки и крики. Фрау Мизера выбрасывает огрызок в корзинку. Облизывая пальцы, она нехотя снимает ноги со стола и опять берется за бумаги.
– Итак, мне все ясно, – говорит она. – Что можете еще добавить?
– Помилуйте, фрау Мизера, что вам ясно?.. Я же еще ничего не сказал?.. Не говорил?.. – удивляюсь я.
– А вам и не надо говорить, тут все написано, – она стучит ноготком по папке. – Вы – наш бывший толмач, который просит убежище. Так?.. Вот видите, нам все известно. Нужен, кстати, для нашей беседы переводчик?.. Вы меня хорошо понимаете?.. Мы ведь хорошо понимаем друг друга?.. А? – Она вдруг шало подмигивает мне.
– Как вас можно не понимать – вы говорите на таком красивом немецком языке, что сам Гёте мог бы позавидовать. Всем известно, что у жителей Нидерзаксен[75] – самая образцовая и красивая немецкая речь, – льстиво шепчу я, ласково заглядывая ей в глаза.
Она усмехается:
– Насчет Гёте не знаю, но мы действительно тут, в Гарце, говорим на самом чистом и высоком немецком языке. Это так. – Она раздвигает пальцами прядки, шевелит губками надувной куклы. – Ладно, к делу… Все ваши данные нам известны, так что лирическую часть можно опустить. Только по существу.
– А вы будете записывать на диктофон? Или как?.. – оглядываюсь я.
– Нет, у меня свой метод, – она указывает на аппарат под чехлом, резко стягивает холстину, берется за рычажок и отстукивает азбукой Морзе несколько тактов. – Видите, очень удобно. Прошу сообщить ваш последний адрес, по которому вы жили! – приказывает она.
Я начинаю припоминать.
– Москва, Ленинский проспект, 9, корпус 6, кв. 3, – наконец сообщаю я, научившись у беженцев оперировать тройками, шестерками и девятками, чтоб легче врать.
Она роется в справочнике, смеется:
– Да? Правда? Значит, вы прямо в Федеральной службе по финансовым рынкам жили? Как хорошо! Впрочем, неважно. Вы были там прописаны официально, через полицию?
– Нет, там квартира моего друга. Сам он живет на даче, а я у него в квартире прятался.
– Ясно! Это нам хорошо известно, что все русские живут не там, где прописаны, а прописаны не там, где живут. Менталитет такой анархический, ничего не попишешь! – встряхивает она головкой и отстукивает рычажком. – Сколько времени вы там находились?
– Около трех месяцев.
Фрау Мизера берет папиросу из портсигара и пододвигает его ко мне:
– Кури те!
– Спасибо, не курю, – деликатно отвечаю я.
– И правильно делаете. А я вот курю. И пью. И с мужчинами встречаюсь. И с женщинами. Почему нет? – Она весело смотрит на меня.
– Конечно, почему нет? – соглашаюсь я. – Вот выпить бы я выпил.
– Да?.. Ну, тогда за вашей спиной, в шкафу. Обслужите даму.
Я открываю шкаф. На полке полно склянок старинного вида. В задних банках мне мерещатся заспиртованные органы.
– С длинным горлышком, справа, – помогает фрау Мизера.
Снимаю с полки архаичную бутылку, осторожно отвинчиваю странную четырехугольную пробку с цифрой «1678», нюхаю. Запах деревенской водки, хоть и отдает тиной.
– Стаканчики там же! – говорит сзади голос фрау Мизеры.
Хороши стаканчики!.. Средневековые тяжелые рюмки из толстого кристаллического стекла. Пьем.
– Хотите?
И она кидает мне яблоко, которое чуть не пробивает мне живот – это, оказывается, каменный шар, раскрашенный под яблоко!.. Я удивляюсь, как легко она его швырнула, опускаю шар на пол. А она смеется:
– Шутка! – и милостиво протягивает через стол свое надкушенное яблоко со следами помады: – Грызите!
Откусив, я возвращаю яблоко на стол и удобнее устраиваюсь на твердом и холодном стуле. Водка уже греет, радует, расслабляет… Видно, и в семнадцатом веке люди то же чувствовали, что и мы сейчас… Вот тебе и машина времени!
– Значит, жили в Москве? – переспрашивает фрау Мизера. – Чем там занимались?
– Да ничем. Жил нелегально. Прятаться надо было.
– А на какие средства жили?
– Когда как. Я вообще-то могу и без денег жить. Я – солнцеед. Не слышали? Могу питаться росой и солнечным светом… Да-да, не смейтесь. Вот я читал, что в Тибете живет йог, который уже 70 лет не ест, не пьет и, соответственно, не видит нужды справлять нужду. Себя называет кожаным мешком с костями. Ну, мне до такой нирваны дойти не хватит праны…
– Глупости!.. – смеется она. – Еще какими профессиями, кроме переводческой, владеете?
Я горько усмехаюсь:
– Дорогая фрау Мизера, разве это профессия?.. Сплошной мурыжный мрак и мерзкий мираж…
– Да, переводчик – профессия проститутская, – соглашается она. – Вы должны постоянно всех удовлетворять, чтобы и волки были сыты, и овцы целы…
– А если и волки целы, и овцы сыты? – смеюсь я. – Так нельзя?
– Можно. При такой ситуации в лесу будет спокойно… Это мне нравится… И сколько вы жили в Москве по этому адресу?
– Три месяца, – отвечаю я, не уклоняясь от троичной системы.
Как будто читая в моих мыслях, фрау Мизера смеется:
– Тройка, шестерка, туз! А?.. Тшайкофски! О боже, как трудны эти восточные фамилии!.. Впрочем, и моя не лучше – знаете, мои предки выехали когда-то из Польши. Да-да, дезертировали во время какой-то войны… А когда вы покинули Германию? – она поворачивается к аппарату.
– Шесть месяцев назад.
– Почему я должна вам верить? Где ваш паспорт? – она щурится и надувает губки.
– В московском ОМОНе. На левой верхней полке. В правом железном ящике. Под амбарным замком.
– Ничего, у нас есть копия вашего паспорта, если дело дойдет до депортации, у нас проблем не будет! – зловеще предупреждает она. – Разлейте еще!
Я плескаю ей в протянутый стакан, себе. Водка пахнет тиной, но живительна. Фрау Мизера берет из миски очередное яблоко и перекидывает его мне:
– Но ядовитое, предупреждаю. А куртку вашу дурацкую можете снять, бросить туда, – она подбородком указывает на овальный стол с глобусом.
Я небрежно, издали, кидаю кожанку на соседний стол. Кожанка задевает глобус. Он с шумом валится на пол.
От грохота, как по команде, вдруг разом откидываются одеяла на раскладушках, с них спрыгивают крупные, черные, блестящие, словно облитые маслом, гладкие и упитанные индюшки и начинают бродить по кабинету, расправляя крылья, визгливо и взбалмошно болмоча и сердито ударяя клювами о пол, о стены, о мебель. Одна, уже знакомая мне, индюшка-альбиносица с розовыми глазами и золотым кольцом на лапе, сразу кидается к упавшему глобусу и начинает его злобно долбить. Птицы переговариваются короткими клекотами, и я уверен, что ясно понимаю их:
– Жрать-пить!.. Чего-чего?.. Ничего-ничего!.. Пить-жрать!.. Чего-чего?.. Ничего-ничего!..
– Они жалуются, что голодны, – вдруг переводит мне фрау Мизера.
– Вы что, индюшачий язык понимаете? – изумляюсь я.
– Научилась. В таком месте жить… – она неопределенно машет рукой на окно. – А зачем вам вообще сюда, в Германию?.. Что вы тут потеряли?.. Одна тоска, гнусь и плохая погода. Была бы возможность – я бы куда-нибудь уехала. Вот хотя бы в Австралию, на солнышко! – доверительно улыбается она и вдруг так сладко тянется всем телом, что мини-юбка задирается до живота, а грудь выскакивает из разреза блузы.
Она заправляет ее обратно, облизывая губы быстрым язычком и поглаживая обломок рога. Индюшки с брезгливой болтовней бродят по комнате, иногда стукая клювами по шкафам, двери, полу, ширме. А белая альбиносица, бросив глобус, запрыгнула на стол и с победным стуком снесла большое яйцо, которое тотчас скакнуло на пол и разбилось в грязноватую, белесо-желтую массу с проблесками скорлупы.
– Жаль, можно было бы яичницу сделать, – замечает фрау Мизера и косится на часы. – Еще по одной – и за работу! Не обращайте на них внимания, они вас не тронут.
Опасливо отодвигаясь от дерзких индюшек, я наливаю. Бутылка полупуста. Один наглый индюк со старческой длинной шеей подходит к столу и умудряется клюнуть бутылку, но, к счастью, не разбивает.
Фрау Мизера шикает на птиц. Заслышав ее голос, они втягивают головы в шеи, шеи – в плечи, плечи – в тела, трясут красными бородками и спешат разойтись по углам, где продолжают визгливо перебалтываться. Слышно, как их когти царапают столетний паркет.
– Зачем вам столько птицы? – осторожно спрашиваю я.
– Они – беженцы, как и вы, от хищников прячутся. Из Северной Америки через океан перелетели… Им там в День Благодарения массовый геноцид устраивают, вот они и сбежали, – безмятежно объясняет она. – С людьми их селить нельзя – люди их режут и едят. Приходится тут держать. Так приказано с горы… – И она неопределенно машет рукой на окно, где в курчаво-крутом свинце облаков видна величавая гора; потом поворачивается к аппарату и, не глядя на меня, спрашивает: – Как вы прибыли в Германию, без паспорта и визы? Опишите свой путь!
Я издали вижу на ее столе, среди моих бумаг, лист с грифом турфирмы, указываю на него:
– Вот, у вас там… Я обратился в Москве в эту фирму. А там мне посоветовали обратиться к дяде Леше, водителю грузовика – мол, он за деньги возит беженцев через границу. Дядя Леша согласился. За 600 долларов он засунул меня в кузов какого-то проезжающего через Москву монгольского грузовика… И вот я тут.
– Монгольского? – переспрашивает она настороженно. – Вы не ошиблись?
– А может, и китайского – кто их разберет? – пожимаю я плечами, удивляясь ее настороженности. – Не все ли равно?
– Так все-таки монгольского или китайского? – продолжает она встревоженно спрашивать, отталкивая ногой белую индюшку, с тупым упорством долбящую ножку кресла.
– Темно было, не разглядел, но шофер был точно монголоид. А вы разве можете отличить монгола от китайца?.. Вот видите… И какая вам разница? Монголоид – он и есть монголоид!
– Из Монголии сейчас древесного клеща завезли, он уже половину Нижней Саксонии сточил.
– В кузове не было ничего деревянного – одни картонки, с телевизорами, что ли…
– Какие в Монголии телевизоры?… Там на всю пустыню – один телевизор, да и то у шамана-президента, – усмехается она, шикая на индюшек, затеявших под столом шумный переполох. – Через какие страны ехали?
Я развожу руками:
– Неизвестно. Водитель запер меня на четверо суток – и все. Пил снотворное и спал как сурок. Когда открыл дверь – машина уже тут стояла, перед лагерем.
Фрау Мизера кивает рыжей головой и отстукивает несколько тактов на аппарате, сообщая между делом:
– А вчера одного беженца орел принес. Прямо сюда на окно положил – и улетел… У этого орла тут гнездо недалеко, на горе… Ну, хватит, заткнитесь! – кричит она на индюшек, которые переместились за ширму и устроили там свару, с паническим бульканьем переругиваясь на высоких нотах и задыхаясь от яростного клекота. – Пошли на место, твари! Место! Platz![76]
Индюшки замолкают и унылым гуськом тянутся к раскладушкам, недобро поглядывая круглыми плоскими глазами и стуча сухими лапами по порыжелому от времени паркету. Белая индюшка, шедшая последней, вдруг больно клюет меня в ногу.
– Вот гадина! – гоню я от себя наглую альбиносицу, а фрау Мизера, заправив новый рулончик бумаги в аппарат Морзе, спрашивает:
– Откуда у вас были деньги для этого «дьядья Льеша»?.. 600 долларов для неработающего нелегала – большая сумма.
– У одной женщины одолжил. Она меня любит, очень любит… Да, но вы же хорошо знаете, что в конце каждой настоящей любви сторожит большая боль, если только, конечно, эта любовь не была уже прежде подточена чем-то, – для верности добавляю я.
Фрау Мизера неподвижно смотрит на меня, с вожделением водя кончиком язычка по обломку рога:
– И вы… И вы с этой женщиной спали?.. Она была ваша любовница?..
– Да, а что, нельзя? – отвечаю я, думая по себя: «Все рыжие – психопатки…»
– Нет, нет, как раз можно. И нужно… Она была красива?
– Очень. Как майская роза.
– Вот-вот… Я люблю красивых женщин… А в Москве, говорят, много привлекательных и красивых дамочек?.. Почему вы вообще покинули такой хороший город, как Москва?
Я делаю скорбное лицо, пытаясь сосредоточиться под шорох индюшек:
– Женщин красивых в Москве очень много, это правда. Но вот почему я покинул этот город – совсем другой вопрос. Все это очень грустно. Мне не продлили тут, в Германии, визу. Я был вынужден уехать в Россию. Было это полгода назад. Жил вначале в Москве – там у меня однокомнатная квартира, которую оставила мне бабушка по материнской линии… И вот, 6 сентября, в 9:30 утра ко мне на квартиру явились три сотрудника милиции и увезли в отделение. Они забрали мой паспорт, подняли шум из-за прописки, а потом напрямик сказали, что у них есть сведения, что я – шпион НАТО и немецкого абвера, собираю в Москве информацию о «Газпроме» и биологическом оружии. Бред, бредни, бредовая бредятина!.. Какую информацию я могу собирать, когда я «Газпром» от «Сибнефти» никогда отличить не мог, а биологическое оружие всегда путал с химическим! – возмущенно заканчиваю я.
Фрау Мизера морщит носик:
– Это не трудно. От биологического вы сдохнете из-за сбоя всего организма, а после химического – от язв и удушья… Кстати, как считаете, не лучше ли всех красивых женщин из России вывезти, а все остальное сжечь к черту, все равно пользы никакой, одни неприятности. Вы не находите?
– Как-то не думал об этом.
– И не надо. Это шутка. Что еще вам предъявили в милиции? – спрашивает она дальше, швыряя карандашом во взъерошенных индюшек, которые теперь сообща клюют белую альбиносицу.
– В тот день меня отпустили, сказали, чтобы прописался в две недели, не то вышлют за 101-й километр…
– Да-да, а потом – в кабинет номер 101, дело номер 11, абзац 1… Знаем! – смеется она и сквозь смех уточняет: – Вы же говорите, что квартиру вам оставила бабушка?.. Чего же им тогда от вас было надо?
– Дело в том, что я не успел оформить наследство. Я же был тут, в Германии, где верой и правдой служил на пользу общего дела…
Вдруг фрау Мизера резко сбрасывает с колен миску с яблоками (они катятся по полу), встревоженно распахивает окно и выглядывает наружу.
Не успел я спросить, в чем дело, как в окно влетел орел, приземлился прямо на белую альбиносицу и начал ее нещадно истязать.
Летят брызги крови, розовые перья. Индюшка страдальчески всхлипывает, а фрау Мизера, запрыгнув обратно в кресло, сует руку за пояс, шарит у себя между ног; видно, как ее рука ходит вверх-вниз по лобку…
Индюшка вопит, орел скользит когтями по перьям, выдирая их с мясом. Другие птицы в панике попрятались под раскладушки. А фрау Мизера, схватив другой рукой обломок рога, сует его туда же, за юбку, шарит там, со стоном доканчивая дело и блаженно замирая с закрытыми глазами.
Орел, еще пару раз долбанув индюшку по башке, бросает ее, полумертвую, взлетает на ширму, начинает чиститься. Истерзанная альбиносица заползает под раскладушку, а фрау Мизера слабым голосом просит подать ей воды.
– Вам плохо, фрау Мизера? – ищу я стакан, не очень удивляясь ее действиям (от рыжух чего хочешь ожидать можно).
– Нет, мне совсем не плохо, мне очень даже хорошо… Называйте меня Лизетта! – говорит она, не открывая глаз и облизывая обломок рога.
– Лизетта – очень красивое имя! – Я воодушевленно подаю ей стакан с водой.
Она берет его ощупью, что-то мычит, с трудом открывает шалые глаза и непонимающе смотрит на меня:
– Ах, это вы… Ну, продолжайте, я слушаю!
Косясь в беспокойстве на ширму, где сидит орел и недоверчиво-мрачно, испытующе смотрит на меня, я бормочу:
– Вон там, в бумагах, повестки… После милиции начали меня вызывать в ОМОН. Знаете русский ОМОН?
– Кто же его не знает – крепкие ребята в масках, с такими приятными толстыми палками… – мечтательно говорит она.
– Вот-вот. Один из них, некий Дубягин, просил в Германии политическое убежище (номер дела не помню, можно уточнить). Я переводил беседу. А его вместо убежища в немецкую тюрьму посадили, а там ваши фашисты его изнасиловали хором… Вот он со злости на меня в Москву своим дружкам настучал – мол, предатель родины и изменник, на проклятых немцев работает и нашего брата гнобит… Его дружки поймали меня, увезли в свое логово, избили, к батарее приковали…
– И что сделали? Тоже изнасиловали? – быстро и настороженно спрашивает она с большим интересом.
– Нет, не успели… Они пошли водку пить, а я сумел руки из наручников вытащить… У меня с детства все суставы выворачиваются… Я пальцы по одному из наручников вытащил и в окно сбежал… Что делать дальше?.. Домой идти нельзя. Паспорта нет. Пришлось к той женщине, что меня любит, поехать. Она в Подмосковье жила. Ну, сидел там около месяца. Думал, притихло все. Тут – новое несчастье: чеченцы наехали… Знаете чеченцев?..
Фрау Мизера встрепенулась:
– Кто же их не знает?.. Черные такие, здоровые, дикие, бородатые, лесным по том пахнут… Приятные мужчины!
– Я одному беженцу-чеченцу переводил, а он возьми да умри после интервью от инфаркта!.. Тейп говорит – ты его разволновал, вот он и умер, и поэтому мы тебя в кровники запишем! Ну, кровная месть… Слышали, наверно… Переломали все в квартире, меня ногами избили, ту бедную женщину зверски изнасиловали…
– А зверски – это как? – спрашивает она, расширенными глазами глядя на меня.
Орел тоже замер – казалось, прислушивается, ждет. Недобро крутит головкой, в которой злобы куда больше, чем мозга.
– Зверски?.. Ну… Это так… – теряюсь я, но тут же нахожу ответ: – В собачьей позе. Сзади. По-звериному. На четырех костях…
– Надо показать, как именно!.. Все надо точно проверить! – И Лизетта перемахивает через аппарат, скрывается за ширмой и глухо зовет меня оттуда: – Сюда, пожалуйста! Надо все в точности показать, проверить, уточнить…
Украдкой глотнув из бутылки тинистого шнапса, я неуверенно движусь мимо орла, не спуская с него взгляда. Злобная птица ревниво и вызывающе смотрит мне в глаза, но потом нехотя взлетает с ширмы на шкаф.
Лизетта стоит на кушетке на коленях. Задрав юбку на спину, оголив ослепительно-белый зад и повернув ко мне ангельское личико, она шепчет:
– Ну, показывайте же, давайте!.. Все внесем в протокол!.. Давайте! Быстрей! Туда и обратно! Туда и обратно!
Я кладу руки на ее прохладные ягодицы, продвигаюсь по спине до плеч. Она вдруг выворачивается, ловит губами мои пальцы и начинает их сосать. Очки сползают с ее носика, дрожат на кончике. Она урчит, входя в раж, а я боюсь, что она откусит мне пальцы. «Вот отчего столько инвалидов в приемной!..» – понимаю я, на всякий случай оглядываюсь (орла не видно, индюки молчат), неуклюже высвобождаю из лосин ремень и стегаю по ее светящимся, как фосфор, ягодицам.
А Лизетта, по-рысьи изгибаясь всем телом, умоляюще смотрит на меня из-под съехавших очков. Надо спешить… Но очень трудно, почти невозможно проникнуть в нее – так узок ее мышиный глазок… Кажется, вот-вот лопнут узкие упругие бедра, хлынет кровь… Медленно, но настойчиво я проникаю в горячее нутро, располагаюсь в нем по-хозяйски и начинаю шуровать, как заблагорассудится…
Наконец, под гвалт и клекот, под скрипы кушетки и стоны, под бой часов и истошные звонки телефона мне удается показать ей, что именно сделали негодяи с бедной женщиной, да так удачно и убедительно, что Лизетта валится без сил на кушетку, а я, стреноженный лосинами, допрыгиваю до стула и отдуваюсь на нем, отпихивая индюшек, которые опять начали бродить по кабинету, всполошенно взбалтывая и перекидываясь тирадами истошных трелей.
…Когда я прихожу в себя, Лизетта уже сидит за столом как ни в чем не бывало. Орла не видно, окно закрыто. Яблоки с пола собраны в миску.
– Беженец, продолжайте! – официальным тоном говорит она, поглаживая рычажок аппарата миниатюрными пальчиками (очки на месте, прическа в порядке, только две верхние пуговицы на блузе оторваны с корнем).
Я роюсь в мыслях, забыв, о чем говорил. В голове кавардак и бардак. «Милиция была… ОМОН был… Чеченцы тоже… Дальше что?.. А, КГБ!..».
– Потом начали меня опять по телефону ругать, пугать, прессовать. Только теперь уже не милиция, а похуже – сам КГБ!.. – зловеще смотрю я ей в глаза, надеясь, что на нее подействует это магическое слово. – Знаете КГБ?..
– Конечно. Кто же его не знает? Там такие сильные парни в галстуках и с наручниками… – опять мечтательно тянется она рукой куда-то вниз.
Но я уже не обращаю на это внимания и долблю, как та индюшка:
– У вас там в бумагах есть повестка из КГБ. Видите?.. Вон, зловещая, с грифом «Комитет Государственной Безопасности», где белым по черному написано, что мне надлежит явиться 06.06.06., в 06 часов утра в комнату № 666 для беседы. Обратите внимание на время! – значительно подчеркиваю я. – День и ночь работают… Конвейер. Я сдуру пошел… И что же?.. Три часа капитан со мной в бильярд играл и так и не сказал, что им от меня надо.
– Как так? – Она делает круглые глаза, удивленно вытягивая вперед пухлый кружочек рта.
– А вот так. Сам не знаю, как. Мы, говорит, к вам сегодня только присматривались. А разговор у нас будет завтра. Ну, кто своими ногами второй раз в КГБ пойдет?.. Да еще после таких предупреждений?.. Тем более что я бильярд не люблю. Вот если бы у них пинг-понговый стол стоял, тогда другое дело, а так… – Я машу рукой, а ногой пихаю черную жирную настырную индюшку, украдкой начавшую глодать ножку моего стула. – Я думаю, они двойного агента хотели из меня сделать…
«Пуля по вас плачет», – сказал мне капитан напоследок…
Фрау Мизера всплескивает руками, вскакивает:
– Вы только подумайте! Ужас! Так и сказал? Не может быть!
Покрутившись вокруг стола, она вдруг подходит к раскладушкам, откидывает одеяло, я вижу белые крупные яйца с младенческими ушами.
– Учтите, они все слышат, – говорит она и накрывает одеялом ушастые яйца, потом по воздуху перелетает через стол и хватается за рычажок аппарата: – Еще случаи преследования? – смотрит она неожиданно мягким и доверчивым взглядом поверх очков.
Я уже не знаю, что говорить:
– Плохи мои дела! Помогите! Всюду гонят и преследуют! С одной стороны – ОМОН делает шмон, с другой – чеченцы угрожают, с третьей – мафия подстерегает, с четвертой – КГБ вплотную навис! Сколько можно?
Описывая свое тяжелое положение, я настороженно слежу за индюшками, которые, сгрудившись возле стола, косо смотрят мне в глаза, переминаясь на кривых лапах и пуская сочувственные трели. Белая альбиносица тоже выползла из-под раскладушки и улеглась на паркете. Глаза затянуты пленкой, судороги. Шея в крови и без перьев, на голой головке – ссадины, а золотое кольцо на лапе надорвано орлиными когтями. Ее трясет.
– Прошу войти в мое положение и учесть, что я верой и правдой служил и потерпел на работе… Теперь припадаю к стопам и прошу помочь… – ною я дальше.
– Припадаете? Это как? – шаловливо оживляется Лизетта и манит пальчиком.
Проклиная себя в уме, распугивая индюшек и отпихнув сдыхающую альбиносицу, я обхожу стол и, рухнув на колени, бьюсь головой о пыльный паркет, хватаю и целую ее маленькие ножки. Индюшки, гоношась и визгливо перекликаясь, кидаются на меня, клюют куда попало.
– Все, хватит, хватит, щекотно!.. Встаньте!.. – кричит Лизетта. – Щекотно, не хочу!.. Все, конец!.. – уже злясь, приказывает она и поджимает под себя одну ногу.
Индюшки тоже, как по команде, поджимают одну ногу под животы и замирают наподобие аистов.
– Как в зоопарке!.. – бормочу я, вставая с колен.
– В зоотеатре, скажите лучше! – поправляет меня Лизетта и окончательно отталкивает от себя: – Идите, садитесь, где сидели!.. Надо докончить. Чего вы опасаетесь в случае возвращения на территорию бывшего Советского Союза?.. – холодно блестит она очками, на глазах превращаясь из милой секси-Лизетты в злую фурию фрау Мизеру, которая только что сняла с головы пилотку, повесила на стену хлыст и вымыла окровавленные руки.
– Мне некуда возвращаться. Мне там конец. Амба, крышка, капут. Вот, вроде нее… – я указываю на белую индюшку, которая дергается в агонии, а другие птицы с интересом за ней наблюдают. – Вы же любите Чайковского?.. Вот, танец умирающей индюшки на сцене Большого Зоотеатра… То же самое и со мной будет.
– Ну и что?.. Мы-то тут при чем?.. Почему наше государство должно страдать и раскошеливаться?.. – вдруг жестко говорит она, поглядывая поверх меня на часы.
Мне нечего отвечать – действительно, почему?.. Я тоже скашиваю глаза на циферблат и вижу, что на часах, на самом верху, на резной короне, опять сидит проклятый орел и недвижно смотрит вниз острым оком. О, у него две головы!.. Двуглавый орел?.. Сиамский орел?.. Да, две головы на одной шее!.. Одной башкой он озирает угол, где ванная, другая повернута ко мне… А я думал, что их нет в природе, только на гербах…
Окна закрыты. От духоты, индюшачьей вонищи и сладкого запаха крови умирающей птицы у меня кружится голова и темнеет в глазах…
– Все. Я вопросов больше не имею, – отстукивает фрау Мизера последние такты. – Хотите что-нибудь добавить?.. Сказать?.. Сообщить?.. Поведать?.. Нет?.. Тогда надо подождать полчаса, пока наша секретарша-белочка распечатает протокол… Вам что, плохо?.. Открыть окно?
Она распахивает створку окна, срывает с аппарата отстуканный рулончик бумаги. Орел тяжело слетает на стол, бережно цепляет рулон когтистой лапой и исчезает в открытом окне. А она площадной руганью загоняет индюшек под раскладушки, а мне велит взять сдохшую альбиносицу и спустить падаль в унитаз.
– В унитаз? Но она же не пролезет!
Фрау Мизера усмехается, играя обломком рога:
– Пролезет! Еще как пролезет!
Я с брезгливостью беру индюшку за еще теплые лапы и волоку ее к ванной. Открываю дверь – и порыв ураганного ветра чуть не сносит меня с ног: за дверью – бездна с еле видимой внизу рекой!.. Я в ужасе швыряю индюшку и захлопываю дверь, успевая заметить, как мертвая птица, вдруг расправив крылья, начинает планировать вниз…
– Фуфайку и штаны оставьте там же, где взяли, еще пригодятся, – приказывает голос фрау Мизеры.
Ничего не остается, как скинуть за ширмой белье и натянуть на голое тело свои вещи, странным образом уже кем-то постиранные и даже поглаженные. Пора идти.
– Что-нибудь забыли? – интересуется она. – Это? – И указывает на горку пепла прямо на столе, где только что лежали мои бумаги, а теперь вьется дымок и копошится зола.
Я в удивлении трогаю пепел, пачкаю пальцы, а фрау Мизера кидает на стол обломок рога:
– Берите вашу волшебную палочку… Рогатым не пристало ходить без рогов… Мы отлично поработали. И это еще не все… Подождите внизу, пока перепечатают протокол, а потом еще раз уточним детали… Все надо подробно за-про-то-ко-ли-ро-вать! Да!
Неожиданно снаружи раздаются резкие удары. Кто-то стучит палкой по наружному подоконнику. Фрау Мизера перелетает к окну, распахивает вторую створку.
– Идите сюда! – зовет она меня.
Я с опаской выглядываю наружу, ожидая увидеть бездну. Но внизу, под окном, все тихо, стоит привратник Бирбаух с багром и держит за кольцо в носу верблюда; тот утробно бурчит и мотает семитской головой.
– Что с ним делать?.. – спрашивает Бирбаух. – Опять притащился! Говорит, что временная виза кончается…
– А, это наш верблюд… Ему удостоверение беженца продлить надо… Он тут, на горе, живет и уже полгода пытается доказать нам, что он – не верблюд… – объясняет мне фрау Мизера, а вниз кричит: – Скажи горбатому, чтобы шел вначале на отпечатки копыт!.. И рентген горбов пусть не забудет сделать – нет ли там гашиша?.. В один горб до 20 кило помещается… Пусть заодно и фото хвоста делает, а то не продлю ничего!..
Бирбаух что-то кричит верблюду в ухо. Тот глухо отнекивается, прядает облезлыми ушами с пучками седой шерсти.
– А если он привратника укусит? – спрашиваю я у фрау Мизеры.
– Ах, глупости, он ручной и старый. У него зубов нет. И склероз. И оглох почти.
Она высовывается и громко кричит непонятные слоги. Бирбаух отпускает кольцо, верблюд, бросая на нас презрительные взгляды, рычит что-то вроде «ла-илла-иль-алла…» – поворачивается и, треща суставами, обиженно вышагивает к воротам. Сверху видны горбы в болячках и ранах. На ребрах кожа стерта до розовой мякоти, остатки шерсти свалялись в колтуны.
– Замучили его на горе… Вы же знаете: на горе стоит верблюд… – бормочет фрау Мизера. – Надо будет сказать, чтоб передышку дали…
– А… А где его доказательства? Папирусы, пергаменты, скрижали?
– Где-где, в гнезде! – смеется она.
– А ему не трудно на гору каждый раз подниматься? – видя, как верблюд скользит и оступается на брусчатке, спрашиваю я. – Или там грузовой лифт есть?
Она усмехается:
– Там все есть… – И доверительно продолжает: – Вообще-то он по паспорту лошадь, но мы его временно верблюдом оформили – пусть отдохнет, им там в Сахаре не сахар…
Я что-то не понимаю:
– Как это по паспорту – лошадь?.. Это же явный верблюд?..
Верблюд, словно слыша и понимая меня, замирает, медленно разворачивается, с презрением смотрит на нас. Кадык на его горле ходит ходуном, ноздри возмущенно раздулись, глаза прикрыты тяжелыми веками. Кажется, он о чем-то крепко размышляет.
– Это вам только кажется, что он верблюд… Ах, тварь! – Она не успевает захлопнуть окна: верблюд плюет в нас горячей и вязкой слюной, похожей на белую пожарную пену, и все проваливается в эту кипящую белизну…
Эпилог
Вот и опять январь. Люди в теплом ходят, машины на зимних покрышках ездят, собаки в тулупчиках гуляют, а птицы без всяких одежд парят – им не холодно, они к небесной печке ближе. Новогодние праздники прошли. Их наверняка предки придумали, чтоб зимой чем-нибудь развлекаться, а то уж очень противно в морозных пещерах сидеть было.
Весьма тронут беспокойством о моем здоровье. Зимой все болезни обостряются, поэтому ничего хорошего сказать не могу. Хотя роптать и грех, но иногда очень хочется. Да и вообще зимой я в каталепсию впадаю, а летом – в анабиоз. И меня лечить – что мумии мумие давать: бесполезно. Недавно вот ночью опять плохо было: жаром пекло, ноги отнимались, спать не мог и таблетки пил. В полубред впал. Брендил что-то несусветное. Бредовые бредни в голову забредали, бред в свой бредень затаскивал. Бредолага, словом. Потом как будто уснул, а во сне видел, что катаракта на одном глазу появилась… Ну, не буду о плохом. Позитивно думать: дурное затушевывать, а хорошее – подчеркивать.
Вот в Майнце на выставке кусок лестницы какому-то голландцу продал. Хорошо, что не поленился объект с дюбелей снять и на выставку отвезти. И не прогадал. А на противень (где стеклом пейзаж выложен) мой новый сосед с первого этажа, поляк, позарился. Он вначале лаял, что иногда-де шум из моей ныры ему спать не дает. А как зашел, посмотрел – так и заткнулся с тех пор. Даже противень купил. Я в банке свой мертвый счет реанимировал, деньги на него положил, взял квитанции, банковские распечатки и визу продлевать пошел.
Проклятый хер Челюсть ворчал, мигал, шипел, из-под очков подозрительно пялился, не мусульманин ли, спрашивал. Потом удостоверился, что денежных переводов из Хартума и Карачи нет, в мечеть не хожу и в ваххабитских сектах не состою. Я ему под сурдинку пою, что возраст уже не тот, чтобы на бомбах взрываться – «жизнь и так в клочки изорвала, здоровье ни к черту, какие еще бомбы?» (Это ему понравилось – он сам какой-то желудочной чумой болен, понять может.) И самолетов водить не умею – «даже с самоката всегда падал». И в технических науках – ни бум-бум. А что живу один – так пол-Германии так живет («А вторая завидует», – вставил вдруг он). И если деньги за лестницу и противень разделить на шесть месяцев, то как раз и получится прожиточный минимум («которого для жизни мало, а для смерти – много», – заключил я так шутливо, а он изволил осклабиться). Поэтому прошу продлить визу на полгода.
Посипела, покуражилась Челюсть, каких-то глупых вопросов поназадавала, но визу на полгода все-таки в конце концов продлила. Теперь порядок. А дальше видно будет – кирпичей на крышах много, каждый на голову упасть норовит. Я даже пошутил от радости: мы-де по улицам ходим, а наверх не смотрим, а если посмотрим – то увидим, как кирпичи на кромке крыши теснятся, гомонят, толкаются, внизу пешеходов высматривая, кому на голову скакнуть, но хер Челюсть только очками повел и папку закрыл – аудиенция закончена.
Жаль только – аспирантка после ссоры исчезла, а то порадовались бы визе вместе. Ей уже защищаться скоро. Диссертация почти готова, только с методологией загвоздка – какой-то злой оппонент прицепился, что тема, мол, посвящена гомосексуализму русской литературы, а соискательница почему-то параллельно и образы лесбиянок анализирует. Пришлось голощелке ему письменно объяснять, что лесбиянки – те же гомики, только женского пола. Ну да что с олуха-филолуха взять, если он шмайсер от штуцера отличить не может и уверен, что сыроежка – это строгая вегетарианка, а не минетчица?..
Но поссорились. Жаль. Веселая была нимфа. А так посмотреть – полная недотрога: глаза честные до упора, золотые очочки, ручки-блокнотики, ножки в скромных чулочках, рыженькие волосы на пробор, две косички… Эти отличницы – те самые черти, что в тихом болоте живут, особенно рыжухи… Мы с ней недавно поцапались. Я ее жду, а ее нет. Нет и нет. А когда стал потом спрашивать, где была, – врет, глаза прячет, но не признается: «Сам, мол, учил никогда не признаваться и все отрицать!»
А, вот так, значит… Вначале радоваться, что наконец-то в настоящую женщину превратилась, а потом – хвост трубой и по подворотням!.. Прилежная ученица, нечего сказать! Тебя же твоим же оружием – по башке! – и к другому – проверять: полная ли уже женщина или еще кое-чему подучиться не мешает. Век живи – век учись, понятно… И балбесу Отелло не на кого обижаться, кроме как на себя самого: не Яго, так столбу телеграфному даст, если на практике знания проверить приспичит. Мужчина вообще – вроде олимпийского факела: прибежал, зажег огонь – и отправляйся в ведро с водой шипеть башкой вниз, ты уже не нужен: огонь дальше без тебя гореть будет. И греться будут там уже совсем другие, тебе не известные личности…
Ничего, недавно в мою орбиту вовлеклась одна журналистка-поэтеска из Киева – стипендию какого-то их великого поэта, то ли Сковороды, то ли Кастрюли, получила. Стихи читала, о Кафке яростно спорила… Тоже рыжеватая, между прочим… Так что мир не без добрых рыжух – проживем. Но надо действовать быстро и напористо, как этнофаги, не зевать, по принципу: делай как всегда, и будь что будет! У факела жизнь хоть и короткая, но бурная. А вообще хорошо, что не жуком-богомолом родился. У них с этим строго: самка начинает пожирать самца прямо во время акта любви, отчего оргазм у богомола неистово и бурно переходит в агонию. Вот бы и у людей так! Города завалены трупами, а по улицам снуют голодные самки.
Плохо, что моего соседа-Монстрадамуса кондратий хватил. Напророчествовался! Я к нему теперь в больницу езжу навещать, так он и там не успокаивается со своими мрачными прогнозами, типа скоро из-за инфляции станет принято покупать временных жен – зачем связываться навечно, слушать эти крики, визги, претензии? – не лучше ли заключить контракт: «в неделю 3 раза приготовить обед, 2 раза убрать, 2 раза постирать, 3 раза секс, за все про все плачу столько-то» – и порядок!..
Мой приятель-художник Вий снял квартиру над секс-шопом, а теперь жалеет, что на дешевизну позарился – тяжело целый день всхлипы, стоны и вскрики из-под пола, из видеокабинок, слушать, и перед натурщицами и учениками как-то неудобно. Но ему кажется, что от этой секс-ауры у него сил прибавляется! А уж портретов он понарисовал – дай боже! Мужчины же как? Стоят на другой стороне улицы, смотрят на секс-шоп, как бараны на новые ворота, совещаются, зайти – не зайти, робеют, а Вий в это время у окна быстренько физиономии тушью или гуашью набрасывает, хочет сделать выставку: «Адам у врат рая» – а я посоветовал, что лучше назвать «Адам в раздрае» – ведь мучаются: и хочется зайти, и колется…
Еще Вий хочет объект сделать – в церкви аквариум на цепях подвесить, туда воду налить и рыб напустить… Я ему говорю, лучше уж прямо на кладбище пусть делает, чтобы, когда объект рухнет на головы прихожан, тела было бы удобнее предавать земле.
Золотые руки Митя и Вован расширились, клиентуры у них много, несмотря на то, что всем известно: ремонты они делают «не ахти как» (я бы даже сказал «ай-ай-ай как»), но дешево. Это слово магически на бывсовлюд действует, даже если наперед известно, что какая-нибудь хреновина не туда, куда надо, входить будет, или крепления задом наперед заверчены, или «ризетки» недокручены. Что надо – исправим, где надо – поможем, голь на выдумку хитра.
Медсестричек-евангеличек в городе как-то вечером встретил – в бар заходили. Меня с собой приглашали, я зашел, угостил их мороженым и рассказал про сумасшедшего академика, который научно доказал, что женщины с большой грудью живут дольше, болеют реже, психически стабильны и крайне редко сходят с ума, потому что испытывают постоянное чувство превосходства над окружающими особями как женского, так и мужского пола. «Всех, значит, с ума сводят!» – прибавил я, покосившись на сестричек, как конь на сено. Они посмеялись и меня коктейлем угостили.
А вот обдахлоз Фриц сейчас один – его панкуда Анка в Гейдельберг уехала, диссертацию пишет: «Роль немецкой женщины в становлении фашизма». Исторического материала много, но живых свидетелей мало: или в русском плену замерзли, или под скалками жен погибли. Эти белокурые бестии не церемонятся. В 30-х годах зажали мужей между собой и Сталиным: «Идите на Восток, добывайте для нас богатства!» Шиш добыли, но живут почему-то все равно хорошо и одним глазом опять на Польшу посматривают. А бедная собака Шнуффи подавилась бляхой собственного ошейника и подохла на ночном пустыре возле дискотеки. Панки ее в ящике из-под кока-колы похоронили. Отмучилась, бедная.
А так – вся мировая Блядиада катит своим чередом и клоуны не уходят с манежа. Принцу Чарльзу где-то в Прибалтике гвоздикой глаз подбили, пришлось на заседании своего фонда «Зрение – сила» с пиратской повязкой выступать. Ничего, пусть на практике убедится, что зрение – это сила. В последнее время что-то не везет принцу: глаз подбит, любовница околевает, сын марихуану курит, о мертвой жене живые любовники-конюхи и охранники гадости публикуют. Недавно королева-мама прилюдно ругала его за распиздяйство и грозила сделать из принца нищего, если не одумается. А пока запретила кошек вешать и по подсобкам бегать.
Но лучше всех Билл Клинтон устроился – он теперь не президент и актерскую карьеру сделать хочет. Это уже в истории было. Аменхотеп отлично на лютне играл. Нерон-флейтист всем известен. Чингисхан и Иван Грозный в театре теней на первых ролях были. Петр Первый втихомолку на баяне наяривал. Екатерина Великая акварелью писала. Сталин натощак стихи сочинял. Саддама Хусейна под опиумом на лирику тянет. Почему бы и Клинтону себя в искусстве не попробовать?.. Уже, оказывается, и псевдоним готов: Килл Блинтон (типа «слепой киллер») – сильно звучит и его убийственному темпераменту больше соответствует. Тарантино задумал с ним новые «Девять с половиной минут» снять (сыроежка Моника – в главной женской роли). И в этом фильме Килл наконец внятно объяснит землянам, почему он курит марихуану – но не затягивается, пьет виски – но не глотает, участвует в половых актах – но не доводит дело до оргазма.
Плохо вот, что виза есть, а работы нет. Лагерь закрыт, ремонт идет полным ходом. После ремонта большие сокращения запланированы, поэтому персонал заблаговременно разбегается кто куда. Фрау Грюн на повышение пошла. Тилле перекинут на легалов, в Кельне теперь сидит, русских немцев и вечных беженцев сортирует. Шнайдера «ушли» на преждевременную пенсию – дали разовые сто пятьдесят тысяч и на три года раньше срока отпустили, чтоб рабочее место своим моложавым задом не занимал. А Марк добился инвалидности и блаженствует где-то на острове Пасхи, где за один доллар можно весь остров перепахать. Зигги, получив диплом юриста, занял место Марка. Небесная Ацуби завершила практику и поступила в адвокатскую контору. А привратник Бирбаух перешел сторожем на фабрику собачьего корма и торгует теперь консервами за полцены, унося с работы ежедневно несколько банок, – «кто не уважает пфеннига, не достоин марки!»
Про переводчиков знаю мало. Хуссейн и Рахим переводят дальше – у них еще тридцать миллионов курдов в горах сидят, на их век хватит. Фатима вышла замуж и уехала в Осло, где у мужа фирма по отлову устриц. Доктор Шу по-прежнему преподает синологию, а жена его открыла ресторан для гурманов «На псарне». Коллега Хонг нашла место во вьетнамском посольстве и уехала в Берлин. Про Линь Минь ничего не знаю и знать не хочу. Джахан укатил на полгода с этнологами в Мадрас – изучать древние методы сожжения тел. А в аэропорту Франкфурта (когда встречал Вия, везшего с выставки своих пауков) я наткнулся на Сузу – тот летел в Варшаву. Оказывается, открыл с Польшей горячую линию: ввозит панамскую кока-колу, алжирские чулки и суданские финики, а вывозит мороженых угрей, водку и свеженьких проституточек. Папа-вождь помог – пару семей в рабство продал, подкинул деньжат. Русский язык Сузе и в Польше пригодился – его набор слов во всех славянских странах служит безотказно.
О своих подопечных ничего практически не знаю, только какие-то брызги информации. Один раз звонили из Франции монашки-газетчицы: сунулись туда после отказа в Германии, получили и там от ворот поворот и теперь спрашивали, стоит ли еще раз попробовать сдаться в Германии, на что я ответил им твердым «нет». Сусик прямо из лагеря угодила в сумасшедший дом, делает теперь мулине для всего персонала. Она счастливая, ей везде хорошо. Как-то позвонил чеченец Юсуп, поблагодарил за помощь. Его оставили пока до дальнейших выяснений. Димка Шварца встретил в поезде с шайкой таких же кикбоксистов. Где-то в Дюссельдорфе в толпе как будто Мирзада с детьми мелькнула. Честная Инга каким-то способом осталась и, как и обещала, навещает иногда, но не дважды в неделю, а дважды в месяц – но и на том спасибо, честная женщина, могла бы и не делать. И Перепелищев-лютеранин открытку с Новым годом из Бельгии прислал. Вот и все. Где другие – не знаю. Где-то их жизнь перемалывает. Удачи им, где бы они ни были!.. «Дезертиры!» – называл их Бирбаух. Да какие они, к черту, дезертиры?.. Дезертиры – небриты, злы, в гимнастерках без погон, стучат сапогами, воруют по кладовкам и прячутся на задворках. А это – скитальцы, бродяги, перекати-поле. Блудные дети, словом.
Жаль, что мне неизвестно, получил ли кто-либо из них искомый азюль. Да и откуда мне знать?.. Наше дело переводить – и точка! Решения принимают другие, что, может, и к лучшему: меньше грехов на горбу и зарубок на сердце. Но я иногда думаю: зачем было надо богу создавать тысячи языков и миллионы диалектов?.. Человек, часть фауны, огнем и ножом забравшись на самый верх пищевой цепочки, и так злобен, хищен и всеяден по своей природе, а если к тому же не понимает ближнего, то вообще готов его съесть живьем. Разве не было бы лучше, чтобы все говорили на одном общем языке – может, крови меньше бы лилось?.. Хотя вряд ли… Хуже чтоб не было! Да и у толмачей работа пропадет, что тоже немаловажно.
О себе лично ничего хорошего сказать не могу. Чувствую себя препогано. Затылок, правда, немеет реже, но яичко ноет чаще. Сухой глаз жжет, прострел мучит, и тиннитус проклятый зверски изнасиловал. Уже в звоне отдельные слова различать могу. Был у ехидны Ухогорлоноса, а он посмотрел грустно-грустно и вдруг признался, что сам уже тридцать лет сверчков слышит. «И что, значит, лечения нет?» – спрашиваю. «Нет!» – отрубает. «А как со сверчками боретесь?.. Дустом не пробовали?» – шучу так глупо. Он скорбно отвечает: «Нет, психотерапией убил… Сказал себе, что на жарком юге живу, где окна всегда открыты и сверчки ночи напролет верещат. Ничего, помогает…» Вот оно что!.. Ну, если он на юге живет, то и я на юг мысленно переберусь, на берег океана, где прибой день и ночь шуршит, а слуга-китаец «утку по-шанхайски» сервирует… Или на север податься, в норке у норки в Норильске зимовать…
Кстати, о говяжьем шизе никто уже не вспоминает – жрут эту бешеную говядину так, что за ушами трещит. И правильно – чего о бычьей паранойе думать, когда с человечьим безумием еще до конца не разобрались?.. Биоговядиной начали – биотеррором кончили.
Недомерок Буш все мировое зло уже почти целиком победил, немного осталось. Он там, у себя в Бушляндии, среди звездно-полосатых бушменов первым парнем слывет, карлик с петушиной походкой и гонором индюка. От него еще наплачутся народы, если сограждане не сообразят его в психушку посадить или бейсбольной битой на вечный покой благословить.
Я лично думаю, что решение всех войн очень простое: пусть каждый сидит у себя дома и нос наружу не показывает. Ни ты ко мне, ни я к тебе. Тогда ни тебя не убьют, ни меня. Может быть, и правильно сделал бог, что развалил Вавилонскую башню: меньше понимания – меньше контактов – меньше ссор – меньше крови, пота и слез. И нечего, и незачем толмачам эти осколки склеивать. Пусть каждый у себя в ныре сидит и за калитку не суется. Меньше нервотрепки для всех.
Да, моя Мушка нашлась!.. Недавно вдруг опять на странице брошюры «Народонаселение в Китае» застиг!.. А с коньяком я тогда, очевидно, другую мушку выпил… Ну, мошку выпить – это ничего, куда хуже, если муха-цеце в дыхательное горло залетит, как это недавно в Африке с одним негритенком случилось. Сидит Машка как ни в чем не бывало. Где была, что делала – не говорит. Полетала, полазила – и обратно. Типичная наглая муза. А что мала очень – так это ничего. Лучше такая, чем вообще никакой. Как считаешь, родной?.. Ты – поэт, в музах лучше меня разбираешься, поэтому и спрашиваю.
Мне вообще грех жаловаться: я в просторной ныре обитаю, а великие как перебивались?.. Диоген в бочке на цепи сидел, Сократ в каземате скончался, Сервантесу в тюрьме руку оторвали, Архимед вообще ванны не покидал, про Симеона Столпника уж и не говорю… Сам Толстой в подвале типа «хрущевка» свои романы писал. Да что Толстой?.. Даже протопоп Аввакум в сырой подклети 20 лет провел только потому, что не хотел тремя перстами креститься… Да, жилплощадь у них была не ахти какая, но ничего, не роптали, а мне уж совсем молчать надо, что и делаю, как тот молчун, которого бес намеренно или случайно мазнул кисточкой хвоста по губам…
Ладно. Бог не выдаст – тиннитус не съест. И клиническая смерть куда лучше полной. На тот свет всегда успеем. Очередей в рай нет, но ада вход всегда нас ждет: заходи – не хочу. Ну, не хочешь ада – не надо. Но учти, что и в аду жить можно, если родной дядя главной печью заведует. Серьезно. Бог свидетель, а ангелы записывают мои слова. Нам с тобой туда пока рано, мы пока в начальной школе, пишем и пишем на доске мира письмена своих жизней, а время, строгий учитель, вновь и вновь стирает губкой забвения наши нелепые и наивные каракули – места ведь мало, а желающих – прорва!..
Лучше уж на берегу океана, где-нибудь на Корсике у корсаров, под звон сверчков и лепет пальм, лежать в гамаках в тени навесов и коку колой запивать. Приглашаю в гости. Будем от нечего делать в морской бой играть, колесо чудес крутить, викторины разгадывать. Сердце кита весит тонну. Муха за свою жизнь 500 миллионов раз машет крыльями. У крысы – усы-вибриссы. А почему дождь идет? Потому что вода с неба сыпется. А почему камбала плоская? С китом секс имела. А почему у жабы буркалы навыкате? От удивления выпучились, когда она за этим сексом наблюдала.
Вот и я, как та жаба, сижу, на будущее глаза выпучив, – что там еще ожидается, впереди?.. И не лучше ли, как аллигаторова черепаха, в песок с головой зарыться и только красный отросток языка наружу высунуть, чтобы мелкая глупая любопытная рыбешка сама в пасть спешила?..
Германия, 2001–2002; 2012
Примечания
1
Почему нет? (нем.) – Здесь и далее прим. автора.
(обратно)2
От einzeln (нем.) – единичный, одиночный, индивидуальный; entscheiden (нем.) – решать.
(обратно)3
К черту (нем.).
(обратно)4
«Несчастная Германия!..» (нем.)
(обратно)5
Ведомство по делам иностранцев (нем.).
(обратно)6
От нем. Kiefer – челюсть.
(обратно)7
От Schmerz (нем.) – боль; Arzt (нем.) – врач.
(обратно)8
От Penner (нем.) – бродяга, человек без определенного места жительства.
(обратно)9
Поцелуй негра, поцелуй негра, что может быть слаще? (нем.)
(обратно)10
Спорт – это убийство (нем.).
(обратно)11
От danke, bitte (нем.) – спасибо, пожалуйста.
(обратно)12
От ein bisschen (нем.) – немного.
(обратно)13
От Вitte ein Bit (нем.) – реклама пива «Битбургер»: «Пожалуйста, один Бит».
(обратно)14
От sehr schlecht (нем.) – очень плохо.
(обратно)15
От Wurst (нем.) – колбаса.
(обратно)16
От Bier (нем.) – пиво.
(обратно)17
От nein, ich will nicht (нем.) – нет, я не хочу.
(обратно)18
От klar (нем.) – ясно, понятно.
(обратно)19
От richtig (нем.) – правильно.
(обратно)20
От Fixer (нем., жарг.) – наркоман, шировой.
(обратно)21
От Нure (нем.) – проститутка.
(обратно)22
От probieren (нем.) – попробовать.
(обратно)23
От Nutte (нем.) – шлюха.
(обратно)24
От Wohnung (нем.) – квартира.
(обратно)25
От danke sehr (нем.) – большое спасибо.
(обратно)26
От Kopf (нем.) – голова.
(обратно)27
От verstehen Sie (нем.) – вы понимаете.
(обратно)28
От Messer (нем.) – нож.
(обратно)29
От ein Mal (нем.) – один раз.
(обратно)30
От Milch (нем.) – молоко.
(обратно)31
От trinken (нем.) – пить.
(обратно)32
От Zimmer (нем.) – комната.
(обратно)33
От Кnast (нем.) – тюрьма, заключение.
(обратно)34
От alles klar (нем.) – все ясно, все понятно.
(обратно)35
От Auge (нем.) – глаз.
(обратно)36
От Вitte, helfen Siе mir! (нем.) – Пожалуйста, помогите мне!
(обратно)37
От Kindergeld (нем.) – «детские» деньги, которые в Германии ежемесячно получают родители на нужды своих детей.
(обратно)38
От Tod (нем.) – смерть.
(обратно)39
От Dolmetscher (нем.) – устный переводчик.
(обратно)40
От Obdachloser (нем.) – бездомный, бесприютный бродяга.
(обратно)41
От ja (нем.) – да.
(обратно)42
От Pferd, verstehen (нем.) – лошадь, понимать.
(обратно)43
От auf Wiedersehen (нем.) – до свидания.
(обратно)44
Свод законов для получения политубежище (нем.).
(обратно)45
Доброе утро, синьора! (итал.)
(обратно)46
Да, синьора, я гитарист (итал.).
(обратно)47
Нет, синьора (итал.).
(обратно)48
Спасибо, синьора! (итал.)
(обратно)49
И Бог меня наказал! (итал.)
(обратно)50
Вот документы, синьор!.. (итал.)
(обратно)51
Да, синьор, сейчас (итал.).
(обратно)52
Вот, пожалуйста… (итал.)
(обратно)53
Пять лет, синьор (итал.).
(обратно)54
Не так ли, синьор? (итал.)
(обратно)55
Не знаю (итал.).
(обратно)56
Не дали мне (итал.).
(обратно)57
Нет, никогда (итал.).
(обратно)58
От Urin (нем.) – моча.
(обратно)59
От Кitzler (нем.) – клитор.
(обратно)60
От Wetterfrosch (нем., разг.) – синоптик, метеоролог, тот, кто предсказывает погоду.
(обратно)61
От Аzubi (нем.) – сокращение от Аuszubildender (нем.) – ученик, стажер.
(обратно)62
От Baschkirien, Kalmückien (нем.) – Башкирия, Калмыкия.
(обратно)63
Барак усиленного режима (жарг.).
(обратно)64
От zurück (нем.) – назад.
(обратно)65
«Бросок на Восток»… «Бросок на Запад» (нем.).
(обратно)66
Поговорим по-немецки? (нем.)
(обратно)67
От Zunge (нем.) – язык.
(обратно)68
Утром – мастырка, и день – твой друг (нем.).
(обратно)69
От klar, logisch (нем.) – ясно, логично.
(обратно)70
От Rabatt (нем.) – скидка.
(обратно)71
От jawohl (нем.) – да, согласен.
(обратно)72
От Freund (нем.) – друг, здесь в значении «бойфренд».
(обратно)73
Добро пожаловать в ад! (нем.)
(обратно)74
Порядок должен быть (нем.).
(обратно)75
От Niedersachsen (нем). – Нижняя Саксония.
(обратно)76
На место! (нем.)
(обратно)




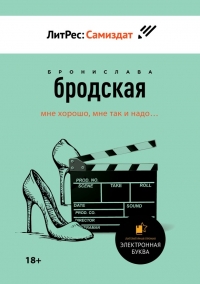





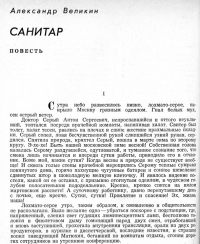


Комментарии к книге «Толмач», Михаил Георгиевич Гиголашвили
Всего 0 комментариев