Виктор Некрасов Король в Нью-Йорке
Рассказ
Прочитав резолюцию, Алексей Николаевич сделал несколько глотков теплой, противной минеральной воды «Виши» (к концу речи горло совершенно пересохло) и закончил свое выступление положенными в таких случаях словами о народах, которые должны быть уверены, что Организация Объединенных Наций в состоянии добиться целей, провозглашенных ее уставом, и всегда будет стоять на страже мира на земле…
Раздались аплодисменты. Хлопали в основном арабы и представители социалистического лагеря. Хлопали энергично, так, что казалось, будто хлопает весь зал.
«Нет, плохо, плохо… — думал Алексей Николаевич, идя по проходу под обстрелом репортерских блицев и усаживаясь затем на своем месте. — Все время путал, то ИзрАиль, то ИзраИль, потом никак не получалось это чертово слово… «Суревенитет» или «суверенитет»… Черт знает что…»
Настроение было испорчено несмотря на аплодисменты и дружеское похлопывание по коленке сидевшего рядом Андрея Андреевича, мол, все в порядке, Голдберг ни на минуту не отрывался от наушника с переводом.
«Нет, плохо, плохо… Бубнил, экал, не отрывался от написанного… Во Франции и Англии почему-то было легче… А тут точно по рукам и ногам сковало. Оратору необходима легкость, свобода… Вот хотя бы этот афганец председатель, как его, Абдул какой-то. Как рыба в воде. Элегантен, раскован, спокойнейко смотрит себе в зал и чешет по-английски, как настоящий лорд. Небось Оксфорд или Кембридж кончал…»
Громыко толкнул его в бок — «Пора уходить». К трибуне шел Эбан — представитель Израиля, маленький, невзрачный, говорят, из Одессы.
Алексей Николаевич поднялся и, глядя прямо перед собой, направился к выходу. За ним Громыко, Щербицкий и все остальные. Опять ослепили десятки блицев. Идиотская штука… На фотографии получаешься всегда кретином с раскрытым ртом, сощуренными от вспышек глазами. И все это завтра будет в газетах — «Советская делегация демонстративно покинула Ассамблею во время выступления представителя Израиля»…
Еще в машине он велел включить приемник. Переводчик был плохой — паузил, подыскивал слова, почему-то трещало.
У входа в Представительство СССР — в Глен-Глав, резиденцию, решил сейчас не ехать, уж больно далеко, сорок километров. Громыко, вылезая из машины, напомнил:
— Не забудьте о Фавзи и Краге. В четыре и пять. А вечером прием. Отдохните пока.
— Отдохну, отдохну… Действительно что-то устал…
В нижнем холле Представительства, помимо агентов, никого не было. Они приподнялись, Алексей Николаевич вяло в ответ улыбнулся и направился к лифту. Выходя на своем этаже, порылся в кармане, но ничего, кроме шарикового карандаша, не нашел. Лифт-бой был несколько удивлен, но все же расплылся жемчужной улыбкой.
Людмилы, слава Богу, не было. Поехала, очевидно, на пляж или ходит по магазинам. Откуда-то доносился назойливый стук машинки — должно быть, референты.
Включив эркондишен — в этом чертовом Нью-Йорке жара, как в Сочи, — Алексей Николаевич прилег на диван и потянулся за «Сони».
Эбан говорил о количестве захваченной на Синайском полуострове техники… МИГи, тридцатьчетверки, ТУ-16, пушки, гаубицы, ракетные установки… «Всего на два миллиарда долларов».
Алексей Николаевич выключил транзистор, глядя в потолок, потом опять включил.
Бесстрастным, механическим голосом переводчик говорил:
«Советский Союз является вдохновителем трагических событий на Среднем Востоке. Он по-прежнему настаивает на том, что агрессором является Израиль, забыв о том, что сам в свое время внес в ООН резолюцию по поводу определения агрессии, в которым первым пунктом значилось: «Блокада портов и заливов одного государства другим государством является актом неприкрытой агрессии и дает право государству, подвергшемуся блокаде, на ответные действия. В случае с Акабским заливом…»
А ну его к черту… Знаю, знаю, и без тебя знаю. И двадцать раз говорил об этом в Москве. Какое там, слушать не хотят…
Он опять выключил транзистор и попытался заснуть.
Но сон не шел… В голову лезли какие-то мелочи. Опять этот чертов «суниверитет» или, как его, «суревенитет» — фу, стыд какой! И негритенок в лифте, его удивленные глаза — надо будет дать ему доллар. Или даже два… Потом этот бессмысленный разговор вчера вечером, перед сном, с Людмилой… «Ты, папа, хоть с меньшим энтузиазмом свою речь читай — не так стыдно будет…» Вот и прочел как пономарь. А что толку? А У Тан, хитрый бирманец! Улыбается, ручку жмет, а в глазах лукавое, восточное — понимаю, понимаю, нелегко тебе придется, зашились… Все, гад, понимает. И Голдберг тоже… Небось уже вылез на трибуну. Повторяет речь Джонсона… А что с Джонсоном делать? Встречаться или не встречаться? Им хорошо там, в Москве: «По ходу событий увидишь». А какой тут ход. Вот не пошел на Голдберга, уже обида…
В дверь постучали. Заглянул молоденький референт с шелковыми усиками.
— От Эль-Куни звонят. Спрашивают…
— А ну его! Скажите, что отдыхает и ждет к шестнадцати часам. А вас прошу, без четверти четыре меня разбудить. Не в службу, а в дружбу.
Референт беззвучно скрылся. Алексей Николаевич встал, подошел к столу, порылся в ящике, нашел таблетки, проглотил, запил стаканом «Нафтуси» — ох, лишь бы не скрутило, как на прошлой неделе, — и, подойдя к окну, поднял раму. В комнату дохнуло точно из бани в предбанник раскаленным, влажным воздухом. Ну и город! Печка. Мозги плавятся. Заодно с асфальтом, стеклом, стальными небоскребами. Небо белесое. Ни одного облачка. Внизу муравейник. У входа в Представительство бессильно повис — ни признака дуновения! — громадный красный флаг с серпом и молотом.
«Слева молот, — всплыло вдруг в голове, — справа серп… Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь… Тьфу… Теперь вот весь день будет крутиться в голове это дурацкое «хочешь жни, а хочешь куй…».
Алексей Николаевич опустил раму, принял двойную дозу веронала и опять попытался заснуть.
Бог его знает, сколько он спал. Приснился почему-то Брежнев с детскими своими ямочками на оплывшей, раздувшейся физиономии. Предлагал почему-то пойти на рыбалку, но как-то не удалось — явился Громыко. Уже не во сне, а наяву.
— Как самочувствие?
— Да так, средне. Голова побаливает.
— Может, пообедаем?
— Жарко больно…
— Но обедать-то надо. Подкрепиться. У них в это время положено обедать. Третий раз уж этот агент спрашивает…
Пришлось согласиться. Правда, предложению сходить куда-нибудь в дневной малозаметный ресторан Громыко воспротивился — тут же набегут репортеры, они уже дежурят внизу. И обедать пришлось тут же, в комнате для приемов. Обед был изысканный — суп из бычьих хвостов, какой-то сверхъестественный бифштекс, омары и что-то еще, совсем уж непонятное, вроде рыбы, мелко нарубленной и без костей, — но все удовольствие испортил Громыко — чудовищно чавкал и все время ковырял в зубах.
Потом принесли почту, отобранную референтами и все же довольно обильную (Алексей Николаевич решил ознакомиться с ней вечером, перед сном), дважды звонили из Москвы, интересовались, какова реакция газет и общественности, — а в четыре, минута в минуту, явился не по-арабски унылый, почему-то всегда усталый Махмуд Фавзи, за ним подтянутый датчанин Краг, и сразу же после его ухода пришлось ехать в Глен-Глав на прием.
Все было утомительно и скучно. Маурер, как и следовало ожидать, сторонился, пил вино со своими румынами, кубинец тоже только поклонился и весь вечер флиртовал с дамами. Зато совсем одолел своими рассказами о конских соревнованиях Цеденбал — не человек, а клещ. Людмила, веселая и совершенно красная от свежего загара, вернулась с пляжа — она поехала-таки на Лонг-Айленд-бич с какими-то студентами Колумбийского университета, — сразу же засекла отца за рюмкой водки.
— Ты с ума сошел. Хочешь завтра лежать в лежку? Сейчас же пожалуюсь Сергею Никифоровичу…
Но пожаловаться не успела, попала в орбиту кубинца, а Алексей Николаевич, почувствовав после двух стопок прилив сил, подсел к Циранкевичу (они оба почечники), и до самого конца они просидели за «Выборовой», ни разу не произнося слов «агрессия» и «Израиль».
Кончилось все где-то около двенадцати. Могло бы закруглиться и раньше, если б не кубинец, которого невозможно было оторвать от дам и стойки, что в конце концов удалось осуществить более или менее насильственными действиями.
Алексей Николаевич отправился к себе.
— Ну, как твоя речь? — мимоходом спросила Людмила. — Убедил своих слушателей? А я вот на пляже совсем обожглась. Хорошо еще, у этих империалистов есть специальная мазь, а то вернулась бы в Москву облупленная, как медуза…
— Никогда не видел облупленных медуз, — вяло сказал Алексей Николаевич и захлопнул за собой дверь, так и не ответив ничего по поводу своей речи.
На письменном столе, аккуратно разложенные по степёни важности, лежали письма. От каких-то обществ, союзов, конгрегаций, движений за что-то, от каких-то пасторов, учителей, лавочников, даже от бизнесменов, — одним словом, от тех, кого принято называть рядовыми американцами. Одно письмо, в маленьком зеленоватом конверте с адресом, написанным от руки крупным, четким почерком, лежало отдельно и, вероятно, именно поэтому привлекло внимание Алексея Николаевича.
Он вскрыл его, сначала не поверил глазам, потом решил, что это розыгрыш, тем не менее перечитал еще раз, отложил в сторону, прошелся по комнате, еще раз прочел, снял с полки справочник «Who is who?», сверил адрес — точно! — и вдруг, сам не понимая, как это произошло, снял телефонную трубку и набрал номер.
— Вас слушают, — раздался в трубке немолодой, но бодрый мужской голос.
— Александр Федорович?
— Он самый. С кем имею?
Алексей Николаевич назвался. В трубке раздался легкий свист, а за ним такое же бодрое:
— Откровенно говоря, не ждал. Польщен и обрадован. Так как вы относитесь к моему предложению?
— Положительно.
— Прекрасно. Давайте тогда условимся. У меня, у вас или в нейтральном месте?
Конечно, разумнее всего было назначить нейтральное место, но Алексей Николаевич твердо сказал:
— Если вас не стеснит, думаю, лучше у вас.
— Когда?
— Допустим, завтра в десять утра.
— Превосходно. Буду ждать. Чай, кофе? Или что-нибудь…
— На ваше усмотрение.
— Чудесно. Значит, в десять жду. Спокойной ночи… — и после секундной паузы: —…если получится.
— Получится. Спокойной ночи.
Но спокойной она не получилась. Сон ни на одну секунду, как говорится, не смежил глаза Алексея Николаевича. Он ворочался с боку на бок, несколько раз вставал, пил воду, пытался читать, но ничего не помогало — сон не шел.
Одолевали мысли. Разные. Мелкие, мельчайшие, нелепые. Вроде того, что же в конце концов считается Средним, а что Ближним Востоком. Де Голль, например, говорил «Moyen Orient», — Средний Восток, а мы как? И так и сяк… Вспоминался чавкающий Громыко. Очевидно, одолеваемый официальными приемами и коктейлями, где, прижимая локти к бокам, надо меленько-меленько орудовать всякими там вилочками, в кругу своих он позволял себе несколько распускаться. Впрочем, это все же лучше, чем поминутно отрыгивающий пищу Цеденбал… Или Насер, съедающий целого петуха и особое наслаждение получающий от препарирования его головы…
Тьфу!.. Самодовольный, самовлюбленный хам с бычьей шеей, холеный жеребец. И вот выгораживай его! Фашист, бездарный полководец, роммелевский офицер, сгноивший в тюрьмах тысячи коммунистов, а ты кричи на весь мир — выдающийся прогрессивный деятель, непреклонный борец за свободу! Тьфу! Тьфу! Тьфу!
Именно здесь, дойдя до Насера, Алексей Николаевич вставал, пил воду, принимал недействующее снотворное, потом опять ложился и пытался считать до ста, что помогало немногим больше…
Лежал и смотрел в потолок — ровный, гладкий, без признаков карниза, — смотреть-то не на что. Потом, повернувшись на бок, разглядывал какую-то московскую стройку с кранами и высотными зданиями вдали — дешевенькую репродукцию в тоненькой раме. Пожалели денег на что-нибудь более приличное. Впрочем, это Алексей Николаевич одобрял, нечего зря деньги тратить…
На минуту забылся. Опять приснился Брежнев. Что за напасть. Потом Де Голль — долговязый, носатый, с дряблой шеей и красной лентой поперек вздувшегося книзу брюшка. Почему-то Де Голля Алексей Николаевич — он скрывал это от самого себя — невольно побаивался. Вернее, стеснялся, чувствовал себя перед ним как ученик перед строгим учителем, и все боялся сказать что-то невпопад, проявить в чем-то свою некомпетентность, недостаточную начитанность… Устроил, например, интимный ужин у себя в Елисейском дворце. Кругом старухи с открытыми гусиными шеями, а сам, попивая разбавленное водой вино, проявляет эрудицию. «Помните, как сказано у Буало?» или «Надо вам познакомиться с Марком Шагалом — старик очень мил» — и тут же преподнес альбом этого самого Шагала — какой-то бред с летающими людьми, козами, петухами.
Кстати, после разговора об израильской агрессии мог бы подарить какого-нибудь француза, а не старого еврея-эмигранта…
К утру, часикам к семи, Алексей Николаевич все же заснул. Но в восемь уже был на ногах — точно током ударило. Быстро умывшись, позвонил Громыко по внутреннему телефону.
— К началу заседания не поедем. Отправимся к часу, на выступление Атаси…
— Но Голдберг может посчитать…
— Ну и пусть считает. Поедем к часу. — Он сказал это достаточно резко, и Громыко согласился.
Потом вызвал секретаря и велел, чтоб через двадцать минут была машина.
— Нет, завтракать не буду. Стакан джусу и все… Кто из агентов сегодня ко мне приставлен?
— Бонди. Тот, что зажигалку вам подарил.
— Скажите ему, что до часу он свободен. Пусть ждет меня в ООН. Что? Никаких мотоциклистов. Я и водитель. Больше никого. Кто водитель?
— Сидоренко.
— Ладно. Через двадцать минут спускаюсь.
Всю дорогу до Нью-Йорка Алексей Николаевич обдумывал, как обмануть Сидоренко. Подъезд — 43.
— Куда двинем?
Алексей Николаевич посмотрел в блокнот:
— Так, значит… Тут написано: 109 Ист 91-я стрит, Нью-Йорк 28…
— Ясно. Манхэттен. Около Центрального парка и Пятой авеню. Не в Еврейский музей? Это как раз там.
— Нет, — мрачно ответил Алексей Николаевич и уставился в окно… Черт… Он все знает… Даже Еврейский музей. Ужасно кстати… Придется остановиться за два-три дома — тьфу, пропасть, а он ему точный адрес дал! Ну да ладно, остановится у 105-го и даст ему увольнительную на часок. Согласится ли? По морде видать — пройдоха.
Нет, не согласился.
— Я вас тут подожду, Алексей Николаевич, — улыбнувшись, сказал Сидоренко, когда они подъехали к 105-му номеру. — У меня есть что почитать. «Щит и меч». Не читали?
— Нет, не читал… А может, зайдешь все-таки перекусишь чего-нибудь?
— Спасибо. Я не голодный.
Алексей Николаевич с ненавистью посмотрел на приветливую, улыбающуюся физиономию Сидоренко и решительно направился к подъезду пятиэтажного, выложенного искусственным мрамором дома.
«Черт! Как теперь к этому 109-му пробраться? Задним ходом, что ли? Идиотство какое…»
К нему уже торопился навстречу красивый, широкогрудый швейцар в темно-синей, расшитой золотом фуражке. Шел и улыбался, гад… Если б не машина с красным флажком, может, и не узнал бы, а тут дипломатический номер, серп и молот, ежедневно в газетах фотографии…
Сидоренко, облокотившись на дверцу «зима», весело улыбался.
Алексей Николаевич решительно взял швейцара под локоть и вошел в вестибюль. О Господи, хоть бы три слова по-английски знать…
Швейцар с некоторым недоумением посматривал на него. Алексей Николаевич вынул пятидолларовую бумажку — после случая с негритенком запасся — в воздухе пальцем написал «109». Швейцар не понял. Алексей Николаевич показал на пальцах «один», «ноль», «девять».
— Уан хандред найн? — оживился швейцар и с готовностью подтолкнул Алексея Николаевича к выходу. Сквозь толстое дверное стекло было видно, как Сидоренко протирает ветровое стекло.
— Но, но… — поспешно сказал Алексей Николаевич и показал в противоположную сторону.
Швейцар опять ничего не понял. Сколько бы длилось это препирательство, трудно сказать — один тянул в одну сторону, другой в другую, — если б в вестибюле не появился приятной наружности молодой человек, внимательно посмотревший на Алексея Николаевича. Он прошел было мимо, но у стеклянной двери задержался и вернулся обратно.
— Простите, если не ошибаюсь, господин Косыгин? — на чистейшем русском языке спросил он.
Растерявшись, Алексей Николаевич сказал:
— Допустим.
— Разрешите представиться, — улыбнулся молодой человек. — Драгомиров, Николай Кириллович, референт по восточноевропейским вопросам концерна «Иран-Петролеум».
Этого еще недоставало…
Николай Кириллович вежливо осведомился, чем он может быть полезен своему соотечественнику.
Алексей Николаевич очертя голову бросился в разверзшуюся перед ним пропасть. Ему, видите ли, надо в 109-й номер, но он хочет сделать маленький сюрпризик, поэтому хотел бы попасть туда задним ходом, незаметно, понимаете ли, вроде инкогнито, ха-ха, очень мило получится…
I
Николай Кириллович, человек воспитанный, ничем не показав своего удивления, что Премьер-министр Советского Союза, вместо того чтобы сидеть на Ассамблее, куда-то в виде сюрприза пробирается задним ходом, любезно предложил свои услуги. Алексею Николаевичу ничего не оставалось, как принять их.
Мило разговаривая о нью-йоркской жаре и процессе над Кассиусом Клеем, они миновали два внутренних двора (в одном месте надо было перелезть через стенку, правда, невысокую — Николай Кириллович галантно подставил плечо) и попали в третий, слава Богу, никого не было.
— А теперь в эту дверь. Алексей Николаевич, ни пуха, ни пера.
Николай Кириллович хитро подмигнул и на прощание попросил Алексея Николаевича расписаться на своей собственной фотографии из «Нью-Йорк-таймс». На том они пожали друг другу руки.
— Большое спасибо, — сказал Алексей Николаевич.
— Не стоит благодарности. Разве что учтите на Ассамблее интересы нашей компании. Всех благ.
Они расстались.
В лифте Алексея Николаевича охватило вдруг волнение. Куда он идет? Зачем? Что толкнуло его, прочитав письмо, сразу же броситься к телефону? Как потом выкручиваться из всей этой нелепой, мальчишечьей истории? Разве скроешь? Шофер, швейцар, любезный молодой человек… Господи, до чего же это глупо… Прятаться, скрываться, перелезать через какие-то заборы… И все же…
Он позвонил — нажал крупную белую кнопку на массивной дубовой двери с сияющей медной дощечкой «Александр Федорович Керенский. A. KERENSKY».
Открыла пожилая женщина в белой наколке.
— Милости просим. Александр Федорович ждут.
Александр Федорович тут же показался в дверях — несколько сгорбленный, очень постаревший (все-таки крепко за восемьдесят), тем не менее похожий на свои старые портреты — тот же ежик, только седой, свисающий нос, резкие складки возле рта. Одет в черный элегантный костюм, на шее бабочка, в кармашке платочек. Приветливо улыбнулся.
— Прошу, прошу…
Громадный кабинет, в который они вошли, обставлен был, как говорится, скромно, но со вкусом. От пола до потолка, вдоль трех стен книги (среди них — Алексей Николаевич сразу заметил — Маркс, Ленин, Сталин, даже Хрущев). Четвертая стена — сплошное окно, перед ним письменный стол.
— Присаживайтесь, пожалуйста, Алексей Николаевич, — Александр Федорович приветливым жестом указал на небольшой круглый столик в стороне, на котором стояли голубой эмалированный старомодный кофейник и несколько бутылок с яркими красивыми этикетками. Среди них приятной своей прозрачностью выделялась, сверкая медалями, «Stolichnaya». На тарелочке нарезанная селедка с луком и два настоящих соленых огурца.
— Ну, что ж, по старому русскому обычаю? — улыбнулся Александр Федорович и наполнил до краев рюмки.
От волнения у Алексея Николаевича дрожали руки и он пролил водку на полированный, без скатерти, стол красного дерева, прекрасный стол павловского ампира (такие же были и кресла).
— Ничего, ничего, бывает, — опять улыбнулся, сияя отличными вставными зубами, Александр Федорович и ловко вытер лужицу крахмальной салфеткой. — За ваше здоровье, Алексей Николаевич.
— За ваше, Александр Федорович.
Оба выпили и взяли по куску селедки.
— Очень вкусная селедка, — сказал Алексей Николаевич.
— Дело рук Анны Пантелеймоновны, моей кормилицы и благодетельницы. С тех пор, как я овдовел, жизнь моя в ее руках.
— Прекрасная хозяйка, — сказал Алексей Николаевич и, откусив огурец, похвалил и его.
Потом заговорили о качестве водки — спасительная для всякого начала беседы тема.
Если бы кто-нибудь посмотрел на собеседников со стороны, он сразу бы обнаружил (Анна Пантелеймоновна во всяком случае тут же заметила) разительное сходство между ними несмотря на разницу в возрасте более чем в двадцать лет. У обоих унылые, свисающие носы, мешки под глазами, складки у рта, но главное, у обоих совершенно одинаковые ежики, только один совсем седой, другой поменьше. И цвет лица и у того, и у другого одинаковый — желтый, нездоровый.
После третьей рюмки (что поделаешь, идет проклятая, хоть и противопоказано) дегустационно-гастрономическая тема исчерпала себя, и Александр Федорович, как хозяин и как старший, ловко переключил разговор на вопросы более актуальные.
Началось с воспоминаний об октябрьском перевороте (революцией Александр Федорович считал февральскую). Как очевидец и участник событий тех лет, он поведал кое-какие детали и подробности, до сего Алексею Николаевичу неведомые — о штурме Зимнего, залпе «Авроры» и еще какие-то. Между прочим, он несколько раз с осуждением упомянул о Кукрыниксах, которые в своей картине «Бегство Керенского» изобразили его переодетым в сестру милосердия, чего никогда не было. На самом деле, скрываясь от большевиков, он облачился в матросскую форму. Этот факт исторической подтасовки особенно как-то задел Александра Федоровича, и он несколько раз к нему возвращался.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Александр Федорович очень внимательно следит за всем, что происходит в Советском Союзе, радуется его успехам и даже несколько преувеличивает их. Алексею Николаевичу, экономисту и человеку, любящему точность, пришлось его несколько раз поправить — в вопросах сельского хозяйства, например, и росте общего благосостояния.
— Нет, нет, Александр Федорович, это уж вы несколько загибаете. По производству продукции на душу населения мы, к сожалению, уступаем еще не только Соединенным Штатам, но даже Новой Зеландии и, как ни странно, Венесуэле…
Александр Федорович удивился и тут же предложил выпить за то, чтобы Советский Союз в самое ближайшее время обе эти страны…
Потом выпили за два пятидесятилетия — Февральской и Октябрьской революции, за приближающееся столетие со дня рождения В. И. Ленина («кстати, вы знаете, наши отцы — мой и старик Ульянов — очень дружили в Симбирске, любили поиграть вечерком в вист…»), и еще за целый ряд юбилеев, в большом количестве ожидаемых в ближайшие два-три года.
«Столичная» опустела. Принялись за коньяк. Оба раскраснелись, оживились, в глазах появился молодой задор и, когда из бутылки «Мартеля» выпиты были последние остатки, выпили вдруг на брудершафт. По всем правилам, через руку, с поцелуями.
Несколько раз заглядывала в дверь Анна Пантелеймоновна и, судя по ее выражению лица, можно было понять, что она несколько шокирована поведением этих двух не первой молодости господ — оба сняли уже пиджаки и говорили слишком оживленно, поминутно перебивая друг друга.
— Нет, Алеша, ты не объективен… Ну вот ни чуточки… Во многом, конечно, виноват я — не спорю, признаюсь, — но случись так, что победили бы не вы, а мы, честное слово, Россия еще дальше шагнула бы по пути прогресса. Я не говорю уже о 37-м годе…
— И не говори, не говори… Говори о 67-м.
— А он от тебя зависит. Во многом от тебя…
— От меня? Сашенька, побойся Бога. А Брежнев, Подгорный, Шелепин? С Вьетнамом засераемся, с Израилем засераемся…
— Ну, с Вьетнамом Джонсон тоже засерается…
— Засерается, а с Израилем мы засераемся…
— Засераетесь, не спорю, но если уж засрались…
В этот момент вошла Анна Пантелеймоновна, решительно подошла к столу и забрала не начатые еще две бутылки, к одной из которых Александр Федорович уже было потянулся.
— Хватит! Не дам больше. Меры не знаете. Пейте кофе.
Пришлось пить кофе. Потом Александр Федорович начал показывать семейный альбом, а Алексей Николаевич вынул карточку покойной жены, дочери Людмилы и ее мужа итальянца. Александр Федорович одобрил и дочь, и зятя.
В половине первого Алексей Николаевич спохватился — батюшки, а Ассамблея?.. Александр Федорович не стал задерживать — «dienst ist dienst!», Но на прощание вытащил откуда-то из-за книг маленькую бутылочку чего-то очень крепкого, и оба выпили «посошок».
— За встречу твою с Джонсоном.
— Ой, не говори… Не порти настроения.
— Ну-ну, за встречу. Продай Китай и Насера — и все будет в порядке.
— Легко сказать…
Они выпили прямо из горлышка (Анна Пантелеймоновна унесла рюмки) и закусили мускатным орешком, чтоб не пахло изо рта.
На прощание обнялись — оба друг другу очень понравились.
«Человек как человек, — подумал Александр Федорович, — и манеры приличные, с ножа не ест…»
«Человек как человек, — в свою очередь подумал Алексей Николаевич. — За восемьдесят все-таки, а как во всем разбирается… Вот тебе и свалка истории. Надо будет еще разочек зайти…»
Остаток дня, вернее, вся вторая половина его прошла в тумане. С кем-то встречался, кого-то принимал, кому-то устраивал ужин. Голова болела. На еду смотреть не мог. Зато спал как убитый.
Среда и четверг мало чем отличались от вторника. Те же встречи, банкеты, коктейли… Наседал Пирсон, настаивал на встрече с Джонсоном. Громыко торговался с Раском. Одолевали арабы — утомительные и многословные. Требовали оружия… Все побросали, гады, на Синайском полуострове, а теперь вынь да по ложь им новое. Обнаглели совсем…
Раз пятнадцать звонила Москва. Наконец, в четверг, 22 июля, после встречи с Раском, тут же в здании ООН все решилось. Громыко оказался на высоте. Выторговал-таки «Тильзит» — Гласборо, маленький городок на пути между Вашингтоном и Нью-Йорком (даже не на полпути — от Белого дома 201 километр, а от Советской резиденции — 168, вот как!). Оно, конечно, интересно было бы побывать в Белом доме (сравнить, например, с Елисейским дворцом или Букингемом), но гонор не позволял. Алексей Николаевич невольно вспомнил, как в двадцатых годах приезжало к нам в Союз первое коронованное лицо, афганский падишах Аманулла-хан, и как препирался тогда Наркоминдел с афганской стороной о длине бархатных ковровых дорожек, которые должны были быть выстланы на пути падишаха… А теперь… Ну, да ладно, была не была…
В пятницу 23 июля, ровно в 11 часов, президент Соединенных Штатов Америки приветствовал председателя Совета Министров СССР в маленьком уютном салоне старомодного особняка с милым названием «Куст остролистника» (Халенбуш).
Историческая встреча («Ей-богу же историческая», — подумалось Алексею Николаевичу у входа в этот самый уютный, в викторианском стиле салон) началась минута в минуту под аккомпанемент басовых ударов старинных часов, стоящих в углу салона.
Обменявшись улыбками и крепким мужским рукопожатием, президент и премьер сели за небольшой круглый стол, на котором вместо традиционных флажков стояли два букета — один пунцовых роз, другой тоже из роз, но трехцветный — красные, синие и белые цвета американского флага. Алексей Николаевич, впервые в жизни увидав синие розы, как любитель и немножко даже знаток цветов хотел спросить об их происхождении, но посчитал это неуместным для начала («успею еще») и, пытаясь не потерять улыбку, что было ему всегда трудно, сел за стол. Рядом сели переводчики. Больше никого не было — Громыко и Раск совещались в другом салоне.
Джонсон был в темном костюме с галстуком в полоску, Алексей Николаевич, как обычно, — в черном. И опять же посторонние наблюдатели (в данном случае переводчики, как во вторник Анна Пантелеймоновна) невольно обратили внимание если не на полное, то, во всяком случае, на частичное сходство двух государственных мужей, на сходство их носов — у обоих они были мясистые, пористые и висячие. В остальном сходства не было, особенно в подбородках — у Джонсона энергичный, вперед, а у Алексея Николаевича мягкий, рыхлый и назад. Зубы у обоих были превосходные, так что определить, у кого из них лучший протезист, было трудно.
Начал Джонсон.
Поприветствовав Председателя Совета Министров на американской земле и напомнив, что это шестая встреча руководителей обеих стран (напомним и мы: Тегеран — 1943, Ялта — 1945, Потсдам — 1945, Женева — 1955, Кэмп-Дэвид — 1959, Вена — 1961), он сразу же приступил к делу.
— My dear, — сказал он, — газетные обозреватели, чем бы ни окончились наши переговоры, все равно скажут, что определенную пользу они принесли. Так вот, чтоб польза эта была действительно определенной, а не расплывчатой, предлагаю для нашего совещания дух, как пишут в ваших газетах, — тут Джонсон улыбнулся, — полнейшей откровенности.
Он вопросительно посмотрел на своего партнера. Тот молча кивнул: «Куда он гнет, собака?».
Джонсон продолжал:
— Поэтому я позволю себе быть с вами предельно искренним, отбросив в сторону все дипломатические приемы. К этому призываю и вас. Идет?
Алексей Николаевич, еще больше насторожившись, вторично кивнул головой.
Тут Джонсон после небольшой паузы перегнулся вдруг через стол и слегка похлопал Алексея Николаевича по плечу.
— Так вот, старина (old fellow), не будем друг перед другом валять дурака. Израиль Израилем, арабы арабами, а все дело в Китае. Так ведь?
«Так, так, так, — подумал Алексей Николаевич. — Вот куда старый хрен заворачивает. Нет, что правда, то правда, но миновать Израиль все-таки не удастся…»
Джонсон точно дочитал его мысли и живо сказал:
— Не-ет, на Ассамблее гните свою палку по-прежнему — осуждайте, требуйте, клеймите. Вы придумали эту Ассамблею, вам и расхлебывать ее. Понимаю, как это трудно и неблагодарно, но тут уж ничего не поделаешь, спутались с арабами — пеняйте на себя. Но дело, повторяю, не в них, дело в Китае… Давайте же в конце концов уступим старику Мао и согласимся с его утверждениями, что Россия и Америка объединились для борьбы с ним…
«Фу, черт… — Алексей Николаевич вспотел, — как с ним говорить? Припер-таки к стенке. И прав же, сволочь, но нельзя же так-таки ничего не сказать об Израиле…» — И тут же в самом кратком виде изложил содержание своей собственной речи на Ассамблее.
Джонсон терпеливо выслушал, глядя в окно, а когда Алексей Николаевич закончил, недоумевающе развел руками.
— Я-то думал, что мы поговорим с вами как мужчина с мужчиной, а вы мне о том, что я в газетах уже читал. Нехорошо, не по-мужски…
Алексей Николаевич перебил его и, чувствуя, что его куда-то заносит, но не имея сил сопротивляться, заговорил об аннексии, беженцах, возмещении убытков…
Джонсон шутливо замахал руками.
— Знаю, знаю, знаю… И только из деликатности не напоминаю вам Кенигсберг и Силезию… Разница только в том, что одни называются реваншистами, другие — беженцами… — Тут он весело посмотрел на Алексея Николаевича и опять похлопал его по плечу. — Знаете что? Иду на все. Знайте мою щедрость. Так как раньше или позже вы со всеми этими Насерами и прогрессивными королями расплюетесь, я, чтоб обеспечить дело, дам вам почитать кое-какие документики, — он хлопнул рукой по толстой кожаной папке, лежавшей рядом с ним на столе. — Тут есть кое-что любопытное, захваченное евреями у египтян на Синайском полуострове.
Он подтолкнул папку Алексею Николаевичу.
— Почитайте на досуге. Не оторветесь. Как от полицейского романа. Вы, кстати, увлекаетесь ими? Я грешным делом — да.
— Времени нету, — мрачно буркнул Алексей Николаевич.
— Напрасно, напрасно. После делового дня лечь этак на диванчик, включить приемник, взять книжечку в толстом переплете… Очень успокаивает… — Джонсон посмотрел на часы.
— Э-э, друзья, настало время завтракать. Тут мы, американцы, непреклонны. Прошу в столовую.
Встав из-за стола, он взял под локоток Алексея Николаевича и своего переводчика, отвел их в сторонку и заговорщицки зашептал:
— Есть прекрасное, конструктивное предложение. По секрету от всех. После завтрака поиграем в гольф… А? Как вы на это смотрите, my dear?
Алексей Николаевич растерялся. Что он, шутит? Издевается? И вообще, он этот самый гольф один только раз в кино видел — Эйзенхауэр и еще кто-то гоняли мячик по полю.
Джонсон, сразу все поняв, весело сказал:
— Побывать в Америке и не поиграть с президентом в гольф — это, пожалуй, то же самое, что побывать в России и не выпить с премьером водки. Мне Никсон рассказывал, знаю…
— Но я… — попытался вставить Алексей Николаевич.
— Не умеете? Чепуха. Вмиг научу. Обломайте только своего Громыко — он у вас серьезный, а Раска я на себя беру.
Алексей Николаевич попытался ухватиться за последнюю соломинку:
— А переговоры? Я ведь завтра улетаю, а мы так ни до чего…
— Переговоры? Господи Боже мой, продолжим в воскресенье… Завтра не получится. У меня выступление в Лос-Анджелесе. Потом надо на минутку к себе на ранчо заглянуть — дочь внучонка родила. Пригласил бы к себе, да за вас боюсь — что Мао Цзе-дун скажет… А вам на субботу… Что бы вам предложить? Грэнд-Кэньон, заводы Форда, Диснейленд? Или, может, Ниагару? А? Величественнейшее зрелище…
Алексей Николаевич — а, черт с ним, была не была! — согласился на Ниагару — все-таки чудо природы, — но выходя, в дверях, шепнул своему переводчику — интеллигентному еврею с русской фамилией:
— Проболтаешься — с партбилетом расстанешься.
Тот понимающе кивнул.
Стоя на бетонной площадке у сплошной водяной стены Ниагарского водопада, Алексей Николаевич думал вовсе не о величии его, не о красоте, не о том даже, сколько энергии может дать и уже дает вся эта масса воды. Он думал о том, что все на свете ему смертельно надоело.
Ему 63 года. Возраст не такой уж преклонный (Черчилль, Бисмарк, Клемансо и постарше его управляли государством), но годы войны, да и не только войны, фактически с 1939 года, когда он стал Наркомом текстильной промышленности, по сегодняшний день надо считать все-таки один за три. С 1939 по 1967-й — 28 лет. Значит, ему сейчас не меньше как 119 лет. Куда тут всем этим Черчиллям и прочим засидевшимся в своих премьерских креслах вершителям мировых судеб.
Сто девятнадцать лет. Только где-нибудь в Дагестане живут еще такие старики. Пасут себе барашков, дышат горным воздухом и плодят детей — вот и все заботы… Доживешь там и до ста пятидесяти.
Впрочем, Черчилль барашков не пас, а дотянул до девяноста. Путь его жизненный не только розами был устлан, и все же… В молодости гусар, затем улан, участник последней в истории Англии кавалерийской атаки в Судане, воевал с бурами, попал в плен, бежал, в Первую мировую войну был сначала военно-морским министром, потом простым командиром батальона шотландских стрелков на французском фронте. В 26 лет имел уже за плечами шесть томов собственных произведений, в том числе один роман (все это не без некоторого восхищения рассказывал ему Майский, в прошлом наш посол в Англии). Его «Мировой кризис», «Мальборо» (биография отца), «История Второй мировой войны» — многотомные издания, переведенные на все языки. Кроме того, живописец (картины его выставлялись в Париже, Лондоне, Нью-Йорке), каменщик (выложил два дома в своем поместье), блестящий оратор, поглотитель несметного количества коньяка, и круглосуточно во рту сигара.
А он, Алексей Николаевич? Что хорошего он в жизни видел? В 15 лет Красная Армия, потом, кооперативный техникум, работа в системе потребительской кооперации в Сибири, затем Ленинград — Текстильный институт, фабрика имени Желябова, Октябрьская прядильно-ткацкая фабрика. Инструктор, мастер, зав. отделом, директор, председатель исполкома… Совещания, заседания, опять совещания и телефоны, телефоны, телефоны. Потом нарком, министр — и все то же, но на более высоком уровне и с большей нервотрепкой… Сталин, Берия, Хрущев… И всех их пережить. И остаться живым. И стать премьером… И решать вот сейчас с Джонсоном, что делать дальше. А что делать? Что?
На обратном пути, пока они ехали в машине до детройтского аэродрома, он разглядывал проносившиеся мимо уютные домики, виллы, фермы под черепичной крышей, и вдруг ужасно захотелось поселиться в каком-нибудь из этих домиков, лишенных заборов (в Америке заборов нет!), с палисадником, зеленой травкой, плющом, огородиком… Днем возиться в этом самом огородике или рыбку удить, по вечерам смотреть телевизор… И никто тебе не звонит по вертушке, и не надо ехать в осточертевшее Внуково встречать космонавтов или очередного арабского мудака… Ох, это Внуково… Не за горами уже… И все они будут стоять и ждать, пока его серебристая птица… И улыбаться, и жать руки, и двадцать раз проверенные и перепроверенные пионерчики с букетами цветов… О-ох…
На следующий день, в воскресенье 25 июня, в том же самом старомодном особняке, за тем же круглым столом с букетами роз состоялась вторая, заключительная встреча президента с председателем Совета Министров.
Джонсон был бодр, весел, посвежел и даже как будто немного загорел за эти сутки на своем техасском ранчо. Алексей Николаевич, напротив, вид имел усталый, невыспавшийся, почему-то болела голова.
— Ну, как? — весело спросил Джонсон, осведомившись сперва о здоровье своего собеседника и о впечатлении, какое на него произвела Ниагара. — Ознакомились с этой папкой, с египетскими документами?
— Ознакомился, — сухо ответил Алексей Николаевич. Ночью он их перелистал и увидал, что большинство из них ему известно — Насер активно и секретно готовился к удару по Израилю.
— Ну и что вы по поводу этого скажете?
Алексей Николаевич помолчал, потер переносицу, посмотрел на переводчиков, сначала своего, потом американского — оба молодые, подтянутые, идеально выбритые, с весело-почтительной печатью готовности на лицах, только первый с черными, второй с серыми глазами, — и опять почесал переносицу.
— Можете быть совершенно спокойны, — сказал, перехвативши его взгляд, президент, — конфиденциальность нашей беседы гарантирую. Ни одно слово не выйдет за пределы этой гостиной.
Алексей Николаевич кивнул и повернулся к своему черноглазому переводчику:
— Если не трудно, принесите, пожалуйста, мой портфель из машины. Не черный, а желтый. Переводчик понимающе наклонил голову и, неслышно ступая по толстому ковру, скрылся за дверью.
Алексей Николаевич быстро взял из лежавшей на столе стопки прекрасной шероховатой бумаги один листок, так же быстро крупными буквами написал несколько слов по-русски и протянул его президенту. Президент, улыбнувшись, не глядя, передал его переводчику. Веселая готовность, ни на минуту не покидавшая лица переводчика, внезапно исчезла. В серых, умных глазах его появилось недоумение, растерянность, может, даже испуг. Тревожно-вопросительно посмотрел он на Алексея Николаевича. Тот молча, спокойно наклонил голову.
Переводчик, понизив голос почти до шепота, перевел текст записки Джонсону. В ней было всего несколько слов: «Г-н президент, на каких условиях я мог бы получить убежище в вашей стране?».
Джонсон не сразу взял протянутую ему переводчиком записку, внимательно прочитал незнакомые ему слова, зачем-то посмотрел на обратную ее сторону и откинулся на спинку кресла. Несколько секунд оба государственных мужа, не мигая, смотрели друг другу в глаза.
Ни один из троих сидевших за столом не сталкивался в своей жизни ни с чем подобным, Да, пожалуй, и во всей мировой истории подобного еще не случалось. Одно слово президента Соединенных Штатов могло сейчас изменить судьбу более чем трех миллиардов населяющих землю людей, в том числе и двух сидящих друг перед другом, много повидавших на своем веку немолодых и не очень здоровых человек.
Стоявшие в углу, похожие на готический храм, часы очень медленно, с паузами начали мелодично бить. Стрелки сошлись на двенадцати.
Взвешивать и решать у Джонсона не было времени — ответ должен быть немедленным и категоричным — да или нет… И как всегда, когда он попадал в цейтнот, Джонсон избрал единственный спасавший его в такие минуты метод — он загадал… Если русский переводчик придет до конца боя часов, он скажет ДА, если позже — НЕТ…
Если — ДА…
Война? Обвинение в похищении, шантаже? Всеобщая мобилизация, ракеты? Или… Или прекрасный предлог для сидящих в Кремле, избавиться от слишком умеренного, не склонного к авантюрам, более трезвого и реалистического в вопросах политики, замедляющего на крутых поворотах ход, пожилого, больного почками не бойца, а кооператора? Предлог? Возможно. Но в то же время и новая вспышка на Ближнем Востоке. А Вьетнам? Мао Цзе-дун? Де Голль? Лишнее лыко в строку его антиамериканской политики… Бонн? И что с ним самим делать? Может, хватит уже одной Светланы с ее мемуарами и пресс-конференциями. Может, тоже начнет воспоминания писать? Конечно, интересно, но… А вдруг все-таки война? Часы пробили пять… шесть… семь… «За эту бумажку я мог бы получить миллион… — думал сидевший как изваяние рядом с президентом сероглазый переводчик. — В обоих случаях… Но она уже не в моих руках… Господи… Как жить с такой тайной на сердце? Миллион… Миллион…»
Часы пробили восемь… девять… десять… «А по вечерам телевизор…» Алексей Николаевич представил себя лежащим на диване в уютном, мохнатом халате… — И никаких «Правд», «Известий», «белых» ТАССов… И иногда с Александром Федоровичем по рюмочке «смирновской»…
Черноглазый переводчик вошел с последним, двенадцатым, ударом часов.
«Это ДО или ПОСЛЕ?» — лихорадочно проносилось в мозгу Джонсона. Сотая доля секунды на размышление.
«После! Он вошел не на самый удар, а на мелодию удара, замирающий звук его…»
Судьба трех с половиной миллиардов белых, черных, пепельных, оливковых, бронзовых, желтых, красных (и красных!) людей, населяющих земной шар, осталась без изменений.
Президент подвинул к себе массивную, горного хрусталя пепельницу. В ту же секунду вспыхнул длинный голубоватый огонек в руках обретшего уже прежнее выражение лица сероглазого переводчика и квадратный листик шероховатой бумаги улегся мягкой, серебристой горкой пепла на дно пепельницы…
Все! Остальное неинтересно. Остальное известно из газет. В американских подробнее, с деталями, в советских совсем неподробно и без всяких деталей.
* * *
Над Внуковом «Ил» сделал большой круг и стал снижаться. В кружок иллюминатора Алексей Николаевич увидел усеянное прижавшимися к земле самолетами поле, ангары, старое и прилепившееся к нему новое, стеклянное здание аэропорта, затем тоже стеклянный, но поменьше, параллелепипед правительственного Внуково-2… Бетонное поле было чистое, точно вымытое, и по нему черным табунчиком двигалась к месту посадки небольшая группа людей… Они…
Быстро пронеслись под бортом фруктовые деревья какого-то сада, аэродромные сигналы, прыжок, другой — и все…
— Москва, Алексей Николаевич, с благополучным прибытием на родину…
Громыко надевал уже зачем-то пальто, хотя, судя по сводке, в Москве было не меньше 25…
Ил в последний раз слегка качнуло, и он встал. Открыли двери и одновременно подвезли трап.
Алексей Николаевич взял портфель — просто так, чтоб что-нибудь было в руках — и, сделав шляпой приветственное движение экипажу, — те любезно, с нескрываемым чувством радости (наконец-то!!!) улыбались, — стал спускаться по трапу.
По большим бетонным плитам летного поля к нему, тоже с улыбками, но другого уже рода, такими знакомыми, такими привычными, такими отлежавшимися в боковых карманах, шли члены и кандидаты в члены ЦК КПСС в кремовых, пепельных, оливковых отутюженных костюмах, их жены, все полные, в кремовых, пепельных, оливковых, парижского или на худой конец американского происхождения жакетках…
О, Господи… И надо жать им руки… И тыкаться мордой в подбородок, уши… И улыбаться… Улыбайся, улыбайся, смейся, паяц…
Проверенные пионерчики уже вручали ему букеты живых, выращенных в спецоранжерее и тоже проверенных, не менее двух раз — в оранжерее и здесь, на аэродроме, — цветов…
И никакого тебе телевизора, дивана, мохнатого халата… И никогда уже рюмочки «смирновской»… Опять кабинет с дубовой панелью… И шепотом журчащие телефоны… И брови, и ямочки на щеках, и вечный перегар изо рта…
А впереди?
Через год с небольшим советские танки вступили в Прагу.
Публикация В. КондыреваРассказ этот написан в невеселую пору
Этот рассказ Виктора Некрасова добирался до типографского станка три десятилетия.
В очередной свой приезд в Москву (если я не ошибаюсь, было это за год до его вынужденного, случившегося 12 апреля 1974 года отъезда в эмиграцию) он дал прочитать только что написанного «Короля в Нью-Йорке» нескольким друзьям и добрым знакомым. Мы нелицеприятно и довольно весело обсуждали его — нет, не рассказ сам по себе, а образ жизни и мыслей правивших нами руководителей, навеявших ему это сочинение. И Некрасов тоже принимал в горячем обмене мнениями самое живое участие — так, словно речь шла не о его вещи, недвусмысленно формулируя свое отношение к тогдашним властям.
Это было тяжелое для него время — по полной программе его травили и по писательской, и по партийной линии, грозили, старались запугать, и я подумал, что издевательски бесшабашный рассказ он написал, демонстрируя, может быть, даже и самому себе, что на поклон он не пойдет, каяться не будет, не дождутся. Ни у Некрасова, ни у кого из нас, только что прочитавших «Короля», и мысли не было куда-то его предлагать — для Некрасова это было бы равносильно самоубийству: статья 70 УК, часть 1 — распространение клеветнических измышлений на советский государственный и общественный строй, на руководителей государства и партии. Хоть завтра начинай такой процесс.
Власти решили с ним не нянчиться: неисправим — зубодробительные проработки в писательском союзе и партийной организации были сочтены недостаточными, им стали заниматься все видящие и до всего докапывающиеся органы государственной безопасности. Девять хорошо знающих свое дело сотрудников сорок два часа проводили у него обыск, цель которого, как было написано в ордере, «обнаружение литературы антисоветского и клеветнического содержания» — в протоколе на 60 страницах было 100 пунктов, изъяли книги, журналы, рукописи… После этого в течение недели каждодневные допросы у следователей по особо важным делам, на которых Некрасову дали понять, что если он не «исправится» или не уедет на Запад, ему придется отбыть в «места не столь отдаленные» и заниматься в мало подходящих климатических условиях отнюдь не писательским трудом.
Так Некрасова вытолкнули в эмиграцию. Но и там наши власти его не оставляли в покое: когда в одной из радиопередач он иронически отозвался о «трилогии» Л. И. Брежнева (главным образом о «Малой земле»), его лишили советского гражданства. (Указ подписан 24 апреля 1974 года). Но еще до того циркуляром Главлита было запрещено упоминать в печати его фамилию и название его произведений, они вычеркивались даже из библиографических справочников. Книги Некрасова были изъяты из библиотек и большей частью уничтожены. Когда в 1975 году в Минске на Всесоюзном совещании, посвященном тридцатилетию Победы, Василь Быков в числе лучших произведений о Великой Отечественной войне назвал «В окопах Сталинграда», у него начались серьезные неприятности, от него требовали покаянных объяснений.
Целое поколение читателей четверть века не имело доступа к книгам Некрасова — и созданным до эмиграции, широко известным, прославленным, как «В окопах Сталинграда», а уж о тех, что он написал в Париже, и думать нельзя было. И даже после кончины Некрасова 3 сентября 1987 года цековские вершители судеб продолжали его преследовать, видимо, считая, что приговор, вынесенный писателю в 1974 году, не имеет срока давности и ни при каких обстоятельствах не может быть отменен. А ведь шли уже первые «перестроечные» годы. По указанию Е. К. Лигачева, тогда второго человека в партийной иерархии, в «Литературной газете» был снят некролог, написанный Василем Быковым. А напечатанный, несмотря на это в «Московских новостях» короткий некролог, в сущности сообщение, был расценен (о чем рассказывает в своей книге «Омут памяти» А. Н. Яковлев) Лигачевым на заседании Политбюро как антисоветская выходка. Тут, наверное, было бы справедливо вспомнить, что Некрасов был не только автором одной из самых лучших книг о войне, но и участником Сталинградской битвы, в то время как Лигачев доблестно защищал родину в Новосибирске на трудной комсомольской работе.
Фраза булгаковского Воланда «рукописи не горят» приобрела для интеллигенции в те годы знаковый характер. Одни хотели видеть в ней торжество, пусть и запоздалое, исторической справедливости: стали медленно и с трудом, но все же печататься кое-какие хранившиеся в архивах документы. Другие отвергали ее как прекраснодушную: о чем вы толкуете, где рукописи Исаака Бабеля и Михаила Кольцова, романа «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана?
Когда в «перестройку» была ликвидирована цензура и начали выходить в свет произведения старых и новых эмигрантов, мы, кому когда-то Некрасов давал читать рассказ «Король в Нью-Йорке», стали искать его рукопись. Рукописи ни у кого из его близких друзей не было: ни у Аси Берзер, его постоянного редактора в «Новом мире», ни у Лунгиных, квартира которых в Москве была его всегдашним местом жительства в столице, ни у киевлян — писателя Михаила Пархомова и Григория Кипниса, руководившего корреспондентским пунктом московской «Литературной газеты».
Как в воду она канула — мы решили: кажется, правы те, кто скептически относился к формуле Воланда. Наверное, рукопись изъяли проводившие у Некрасова дотошный обыск или перед отъездом из страны он сам ее уничтожил, опасаясь хорошо отработанного таможенного «шмона».
Кипнис даже обратился в КГБ (после крутого перелома нашей жизни некоторые либеральные веяния докатились и до этого чуждого открытости ведомства), ему выдали изъятый при обыске у Некрасова очерк об Иване Дзюбе (он был напечатан в Киеве и в Москве в «Вопросах литературы»), но рукописи «Короля» у них не было.
Несколько месяцев назад один преуспевающий московский издатель предложил Григорию Анисимову и мне составить трехтомное собрание сочинений Некрасова. Анисимов, хорошо знающий Виктора Кондырева (он наследник Некрасова, владеет его архивом), попросил прислать нам некрасовские материалы (эссе, статьи), не печатавшиеся в Москве. Что В. Кондырев очень любезно сделал. В присланной пачке рукописей оказался и рассказ «Король в Нью-Йорке».
Почему Некрасов не напечатал этот рассказ в эмигрантской прессе? Могу высказать только предположение. По-видимому, насмотрелся на эмигрантов, сделавших за рубежом из антикоммунизма профессию и ставших такими же оголтелыми догматиками и пропагандистами, как твердокаменные коммунисты, только с противоположным знаком. (Как некогда Сергей Довлатов написал: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов»). Наверное, Некрасову тоже пришлось познакомиться с такими деятелями, и он решил не «подставляться»: антикоммунисты, устанавливавшие жесткие правила поведения и оценок, вполне могли ославить его как поклонника одного из руководителей советского государства, как тайного, скрытого защитника социализма и прочая, прочая. Все, что не соответствовало их тупым установкам, должно быть отвергнуто и осуждено: надо не иронизировать, как Некрасов в рассказе «Король в Нью-Йорке», а клеймить прогнивший режим.
А теперь небольшое, но, как мне кажется, важное отступление. Ничего из вроде наклевывавшегося трехтомника, увы, не вышло — издателю, видно, показалось, что не принесет он ему желаемой прибыли.
В Киеве на доме, где жил Некрасов, сооружена мемориальная доска, несколько лет назад там выпустили посвященный ему сборник воспоминаний. Хорошо, что земляки чтут его. А Москва, Россия? Ведь он, хотя жил в Киеве, а последние годы в Париже, — русский писатель, в нашей литературе XX века занимает видное место, одна из самых светлых и ярких в ней фигур. Неужели в России меньше благодарных его читателей, почитателей его таланта, чем на Украине? Так почему же до сих пор в России не выпущено ни сборника воспоминаний о нем, ни собрания его сочинений? Он единственный из наших прозаиков первого ряда, у которого ни в советское, ни в послесоветское время не было ни трехтомника, ни даже двухтомника, а запланированный в конце шестидесятых в издательстве «Художественная литература» двухтомник избранных произведений после очередного тура возникших у него неприятностей был угроблен (невеселая эта история происходила на моих глазах — мне с подачи Некрасова издательство заказало предисловие).
Больше чем полтора века назад Пушкин писал с горечью: «…замечательные люди исчезают у нас, не оставляя следов. Мы ленивы и нелюбопытны…». Неужели мы обречены на все это и никак не изживем хронической душевной лени и постыдного беспамятства?
Для своего рассказа Некрасов заимствовал название у известной ленты Чарли Чаплина. Это была, в сущности, подсказка читателям, что написанный внешне во вполне реалистической манере рассказ на самом деле представляет собой фантасмагорию. Подсказка была не лишней для многих, судивших о Некрасове в основном по первой и главной его книге — «В окопах Сталинграда», хотя и в ней, в книге о жестокой войне, есть страницы, в которых сверкает ирония, а в его прекрасных путевых записках ирония и юмор являются важнейшим смысло- и стилеобразующим фактором.
В этом широко бытовавшем в литературной среде мнении отчасти «повинен» сам Некрасов. «Профессиональным литератором не считаю себя и сейчас», — писал он в 1962 году, отвечая на вопросы анкеты журнала «Вопросы литературы». «Я войне должен быть благодарен, — говорил он мне во вполне «домашних» разговорах. — Если бы не война, вряд ли бы стал писателем. У меня нет воображения, мне трудно придумывать. Я могу писать только о том, что пережил или видел своими глазами. Я скорее очеркист, чем художник. И в повестях и рассказах». Конечно, это явное преувеличение. Недаром, когда я в одном из его зарубежных очерков обнаружил два эпизода, которые посчитал сочиненными, и сказал ему об этом, он огорчился — он-то был уверен, что «провел» читателей.
Добавлю к этому, что Некрасов, человек веселый, очень ценил игру, розыгрыши, иногда сам затевал их. Любил и часто вспоминал известные булгаковские «рассказы» о встречах со Сталиным, ставшие частью литературного фольклора (кажется, слышал их из уст Паустовского). В Ялте вместе с Леонидом Волынским снял узкопленочной камерой пародийный фильм «Паола и роман» — Некрасову фильм так нравился, что он привез ленту в Москву и прокручивал нам со своим комментарием. Когда в «Известиях» появилась наделавшая много шума погромная статья «Турист с тросточкой», он у Лунгиных открыл нам дверь, держа в руках трость, а на подаренной мне вскоре книжке «В жизни и в письмах» пририсовал к своему портрету на обложке тросточку и цилиндр.
А дерзкая свобода формы, которую почему-то нынче числят за постмодернизмом, была опробована Некрасовым давно, еще в 1965 году, когда о постмодернизме у нас и слыхом не слыхано было, в рассказе «Случай на Мамаевом кургане». Герой рассказа — сам Некрасов. Уже известный писатель, автор знаменитой повести — через двадцать с лишним лет оказывается снова в 1942 году в блиндажах своих сталинградских однополчан, для которых он никакой не писатель, а все еще полковой инженер. Он уже знает, что было в стране после Сталинграда и как было, а они не знают, не могут знать, как шла война дальше и когда кончилась. И что было потом, в послевоенные годы, не могут знать, что умер Сталин, а на XX съезде разоблачены его злодеяния. Некрасов сводит на своеобразную очную ставку разные времена, чтобы выяснить, что открывается нам в сорок втором году, если смотреть на него сегодняшними глазами, и, наоборот, как выглядит нынешнее время, если взглянуть на него оттуда, из сорок второго года, что приобретено, что утрачено, что было подлинным, что ложным, что следовало сохранить, а от чего избавляться и что еще тяжким грузом висит, давит.
«Случай на Мамаевом кургане» и «Король в Нью-Йорке» не были неожиданным, неповторявшимся зигзагом в творчестве Некрасова, этот опыт он продолжил, написав потом в эмиграции в 1983 году повесть «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы…». В сущности, это автобиографическая проза, но построена книга своеобразно. Автор вспоминает не только то, что с ним было, что случилось в его жизни, но старается представить, что бы с ним могло быть, «если бы…» Если бы, например, в 1915 году мать с ним не вернулась в Киев, а осталась в Париже и он стал бы французским писателем русского происхождения и приехал в Москву, когда представилась возможность, чтобы своими глазами посмотреть, что там, на его родине, делается, как там люди живут. Многое, к чему мы притерпелись, к чему привыкли, кажется этому «двойнику» Некрасову абсурдным, находящимся за пределами здравого смысла и человечности. Вот для чего понадобился автору «двойник». Вплетен он в повествование изящно, мостки от одного к другому Некрасову переброшены легко и свободно, швов не видно. Психологический портрет каждого точен, логика их судеб, реалии жизненного пути достоверны. Внутри же эпизодов — свойственное художественной манере Некрасова жизнеподобие.
С этим даже связана одна почти анекдотическая история: в «Саперлипопет…» есть фантасмагорический, гротескный, но написанный по-видимости, как это свойственно Некрасову, «достоверно» эпизод: скучающий в одиночестве Сталин приказывает доставить к нему писателя, чтобы побеседовать с ним и «обмыть» Сталинскую премию «Окопов». Этот визит превращается в двухдневный «загул», изображенный так колоритно, что один из новоявленных открывателей сенсационных исторических происшествий сослался на него как на непререкаемый исторический факт. Я представил себе, как бы веселился по этому поводу Некрасов. В этом, сочиненном им вслед за Булгаковым, эпизоде Сталин страшный и смешной, но написан он иными красками, чем у Солженицына, Рыбакова, Искандера…
Все это я вспоминаю для того, чтобы предостеречь наивных читателей от искушения сравнивать героя рассказа «Король в Нью-Йорке» с председателем Совета Министров СССР Косыгиным, которого Некрасов в глаза никогда не видел, — только в кино и телевизионных репортажах. Не о Косыгине его рассказ, это вымышленная фигура, а о нашей правящей верхушке, живущей придворными страстями и интригами, в недосягаемой дали от подлинной, реальной жизни.
Но все-таки почему Некрасов выбрал в герои своего рассказа именно Косыгина, а не какого-нибудь другого исторического деятеля?
Несколько лет назад Даниил Гранин напечатал мемуарный очерк о своей встрече и беседе с Косыгиным — они с Алесем Адамовичем работали над «Блокадной книгой» и им, конечно, было интересно выслушать Косыгина, который был тогда заместителем председателя Совнаркома, направленным в Ленинград как представитель ГКО. (Замену в скобках, что в ту пору эта публикация заставила меня в очередной раз огорченно вспомнить о пропавшем, как я тогда считал, рассказе Некрасова.)
Но дело было не только в этом. Косыгин привлекал авторов «Блокадной книги» и другим. Гранин пишет в этом очерке о наших руководителях той поры: «На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов, из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу (курсив мой — Л. Л.)».
После долгих проволочек, утрясок и т. д. Косыгин наконец встретился с Граниным (Адамовича по каким-то соображениям предсовмина отсек). Гранин написал о Косыгине жесткие воспоминания, в «хмурости» предсовмина, так привлекавшей в свое время многих, в том числе и самого Гранина, в его сдержанности, постоянном строжайшем самоконтроле — лишнего слова не скажет, жеста не сделает — Гранин увидел навсегда въевшуюся выучку сталинских времен и нравов: «Усвоено, стало привычкой, вошло в кровь. Любые сомнения в правоте вождя опасны. Чем выше поднимаешься, тем осмотрительней надо держаться, тем продуманней вести себя. Взвешивай каждый жест, взгляд. Оплошка приводила к падению, а то и к гибели».
Некрасова тоже привлекла эта вызывавшая у многих симпатию «хмурость» Косыгина. Об этом непререкаемо свидетельствует его рассказ. Но Некрасову почудилось в этой «хмурости» скрытое, давно накапливавшееся отвращение к ритуальной казенщине, к своим коллегам, безотказным служакам, недовольство своей жизнью и судьбой, долгие годы загонявшаяся тоска по вольному, свободному существованию, вылившаяся вдруг в неожиданный, даже опасный визит к Керенскому, давнему врагу большевиков.
И самое последнее. Рассказ «Король в Нью-Йорке» направлен не только против советских нравов и норм. Взгляните глазами его автора на наших нынешних «тонкошеих» и розовощеких мундирных и безмундирных руководителей, для которых свобода и правда, человечность и демократия — мало чего стоящие слова, слова, слова…
Л. Лазарев
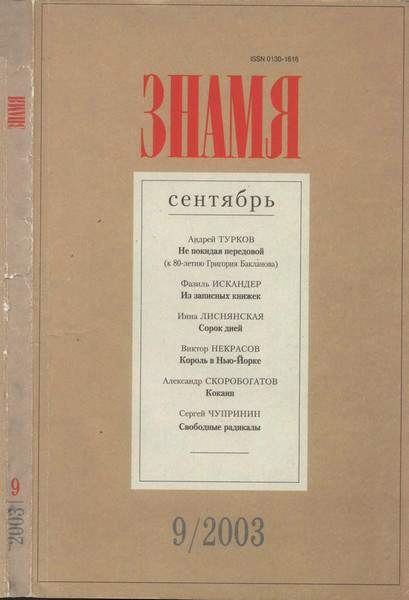



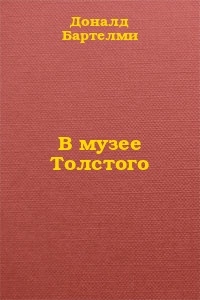

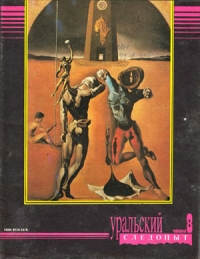




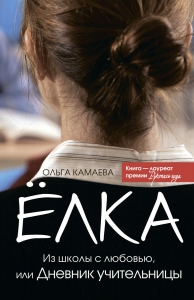

Комментарии к книге «Король в Нью-Йорке», Виктор Платонович Некрасов
Всего 0 комментариев