Гроздь рябиновых ягод Роман Елена Чумакова
Посвящается памяти Халевиной Анастасии Павловны, моей бабушки, человека достойно прошедшего свой долгий, нелегкий жизненный путь.
© Елена Чумакова, 2017
© Елена Чумакова, фотографии, 2017
ISBN 978-5-4474-9097-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Сватовство
Совсем недавно отгремели в Вятской губернии бои Гражданской войны. Привычный уклад жизни был разрушен, власть менялась как погода весной: то белые, то красные, то бунт в Уржуме, то колчаковцы в Ижевске и Елабуге. Крестьяне не знали, кого больше бояться и на кого уповать. Потом голод накрыл черной тенью всю губернию, а следом по городам и селам поползла эпидемия тифа. Слухи, один страшнее другого, будоражили село Пустынники, затерянное в лесах и болотах Вятчины. Но вот года два уже, как беда миновала. И люди, как птицы ранней весной, радовались, что выжили, что год выдался урожайным, что не бродят больше по лесам банды.
Ласковое августовское солнышко согрело каждую травинку на лесной опушке. Удивительно теплый для короткого северного лета день клонился к вечеру. Воздух был наполнен ароматами нагретой земли, полыни, свежескошенной травы. Стайка девушек, возвращаясь с дальних покосов, расположилась отдохнуть под рябинами у тропинки. Настенька, тоненькая невысокая девушка лет двадцати, отмахнулась недоплетенным венком от надоедливой пчелы, прислушалась к разговору подружек. Анюта пересказывала то, что узнала от своего ухажера Мишки-комсомольца о том, какая жизнь начнется скоро в их селе.
– Ну, хорошо, скотину заберут в общий хлев, на подворьях горбатиться не будем, а кто же за ней ходить-то будет? – спросила Нюра.
– Кто-кто, мы, все вместе. Кто-то пасет скотину, кто-то доит, кто-то чистит хлев, кто-то сено возит. Всем работы хватит, – горячилась Анюта.
– Да работы-то всегда хватит, да чем детей кормить будем без скотины на подворье? – подала голос Маша. – Как жить без своего молочка, без яиц, без птицы, без огорода?
– Не помрешь, не боись. Каждому будут давать все, что хошь и сколько хошь. Только трудись – не ленись.
– Я не понимаю, зачем же, с темна до темна, бросив дом, работать на общем подворье? Чтобы мне там дали продукты, которые у меня сейчас свои есть? И просить ни у кого не надо.
– Ну какие вы несознательные, – всплеснула руками Анюта, – нельзя же только о себе думать, рабочих в городе тоже кормить надо. Они вон заводы для всей страны строят. Забыли, как в городах люди от голода на улицах мёрли?
– Забудешь тут… Амбары в селе подчистую вымели… Ладно, скотину успели в лесу схоронить.
– А кто не успел, тот потом лебеду да крапиву ел, – вздохнула Акулина.
Настя, склонив русую головку над венком, думала о своем. Ей было не до разговоров. Перед глазами стоял черноглазый парень, гармонист Георгий из соседнего села. От его улыбки, от его взгляда у нее кружилась голова. Вспомнила, как спрыгнув сегодня со стога, угодила прямо ему в руки.
– Попалась, птаха? – усмехнулся Георгий, – не выпущу!
Настя вырвалась и убежала поближе к бабам. А самой так хотелось прижаться к его груди и затихнуть в его объятиях…
– Ой, девоньки, глядите, едет кто-то, – вскочила на ноги Акулина.
С пригорка, на котором расположились девушки, родные Пустынники и дорога были видны, как на ладони. По дороге действительно пылила телега.
– Так это Крестьяниновы едут, – вглядываясь из-под руки сказала Нюра.
– Вон Егор, вон тетка Марфа и дядя Терентий. Принаряженны… никак свататься едут!
Девушки, побросав венки, напряженно вглядывались, в чей двор свернет телега. Акулина от волнения теребила тесемку. Егор ей нравился – хороший парень, молчаливый, работящий. Да и жили Крестьяниновы крепко, ей за счастье было попасть в такой дом из своей избушки, где семеро по лавкам. Но телега проехала мимо ее двора на околице, миновала второй двор, третий…
– Ой, смотрите, к Шиляевым свернули! Настя, за тобой! – всплеснула руками Маша.
Настя выронила только что сплетенный венок, кинулась в деревню, не разбирая дороги, словно что-то могла еще изменить, завернуть эту телегу в другой двор. Запыхавшись, влетела в родительский дом. Гости уже расположились на почетном месте под образами. Марфа встретила девушку ласковой улыбкой. Она давно присмотрела Настю, дочку подружки своей юности, себе в невестки. Марфа с Евдокией Агеевой вместе росли, вместе на посиделки бегали, делились своими девичьими секретами, в одно лето замуж собирались, в один год детей рожали.
Евдокия родила Павлу троих детей: Паню, Настю и Сережу, да вот вырастить их не довелось. Ранней весной 1911 года пошла на реку полоскать белье к знакомой полынье. Но солнышко пригрело, лед подтаял, кромка и обломилась. Дело было у берега, утонуть-то она не утонула, промокла только. Пока белье дополоскала, совсем застыла. К вечеру начался жар. Местный фельдшер только руками разводил: «Уж что Бог даст, баба молодая, может и встанет…» Не встала. И остался Павел с тремя детьми мал-мала-меньше. Средней дочке всего десять годков исполнилось, не под силу ей было тащить на себе дом, хозяйство. Тогда-то и появилась в их жизни Татьяна, молодая вдова с двумя дочерьми. Соседи сосватали.
Татьяна оказалась хорошей хозяйкой, в доме опять запахло пирогами, дети были ухожены. Но материнской ласки от нее пасынки, конечно же, не увидели. И то сказать, в доме семь ртов, да скотина какая-никакая на подворье, не до нежностей. Вот и росла Настя не избалованной, ко всякой работе приученной. Такая невестка и нужна была Марфе. А Егора уговорить не составило труда: Настя с ее неброской северной красотой давно приглянулась ему. Только не смотрела она в его сторону… «И хорошо, – убеждала его мать, – девушка скромная, на парней не заглядывается, а ты не зевай, а то уведут».
Сам хозяин, Павел Яковлевич, крепкий коренастый мужик с окладистой русой бородой «лопатой», сидел во главе стола. Татьяна, сухая, подвижная баба, с узловатыми от нескончаемой работы руками, суетилась, накрывая стол.
– Давай-ка, подсоби мне, – позвала Настю в сени.
– Ты чего такая растрепанная прилетела? Иди быстро ополосни лицо, причешись, потом возьми вот это блюдо с шанежками и отнеси гостям.
«Шанежки напекла, значит знала. А меня не спросили…» – с горечью подумала Настя. Пока умывалась, причесывалась – успокоилась, приняла решение и в горницу вошла уже спокойно. Села к столу напротив гостей.
– Вот, Настенька, Бог к тебе милостив, хорошие люди сватать тебя приехали, в хорошую семью пойдешь, – ласково улыбнулся ей отец. Он любил свою дочку больше, чем других детей, очень уж напоминала Настьюшка ему первую жену Евдокию: тот же взгляд голубых, как ясное небушко, глаз, тот же нежный профиль, те же тонкие гибкие руки. На такие ручки колечки бы да браслетики надевать, а не белье ими в проруби полоскать да снопы вязать. И откуда у простой крестьянской девушки такой стройный стан, правильные черты лица – один Бог знает. Павел Яковлевич искренне радовался, что дочку сватают хорошие люди, что жить ей в достатке со спокойным добрым мужем. И совсем неожиданным для него оказался ее ответ:
– За Егора я замуж не пойду.
В горнице стало так тихо, что слышно было, как муха бьется об оконное стекло.
– Как это не пойдешь? – переспросил отец.
– За Егора я замуж не выйду, – негромко, но твердо повторила Настя – не люб он мне.
– Эка невидаль, «не люб», замуж выйдешь – полюбишь, – развел руками отец.
– Никогда не полюблю, – глянув прямо в глаза Егору, ответила дочь.
Егор, голубоглазый белотелый парень с уже появившимся брюшком, вскочил, помялся, подбирая слова, махнул рукой и вышел из дома. Мать бросилась за ним. Мачеха, охнув, осела на лавку. Дядя Терентий растерянно почесал затылок:
– Ну, прощевайте, коли так, – и, потоптавшись на пороге, тоже вышел вон.
Глава 2. Отцовское поучение
Солнечный луч, пробившийся в щель между досками сарая, дополз до русой головки спящей на земляном полу Насти. Где-то совсем рядом заквохтала курица, захлопала крыльями. Девушка открыла глаза. Минуту наблюдала за пляшущими в луче света золотистыми пылинками. Окончательно проснувшись, села и тут же застонала от боли. Сильно ныла спина. Сквозь порванную на плече рубаху багровел след от вожжей.
Впервые испробовала Настя отцовский гнев на себе. До этого случая ну разве что отшлепает Павел Яковлевич слегка свою любимицу по мягкому месту, да и то редко. Росла Настенька трудолюбивой, сноровистой, неперечливой, главной помощницей в семье, была нянькой для младших и отцу, сельскому портному, помогала. Потому таким неожиданным для него был ее решительный отказ подчиниться родительской воле. Павел Яковлевич, радея о будущем дочки, радовался, что все складывается, как задумывали они с Евдокией, когда Настенька с Егоркой еще под столом с чурочками играли.
– Да в чем дело-то, с чего ты взбрыкнула? Не чужим людям тебя отдаю, ты ж Егора с малолетства знаешь! Марфа, крестная твоя, к тебе как к дочке относится.
– Нелюб он мне, замуж за него не пойду, – упрямо твердила дочь, – на Акулине пускай женится, она давно с Егора глаз не сводит.
– Постой, может, и ты с кого глаз не сводишь? – догадался отец.
Настя еще ниже опустила голову, теребя сарафан.
– И кто ж это тебе в душу запал?
– Георгий, гармонист… – чуть слышно промолвила дочь.
– Халевин? Этот босяк с гармошкой?! Да он же сирота бездомный! Сам у родственников из милости живет! – отец аж задохнулся от возмущения.
– Куда ж он тебя приведет? Али ко мне в примаки нацелился? Так мне такой не надобен, без его гармошки обойдусь. Дуреха, своей головы не имеешь, на родительскую уповай! Как я сказал, так и будет!
– За Егора не пойду, другого люблю, – вскочила с лавки дочь.
– Пойдешь, еще мне в ножки поклонишься! Я те покажу, как за моей спиной женихаться! – отец сорвал со стены вожжи.
Услышав отчаянные крики Насти, в горницу вбежала Татьяна, кинулась между мужем и падчерицей:
– Стой, Паша, стой! Охолонись, запорешь девку! В сарай ее запрем и будет с нее, посидит – одумается.
Отец, весь красный, швырнул вожжи в угол, схватил дочь за косу и поволок в сарай.
– Через неделю свадьба. А пока здесь посидишь, мать вспомнишь, ее воля была за Егора тебя отдать.
Павел Яковлевич толкнул дочь внутрь, запер дверь. Сам в изнеможении опустился на крыльцо. Руки его дрожали, голова гудела. Испуганная Татьяна принесла мужу ковшик кваса, присела рядом. Никогда она не видела его таким. Павел не был ни драчливым, ни гневливым, но никто и не испытывал его терпения в семье. Он был хозяином, кормильцем своей большой семьи, и потому его слово было законом в доме.
Под примирительное бормотание жены Павел Яковлевич успокоился.
– Ладно, пока не стемнело, съезжу к Крестьяниновым, насчет свадьбы договариваться надо, ежели не передумали…
И уже выводя мерина Гнедко со двора:
– Ты того, бунтовщицу покорми, с утра ведь не евши…
– Покормлю, Паша, покормлю.
Проводив мужа, Татьяна принялась за нескончаемые домашние хлопоты, обдумывая ситуацию, пока руки привычно делали свое дело. Она тоже переживала за исход сватовства. Старший пасынок уже женился, отделился, подался с молодой женой в уездный город. Теперь бы Настю в хорошую семью пристроить, с достатком, чтобы с отца не тянула. Все бы ей, Татьяне, легче. Не молоденькая ведь уже, изробилась за эти годы, пока детей поднимали. Оно конечно, Настя ее первой помощницей была, но ведь и своя старшенькая подросла, есть кем Настю заменить в хозяйстве. А, не дай бог, этого голоштанника в дом приведет? Опять лишний рот в доме…. Заладила, дуреха: «Люб, не люб». Это барыньки только могут по любви замуж идти, а нам, простым бабам, надо мужа с хозяйством каким-никаким выбирать, чтоб детей прокормить мог. Вот она замуж за Павла разве по любви пошла? Намыкалась одна с двумя девчонками, вот и пошла. И ничего, и живут, дай бог каждой так жить. Надо растолковать девке, что удача сама к ней в руки идет, грех отказываться. Отец плохого не посоветует.
Проснувшись поутру в сарае, Настя огляделась, ополоснула лицо водой из кадки. Шанежки и квас, оставленные мачехой вечером, ночью Настя все же съела, голод не тетка. Переживания – переживаниями, но молодость брала свое, организм требовал пищи.
Скрипнула дверь, в щель бочком протиснулась Уля, младшая дочь Татьяны.
– Няня, я тебе поесть принесла, – девочка поставила на чурбачок кружку с молоком, накрыла краюшкой хлеба. Достала из кармана склянку с мазью.
– Вот, мама сказала смазать, где болит. Скидывай рубаху, я помажу тебя, – и ойкнула, зажав рот ладошкой, увидев исполосованную спину сводной сестры.
Целую неделю продержали Настю в сарае. А потом запрягли в телегу Гнедко, украсили его гриву лентами и бумажными цветами, поставили в телегу сундук с Настиным приданым: вышитыми ее руками полотенцами, скатертью, рубахами, новым салопом, нарядили зареванную Настю в светлое ситцевое платье с оборочками и вывезли с родного двора. За воротами ждала уже телега Крестьяниновых. На соломенной подстилке, покрытой ярким лоскутным одеялом, сидели Егор в новой косоворотке и будущие свекор со свекровью. На улице собрались соседи, судачили меж собой. Вон вчерашние подружки щебечут что птахи. Вон выглядывает из своих покосившихся ворот заплаканная Акулина. На околице стоит у плетня Георгий. Картуз на затылке, травинку покусывает, а из-под вьющегося смоляного чуба глаза так и жгут Настю, так и буравят. Настя за сундук схватилась, чтобы не упасть. Отец, сидящий на козлах, обернулся, кнутом Насте погрозил, потом Георгию кнут показал. И покатили телеги дальше в соседнее село, в сельсовет.
Глава 3. Мужняя жена
Сельсовет помещался в просторной избе с широким крыльцом. Раньше в этой избе была церковно-приходская школа, все четыре класса которой закончили Настя и Егор. Настя вслед за отцом поднялась по скрипучим ступенькам. Сухонький старичок в круглых очках и рыжих сатиновых нарукавниках, узнав, зачем пришли посетители, отложил конторскую книгу и полез в шкаф с папками и бумагами. Настя сквозь засиженное мухами окошко с тоской смотрела на зеленую лужайку. Давно ли они с подружками резвились здесь на переменах? Теперь лужайка заросла крапивой и репейником.
Наконец старичок отыскал нужный талмуд, что-то там записал. Ткнул желтым от махорки пальцем в страницу:
– Грамотные? Расписывайтесь здесь и здесь.
Отец подтолкнул Настю к столу, она вывела свою фамилию рядом с подписью Егора. Потом подождали, пока письмоводитель заполнит официальную бумагу и тиснет на нее жирную лиловую печать.
Саму свадьбу решено было играть осенью, по окончании работ в поле, а пока просто посидели у Крестьяниновых по-семейному да и уехали Шиляевы, оставив Настю в чужой избе.
Молодым отвели пристрой к избе, как это было принято в северных деревнях. Стены плели из ивняка, обмазывали глиной. Окон, как правило, не делали, только дверь. Пол земляной для тепла застилали соломой. У Крестьяниновых в пристрое стояла широкая лавка с настоящей периной, застеленной лоскутным одеялом, и подушками в ситцевых наволочках. На стене висел старый овчинный тулуп – укрыться в холодные ночи. Сюда же занесли сундук с Настиным приданым и поставили под иконку в правый угол. На сундуке молодым оставили полкаравая хлеба да крынку с водой.
У Насти кусок в горло не лез. Она старалась держаться как можно дальше от Егора. Еще в избе ей удалось стащить со стола нож и спрятать его под подолом, засунув за подвязку чулка. Егор, наевшись, шагнул было к Насте, забившейся в угол, но у той в руке блеснул нож.
– Лучше не подходи, живой не дамся!
– Тю, скаженная… Ну, не хочешь, не трону…, сильничать не буду.
Егор потоптался, почесал белобрысый затылок и улегся на лавку.
– Да иди, ложись, супротив воли не трону, сказал.
Но Настя села на пол, не выпуская нож.
Егор поворочался, поворочался на лавке, потом встал, снял со стены тулуп и бросил его Насте:
– На, завернись, застудишься еще.
Наутро на немой вопрос матери Егор только головой помотал.
– Ну ничего, скромная девушка, боязно ей. Ничего, обвыкнется, все само и получиться.
Так и потянулись дни и ночи их семейной жизни. Днем Настя ни от какой работы не отказывалась, все так и спорилось в ее руках, Марфу с Тимофеем мамой да тятей звала, а они ее дочкой. А как ночь – Егор на лавку, а Настя в угол на тулуп, ни на какие уговоры не шла. И нож всегда при ней был. Егор похудел, с лица спал, Марфа с Тимофеем запечалились. Марфа уж к бабке-знахарке сходила, десяток яиц ей отнесла. Та ей заговоренной золы дала, велела молодым в еду подмешивать. Но Настя, догадавшись, что за зола в узелке за кувшином припрятана, развеяла ее по ветру и тряпицу выкинула. Марфа долго потом недоумевала, куда узелок тот засунула.
Как-то осенним вечером послали Настю в баню огурчиков соленых из кадки принести. А баня на отшибе от дома стояла, у самого плетня, за которым лес начинался. Показалось ей, что в кустах за плетнем кто-то есть. Уж не волк ли? Испуганная девушка затаилась у стены, готовая юркнуть назад в баню.
– Настя, не бойся, это я, – услышала знакомый голос.
Миг – и Георгий, перемахнув через плетень, оказался рядом.
– Ну, здравствуй, птаха моя. Вот, решил узнать, как живешь с молодым мужем. Забыла друга сердешного?
Настя рассказала, как ей живется, показала припрятанный нож.
– Настенька, милая моя, мне ж без тебя жизни нет! Извелся весь. За тобой я, украсть тебя хочу, раз добром не отдают. Давай сбежим, уедем куда-нито, где нас никто не знает. Двое молодых, здоровых, работящих – не пропадем. А врозь нам не жить. Бежим прямо сейчас!
– Нет, что ты! Не могу я так с хорошими людьми, они ж мне ничего плохого не сделали. А я их ославлю на всё село! Нет, любимый, ты ступай сейчас, я сама от Егора уйду, в родительский дом вернусь. А там, как Егор со мной разведется, приходи за мной, уеду за тобой хоть куда. Но чужой женой, невенчанная, к тебе не пойду.
В избе хлопнула дверь.
– Настя, ты куда запропастилась? – раздался обеспокоенный голос Марфы.
Георгий вжался в спасительную тень стены.
– Иду, мама. Темно в бане, ногу зашибла маленько.
Настя заторопилась в дом.
– Ты скорей уходи от Егора, не могу я без тебя, – раздался шепот ей вслед.
Глава 4. Побег
Прошла неделя. Терпение у Егора кончилось, и он решил действовать силой. Ему ничего не стоило вырвать у хрупкой Насти нож из рук, но девушка так отчаянно царапалась, изворачивалась, что он растерялся, ослабил хватку. Настя тут же вывернулась, выбежала из пристроя, убежала со двора на улицу. Спустя несколько минут Егор вышел за ней, набросил на плечи озябшей жены теплый платок.
– Идем в дом, неча людям глаза мозолить… Да не трону я тебя!
Понурые, молча вернулись в пристрой.
– И долго ты будешь надо мною так-то измываться? Всю душу ты мне вымотала!
Егор сел на лавку, обхватив голову руками.
– Егорушка, миленький, ну разведись ты со мной, я ведь сразу сказала, что не люб ты мне! Ведь знал ты, что силой меня за тебя выдали!
– Развестись? Ишь, чего удумала! Ничего, стерпится – слюбится. Я добьюсь, что люб стану.
– Сбегу я от тебя… – с тоской сказала Настя.
– Я те сбегу! – вскинулся муж, – Я те так сбегу! Догоню, убить – не убью, но покалечу! Сбежит она… Ишь какая… И думать забудь!
Он вышел, хлопнув дверью так, что глина посыпалась. Ночевать Егор не пришел.
Спустя пару дней повез он Марфу в Суну, за покупками да и родню навестить. Тимофей по настоянию сына остался за домом и за Настей приглядеть. Под вечер, прознав, что Марфы нет в избе, заглянул к свекру сосед, дед Степан. Мужики отправили Настю в баню за припрятанной там четветушкой самогона. Настя по пути заглянула в пристрой, быстро собрала узелок, сунула его в кусты возле бани. Принесла бутыль мужикам, собрала кое-какую закуску на стол.
– Ой, а капустку-то съели, – сказала, убирая миску с квашеной капустой подальше на печку, – сейчас сбегаю за ней.
И пока мужики наливали да выпивали, Настя натянула шерстяные чулки, новые калоши, накинула платок, теплый кафтан и побежала к бане. В сумерках нашла свой узелок, перелезла через плетень – и только ее и видели!
Бежать в родные Пустынники решила по лесной тропке, так короче, чем по тракту. А пуще всего боялась, что Егор, вернувшись из райцентра, кинется вдогонку. Разве ей убежать от коня? А ну как, в самом деле, покалечит сгоряча?
Летом парни и девчата из соседних деревень часто хаживали по этой тропинке за рыжиками, Настя дорогу хорошо знала, но осенними сумерками лес выглядел совсем иначе, чем летним днем. Девушка шла быстро, почти бежала, внимательно вглядываясь в тропку. Она боялась сбиться с дороги, заблудиться и оказаться на болоте, в трясине которого не раз гибли отбившиеся от стада коровы.
В лесу быстро темнело. Низкие тучи заволокли осеннее небо, не пропуская свет луны. Где-то над головой заухал филин. От неожиданности и испуга Настя присела. Вспомнила рассказы односельчан о встречах с волками, водившимися в этих лесах. Как большинство молодежи в те годы, она не очень-то верила в Бога, в церковь не ходила, но сейчас слова молитвы «Отче наш» всплыли в памяти, и она непрестанно снова и снова повторяла их.
Тропинка казалась бесконечной, темные ели все плотнее обступали ее, голые ветки кустарников цеплялись за одежду. Ветер донес откуда-то издалека волчий вой. Перепуганная Настя бросилась бежать. Ветки деревьев хлестали по лицу. Она спотыкалась о корни деревьев, падала, в кровь расцарапывая руки, вскакивала и снова бежала. Тропинки под ногами больше не было. И снова раздался волчий вой, теперь с другой стороны и гораздо ближе.
– Пресвятая Богородица, спаси меня! – взмолилась Настя. И тут в просвет между тучами вынырнула полная луна, осветив лес. Настя увидела, что опушка совсем близко, справа, а там, за лугом, родное село. И Настя полетела к избам, словно крылья за спиной выросли. У крайних огородов оглянулась. За ней по лугу неслись темные тени. Единым махом перескочила она через забор, понеслась по грядкам. Еще один плетень, и еще один. Сзади подняли лай собаки. Вот и знакомое крыльцо. Настя, что есть силы, забарабанила кулачками в дверь:
– Отворите, отворите скорей, волки!
Ей показалось, что прошла целая вечность, пока в сенях раздались шаги, лязгнул засов, и дверь, наконец, отворилась. На пороге стоял отец с керосиновой лампой в руках. Настя пронеслась мимо него и влетела в горницу. Татьяна убирала со стола посуду. Увидев растрепанную, исцарапанную в кровь падчерицу, выронила тарелку из рук, ахнула:
– Никак от мужа сбежала?
С печки свесились любопытные головки сводных сестер Маши и Ули. Из-за занавески выглянул младший брат Сергей. Настя обвела всех глазами, потом лица родных закружились вокруг нее, сливаясь в светлый хоровод, в ушах зазвенело, и она медленно осела на пол, теряя сознание.
Очнулась Настя от холодной воды. Увидела над собой перепуганные лица отца, мачехи и… Егора.
– Ну вот, кажись, приходит в себя.
Она села, превозмогая тошноту и головокружение.
– Как ты тут оказался, Егор?
– За тобой приехал. Не дури, Настёна, поехали домой, пока никто ничего не знает. Обещаю, пальцем тебя не трону, только вернись, а?
– Егорушка, миленький, ну не выйдет у нас с тобой ничего путного. Разведись ты со мной и женись на Акулине Шапошниковой. Сохнет по тебе девка. Да и тебе она по нраву, я же видела, как вы с ней на посиделках хороводились. Ну и что ж, что бесприданница, а женой тебе будет ласковой да послушной, не то, что я.
Глаза Егора стали колючими.
– Эх, всю душу ты мне наизнанку вывернула. Да пошла ты к лешему!
Хлопнул в сердцах дверью, загремел ведрами в темных сенях, выбежал во двор. Еле уговорил его Павел Яковлевич, не ехать на ночь глядя, а переночевать на сеновале.
– Неровён час, волки задерут тебя вместе с конем. Да и утро вечера мудренее. Глядишь, к утру успокоится Настя, одумается.
Всю ночь прокрутился Егор на сене, под теплым тулупом, без сна, а на рассвете уехал, не заходя в избу и ни с кем не попрощавшись.
Глава 5. Георгий
В середине осени, накануне Покрова, случаются холодные, но удивительно ясные дни. Солнце светит совсем неярко, а воздух так прозрачен, так по-особому чист, что видно далеко вокруг. Рощи с поредевшей листвой не скрывают больше дали. Тихо. Улетели птицы. В этой тишине любой звук становится звонче, разносится дальше. Во всем чувствуется приближение зимы, вот-вот ударят заморозки, ветки, пожухлая трава покроются к утру инеем, и закружит первая пороша. Крестьяне торопятся управиться до снега с работой в поле, на огороде, на подворье, чтобы долгая, холодная северная зима не застала врасплох.
Георгий, как только рассвело, взялся с дядькой Еремеем за починку сарая. Давно надо подлатать крышу, заменить прогнившие доски, но летом все недосуг было. Тётка Пелагея рубила последние кочаны капусты на огороде. Они с Саней, младшей сестрой Георгия, с утра затеяли квасить капусту.
Геша (так звали его домашние) с сестрой рано остались круглыми сиротами. Ему было лет шесть, а Сане и вовсе два или три годочка, когда родители их отправились по первому снегу в саму Вятку на ярмарку, да так и не вернулись. Были они молодые, работящие, жили дружно, справно. Без дела не сидели. Осип пимы катал, Прасковья, управившись с хозяйством, ему помогала. Старались на совесть, потому и покупателей хватало. А тут корову решили купить, вот и подались в город на ярмарку, хорошие деньги надеялись выручить за свой товар. Детишек оставили на сестру Осипа, Пелагею. Она тогда только-только замуж вышла. Да, видно, не в добрый час поехали. Неделю их не было. Потом прискакал в Халевинцы урядник, увез Пелагею в город, на опознание. Там узнала она, что нашли в лесу под Вяткой рядом с трактом распряженные сани, закиданные еловым лапником, а в них двух убиенных. Ни денег, ни товара, ни тулупов при них не было, лошадь тоже пропала. Среди полицейских оказался один, накануне купивший у Осипа на ярмарке пимы, он и опознал трупы. Убийц так и не нашли. Может, выследили удачливых торговцев лихие люди, а может случайные разбойники подкараулили путников – ищи волков в лесу! А только лишились малыши обоих родителей в один день.
Ну, родственники понаехали из соседних деревень, попричитали, как водится, похоронили Осипа с Прасковьей. После поминок пошумели, деля добро, потом сговорились, дом продали, деньги, скотину поделили да и уехали восвояси. А детишки так и остались у Пелагеи с Еремеем.
Жили трудно, не везло им, как ни старались. То корова в болоте утонет, то козу волки порвут, то лиса в курятник повадится. Двор их крайним от леса был. Своих детей Бог не дал, вырастили племянников как родных. Ну и те их почитали как отца с матерью.
Геша смышленым ребенком рос, пел хорошо, на гармошке сам играть выучился, да так, что его сызмальства на все застолья, посиделки, гулянки приглашали. Платили кто чем мог: то десяток яиц дадут, то крынку молока, то кусок пирога, то каравай – он все в дом нес.
Веселый, бесшабашный парнишка нравился многим девушкам, и он не прочь был поозорничать с ними, пока не углядел Настю. Гибкая голубоглазая девушка с тонкими запястьями и пушистым завитком над нежным ушком запала в душу. Она выглядела совсем девочкой, хотя оказалась старше Георгия на два года. Встречаться толком не встречались, больше переглядывались да перешучивались на посиделках. Провожал Настю с гулянок, но не одну, с подружкой. Сговориться не успели, не думал Георгий, что ее так неожиданно замуж отдадут. И только потеряв девушку, понял, что ему лишь она одна нужна. Ему не елось, не спалось, не пелось, работой старался заглушить тоску.
Сидя на крыше сарая Геша пилил доску, звук пилы разносился далеко в стылом воздухе. Березовая роща, отгораживающая Халевинцы от Пустынников, почти облетела, и ему с крыши была хорошо видна тропинка между селом и родной деревней. По тропинке в его сторону бежала девочка в ладном кафтанчике и теплом платке. Там, где тропинка раздваивалась, девочка свернула в сторону их двора. Геша вгляделся из-под руки, чья такая? Никак Уля, сводная сестренка Насти! Он спрыгнул с крыши и поспешил ей навстречу.
– Что стряслося, Уля?
– Вот хорошо, что я вас встретила, дядя Георгий. Меня Настя к вам послала сказать, что она домой вернулась, сбежала от Егора. Ой, чё было! За ней волки гнались! А следом Егор приехал. Только она вернуться отказалась. А маменька всю Настину одежду отобрала и в сундук заперла. И не выпущает ее никуда! А Настя плачет. А давеча в обморок упала, я думала – померла няня! Но ничего, очухалась. Вот. Я обратно побежала, пока маменька не хватилась.
– Погоди, погоди, я с тобой пойду.
– Куда? К нам? Тятенька вас кнутом встретит!
– Я за банькой спрячусь, там Настю подожду.
– Так ей не в чем выйти, в одной рубахе дома сидит, маменька с нее глаз не спускает.
– Как же быть…? Ты скажи ей, как свечереет, буду ждать ее за банькой. Каждый вечер ждать буду, пока совсем не стемнеет. Авось найдет способ выбежать хоть на минуту.
– Ладно, передам, – уже на бегу ответила девочка и как козочка перепрыгивая через корни, понеслась домой.
Георгий вернулся в свой двор в полном смятении чувств. Радость, тревога, волнение захватили его душу. Мысли, планы метались в голове, как растревоженные кони.
– Что случилось? На тебе лица нет, – ахнула Саня, когда он вошел в избу.
Брат с сестрой с детства были очень дружны, и секретов друг от друга у них почти не было.
– Ульяна Шиляева прибегала, говорит, Настя от мужа сбежала, домой вернулась.
– Батюшки, – всплеснула руками Саня, – что же теперь будет?
– Что-что, жениться хочу, как только бумажку о разводе получит.
– Павел Яковлевич своего согласия не даст. Он мужик с характером, не любит, когда супротив его воли идут.
– То-то и оно! Не даст согласия, так сбежим с Настёной.
– Кто это куда бежать собрался? – в избу вошел дядька Еремей.
– Вы чего тут лясы точите, от работы отлыниваете? Осенний день короток.
Узнав в чем дело, Еремей кликнул на совет жену. Пелагея схватилась за сердце, запричитала:
– Ой, Геша, ну на что тебе эта Настя сдалася? Мало тебе девок в округе? Или вон Наталья-вдова. Дом, хозяйство справное. И сама как пава, не то, что худышка эта. Ей хозяин в дом ох как нужен, привередничать не будет. А Шиляева девка с норовом, как и отец ее. Это ж надо, от мужа сбежала! Слыханное ли дело! Намучаешься с такой. Послушай нас с Еремеем, мы плохого не посоветуем. Присмотрись к Наталье. А то повремени с женитьбой, молод еще. Погуляй, пока молодой, успеешь хомут на шею надеть.
Она оглянулась на мужа, ища поддержки.
– Права тётушка, Геша, права! Правильно тебе советует. Жениться – это тебе не игрушки, какова жена, такова и судьба. Тут десять раз подумать надо! – погрозил пальцем Еремей.
– Ой, а то вы больно думали, когда женились! Мне вон тётя рассказывала, как вы сговорились, – вступилась за брата Саня.
– Так молодые были, глупые, кровь взыграла, – начал было дядя.
– Чего?! – тётя уперла руки в бока, – а сейчас поумнел что ли?!
– Чего вы на него напали? Какая еще Наталья? Она стара для Геши. Настя из-за Гешки от Егора сбежала, любовь у них, понимаете?
Георгий, выслушав всех, хлопнул ладонью по столу.
– Тётушка, дядюшка, вы нам как отец и мать. Спасибо за советы, но это моя жизнь, значит, мне и решать. Поможете нам – всю жизнь благодарны вам будем. Откажете – уедем, куда глаза глядят. Но я Настёну ни за что не брошу. Вот вам мое слово.
А на противоположном конце села Пустынники еще один человек не находил себе места от волнения в этот беспокойный день. Как не старались Шиляевы скрыть от соседей возвращение Насти в надежде, что все как-нибудь утрясется, молва о её побеге со скоростью пожара облетела село. Долетела она и до двора Акулины. Бросив стирку, помчалась она к подруге, невольно ставшей соперницей.
Татьяна встретила ее неласково:
– А ты чего пришла? Чего надо?
– Так я того, за солью. Одолжите маленько? – нашлась Акулина, зыркая глазами по избе.
– Самим покупать надо, нам она тоже не с неба падает, – недовольно ответила Татьяна, но соли в узелок отсыпала.
– Так я пошла за солью, а лавка закрыта чтой-то, а у меня картошка в печке. А вы чего не в настроении? Случилось чего?
– Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Ступай уже.
– Я слыхала, Настя вернулась? – спросила Акулина «в лоб».
– Нет. Ты за солью пришла? Вот тебе соль, вот Бог, а вот порог. Иди-иди, а то картошка твоя сгорит.
Но Акулина успела заметить, как дрогнула занавеска на полатях, и мелькнуло за ней заплаканное лицо подруги.
Домой она летела, как на крыльях. Надежда вновь ожила в ее сердце.
Глава 6. Сладкая ягода
Ночью выпал снег и выбелил всю округу. Даже небо посветлело, стало жемчужно-серым. Георгий, посвистывая, быстро шел по тропке через лес, и снежок весело поскрипывал под сапогами. Он пошел дальней дорожкой, чтобы выйти к огороду Шиляевых незамеченным. В кармане кафтана была припрятана краюшка хлеба, натертая кусочком сала для рыжего пса Гусара, охраняющего Настин двор. Геша по очереди согревал дыханием замерзшие руки и думал о том, что пора уж доставать тулуп и пимы, а пимы бы ещё надобно подшить.
Черные ветви деревьев, опушенные нежно-белым инеем, сплетались в причудливое кружево на фоне серых, словно размытых, облаков. Стайка снегирей вспорхнула с ближней рябины. Вокруг ствола на белом снегу, словно капельки крови, были разбрызганы склёванные ягоды. А на ветвях краснели тяжёлые гроздья, посеребренные инеем. Георгий невольно залюбовался такой красотой, потом осторожно, стараясь не стряхнуть изморозь, сломил несколько веточек. Получился нарядный букет для птахи. Только бы она пришла сегодня за баньку!
Начинало смеркаться, когда он дошел до условленного места. Быстро привыкший к ежевечернему угощению Гусар уже ждал Гешу, дружелюбно виляя пушистым хвостом. Уже несколько вечеров до темноты коротали они время вместе, а Насти все не было. Но вот хлопнула тихонько дверь, заскрипел снежок под быстрыми ножками. Настенька в наброшенном на плечи детском тулупчике сестренки и в чунях на босу ногу бросилась на шею милому.
– Насилу убежала! Тятенька в город уехал да, видать, заночует там. Татьяна прихворнула, в баньке попарилась и на печке заснула. Маша на посиделки пошла, Ульяне поручила за мной приглядывать. Ну а с Улей мы заединщицы. Вот, тулупчик мне свой дала.
– А я тут который вечер тебя поджидаю. Смотри-ко, что я тебе принес, – и Георгий протянул Насте рябиновый букет.
– Ой, красота какая, Геша!
– А ты попробуй ягодки, какие вкусные! И полезные – страсть!
– Так рябина ж горькая.
– Это она до мороза горькая, а как морозцем прихватит, так еще какая сладкая становится!
Настя прихватила губами ягодку и засмеялась:
– Правда, сладкая. Но с горчинкой. М-м-м… зимой и рябина – ягода.
Смеясь и дурачась, ели они алые ягоды с одной ветки.
– Холодно, однако, – поежилась Настя. – А давай в баньке посидим, её ж сегодня топили.
В бане действительно было тепло, но темно. Настя стала нашаривать свечку, но Георгий обнял её, начал целовать сладко-горькими губами, шепча ласковые слова. У девушки закружилась голова, ноги стали ватными и она тихо опустилась на лавку…
Потом они сидели, прижавшись друг к дружке. Геша гладил русую головку, косу, плечи своей птахи.
– Завтра сватать тебя приду, Настёна.
– Да какой сватать?! Бумаги о разводе-то у меня нет. Да и тятенька на тебя взъелся, слышать о тебе не желает. Боится, что ты на его добро заришься.
– Мне ты нужна, а не его добро. Увезу тебя и все. Ты жена мне теперь. К нам в избу пойдешь?
– Да лишь бы с тобой! Бумажек только дождемся, чтобы позору не было.
Со двора раздался шум, залаял Гусар, заскрипели ворота.
– Кажись, тятенька вернулся, – и Настя вспугнутой птицей выпорхнула из бани.
Ей удалось незамеченной шмыгнуть в дом, пока отец распрягал Гнедко. Но Павел Яковлевич услыхал, как Геша скрипнул дверью баньки. Оглянувшись, заметил цепочку следов на свежем снегу до бани и обратно, а возле бани увидел оброненную ветку рябины на притоптанном снегу. В дом вошел хмурый, глянул на зардевшуюся дочку, на остатки снега на чунях, все понял, но промолчал.
Двумя днями позже поехал Павел Яковлевич в соседнее село к Крестьяниновым, долго разговаривали с Егором, с Терентием, выпили пол-литровую бутыль самогону и разошлись по-хорошему. Сундук с приданым так и остался у Крестьяниновых, зато увез Павел Яковлевич бумагу с печатями о разводе.
На обратном пути повстречался ему на околице села Георгий. Тот с гармошкой на плече шел на бабьи посиделки.
– Эй, гармонист, погодь-ка!
Георгий остановился, поджидая, пока отец Насти слезет с передка телеги и, путаясь в полах расстегнутого тулупа, подойдет к нему.
– Что, баб идешь ублажать? – кивнул Павел Яковлевич на гармонь.
– А чего? Всё лучше, чем на печи лежать. Мукой рассчитаться обещали, а она в хозяйстве лишней не будет.
– Ишь ты. Легко тебе хлебушек достается. На гармошке играть – это тебе не землю пахать.
– Да я и пахать могу, когда время настаёт, а зимой кто пашет-то? А хотите, вместо меня на посиделки сходите? Я гармошку одолжу, ваша мука будет, – усмехнулся Георгий.
– Ну, ты нахал!
Павел Яковлевич потоптался, почесал окладистую бороду, сделал еще шаг в сторону Георгия. Тот на всякий случай оглянулся, плетень был рядом.
– А скажи—ко мне вот что, тока честно, что, Настя моя… девка али баба?
– Ну-у… была девка, а теперь уж баба.
– Ах ты, шкодник! – вскипел Павел Яковлевич, замахнулся кнутом на парня, но тот в мгновение ока перемахнул через плетень и остановился на безопасном расстоянии. Отец Насти, хоть и был еще мужиком крепким, но выпитая самогонка и длинный, тяжелый тулуп делали его неповоротливым, а корячиться через плетень на глазах у шустрого парня не хотелось. Поэтому он только погрозил ему кнутом:
– Ещё раз на своем дворе замечу, башку оторву! Обоим!
Дома Павел Яковлевич, никому ничего не сказав, спрятал бумагу с печатями за образа. Решил не торопить события, авось чего и переменится. Но в ближайшее же воскресение соседка принесла весть, что Егор посватался к Акулине, и дело у них сладилось. Новость быстро облетела село. Тут уж пришлось отцу сказать Насте о бумаге. Еще засветло Улечка, добрая душа, отпросившись погулять с подружками, побежала в Халевинцы к Георгию, а там уже кипели страсти.
– Скажи Насте, завтра поутру приеду за ней, – объявил Георгий в присутствии пригорюнившихся Пелагеи и Еремея.
Глава 7. Совет да любовь
Всю ночь снег падал и падал, укрывая тропинки, а к утру еще и подморозило. Георгий встал рано, вышел на крыльцо. Едва дверь открыл – столько снегу навалило. Пришлось прежде всего за лопату браться. Когда закончил чистить двор, уже совсем рассвело. Над заснеженными избами поднимались в морозное небо столбики дыма, словно пушистые кошачьи хвосты, – к морозам.
Геша выволок из сарая сани. Пока чистил их да запрягал старушку Маньку, солнце поднялось уж высоко, и снег заискрился по-праздничному весело. Из избы выскочила Санька с охапкой одежды.
– Вот, захвати-ка мой тулуп, пимы да шаль, а то, говорят, Татьяна одёжу Настину заперла. Вдруг не отдаст. Не лето, чай!
– И то верно. Спасибо, сестренка. Беги в избу, простынешь.
Георгий выехал со двора в радужном настроении, но чем ближе подъезжал к дому Шиляевых, тем беспокойнее становилось на душе. Ворота оказались на запоре. Георгий постучал кнутовищем. В ответ только собачий лай. Наконец скрипнула дверь.
– Кого леший принес? Чего надо? – раздался недовольный голос.
– Неприветливо гостей встречаете, Павел Яковлевич. А я ведь к вам с добрым разговором приехал!
– Тоже мне, гость, – проворчал хозяин, но ворота, всё же отпер, – неча для соседей спектаклю устраивать, в избу проходь.
Татьяна тоже встретила гостя хмуро, руки спрятала под фартук. К столу не позвали, сесть не предложили.
– С чем пожаловал, гармонист? У нас посиделок нету.
– Свататься приехал, Павел Яковлевич, к дочке вашей, Настеньке.
– Ишь ты, жених! Хозяйством справным обзаведись, тогда и свататься приходи. Не пойдет Настя в вашу избушку.
Из соседней горницы выскользнула Настя в одной рубахе.
– Пойду, тятенька! За ним хоть куда пойду!
– Не пущу! – вдруг выступила вперед мачеха.
– Сбежала от мужа, опозорила на все село, сиди теперь соломенной вдовой. У меня две дочери, кто их возьмет, с такой-то славой?! Вот их выдам, тогда делайте, что хотите.
Ульяна бросилась к матери:
– Матушка, отпусти няню, лучше я никогда замуж не пойду, с тобою останусь!
Маша вышла из-за занавески и встала рядом с матерью. Павел Яковлевич тяжело поднялся с лавки, достал из-за образов заветную бумагу с печатью, молча положил на стол и ушел в горницу. Георгий не стал мешкать, подхватил Настю на руки, долгожданную бумагу в карман спрятал. Татьяна заголосила, кинулась к двери, раскинула руки. Но куда там! Георгий оттёр её плечом и вон из избы. В санях завернул любимую в сестрин тулуп, сунул босые ножки в пимы, накинул платок, сам вскочил на передок саней, развернул лошадь и повез Настю с родного подворья. Они не заметили, как из окна провожает их тоскливым взглядом Павел Яковлевич.
– Прости меня, Евдокиюшка! Не такую судьбу для дочки мы загадывали, да, видать, эта дорога ей суждена, что ж поделаешь… – шептали его губы.
Пелагея и Еремей встретили Настю приветливо, справедливо рассудив, что артачиться поздно, а раз уж предстоит им жить в одной избе, то лучше в мире. Саня радовалась новой подружке, ей, в её семнадцать лет, все было любопытно и интересно, она так и вилась вокруг молодых, не оставляя их наедине ни на минуту, пока Георгий не прикрикнул на нее.
На следующий день с утра пораньше в избе поднялась суета. Молодые решили расписаться сегодня же, не откладывая. Пока бабы рылись в сундуках, доставая лучшие наряды, Геша во дворе запрягал Маньку. В сани натрусил свежей соломы, покрыл солому лоскутным одеялом. Еремей тем временем топтался на крыльце, дымя самокруткой.
– Дядя, ты чего в избу не идешь? Замерз, поди.
– Дык, войди, попробуй, бабы визг подымают. Наряжаются оне там…
Настя стояла посреди избы в лучшем Санином сатиновом платье. Луч света из оконца освещал ее ладную фигурку. В русую косу была вплетена шёлковая красная лента, и концы ее спадали вдоль спины ниже талии. Девушка пыталась разглядеть всю себя в небольшом зеркале в темной резной раме, висящем в простенке между окон. Она поворачивалась то одним боком к зеркалу, то другим, напевая:
– Руса коса до пояса, лента ала до запят…
Георгий замер на пороге, залюбовался невестой:
– До чего ж ты у меня хороша, птаха моя! Ну, сани готовы, поехали с Богом.
В сани вместе с молодыми уселись Еремей с Пелагеей, Саньке пришлось остаться дома, поскольку лишнего тулупа в избе не было. Старушка Манька шла неспешным шагом, с трудом таща тяжелые сани. Не было ни бумажных цветов, ни лент в гриве, но зато светились счастьем глаза молодых.
И вновь, как несколько месяцев назад, поднялась Настя по скрипучим ступеням крыльца сельсовета. И тот же старичок в круглых очках и рыжих нарукавниках, глянул на нее сначала сквозь очки, потом поверх очков. Настя засмеялась, спрятала зардевшееся личико за плечо любимого. Все ей казалось весело – и этот старичок, и то, как с любопытством он смотрит на них, как роется в своих талмудах.
После сельсовета поехали в соседнее село, в храм, договариваться насчет венчания. Хоть и не принято было среди молодежи в те годы венчаться в церкви, но так Геша решил:
– Чтобы ты, птаха, не упорхнула от меня никогда.
Договорились о венчании на следующее утро. Воротившись домой, принялись бабы за стряпню, решено было устроить застолье для родни завтра, после венчания. Георгий тем временем отправился на бедной Маньке по дворам, созывать народ в гости.
Первым делом поехал к отцу невесты. Павел Яковлевич встретил Гешу хмуро, но в дом пригласил и сесть предложил. Узнав, зачем гость пожаловал, крякнул, покрутил головой:
– Ай да Настёна, ай да баба, таки повернула все по-своему! Ну что ж, раз такие дела, совет вам да любовь. Береги Настю, хлипенькая она у нас. За приглашение спасибо, только мне по гостям расхаживать некогда, дома дел полно.
– Да какие такие дела неотложные зимой, Павел Яковлевич?
– В хорошем хозяйстве всегда дела найдутся.
Однако, в гости все же пожаловал, с братьями Настиными Паней и Сережей. И не просто пожаловал, а привез сундук с одеждой Насти.
– Приданое твое, Настя, потеряно для тебя, но вещи свои забери. Не голой же тебе ходить.
Мачеха с дочками не приехали. Однако, и без них гостей набилась полная изба. Бабы постарались, напекли пирогов, достали из погреба припасы, нашлись и самогон, и наливочка. А уж гармониста и звать не пришлось, свой был, соловушкой заливался. И даже фотографа из уездного города привезли, всю родню вместе запечатлели!
До сих пор, как драгоценная реликвия, хранится у нас в семейном альбоме эта фотография. Пожелтевшая, помутневшая от времени. И смотрят на меня сквозь толщу десятилетий лица моих родных, тех, кого в живых я уже не застала. Улыбается молодой, задорной улыбкой красавец парень – мой дедушка. Это его единственная сохранившаяся фотография, таким он для меня остался навсегда. Рядом хрупкая девушка с нежным личиком, трудно представить, что это моя любимая бабушка, я-то её помню совсем другой. С этой фотографии я сделала копии для своих внуков, подарю им, когда подрастут. Наши предки живы в наших сердцах, пока мы их помним.
Глава 8. Новые жизни
Отгулялась свадьба, и полетели дни, один за другим, в трудах, заботах, радостях. Пелагея поначалу опасалась, как они, две хозяйки в одной избе, поладят? Боялась, что невестка норовистой окажется, но скоро поняла, что страхи её напрасны. Настя свои порядки не устанавливала, от работы не отлынивала, была ласковой да веселой.
– Ишь ты, окошки у нас больше стали, что ли? Светлее, вроде, в избе стало, – посмеивался в бороду дядя Еремей.
А Настя не замечала ни тесноты, ни бедности, всё ей было в радость. Для неё, неизбалованной родительской лаской да добрым словом, мужнина любовь была живой водой. Это были самые счастливые дни в их жизни.
Находилось время для зимних забав. На святки Саня с Настей затеяли гадание. Пелагея разворчалась было, что не дело замужней бабе гадать, судьбу испытывать.
– Так мы ж не всерьёз, тётушка! Так, позабавиться только.
– То-то, что не всерьёз. По-настоящему разве так гадают!
– А как? Научите, тётушка.
– Да ну вас, до греха доведёте, – отмахнулась Пелагея. Но не удержалась, начала рассказывать да показывать, увлеклась. Она не на много старше Насти была, всего-то на пятнадцать годочков. До петухов в бане гадали!
Так, незаметно, пролетела зима. Молодежь шумно, как положено – был бы повод – отпраздновала масленицу. Потянулись дни поста. Как-то решила Пелагея подать к картошке соленых рыжиков, заглянула в кадушку, а там половины грибов нету. Подивилась – когда успели съесть? Потом укараулила, как Настя рыжики прямо из кадушки вылавливает и ест.
– Ты чегой-то делаешь? Проголодалась, что ли?
– Ой, тётушка, у вас рыжики такие вкусные, прямо удержаться не могу!
Пелагея руками всплеснула, опустилась на лавку:
– Да ты, бабонька, никак в тягости?
Настя только плечами пожала, опыта в этих делах у неё было маловато.
К Пасхе сомнений не осталось, уж и посторонние заметили округлившийся Настин живот. Геша нарадоваться на жену не мог, все-то ему в ней нравилось, как ходит уточкой, как говорит, как смотрит на него. Ему удивительным казалось, что вот тут, в чреве жены, растет будущий маленький человечек, и он, Гешка, – ОН! – скоро станет отцом. Раньше при виде беременных баб он никогда не задумывался о таких вещах, а теперь зарождение новой жизни казалось ему чудом, великой тайной. Вечерами, забравшись на сеновал, они мечтали кто это будет, девочка или мальчик, каким будет этот новый человечек, какая жизнь его ждет. Геша прислушивался к слабым толчкам в животе жены и смеялся от счастья.
Настя с каждым днем становилась всё тяжелее, все медлительнее, по деревне ходила павой, не замечая иных завистливых глаз. Как-то у колодца повстречала двух соседок незамужних. Девушки судачили меж собой, хихикали. Одна Настю окликнула:
– Что, Настя, скоро рожать то будешь?
– Как срок придет.
– Ты бы за мужем лучше приглядывала, а то пока ты с животом дома сидишь, он на посиделках да на гулянках бабам и девкам проходу не дает, щиплется!
Вторая дернула первую за рукав, обе рассмеялись и убежали.
У Насти заныло сердце. Еле дождалась вечером прихода мужа, сразу потащила его на сеновал, подальше от ушей домашних.
– Да чего случилось то? Непорядок какой? Говори, не томи!
– Люди говорят, тебе на посиделках больно весело. Без моего пригляду других баб щупаешь? Это так?!
Геша облегченно вздохнул, рассмеялся:
– И только-то? Я уж думал, стряслось чего…. Ну, люди гармониста для чего зовут? Для веселья. Ущипнешь бабёнку, какая подвернется, она визг подымет, мужики хохочут, всем весело.
Георгий сдвинул кепку на макушку, притянул к себе жену:
– Эх, птаха моя! Сколь чужих баб щупаю, а ты у меня лучше всех!
– Ах ты, кобель! – Настя со смехом ухватила мужа за чуб и потрепала слегка, – смотри у меня!
И упали оба на сено, затеяли возню.
Прошло и лето. Зашуршали дожди, зарделась рябина в роще, птицы, сбиваясь в стаи, потянулись на юг, опустели леса.
В аккурат накануне Покрова Настя разбудила мужа чуть свет:
– Вставай, кажись, началось у меня, моченьки нет терпеть. Беги за фельдшером и тетку Глафиру позови, она знает, что и как делать надо… О-о-ой, мамочка!
От крика проснулись все домочадцы, засуетились, как будто куда опаздывали. Георгий выбежал за ворота, тут только обнаружил, что забыл обуться, кафтан накинул, а сапоги второпях забыл! Пришлось вернуться.
Фельдшер жил в Пустынниках, один на всю округу. В его доме ещё все спали, Георгию пришлось долго стучать и кричать, пока, наконец, его впустили. Он поразился спокойствию и неторопливости старика.
– Хорошо, хорошо. Скоро буду. Сейчас соберусь, чаю попью и приду. Ступай пока за Глафирой.
– Вы не понимаете! Она УЖЕ рожает! Какой чай?!
– Успокойтесь, молодой человек, скоро только кошки рожают. У Насти первые роды, это дело не быстрое, дай бог к ночи разрешится. Баба молодая, здоровая, все будет хорошо.
Когда Георгий прибежал домой, суматоха в доме улеглась. Настя, постанывая и держась за поясницу, ходила из угла в угол. Пелагея гремела посудой, собирая на стол. Вскоре пришла Глафира, её деловитость подействовала на всех успокаивающе. Пришел и снова ушел к другим больным фельдшер, пообещав придти к вечеру. С обеда стоны перешли в крик, Настя то металась по избе, то затихала, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу. Еремей сбежал к свату и носа в избу не показывал. Пелагея тихонько молилась. Георгий места себе не находил. Крики жены гнали его из дома, чтобы не слышать их, он убегал на сеновал, но там тревога не давала покоя, и он вновь бежал в избу. Как стемнело, пришел фельдшер и уже остался в избе. Георгия больше в дом не пускали, но и во дворе он слышал Настины вопли, переходящие в вой. Он смотрел на двигающиеся в освещенных окнах тени, и ему казалось, что этот кошмар некогда не кончится.
К ночи похолодало, посыпался первый снежок. Крики в доме внезапно стихли. Санька выскочила из сеней, выплеснула что-то из таза. На белой пороше расплылось кровавое пятно. Георгий решил, что все кончено, Настя умерла, он упал на колени и зарыдал. Сестра обернулась в дверях:
– Ты чего? Всё хорошо, Настя девочку родила! Погоди еще маленько, сейчас приберемся и тебя позовем.
Настя лежала в подушках на широкой лавке, мокрые волосы прилипли ко лбу, и улыбалась какой-то незнакомой улыбкой, а на руках, у груди, попискивал маленький сверток. Геша опустился на колени рядом с лавкой.
– Смотри, какая у нас дочка! Красавица! Черноглазая и волосики черненькие, видишь? На тебя похожа. Знаешь, я, когда в школе училась, загадала, что когда вырасту, родится у меня дочка, я её Ниной назову, как нашу учительницу звали. Давай её Ниночкой назовем! Вырастет, тоже учительницей будет.
Сказала, как напророчила…
Геша смотрел на красное личико, ищущий беззубый ротик и не видел ничего красивого, но, чтобы не обидеть жену, кивал: «Да, хорошо, согласен…». Потом вдруг сказал:
– Больше ты рожать не будешь! Никогда! Я тебе обещаю!
Через четырнадцать месяцев у Насти с Георгием родилась вторая дочка, на этот раз светленькая, голубоглазая, в маму. Нарекли её «царским» именем – Елизавета.
Глава 9. Путешествие
Летний день клонился к вечеру. Солнце устало прилегло на кроны деревьев дальнего леса. По ухабистой лесной дороге неспешно катилась телега нагруженная сеном. Её с трудом тащила старая кляча Манька. Она уже плохо видела, но дорогу домой находила безошибочно. На телеге, на душистом сене, растянулся Еремей. Георгий, жалея Маньку, шел пешком рядом.
– Ишь, как лягухи расквакались, опять завтра погожий денек будет. С утречка снова поедем на дальние покосы, пока погода стоит, – сказал Еремей, покусывая травинку.
Дорога огибала Бабье болото, названное так потому, что оно изобиловало брусникой да морошкой, и бабы, которые посмелее, ходили туда по ягоды. Дело это было рисковое, болото топкое, и надо было хорошо знать тропку, расположение вешек. Ходили всегда стайкой по несколько человек, зато возвращались с полными туесами.
– И то правда, поедем. И сверчки эвон как стрекочут, к ясному дню. Кабы только Манька не подвела, еле плетется, бедолага. Надо бы новую кобылу купить, – вздохнул Геша.
Еремей сел, подобрал вожжи.
– Знамо дело, надо, да где денег стока взять? Опять же, купишь лошадку, а её возьмут, да отымут. На сходке мужики гуторили, что колхоз у нас будет, всю скотину на обчий двор сгонют. Вот и думай!
– Да-а… и без лошади никак… Манька, не ровен час, помрет в поле.
– В город тебе, Гошуня, подаваться надоть, на заработки. Семья растет, хозяйство маленькое, да и то, того и гляди, отберут. Не прокормимся!
– А на кого ж я Настёну с девчонками оставлю? Малы ведь совсем они ещё…
– Пущай с нами пока поживут, не обидим. Обустроишься в городе-то, заберешь. Нету другого выхода, Геша.
Остаток пути проделали молча, каждый обдумывал ситуацию.
Пару недель спустя Георгий ездил по делам в Суны, вернулся в радостном возбуждении.
– Вот точно говорят, на ловца и зверь бежит. Приехал в уезд, а там вербовщик из Аргаяша. Это большое село где-то на Урале. Там зерносовхоз построили, рабочие нужны. Работа хорошая, при зерне. Опять же, жалование хорошее, подъёмные на проезд дают. А главное, жильё обещают, с семьёй ехать можно! Птичье хозяйство рядом, куры, яйца – сытая жизнь! И озеро рядом, а в нём рыбы полно! И места страсть какие красивые. Собирайся, Настёна, в новую жизнь поедем. В поезде, по железке!
А Санька тут как тут, глаза горят, щеки раскраснелись:
– И я с вами! Тож работать пойду, за птицей ходить буду. А на жалование себе ботиночки со шнуровкой куплю! Хватит в деревне сидеть!
– А что? Хорошее дело. Поезжайте, молодежь. Пора из гнезда вылетать, – поддержал их Еремей.
Пелагея утерла уголком фартука слезинку, но тоже согласилась, что такой случай упускать нельзя. Документы выправили быстро, пожитки собрали еще быстрей. Немного их, пожитков-то, было. И вскорости, вместе с другими добровольцами, уехали они на телегах в Вятку, а оттуда отправились поездом в Аргаяш.
Все пятеро впервые ехали по железной дороге, всё им было интересно, всё любопытно. Семья расположилась на трёх жестких полках в тесном закутке. В вагоне было людно, шумно, накурено. В конце вагона кто-то играл на гармошке. На верхнюю полку ловко забрался здоровый конопатый парень в выгоревшей гимнастерке и вскоре оттуда раздался его негромкий храп. Настя с опаской поглядывала вверх, не обломилась бы полка. Санька с двухлетней Ниночкой на коленях не отлипали от окна, то и дело восторженно вскрикивая:
– Гляди, гляди, машины по дороге едут!
– А это что? Трахтор? Вот бы нам такой, заместо Маньки!
– Гляди-ко, что это? Ероплан? Ероплан! Гляди, летит, взаправду летит!
В Глазове Георгий сбегал на станцию за кипятком. Настя вся извелась от тревоги, как бы он не отстал от поезда. Она чувствовала себя потерянной в этом водовороте людей и событий, ей было страшно за детей, за себя, и она хваталась за мужа, как за спасительную соломинку. А Георгию самому было не по себе от ответственности за семью, тревожно, что там ждет на новом месте, ведь главе семьи самому едва минуло двадцать два года. И только маленькая Лиза спокойно спала у материнской груди, её ничего пока не тревожило.
На рассвете Настю, забывшуюся беспокойным сном, разбудил паровозный гудок. Села. На соседней полке спали, свернувшись калачиком, как котята, Саня с Ниночкой. Лизонька тихонько посапывала, завернутая в теплый платок. Георгий растянулся на верхней полке, положив под голову узел с вещами. Поезд, мерно постукивая колесами, огибал берег широкой, полноводной реки. Настя никогда не видывала столько воды! Мощные ели местами подступали к самой кромке берега. А впереди, на горизонте, синели далекие горы. У неё дух захватило от такой красоты. Ушла куда-то тревога из души, пришла уверенность, что впереди их ждёт счастливая, интересная жизнь, и сердце открылось навстречу этому прекрасному миру. Река то уходила вправо, то вновь подходила к самому железнодорожному полотну. За окнами замелькали железные перекрестья моста, теперь река несла свои воды прямо под поездом.
– Вот и Каму переехали, сейчас вокзал будет, забирай узлы, прибыли, – сказал кто-то рядом, за переборкой. За окнами действительно медленно проплывало длинное желтое здание вокзала с двумя шпилями. Пермь.
Настя набралась смелости и вышла из вагона оглядеться, подышать воздухом. После духоты в лицо пахнула утренняя свежесть и специфический аромат железной дороги: смесь запахов металла, машинного масла, дыма. На крытом навесом перроне, несмотря на ранний час, было шумно, многолюдно, суетливо. Со всех сторон раздавались паровозные гудки, лязг железа, говор, выкрики мальчишек, продающих папиросы, газеты, баранки. Настя крепко держалась за поручень вагона, боясь отойти хоть на шаг и крутила головой, удивленная этим кипением жизни.
В Перми освободившиеся по соседству места в вагоне заняли парень в тельняшке и две девушки, обе в темных, едва прикрывающих коленки, прямых юбках и красных косынках. Девушки держались смело, громко переговаривались, задорно смеялись. Из их разговоров стало понятно, что молодые люди работают на строительстве какого-то завода и едут в Екатеринбург на курсы. Они говорили о плане, съезде, ОСОВИАХИМе, пятилетке, землеройной машине, и о других незнакомых, малопонятных вещах, горячо обсуждали какого-то Наджафова, который «срывает план». Настя и Саня притихли, наблюдая за этой троицей, Настя настороженно и с любопытством, а Санька с восхищением.
После Перми природа за окном вагона изменилась. Поезд шел между гор, становившихся всё выше, дорогу обступали мощные кедры, разлапистые ели, перемежающиеся березами и осинами. Между гор взгляду открывались озёра с чистой водой, отражающей скалистые берега. Дорога то поднималась вверх, и перед глазами разворачивались лесистые дали, то перед окном вдруг вырастала слоистая стена уходящей вверх горы. И всюду бурлила жизнь, рылись котлованы для строящихся заводов, прорубались просеки для будущих дорог, возводились мосты. Родина оправлялась после войн и революций, поднималась из разрухи, нищеты и расправляла крылья.
Наши путешественники весь день не отходили от окна, молодая страна словно разворачивала перед ними всю свою красоту и силу. Всеобщий энтузиазм передался и им, на месте не сиделось, хотелось вместе со всеми строить эту новую, такую манящую, жизнь.
К ночи добрались до Екатеринбурга. И вновь были поражены обилием и яркостью огней, большими домами, асфальтированными улицами, наполненными машинами, людьми, впервые увидели трамвай. А утром, со всеми узлами и мешками, высадились на перрон станции Челябинск. Отсюда предстояло добираться на местном поезде по другой ветке. Ехать было недалеко, да ждать пришлось часа три. В шумном, грязном зале ожидания в толпе шныряли беспризорники, наглые, как воробьи. Стоило Георгию отойти, а бабам отвлечься на раскапризничавшихся детей, как уж узла не досчитались. Саня кинулась было за пацаном, да где там! Тот словно растворился в толпе.
Только к вечеру прибыли, наконец, измученные путешественники в Аргаяш.
Глава 10. Аргаяш
Аргаяш оказался большим селом, выросшим рядом с железнодорожной станцией. Эта железная дорога вместе с проходившим через село Челябинским трактом, словно артерии, питали поселок, давая ему силы для быстрого роста. Широкие, прямые улицы быстро застраивались добротными домами за крашенными дощатыми заборами. Рядом со станцией был элеватор, где предстояло работать Георгию, поодаль находилась птицеферма, строились мастерские. Улицы сбегали к широкому озеру, в тихой глади которого отражались ивы и зелёные холмы. Через село по тракту пылили полуторки, трактора. На площади возле клуба, где на высоком столбе говорил и пел репродуктор, по вечерам собиралась молодежь. Да и бабы постарше любили пощелкать семечки, послушать радио, усевшись на лавочке под старой березой на краю площади.
Поначалу семью Халевиных определили на постой в просторный, светлый дом на улице Элеваторной, недалеко от станции, выделив им чистенькую, уютную комнатку. Хозяин дома, пожилой башкир, новых жильцов, казалось, не замечал. Невысокого роста, кривоногий, с округлым брюшком, он ходил по двору важно, словно петух, изредка покрикивая на незнакомом языке на жену. Та смотрела на него глазами дворовой собачонки, которая робко повиливая хвостом, заглядывает в лицо хозяину, пытаясь угадать, пнет он её или приласкает.
Хозяйка в молодости, видать, была красавицей. И сейчас еще на неё приятно было посмотреть. Стройная, с блестящими, как смородины, глазами, она быстро сновала по двору, и тихий звон её монист слышался, казалось, сразу отовсюду. Черные с густой проседью волосы были заплетены в две толстых косы, спускавшихся по спине аж до пояса. Робкая и молчаливая с мужем, с жильцами она держалась важно, с удовольствием выговаривая им по каждому поводу: то белье не там развесили, то самовар не там поставили, то дети, играя, забежали на хозяйский огород. Делая очередное замечание, хозяйка с достоинством добавляла: «Мин ведь хожяин!».
Для семьи Халевиных началась совершенно новая, интересная жизнь. Георгий начал работать на элеваторе. Его старательность, грамотность, ответственность оценили, вскоре назначили учетчиком. Саня пошла работать на птицеферму, как и хотела, а вечерами училась в рабфаке. На первую же зарплату купила себе заветные ботиночки на шнуровке, красную косынку, коротко остригла волосы, и уж не узнать было в этой бойкой девушке вчерашнюю деревенскую Саньку.
Настя домовничала, без дела не сидела. По случаю Георгию удалось купить зингеровскую швейную машинку, тут-то и пригодились уроки отца, деревенского портного. Настя обшивала маленьких дочек; мужу, себе, золовке обновы шила.
Как-то Георгий вернулся с работы в радостном возбуждении.
– Птаха, скоро у нас свой дом будет, своё хозяйство! Вызвали меня, значит, с утра к начальству. Ну, думаю, чем провинился? Пришёл. Меня в кабинет пригласили, за стол усадили, длинный такой. Ну, директор там, главный бухгалтер, ещё кто-то, я со страху и не разглядел.
– Вот, говорят, Георгий Осипович, решили вам, как хорошему работнику, опять же, семью имеющему, выделить ссуду на покупку али строительство своего дома. Будете в своём доме жить с детками, работать да ссуду-то выплачивать. Ну, я, понятное дело, обрадовался! Так что собирайся, Настёна, пойдем дома, которые продаются, смотреть. Мне на работе подсказали адреса.
К зиме семья переехала в свой дом, небольшой, но добротный, с высоким крыльцом, светлой верандой. Дом стоял на Озерной улице, часть окон смотрела на тихую, обсаженную березами улицу, а часть на озеро Аргаяш. К дому примыкал огород.
В душе Георгия проснулся хозяин, всё свободное время он обустраивал своё гнездо: первым делом поставил во дворе баньку, огородил штакетником палисадник перед домом, весной покрыл крышу железом, покрасил её красным суриком, соорудил качели дочкам, около крыльца врыл в землю скамью, а рядом посадил рябинку.
– Вот дерево так дерево, всегда глаз радует: по весне цветами, летом кружевной листвой, осенью красными гроздьями да багряными листьями, и зимой нарядное стоит, издалека его видать! Летом в тенечке на лавочке будем сидеть, округой любоваться, а зимой чай рябиновый пить будем, здоровья набираться.
И рябинка под добрые хозяйские речи прижилась, на удивление быстро в рост пошла, уже к следующей осени ягодами порадовала.
И тогда же пришлось Геше мастерить люльку для долгожданного сына. Мальчик родился раньше срока, слабенький, видно слишком мало Настя отдыхала, много работала. Родители боялись, что не выходят сыночка. Но малыш оказался цепким, окруженный любовью родни, быстро рос, набирал вес, и вскоре Настя перестала опасаться за его жизнь. Имя ему выбрали пышное, звучное – Вениамин.
Больше всех радовалась появлению братика четырёхлетняя Ниночка. Она охотно присматривала за ним, пока мама стряпала, качала люльку, чувствуя себя главной маминой помощницей. Пожевав ржаной мякиш, заворачивала его в чистую тряпицу и совала в маленький ротик. Малыш, почмокав, затихал, тараща на сестру черные, как у неё, глазенки.
Чтобы побыстрее рассчитаться с ссудой, да и чтобы в доме копеечка водилась, Георгий взялся за отцовское ремесло, закупил нехитрое оборудование, установил его в бане и начал вечерами катать пимы. Дело пошло, пимы получались лёгкие, тёплые и прочные, односельчане охотно их покупали.
Настя поначалу помогала мужу, но вскоре и ей дело нашлось. К следующей зиме сшила она детские полушубки дочкам, да такие ладненькие, загляденье просто! Потянулись соседки с просьбами сшить и их деткам такие. А потом и взрослые полушубки навострилась шить.
И муж, и жена трудились не покладая рук, в доме появился достаток. Весной купили, наконец, корову, осуществилось давнее Настино желание. Имя кормилице придумала Санька, красивое, чуднОе – Марсельеза. Настя утирала слёзы радости, оглаживая бока своей коровы, с благодарностью глядя на мужа:
– Вот, видел бы тятенька, каким хозяином ты оказался, как справно мы живём, по-другому бы к тебе относился.
Однажды в воскресенье вернулся Георгий с ярмарки с большим деревянным ящиком, резным, лакированным. Поставил его на стол, усадил Настю, Саню, дочек на стулья, как в клубе, поколдовал над ящиком, покрутил какую-то штуковину сбоку, и вдруг к изумлению баб полилась из ящика музыка, звонкий женский голос запел:
– Валенки, валенки, ой да не подшиты, стареньки…
– Во! Патефон называется! Теперь весело жить будем, с музыкой! Вместо гармошки играть будет.
Озорно блестя глазами, Геша пустился вприсядку, Настя, раскинув руки, поплыла вокруг него, дочки, хлопая в ладошки, запрыгали рядом.
С первыми тёплыми днями занялись огородом, тут уж Саня взялась за дело, сама копала, сажала, поливала, нравилось ей возиться в земле. Всё у неё получалось, с лёгкой руки росло и плодоносило.
Раз жарким летним днём, подоткнув повыше подол и отмахиваясь от назойливых мух, полола она грядки. Вдруг яблочный огрызок шлепнул её по спине. Саня выпрямилась, оглянулась. За изгородью, сдвинув кепку на затылок и поставив ногу на жердину, стоял рослый парень в выгоревшей гимнастёрке.
– Ну, вот и личико увидел, а то смотрю, смотрю… – белозубо улыбнулся парень.
Саня зарделась, быстро одёрнула подол.
– А ты, чем без дела-то стоять, забор подпирать, помог бы лучше…
– Да это мы мигом…, запросто.
Парень одним прыжком перемахнул через изгородь и оказался рядом.
– Ты кто такой шустрый будешь? Откуда взялся? Что-то я тебя раньше здеся не видела?
– Сосед ваш, похоже. Иваном зовут. Из армии только-только вернулся. А ты кто такая будешь, дивчина?
– Саня я… мы тут недавно живем… с семьёй брата.
– А что, Саня, может, вечерком прогуляемся к клубу? Кино обещали привезти.
– Некогда мне, вон еще сколько полоть.
– Дак, это мы мигом, вдвоем-то.
Настя, стиравшая во дворе бельё, с удивлением увидела в огороде две согнувшиеся над грядками спины. Рассматривая из-под руки помощника, шепнула:
– Ну вот, кажись, и твоё время настало, золовушка.
Глава 11. Дуся
Свадьбу Ивана и Александры сыграли накануне масленицы. Молодёжи набилось – полный дом, из старшего поколения были только родители Ивана, важно восседавшие в красном углу. Помощниц у захлопотавшейся Насти оказалось больше чем достаточно. Девушки, весело переговариваясь, сновали из кухни в комнату с тарелками, блюдами. Парни двигали столы, лавки, толпились около патефона, перебирая пластинки.
– Едут, едут, – раздался крик с улицы, и вся молодёжь гурьбой высыпала на заснеженный двор. Вперёд протиснулись новоиспеченные свекор со свекровью, держа в руках каравай на полотенце. Второпях забыли солонку, кто-то побежал за ней. В разгар кутерьмы ко двору подкатили сани с молодожёнами, лошадьми правил раскрасневшийся от морозца, довольный Георгий. Свадьба, гулянье – это была его стихия.
Настя во двор не пошла, смотрела на всё в окошко. Наконец шумная компания вернулась в дом. Невеста скинула полушубок, белый оренбургский платок, сняла пимы, надетые прямо на аккуратные туфельки с ремешками и встала рядом с женихом. Настя ахнула, опустилась на стул, да и все на мгновение притихли. Полно, Санька ли это? Куда делась бойкая комсомолка? Перед ними стояла, зардевшись от смущения, нежная девушка. Модная прическа, светлое крепдешиновое платье с волнующейся вокруг круглых коленок юбкой, прозрачная фата, перехваченная атласной лентой, фильдеперсовые чулочки на стройных ножках. Словно видение из какой-то другой жизни. И хоть Настя своими руками шила платье, мастерила фату, сейчас, увидев всё это на золовке, была поражена результатом.
Вдруг она почувствовала легкий толчок, новая жизнь, зародившаяся в ней, впервые дала о себе знать.
После свадьбы Санька перебралась в дом Крапивиных. Вроде рядом, соседняя изба, однако, семейная жизнь, работа, учеба не оставляли ей свободного времени. Настя осталась без помощницы. Трое малышей, четвертый на подходе, хозяйство, корова – нелегко было управляться со всем этим. Но, видимо, ангел-хранитель простёр над ней своё крыло, помощь пришла с неожиданной стороны.
Солнечным апрельским днём Настя отправила детишек играть во двор, сама взялась за уборку. Управившись с полами, выглянула во двор. Детей там не было. Испуганная Настя выбежала за ворота. Навстречу ей, держась за руки, шли ревущие дочки.
– Где Веночка? – выдохнула Настя
– Он спрятался-а-а… Мы играли в прятки. Мы спрятались, а он нас искал, а сам потерялся-а-а, – размазывая слёзы и перебивая друг друга, объяснили девочки.
Настя заметалась по улице, не зная, в какую сторону бежать. Из переулка вышла женщина. Она бережно прижимала к своему светло-бежевому пальто перемазанного в грязи Веночку.
– Ваш беглец? Держите. Иду, а он в канаве барахтается. Узнала соседа.
Настя много раз видела эту женщину, она жила в доме напротив, но разделяла их не только улица.
Однажды, в первые дни жизни в новом доме, Настя заметила, что муж замер у окна. Она подошла и выглянула тоже. Калитку дома напротив закрывала молодая женщина в синем пальто с меховой горжеткой, в низко надвинутой шляпке и в ботиночках на каблучках. Таких разряженных дамочек Настя никогда не видывала, разве что на журнальных картинках.
– Ничего себе! Это кто такая? – ревниво спросила она мужа.
– Соседка, жена нашего главного бухгалтера Степана Игнатьича. Хороша баба, жаль – пустоцвет.
– Как это?
– А так. Сколь живут, а детей нет. Потому и пустоцвет.
Настя быстро перезнакомилась со всеми ближними соседками, кроме этой. Дамочка, всегда нарядная, молча проходила мимо. Ну и Настя не лезла к незнакомке, ей своих хлопот хватало. Она не догадывалась, как часто та с тоской наблюдает из-за кружевной занавески за играми её детей, то смеется над их проказами, то вытирает непрошеную слезинку.
После того случая с Веночкой женщины познакомились, а вскоре и подружились. Дуся (так звали дамочку) оказалась милой, доброй. После несчастного случая, приключившегося с ней в молодости, детей у неё быть не могло. Однако, жениха её это не отпугнуло. Будучи много старше своей жены, он относился к ней, как к своему ребенку, баловал, наряжал, но на работу не отпускал. Да она и не рвалась. Денег в семье хватало. Дуся коротала время в заботах о доме, о себе, да в вязании многочисленных кружевных салфеток и воротничков. Приятельниц у нее было немного, все такие же, как она, жены местных начальников. Дуся скучала в их компании.
Узнав, что Настя умеет шить, соседка упросила её принять заказ на платье, потом еще на одно. А пока Настя сидела за швейной машинкой, та играла с детьми или уводила их к себе в гости.
Дети к новой знакомой шли охотно, всё в её доме было для них удивительно: и чёрный блестящий диван с выстроившимися на полочке поверх кружевной салфетки семью слониками, и высокий фикус с гладкими блестящими листьями, и большое зеркало в резной раме, висящее напротив входной двери, и абажур с бахромой над круглым столом, покрытым кружевной скатертью, и настоящий мягкий ковер под ногами, вместо половичков. Но больше всего поразило их радио, не такое, как квадратный рупор на столбе около клуба, а свое, в деревянном ящичке. Дети с любопытством вслушивались в музыку и голоса, доносившиеся сквозь легкое потрескивание. Девочки заворожено листали книжки и журналы с яркими картинками или наблюдали за быстрыми пальчиками Дуси, ловко орудующими крючком, а Веночка играл со слониками.
В конце июля, в самую жару, родилась в семье Халевиных ещё одна дочка. Теперь Дуся проводила в их доме всё свободное время, помогая купать, пеленать, баюкать малышку. Она же стала крёстной мамой девочки, отдав ей всю свою нерастраченную любовь. Степан Игнатьевич поначалу радовался, что жена больше не тоскует, потом слишком сильная привязанность её к чужим детям стала его тревожить, но изменить он ничего уже не мог.
Девчушку назвали Галочкой. Спокойная черноглазая кроха быстро стала всеобщей любимицей. Так, в заботах, трудах и радостях незаметно текли дни, сливаясь в недели, в месяцы, в год.
Теплым осенним вечером вышла Настя во двор, присела в ожидании стада на лавочку рядом с мужем под подросшей рябинкой.
– Смотрю я на тебя, птаха моя, и удивляюсь. Другие бабы одного родят и уж поперёк себя шире, что поставить, что положить. А ты у меня четверых родила, а всё как тростинка. Вроде как не кормлю тебя. Иной раз страшно становится, кабы не переломилась. Ну, ничего, зато я у тебя вон какой здоровый, от всех невзгод укрою. Ты, главное, прислонись ко мне поближе, – и Геша обнял, притянул к себе жену.
– Да ну тебя, балабол, – шутя отбивалась Настя, – лучше сорви мне во-о-он ту гроздь рябины.
– Рано, горькие еще ягоды-то, морозов дождись. А вон и стадо гонят. Иди, встречай Марсельезу. Через месяц отелится, прибавится нам забот. Как ты думаешь, бычок али телочка будет?
– Да лишь бы разродилась благополучно, в первый то раз…
Настя вышла за ворота, высматривая из-под руки свою любимицу. Коровы, козы разбредались по дворам, вот и последняя прошла, Марсельезы среди них не было.
– Отстала, что ли? Видал я её, как стадо гнал. Надоть искать… – почесал затылок пастух.
До поздней ночи искали корову Георгий с пастухом. Настя места себе не находила от тревоги. Геша вернулся уже заполночь, устало опустился на лавочку. Настя все поняла по его лицу. С последней надеждой спросила:
– Что с Марсельезой? Не нашли?
– Нашли. Нет у нас больше ни коровы, ни теленочка… На рельсы забрела, поездом сбило.
Настя кинулась к калитке, Георгий перехватил её, усадил на лавку.
– Не надо тебе туда. Там уж свора собак собралась…
– Пришла беда, отворяй ворота… – побелевшими губами прошептала Настя.
И опять, сказала – как напророчила.
Глава 12. Горькая ягода
Накануне весь день и всю ночь шел снег, укрыв чистой простынёй грязные мартовские сугробы. С утра казалось, что вновь пришёл ноябрь, с первым снегом, холодным ветром, даже в воздухе пахло морозцем. Но с обеда выглянуло солнышко и слепило глаза, отражаясь от искрящегося покрова.
Георгий в хорошем настроении возвращался из города на площадке товарного вагона. Несмотря на начало весны, всю партию пим удалось сдать в лавку по хорошей цене. После гибели Марсельезы Геша с удвоенным рвением взялся за свой приработок, пропадая в баньке с ужина до поздней ночи. С четырьмя детьми своя корова ох как была нужна! Вот и бились они с Настей без отдыха, стараясь и ссуду за дом вовремя выплачивать, и заработать денег на новую корову. Постепенно стопка кредитных билетов в шкатулке, припрятанной в погребе, росла, уж немного осталось собрать.
Георгий поёжился, стараясь спрятаться от пронизывающего ветра за высоким воротником овчинной борчатки. Вот показалась околица Аргаяша. Совсем рядом Озёрная улица, только неширокое поле перейти, даже крышу родного дома видать. Поезд сбавил ход. Недолго думая, Геша спрыгнул с площадки вагона в сугроб. Летом и осенью он всегда так делал, чтобы не топать от станции до дома лишние километры. Но одно дело перейти поле летом по травке, совсем другое – зимой, по сугробам. Жёсткий наст с хрустом ломался под ногами, Георгий проваливался при каждом шаге по колено, а то и выше. Уже через несколько шагов ему стало жарко, спина взмокла. Он снял рукавицы, шапку, расстегнул борчатку. Наконец выбрался на дорогу.
Во дворе крайнего дома бабка перебирала поленницу. Георгий остановился отдышаться у изгороди.
– Мамаша, водички попить найдется?
– Отчего не найдется? Найдется, милок. Кваском тебя угощу.
Бабка принесла из сеней ковшик холодного кваса. Геша выпил его залпом.
– Хорош квасок, спасибо мать.
– На здоровьице, соседушко, на здоровьице…
До дома оставалось пройти всего несколько дворов.
К вечеру Геша начал мерзнуть в тёплой избе.
– Холодно у нас, надо бы печку подтопить, да что-то сил нет, – сказал жене.
Настя удивилась, оставив недомытую посуду, обеспокоенно приложила руку ко лбу мужа.
– Да у тебя жар… ты сам как печка!
Два дня Настя хлопотала вокруг мужа, заваривала травы, протирала самогоном, бесконечно меняла влажные компрессы на горячем лбу. Ничего не помогало, Геше становилось все хуже. Приглашенный из сельской амбулатории молодой врач, едва послушав его через стетоскоп, озабоченно потёр переносицу:
– Двустороннее воспаление лёгких. В город везти надо, в больницу, здесь не выходим.
Проехать по весенней распутице на санях или в телеге нечего было и думать. Пришлось искать машину. Гешу с трудом подняли в кабину полуторки, Настя, оставив детей на золовку, тряслась в кузове.
Дорогой вспомнилось, как совсем недавно, осенью, муж на руках нёс её, больную, в амбулаторию. Он нёс жену, как ребёнка, завернув в тёплое одеяло.
– Вот помру, что будешь делать один с четырьмя детьми, – сетовала Настя.
– Что делать, что делать? Женюсь да и буду растить детей, – усмехнулся Геша, бережно прижимая ношу к груди.
– Ишь ты, женюсь! Я те женюсь! Вот назло не помру, – Настя сердито ткнула его кулачком в плечо.
– Вот-вот, так и знай, нельзя тебе помирать.
В больницу приехали за полночь. Дежурный фельдшер, зевая и ворча, что «местов нет, класть некуда» долго шуршал бумажками. До утра больного устроили на диванчике в коридоре, измученная Настя прикорнула рядом, прямо на полу.
К утру Геша начал бредить, дыхание стало хриплым. Осмотревший его врач, щуплый, подвижный старичок в старомодном пенсне, скомандовал медсестре:
Срочно готовьте операционную и больного. Гнойный плеврит. Будем оперировать.
Для Насти время потянулось как в страшном, вязком сне, от которого невозможно избавиться. Несколько дней после операции она не отходила от больничной койки в длинной переполненной палате, спала, сидя на стуле, почти ничего не ела. Наконец, Геша пошел на поправку. Снизилась температура, кашель стал мягче, он начал понемножку есть. В правом боку из-под бинтов торчала резиновая трубочка.
Настя вернулась домой к детям, но каждый день ездила в город навещать мужа. Оба повеселели, радуясь, что самое страшное позади, строили планы.
– Ничего, птаха моя, я здоровый, подымусь скоро. Вот еще чуток поваляюсь, и подымусь. А летом коровку купим.
Забывшись, Геша повернулся на больной бок, и тут же застонал, закашлялся. Дренажная трубка ушла в рану, на повязке выступила кровь. Перепуганная Настя побежала за врачом. Через час после перевязки и укола Геша уже улыбался жене.
– Поезжай домой, Настёна, поздно уже. Пока доберешься, ночь настанет.
С тяжёлым сердцем уходила Настя из больницы, а утром вновь, чуть свет, засобиралась в город.
Войдя в палату, Гешу не увидела, на его койке лежал голый матрас. Сосед, кряхтя, сел, спустил тощие ноги с кровати.
– Нету его, не ищи, умер под утро, горемышный, в морг увезли.
Свет померк в глазах Насти.
Вербное воскресенье выдалось тёплым. Остатки грязного снега еще лежали в низинках с северной стороны дома и баньки, а лужайка за домом уже просохла, покрылась первыми, самыми отчаянными травинками. Солнышко награждало их за смелость своим живительным теплом. Нина, Лиза и Вена играли на лужайке в камешки. Двухгодовалая Галочка, сидя на поленнице, баюкала тряпичную куколку, сшитую Дусей для своей крестницы. Девочки были одеты в одинаковые байковые пальтишки с пелеринками, Веночка в тёплый кафтанчик. Детские ножки грели хлопковые чулочки, добротные ботиночки. За дом заглянула соседка:
– Дети, идите в избу, вашего папу привезли.
С криками: «Ура! Папочка приехал!» ребятня побежала домой.
После яркого солнца в горнице царил полумрак. Посреди горницы стояли две табуретки, на них незнакомые мужики устанавливали гроб. Заплаканная тётя Саня пристраивала свечку в папиных руках. Ошеломлённые дети замерли на пороге. Только Галочка протопала крепенькими ножками вперёд, похлопала по отцовской руке:
– Папа… папа пит?
И повернулась к остальным, приложив пальчик к губам:
– Тс-с-с, папа пит.
В углу за печкой, безучастно покачиваясь из стороны в сторону, сидела женщина в черном платке. Дети не сразу признали в ней мать.
Хоронили Георгия без Насти. Она так и не встала с табуретки, не понимая, чего от неё хотят. Дети брели за гробом по весенней распутице, держась за руки тёти Сани и тёти Дуси. Галочку нес на руках Иван.
К поминальному столу Настя тоже не села, непонимающими глазами смотрела на Саню, когда та попыталась её хоть немного покормить.
Шли дни. Настя потихоньку приходила в себя, делала нехитрые домашние дела, но ни с кем не говорила, погруженная в свои мысли. Крапивиным пришлось временно перебраться в дом Насти, чтобы присматривать за ней и детьми. Дуся, добрая душа, помогала, чем могла.
Как-то воскресным днём бабы затеяли печь хлеб. Вдруг Настя словно услышала что-то, вытирая руки о фартук, заторопилась в сени. Оттуда послышался её вскрик и быстрая речь. Саня кинулась следом. В сенях на стене висело корыто, в котором Настя обычно стирала. Сверху на том же гвозде висел кафтан Георгия. Настя обхватила корыто руками, и, прижимаясь лицом, всем телом к кафтану мужа говорила быстро, бессвязно:
– Ну где ж ты был так долго, Гешаня? Я же извелась вся… А они говорили… Но я не верила, не верила! Я знала, что ты вернёшься, знала, что ты не оставишь свою птаху…. Только больше не уходи… не уходи, ладушка мой…. Не отдам!
– Настя, бог с тобой, это ж корыто, опомнись…, – пыталась увести её назад в горницу Саня, но где там! Настя вырывалась с недюжинной силой. Перепуганные дети громко плакали, цепляясь за мать.
– Мамочка, ну нет же папы, папа умер, – уговаривала её Ниночка. Настя оттолкнула дочку:
– Что ты говоришь, негодница?! Вот же он, пришёл! Не видишь, что ли?
На крики прибежала Дуся. Поняв, что происходит, быстро увела детей к себе домой. Иван побежал за врачом.
В тот же день Настю увезли в больницу.
Глава 13. Пришла беда, отворяй ворота
Вернулась Настя только через две недели, вся какая-то погасшая, почерневшая лицом, но спокойная, осознавшая тот факт, что её Геши больше нет на белом свете, что никогда он не переступит порога их дома, не обнимет её, не назовет своею птахой, что отныне суждена ей горькая вдовья судьбинушка. Одной ей поднимать их четверых детей. Голодные детские глаза, отчаянное положение оставшейся без единственного кормильца семьи, помогли ей выкарабкаться из пучины безумия. Не время было горевать, надо было выживать.
Шла весна 1933 года… Голод расползался по стране. В Аргаяше появились измождённые, оборванные люди, немногие, кому удавалось добраться сюда из Поволжья. Они рассказывали страшные вещи о вымерших деревнях, в которых не осталось сначала домашней скотины, потом собак и кошек, а затем и людей, о зарастающих сорняками колхозных полях, которые некому обрабатывать. Шёпотом передавались слухи о том, что осенью у крестьян и колхозов отобрали и вывезли всё зерно по продразвёрстке. Нечего стало есть, нечем кормить скотину, а теперь нечего и сеять. Что из города приезжают вооруженные отряды, которые ходят по дворам в поисках припрятанного хлеба, и если что-нибудь удается найти, вывозят подчистую, обрекая семьи на голодную смерть.
В Аргаяше тоже стало голодно, опустели и закрылись лавки. Людей спасали огороды, рыбалка. Мальчишки ставили силки на птиц. Только теперь это превратилось из забавы в настоящую охоту.
Раньше Георгий, работая на элеваторе, время от времени приносил в специальном мешочке, спрятанном в брючине, немного зерна. Это было очень рискованно, можно было поплатиться не только свободой, но и жизнью, но спасало семью от голода. Теперь угроза голодной смерти нависла над Настей и детьми, лишая её сна, заглушая боль утраты. Настя и Саня с удвоенным рвением взялись за огород. Дети помогали собирать первые побеги крапивы, лебеды, из них варились щи, из смеси травы и остатков муки пеклись лепёшки. Настя надеялась заработать шитьём, но клиентов не находилось, не до нарядов в лихую годину. Деньги, с таким трудом копившиеся на корову, таяли с каждым днём.
Жаркий июльский день незаметно перетёк в душный вечер. Настя, закончив прополку, с трудом разогнула спину, не дойдя до крыльца, присела передохнуть на скамейку под рябинкой. Она задумчиво смотрела на резные листья, на наливающиеся алым цветом гроздья ягод, прислушиваясь к детским голосам, доносящимся из дома сквозь открытое окошко. Ниночка на правах главной маминой помощницы утихомиривала расшалившихся малышей. Ей шел всего-то восьмой годок, но серьёзная и ответственная не по годам, она старалась быть опорой для матери взамен ушедшего отца, и малышня слушалась её. Только Лиза со своим перечливым характером частенько бунтовала. Не раз, когда дело доходило до рёва и драки, Настя ставила её на колени в угол. Лиза, насупившись, молча стояла в углу. И уже Настя, маясь от жалости, сама просила дочку: «Скажи, что больше не будешь так себя вести, и выйдешь из угла», но та упорно продолжала стоять на коленях. Настя улыбнулась, вспомнив, как накануне Веночка подошёл и встал на коленки рядом с наказанной сестрой.
– Я же наказала только Лизу, тебе не надо стоять в углу, – удивилась Настя.
– А мне тетёнку жалко, – заревел карапуз.
– Ишь, заединщики, – усмехнулась мать.
Скрипнувшая калитка отвлекла Настю от дум. Дуся подошла и присела рядышком.
– Отдыхаешь? Не помешаю?
– Ну что ты! Хорошо, что зашла. Что-то тебя уж два дня не видно… и я, и дети соскучились. Чем занята была?
– Новости у меня…, уж не знаю, как и сказать…, уезжаем мы. Степана Игнатьевича моего переводят на другую работу, в Уфу. На днях и поедем.
Сердце Настино сжалось в комочек. Ближе и надёжнее Дуси не было у неё никого, разве что верная Санька. Холодное, липкое одиночество заползло в душу.
Перед отъездом Дуся уговорила Настю съездить с детьми в город в фотоателье Максимова, сняться на карточку, себе и ей на память.
Много лет спустя эта фотография чудом вернулась в нашу семью. Вот она передо мной: молодая вдова с печальным взором и поникшими уголками рта, руки, как опустившиеся крылья, настороженные глаза детей, жмущихся к матери. Так испуганные птенцы жмутся к птице. Это единственная фотография, где все они вместе, и где я вижу лица родных, с которыми разминулась на этом свете.
После отъезда подруги жизнь Насти стала совсем безрадостной и однообразной, наполненной одними заботами, страхами и тоской. А новая беда уже маячила на пороге.
Мелкий, нудный августовский дождик нехотя сеялся из низко плывущих сереньких туч. Настя торопилась закончить работу на огороде, когда залаял, загремел цепью Тигр и за калиткой раздался мужской голос. За штакетником маячил молодой мужчина в косоворотке, круглых очках и с парусиновым портфелем. Настя провела в дом нежданного гостя. Тот присел к столу, оглядел комнату, Настю, притихших детишек, достал и разложил на столе бумаги, прокашлялся
– Я сотрудник банка. Пришёл разобраться, почему уже несколько месяцев вы не погашаете выданную вам на покупку дома ссуду.
Ноги у Насти стали ватными, она опустилась на лавку.
– Но… у меня умер муж…, ссуду платил он, а мне не с чего платить. Мне самой не на что жить, не знаю, чем кормить детей. У меня нет денег, чтобы платить банку.
– Я вам сочувствую, но платить придется. Набегают проценты и долг растёт. У вас нет денег, но есть дом. Если вы не в состоянии платить, нам придется продать ваш дом. Но лучше, если вы продадите его сами, и как можно скорее, тогда после погашения долга у вас еще останутся деньги, чтобы как-то устроиться с жильём. Долг-то не такой большой остался… Возможно, кто из родни одолжит нужную сумму?
Оставив на столе бумаги, в которых Настя ничего не понимала, непрошеный гость, наконец, удалился, а Настя, трясущимися руками собрав их, опрометью бросилась к Сане с Иваном. На семейном совете мозговали и так, и эдак, но другого выхода, кроме продажи дома, так и не придумали. С оставшимися после уплаты ссуды деньгами Настя решила возвращаться в родительский дом. Небось, там отец и братья не оставят её с детьми без крова. А то Еремей с Пелагеей приютят, всё ж родня. Избу их отремонтировать можно, пристрой сделать. С деньгами-то, да с мужицкими руками можно устроиться. Да и прокормиться в большой семье, со своим огородом, легче. На том и порешили.
Вернувшись в свой двор, Настя окинула взглядом дом, с такой любовью отремонтированный Гешей, баньку, выстроенную его руками, огород-кормилец, скамеечку, помнящую их задушевные разговоры, и зарыдала в голос, обняв рябину.
Покупатели на дом нашлись довольно быстро. И то сказать – добротный дом с ухоженным подворьем, да за умеренные деньги. Труднее оказалось найти перевозчика, согласного отвезти Настю с детьми и всем домашним скарбом в далёкую Вятскую губернию. Можно было бы ехать поездом, но жалко было бросать всё нажитое, всю домашнюю утварь, одежду, посуду, патефон, и главную ценность – швейную машинку. Слишком трудно всё это досталось. После долгих поисков и расспросов привели к Ивану бородатого мужика из соседней деревни Суфино, назвавшегося Тимофеем. Трудно было определить, какого он возраста. Говорил он не много.
– Кобыла у меня молодая, телега вместительная, опять же, от дождя укрыться – рогожа есть. Сторгуемся – так довезу в лучшем виде.
Из-под кустистых бровей на Настю глянули колючие глаза. Тревожно стало у неё на сердце, однако, выбирать было не из кого, лошадей на подворьях почти не осталось.
Иван взял на себя хлопоты с продажей дома, с банком, с оформлением бумаг. Часть денег, оставшихся после расчетов с банком, Настя отдала Сане, поскольку и её труда в дом было вложено немало. Оставшиеся кредитки завернула в тряпицу и спрятала в лифчик.
Наступил день отъезда. Сереньким, ветреным сентябрьским утром груженая подвода выехала с родного подворья. Усыпанная красными ягодами рябина печально махала ветвями им вслед. Настя шагала по грязной дороге рядом с подводой. Перед поворотом последний раз оглянулась на дом, в котором прошло столько счастливых, полных надежд дней, где рождались их с Георгием младшие дети. Теперь он стал чужим. Другие дети будут бегать по двору, качаться на качелях, поставленных Георгием. Чужие голоса, чужой смех будут раздаваться в доме. Другие люди будут провожать закат, сидя на их лавочке.
Настя вытерла слёзы и поспешила за подводой. Дети, как стайка нахохлившихся воробьёв, молча сидели на вещах. Галочка крепко прижимала к груди любимую, уже порядком потрепанную куклу. Рядом с Настей шли Иван и Саня. Живот золовки заметно округлился, и она тяжело опиралась на руку мужа.
Вот и околица. Последнее прощание, последние слова и слёзы, последние поцелуи. Настя села на подводу и долго глядела на оставшихся на обочине родных ей людей, пока дорога не повернула в лесок. Вот и всё. Всего полгода назад она была мужней женой, хозяйкой дома, рядом были родня, надёжная подруга. Но всё рассыпалось, утекло, как песок сквозь пальцы… Нет больше любящего мужа, нет у неё дома, нет подруги, родные далеко. Нет даже права лить слёзы – четыре пары испуганных глазёнок смотрят на неё с надеждой.
Теперь она осталась один на один со своей судьбой.
Глава 14. Кизнер
Подвода неспешно катилась по тракту. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь поредевшую золотисто-багряную листву, плясали яркими островками на дороге, на рыжей шкуре лошади. Шел пятый день пути, а конца дороги не было видно. Дети, набегавшись, спали в телеге под мерное поскрипывание оси да позвякивание ведра, привязанного под телегой. Настя шагала рядом с подводой, и казалось, что ей вечно придётся плестись по пыльной бесконечной дороге. Она надеялась добраться до родных Пустынников дня за четыре, но Тимофей так берёг свою коняку (так он называл лошадь), что путешествие затянулось. Большую часть пути он шёл рядом с лошадью, ведя её под уздцы, неодобрительно поглядывая на Настю, когда она, устав, садилась на подводу. Он ничего ей не говорил, но взгляд исподлобья заставлял её вновь спрыгивать на дорогу. Так и плелись практически пешком. Благо, погода держалась сухая и тёплая, бабье лето припозднилось. Только детям путешествие не надоедало. Выспавшись, они затевали беготню вдоль обочины, то зависая кучкой над каким-нибудь жучком, то затевая игру в догонялки. Мимо часто проносились грузовики, проезжали телеги, Настя тревожилась за детей, но их ведь не привяжешь к подводе, как домашний скарб.
На ночёвку просились ещё засветло в какой-нибудь придорожный дом, после наступления сумерек никто не отваживался пускать странников в свой двор. Настя, заплатив Тимофею задаток за дорогу, не рассчитывала, что ей придется расплачиваться за ночлег, за еду не только за себя и детей, но также и за возницу с лошадью, но спорить с ним в дороге не решалась. Потому деньги, отложенные на проезд, быстро растаяли, приходилось вновь и вновь залезать в заветный свёрток. Тревога Насти за свою судьбу и судьбы детей росла с каждым днём, а Тимофей не спешил. Днём он делал остановки, давая «коняке» возможность попастись на травке, а сам дремал в тенёчке. Настя терпела – лишь бы довёз до места. Кроме Тимофея, да припрятанного у него под сидением нагана, не было у них защиты в дороге.
Увидев утром пятого дня верстовой столб Вятской губернии, Настя воспрянула духом. Ну вот и Вятчина, родная земля. Ещё день, много два, пути, и они в родном доме. Ей казалось, что там всё изменится. Душа, устав от горя, оживала робкими надеждами. Дорога плавно поднялась на невысокий пригорок, и перед глазами путников раскинулись холмистые дали, бескрайние луга с чернеющими сквозь прощальное золото листвы перелесками, изгиб реки, убегающей за гряду холмов, а над всем этим высокое, бескрайнее небо, бледное, словно вылинявшее, с плывущими высоко-высоко расчёсанными кудельками облаков. И воздух здесь был особый, дышалось легко, привольно. Дети прекратили возню, стих, не успев разгореться, конфликт между Лизой и Веной, дети во все глаза смотрели вокруг, даже двухлетняя Галочка примолкла.
Вскоре впереди показалось большое село. Подвода въехала в Кизнер, прогрохотала по мосту через неширокую, но норовистую речку Тыжму и свернула с дороги на берег. Решено было, что Настя с детьми прогуляется по посёлку до рынка, купит провизию, а Тимофей пока напоит коняку, да посторожит вещи.
Через посёлок проходила железная дорога. Шум проезжающего поезда, паровозный гудок напомнили Насте Аргаяш, сердце её тоскливо сжалось: как далеко позади осталась прежняя жизнь! Рынок находился недалеко от вокзала. На пыльной площади, окруженной несколькими лавками, царила суета – день был базарный. Продавцы, торговавшие в основном поношенными вещами, зазывали покупателей, в толпе шныряли беспризорники. Настя приказала детям крепко взяться за руки и не отставать от неё, купила полкаравая хлеба, узелок с вареной картошкой, бутыль с квасом и пару луковиц и уже повернула назад, как на пути возникла лотошница с пряниками. У детей разгорелись глаза. Не устояв перед извечным детским «ну мамочка, ну купи, ну пожа-а-алста!», Настя полезла за кошельком. Денег в кошельке не хватило, и она вытащила из-за пазухи заветный свёрток. В этот момент рядом раздались крики, какой-то парень пробежал мимо, сильно толкнув Настю, она упала, сбив с ног кого-то из детей, не успела подняться, как другой парень, споткнувшись о ребёнка, упал на неё, мигом вскочил и скрылся в толпе. Настя поднялась с земли, подняла громко плачущую Галочку… и тут обнаружила, что свёртка в руках нет! В панике она шарила под ногами, за пазухой, зачем-то в карманах – все деньги, оставшиеся от продажи дома, пропали. Боясь поверить случившейся беде, Настя всё шарила по земле, расталкивая собравшуюся вокруг неё толпу.
– Чё случилось то?
– Да бабенку, кажись, обокрали…
– И детей не пожалели, ироды!
– В милицию идти надоть…
– А, ищи ветра в поле…! – раздавалось со всех сторон.
Доброхоты отвели ошеломлённую Настю в милицию, находящуюся неподалёку, на противоположном конце площади. Милиционер с усталым серым лицом положил перед Настей лист бумаги, ручку, пододвинул чернильницу:
– Грамотная? Пиши…
– Что писать?
– Всё как было опиши.
И повернулся к набившимся в помещение любопытствующим:
– Свидетели есть?
Толпа быстренько растаяла.
Бегло просмотрев исписанный неровным почерком листок, милиционер бросил его в ящик стола.
– Всё, гражданочка, можете идти. Если вора найдём, вас известим, – сказал он устало.
Настя и дети вернулись к реке, где их давно заждался Тимофей. Он молча выслушал сбивчивый рассказ Насти о постигшей её беде.
– Так что, все деньги украли, что ли?
Настя кивнула.
– А за провоз чем расплачиваться будешь?!
Настя растерянно пожала плечами, не зная, что сказать. Тимофей грязно выругался, зыркнул на неё так, словно не её обокрали, а она его ограбила. Он отошёл в сторону, присел на корточки у кромки воды, что-то бормоча себе под нос. Настя молча ждала. Наконец, возница вернулся.
– Ну и чё стоишь? Думаешь, деньги тебе сюда принесут? На блюдечке? Поехали обратно в милицию, стой у них над душой, пока не возьмутся за поиски.
Через несколько минут Настя вновь вошла в отделение. На месте прежнего милиционера сидел другой, пожилой усатый дядька. Выслушав Настю, он порылся в стопке бумаг в ящике стола, извлёк Настино заявление, пробежал его глазами и бросил назад в стол.
– Идите, гражданочка. Вам же сказано: ищем. Ежели когда найдём вора, вас известим. А теперича идите… не толпитесь тут… мешаете работать, – сказал он, доставая из портфеля завёрнутый в промасляную бумагу бутерброд.
Настя с детьми вышла на пыльную улицу. Базарный день закончился, народ разошёлся, только ветер гонял по опустевшей площади обрывки бумаги. Тимофея с подводой не было. Настя решила, что он отлучился ненадолго, мало ли, какая у человека надобность. Присела на брёвнышко у покосившегося забора, развязала узелок с провизией, накормила оголодавших деток, сама маленько поела, не забыв оставить картофелину и ломоть хлеба вознице, и стала ждать.
Время шло. Вечерело. А Тимофея всё не было. Начал накрапывать нудный осенний дождик, поднялся ветер. Настя, боясь сама отлучиться с условленного места, послала Ниночку на берег, вдруг Тимофей там их ждёт, но девочка вернулась ни с чем. Настя гнала от себя догадку, что возница бросил их здесь, в чужом посёлке, забрав в качестве платы за проезд все их вещи. Это было слишком жестоко, чтобы быть правдой!
– Нет-нет, этого не может быть, он вот-вот приедет, – говорила она сама себе. Стемнело. Загорался свет в окнах чужих домов. Загорелась лампочка под жестяным колпаком на милицейском крыльце. Дождь разошёлся не на шутку. Замёрзшие дети жались к матери и плакали. Не зная, что делать и куда идти Настя попыталась вернуться в милицию, но толстая тётка со шваброй выставила их обратно на улицу:
– Иди—иди отседа, здесь тебе не богадельня! Ишь натоптали! Тока помыла…
Настя снова очутилась под дождём и ветром, идти было некуда, нечем было укрыть промокших, озябших малышей. Слёзы вперемешку с каплями дождя стекали по их лицам. Измученная малышка уснула на руках матери, Настя прижимала её к себе, стараясь прикрыть собой от дождя и ветра, согреть своим телом. Она беззвучно шевелила губами, молясь Пресвятой Богородице, как в ту памятную ночь, когда убегала от волков. Старшая, Ниночка, со страхом вглядывалась в невидящие глаза матери, в её шевелящиеся губы.
Из дверей трактира за ними наблюдали двое: женщина неопределённого возраста и парень со щербатой улыбкой. Они о чём-то негромко переговаривались, поглядывая на Настю. Договорившись между собой, подошли.
– Эй, бабонька, чего под дождём мокнешь? Чья такая будешь? Это тебя нынче утром обокрали?
Настя нехотя отвечала на расспросы.
– Пойдём-ка, горемышная, с нами, не ночевать же вам под дождём на улице. Удобств не обещаем, но поедите, кипяточком отогреетесь, обсохните у печки. Тут недалеко совсем.
Настя с детишками побрела за нежданными спасителями. А что ей ещё оставалось делать? В переулке увидела вдруг в канаве знакомую тряпицу. Кинулась к ней, схватила в безумной надежде, но, конечно, никаких денег в ней не оказалось.
Идти действительно было недалеко, вскоре вышли на пустырь, посреди которого поодаль от дороги стоял барак. В темноте Настя не смогла его рассмотреть, запомнила только обитую рваной клеенкой дверь. В прорехи выглядывали клочья одеяла. Переступив порог, путники оказались в полутёмном помещении типа сеней. Справа высилась большая круглая печка-буржуйка, слева стояли длинный дощатый стол и две грубо сколоченные скамьи. Перед буржуйкой, вороша угли кочергой, сидел сутулый старик.
– Вот, Макарыч, принимай пополнение. Бабёнку с детьми намедни обокрали на базаре, да и бросили без вещей, без денег. Угловая комната освободилась, пущай поживут.
Старик окинул Настю цепким взглядом.
– Ну, пущай поживут, бабёнка молодая, крепкая, небось, отработает прожитьё…
Женщина, назвавшаяся Фросей, проводила Настю и детей по длинному проходу в дальний угол. С обеих сторон были каморки по типу загончиков, разделённые дощатыми перегородками, от прохода их отделяли где занавески, где одеяла. Отовсюду раздавались голоса, кто-то смеялся, кто-то пьяно ругался. В угловой каморке, куда Фрося привела их, большую часть пространства занимал широкий топчан с грудой тряпья. У дверей висел рукомойник, под ним табуретка с тазом. Вторая табуретка стояла около окна. На подоконнике высилась горка кое-какой посуды, видимо, он использовался в качестве стола.
– Не царские хоромы, но всё-ж не под открытым небом, тепло, и есть всё самое необходимое. Обживайтесь, щас поесть чего-нить принесу.
Спасительница исчезла и через несколько минут вернулась с миской горячей печеной картошки, щедро посыпанной зелёным луком и солью. Принесла она и полный чайник кипятка, и несколько поношенных, но чистых мужских рубах.
– Вот, переоденьтесь в сухое.
Сытые, согревшиеся дети мгновенно уснули, лишь только добравшись до топчана. А Настя, примостившись с краю, долго не могла заснуть, вновь и вновь прокручивая в голове события минувшего дня. Куда они попали? Что за люди вокруг? Что с ними будет? Как теперь добраться до родных Пустынников?
Глава 15. Коммуна
Под утро привиделось Насте, что идёт она по тропке через болото с полным лукошком клюквы. А вокруг нет никого, отстала от товарок. Вдруг чует, кочка под ногами проседает, перепрыгнула на соседнюю, да промахнулась. Чавкнуло болото, засасывая свою жертву. Настя хочет крикнуть, а голоса нет! Ухватилась за чахлую березку, а та гнется. Ищет, ищет опору – нет опоры. Вдруг видит, вроде идёт кто меж елочек да берёзок, пригляделась – Георгий глядит на неё сквозь ветви. Настя тянет к нему руку, молит о помощи, а он ни с места. Стоит, смотрит на неё, только слёзы по щекам катятся…
Сквозь сон почувствовала Настя, что кто-то трясет её за плечо. С трудом вынырнула из тяжкого забытья. Над ней склонилась Фрося.
– Вставай, собирайся, на работу пора.
– На какую работу? А дети?
– Будешь копаться, никакой работы не будет, а дети голодными останутся. Давай, давай, пошевеливайся, дорогой всё объясню.
– А дети с кем останутся?
– Так у тебя нянька эвон какая подросла, справится. Макарыч накормит и присмотрит, ежели что. Не у одной тебя тут дети.
Настя собралась в пять минут. Разбудила Нину, велела сонной дочке присматривать за младшими. В сенях на столе Настю ждала кружка кипятка и ломоть хлеба. Из загончиков зевая и почёсываясь выходили другие обитатели барака, переговариваясь, завтракали за длинным столом, кто чем. То и дело хлопала входная дверь, люди расходились по своим делам.
Над посёлком занимался серенький день, холодный ветер трепал бабам юбки, швырял под ноги охапки жухлых листьев. Фрося размашисто шагала по улицам посёлка, Настя едва поспевала за ней.
– Значит так, работать будешь поденщицей. Кому полы помыть, кому окна, кому бельишко постирать, мало ли дел в зажиточных домах. Поначалу я тебе буду помогать работу найти, потому как кто ж тебя с улицы в дом впустит? А уж потом, как тебя узнают, будешь сама о работе договариваться. И смотри, чтобы ничего к рукам не прилипало! Не то вылетишь из коммуны, не посмотрим, что с дитями. Я за тебя ручаюсь. Половину заработка будешь себе оставлять, половину Макарычу отдавать на прожитьё. У нас коммуна, друг другу помогаем, вот как тебе. Ежели кто заболеет, на работу выйти не сможет, накормим, с голоду не помрёт. Дрова на зиму опять же заготовить надо. Крышу подлатать, да мало ли расходов в хозяйстве, а хозяйство у нас общее. Поняла?
Настя кивнула.
– Ну и ладно. С нами не пропадёшь! Считай, повезло тебе, что место у нас нашлось. Сама-то откуда будешь?
Настя вкратце рассказала о своих злоключениях. За разговором дошли до большого дома за глухим забором. Хозяйка чем-то походила на Дусю, только постарше, да взгляд другой – цепкий, настороженный. Обстановка в доме тоже напомнила ей уютный Дусин дом – добротная мебель, фикус у окна, слоники на комоде, вышитые салфеточки везде. На видном месте граммофон.
Хозяйке требовалось перемыть и запечатать на зиму все окна.
– Хорошо сделаешь, так и заплачу хорошо, – сказала она.
Фрося, сторговавшись с дамочкой, убежала по своим делам, а Настя, вооружившись тряпками и старыми газетами, принялась за работу. Мыть окна она любила, ей нравилось, как начинают блестеть под её руками стёкла и в горнице становится словно светлее и просторнее. Это мирное занятие напомнило ей недавнее прошлое. Издалека донёсся шум проходящего поезда, на минуточку показалось, что всё, что случилось с ней – это просто ночной кошмар, что она моет окна в своём доме, а во дворе играют её дети и вот-вот вернётся с работы Геша, прибежит вечно спешащая Санька.
Заглянула хозяйка проведать, как работает поденщица, иллюзия развеялась.
С этого дня каждое утро Настя отправлялась на поиски заработка. Поначалу её водила по домам Фрося, знакомила с женщинами, торговалась об оплате. Но через неделю-другую Настя справлялась уже сама. Половину заработка исправно отдавала Макарычу, половина уходила на еду. Нина управлялась с младшими, дети слушались её. И Макарыч, действительно, приглядывал за остающейся в бараке ребятнёй: на кого прикрикнет, кого шлёпнет, чтобы не лезли, куда не надо, кому разбитую коленку промоет, чистой тряпицей завяжет, а то картошки на всех в золе испечет.
Настя надеялась, что сможет из заработанных денег скопить нужную сумму на дорогу домой, в Пустынники, но ничего не получалось. Надвигались холода, надо было всех одеть, обуть. Со вздохом вспоминала она ладные детские тулупчики, шубу, сшитую своими руками, лёгкие тёплые пимы, скатанные руками мужа для своих деток. Кого они будут греть этой зимой? Кто будет кутаться от мороза в её шубку? Жена и дети Тимофея? А есть ли они у него, изверга? Ничего-то она о нём не знала, ни адреса, ни фамилии.
Одежду, обувь пришлось покупать на барахолке, поношенную, конечно, и не всегда по размеру, выбор на Настины деньги был небогат. Себя одела последней, купила телогрейку, чёрный шерстяной платок, слегка побитый молью. Ботинки Фрося принесла, ношеные, но целые, утеплённые байкой. Глянула на себя в высокое зеркало в одном из домов, куда стирать приходила, бабка-бабкой, а ведь ей исполнилось всего-то тридцать два года…
Была ещё одна проблема – школа. Год назад Ниночка пошла в первый класс. Настя сама сшила школьное платье для дочки, Георгий смастерил фанерный чемоданчик для учебников и тетрадок. Любознательная и трудолюбивая от природы девочка училась легко, с интересом. Её тетрадки ставили в пример одноклассникам. Когда в семье разразилась беда, именно учеба помогла девочке справиться с непомерной для детской психики нагрузкой. Сочувствие и тактичность молодой учительницы, беззаботность одноклассников помогали хотя бы на несколько часов возвращаться в прежнюю счастливую жизнь. В конце учебного года Нину, как лучшую ученицу класса, наградили кусочком настоящего земляничного мыла и красной ленточкой. А осенью Настя не смогла отправить дочку во второй класс, надеялась, что после переезда на родину, она отдаст её в школу там. К тому же, пришла пора идти в первый класс Лизе, ей шел восьмой год.
Сами закончив всего по четыре класса церковно-приходской школы, Настя с Георгием мечтали вырастить своих детей образованными людьми. Но как это сделать ей одной, нищей бездомной бабе?! Чемоданчик со школьными документами, учебниками и тетрадками, школьная форма дочки, всё осталось на подводе. Настя мучилась, корила себя, теперь она видела свои ошибки, понимала, как можно было избежать беды, да поздно, ничего не исправишь.
И тут пришла на помощь изворотливая Фрося. Как уж ей удалось договориться с директором сельской школы, Настя не знала, однако девочек приняли в школу. Из тонкой мешковины она вручную сшила школьные платья для дочек, две сумки на длинной лямке через плечо. Теперь по утрам Нина и Лиза, взявшись за руки, бежали в школу, а Вена и Галочка оставались под присмотром Макарыча. Иногда, с разрешения очередной работодательницы, Настя брала малышей с собой. Тогда дети играли рядом, на глазах, и на душе у неё было спокойно.
Так, в коммуне, пережили зиму. С наступлением весны проснулись надежды вырваться из барака и добраться до родной деревни. Настя сшила себе пояс с кармашком, в который прятала каждую сэкономленную монетку. Она хваталась за любую работу, питалась хлебом да картошкой, но денег всё еще было слишком мало. Бывали дни, когда Настя не могла найти работу, тогда приходилось брать деньги из заветного пояса, чтобы хоть как-то накормить детей.
В один из таких дней Настя в поисках работы дошла до железнодорожной станции. На насыпи возле товарняка увидела группу женщин с лопатами, подошла поближе. От вокзала к ним спешил, размахивая портфелем, пузатый мужчина лет сорока.
– Ну что, бабоньки, все в сборе? Пойдёмте, покажу вам фронт работ. Быстренько, быстренько поднимайтесь, состав скоро отправляется.
Все пошли за толстяком вдоль насыпи. Шли довольно долго. Наконец оказались возле пустой платформы. Рядом высилась груда щебня.
– Вот этот щебень надо погрузить на платформу. Шевелитесь давайте, время не ждёт.
– А сколь заплатишь? Аванс давай!
– Не обижу, рассчитаю по-честному. А авансы у нас не положены. Погрузите, всё сполна получите.
Настя подошла к толстяку, подрядиться на работу. Он критично оглядел её тщедушную фигурку, но в свой листок записал и лопату выдал. Женщины, скинув телогрейки, выстроились цепочкой вдоль вагона и взялись за работу. В воздухе замелькали лопаты. Работа оказалась не из лёгких, Настя старалась не отставать от других, более крепких баб. Скоро у неё заломило спину, заболели руки, на ладонях появились волдыри. Настя стала махать лопатой пореже, стараясь хоть немного перевести дух. «Не филонь!» – прикрикнула на неё соседка. Наконец весь щебень был погружен. Настя на трясущихся ногах отошла в сторонку, присела на сложенные штабелем шпалы. Перед глазами плыли разноцветные круги. Остальные бабы, накидывая телогрейки, пристроились кто где.
Состав, лязгнув буферами, тронулся с места и медленно поплыл мимо них. Поезд набирал ход, вот и последний вагон скрылся вдали. Толстяка всё не было. Женщины забеспокоились, зароптали. Решено было отрядить нескольких самых бойких на станцию, на поиски работодателя. Через полчаса те вернулись ни с чем. Толстяка они так и не нашли, дежурный на перроне сказал им, что это, вроде бы, был сопровождающий, который на этом составе и уехал восвояси. Покричали бабы, поматерились, да что толку? Так и разошлись ни с чем.
Настя еле добрела до барака, упала без сил на топчан. К вечеру разболелась голова. Макарыч сначала разворчался, что она денег не принесла, но посмотрев на Настю внимательней, замолчал. А позже заглянул в их закуток проведать, принёс котелок с горячей похлебкой и узелок с несколькими кусочками сахара.
– Ничего, милая, к утру отлежишься, – и неловко погладил её по голове.
Утром Настя поднялась с трудом, сильно болела и кружилась голова, во рту пересохло. Однако деваться было некуда, надо было идти, искать работу на сегодня.
Настя брела вдоль улицы по подтаявшему снегу в центр поселка, к тем домам, где обычно находилась для неё работа. «Авось, разойдусь на свежем воздухе», – надеялась она. Но идти становилось всё труднее, ноги разъезжались по грязной жиже. Перед глазами плыли заборы, деревья. Последнее, что она видела – морда собаки, обнюхивающей её лицо.
Глава 16. Весна тридцать четвёртого
Белое пространство. Лампочка на шнуре. Высокое окно. На окне решетка. Стены, выкрашенные зеленой краской. Настя подняла невесомую руку, дотронулась до стены, почувствовала её холод. Мир ощущений, звуков постепенно возвращался к ней. Рука была покрыта мелкими язвочками. Повернула голову. Рядом стояли кровати, между ними, как тени, двигались серые фигуры.
– Пить, – попросила Настя и сама себя едва услышала. Однако одна из женщин оглянулась, подошла и склонилась над ней.
– Очнулась, болезная? Ну, вот и хорошо, и слава богу. На-ко, попей водички, – живительная влага смочила пересохшие, потрескавшиеся губы.
– Где я? Что со мной?
– В больнице, бабонька, в инфекционке, сыпняк у тебя. Говорят, в посёлке, на улице подобрали в беспамятстве. Кто такая, чья будешь – никто не знает. Ничо, тута врачи хорошие, вылечат. Вона сколько нас таких здеся. Щас, доктора позову, погоди маленько.
Ласково журчащий голос словно утонул в вате, широкоскулое лицо заволокло туманом, потолок снова превратился в бескрайнее белое пространство, вытеснившее весь мир, Настя вновь впала в горячечное беспамятство.
Очнулась она ночью. На соседней кровати кто-то тихонько стонал и звал: «Гриша, Гришенька…». В зарешёченное окно смотрел равнодушный месяц, тоненький, словно остриженный ноготок младенца. Настя вслушалась в плачущий голос. Подумала: „Сыночка, видимо, зовёт…“ И тут же обдала горячая волна: " Дети! Что с ними?!». С трудом поднялась, держась за спинки кроватей, побрела к застеклённой двери. Дверь оказалась запертой. Сквозь стекло она видела стол с настольной лампой в коридоре, спящую за ним медсестру. Настя птицей билась в дверь, пока не разбудила дежурную. Проснулись и заворчали остальные обитательницы палаты.
– Выпустите меня отсюда, выпустите! У меня дети одни остались!
На шум пришла врач, высокая костистая женщина с выбившимися из-под белого колпака седыми прядками. Строго прикрикнула на Настю:
– А ну, прекрати крик! Всё отделение переполошила! Никто тебя раньше, чем через две недели отсюда не выпустит, не имеем права. Тиф у тебя, голубушка, заразная ты!
Настя затихла только тогда, когда врач пообещала отправить утром посыльного в барак, который проведает и предупредит детей, где она и что с ней, передаст Фросе, чтобы позаботилась пока о них.
Дни тянулись невыносимо медленно, однако силы постепенно возвращались к Насте. Днём в палату заглядывало по-весеннему яркое солнышко, на качающейся перед окном ветке набухли и потемнели почки, у некоторых из них появились зелёные клювики будущих листочков. Однако ночью, накануне выписки, ударили заморозки, даже выпал снежок, прикрыв проклюнувшиеся травинки. В больничном халате, в чужих калошах и телогрейке (свою одежду всю сожгли), брела Настя по белому покрывалу, оставляя чёрные следы за собой. От свежего воздуха кружилась и мёрзла остриженная налысо голова в белом платочке. Вот, наконец, знакомый барак. На брёвнышке у стены сидит малец в больших, не по ноге, чунях и сползающей на нос шапке. Приглядевшись, Настя узнала в нём сыночка, Веночку. Подошла, села рядом. Мальчик равнодушно глянул на неё, подвинулся, уступая место.
– Сынок, ты что, меня не узнаёшь? Я же твоя мама.
Малыш вздохнул:
– Нет, ты не моя мама… Моя мама была красивая. Но она ушла от нас. Наверное, мы были непослушными, вот она и ушла… Тетя Фрося так сказала. Папа умер, а мама ушла, мы теперь одни остались.
От ужаса у Насти перехватило дыхание, зашлось сердце.
– Это неправда, сынок, это неправда! Я не ушла от вас! Я в больнице лежала, не могла прийти! Я сильно болела, а теперь выздоровела и вернулась, и больше никуда от вас не уйду. Я всегда буду с вами, что бы не случилось!
Она обхватила худенькие плечики ребёнка, целуя его мокрыми от слёз губами.
– Мама… это правда ты?! И ты больше не уйдёшь? Правда, мамочка? – твердил малыш.
Немного успокоившись, Настя спросила крепко держащегося за неё сына:
– Ну, расскажи, Веночка, как вы без меня жили? Где девочки? Нина с Лизой в школе?
– Не-а, они в школу теперь не ходят, они теперь артистки. Дядя Вася, у которого ножек нет, берёт их с собой на базар, он на гармошке играет, а они поют и танцуют, им за это денежки дают. Тётя Фрося сказала, что они теперь сами должны зарабатывать на еду, раз у нас мамы нету…. А я сижу, жду, когда они придут, хлебушка принесут.
– А Галочка где? Спит?
– Не-а, Галочку папа к себе забрал. Она заболела, папа пришёл и забрал её, а нас не взял…
У Насти потемнело в глазах. Она кинулась в барак. В их загончике было пусто. Метнулась назад, к Макарычу.
– Где Галочка? Что с дочкой?
Макарыч, вставший, было, ей навстречу, отвёл глаза, сел на свою табуретку, отвернулся к огню.
– Заболела шибко…, прости, не уберёг. Что я мог сделать? Сгорела малая.
Дотемна просидела Настя над маленьким холмиком на краю пустыря, обнимая жмущихся к ней детей. Слёз больше не было, кончились, душа заледенела.
Никогда больше не услышит она родной голосок младшей дочки, не обнимут её маленькие ручки. Вспомнилось, как заливисто смеялась Галочка, играя в пятнашки с Дусей. Эх, Дуся, Дуся, нет больше твоей любимицы, как скажу это тебе при встрече? Да и случится ли когда эта встреча?
А в это время Дуся стояла у окна своей отдельной двухкомнатной квартиры на третьем этаже нового дома в самом центре Уфы и смотрела, как два милиционера роются в её вещах. Один брезгливо выкидывал из шкафа на пол её трусы, лифчики, чулки, второй пролистывал и кидал книги с этажерки. У стола под абажуром сидел бледный, растерянный Степан Игнатьевич. Он как-то враз постарел, сник.
– Поверьте, ничего запрещенного у нас дома нет, вы зря тратите время. Это какая-то чудовищная ошибка. Мы преданные Родине и товарищу Сталину граждане. Я воевал в Чапаевской дивизии, у меня ранение, орден есть…. Скажите хоть, что вы ищите?
– Разберёмся… – не глядя на него, буркнул тот, что рылся в книгах.
За окном в колеблющемся свете фонаря ветер трепал голые ветви ясеня с черными бугорками набухших почек.
Попрощались наскоро под безразличными взглядами посторонних.
– Дусенька, девочка моя, это недоразумение. Я скоро вернусь. Ты только верь, что я ни в чём не виноват и жди меня.
Дуся заперла входную дверь, перешагивая через разбросанные вещи, вернулась к окну. Вздрогнула от хлопка двери парадного. Сквозь стекло наблюдала, как мужа втолкнули в черную машину. Фыркнул мотор, свет фар скользнул по тёмным окнам Центрального универмага, в котором до сегодняшнего дня работал главным бухгалтером Степан Игнатьевич, машина скрылась за поворотом и всё стихло. Дуся осталась одна в опустевшей квартире. Кроме мужа, у неё не было никого на всём белом свете.
Вопреки её надеждам Степан Игнатьевич не вернулся ни на следующий день, ни через неделю. Все её робкие попытки узнать хоть что-нибудь о судьбе мужа были безуспешны. «Арестован за растрату, находится под следствием», – вот всё, что ей сказали в милиции. Она не знала даже, где его содержат. Тем временем, деньги, оставленные ей мужем, заканчивались. Надо было искать работу. Но это оказалось непростым делом, везде её ждал отказ. Пришлось сдать в ломбард украшения, горжетку из чернобурки. Возвращаясь после очередного неудачного дня домой, Дуся увидела около своей двери молодую женщину с чемоданом.
– Здравствуйте, вы из этой квартиры? У меня ордер на вселение.
Женщина протянула Дусе бумажку с фиолетовой печатью. Дуся распахнула перед новой соседкой дверь.
– Ну, что ж, проходите, раз такое дело. Давайте знакомиться.
Женщина сняла в прихожей модный габардиновый плащ, круглую шляпку с полями и оказалась обладательницей пушистых рыжих волос и светлых веснушек. Весёлые конопушки покрывали не только точёный носик и бледные щёчки, но и шею, руки. Тонкую талию перехватывал широкий красный ремень. Она казалась совсем молоденькой, только сеточка морщинок вокруг глаз выдавала возраст под тридцать.
– Ираида, – женщина протянула узкую ладошку и дружелюбно улыбнулась.
Через час соседки пили на кухне чай с пирогом и болтали без умолку обо всём на свете.
Новая жилица оказалась родом из Питера, училась в гимназии, когда грянула революция. Родные сумели эвакуироваться, а она с бабушкой и старшим братом должны были плыть следующим пароходом. Но бабушка расхворалась, выехать они не смогли. Бабушка вскоре умерла, брат сгинул в огненном смерче Гражданской войны, и осталась она одна-одинёшенька. Погибла бы, если бы не присмотрел поцелованную солнышком девочку красный командир. С тех пор возит её за собой по стране, куда его направят, туда и она едет. И не жена, поскольку он женат, и не дочь… Он называет её боевой подругой. Ну, подруга, так подруга, для неё главное, что он есть на белом свете, что он всегда рядом.
Женщины быстро подружились, у них оказались схожие интересы, взгляды, в чём-то схожие судьбы. Две одинокие души, брошенные судьбой в водоворот событий, ухватились друг за друга, чтобы не пропасть.
Забегая вперёд, скажу, что Евдокия Ивановна и Ираида Исаевна всю оставшуюся долгую жизнь, до последних своих дней, так и прожили бок о бок, помогая друг другу, поддерживая в трудные времена друг друга. Помню из своего детства уютную квартирку с вязанными кружевными занавесочками, салфеточками, скатёрочками, и двух аккуратных старушек в старомодных платьях, запах фирменных пирогов бабы Дуси, солнечную улыбку Ираиды Исаевны. Когда я слышу, что «женской дружбы не бывает», я вспоминаю этих двух старушек и свою бабушку.
Ираида заняла бывшую спальню. Вещей у неё было немного: чемодан с нарядами, пара фотографий в рамочках да стопка книг. С её появлением в доме чёрная тоска и страх отпустили Дусю, жизнь вновь обретала краски.
Ида работала секретарём-машинисткой в горисполкоме. Она помогла Дусе устроиться на работу буфетчицей в одну из рабочих столовых. Для жены «врага народа» это было большой удачей.
По утрам под окнами сигналил легковой автомобиль. Ида, свежая и нарядная, выпархивала из квартиры, и прохожие, глядя на беззаботную дамочку, садящуюся в авто, и подумать не могли, какая непростая юность была у этой бабочки.
А вечерами Дуся прислушивалась к звукам на лестнице, ожидая знакомый перестук каблучков. Раз в неделю к Иде приходил гость, и тогда Дуся тактично уходила погулять, или слушала радио в своей комнате. Так было долгие годы.
Глава 17. Детский дом
Фрося объявилась на следующий день, заглянула в Настин закуток, как ни в чём не бывало.
– С возвращеньицем! Живая? Вот и ладно. Девочки, собирайтесь. Быстренько, быстренько, дядя Вася уже ждёт.
Настя встала перед ней, уперев сжатые кулаки в бока. В душе поднималась волна гнева. Она уже никого и ничего не боялась.
– Куда это «собирайтесь»? Дети должны ходить в школу! Ты зачем отправила их побираться на рынок?!
Лицо Фроси вмиг изменилось, губы сжались в ниточку, злые буравчики глаз уставились на Настю.
– Ах ты…, ишь, как заговорила! А кто должен был кормить твой выводок, пока ты неизвестно где пропадала? Скажи спасибо, что на улицу не выкинули!
– Ты знала, где я «пропадала», тебе из больницы сообщили. Ты что моим детям наплела, что я их бросила? Как ты посмела?! Я для чего тебе полгода каждый день половину заработка отдавала? Ты же говорила, что на эти деньги вы кормите тех, кто заболел, не смог заработать. Возвращай мои деньги, и мы уйдем из вашей чертовой коммуны!
Настя наступала, готовая вцепиться в волосы обманщицы. На шум скандала начали собираться любопытные. Фрося оглянулась в поиске поддержки на столпившихся в коридорчике обитателей барака, натолкнулась на колючие взгляды, увидела сжатые кулаки, и спасовала, сменила тон, забормотала примирительно:
– Ладно, ладно…, раскипятилась…, я понимаю, ты сейчас не в себе. Можешь недельку отдохнуть, набраться сил, прокормим. Кто сейчас тебя такую на работу возьмет? А девочки…, что ж, в школу, так в школу…, тебе их кормить.
Она быстренько пробралась сквозь молчаливую толпу, что-то на ходу сказала Макарычу и исчезла, хлопнув дверью барака.
Настя устало брела по весенней улице, не замечая солнечных бликов от промытых окон, весело купающихся в лужицах воробьев, лёгких облачков, беззаботно плывущих в высоком небе. Вот уже третий час она ходила по знакомым домам, и везде её ждал отказ, хозяева нашли новых поденщиц. От голода сосало под ложечкой, но карман был пуст. Вспомнились слова мужа: «Ничего, я у тебя вон какой здоровый, от всех невзгод укрою. Ты, главное, прислонись ко мне поближе, птаха моя».
– Эх, Геша, Геша, оставил ты меня одинёшеньку с детьми, а ведь обещал, что никогда не бросишь… Галочку, любимицу свою, забрал, а нас зачем оставил? Взял бы уж всех разом, чтоб не мучились. Что мне делать? Как одной детей поднимать?
Сзади раздался резкий сигнал клаксона, мимо промчался, обдав парами бензина, автомобиль. От неожиданности Настя шарахнулась в сторону, больно ударившись плечом о столбик ворот. Потирая ушибленное плечо, подняла глаза. Прямо перед лицом висела табличка «Кизнерский детский дом». Ошеломлённая, присела на придорожный столбик, собираясь с мыслями, привычным жестом поправила несуществующую причёску, ощутив под ладонью колючий ёжик едва отросших волос. За глухим дощатым забором раздавались детские голоса, смех, удары по мячу. Настя решительно встала, толкнула калитку.
Во дворе несколько детей, ровесников Ниночки, играли в мяч. Все были одеты в одинаковые синие сатиновые рубашки, на девочках были такие же сатиновые юбки, на мальчиках шаровары, у детей постарше на худеньких шейках краснели пионерские галстуки.
В дальнем углу двора, возле сараев, бородатый мужик колол дрова, женщина в чистом переднике поверх цветастого платья снимала с веревок простыни.
– Тётенька, посторонись! – раздалось сзади. Двое мальчишек, сгибаясь под тяжестью полных вёдер, обогнали её, оставляя мокрые следы, скрылись за дверью двухэтажного деревянного дома. Настя вошла следом и очутилась в прохладном полумраке коридора. Стены до середины выкрашены синей краской, под ногами чистые крашеные полы, на белёном потолке лампочки в плафонах. Справа лестница на второй этаж. По обе стороны коридора двери. Из открытой двери в дальнем конце коридора доносились звон ложек, стук ножа и запахи, от которых у голодной Насти свело желудок.
– Вот молодцы, – послышался женский голос, – еще по ведру и хватит, можете идти играть.
Из двери, гремя пустыми вёдрами, выбежали уже знакомые мальчишки.
– Скажите, где найти директора? – спросила у них Настя.
– Сергея Степаныча? А вон его кабинет, – махнул рукой один из мальчишек.
Сергей Степанович оказался худощавым мужчиной с открытым взглядом серых глаз. На вид ему можно было бы дать лет сорок, если бы не совершенно седая голова.
– Вы по какому вопросу? – он оторвался от бумаг и вопросительно взглянул на Настю.
– Спасите моих детей от голодной смерти, возьмите их в детский дом!
– Места в детском доме распределяет отдел народного образования, обратитесь в сельсовет.
Настя медленно опустилась на колени.
Через полчаса, выслушав сбивчивый рассказ Насти о её бедственном положении, Сергей Степанович расхаживал по кабинету, задумчиво потирая лоб.
– Одну из девочек я могу взять, с РОНО вопрос улажу, а больше мест нет. Мальчик еще слишком мал для нашего детского дома. Пока приводите одну, а там видно будет. Летом старшие выпустятся, сможем взять и вторую.
Настя медлить не стала, не прошло и часа, как в кабинете директора выстроились все её ребятишки. Во дворе трижды ударили по железке. Сергей Степанович глянул в голодные глаза детей.
– Ну вот что, гостей полагается сначала накормить, а потом разговоры разговаривать. Шагом марш в столовую.
В большой столовой дети, галдя и толкаясь, выстроились в очередь к раздаточному окошку, затем с полными мисками рассаживались на лавках по обе стороны длинных столов, накрытых цветастыми клеенками.
– Петровна, плесни-ка щей вот этим галчатам, да и мне заодно, – директор подтолкнул к раздаточному окошку Нину, Лизу и Веночку. Свою миску поставил перед Настей: «Ешь, я уже наелся, когда пробу снимал».
После обеда, показавшегося детям необыкновенно вкусным, провёл гостей наверх, в спальни. Дети, робея, прошлись между рядами аккуратно заправленных кроватей с одинаковыми одеялами и белыми треугольниками настоящих подушек.
– Ну как, понравилось вам у нас? Кто из девочек хочет остаться?
Лиза смело шагнула вперёд.
– Ты? – улыбнулся Сергей Степанович. – А что ты умеешь делать?
– Я всё могу, и петь и плясать.
– Ну, давай, покажи свои таланты.
Лизу упрашивать не пришлось, запела во весь голос «Яблочко», лихо отбивая чечётку, затем, томно поводя плечами, исполнила «Очи чёрные, очи страстные».
– Хватит, хватит! – Сергей Степанович, смеясь и утирая слёзы одновременно, едва унял разошедшуюся девчушку. – Решено, оставайся, такие бойкие нам нужны.
Директор проводил Настю с Ниной и Веной во двор, уговорившись, что они зайдут к нему через пару месяцев. Уже прощались, когда их нагнала запыхавшаяся Петровна:
– Сергей Степаныч, Сергей Степаныч, беда, прачка кипятком руку обварила! В медпункт увели. Медсестра сказала, долго заживать будет. А завтра банный день. Кто ж бельё стирать будет?
– Я могу, – подала голос Настя.
– А управишься? У нас работы много, – Сергей Степанович с сомнением оглядел исхудавшую – в чём душа держится – женщину.
– Я работы не боюсь, с малолетства приучена.
– Ну что ж… приходи с утречка, посмотрим, какая ты в работе. А там решим, сгодишься ли.
С того дня каждое утро Настя бежала в детский дом, радуясь, что не надо больше бродить по селу, заглядывать в чужие дворы, выпрашивая хоть какую-то работу. Она быстро подружилась с Петровной и другими обитателями детского дома. Ей нравились детские голоса, беготня и возня во дворе. А больше всего радовало, что директор разрешил приводить с собой детей и кормить их обедом в счёт её заработка. Теперь все её детки, сытые и весёлые, играли с другими детьми у неё на глазах, и душа Насти обретала долгожданное успокоение.
Месяц пролетел быстро, обожженная рука прачки зажила, она вновь вышла на работу. Настя со страхом ждала, что с ней будет дальше, не придётся ли ей вновь скитаться по чужим дворам. Робко переступила она порог кабинета директора, когда он пригласил её для разговора.
– Ну, как тебе, Настя, у нас?
– Да чего ж еще желать? Я при деле, дети сыты, на глазах.
– А пойдёшь к нам на постоянную работу, прачкой? Вижу, работать ты умеешь, и человек хороший. С Ниной вопрос решенный, с завтрашнего дня зачисляем её в один отряд с Лизой, а для тебя с Вениамином найдётся комнатка, чтобы заразу какую-нибудь не принесла нам ненароком из вашего жуткого барака. Комнатка, правда, тесная – чуланчик под лестницей. Кровать там поставим, одеяла, подушки дадим, чистоту сама наведёшь. Хоть условия и не ахти, но всё ж лучше и безопаснее, чем в «коммуне». Питаться будешь со всеми сотрудниками, зарплату получать, как все.
Не передать, с каким облегчением, собрав свои скудные пожитки, закрыла Настя за собой дверь ненавистного барака. Она не знала, что ждёт её впереди, но верила, что жизнь будет лучше, чем в коммуне. С любовью обустраивала она своё новое пристанище и впервые за долгие месяцы заснула спокойным сном, и не тревожили её сон пьяные выкрики, скандалы обитателей барака. У неё вновь появилась уверенность в завтрашнем дне и способность радоваться жизни.
Глава 18. Птица Феникс
Никто не радуется погожим летним дням так, как северяне. А лето в тот год на Вятчине выдалось на редкость тёплым. Сергей Степанович шел на работу, с удовольствием подставляя лицо солнечным лучам, свежему утреннему ветерку. Толкнув калитку, вошёл во двор детского дома, приостановился, заметив гибкую женскую фигурку, склонившуюся над корзиной с бельем. Женщина вскинула руки, расправляя простынку, вытянулась в струнку. Услышав шаги, оглянулась. Разрумянившееся от работы лицо озарила приветливая улыбка, короткие пряди русых волос выбивались из-под узорчатого гребня. Сергей Степанович удивлённо развёл руки, оглядывая лёгкую поплиновую блузку с кружевным воротничком, новую ладную юбку, модные туфельки на каблучке с ремешками вокруг стройных лодыжек.
– Настя, ты ли это?! Да тебя не узнать!
– Я, Сергей Степанович. С добрым утречком. Вот, сшила себе обновы… чтобы не хуже других ходить.
– Ты прямо как птица Феникс возродилась из пепла.
Кто такая эта «птица Феникс» Настя не знала, но эти слова, а особенно интонация, с которыми они были сказаны, живо напомнили ей мужнино «птаха моя», сердечко замерло, потом забилось, заливая щеки алой краской. Как весенний росток, тянущийся к солнышку сквозь утоптанную, промёрзшую землю, в ней вновь просыпалась Женщина.
Сергей Степанович в задумчивости вошел в свой кабинет. Он вспомнил, какой была Настя, впервые переступив порог детского дома. Прошло всего-то неполных четыре месяца, а перед ним предстала совсем другая Настя. Занятый делами, он просмотрел, когда, как произошло это преображение. Надо же, всего-то более-менее сносные условия жизни, нормальное питание, душевное равновесие – и вот уже её всепобеждающая женственность будит в нем не жалость, а совсем другие чувства…
Во дворе детского дома росла старая яблоня. Ствол её почернел, покрылся лишайниками, на сухих ветвях почти не осталось листвы. И давно бы её спилили на дрова, если бы не целая рощица молодых стволов, выросших прямо из корней старой яблони и окруживших её частоколом со всех сторон. Их раскидистые ветви были покрыты густой листвой сквозь которую желтели глянцевыми мячиками спеющие яблочки. В кружевной тени этой яблони устраивалась Настя под вечер со стопкой детских вещей и жестяной банкой с нитками, иголками, лоскутами. Она любила эти спокойные часы. Пока ловкие пальцы пришивали заплатки, штопали детские чулочки, мысли её где только не витали! С этого места она видела почти весь двор, наблюдала за играющими детьми, строгим окриком пресекая затевавшиеся драки и шалости, переговаривалась с коловшим дрова Митричем, служившим сразу дворником, сторожем и истопником, болтала через распахнутое окно кухни с Петровной. Иногда замечала наблюдающего за ней сквозь окно своего кабинета Сергея Степановича, и смущенно отводила взгляд. Сюда к ней часто прибегали то Ниночка, то Лизонька, то Веночка, лакомились вялеными ломтиками яблок, которые Настя сушила в своей каморке под лестницей, делились своими детскими секретиками. Вечерами к Насте подсаживались старшие девочки, она учила их, как из обыкновенных толстых катушечных ниток связать себе нарядный воротничок, как пришить оборочку или кармашек к скучной казённой юбке.
Спокойные, неспешные дни шли и шли. Вот уже пожелтела крона яблони, пожухла трава под ней, покрылась опавшими листьями. По утрам изморозь прихватывала этот ковёр, а потом и первый снежок выбелил всё вокруг. Настя перенесла свои вечерние посиделки в тёплую столовую, освещенную молочным светом плафонов. Она не боялась надвигающихся холодов: детям выдали тёплые пальто, ботинки, шапки-ушанки. Себе смогла, наконец, купить тёплые вещи. Пальто, правда, пришлось взять унылое, серое, зато платок купила яркий, узорчатый, и ботиночки с меховой опушкой, на каблучке. Холода не заставили себя ждать, на Покров выпал настоящий снег, а на Настин тридцать третий день рождения и вовсе завернули морозы.
Как-то ранним декабрьским вечером её позвали в кабинет заведующего. Сергей Степанович был не один, у стола сидел пожилой мужчина в пропахшей бензином телогрейке.
– Настя, я знаю, что ты очень хочешь побывать в своей деревне, повидаться с роднёй. Тут вот машина пришла из Вятки, рано утром обратно отправится. Шофер согласился сделать небольшой крюк, завести тебя в Суны, а там уж недалеко, доберешься. Поедешь?
– А можно?
– Дам тебе неделю отпуска, заслужила. Хватит тебе недели-то?
– Хватит, хватит! Хоть бы одним глазочком на родню посмотреть!
– А обратно-то вернёшься? Не останешься в своей деревне?
– Куда ж я от детей? Вернусь, обязательно вернусь!
– Ну, решено. Собирайся. Да оденься потеплее, а то фасонить больно любишь. Попроси у Петровны пуховый платок и пимы, с зимой шутки плохи! За Вениамином старшие девочки присмотрят, ну и мы рядом, если что.
Рано утром, едва начало светать, поцеловав спящего сынишку, закутанная в тёплую шаль Петровны Настя забралась в кабину грузовика, и машина, фырча и чихая, выехала со двора детского дома.
Шофер оказался молчаливым, сказал только, что зовут его Иван Иванычем. Настя с уважением поглядывала на сурового спутника: надо же, с такой махиной шутя управляется! Это сколько же знать надо, чтобы она тебя слушалась! Белое полотно дороги послушно ложилось под колёса. Желтый свет фар выхватывал тёмные силуэты деревьев на обочине. Заяц метнулся из кустов через дорогу перед самым капотом. Шофер чертыхнулся, проворчал: «Плохая примета!».
Под мерное гудение мотора, пригревшись, Настя сама не заметила, как уснула. Сказалась бессонная ночь накануне, от волнения перед предстоящим путешествием Настя не сомкнула глаз.
Разбудил её толчок на ухабе. Открыла глаза и тут же снова зажмурилась: вокруг, сколько хватало взгляда, искрился на солнце чистый снег, перерезанный тёмной полосой дороги. Машина резво бежала по укатанной колее.
– Проснулась? Вот и ладно. Может, песню какую знаешь? Спой, всё веселее ехать будет.
Прокашлявшись, Настя несмело завела свою любимую:
– То-о не ве-ететер ве-етку клонит,
Не-е дубра-авушка-а-а шумит,
То моё-о, моё сердечко сто-онет,
Ка-ак оси-ины ли-ист дрожит.
Иван Иваныч подхватил песню, и голос Насти зазвучал уверенней, наполняя пространство. Следом завели дуэтом «Степь да степь кругом».
– Что-то все песни у тебя печальные.
– Какая жизнь, такие и песни.
– Ты это брось, совсем тоску нагнала. Знаешь чего повеселее? Чай, к родне в гости едешь.
Подумав, Настя запела:
– Сердце в груди бьется как птица…
От светлой песни на душе повеселело. Машина летела по дороге, а Насте казалось, что это она сама, душа её летит над дорогой, над чистыми снегами, вперед, к родному гнезду. Иваныч заулыбался, сдвинул шапку на затылок. Смеясь и подсказывая друг другу, они перепели все песни, какие знали по несколько раз, съели все пирожки, приготовленные заботливой Петровной Насте в дорогу, хлеб с салом, припасённый Иванычем.
На тракте всё чаще попадались встречные машины, груженые сани. И вот по сторонам замелькали знакомые дома. Суны. Машина затормозила на поселковой площади.
– Приехали. Так где, говоришь, твоя деревня?
Настя объяснила. Иван Иваныч махнул рукой:
– Эх, семь бед, один ответ. Сидай обратно! Крюк небольшой, довезу, а то замёрзнешь дорогой, Сергей Степаныч меня потом с кашей съест. Губа у него не дура! Ладно, ладно, не отнекивайся! Вижу, как он о тебе печется.
Настя смутилась:
– Что вы такое говорите? Он женатый человек.
Иваныч усмехнулся, но промолчал. Через полчаса машина остановилась на пригорке.
– Всё, Настёна, дальше дойдёшь. Дорога не чищена, склон скользкий, застряну, не дай бог.
Отвёл руку Насти с приготовленными деньгами.
– Прибереги гроши, самой пригодятся. А со мной, считай, песнями расплатилась.
Машина развернулась и скрылась в облаке снежной пыли, Настя остановилась на макушке пригорка. Это было то самое место, откуда много лет назад она с подружками высматривала, в чей двор свернёт телега со сватами.
Пустынники лежали в низине, как на ладони. Столбики дыма поднимались ввысь над кровлями, обещая морозы. Где-то лениво гавкала собака, протяжно замычала корова. Родные звуки, запахи, знакомые до досочки дома. Столько раз ей это снилось! В самые горькие моменты поддерживала её надежда оказаться здесь, вернуться в отчий дом. Вон, вьется над его крышей дымок, обещая тепло. Настя смахнула слезинку и поспешила вниз.
Идя по родимой улице, здоровалась с каждым домом, замечала перемены. Около избы Акулины новый забор, починены ворота, да и сама изба словно приосанилась. Настя остановилась у своего забора. Незнакомый мужик заводил лошадь в сарай, тот самый, в который запер её отец перед свадьбой. Мальчишка лет двенадцати разбирал упряжь. На крыльцо вышла баба в чунях на босу ногу.
– Котька, паршивец, сколько вас ждать?! Картошка стынет. Зови отца!
Заметила Настю:
– А тебе чего надо? Кто такая?
– Мне бы Павла Яковлевича, я дочка его, Настя.
– Нету тут таких.
– Как нету?! Это же его дом.
– Был его, стал наш. Купили мы его. Давно, лет, почитай, шесть тому назад. А прежний хозяин с семьёй уехал. Куда – не спрашивала. Я в чужие дела нос не сую, не то, что некоторые, – баба неодобрительно кивнула на соседский дом.
– Да идёте вы, черти, или нет! – зычно крикнула она, уперев кулаки в крутые бока и повернувшись к Насте спиной.
С тяжелым сердцем отошла Настя от забора. Даже на порог дома, в котором она выросла, её не пустили! Между тем вечерело, и мороз крепчал. Настя заторопилась по знакомой тропинке через рощу в соседние Халевинцы. Издалека заметила неладное, перебежала мостик, выбежала на околицу и остолбенела. На месте избы Еремея и Пелагеи чернело пепелище. Обугленные стропила, словно рёбра скелета, торчали над закопченными стенами, ветер гулял сквозь разбитые окна.
Настя тихонечко заголосила. В соседнем дворе, почуяв чужого, залаяла собака, к ней присоединились другие псы по всей деревне. На шум на крыльцо дома вышла женщина, вгляделась из-под руки в тёмную фигуру на дороге и, всплеснув руками, поспешила к ней.
– Батюшки, никак Настя?! Ты ли это?
– Я, Глафира Игнатьевна, приехала родню навестить, да лучше бы не приезжала…
– Да у тебя, сердешная, губы от холода посинели! Пойдём в избу, там поговорим.
Пока Настя раздевалась, осматривалась, бывшая соседка сноровисто собирала на стол.
– Присаживайся-ка к столу, перекуси, чем бог послал, а там поговорим.
Из-за занавески выглянул заспанный сосед.
– Вот бабы—балаболки, чего свет зря жжете?
– А ты не ворчи! Дыру уж, небось, в перине проспал. Пойди-ка лучше баньку затопи, вишь, человек с дороги, замёрз.
Глафира Игнатьевна рассказала Насте, что года три тому назад в соседский сарай угодила молния. Ну и заполыхало. А дело было ночью, пока хозяева проснулись, пока соседи спохватились, уж и дом занялся. Потушить – потушили, да от дома мало что осталось. Хорошо хоть Еремей с Пелагеей выскочить успели. Погоревали они, погоревали, и подались в город, в Вятку. А где их там сыскать, про то соседи не знают, слыхали только, что на заводе каком-то работают. Ну, значит, не под открытым небом живут.
Про Настиных родных соседка слыхала, что Мария, старшая дочь мачехи, вскорости после отъезда Георгия с Настей вышла замуж за приезжего и уехала с ним. Сказывают, куда-то на Урал, в большой город, а название Глафира запамятовала. А потом и Павел Яковлевич с Татьяной вдруг спешно продали дом, хозяйство. Лавку, которую они с сыновьями держали в Суне, отобрали, ладно, хоть самих не выслали. Не успели. Павел Яковлевич с семьёй уехал из деревни, сказывали, к Марии подались.
– А братья? Паня, Серёжа. Тоже уехали? —спросила Настя.
– Паня с семьёй в Вятку, на завод подался. Вот только на какой, не знаю. А Серёжка где-то здесь, в Сунах, видимся изредка. А адреса не скажу, потому как не знаю.
– Так вот почему на письма мои никто не отвечал… не доходили они, значит… Утречком пойду в Суны искать брата. Человек, я чай, не иголка, найду, – решила Настя.
После всех переживаний этого длинного дня, после теплой баньки и полной миски каши, Настя уснула, как убитая, на широком сундуке, под пахнувшем овчиной новым тулупом. Утром бывшие соседи заложили сани и повезли Настю в райцентр, заодно решив справить свои дела. Последний раз проехала Настя по улице родимой деревни, с холма оглянулась. Больше никогда не суждено было ей вернуться в эти места. А позже, при строительстве плотины, и Пустынники, и Халевинцы ушли под воду, навсегда сгинув с лица земли.
Глава 19. Встреча с прошлым
Настя не спеша взошла по широким ступеням на крыльцо Сунского сельсовета. Сколько раз бегала она по ним в детстве, когда здесь была церковно-приходская школа! Вспомнила, как поднималась по этим ступеням расписываться с Егором, а слёзы застили глаза, и как птицей взлетела по ним рука об руку с Гешей. Многое вокруг изменилось за прошедшие годы. Ступени и само крыльцо отремонтировали, выкрасили суриком, на новой двери красовалась начищенная до блеска медная ручка. Вместо широкого двора, где когда-то играли на переменках вместе она, Геша, Егор, Акулина и все, с кем прошло её детство, теперь была площадь, стояли машины, запряженные в сани лошади.
Толкнув дверь, Настя вошла в полутемный коридор, огляделась. Внутри тоже всё изменилось, обновилось, вдоль стены стояли крашеные скамьи для посетителей. Из приоткрытой двери справа доносился быстрый стук пишущей машинки. За дверью слева хриплый мужской голос кричал: «Алё… алё, нет у меня запчастей…, я говорю, запчастей нет! Алё…, чего? А пёс знает, когда будут!»
Настя шагнула к приоткрытой двери, но не успела её толкнуть, как та распахнулась, и на пороге возник мужчина в расстёгнутой серой борчатке и светлых пимах с блестящими чёрными галошами. Настя сразу узнала Егора, бывшего своего мужа. Лёгок на помине! Прошедшие годы сильно изменили его, он посолиднел, обзавёлся заметным брюшком, светлые волосы поредели, взгляд стал уверенным, каким-то хозяйским.
Егор тоже сразу узнал Настю, хотя и она, надо думать, сильно изменилась.
– Настёна, это ты? Да откуда ж ты взялась?!
– Я это, Егор. Здравствуй.
– Ну, здравствуй, Настёна, здравствуй.
– Приехала родню повидать, да никого не застала.
– Да, да, они давно уж уехали из наших мест.
– Говорят, Сережка здесь, в Сунах теперь живёт, надеюсь адрес узнать. Может, ты знаешь?
– Сергея вижу, бывает. Но где живёт, не спрашивал. Найдём, не сомневайся, помогу. А где же ты остановилась, ведь у тебя тут никого больше нет?
– Нигде…, да я повидаться только, на денёк. Потом обратно, к детям.
– Тогда едем к нам. Вот Акулина-то обрадуется! И не спорь, не спорь, неужто подружку свою закадычную увидеть не хочешь? А пока вы разговоры разговариваете, я адрес Сережки узнаю и тебе на блюдечке принесу.
И не слушая возражений Насти, Егор надел каракулевую папаху на голову и вышел на крыльцо. Насте ничего не оставалось, как пойти за ним, кто ещё будет ей здесь помогать?
Через полчаса сани остановились перед крыльцом знакомого дома. Вместо глиняного пристроя, в котором Настя жила с Егором, красовались новые бревенчатые стены с окошками в резных наличниках. Теперь дом, и в прежние времена считавшийся добротным, смотрелся куда как больше! Только вошли в сени, распахнулась дверь горницы, на пороге возникла Акулина, вытирая перепачканные мукой руки о фартук.
– Егорушка, что-то ты рано приехал, я ещё с обедом не управилась. А это кто с тобой?
– Да ты гостью-то в дом впусти, там увидишь.
Настя скинула шаль, пригладила волосы.
– Ну, здравствуй, подружка. Аль не признала?
Акулина, охнув, опустилась на табурет.
– Неужто Настя? Жива-здорова? Откуда ты взялась?
И тут же радость в глазах сменилась беспокойством, Акулина бросила быстрый взгляд на мужа, на гостью, снова на мужа. Настя заметила перемену, улыбнулась.
– Я это, подружка, я. Приехала на пару дней родню повидать, да никого не застала. Зашла в сельсовет, узнать адрес брата, там с Егором и столкнулись. Вот, уговорил к вам в гости заглянуть, с тобой увидеться. Я не надолго.
– В общем, вы тут, бабоньки, побалабольте, разговоров до вечера вам хватит, а мне пора, дел по горло.
Егор вышел в сени, Акулина кинулась проводить мужа. Настя огляделась.
При встрече со знакомыми, которых мы давным-давно не видели, в глаза сначала бросаются перемены в их облике, потом узнаем знакомые черты, и вот уж словно и не расставались надолго. Так и сейчас, сначала Настя увидела новые тюлевые занавески на окнах, этажерку в простенке с радиоприемником, заботливо прикрытым от пыли вышитой салфеткой, стулья с гнутыми спинками вместо скамьи, яркую клеенку на столе. А стол-то тот же самый, добротный, с фигурными ножками. И резной буфет тот же. Те же ходики на стене, знакомый половичок под ногами, трещина вдоль бревна над окном. На миг она словно окунулась в давно прошедшие дни.
Акулина вернулась в горницу, захлопотала возле стола.
– Вот, пироги затеяла, как чуяла, что гостья будет. Щас я быстренько управлюсь, а там и поговорим за чайком, расскажешь, как вы с Георгием живёте.
– А давай я тебе подсоблю, вдвоём веселее получится. Непривышная я сидеть, смотреть, как другие работают, – вызвалась Настя.
Между делом они приглядывались друг к дружке, отмечая происшедшие перемены. Акулина сильно раздалась вширь, лицо тоже округлилось и как-то оплыло, появились заметные морщинки. Однако движения остались такими же быстрыми, а взгляд таким же приветливым с затаённой хитринкой, как в молодые годы. Сколько помнила её Настя, подруга никогда не унывала, не опускала рук, как бы тяжело ей не приходилось.
Отец Акулины рано надорвался, пытаясь вытащить своё многочисленное семейство из тисков бедности, и вместо кормильца превратился в обузу для жены. Акулина была старшей из семи детей, так что тяготы их положения легли и на её девичьи плечи. И, судя по их дому в Пустынниках, выкарабкалась сама и семью вытащила. И всё благодаря удачному замужеству да своему цепкому, неунывающему характеру.
Вскоре подруги уж сидели за самоваром, от печки шло тепло и аромат пекущихся пирожков с капустой, уютно тикали ходики. Настя рассказывала о своей жизни, Акулина ахала и утирала слёзы. Настя в своём рассказе старалась смягчить бедственность своего положения, не хотелось в чужих глазах выглядеть такой уж несчастной, но и того, что рассказала, хватило обеим для слёз.
Декабрьский день короток, только разгорится, а уж смеркается. Зажгли лампу. Во дворе залаяла собака, заскрипели ворота. Акулина выглянула в окошко:
– Вот и свёкор вернулся, – и захлопотала, накрывая ужин.
Терентий долго возился во дворе, распрягая лошадь, потом гремел вёдрами в сенях, наконец, вошёл в горницу. Глянул на заплаканную Настю, молча сел к столу.
– Объявилась, беглянка? Похоже, не больно много счастья набегала? Чего глаза на мокром месте?
– Сколь есть, всё моё, и счастье, и горе.
– Настя с братьями приехала повидаться, вот и к нам заглянула, – вмешалась Акулина.
– Угу. Ты это, дочка, чарочку налей, да я спать пойду, устал.
Поужинав и выпив, Терентий, не замечая больше Настю, ушел в соседнюю комнату, заскрипел кроватью, надсадно закашлялся и затих.
– Видать, не простил тебя тятя.
– Постарел сильно дядька Терентий, какой-то смурной стал. Вроде, раньше таким не был.
– Это он сдал сильно, как жену похоронил, ничего его теперь не радует.
– Тётка Марфа померла?! – ахнула Настя.
– Да, в одночасье. Почитай, года два назад… Поначалу больно о тебе жалела, меня никак принимать не хотела. Потом смирилась, полюбила даже, тоже дочкой звала.
– Что-то Егора долго нет, темно уж совсем, – глянула Настя в окно.
– Так я его только ночами и вижу. У него хлопот невпроворот, председатель колхоза, я чай.
– Егор? Председатель колхоза?! – ахнула Настя. – Вот это новость! Ай да Егор! Ну, не удивительно, с такой-то хваткой женой. Любого в председатели выведет.
Акулина рассмеялась, махнула рукой: – Скажешь тоже, я при чём?
Егор вернулся совсем поздно, положил на стол перед Настей листок:
– Вот адресок. Видал сегодня Серёгу, ждёт тебя утречком в гости. Я отвезу.
Ночевала Настя в комнате, построенной на месте глинобитного пристроя, в котором прошёл их с Егором «медовый месяц». И хотя постель была мягкой, ей не спалось. Она прислушивалась к ночным шорохам и скрипам, похрапыванию, доносящемуся из соседней комнаты, и думала о детях. Откуда-то взялась тревога, как они там без неё, здоровы ли. Настя уговаривала себя, что прошло только двое суток, как она уехала, что дети под надёжным присмотром, но беспокойство росло. Решив, что завтра, повидавшись с братом, она сразу поедет в Вятку, к старшему брату, Пане, а оттуда на поезде вернётся в Кизнер, а значит, через два дня увидит своих родненьких, она успокоилась и уснула.
Едва рассвело, Егор с Настей поехали в райцентр. Акулина всплакнула, провожая подругу, перекрестила её украдкой на крыльце, однако в глазах читались не только печаль, но и облегчение, что бывшая любовь мужа уезжает навсегда.
Утро выдалось ясным, с лёгким морозцем. Лошадка шустро бежала по искристому снегу. Весело поскрипывал снег под полозьями. Вместе с ночным сумраком растаяла тревога, Настя радовалась предстоящей встрече с любимым братишкой.
– Эх, Настёна, Настёна! Не жалеешь, что сбежала от меня? Жила бы, как у Христа за пазухой, не пришлось бы столько горя мыкать, – оглянулся Егор.
Настя и сама думала об этом бессонной ночью. Смирись она, не сбеги одиннадцать лет назад от нелюбимого мужа, и не было бы в её жизни ни нищеты, ни вонючего барака, в котором нет покоя ни днём, ни ночью, ни тифозной палаты, ни маленького одинокого холмика с кое-как сколоченным крестиком на пустыре за бараком. Но не было бы и горячих, страстных ночей, ласковых рук любимого, задушевных вечерних посиделок под рябиной, счастливых, наполненных заботой о своей семье дней. Вспомнилось, как Геша вместе с ней радовался первым зубкам, первым шажкам, первым словам их деток, сколько нежности и любви дарил ей. Ответ пришёл сам собой.
– Нет, Егор, не жалею. Останься я тогда, было бы четырьмя несчастными людьми на свете больше.
– Это почему?
– Какое же счастье без любви? Ведь и ты меня по-настоящему не любил. Так, мать послушался, а потом пересудов людских испугался. Акулина твоей судьбой была, я ж видела. Живёте вы душа в душу, об чём тебе жалеть? А мы с Гешей хоть и прожили всего девять лет, но в любви и согласии. И детки наши в любви рожденные. Я эти девять лет ни на какие блага не променяла бы.
– Может, ты и права, – помолчав сказал Егор, – Акулина жена, каких мало. Вот только деток у нас нет, не родит никак. Теперь уж, наверное, и не будет. А ты бы мне детей нарожала. А так… состаримся в пустом доме, кому всё оставлю? Ванятка с Машуней, младшенькие брат с сестрой Акулины, как в гости придут, так ровно солнышко в дом заглядывает. Играю с ними, про всё забываю. А сердце тоской сжимает – кабы свои такие были…
– А ты этим радуйся, в них душу вкладывай. Вырастут, тебя как родного отца почитать будут. Да может, еще своего родите, не старые ещё.
– Твои слова, да богу в уши, – вздохнул Егор.
Сани остановились перед небольшим домом в три окошка на окраине райцентра. Тут и простились Настя с Егором навсегда.
Глава 20. Братья
От дома к Насте спешил крепкий русоголовый мужчина в наброшенном на плечи тулупе. Настя не сразу признала в нём братишку. Когда расставались, он был шустрым розовощёким юношей с лёгким пушком над верхней губой. А теперь перед ней стоял коренастый, широкоплечий мужик, лицом, фигурой, окладистой бородкой похожий на их отца, Павла Яковлевича.
– Сестрёнка, как я рад тебя видеть! – обхватил, закружил, увлёк в дом.
В горнице её встретила светловолосая худощавая женщина с приятным улыбчивым лицом. На полу склонили над кубиками светлые головки две девчушки.
– Вот, сестрёнка, знакомься, это жена моя, Ульяна, и дочки Нина и Шура. Девочки, ваша тётя Настя приехала, бегите сюда.
– Ох, а я-то с пустыми руками, я и не знала, что у меня племянницы есть! – растерялась Настя. – А давайте я кукле вашей платьишко сошью, вот и будет подарочек, лоскуток найдётся? – Настя подняла с пола пупса.
Ульяна быстро собрала на стол нехитрый завтрак. К столу вышли тёща Сергея и тесть. Особой радости по поводу гостьи они не проявили. Тёща, задав пару вопросов Насте, поджала губы, тесть вообще помалкивал и, казалось, замечал только внучек. Настя подумала, что не так уж сладко живётся её брату в этом доме. А вот Ульяна сразу пришлась ей по сердцу – спокойная, с добрым открытым взглядом васильковых глаз.
Настя обратила внимание на необычную солонку в виде избушки на столе.
– Так это вот Серёжина работа, он у нас на все руки мастер, хоть вон табуретки сделать, хоть ложки, хоть сундучок. А намедни такого Петрушку дочкам смастерил, мы все играем!
Шурочка тут же спрыгнула с табуретки и принесла тётке ярко раскрашенного фанерного Петрушку, у которого двигались руки и ноги, если дёргать за верёвочку. Настя вспомнила, как ещё в детстве братишка любил строгать палочки и что-нибудь из них мастерить. Вот и пригодился талант, хорошим столяром стал.
Пока Ульяна убирала со стола, хлопотала по хозяйству, брат с сестрой устроились у окна, где посветлее, поговорить о своём житье-бытье. Настя кроила кукле платье, любопытные племяшки крутились рядышком. Младшая, Шурочка, смотрела на тётку, как на новую нежданную игрушку, норовила залезть на колени, обнять за шею, теребила Настины волосы, воротничок. Старшая, Нина, держалась настороженно, но любопытство брало верх, и её светлая головка тоже склонялась над Настиным рукоделием. Настя поглядывала на брата и улыбалась: неужели этот мужчина и есть тот малыш, которого она всюду таскала на руках, которого шлёпала за шалости и защищала от рассерженных гусей, из-за которого не могла угнаться за стайкой непоседливых подружек и плакала от обиды? Тогда-то они и подружились с Акулиной, тоже всюду таскавшей на себе младшую сестрёнку.
– Года через три как вы уехали, зимой тридцатого года это было, – тем временем рассказывал Сергей, – батя приехал домой совсем смурной. Сказал, что лавку нашу в райцентре закрыли, весь товар конфисковали. Он тогда уж был председателем райпотребсоюза в Сунах, думал, его-то не тронут. Ан нет! Всё отобрали и сам райпотребсоюз ликвидировали. А ночью прискакал Егор Крестьянинов, предупредил, что нас внесли в списки кулаков, чтобы готовились к раскулачиванию. А какие мы кулаки? Батраков отродясь не держали. Жили крепко, так ведь всё своим горбом, своими руками, ты же знаешь. Да у нас и не было кулаков, в Пустынниках-то. А начальству, видать, надо было отчитаться по раскулачиванию, вот нас и записали.
Той же ночью батя с Татьяной решили всё хозяйство, дом срочно продать, а самим податься к Мане, в Челябинск. У неё как раз дитё народилось, помощь нужна была…
– В Челябинск?! – ахнула Настя. – Так это ж совсем рядом с Аргаяшем! Это, выходит, тятя все эти годы совсем близко от нас жил?!
Настя схватилась за голову.
– Это, выходит, я продала наш дом, поехала с детьми в такую даль к отцу, а он там совсем рядом был?! Так что же вы мне ни словечка не написали?!
– А куда? Ты уехала и как в воду канула, адреса не сообщила…
– Я писала, сколь раз писала, а ответа не получала!
– Это, видать, Татьяниных рук дело. Видать, она письма твои отцу не отдавала…, она с годами всё прижимистей становилась, хотела, чтобы всё добро ей с дочками досталось, вот и постаралась тебя, да и всех нас, с дороги убрать. Так и вышло. Дом, хозяйство, всё распродали в считанные дни за бесценок, и уехали. В Челябинске на вырученные деньги домишко купили. Маня-то с мужем в общежитии жили, негде было родителей и сестру разместить. Вот они все вместе в этом доме и поселились. А нам от родительского наследства ни копеечки не досталось, ни мне, ни тебе, ни Пане. Мне пришлось в примаки пойти, ладно Улюшка за меня, бездомного, пошла. Хорошо живём, ладно. Тёща только косится…, ну, ты сама видела. Тесно им, мешаем…
– Погоди, ты сказал «наследство»? Что это значит?
– Ну да. Батя то помер. Ты-то ведь и не знаешь…
– Как помер?! Когда?
– Да совсем недавно, года не прошло…, в апреле.
У Насти закружилась голова, всё поплыло перед глазами. На ватных ногах она вышла на крыльцо, опустилась на ступеньку. Сережка вышел следом, набросил свой тулуп на спину сестры, присел рядом. Настя плакала, уткнувшись в плечо брата.
– Да что же это такое? За что? Столько смертей за два года! Самые близкие люди уходят один за другим: муж, дочь, отец…. Ведь рядом жили, и не повидались, не простились…
Настя вспомнила, как в одну из ночей в больничной палате она проснулась с ощущением, что рядом кто-то стоит и этот кто-то – отец. Она не открывала глаз, боясь спугнуть это чувство, но словно видела его каким-то внутренним взором. Он тихо присел на край кровати, его дыхание скользнуло по щеке, лёгкое прикосновение отцовской руки к её волосам… и всё пропало. Настя открыла глаза, рядом никого, только спящие соседки по палате. Тогда она решила, что это горячечный бред, а это, видать, душа отца с ней попрощалась.
Много лет спустя Настя узнает, что в те страшные дни, когда она ездила в больницу к умирающему мужу, путь её проходил почти мимо дома, в котором постаревший, уже серьёзно больной отец тосковал по родным детям, особенно о ней, своей любимице.
После обеда Сережа с Настей засобирались в Вятку, к старшему брату. Настя торопилась, неясное беспокойство гнало её назад, к детям. Да брат и не задерживал её. Настя понимала его, не хозяин он в доме. Егор помог найти попутку, в кабине машины теплее, чем в санях, а путь не близкий. Сердечно простившись с Ульяной и с племяшками, Настя навсегда покинула Суны. И без вопросов было ясно, что здесь ей с детьми приткнуться некуда.
К вечеру благополучно добрались до Вятки. После тихих улочек Кизнера, губернский город поразил Настю большими домами, витринами магазинов, обилием людей на улицах, шумом проезжающих машин. Она вздохнула с облегчением, когда они с Серёжкой добрались до дома, в котором жил Паня. Дом был большой, трёхэтажный, с улицы смотрелся солидно, но пройдя через подворотню, они увидели облезлые стены, опрокинутый мусорный бак, груду каких-то ящиков. На темной лестнице пахло кошками и мочой. Поднялись на второй этаж. Около обшарпанной двери друг над другом лепились разномастные кнопки звонков. Позвонив, долго ждали. Наконец, дверь открыла женщина в цветастом байковом халате. Короткие каштановые волосы обрамляли лицо с тонкими правильными чертами. Она была бы красавицей, если бы не усталый, какой-то потухший взгляд тёмных глаз. Настя с трудом узнала в ней Валентину, жену старшего брата. Когда-то, в юности, Настя восхищалась её красотой, нарядами, манерами, даже старалась ей подражать.
– Серёжа? Так поздно? Что-то случилось? Ты с кем это?
И тут же, вглядевшись в полумрак, ахнула:
– Настя! Нашлась! Вот радость-то, вот Паша обрадуется! Ну, проходите скорее.
Они прошли по длинному полутёмному коридору, заставленному сундуками, шкафами, колясками, велосипедами. По стенам висели корыта, детские санки, лыжи. Справа и слева в коридор выходили плотно закрытые двери. Лишь одна дверь была открыта, вернее, её не было вообще, – в ярко освещённую кухню. Там теснились столы, шипели керогазы, хлопотали женщины, готовя нехитрый ужин. Всё это напомнило Насте барак в Кизнере. Немногим лучше, разве что народ городской да стены каменные.
Отворив дверь в конце коридора, гости попали в тесное пространство, огороженное двумя шкафами. По правую руку от двери висели детские и взрослые шубейки, в ряд выстроились пимы и ботинки, по левую втиснулся кухонный стол, заставленный кастрюлями, чайником, всякой кухонной утварью, над ним висела полка с тарелками, чашками. Пройдя между шкафами, они оказались в маленькой комнатке, служившей одновременно гостиной, столовой и спальней хозяевам. Между железной кроватью с никелированными шариками и горкой подушек и чёрным клеенчатым диваном едва помещался стол. За диваном приткнулась забитая книгами этажерка, а за кроватью, у окна, стояла тумбочка с зеркалом, судя по баночкам и флакончикам на ней, служившая хозяйке туалетным столиком. Слева, через приоткрытую дверь между шкафом и диваном, слышались детские голоса. За столом над разложенными бумагами и счётами склонил голову Паня. Он в их семье был на отличку, повыше остальных, темноволосый, кареглазый, в материного отца удался. И характером другой, сдержанный, немногословный, «себе на уме» – говорил о нём отец. В семье всегда держался особняком, на младших поглядывал свысока, однако, заботился о них на деле, не на словах.
Настя с болью заметила поседевшие виски, усталые морщинки на осунувшемся лице, ссутулившиеся плечи брата. Он взглянул на вошедших и выронил карандаш из рук.
– Настя! Живая, здоровая!
Полчаса спустя, когда первая суматоха вокруг гостей улеглась, Настя сидела за наспех накрытым столом в окружении родных и чувствовала себя почти счастливой. Наконец-то не одна, наконец-то близкие рядом. Как ей не хватало их тепла и заботы! Она отвечала на расспросы, рассказывала о своих бедах, расспрашивала сама.
После конфискации отцовской лавки и спешного отъезда отца Паня остался без заработка. Он к тому времени закончил бухгалтерские курсы, да и опыт кое-какой имелся, в лавке отца он вёл всю бухгалтерию, но найти другую работу в небольшом райцентре никак не удавалось. Хозяева дома, в котором Паня с Валентиной и маленьким сынишкой снимали комнату, прознав о его трудностях, тут же потребовали плату вперёд за полгода. Небольшие деньги, скопленные на свое будущее жильё, быстро таяли. А в семье ожидалось пополнение, Валентина ходила на сносях. Паня решился уехать в поисках работы в Вятку. Устроился сначала счетоводом, а потом и бухгалтером на завод. Вскорости ему дали эти две комнатки в коммуналке и он смог перевезти свою семью. Каким это было счастьем! Они почувствовали, наконец, твёрдую землю под ногами, больше не надо было мыкаться по чужим углам, переживать о куске хлеба на завтра. Вслед за первой дочкой родилась вторая. Дети немного подросли, и Валентина тоже пошла работать на завод, зажили не хуже других.
Дети сидели за столом вместе со взрослыми. Первенца, Николая, Настя помнила четырёхлетним карапузом, он был старше её Ниночки на два года. Теперь перед ней сидел двенадцатилетний подросток. От матери он унаследовал тонкие, правильные черты лица, от отца спокойный, сдержанный нрав. Невольно любуясь племянником, Настя с беспокойством подумала, что такая красота юноше ни к чему, одни проблемы от неё. Племянницы, две стрекозы Галя и Зоя, больше походили на отца, а младшая так и вовсе чем-то на неё, на Настю, похожа.
За разговором, расспросами не заметили, как наступила ночь. Благо, завтра воскресенье. Насте постелили на диване, Серёжа устроился на полу в детской. Настя никак не могла уснуть на неудобном диване, простынка под ней то и дело сбивалась, скользкая клеенка холодила кожу. И вновь неясная тревога не давала покоя.
Ясным, морозным утром братья отправились провожать Настю на вокзал. Коля увязался с ними, уж очень хотелось парнишке, если не самому поехать в путешествие по железной дороге, то хоть посидеть минуточку в вагоне, вдохнуть воздух дальних странствий, послушать тревожащие, зовущие гудки паровозов. Вокзал оказался недалеко. К облегчению Насти, побаивавшейся городских автобусов, трамваев, дошли туда пешком по весело поскрипывающему под ногами снежку.
– Ты вот что, сестрёнка, не обижайся на нас, – помявшись, сказал Паня, когда билет был куплен и пришло время прощаться.
– Мы понимаем, что ты надеялась вернуться домой. Но дома у нас больше нет, а нам приютить тебя с детьми негде, сама видела, как живём. Удалось тебе найти приют в детском доме – держись за него, а там, может, что изменится. Мы тебе ничем помочь не можем, разве что немного деньгами. Уж сколь можем. Вот, возьми племяшкам на гостинцы, или, может, одёжку тёплую им купишь, – Паня протянул Насте тоненький свёрточек.
Настя отнекиваться не стала, от братьев помощь принять не зазорно.
– Ты больше не пропадай, Настёна. Пиши, адреса наши теперь знаешь, – Серёжа обнял, поцеловал её на прощанье.
В вагоне было немноголюдно, зима всё же. Настя устроилась на жесткой полке у окна. Однообразное мельканье телеграфных столбов и голых ветвей на фоне бескрайних снегов навевало невесёлые мысли о том, что нескоро она теперь увидит свою родню, о своих несбывшихся надеждах обрести кров. Под мерный перестук колёс не заметила, как уснула. Благо, из вещей с собой была только холщовая сумка с гостинцами, наскоро собранная Валентиной, её Настя даже во сне не выпускала из рук. Настя проспала почти всю дорогу, сказались волнения и бессонные ночи. Когда проснулась, за окном темнело, на тонувших в снегу полустанках зажигались огоньки.
В Кизнер поезд прибыл вечером. На промёрзшем перроне ветер кружил позёмку. После тёплого вагона Настя быстро замёрзла. Пройдя здание вокзальчика, вышла на ту самую площадь, с которой начались её мытарства в Кизнере. Чуть ли не бегом она поспешила к детскому дому. Вот ещё два квартала, потом поворот, и она увидит приветливые огоньки детского дома, нырнёт в его спасительное тепло, обнимет соскучившихся детишек, а потом будет в столовой пить горячий чай с баранками в компании Петровны.
Настя свернула за угол, но вместо огоньков увидела тёмные окна, слепо глядевшие на притихшую улицу.
– Что такое? Электричество, что ли выключили? – встревожилась Настя. – Нет, в соседних домах свет есть.
Подбежав к калитке, Настя толкнула её. Калитка оказалась заперта. И не как обычно, на задвижку изнутри, а снаружи, на большой амбарный замок. Перепуганная Настя забарабанила по ней кулаками, что есть мочи. В ответ только жалобный скрип ветвей старой яблони на пронизывающем ветру. Настя заметила полоску бумаги, косо наклеенную на калитку и столбик ворот. В неверном свете раскачивающегося на телеграфном столбе фонаря разглядела фиолетовую печать с буквами ГПУ. Настя без сил опустилась прямо в сугроб. Мысли беспорядочно метались в голове: «Что делать? Куда бежать? Что с детьми? Где их искать?»
Глава 21. Новый дом, новые подруги
Двумя днями раньше в Кизнерский детский дом приехали сразу несколько проверяющих. Одни рылись в бухгалтерских книгах, другие считали банки и пакеты в кладовой, третьи ходили по спальням и разговаривали с детьми, время от времени записывая что-то в свои блокноты. Даже малыши понимали, видели по бледным, испуганным лицам взрослых, что надвигается беда. Раньше, бывало, придёт очередной проверяющий, пошуршит в бухгалтерии бумажками, и всё. А этих на машине привезли. Во все углы заглядывают, детей по одному приглашают в столовую и странные вопросы задают.
Лизу Халевину спросили, часто ли её наказывают. Она честно ответила: «Да».
– А за что? – вкрадчиво спросила полная тётка с закрученными на макушке в узел волосами.
– За майки.
– За какие майки?
– Ну, нам мальчишечьи майки дают, а я не мальчишка, я девочка! Я их обрезаю, и делаю из них девчоночьи рубашечки. А меня за это в угол ставят! – обиженно жаловалась Лиза.
Она, действительно, у всех маек, которые ей выдавала кастелянша после бани, обрезала верхнюю часть, выкраивала из неё бретельки и, как умела, пришивала их к нижней части. Кастелянша ругалась за испорченное бельё, выговаривала и воспитательнице, и Насте. Лизу наказывали, объясняли, что бельё казённое, всё без толку! Лиза, спрятавшись под кроватью, упорно перешивала майки.
Строгая тётка что-то записала в свой блокнот, и отпустила девочку.
– Ты зачем ябедничаешь? – зашипела на сестрёнку Нина. – Из-за тебя воспитателей накажут! Будет тебе потом «на орехи»!
– А пусть меня не ставят в угол! – упрямо набычилась та.
– А ты перестань резать майки!
– А вот и буду! Не хочу носить мальчишечье бельё.
Проверка закончилась поздним вечером. К детскому дому подогнали три грузовика и автобус. Из автобуса вышли несколько человек в милицейской форме. Вывели белого, под стать снегу, Сергея Степановича, бухгалтера – старичка в съехавших набок очках, растерянных Петровну и кастеляншу и усадили их в автобус. Притихшие, испуганные дети смотрели из окон спален, как увозят тех, кто заменял им семью. Затем воспитатели собрали все матрасы, одеяла, расстелили это всё в кузовах грузовиков. Детям велели одеваться потеплее и выходить на улицу, объяснив, что этот детский дом закрывается, а жить они будут в другом.
– Давайте возьмёмся за руки, и ни за что друг друга не отпустим, – велела младшим Нина, – а то увезут нас в разные детские дома, как нас мама будет искать?
– А она нас найдёт? – испуганно зашептал Веночка, и голосок его дрожал от волнения.
– Обязательно найдет, даже не сомневайся! Главное, сейчас, когда по машинам будут рассаживать, не потеряйся.
Детей выстроили во дворе и, проверяя по списку, по одному подсаживали в машины, велев укладываться на матрасы и укрываться одеялами. Дошли до сестёр Халевиных, тут выяснилось, что Вениамина нет в списках воспитанников детского дома. Его попытались оторвать от сестёр, но дети подняли такой дружный рёв, намертво вцепившись друг в друга побелевшими от напряжения пальцами, что один из милиционеров махнул рукой:
– Да пусть вместе едут, там, на месте разберутся. А здесь куда его? Не бросать же одного во дворе!
И детей так втроем и подняли в открытый кузов грузовика. После недолгой суеты зафырчали моторы, и грузовики с лежащими под одеялами детьми, по одному выехав со двора детского дома, поехали в ночь.
Лиза скоро уснула, с головой завернувшись в одеяло. Уснул и Веночка, свернувшись калачиком между сестёр. Нине не спалось. Бескрайняя чёрная бездна, сияющая миллиардами необыкновенно ярких звёзд, накрыла её и, казалось, весь мир. Полная луна в сияющем венце словно придвинулась к земле, с холодным равнодушием наблюдая за происходящим. Звёзды манили, подмигивали Нине, она слышала их тихий шёпот. Машина мчалась по ровному, накатанному зимнику, а ей чудилось, что она летит в бездонное пространство меж звёзд всё дальше и дальше от привычного мирка. Холод забирался под одеяло, окутывая тело и душу. «Как же мама разыщет нас?» – думала она сквозь дрёму.
Глубокой ночью грузовики въехали во двор большого каменного дома. Две воспитательницы, приехавшие с детьми из Кизнера, завели их в просторный, тёплый, ярко освещенный коридор, построили в шеренгу вдоль стены. Женщина лет сорока, энергичная, кудрявая блондинка с пачкой детских документов в руках начала перекличку. Детей, чьи имена назвали, группами по 7—8 человек уводили в спальни. Заминка возникла, когда дело дошло до Халевиных, заведующая никак не могла найти в списках этого мальчика, а он, вцепившись в руки сестёр, ни за что не соглашался их отпустить. К Веночке подошел молодой воспитатель, сам ещё юноша, бывший воспитанник этого детского дома. Он присел перед малышом, что-то тихонько ему объясняя. Умные глаза на некрасивом, словно вытянутом лице, светились добротой. И малыш затих, доверчиво положил маленькую ладошку в руку взрослого, дал себя увести в спальню мальчиков.
Нину с Лизой в числе других девочек тоже отвели в спальню. Восемь растрёпанных головок поднялось над подушками.
– Девочки, вот вам новые подружки. Завтра для них привезут и установят кровати, а пока им придется переночевать с вами. Разбирайте.
К Нине подошла черноглазая девочка с двумя косичками:
– Тебя как зовут?
– Нина Халевина.
– А меня Васса Преснякова. Пойдём ко мне.
На девочке была ночная рубашка в голубой цветочек, отделанная по подолу и вокруг горловины узкими полосками кружев. Такие же рубашки разных расцветок были и на других девочках. Нина никогда не видывала такой красоты. Даже в те счастливые времена, когда они жили в Аргаяше, дети спали в простых холщовых рубашечках.
– Какая красивая! – восхищенно вздохнула Нина, – а мне тоже дадут такую?
– Наверное. У нас у всех такие. Залезай скорей под одеяло, сейчас свет погасят. Девочки еще немного пошептались в темноте, и затихли. Васса заснула, уткнувшись носом в уголок подушки, а Нине не спалось, она жалась на краешке кровати, стараясь не стеснять её хозяйку, думала о рубашечке с кружевами, о новой подружке, о том, какая жизнь у них будет в этом большом чужом доме. Луна по-прежнему равнодушно смотрела на детей сквозь окно поверх узких белых, как в больнице, занавесок.
Пасмурным утром детей разбудил звонок. Васса показала сестрам, где висят умывальники. Одевшись, девочки построились парами и вышли во двор. Детский дом, в котором оказались дети, представлял собой целое хозяйство: два спальных корпуса, отдельно для девочек и мальчиков, столовую с кухней, баню с прачечной, мастерские, какие-то хозяйственные постройки. Около сарая мальчишки постарше пилили дрова. Другие, помладше, носили охапки полешек в кухню и прачечную.
– Это дежурные, они встают раньше других, в шесть утра, – пояснила Васса.
– В нашем детском доме тоже так было, – ответила Нина.
В столовой дежурные девочки в белых передничках расставляли на длинных столах тарелки с дымящейся манной кашей, раскладывали ложки.
– Смотри, сколько хлеба, – толкнула Лиза в бок сестру, кивнув на полные миски с аккуратно нарезанными ломтиками, стоящие в центре каждого стола. В Кизнере детям давали по одному кусочку хлеба к завтраку, обеду и ужину.
– А что, хлеба можно брать сколько хочешь? – спросила Нина новую подружку.
– Да, ешьте, сколько хотите, только выносить из столовой нельзя, чтобы в спальне куски не валялись, а то разведутся мыши, тараканы… у нас с этим строго. Дежурные в дверях проверяют.
– Хорошо у вас, мне нравится, – вздохнула Лиза, – только я так спрячу, нипочём не найдут!
Сестры обратили внимание на то, что дети не носят, как они, одинаковую темную форму. Девочки были одеты в нарядные платья разных расцветок и фасонов, на некоторых были светлые блузки и тёмные юбочки, на ногах добротные пимы с калошами. Собственные тёмно-синие сатиновые блузки и юбки и стоптанные холодные ботинки показались им уродскими. Особенно страдала и завидовала Лиза, с малолетства любившая всё яркое, нарядное.
– Нам-то когда дадут новые платья? – тихонько ворчала она.
Когда дети допивали чай, а дежурные уже собирали тарелки со столов, в столовую вошла бледная, взволнованная воспитательница.
– Дети, внимание! Сегодня занятия в школе отменяются. Всем срочно собраться в вестибюле спального корпуса!
– Кажется, что-то случилось, побежали быстрее – испуганно зашептала Нюра, круглолицая светловолосая девочка с открытым взглядом голубых глаз. Она взяла под свою опеку Лизу.
В уже знакомом девочкам просторном коридоре собрались все воспитанники детского дома и весь персонал. В середину вышла строгая женщина в тёмно-серой юбке и белой блузке с чёрным мужским галстуком. Из-под широкого гребня выбивались светлые вьющиеся пряди. Девочки узнали в ней ту самую женщину, которая ночью пересчитывала их в коридоре.
– Это заведующая, Александра Карловна, строгая – страсть! Её все боятся, даже воспитатели, – зашептала Васса Нине на ушко. А Нина озиралась, с беспокойством выискивая в толпе детей и взрослых братишку. Наконец увидела. Малыш крепко, как за соломинку, держался за руку воспитателя, словно и не выпускал её со вчерашнего дня.
– Тишина в зале! – властно крикнула заведующая, и гул голосов стих.
– Слушайте важное правительственное сообщение.
В тревожной тишине раздался щелчок и чёрная тарелка репродуктора ожила, зашипела.
– Вчера, 1 декабря 1934 года в 16 часов 37 минут от рук подосланного врагами рабочего класса убийцы погиб член Политбюро и ОРГбюро, секретарь ЦК ВКП (б), первый секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Миронович Киров.
– Кирова убили! – ахнул кто-то из воспитательниц. Некоторые заплакали, остальные растерянно молчали.
Из репродуктора полились торжественно-печальные звуки траурного марша. Позже детей собрали в комнате для занятий. Обычно здесь, за длинными столами, дети учили уроки, а сегодня одна из воспитательниц, девушка с толстой, на зависть всем девчонкам, косой, рассказывала кто такой Киров, что он такой же, как они, воспитанник детского дома, их земляк, живший неподалёку отсюда, в Уржуме. О том, как он вместе с другими революционерами боролся за советскую власть, как после революции стал ближайшим другом и соратником Ленина и самого товарища Сталина. И вот теперь враги его убили. Что всем советским людям надо быть бдительными, вместе бороться с врагами народа. Голос её звенел от волнения, и это волнение передавалось детям.
Нина смотрела в окно. Низкие свинцовые тучи ползли, цепляясь за макушки деревьев, грозя снегопадом. За деревьями и какими-то строениями угадывался берег замёрзшей реки.
– Что это за река? – спросила она Вассу.
– Шошма. Летом мы в ней купаемся. Летом здесь так красиво, вот увидите!
– А место это, куда нас привезли, как называется?
– Посёлок Малмыж, – шёпотом ответила подружка, – уездный центр, – с гордостью добавила она. Воспитательница недовольно оглянулась на них, и девочки замолчали.
Так началась новая страница в жизни детей. Они стали воспитанниками Малмыжского детского дома.
Глава 22. Люди добрые
Пронизывающий холод быстро привёл Настю в чувство. Стоять перед запертой калиткой опустевшего детдома было бесполезно. Необходимо позаботиться о ночлеге, чтобы с утра приняться за поиски. Настя решила вернуться на вокзал, переночевать в зале ожидания, больше идти ей было некуда. Авось не выгонят на мороз. Повернула назад и замерла, заметив в неверном свете качающегося под напорами ветра фонаря мужскую фигуру. В первый момент ей показалось, что та висит над землёй, потом рассмотрела, что это позёмка замела ноги. Человек стоял на углу, там, где заканчивался забор детского дома, и манил её рукой. Настя оглянулась, вокруг ни души. Ей стало не по себе. Всё же она пошла вперёд. Закутанная фигура скрылась за углом. Настя дошла до угла, повернула на соседнюю улицу. Та была пуста. Но вот из-за следующего угла выглянула та же фигура, вновь поманила её рукой и скрылась. Настя побежала по свежевыпавшему снегу, боясь потерять эту ниточку. Завернула за угол и вскрикнула, налетев на притаившегося там мужчину. Отскочила и тут же, узнав сторожа и истопника детского дома, кинулась к нему на шею:
– Митрич, миленький, ты? Как я рада, что это ты! Что тут случилось?
– Я, Настёна, я. Укараулил тебя, увидел, как ты в калитку бьёшься. Иди за мной, в тепле поговорим.
Они шли какими-то проулками, потом огородом и, наконец, вошли в тёплый дом.
– Ну вот, разблакайся и проходь к столу, поговорим, – сказал старик.
Из-за занавески вышла баба. Её полные груди, обтянутые холщовой рубашкой, покоились на ещё более объёмистом животе. Голова была наглухо повязана платком, и его концы торчали надо лбом на манер рожек. Уперев руки в округлые бока, хозяйка заворчала:
– Это ещё кто такая? Кого, старый, приволок в дом на ночь глядя?
– Цыть, баба! Своё дело знай! Ставь самовар, да собери на стол, чего есть.
– Дак вечеряли уже.
– Это ты вечеряла, а гостья нет. Живо, я сказал!
Баба, ворча, скрылась за занавеской, а Настя торопливо стала выкладывать на стол гостинцы, собранные Валентиной. Митрич достал начатую бутыль самогона, плеснул в два стакана, один придвинул Насте.
– Выпей для сугреву, тебе расхвораться никак нельзя.
– Опять за своё? Обещал же намедни! – баба бухнула на стол самовар.
– Цыть, я сказал! – хватил кулаком по столешнице Митрич, и баба тут же скрылась за занавеской.
Митрич принялся рассказывать, что произошло в детском доме два дня назад.
– Я в тот день приболел маленько, так с утра на работу не пошёл.
– Приболел он! Скажи, с похмелья встать не мог, ирод, – раздалось из-за занавески.
– От дал бог жену – язву! – неожиданно по-доброму усмехнулся старик. – Ну да, накануне у свата на именинах гуляли, перебрал чуток. К вечеру отошёл, стал собираться. Выглянул в окошко – батюшки-светы, во дворе детдома чёрная машина, милицейские. Я и не пошёл, отсюда наблюдал, чего там происходит.
Настя подошла к окнам. Дом стоял на высоком фундаменте на изгибе улицы, отсюда хорошо просматривалась и сама улица, и почти весь двор детского дома.
– Видал как подогнали автобус, – продолжал свой рассказ Митрич, – усадили в него Сергея Степаныча, бухгалтера, Петровну, кастеляншу, всё начальство. Видал как потом, совсем уж к ночи, подогнали грузовики, погрузили в них всех детей, воспитателей и увезли. Твои-то так друг в дружку вцепились, что их втроём в кузов и подняли, так что вместе они, не переживай. Далёко их увезти не могли, в открытых-то грузовиках. Где-то недалече искать надо.
Митрич плеснул себе в стакан еще самогону. Настя отказалась, ей и трети стакана хватило, чтобы согреться. Старик решительно убрал бутыль с глаз подальше.
– Ну вот, сижу теперь как таракан за печкой. Мы с тобой, конечно, шишки небольшие, не начальство, но кто знает, из-за чего сыр бор разгорелся? Лучше никому глаза пока не мозолить. Коготок увязнет, всей птичке пропасть. И ты без нужды не высовывайся, найду, через кого о детях разузнать. Невестку вон попрошу сходить в РОНО, якобы племянницу ищет.
– Спасибо тебе, Митрич! – с чувством сказала Настя.
– Да чего там… Жаль тебя, несчастную бабу. Хорошо, что я тебя в окошко углядел. Поживёшь пока у нас.
– А как бы мне вещи свои забрать из детдома, а то мне и переодеться-то не во что.
– Это мы спроворим, ключ от задней двери, где чулан, у меня есть. Хошь сейчас, пока ночь, ежели не боишься.
Дворы старика и детского дома разделял глухой проулок. Митрич отодвинул пару досок в заборе и они оказались на знакомых задворках. Через чулан, в котором хранились мётлы, лопаты и прочий дворницкий инвентарь, попали в коридор. Митрич разжёг керосиновую лампу, прикрутив фитиль, поставил её на пол, чтобы не светила в окна.
– Ну, иди, да не мешкай, я тебя здеся подожду, – подтолкнул Настю вглубь коридора.
Шаги гулко отдавались в непривычно пустом выстуженном здании. Всё вокруг было таким знакомым, и в то же время пугающе безжизненным. Вот и её чуланчик под лестницей. Дверь нараспашку, внутри всё перевёрнуто. Настя быстро собрала разбросанные вещи, увязала их в простынку. Уже уходя, увидела завалившегося за тумбочку плюшевого мишку, любимую игрушку Веночки. Медвежонок пах сынишкой. Настя уткнулась в него лицом и горько заплакала, присев на краешек разоренной постели.
В коридоре раздались крадущиеся шаги, в дверях возник Митрич.
– Ну ты, баба, чего? Нашла место и время реветь. Дома поревёшь. Пойдём быстро отсюда, пока нас не заарестовали.
Старик подхватил узел и поспешил к выходу. Настя, последний раз оглядев разрушенное гнёздышко, пошла за ним, прижимая мишку, как ребёнка.
Прошло несколько томительных дней. Настя успела подружиться с женой Митрича, оказавшейся хоть и не в меру ворчливой, но вовсе не злой женщиной. Настя, не привыкшая сидеть без дела, хваталась за любую домашнюю работу, чем быстро заслужила расположение хозяйки дома. Наконец их невестка принесла и положила на стол справку из РОНО о том, что все бывшие воспитанники Кизнерского детского дома переведены в Малмыжский детдом. Обрадованная Настя сразу засобиралась.
– Ты куда это? – удивился Митрич.
– Как куда? В Малмыж.
– А ты туда пешком, что ли собралась? В какую хоть сторону идти, знаешь? Не лето, чай.
Настя опустилась на стул.
– Язык до Киева доведёт, – сказала неуверенно и замолчала.
– Ты, бабонька, поперёд паровоза-то не беги. Найдём попутку, обдумаем, где тебе в Малмыже приткнуться, и поедешь. Дети твои в тепле и сытости, подождут маленько.
Через несколько дней Настя с большим вещмешком за плечами шагала по улочкам Малмыжа в поисках детского дома. В заколотом булавкой кармане юбки лежали свёрток с остатком денег, подаренных братьями, и письмо к дальней родственнице невестки Митрича. Эта родственница жила хоть не в самом Малмыже, а всё ж неподалёку, в соседней деревне, в пяти верстах.
Малмыж был побольше и пооживлённее, чем Кизнер. На широких улицах было много каменных домов с красивыми полукруглыми в верхней части окнами. Отовсюду был хорошо виден большой собор, возвышавшийся в центре. Неподалёку раскинулся парк с торчащей меж деревьев парашютной вышкой. На окраине, возле замёрзшей реки, дымил завод, теснились склады и мастерские.
После недолгих блужданий Настя оказалась перед детским домом. За деревянным штакетником стоял белый, слегка облезлый особняк с такими же полукруглыми окнами, как у виденных в центре домов. С бьющимся сердцем толкнула Настя калитку. А ну как её детей здесь не окажется? Где их тогда искать?
– Вам кого, гражданочка? – навстречу ей спускался с крыльца молодой парень. И тут же из-за его спины раздался отчаянный крик:
– Мама! Мамочка приехала!
Веночка бежал мимо воспитателя, как был, без пальто, без шапки, в одних носках. Добежал, вцепился в Настин подол, словно она могла сейчас снова исчезнуть.
– Сыночек! Родненький мой! – Настя подхватила малыша на руки, целовала лицо, маленькие ручки, стриженную под ноль головку, старалась укрыть его своим тёплым платком.
– Так вы в дом проходите, не стойте на морозе, – опомнился воспитатель.
Через час Настя с Веночкой наблюдали из окна коридора, как возвращаются из школы старшие дети. Настя с волнением вглядывалась в стайки девочек, но Веночка заметил сестёр первым.
– Вон они, Нина и Лиза! Видишь мамочка?
На девочках были одинаковые новые пальто с меховыми воротничками, белые, связанные из кроличьего пуха, шапочки, тёплые пимы. Они шли, держась за руки, помахивая холщовыми сумками с учебниками. Материнское сердце успокоилось за детей, терзавшие его страхи отступили. Спустя пару минуточек Настя обнимала и целовала дочек, а потом угощала их пирожками, испечёнными ей в дорогу женой Митрича, разложившись тут же на подоконнике в коридоре. Она гладила головы своих детей, прижимала к себе то одну, то другую и была в эти минуты счастлива.
Когда дети ушли в столовую, Настя отправилась искать кабинет заведующей.
Александра Карловна приняла её сухо. Под её строгим взглядом Настя растерялась. Едва начала говорить, как заведующая перебила её:
– Так вы мать троих детей Халевиных, поступивших к нам из Кизнера? И как же получилось, что при живой-здоровой матери дети оказались в детдоме?
Настя совсем смешалась, вновь попыталась говорить, словно оправдываясь. Через пару минут Александра Карловна опять перебила посетительницу:
– У меня мало времени. Излагайте суть, чего вы хотите.
Настя выпрямилась на стуле и, глядя в холодные глаза, твёрдо сказала:
– Хочу работать в вашем детском доме, чтобы быть рядом со своими детьми, так же, как работала в Кизнере. Согласна на любую работу.
– Вот как? – взгляд заведующей немного потеплел. – А что вы умеете делать? Что делали в Кизнере?
– Работала прачкой, потом помощником повара, учила девочек шить и вязать. Могу мыть полы и окна, стирать, гладить, мыть посуду, чистить овощи, чинить одежду, что скажете, то и буду делать.
Александра Карловна что-то быстро записала в конторской книге, лежащей на её столе.
– Сейчас у нас вакансий нет. Да и не могу я принять вас вот так, с улицы. Мне надо навести о вас справки… И не всё пока ясно с Кизнерским детским домом… Вы оставьте свой адрес, если понадобитесь, я вас приглашу.
– У меня пока нет адреса, я только сегодня приехала в Малмыж.
– Хорошо, когда определитесь с жильём, сообщите адрес. И вот ещё что, свидания с детьми разрешены один, максимум два раза в неделю. В остальное время не отвлекайте детей от учёбы.
И добавила более мягким тоном:
– Не надо, чтобы дети, у которых родителей нет, завидовали вашим детям.
Настя вышла из кабинета совершенно растерянной, настолько порядки в этом детдоме отличались от порядков в Кизнере, а чрезмерно строгая Александра Карловна не походила на душевного, заботливого Сергея Степановича. «Каково-то ему сейчас? Что такого он мог натворить? Что его, беднягу, ждёт?» – вздохнула Настя.
Побыв ещё часок рядом с детьми, она отправилась искать деревню, название которой было выведено на конверте с письмом. Из окна ей вслед глядели три пары заплаканных детских глаз и оловянные глазки плюшевого медвежонка.
Глава 23. Малмыж
Уже стемнело, когда совершенно окоченевшая Настя разыскала нужный дом на окраине деревни. Хозяйкой небольшого, в три окошка, дома оказалась женщина немногим старше Насти. Она неохотно впустила незнакомку в дом, и лицо её всё больше мрачнело по мере того, как она читала письмо. А Настя тем временем оглядывала комнату, в которой очутилась. Обстановка была небогатой, но какой-то городской. Больше всего её поразил большой книжный шкаф, стоявший в красном углу. За стеклянными дверцами поблёскивали золотым тиснением корешки книг. Такого Настя ни в одном доме не видывала.
– Ну, вот что…, как вас? Настя? Вот что, Настя…, постояльцев мы не держим, самим тесно. Но раз уж родня так за вас просит, я пущу вас. Но только на первое время, пока вы найдете себе другое пристанище.
Настя была и этому рада, лишь бы не оказаться в мороз на улице. Ей отвели закуток за печкой: лежанка да тумбочка, вот и вся обстановка. Зато тепло.
Хозяйка, Вера Ивановна, была местной учительницей. Овдовев в гражданскую войну, она с двумя дочерьми перебралась из голодной Елабуги в деревню, в этот доставшийся ей по наследству дом, да и прижилась здесь. Пригодилось и её гимназическое образование.
Настя заплатила за постой за месяц вперёд. Денег у неё осталось совсем мало, нужно было срочно найти хоть какую-то работу. Каждый день с утра пораньше отправлялась она в Малмыж, стучалась чуть не в каждый дом, но безрезультатно. Зимой огородов не копают и окон не моют. Редкие случайные заработки не спасали ситуацию. Настя потеряла покой и сон.
Как-то в один из таких отчаянных дней, вернувшись в своё временное пристанище, Настя обнаружила пятнадцатилетнюю Марусю, младшую дочку хозяйки сидящей на полу перед разложенными лоскутами. Девочка задумала смастерить себе обновку из платья старшей сестры, но дело оказалось труднее, чем она думала. Настя взялась ей помогать, и к приходу Веры Ивановны новое платье было почти готово, благо, в доме нашлась швейная машинка. Хозяйка с удивлением разглядывала обновку дочери.
– Так ты, Настя, умеешь хорошо шить? Что же ты молчала?
Открыла сундук, порывшись, достала несколько отрезов.
– Вот, дочкам на обновки берегу, а сшить некому. Знаешь что? Хватит тебе по морозу без толку ходить, возьмись нам шить, а я с тебя за прожитьё, да за стол денег брать не буду. Согласна?
Не веря своей долгожданной удаче, Настя молча кивнула. Горло перехватило, на глаза навернулись слёзы – неужели судьба, наконец, повернулась к ней лицом?!
С этого дня у неё началась другая жизнь. Больше не надо было обивать чужие пороги в поисках заработка, она занималась любимым делом, не думая о куске хлеба. Дважды в неделю ходила в детский дом проведать детей. По воскресеньям, если было не слишком морозно, брала их на прогулку по парку или по берегу реки.
Узнав, что в деревне появилась своя портниха, к Насте потянулись соседки, кому мужнин пиджак перелицевать, кому юбку сшить, кому детскую одёжку справить. Рассчитывались, в основном, продуктами, с деньгами в деревне было небогато. Кто десяток яиц принесёт, кто кринку молока, кто мучицы – и уж кто кого кормил, Вера Ивановна Настю, или Настя её семью, не разберёшь. Теперь Настя могла и детей гостинцем побаловать. Жизнь потихоньку стала налаживаться.
Между тем приближались новогодние праздники. Подготовка к ним в детском доме началась загодя. В учебной комнате, где обычно дети делали уроки, царила весёлая суета. Одни раскрашивали разноцветной гуашью листы бумаги, другие резали их на полоски и клеили длинные цепочки-гирлянды и фонарики, третьи вырезали из бумажных салфеток снежинки и с помощью куска мыла клеили их на стёкла и стены. Девочки нанизывали кусочки ваты на нитки, потом привязывали нитки к длинному шпагату, который воспитатели крепили под высоким потолком. Получалось, будто с потолка крупными хлопьями падает снег.
В последний предновогодний день учеников отпустили из школы рано. Нина с Лизой возвращались в детдом вприпрыжку. Радовало все: и начинающиеся каникулы, и пятёрки-четвёрки в дневниках, и предстоящий праздник, и искристый снег. Дорогой обсуждали, придёт ли на ёлку Дед Мороз и будут ли подарки. Но хорошее настроение тут же улетучилось, стоило только девочкам войти во двор. Несколько мальчишек пинали шапку, словно футбольный мяч, а между ними метался плачущий Веночка с непокрытой головой.
Сёстры, не сговариваясь, налетели на обидчиков. Завязалась потасовка, в ход пошли холщовые сумки с учебниками. Мальчишек было больше, Нину сбили с ног, крепкая рука вдавила её лицом в снежный наст, Нина отчаянно барахталась, пытаясь вырваться. Вдруг её отпустили, чьи-то руки поставили на ноги. Нина увидела улепётывающих в разные стороны мальчишек. Перед ней стоял незнакомый парнишка года на два постарше. Серые глаза смотрели сочувственно.
– Эк тебе всё лицо расцарапали, паршивцы. Тебя как зовут?
– Нина… Нина Халевина.
– А меня Вовка Проскуряков. Ежели тебя кто впредь обидит, мне скажи, я ему голову носом назад поверну.
Поднял злосчастную шапку Веночки, нахлобучил ему на голову.
– И тебя в обиду не дам, так и скажи, коль еще полезут.
Натянул собственную свалившуюся в драке шапку на светлую коротко стриженую голову, подхватил свою сумку и ушёл беззаботно насвистывая.
– А я? За меня ты тоже будешь заступаться? – крикнула ему вслед Лиза.
Вовка оглянулся, весело помахав им рукой.
– Вот это да! Вот это парень! – Лиза шмыгала носом, размазывая замёрзшей ладошкой тоненькую струйку крови.
Веночке, как самому маленькому, приходилось в детдоме труднее всех, мальчишки постарше часто обижали его, демонстрируя собственную лихость. Потеряв свои шнурки, носки, полотенце, без зазрения совести отбирали их у малыша. Сестры, обнаружив в очередной раз братишку в ботинках без шнурков, на босу ногу, пытались найти обидчиков, да без толку. После этой стычки Веночке жить стало легче, Вовку Проскурякова мальчишки уважали и побаивались.
В коридоре девчачьего корпуса красовалась пушистая ёлка, наполняя хвойным духом всё помещение. Вокруг ёлки царила весёлая предпраздничная кутерьма. Кто-то развешивал последние украшения, кто-то растягивал над ёлкой кумачовый плакат, кто-то устанавливал патефон, принесённый по такому случаю из кабинета заведующей. В учебной комнате шла последняя репетиция гимнастов, готовящихся показать «пирамиду», рядом пионервожатая повторяла с малышами декламацию стихотворения.
Праздничная суета захватила и Нину с Лизой. Позабыв о недавней драке, девочки взялись готовить свои костюмы. В концерте они должны были танцевать лезгинку. Им дали два новых чёрных халата, предназначенных для уборщицы. Чтобы они стали похожи на черкески, девочки пришили к ним бумажные газыри, подпоясали мальчишечьими ремешками, к ним прицепили картонные кинжалы. Для пущей убедительности угольком нарисовали себе усы. Это был их первый настоящий Новогодний праздник, с Дедом Морозом, подарками, выступлениями, и они волновались.
После торжественной линейки начался концерт. Лезгинку проводили дружными аплодисментами. Радость девчушек омрачало только то, что мама не видит их триумф, посещения родственников в этот день были запрещены. После «пирамиды» гимнастов пришёл, наконец, Дед Мороз. Из-под обшитой ватой кумачовой шапки смотрели такие знакомые молодые и весёлые глаза. Веночка недоумённо оглянулся на сестёр:
– Так это же… наш воспитатель… Тимофеевич…
И тут же забыл о своём маленьком разочаровании, потому что «Дед Мороз» раскрыл широкий мешок и начал одаривать ребятишек. Каждому досталось по румяному яблоку и по настоящей шоколадной конфете в ярком фантике. Праздник закончился хороводом. Взявшись за руки, детдомовцы дружно пели:
«Мы дети заводов и пашен,
И наша дорога ясна.
За детство счастливое наше —
Спасибо, родная страна!»
И они искренне верили, что детство у них действительно счастливое. А другого-то они не знали…
После утренника всех ждал праздничный обед: кроме супа каждому дали по варёному яйцу, румяной шанежке и стакану вкуснейшего компота.
Выходя из столовой, Нина столкнулась в дверях с Вовкой Проскуряковым.
– Привет! А вы здорово танцевали лезгинку.
Нина не нашлась, что ответить, только щеки залил румянец.
Шли дни. Солнечный, морозный январь сменился вьюжным, пасмурным февралём. Отношения между Верой Ивановной и Настей с каждым днём становились всё более тёплыми. Вечерами, закончив все дела, хозяйка освобождала кухонный стол, ставила на него керосиновую лампу и миску с сушёными яблоками, доставала из шкафа книгу, и погружалась в чтение. Насте это было удивительно. Однажды, выйдя на кухню попить воды, она присела за стол.
– И чего тебе, Вериванна, не спится ночами? Керосин, опять же жжёшь. Неужто так интересно?
– Ещё как интересно, Настьюшка. А хочешь, я и тебе дам книжку почитать?
Настя неуверенно пожала плечами, а хозяйка уже рылась в шкафу.
– Вот, прочти-ка для начала, – положила перед ней тоненькую книжку.
Настя открыла наугад.
«В полном разгаре страда деревенская…
Доля ты! – русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать…»
Дочитала стих, потрясённо подняла глаза на хозяйку:
– Это кто так про жизнь нашу написал?
– Некрасов, большой поэт. Понравилось? Ты читай, читай, – улыбнулась та.
Настя перевернула страницы:
«Однажды, в студеную зимнюю пору, Я из лесу вышел; был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, Лошадку ведет под уздцы мужичок В больших сапогах, в полушубке овчинном, В больших рукавицах… а сам с ноготок!»Забыв обо всём, Настя читала и читала, пока Вера Ивановна не захлопнула свою книгу.
– Ну, хватит на сегодня, пора спать, завтра дочитаем.
С тех пор так и повелось, закончив дневные дела, усаживались они вдвоем под лампой с книгами.
В маленьком домике на окраине затерянной в северных лесах деревушки перед Настей открылся новый мир, необъятный и прекрасный. Мир, в котором царили справедливость, разум и любовь, в котором добро побеждало зло. Мир, полный приключений и надежд. Жизнь её изменилась, наполнилась новым смыслом, иными взглядами, мыслями. Днём руки привычно делали знакомую работу, ноги шагали по нахоженной дороге меж заснеженных елей в Малмыж, а мысли следовали за героями книг. То она вместе с чистой сердцем гувернанткой разгадывала тайны английского поместья, то вместе с узником обдумывала план побега из мрачных казематов замка Иф, то с цыганкой-танцовщицей страдала от любви к блестящему офицеру. Весь день Настя ждала вечера, того момента, когда, открывая том, она словно открывала дверь в иную реальность и забывала о своих проблемах и невзгодах. Книга стала её другом и спасением на всю оставшуюся жизнь.
Однажды Вера Ивановна положила перед ней сказки Андерсена. Едва начав читать, Настя спросила:
– А можно я возьму книжку в детский дом, почитать детям?
– Бери, конечно, только не потеряй.
В воскресенье, устроившись со своими ребятишками у окошка учебной комнаты, Настя начала им читать «Снежную королеву». Лиза с Веной вначале вертелись, толкались, но вскоре притихли, сказочная история захватила их внимание. Когда она, устав, захлопнула книгу, оказалось, что вокруг их кружка собралась целая компания. В следующее воскресенье Настю ждали не только её дети. Круглолицая девочка с растрёпанными косичками дёрнула её за рукав:
– Тётя Настя, а вы будете сегодня читать нам сказку?
В разгар чтения в учебную комнату заглянула Александра Карловна.
– Что здесь происходит? Что за собрание?
Подошла, взяла из рук Насти книгу, глянула на обложку, перелистнула страницы.
– Сказки читаете? Можно, я тоже послушаю?
Настя кивнула, продолжила читать, от смущения спотыкаясь на каждом слове. Но вскоре, увлёкшись историей, забыла о заведующей. Та, послушав немного, тихонько встала и вышла, прикрыв за собой дверь, с озадаченным лицом вернулась в свой кабинет.
Так прошла ещё одна суровая зима.
Глава 24. Вовка и другие
Апрельский вечер подкрался тихонько, словно на кошачьих лапках. На фоне нежно-алого заката чётко вырисовывались островерхие силуэты темных елей. Лёгкий ветерок доносил из леса едва уловимый аромат набухших почек, обещая скорое торжество тепла.
Настя последний раз провела тряпкой по только что домытому стеклу и собралась закрыть окно, как вдруг её внимание привлекла маленькая фигурка, бегущая по дороге из Малмыжа. Пригляделась, и наскоро набросив на плечи платок, сунув ноги в калоши, выбежала из дома на дорогу.
– Ниночка, дочка, что случилось? Что-то с Лизой? С Веночкой?
Запыхавшаяся девочка кинулась к ней на шею.
– Нет, мамочка, с нами всё в порядке. Я за тобой. Ворона… ой, то есть Александра Карловна, послала меня за тобой. Она на работу тебя хочет взять! Она сказала, чтобы я завтра за тобой сходила, ну а я не стала ждать до завтра, а то пока сюда, пока с тобой обратно, а она вдруг уйдёт, не успеем… я сразу и побежала. А дорогой смеркаться стало, я и испугалась, что стемнеет. Дорогу-то я не очень хорошо помню, вот и бежала. Уф, успела дотемна!
Спать мама и дочка легли вместе, впервые за долгое время. Девочка, уютно устроившись под тёплым маминым боком, хотела пошептаться, но уснула на полуслове, набегалась за день. А Насте не спалось. Она вдыхала родной аромат дочкиных волос, тихонько похлопывала по худенькому плечику и беззвучно молилась извечной материнской молитвой, прося у Бога здоровья своим детям. Потом мысли её обратились к предстоящим переменам. Сон сморил только под утро.
На следующий день принаряженная Настя, волнуясь, вошла в кабинет заведующей детским домом. Та встретила её приветливо, и через пятнадцать минут Настя вышла из кабинета уже помощником повара. Впервые в жизни у неё появилась настоящая работа и трудовая книжка. Она не верила своей удаче! Но возникла и проблема. Рабочий день должен был начинаться в шесть утра, чтобы вовремя попасть на работу, надо выходить из дома еще ночью, идти одной через тёмный лес. А страшно!
Но и эта проблема решилась неожиданно легко. Стеша, посудомойка, предложила Насте поселиться у неё.
– Мы с матушкой тутока рядышком живем, места хватит, а лишняя копейка не помешает. Да я недорого возьму. Опять же, где по хозяйству поможешь…, на работу спозаранок вдвоём веселей бежать.
В тот же день Настя собрала пожитки и попрощалась с Верой Ивановной и с её дочками. Обнялись расставаясь.
– Ну, что ж, с богом, дорогая! Нам тебя будет не хватать, Настюша. С кем теперь вечерять за книжкой буду? А в деревне-то как бабы наши расстроятся! Портниха уехала. Ты уж нас не забывай, навещай хоть изредка. А это тебе от меня на память, – учительница протянула ей книгу. На обложке значилось «С. Есенин. Собрание стихотворений».
Работы на кухне хватало, воспитанников в детдоме было более двухсот. Настя старалась всё успеть, день-деньской на ногах, детей своих видела только в столовой, да зато каждый день. Где лишнюю булочку сунет, где компота добавки нальёт, об учёбе спросит, мимоходом по головке погладит, к себе прижмёт – вот и радость. Вечером, после ужина, возвращалась в Стешин дом уставшая. А там её ждали домашние дела, как-то так само получилось, что большая их часть легла на её плечи. И уж Стеша по-хозяйски покрикивала, ежели что не по её. На работе тихая и услужливая, дома она преображалась в ворчливую и жадную тётку. Настя терпела и только с грустью вспоминала уютные вечера над книгой в доме Веры Ивановны.
Меж тем весна брызнула свежей зеленью молодых листочков, закружила головы острым запахом тополиных почек, из поселкового парка потянуло тонким ароматом черёмухи. Собственно то, что местные жители гордо именовали парком, на самом деле было довольно запущенным, заросшим сквером. Из развлечений в парке была деревянная эстрада, где по праздникам играл духовой оркестр пожарной дружины, да парашютная вышка Осоавиахима – высоченное сооружение. Прыжки с вышки с парашютом были модным развлечением среди спортивной молодёжи.
Нина, Лиза, Васса и Нюра, как обычно, весёлой гурьбой возвращались из школы. Идти было недалеко, достаточно пересечь парк, перейти дорогу – и вот он, детский дом. Около парашютной вышки стояла, задрав головы, безмолвная толпа. Лиза ойкнула, дёрнула сестру за рукав, показывая вверх. Нина глянула, и сердечко замерло в груди. На самом верху по длинной балке, к которой крепился парашют, раскинув руки, медленно шёл Вовка Проскуряков. Вот он дошёл до конца стрелы, остановился. Дальше ему необходимо повернуться. Но как?! «Сейчас сорвётся…» – выдохнул кто-то в толпе. Сестры зажмурились, вцепившись друг в друга. Время, казалось, остановилось, медленно текли секунды. По толпе пронёсся вздох облегчения. Девочки осторожно открыли глаза, Вовка уже шёл обратно к площадке вышки. Еще несколько бесконечных минут, и вот он ухватился рукой за ограждение, спрыгнул на площадку. Толпа выдохнула.
Через газон к вышке бежали двое мужчин, один из них в милицейской форме, другой в дворницком фартуке. Рыжий парень лет пятнадцати кинулся было наутёк, но сразу несколько человек вцепились в него:
– Куда?! А ну сымай часы, как обещал. Проспорил – отдавай. Ишь, хитрован какой! Парень нехотя расстегнул ремешок настоящих командирских наручных часов, протянул их спустившемуся с вышки Вовке: «Забирай. Отцовские…». Тот схватил часы, ловко увернулся от подбежавшего милиционера, перемахнул через ограду, и только пятки замелькали.
Вечера сёстры часто проводили в читальном зале детдомовской библиотеки. Лиза любила листать подшивку журналов «Мурзилка», а Нина предпочитала читать книжки. У неё было своё любимое местечко около дальнего окна, откуда виднелся берег реки и заречные зелёные дали. Вот и в этот вечер она устроилась в своём уголке с книжкой и целиком погрузилась в горькую историю бедняжки Козетты. От жалости к сиротке на глаза наворачивались слёзы. Она вздрогнула, когда над ней раздался знакомый голос:
– Ты чего ревёшь?
Рядом, опираясь на подоконник, стоял Вовка.
– Да так… история жалостливая.
– Гляди какие! Настоящие, командирские! На спор выиграл, – парнишка покрутил перед её глазами запястьем с часами.
– Да мы видели… Ты, Вовка, совсем с ума спятил? А если бы сорвался с вышки?
– Но ведь не сорвался, – засмеялся тот. – А если бы сорвался, ты бы обо мне плакала?
– Дурак!
Немного помолчали, глядя в сумерки за окном. Издалека, со стороны, где Шошма впадает в судоходную Вятку, донёсся гудок парохода.
– Знаешь, я, когда вырасту, капитаном стану…
– А где на капитанов учат?
– Сначала лоцманскую школу закончу, тут, в Малмыже, а там уж подскажут, куда дальше.
– Так ты осенью уже туда пойдёшь учиться? Уходишь из детдома?
– Ну, да. В нашем детдоме только до шестого класса живут, потом по другим детдомам распределяют. Лучше уж сразу в лоцманскую школу.
– А ты к нам в гости приходить будешь?
– Конечно, куда я денусь?
И снова замолчали, думая каждый о своём.
Забегая вперёд в своём повествовании, расскажу такую историю. Дело было ненастным ноябрьским днём в небольшом приморском городке, спустя несколько лет после Великой Отечественной войны. Молодая учительница биологии Нина Георгиевна просматривала в учительской кем-то забытую местную газету. На глаза ей попалась заметка о том, что в бухте укрылся от шторма сухогруз «Черноморец». Капитан корабля – герой войны Проскуряков В. И. Корабль простоит на рейде до окончания шторма.
Нина подошла к окну, из которого хорошо просматривалась вся бухта. Небо ещё было затянуто тучами, но горизонт уже чист, и солнечные лучи пробивались сквозь пелену. В этих лучах неспешно разворачивался к выходу из бухты большой корабль.
– Счастливого плавания тебе, Вовка! – чуть слышно шепнула она.
Но вернёмся вновь в довоенный тридцать пятый год.
Начались летние каникулы. В тёплый солнечный денёк стайка девочек вместе с воспитательницей отправилась на берег Шошмы, хотели посидеть на бережку, побегать по мелководью, но в тени ракит оказалось много комарья. Визжа и отмахиваясь от кусачих насекомых, все побежали на пригорок, подальше от воды. Просёлочная дорога огибала территорию ремонтно-механического завода. Рядом на обнесённой колючей проволокой территории начались какие-то строительные работы. Мужчины в одинаковых чёрных матерчатых шапочках и черной одежде с нарисованными белой краской номерами рыли землю. Вдоль забора ходил часовой с ружьём.
– А это кто? Почему на них номера? Почему часовой с ружьём? – девочки забросали вопросами воспитательницу.
– Пойдёмте, пойдёмте отсюда, нам не стоит здесь задерживаться. Это заключённые.
Воспитательница собирала детей, как наседка цыплят, уводя их подальше от опасного места. Но востроглазая Лиза вдруг ойкнула, дёрнула сестру за руку:
– Нина, смотри, это же наш Сергей Степанович, директор из Кизнера!
– Нет… не похож… он же старый, Сергей Степанович моложе…
Но вот заключённый остановился передохнуть, знакомым жестом провёл рукой по лицу, словно умываясь.
– Точно, это он, – ахнула Нина.
Они хотели подойти к забору, окликнуть человека, который год назад спас их от голода, взяв в детский дом, но встревоженная воспитательница спешно увела их дальше по дороге.
После обеда девочки рассказали матери о происшествии. Настя разволновалась.
На следующий день она собрала узелок со своим обедом и, отпросившись на полчасика, побежала к заводу. Заключенные работали там, так же, как вчера. Настя подошла к ограждению не со стороны дороги, а сбоку, там, где трактор прикрывал её от часового. Увидев арестанта, похожего на Сергея Степановича, тоже засомневалась, он ли это, седой, худой, сгорбленный. Неужели человек может так измениться всего за шесть месяцев? На всякий случай, дождавшись, когда заключённый окажется поближе, окликнула его. Тот оглянулся, увидев Настю растерялся, потом отвернулся: «Обознались, гражданочка…» – и, подхватив лопату, ушёл к дальнему концу котлована.
Настя уже не сомневалась, что это был Сергей Степанович, но почему он не захотел с ней поговорить? Позже она поняла, что он не хотел, чтобы она видела его таким жалким, раздавленным судьбой. А может, боялся навлечь на неё неприятности.
Настя подсунула узелок с провизией под колючую проволоку, примостила его на камень, чтобы заключенные его увидели, и побрела обратно в столовую.
Между тем в лопухах за детдомовской столовой собрались почти все дети, привезённые из Кизнера, обсуждали новость. Дружно решили, что Сергею Степановичу нужно помочь, ведь для многих он, по сути, заменил отца. Дети договорились делиться самым вкусным, что давали на обед, и по очереди относить гостинцы бывшему директору, все хотели его повидать, сказать что-то хорошее, чтобы ему не было так плохо. Решено – сделано. Настя помогала дочкам увязывать провизию, добавляя от себя то яичко, то шанежку, то огурчик. Дети по три-четыре человека ежедневно украдкой бегали к заводу, относя увесистые узелки.
От общения с детьми Сергей Степанович не смог отказаться. Он был очень рад их видеть и тронут до слёз их заботой. Конвойный, узнав, в чём дело, разрешал передачи, забирая себе часть провизии, и позволял поговорить несколько минут, приглядывая со стороны за ними и за дорогой, чтобы ненароком самому не нарваться на неприятности. Остальные заключенные помалкивали, зная, что им тоже что-нибудь перепадёт.
Сергей Степанович расспрашивал детей, как им живется, как они учатся, здоровы ли. Дети, желая порадовать его, охотно расписывали, как хорошо им в здешнем детдоме, гораздо лучше, чем в Кизнере, даже не догадываясь, что причиняют ему боль. Они не задавали себе вопрос, был ли он действительно в чём-то виноват или не был, просто дарили ему тепло, как когда-то он каждому из них. Как-то Сергей Степанович спросил Нину о маме, просил передать ей привет, но сказал, чтобы она сюда не приходила:
– Вам, деткам, ничего не сделают, а у неё могут быть неприятности.
Так продолжалось пару недель. Однажды, пролезая с узелком в дырку в заборе детдома, дети угодили прямо в руки Александры Карловны. Та заметила их шушуканье, ежедневные исчезновения и подкараулила заговорщиков. Узнав, что происходит, директриса строго-настрого запретила детям бегать к заключенным, а Насте пригрозила увольнением. А тем временем работы были закончены, котлован вырыт, и вместо арестантов пришли рабочие-строители.
Больше о судьбе Сергея Степановича ни Настя, ни её дети ничего и никогда не слышали.
Глава 25. Весна
Дни, похожие, словно бусины, нанизывались на нитку времени один за другим, проскальзывая сквозь пальцы. Осенью Веночка пошёл в первый класс. Настя задерживалась после работы в детдоме допоздна, чтобы посидеть рядом с сынишкой, наблюдая, как он выводит первые свои, ещё корявые, буковки. Сердце её таяло от прочитанных им по слогам слов. Как она хотела, чтобы дети выучились и вышли в люди!
В этих радостях, в работе с темна до темна, прошли осень, зима, и вновь запели птицы, зазвенела капель, на проталинах проклюнулись первые, самые нетерпеливые травинки.
Весна – время перемен, всё вокруг меняется, как в калейдоскопе. Вчера ещё на обочинах лежал грязный, осевший снег, чёрные ветви деревьев сплетались в причудливый узор на фоне размытой сини небес, а сегодня уже торжествует молодая травка, и ветки словно опушены нежной зеленью. Прошёл первый дождь, и вот уже от снега нет и следа, всё вокруг зеленым-зелено, а лужайки на глазах покрываются золотым ковром одуванчиков. Вот она – радующая души настоящая весна! Теперь только успевай примечать перемены, всё расцветает, природа празднует приход тепла.
Настя закрыла за собой калитку детского дома, вдохнула полной грудью весенние запахи, расправила плечи. Долгий рабочий день позади, а солнышко ещё не думает уходить за горизонт, до сумерек далеко, и свежий ветерок ласково перебирает пряди коротко остриженных волос. И идти в свой съёмный угол к ворчливой хозяйке Насте совсем не хочется. Из парка потянуло ароматом сирени, ноги сами свернули в тенистую аллею. Настя не спеша прошла через парк и вышла на улицу. Откуда-то донеслась знакомая мелодия. Звуки патефона, как зов из прошлого, поманили её в переулок. Настя присела на лавочку напротив аккуратного дома, из открытого окна которого лилась такая родная песня. Точно такая же пластинка была у них с Гешей. Ветерок слегка раздувал лёгкую тюлевую штору, на подоконнике пламенела герань, казалось, за этим окошком живёт само счастье! Настя любовалась резными наличниками, ухоженным палисадником и сердце её сжималось от острого желания жить в таком доме. Пусть это будет даже не дом, а хотя бы комната, но чтобы это была её комната, где она сможет сесть, где нравится, прилечь, когда захочется, почитать книгу вечерами, и где уютно будет её детям. Уж как бы она заботилась об этой комнатке! Она бы обязательно повесила на окно такую же узорчатую, словно морозом вытканную штору, развела бы цветы и фикус в кадке. И непременно бы купила книжный шкаф!
Её мечты прервала выглянувшая в открытое окно женщина. Подозрительно глянув на Настю, она закрыла окошко. Музыка смолкла, волшебство растаяло. Настя встала с лавочки и пошла, куда глаза глядят. Сердце ныло: неужели ей так и суждено мыкаться по чужим углам? Через год Нина закончит пятый класс, если Настя не сможет взять её к себе, то дочку переведут в другой детский дом, увезут куда-то одну.
Улочка привела её к небольшой церкви, фасад которой порядком облупился. Большинство церквей с приходом советской власти закрылись, но эта действовала. Служба уже закончилась, внутри было почти пусто, только сгорбленная старушка собирала свечные огарки и протирала тряпочкой подсвечник, да старик бил земные поклоны. Глаза Пресвятой девы Марии смотрели с иконы печально и сочувственно. И Настя взмолилась не словами молитв, а всем сердцем, всей душой, слезами о крове над своей головой и головками детей.
Старушка тихонько тронула её руку.
– Милая, церковь закрывается, приходи завтра к заутрене.
Из храма Настя вышла в умиротворённом состоянии, боль отступила, глухая тоска сменилась робкой надеждой на чудо.
Через несколько дней ей в руки случайно попалась газета трёхдневной давности, а в ней объявление о найме на работу. В глаза бросилась фраза: «Жильё предоставляется». На следующий же день после обеда Настя отпросилась у старшего повара и поспешила по указанному в объявлении адресу. Найдя нужный кабинет, толкнула скрипучую дверь. У стола стоял мужчина средних лет в косоворотке и складывал папки с бумагами в объёмистый портфель.
– Вы ко мне? Завтра, голубушка, всё завтра. На сегодня приём окончен, надо раньше приходить, – сказал он, надевая пиджак.
– Да я не могу раньше, не могу завтра, с работы больше не отпустят! Я по объявлению, мне очень нужна работа с жильём! – взмолилась Настя.
– Гм… так мы набираем рабочих-механизаторов, трактористов. А вы кто? Кем работаете?
– Я? Повар… помощник повара…, – упавшим голосом сказала Настя.
– Повар… повар… минуточку…
Мужчина порылся в своих бумагах, хлопнул ладонью по листку:
– Ну да, конечно, вот, – сказал так, словно с ним кто-то спорил, – требуется повар в школу комбайнёров, в Давлеканово. Поедете?
– А жильё там дают?
– Вот написано: «жильё предоставляется».
– А школа для детей там есть? Я могу ехать с детьми?
– Давлеканово большой рабочий посёлок, райцентр, поболее Малмыжа будет, раньше городом считался, школ там несколько. Езжай с детьми. Советская власть нигде не даст пропасть.
– Поеду! – решительно ответила Настя.
И только выйдя на крыльцо сельсовета, сообразила, что не спросила ни о зарплате, ни где это самое Давлеканово находится. Впрочем, всё это было не так уж и важно, главное, появилась уверенность: у них с детьми будет, наконец, жильё!
Через две недели Настя сидела на палубе парохода, любовалась свежей зеленью берегов Вятки, наблюдала за беготнёй Лизы с Веной, и единственное, что её печалило и тревожило – это разлука со старшей дочерью. Александра Карловна решение Насти одобрила, поняла и отпустила, но убедила её не срывать с учёбы отличницу-дочку, дать ей возможность окончить начальную школу в привычной обстановке.
– Ты же не знаешь, Настя, какие условия ждут вас там. Поезжай пока с младшими детьми. Вдруг что-то не заладится, жильё не сразу дадут. Оглядишься на новом месте, обустроишься, детей в школу определишь, работать начнёшь. А тем временем Нина спокойно закончит пятый класс и приедет к вам сама. Девочка она умненькая, самостоятельная, мы здесь её проводим, на пароход посадим, телеграмму тебе отобьём, а ты там встретишь. Послушайся моего совета, так будет лучше и для неё, и для тебя. Настя послушалась, хотя слёзы дочки тяжёлым грузом легли на её душу. Но новые заботы, надежды, впечатления сгладили эту боль.
Три дня плавания были для неё спасительной передышкой, долгожданным отдыхом. Веночка спокойно играл на палубе, то и дело подбегая к матери. С радостным удивлением наблюдал он за чайками, то ныряющими в волну за кормой, то стремительно взлетающими ввысь с поблёскивающей рыбёшкой в клюве, провожал глазами проплывающие баржи с бесконечной связкой плотов, отчаянно махал руками ребятне, с визгом купающейся в ещё холодной воде неподалёку от сбегающей с косогора деревушки. А Лизу удержать рядом было невозможно. Любопытную девчушку приводили к Насте то из машинного отделения, то с камбуза, а то и из капитанской рубки. Отсидев время наказания в тесной каюте в трюме, Лиза вновь исчезала. К концу путешествия она перезнакомилась со всей командой.
Утром четвёртого дня пароход причалил к шумной пристани большого города Уфа. Здесь все, кто плыл в Давлеканово, перетащили свои узлы и чемоданы на палубу небольшого парохода, и тот, неспешно шлёпая по воде лопастями, отправился в плавание по неширокой, но довольно быстрой реке Дёме, как змея петляющей меж крутых берегов. К вечеру добрались, наконец, до большого рабочего посёлка, широко раскинувшегося на живописном изгибе реки.
Действительность превзошла все Настины надежды. Райцентр Давлеканово оказался куда больше и оживлённее сонного Малмыжа. Здесь работали заводы, магазины, больница, клуб, библиотеки, даже кинотеатр «Урал» имелся. И с жильём не обманули, поселили её с детьми во флигеле рядом с двухэтажным кирпичным домом. Флигелёк был маленький – тринадцатиметровая комнатка и крохотная кухонька, из которой дверь вела прямо на улицу, но Настя была счастлива! Не покладая рук она мыла и обустраивала своё, наконец-то своё! жилище. На чисто промытых окошках повесила узорчатый тюль, накрахмаленные марлевые занавесочки-задергушки, на подоконниках расцвела герань. Её стараниями флигелёк приобрёл уютный, ухоженный вид. На книжный шкаф, как мечталось, денег не было, но на барахолке удалось по случаю купить этажерку. Она заняла в доме почётное место и начала постепенно заполняться книгами. Мечты сбывались!
И с работой всё заладилось. Столовая школы комбайнёров занимала светлое, просторное помещение. Заведовал столовой седенький узбек Сафар-али, чёрные бусинки хитро поблёскивали в узких щёлочках глаз. Он был немногословен, и поэтому трудно было понять, что у него на уме.
– Не бойтесь, он не вредный, – шепнула Насте её помощница, шустрая, румяная татарочка с непривычным именем Фавзия. Несмотря на полноту, двигалась она удивительно легко, успевала и дело делать – ножи, кастрюли, тарелки так и мелькали в пухлых ручках, и поболтать, посплетничать. Язычок у неё был такой же острый, как нож в руках. Настя быстро подружилась и с Сафар-али, и с Фавзиёй, непривычным было только то, что называли они её уважительно Настасьей Павловной. В первый раз она даже не сразу поняла, что это к ней обращаются. До сих пор её называли только Настей. Она и чувствовала себя просто Настей. И вдруг – Павловна… Вот уже и Павловна…
Ближе к обеду столовую заполняли учащиеся школы комбайнёров, шумные, весёлые, нетерпеливые ребята. Насте нравилось быть среди молодёжи, она словно заряжалась от них энергией, молодостью, оптимизмом. Особенно симпатичен был ей один черноглазый парнишка, чем-то напоминающий её Гешу, каким он был в пору жениховства. И он норовил перекинуться с Настей шуткой. Но как-то раз она услышала за спиной фразу, брошенную кем-то этому парнишке:
– Ты что, к Палне клинья подбиваешь? Она же старая!
Настю словно кипятком ошпарило. Когда поток посетителей схлынул, ушла в подсобку, подошла к треснувшему зеркалу. Придирчиво разглядывала своё отражение. Лицо молодое, гладкое, только сеточка мелких морщинок вокруг глаз, если приглядеться. И седины пока не много… почему же старая? Ведь ей всего-то тридцать шесть.
– Что, Пална, прихорашиваешься? – раздалось за спиной, и из-за плеча Насти глянуло в зеркало улыбающееся лицо Фавзии. И Настя поняла, в чём разница между молодостью и зрелостью. Нет блеска в глазах, нет задора в улыбке, да и сама улыбка уже не так белозуба, взгляд не так чист и ясен, щёчки не так нежны и округлы. Со вздохом отвернулась от зеркала. Ушла молодость, что же тут поделаешь? С тех пор Настя стала держаться строже, суше, не отвечая на шутки ребят. А ночами порой плакала в подушку, что так быстро промелькнул её бабий век.
Наступил сентябрь. Вена с Лизой пошли в новую школу. Всё в жизни Насти выровнялось, устоялось. Её назначили старшим поваром, увеличилась зарплата, появилась уверенность в себе. Она, наконец, расправила плечи.
Однажды в обед Настя, как обычно, помогала Фавзие на раздаче. Полуденное солнце заливало зал тёплым светом. Несколько воробьёв, залетевших в приоткрытое окно, караулили оставленные без присмотра куски хлеба, недоеденные пирожки, а самые отчаянные скакали по столам, воруя куски чуть ли не из рук посетителей.
– Пална, глянь-ка в правый угол, – негромко сказала Фавзия, ловко орудуя половником, – видишь чернявого? Глаз с тебя не сводит. Который раз замечаю.
– Не болтай ерунду, – ответила было Настя, однако взгляд её натолкнулся на устремлённые на неё карие глаза. Она так смешалась, что даже не рассмотрела их владельца. И сама не могла себе объяснить, почему так смутилась.
С тех пор в столовой часто появлялся симпатичный худощавый мужчина, и Настя постоянно чувствовала на себе его взгляд. В костюме, при галстуке, интеллигентный, он явно не был комбайнером. От вездесущей Фавзии Настя скоро узнала, что зовут его Чернышовым Иваном Михайловичем, а работает он бухгалтером в соседнем зерносовхозе, ему тридцать два года, а главное – он холост.
Настя отмахивалась от подначек поварихи, сама себя убеждала, что всё это несерьёзно. Да и вообще, ничего нет особенного в его взглядах. Ну, подумаешь, смотрит! Как узнает, что ей уже тридцать шесть и у неё трое детей, так его словно ветром сдует. Однако зачем-то стала покупать себе обновки, задерживаться перед зеркалом дольше обычного.
Тёплые сентябрьские дни сменились октябрьским ненастьем. Теперь Настя затемно приходила на работу и затемно уходила. Она спешила домой, старательно перешагивая через лужи, когда рядом раздалось тихое покашливание. Оглянувшись, обнаружила шагающего рядом Чернышова.
– Добрый вечер, Анастасия Павловна. Вот, решил подышать воздухом, вижу, вы идёте. Разрешите вас проводить? Вам помочь?
Он попытался взять из её рук сумку, однако, Настя её отдёрнула.
– Совсем это ни к чему. Мне гулять некогда, меня дети дома ждут.
– Знаю, однако, до дома ведь вам всё равно надо пешком идти, а вдвоём веселее. И разве плохо, если есть кому сумку донести?
Его настойчивость, мягкий голос обезоружили Настю, она позволила ему взять сумку из её рук, и дальше они пошли рядом.
С тех пор днём они здоровались, улыбались друг другу, как добрые знакомые, а вечерами Иван Михайлович частенько провожал её с работы до дома. Он был неизменно вежлив, внимателен, однако никаких разговоров о чувствах не заводил, проводив её до дома, желал доброго вечера и… уходил. Настя терялась в догадках, что происходит? Что у него на уме? Словно по зыбкому болоту шла. Что там, под ряской, надёжная тропка или чёрная вода? Прогнать его? Но он ничем её не обижал. Самой попытаться завести разговор о чувствах? А вдруг попадёшь впросак? Да она и сама не знала, нужен ли ей этот мужчина, такой непонятный, с вкрадчивыми манерами и тихим голосом. И нужна ли она ему со всеми своими детьми.
А на работе Фавзия подначивала:
– Пална, бери сама быка за рога! Такой мужчина! Симпатичный, интеллигентный, холостой! Ей счастье привалило, а она раздумывает, брать или не брать! Сороковник на носу, а она артачится! Гляди, сама его уведу, и опомниться не успеет!
Настя лишилась сна и покоя. Устав от дум, махнула рукой – пусть всё идёт своим чередом. Что суждено, судьба мимо не пронесёт, а уж коли не суждено, незачем и суетиться.
Глава 26. Чернышов
Зимой расхворался Сафар-али, заведующий столовой. Проболев целый месяц, ушёл на пенсию и уехал в родной Таджикистан. Весь небольшой коллектив столовой заволновался: кого-то пришлют на его место? Неожиданно Настю вызвали в Управление в Уфу. Зашла она туда поваром, а вышла заведующей столовой. Вокруг кипела жизнь большого города, мчались машины, звенели трамваи, спешили прохожие, а в её голове царило смятение. Было и страшно – а вдруг не справится, и радостно – вот и она, простая деревенская девушка, бывшая поденщица, стала уважаемым человеком, ответственным работником. Видел бы её сейчас Георгий! Как бы он гордился своей умницей—женой!
Настя взялась за учёбу. Вечерами засиживалась допоздна за книжками по бухучёту, разбиралась с накладными, и в этом ей помогал Иван Михайлович. Его присутствие рядом постепенно стало привычным, но отношения по-прежнему не выходили за грань дружеских. Этот похожий на киноартиста красавчик оставался для неё загадкой. Настя почти ничего не знала о его жизни, его семье, мыслях, планах, его интеллигентность и притягивала, и смущала, поэтому она чувствовала себя рядом с ним неуверенно, боялась не то сказать, не так одеться. Часто Настя вспоминала Георгия, как легко ей было рядом с мужем, какими простыми и понятными были их отношения! Со смертью родного человека, словно половинка её самой умерла.
Весной Настя получила известие, что в детском доме разболелась Ниночка, её трепала малярия. Настя заметалась. Поехать к дочери она не могла, с работы не отпускали, а потеря работы означала и потерю жилья. Да и не с кем было оставить Лизу с Веной. Она могла только переживать и надеяться на детдомовского фельдшера. Однако настоящая беда грянула с другой стороны.
Обычным утром Настя собирала детей в школу, попутно собираясь сама не работу. Веночка с трудом встал, выглядел необычно вялым, не хотел есть. Настя забеспокоилась, потрогала лоб сынишки. Голова была горячей. Времени для раздумий не было, за опоздание в те годы можно было лишиться работы, а за прогул угодить под суд. Настя отправила дочку в школу, сына уложила в постель, строго-настрого наказав лежать до её прихода, дала ему таблетку пирамидона, и поспешила на работу. Надеялась, сделав самые неотложные дела, поручить остальное Фавзие и вернуться домой.
Фавзия встретила её шипением:
– Ты чего задерживаешься, Пална, у нас проверка из Управления, с ревизией приехали!
Целый день Настя провела с ревизором, пересчитывая продукты в кладовой, перебирая накладные, предъявляя калькуляции, меню и прочие бумаги. О том, чтобы уйти пораньше не могло быть и речи! А у самой душа маялась от тревоги за сына.
– Да не переживай ты! Небось, давно в футбол гоняет с ребятами во дворе. Знаю я этих мальчишек, лишь бы в школу не ходить, – успокаивала её Фавзия.
– Хорошо, кабы так, – вздыхала Настя.
Наконец проверка закончилась. Подписав бумаги, ревизор уехал в Уфу, а Настя побежала домой.
Во дворе Лиза прыгала через скакалку с подружками.
– Как там Веночка? – на ходу спросила Настя
– А он всё спит и спит, – беззаботно ответила дочка.
Войдя в дом, Настя, не раздеваясь, заглянула за занавеску, сынишка спал, уткнувшись в подушку. Она коснулась лба Веночки – лоб был холодным, взяла за руку, рука безжизненно упала на одеяло…
От дикого женского крика, полного боли и отчаянья взметнулась ввысь стая ворон с дерева и с громким карканьем унеслась прочь…
Позже Насте выдали на руки бумажку с заключением врача. У ребёнка было слабое сердечко, оно не выдержало высокой температуры. Обычная детская инфекция оказалась смертельной. Всю оставшуюся жизнь Настя мучилась сознанием того, что вовремя сделанный укол мог спасти сыну жизнь.
Вернувшись с кладбища, Настя долго сидела посреди комнаты на стуле, безучастно глядя в пространство. Потом тяжело поднялась, собрала в один узел все иконы, библию, молитвенник и вынесла их из дома. Уж она ли не молилась о своих детях, уж она ли не просила божьей помощи?! Десятилетия потом она не держала в доме икон, не ходила больше в церковь и не обращалась к Богу с просьбами. Слишком много отняли у неё самых дорогих людей: мужа, отца, дочку, сына. Жизнь вновь потеряла для неё все свои краски.
А тем временем в Малмыже Ниночка поправлялась после тяжелого приступа малярии. Она сидела на ступеньках крыльца, греясь на весеннем солнышке, когда пришёл почтальон.
– Пляши, девочка, тебе письмо, – подмигнул он ей, отдавая толстый конверт.
Нина нетерпеливо разорвала его, улыбаясь, начала читать исписанные родным, почерком листы, и вдруг, побледнев, выронила их из рук, упала, потеряв сознание.
Очнулась в медпункте от резкого запаха нашатыря. Придя в себя, не сразу вспомнила, что у неё больше нет любимого братишки, а вспомнив, долго и безутешно плакала.
Однако, в детстве душевные раны зарастают быстрее. Прошёл месяц, другой, третий, и, закончив на «отлично» пятый класс, Ниночка попрощалась с детским домом, подружками, воспитателями, Вовкой Проскуряковым и отправилась на пароходе к новым берегам. Воспитательница проводила Нину, поручив соседке по каюте приглядеть за попутчицей. С такой же просьбой подошла к капитану. Вручила Нине узелок с провизией, бутылку молока, и первое самостоятельное путешествие двенадцатилетней девочки началось.
Ей нравилось всё, спокойная красота берегов, крикливые речные чайки в бескрайнем небе, пенный след за кормой, шумные пристани. А больше всего нравилась собственная самостоятельность. На свежем воздухе аппетит разыгрался нешуточный, и весь запас провизии кончился на второй же день. К вечеру под ложечкой засосало, удовольствие от путешествия поблекло. Заметив голодный взгляд девочки, соседка по каюте протянула ей краюшку хлеба с кусочком сала. Какой-то старичок, сидящий на палубе в обнимку с мешком яблок, угостил яблочком. Так и добралась она с помощью добрых людей до Давлеканово.
Нина нетерпеливо вглядывалась с палубы в публику на пристани, ища маму. Люди постепенно разошлись, и она осталась на берегу одна, никто её не встретил. Девочка вытащила конверт с адресом, подошла к тётке, грузившей свои мешки на подводу, та отмахнулась: «Не знаю я, игде эта улица, отчепись». Меж тем смеркалось. Нина заметила среди играющих на берегу детей девочку, свою ровесницу, подошла к ней. Девочка прочитала адрес.
– Ой, я знаю эту улицу, там сестрёнка моя двоюродная живёт. Только это далеко. Мама не разрешит мне идти туда так поздно. А ты откуда приехала? Из Уфы? А к кому?
Нина рассказала любопытной девчушке, откуда и зачем она приехала.
– А знаешь что? Пойдём ко мне. У меня мама добрая, разрешит переночевать, а завтра прямо с утра я отведу тебя к твоей маме. Не спать же тебе на улице.
Нине ничего не оставалось, кроме как согласиться.
Мама Тани, так звали девочку, действительно встретила приезжую приветливо, накормила, нагрела воды, чтобы ополоснуться с дороги, и отправила девочек спать. Девчушки проболтали и прохихикали до глубокой ночи, пока сон не сморил обеих сразу. Утром, выпив по кружке молока и поделив поровну ломоть хлеба, новые подружки отправились на другой конец большого рабочего посёлка. Первой, кого увидела Нина во дворе нужного дома, оказалась Лиза. С воплем радости бросилась она к сестре на шею. А подружка, с которой Лиза играла в мяч, оказалась Валерой, двоюродной сестрой Тани.
Забегая вперёд, скажу, что девочки подружились и, хотя судьба разбросала их по разным городам, пронесли эту дружбу через всю свою долгую жизнь.
Весёлой гурьбой побежали они на работу к Насте, благо, столовая была недалеко. Узнав, что дочка приплыла ещё вчера, Настя растерялась, ведь долгожданной телеграммы она не получила. Телеграмма пришла только на следующий день. Кто был виноват, забывчивая воспитательница или плохая работа почтальонши, неизвестно, да Настя и не стала разбираться, главное, дочка благополучно добралась, и все они, наконец, вместе.
Первая новость, которую сообщила Нине сестра, ошеломила её, как ушат холодной воды:
– А у нас теперь есть новый папа!
После смерти сына все хлопоты о похоронах, все заботы о Насте и Лизе взял на себя Иван Михайлович. Настя жила, как в тумане, и настолько привыкла к его присутствию рядом, что не стала раздумывать, когда он предложил зарегистрироваться и жить одной семьёй. Свадьба, конечно, никакая не планировалась, да и с регистрацией не торопились, не до того ей было, однако жить они стали вместе. Чернышов очень жалел Настю, его стараниями она потихоньку оттаивала и возвращалась к жизни.
Иван Михайлович вырос в богатом имении под Уфой. Мать его была простой кухаркой, но хозяин имения, большой либерал, поощрял дружбу своего отпрыска с сыном кухарки. Любознательный, красивый и спокойный мальчик импонировал ему. Маленькому Ване позволялось играть в детской, учиться читать и писать вместе с барчонком, а позже читать книги в семейной библиотеке. Его успехи в учёбе подстёгивали честолюбие друга. Ваня гораздо больше времени проводил в классной комнате, в библиотеке, на веранде барского дома, чем на кухне. Втайне он жестоко завидовал красивой беспечной жизни помещичьей семьи, роскоши, их окружавшей. Мальчик рано понял, что у него есть только одна возможность пробиться в эту среду – это учёба. И он упорно учился, мечтая об университете. Революция спутала все его честолюбивые планы, кровавым ураганом вымела всё то, что так манило Ивана. Семья его друга детства затерялась где-то в Турции, поместье стояло разорённое, по пустым комнатам сквозняки гоняли мусор, шевелили оборванные обои, опустела библиотека, сад зарос крапивой.
Иван всё же выучился, но не на инженера и не в столичном университете, как мечталось, а на бухгалтера в Уфе. Работал как все, но в его сердце по-прежнему жила мечта о красивой спокойной жизни рядом с заботливой женой в окружении симпатичных нарядных детишек. Особенно страстно он стал мечтать о семье и детях после того, как понял, что своих детей у него быть не может, из-за чего не сложилась и семейная жизнь. В Настином небольшом, но чистеньком, уютном домике, сидя за столом под абажуром с бахромой, листая книги и попивая горячий чаек с плюшками, прислушиваясь к голосам детей, к ласковому говору Насти, он представлял, что это его дети, его жена, и в одинокой душе воцарялся покой. Его неудержимо влекло к этой миловидной женщине с печальными глазами.
Дети, плохо помнившие родного отца, охотно подружились с Иваном Михайловичем. Веночка тянулся к нему всем своим мальчишеским существом, его смерть была ударом и для Ивана Михайловича. А практичная Лиза оценила и подаренную новым папой куклу, и новое платьишко, и нарядные туфельки. Она первая назвала его папой, чем сильно смутила Настю и порадовала Чернышова.
С приездом Нины всё изменилось. Девочка хорошо помнила и любила родного отца, вид чужого дяди рядом с мамой вызывал в её душе бурный протест. Она так стосковалась по маме, а тут между ними, как ей казалось, встал этот неприятный тип! И не нужны ей его подарки! Скомкав, она засовывала купленные им вещи в самый дальний угол комода. Иван Михайлович настойчиво пытался наладить отношения с упрямой падчерицей, но та, кроме приятного лица, хороших манер, мягкого голоса, замечала холодный испытующий взгляд и фальшивую ласковость улыбки и не доверяла отчиму. Услышав разговор, что Чернышов хочет усыновить девочек, дать им свою фамилию, Нина расплакалась, убежала из дома и дотемна просидела в щели между сараями, обнимая бродячего котёнка и поливая его слезами, пока встревоженная Настя не отыскала её там.
Настя в отчаянье не знала, что делать, как примирить дочку с мужем. Она так устала от одиночества, только-только обрела надёжное, как ей виделось, плечо рядом, защиту от житейских бурь. Неужели придётся всё разрушить? Кто ещё о ней позаботится, кто приласкает? Ей до сердечной боли было жалко дочку. И себя. И Ивана. Ситуация сложилась мучительная для всех. И уже не так радовали ласки мужа, всё реже случались задушевные разговоры. Оставалась слабая надежда, что время всё сгладит.
К осени Настя по настоянию мужа уволилась с работы, и вся семья перебралась в зерносовхоз, где Ивану Михайловичу по такому случаю выделили вторую комнату в коммунальной квартире, где он жил до этого. Комнаты находились по разные стороны длинного, во весь этаж, коридора в двухэтажном кирпичном доме.
Девочки пошли в новую школу. В первую же неделю у Нины случился инцидент. На уроке математики к доске вызвали Радика Султанова, рыжего мальчишку с хитрой рожицей, похожего на лисёнка. Он долго пыхтел у доски, перемазался мелом, но так и не решил задачу.
– Садись, Султанов, за старания ставлю тройку, – сказала учительница, – кто-нибудь смог решить?
Нина подняла руку.
– Новенькая? – учительница глянула на неё поверх очков. – Ну, давай к доске, посмотрим, посмотрим…
Нина уверенно решила задачу.
– Молодец! Садись, пять! – улыбнулась математичка.
Возвращаясь на место, Нина споткнулась о подножку Султанова, чуть не упала, и услышала громкое шипение в спину: «У-у, детдомовка!», развернувшись, дала обидчику оплеуху. Трудно было задеть её больнее, чем этим словом.
– А ну, прекратите! Дневники на стол оба! – раздался грозный окрик математички.
После уроков Нина вылетела из класса первой и спряталась за кустами возле школьной ограды. Подкараулив Султанова, обрушила на его голову портфель:
– Я тебе покажу детдомовку!
Завязалась потасовка. Нина молотила кулаками куда попало, получая ответные тумаки. На шум прибежали учителя.
На следующий день оба стояли в кабинете директора, Радик с подбитым глазом, Нина с распухшим носом, и угрюмо молчали. Зато возмущенно тараторила мама Радика.
– Безобразие! Набрали в школу каких-то хулиганок из детского дома! Нормальных детей страшно в класс отпускать! Отчислите её немедленно! Я буду жаловаться!
– Ну, во-первых, никакая Нина не хулиганка и не детдомовка, живёт в семье с мамой и папой. А во-вторых, гражданочка, объясните сыну, что не пристало мальчику обижать девочку, тем более, стыдно драться с ней, – Чернышов говорил спокойно и твёрдо, – а если он ещё раз обидит мою дочь, я сам ему уши надеру.
После этого инцидента Нину с Лизой никто из мальчишек в школе не обижал. А Нина, получив неожиданно такую убедительную защиту в лице отчима, примирилась с его существованием. В глубине души она по-прежнему ревновала мать к нему, но дерзить, плакать и убегать из дома перестала. В семье воцарился хрупкий мир или, точнее, перемирие.
Настя опять, как в свои самые счастливые годы замужества, вела домашнее хозяйство, занималась дочками, домом, с удовольствием обшивала свою семью, ждала мужа с работы. Но она постоянно испытывала странное чувство, словно бы она артистка, играющая на сцене для зрителей роль счастливой жены. Спектакль рано или поздно закончится, и ей придётся снять костюм, смыть грим и возвращаться в свою собственную жизнь.
До войны оставалось менее четырёх лет.
Глава 27. Начало войны
Кузнечик, беспечно покачивался на длинной травинке прямо перед глазами Насти. Она лежала в траве, закинув руки за голову, глядела на нежное облачко, безмятежно плывущее в бескрайней лазурной вышине, и наслаждалась погожим летним воскресным днём. Из берёзовой рощицы, сбегающей по косогору к озерцу, доносилось неспешное «ку-ку…, ку-ку…». С берега слышались голоса дочек, они уговорили маму пойти с ними купаться. Настя поначалу отнекивалась, мало ли домашних дел у работающей женщины в единственный выходной, но потом сдалась на уговоры, тем более, что Иван Михайлович уехал по своим делам в город на весь день.
Настя недолго пробыла домохозяйкой. Вскоре после переезда в зерносовхоз она услышала, как Иван, отчитывая девочек за какую-то провинность, сказал: «Пока вы едите мой хлеб, будете делать, как я велю!» Скажи то же самое Георгий, родной отец, Настя бы его поддержала, но из уст отчима эта фраза резанула её сердце. На следующий же день она отправилась в сельсовет.
Работа для неё, жены главного бухгалтера зерносовхоза, нашлась сразу – поваром в больничной столовой. Мужу решение жены сильно не понравилось, в его представлении жена должна заботиться только о нём, детях и доме. Он мечтал, чтобы она порхала вокруг него в шёлковом халатике, боготворила его, как своего благодетеля, чтобы дома пахло пирогами, было уютно и красиво. Но Настя проявила характер, и Чернышову пришлось смириться. Да, честно говоря, он уже и сам почувствовал, что содержать большую семью даже на его зарплату тяжеловато, на «красивую жизнь» явно не хватало.
С берега раздался громкий всплеск, визг, крики. Настя села. Кузнечик, как пружинка, взвился вверх и исчез в траве. Лиза подкралась сзади к Нине, задумчиво стоявшей по колено в воде, и толкнула сестру, та плюхнулась, подняв фонтан брызг. Вскочив, Нина погналась по мелководью за озорницей, девчонки затеяли весёлую возню. Настя с улыбкой наблюдала за ними. Мокрые майки облепили ладные, уже вполне сформировавшиеся фигурки дочек. И когда успели так повзрослеть? Она всё воспринимала их, как детей, а оказывается, они уже девушки.
Нина только что закончила восьмой класс и собралась поступать в техникум, хотелось поскорей стать взрослой, самостоятельной. И специальность себе выбрала с заманчивым названием «технолог швейного производства». Да вот незадача – оказалось, что в Уфе такого техникума нет. Отчим, узнав о её планах, сказал своё решительное слово.
– Какой техникум? С твоей-то головой, с твоими пятёрками?! Только институт! Закончишь десятилетку, будешь поступать. А специальность выбирай, какую хочешь. Вот Лизе на следующий год надо думать о техникуме.
– Это я ещё сколько лет учиться буду?!
– Сколько надо, столько и будешь. Ты в люди выйти должна, и сестру за собой вывести.
Настя мужа поддержала, и Нина, поразмыслив, взрослых послушалась, не стала забирать документы из школы.
Вернувшись в посёлок, они почувствовали неладное. Было тихо и тревожно, как перед грозой.
– А где… все…? Почему так пусто на улице? – Лиза крутила головой, как птичка.
Действительно, ни старушек на завалинках, ни играющей ребятни на улице, ни прохожих. У подъезда столкнулись с соседкой.
– Что-то случилось, тёть Маш? Куда весь народ делся?
– А вы что, не знаете? Война началась, вот что случилось! Все радио слушают.
Вбежав в комнату, Настя кинулась к радиоприёмнику.
– … в четыре часа утра, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, – голос диктора звучал так, что у Насти подкосились ноги. Дальше диктор перечислял города, подвергшиеся бомбардировке, захваченные врагом населённые пункты.
– Да не пугайтесь вы так! Красная Армия этих фашистов в два счёта разобьёт. У нас же танки, самолёты. Ну, мы же смотрели фильм «Если завтра война», помните? – не очень уверенно сказала четырнадцатилетняя Лиза.
Однако, вести с фронта с каждым днём становились всё тревожнее, надежды на скорую победу Красной Армии таяли с каждым днём. Через пару недель Чернышов пришёл с работы в середине дня бледный, положил на стол белый листок.
– Вот… повестка. Меня забирают на фронт.
– Когда? – выдохнула Настя.
– Завтра к десяти явиться на школьный двор.
Провожали Ивана Михайловича все вместе. Из репродукторов лились берущие за душу тревожная музыка «Священной войны» и торжественно-грозные слова:
«Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой! С фашистской силой тёмною, С проклятою ордой.»Нина весной вступила в комсомол. Слушая ежедневно об отступлении наших войск, о тяжёлых боях на всех фронтах, она решила, что её место там и, ни слова не сказав маме и сестре, отправилась в военкомат.
– Лет-то тебе сколько? – военком с помятым лицом и красными от недосыпания глазами повертел в руках её заявление.
– Шестнадцать, – бойко ответила Нина, и тихо добавила: – будет скоро.
– Вот, когда восемнадцать будет, тогда и приходи.
– Так к тому времени уже война закончится! А я комсомолка, мой долг Родину защищать.
Военком грустно усмехнулся:
– Хорошо бы, кабы закончилась. Ты, девочка, думаешь, за победу только на фронте сражаются? Армия сильна тылом. Победа сейчас всей страной куётся. Комсомолка, говоришь? Иди-ка ты в райком комсомола, там сейчас такие, как ты, ой как нужны.
В райкоме комсомола царила суета, по коридору сновали люди, из кабинетов доносился торопливый стрекот пишущих машинок, открывались и закрывались двери, из-за которых доносились обрывки нервных разговоров.
В комнате, куда её направили, стояло четыре стола. За одним из них сидел знакомый парень, Нина встречала его на комсомольских собраниях в школе. К нему она и обратилась.
– Как ты вовремя, Халевина, – сказал он, разглядывая девушку сквозь толстые стёкла очков.
– Тут, понимаешь, из Москвы к нам детский дом эвакуировался, с ними только заведующая, а детишки слабовидящие. Им помощь очень нужна, пока взрослых воспитателей для них найдём. Это и будет твоим комсомольским поручением. А разместились они временно в вашей же школе.
Во дворе родной школы Нина увидела группу ребятишек, ходившую гуськом за пожилой женщиной. Все дети держались за одну верёвочку, точнее за узелки, завязанные на этой верёвочке на равном расстоянии друг от друга.
– Ох, как хорошо, что вас прислали! Вас как зовут? Нина? А меня Тамара Петровна. Голубушка, погуляйте с воспитанниками, я хоть какой-то обед для них организую. Совсем с ног сбилась!
Через полчаса Тамара Петровна застала детей сидящими на траве вокруг новой воспитательницы. Приоткрыв рты, они слушали замысловатую историю, наполовину вычитанную в книге, наполовину придуманную Ниной на ходу.
На следующий день Нина привела ещё одну помощницу, свою одноклассницу. Втроем они потихоньку налаживали быт воспитанников. А к началу учебного года для детского дома подобрали помещение и штат воспитателей. Расставаясь с Ниной, Тамара Петровна сказала ей:
– Ниночка, я советую тебе после школы поступать в педагогический. Я понаблюдала за тобой, у тебя есть данные для этой профессии, из тебя может получиться хорошая учительница.
Нина задумалась над её словами. Ей и самой понравилось заботиться о детишках, она привязалась к ним всем сердцем.
В первые дни войны посёлок Бузовьязы, в котором теперь жила Настя с дочками, быстро обезлюдел, почти все мужчины от восемнадцати до пятидесяти ушли на фронт. Да и незамужних девушек старше восемнадцати почти не осталось, кто-то подался на курсы медсестёр, кто-то в школу радисток, а кто-то сразу на фронт. Однако с середины июля начали прибывать эвакуированные, в основном, женщины с детьми. Вскоре население стало больше, чем раньше. Расселяли беженцев в тех домах и в тех семьях, откуда люди ушли на фронт, в порядке уплотнения.
Как-то погожим сентябрьским днём Настя забежала в сельсовет, надо было договориться насчёт транспорта для доставки продуктов в больницу. Около сельсовета стоял грузовик, водитель помогал выбраться из кузова вновь прибывшим. Настя обратила внимание на стоящую у обочины девушку. Одета она была непривычно для этих мест – клетчатая юбка в складку, вязаная кофточка явно с чужого плеча и задорный красный беретик с хвостиком. Обеими руками девушка бережно прижимала к груди два свёрточка, завёрнутых в куски солдатского одеяла. Она растеряно разглядывала лопнувший при прыжке из кузова ремешок туфельки.
В помещении сельсовета шла регистрация и размещение прибывших эвакуированных. Тимофей Иваныч, старичок, до войны служивший счетоводом, а теперь замещающий секретаршу, старательно записывал данные в конторскую книгу. Перед ним сидела дама лет сорока с хвостиком в шляпке с вуалью и в жакете с плечами на вате. Спина жакета была сильно испачкана, рукав порван, что не мешало даме держаться с большим достоинством. На коленях она бережно держала клетку с грязно-белым попугаем. Попугай топорщил крылья и устало закатывал глаза.
– Профессия? – деловито спросил Тимофей Иваныч, косясь на экзотическую птицу.
– Маникюрша-педикюрша.
– … Хто?
Ручка замерла над листом гроссбуха, с кончика пера сползла капля чернил и расплылась кляксой.
– Маникюрша-педикюрша, – также невозмутимо проговорила дама.
Тимофей Иванович покраснел, почесал кончиком ручки переносицу, и крикнул в открытую дверь в соседний кабинет:
– Василь Василич, тут из Ленинграда приехала эта… как её… «прости господи», так мне её как записывать?!
Прыснув, Настя выскочила в коридор.
Вечером, вернувшись из больницы, Настя с удивлением обнаружила, что дверь в квартиру не заперта. Из комнаты девочек раздавалось двухголосое «уа-уа». Озадаченная Настя заглянула в комнату. На кровати лежали и сучили ножками два младенца, над ними склонилась та самая девушка в красном беретике, которую Настя видела днём. Девушка испуганно оглянулась на скрип двери, по её щекам бежали слёзы.
– Вот те здрасте, что за гости у нас? – Настя вошла в комнату.
– Эвакуированные мы…, нас к вам вселили в порядке уплотнения, вот справка, – девушка протянула бумажку с печатью.
– Понятно. А слёзы по какому поводу?
– У меня ничего нет. Детей надо выкупать, перепеленать, а не во что. У Олежки сыпь, у Олечки тоже… Я не знаю, что делать.
Настя осмотрела младенцев, у обоих животики и худенькие попки были покрыты мелкой гнойничковой сыпью.
– Дети то твои? Молоденькая ты больно.
– Мои. Мне уже девятнадцать.
– А зовут тебя как?
– Таисия.
Настя открыла комод, достала стопку чистого постельного белья.
– Вот что, Тася, эти две простыни рви на пелёнки, а этой застелешь кровать. Я пойду, воды нагрею, таз принесу. Да где-то у меня марганцовка была.
– Спасибо Вам!
Через час выкупанные и накормленные малыши мирно спали в чистых пелёнках, обложенные подушками, а Настя с Тасей ужинали в тёплом круге света под уютным абажуром. Тася негромко рассказывала свою горькую историю.
Она родилась и выросла в Ленинграде, на Петроградской стороне. Два года назад, на выпускном балу, познакомилась с Олегом – добрым, весёлым парнем. Год дружили, вместе ходили в кино, на каток, гуляли по улицам любимого города. Он был курсантом военного училища. Через год, когда Тасе исполнилось восемнадцать, поженились. Вопрос о жилье пока не вставал, Тася по-прежнему жила с родителями, Олег прибегал в увольнения. Этим летом он заканчивал учёбу, ждали распределения, гадали, куда пошлют, да судьба распорядилась иначе. Грянула война. Олега отправили на фронт сразу, даже попрощаться не успели. С тех пор от него ни одной весточки.
Тася была на седьмом месяце беременности. Враг стремительно приближался к Ленинграду, грохот орудий слышался всё ближе, слухи один страшнее другого ползли по городу. Потом начались бомбёжки. Во время первого же налёта у перепуганной Таси в бомбоубежище начались схватки. Едва дождавшись конца бомбёжки, родители проводили её в роддом, благо, идти было недалеко. Больше Тася их не видела. Никто её не навещал в роддоме, и никто не встретил. С трудом добрела она с двумя малышами на руках до своей улицы, дом стоял обгоревший, с выбитыми стёклами. А на месте их подъезда громоздилась груда кирпича, обломки мебели, арматуры. Спросить о судьбе родителей было не у кого, идти некуда. До вечера просидела Тася на чудом уцелевшей лавочке возле бывшего своего дома, пока не подошла к ней дворничиха и не рассказала, что родители во время очередной бомбёжки не успели спуститься в бомбоубежище. Тася побрела назад в роддом. Оттуда её заботами главврача эвакуировали в тыл. Ехали в общем вагоне, битком набитом людьми, целых десять дней. Дорога казалась бесконечной. Тася и сама толком не знала, где оказалась.
Нина и Лиза, обнявшись, сидели на соседней кровати и слушали рассказ молодой женщины, немногим старше их самих. Настя обняла плачущую Тасю, погладила по склонённой голове:
– Поплачь, горемычная, поплачь. Слёзы, они как дождик, смывают с души боль. А после дождя что бывает? Правильно, солнышко. И в твоей жизни настанет хорошая погода. Ведь что главное? То, что деток своих ты живыми довезла, что в безопасности вы, что крыша над головой у вас есть. Тебе горевать нельзя, а то молоко пропадёт, чем тогда огольцов своих кормить будешь? Всё пройдёт, дорогая, всё образуется. Бог даст, и муж живым вернётся. Мало ли, почему не пишет? Им сейчас на фронте не до писем. Вон мой Иван Михайлович, как забрали, так только одно письмецо и было, по прибытию в пункт формирования. А с тех пор ничего. А наше бабье дело – верить и ждать, детей растить, помогать фронту, чем можем. Нельзя горю поддаваться.
Под ласковое журчание Настиного голоса Тася стала успокаиваться и засыпать.
Так у Насти появились новые соседи, а Нина с Лизой перебрались в её комнату.
Постепенно они привыкли жить ожиданием известий с фронта. Девочки после уроков задерживались в школе, вязали носки, варежки, шили кисеты, собирали посылки на фронт.
Настя печально провожала глазами спешащую мимо почтальоншу, ей писем не было.
Глава 28. Встречи
Промелькнуло короткое дождливое бабье лето, а уж в начале октября наступило предзимье. С утра лужи подёргивались ледяной корочкой, ветер рвал с веток последние листья, во дворах по-хозяйски каркали вороны, в воздухе пахло скорым снегом. Он выпал в ночь на Покров. Крупные хлопья, словно куски ваты, густо падали и падали всю ночь, и к утру село утопало в сугробах. Снегом завалило входную дверь, пришлось ждать, когда соседский парнишка Валька расчистит крыльцо.
Настя открыла сундук с зимними вещами. Расстроенная, она перебирала одежду, дочки за лето так вытянулись, налились, превратившись из девочек в девушек, что всё оказалось мало. Настя засобиралась в Уфу, на барахолку.
Чернышов, уезжая на фронт, успел позаботиться о своей семье, договорился, чтобы его друг, завхоз на элеваторе, поддерживал Настю с дочками. И тот своё обещание выполнял, время от времени присылал сына Ваню, как бы в гости к девочкам, а в школьном ранце у него был припрятан мешочек для Насти, то с зерном, то с мукой. В сельмаге всё теперь выдавалось по карточкам, ничего так просто не купишь. Весь провиант направлялся на фронт. В тылу было голодно, но люди не роптали, все понимали, армию надо хорошо кормить. Выживали, кто как мог. О том, чтобы что-то принести из больничной столовой не могло быть и речи, все продукты строго контролировались. Разрешалось только забирать картофельные очистки, да «бульон» из-под макарон. Воду, в которой варились макароны для больных, теперь не выливали, как раньше, а сливали в бидончик, вот её разрешалось уносить домой по очереди. Дома этот «бульончик» заправлялся тщательно промытыми картофельными очистками, загущался ложкой обжаренной муки – вот и суп. А уж если в доме морковочка или луковица сыщется, то и вовсе все довольны! По воскресеньям Настя пекла пирожки с теми же картофельными очистками или с запаренной пшеницей. Муку и зерно, которые приносил Ваня, Настя экономила, скопила по вещмешку того и другого. Вот на эти запасы и надеялась она выменять тёплую одежду.
И вновь, как семь лет назад, ехала она в кабине грузовика по заснеженной дороге. Но как эта поездка отличалась от той, давней! Тогда вокруг, сколько хватало глаз, расстилался чистый искристый снег под бездонной чашей небес, душа её пела и рвалась на долгожданную встречу с роднёй, с домом, а за рулём сидел молчаливо-добродушный Иван Иваныч.
Теперь снег укрывал землю словно саван. Ледяной ветер крутил позёмку, швырял пригоршни снега в лобовое стекло машины, гнал рваные темные тучи так низко, что они цеплялись лохмотьями за острые макушки елей. Машину вёл больничный шофёр Кузьма, считавший себя весельчаком и балагуром. В кабине он чувствовал себя хозяином, и Настя не знала, куда деваться от его пошлых шуточек, как увернуться от руки, которую он, то норовил положить ей на коленку, то обхватить за шею. Настя забилась в самый угол кабины, где немилосердно дуло в щель. Благо хоть путь был недальний, часам к одиннадцати они уже въехали в город.
Кузьма высадил Настю около рынка и поехал по поручению начальства, условившись, что на обратном пути заедет за Настей. Настя долго ходила по рынку, присматриваясь, торгуясь и выбирая нужные вещи. Расплачивалась мукой и зерном. Наученная горьким опытом, за мешки свои держалась цепко. Наконец все покупки были сделаны и увязаны в два узла. Настя почувствовала, что сильно проголодалась.
– Пирожки! Горячие пирожки! Горячий чай! – пропела торговка в ларьке.
Что-то очень знакомое послышалось Насте в её голосе. Подхватив тяжёлые узлы, она подошла поближе. Торговка в чистом белом фартуке и белых нарукавниках поверх телогрейки повернулась, глаза женщин встретились, и обе ахнули:
– Настя!
– Дуся!
Через несколько минут Настя сидела на своих узлах в тесном пространстве ларька, грела руки о кружку горячего чая, ела пирожок с картошкой и словно музыку слушала радостный голос любимой подруги, которую не чаяла когда-либо увидеть вновь.
– Я сейчас быстренько расторгуюсь, и мы пойдём ко мне домой. Я тут рядышком живу, меньше квартала отсюда. И не спорь, никуда я тебя сегодня не отпущу! Это ж чудо-то какое, что мы встретились в таком большом городе!
– Да я бы с радостью, но я не одна, за мной шофёр сейчас заедет. Мне же до Бузовьязов засветло добраться надо.
– И шофера твоего заберём. От пирогов, да от чарочки небось не откажется.
Настя любовалась подругой, узнавая знакомые черты и подмечая перемены. Куда девались её утончённые манеры, сдержанность? Разве та Дуся могла бы ходить в телогрейке, носить валенки и платок вместо шляпки, бойко торговать пирожками на рынке?
Пару часов спустя подруги сидели вдвоём в уютной чистенькой кухне за накрытым столом. Кузьма после миски каши, хорошего куска пирога с капустой и чарочки самогона спал в комнате, расстелив телогрейки на полу, соседка Ираида деликатно удалилась в свою комнату, а Настя и Дуся вполголоса рассказывали друг другу о своих злоключениях, оплакивали смерть Галочки, Дусиной любимицы, и Веночки.
Дуся рассказала об аресте Степана Игнатьевича, о том, как тяжко ей пришлось без мужа-защитника, как спасло появление в её жизни и квартире Ираиды, устроившей её на работу в рабочую столовую.
Разоткровенничавшись, подруга рассказала такую историю.
Однажды, ещё до войны, Ида принесла два билета на новогодний вечер в Дом офицеров, выпросила у своего друга-покровителя. Дуся поначалу отнекивалась.
– Ах, Дусенька, ты не представляешь, как там будет весело! Музыка, танцы, шампанское! Ну что ты всё дома, да дома…, а жизнь проходит, к сорока вон уже катится. Ну, Новый год ведь!
– Да какие мне танцы? То ли жена, то ли вдова…, о Степане Игнатьевиче никаких вестей, а я веселиться пойду. Нет уж, иди одна, Идочка, твоё дело молодое, танцуй, пока танцуется.
Стали перебирать наряды. Дуся вытащила из шкафа своё любимое вишнёвое бархатное платье, а к нему кружевную накидку, предложила померить Иде. Но той платье оказалось великовато. Померила сама – чуть узковато, но если немного выпустить в швах… Пока Дуся крутилась перед зеркалом, Ида принесла две затейливые заколки, закрутила Дусе пряди волос надо лбом, заколола с двух сторон. Дуся с удивлением разглядывала себя в зеркале – хороша ещё, оказывается…
– Вот платье ещё повисит в шкафу, и ты в него вообще не влезешь. Ну, хоть в последний раз надень его в люди! Такая красота пропадает!
Дуся вздохнула… и согласилась.
В Доме офицеров было шумно и весело, сияли многочисленные огни, отражаясь сотнями бликов в елочной мишуре. В большом зале играл оркестр, в глазах рябило от дамских нарядов и офицерских мундиров. В буфете, куда Дуся с Идой зашли выпить по бокалу шампанского, за одним из столиков сидел друг Иды и разговаривал с женщиной лет пятидесяти. «Смотри, жена» – шепнула Ида Дусе. Дуся присмотрелась: женщина самой обычной наружности, такую хоть как наряди, а рабоче-крестьянское происхождение не скроешь. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке среди этой праздничной суеты. Заметив Иду с Дусей, её муж чуть улыбнулся, и отвернулся к жене.
– Ты не ревнуешь? – шепнула Дуся Иде.
– Я? Нисколько, – пожала плечиком та. – Она мне как подруга, почти что родственница. Правда, она об этом не знает. Стараюсь беречь её покой и здоровье. Не хотела бы я быть на её месте, с его-то характером. К тому же завтра он, как штык, будет у меня, всё по расписанию! И все довольны.
Дусе это было странно, но, зная историю подруги, нравоучений она ей не читала.
Женщины вернулись в зал. Ида закружилась в вальсе с кавалером. Дуся поискала глазами место, где можно присесть, и увидела, что к ней через зал, пробираясь между танцующих пар, идёт ладный капитан с весёлыми глазами.
– Разрешите Вас пригласить? – он лихо щелкнул каблуками.
– Я давно не танцевала, не знаю, смогу ли.
– Я Вас буду крепко держать, и у нас всё получится, – улыбнулся капитан.
Опираясь на его крепкую руку, Дуся быстро перебирала ножками в тесных туфельках, стараясь не сбиться, не споткнуться, а он уверенно вёл её через зал, ловко лавируя между другими парами. Быстрый вальс показался ей нескончаемым. Наконец музыка смолкла. Но капитан никуда не ушёл, и едва оркестр вновь заиграл, пригласил Дусю на следующий танец. Ида с удивлением наблюдала за раскрасневшейся, смеющейся подругой, такого превращения она не ожидала. Сначала она порадовалась за Дусю, потом встревожилась. Этот капитан, похоже, слишком сильно вскружил ей голову. Или это шампанское с непривычки так подействовало?
– Внимание, товарищи! – закричал со сцены ведущий.
Зашипело радио, и над залом поплыл бой курантов в далёкой Москве.
– С Новым тысяча девятьсот сорок первым годом, товарищи! С новым счастьем!
– Ура! – дружно грянул зал.
Капитан, представившийся Федором, проводил их до дома. Через пару дней он уже поджидал Дусю у подъезда, пританцовывая на морозе. Пришлось пригласить его в дом, напоить горячим чаем. И вскоре он стал частым гостем в их квартирке – в январские морозы по улицам не погуляешь. С Дусей в тридцать семь случилось то, что случается с девушками лет в восемнадцать – она влюбилась. Новое, неизведанное чувство захватило её полностью, заставляя забыть обо всём на свете.
Замуж она вышла рано, не познав влюблённости. Степан Игнатьевич заменил ей погибших родителей, и она испытывала к нему спокойное чувство благодарности, надёжной привязанности. А Федор закружил её в вихре эмоций. Он говорил ей такие красивые слова, от которых пьянела голова.
Так промелькнула зима, и в городе, как и в Дусиной душе, наступила весна. Душистым майским вечером Федор проводил её до подъезда, ему нужно было возвращаться в часть. У подъезда нежно поцеловал, прошептал ласковые слова на ушко. Дуся спрятала зардевшееся лицо в охапку сирени. Помахав ему вслед, она прошла в подъезд мимо лавочки, на которой сидел сгорбленный старик в грязной телогрейке и почему-то в зимней шапке. Поднимаясь по лестнице, услышала шаги за спиной, старик поднимался следом. Встревожившись, прибавила шаг, потом побежала. Старик нагнал её, когда она, путаясь в ключах, открыла дверь.
– Дусенька, не бойся, это же я, не признала?
Старик стянул шапку и Дуся, охнув, выронила ключи, сирень рассыпалась у её ног. Перед ней стоял Степан Игнатьевич. Сильно постаревший, совершенно седой, с ввалившимися щеками, почти беззубый, но это был он.
– Вот, вернулся, как обещал…, реабилитировали. Пустишь в дом?
Вечером, чистый, побритый, он сидел за накрытым столом на том самом месте, откуда наблюдал за обыском семь лет назад. Та же пижама болталась на худых сгорбленных плечах.
– Дусенька, девочка моя, я ни в чём тебя не виню, разве ты виновата в том, что с нами случилось? В том, что для тебя, молодой, красивой, жизнь не остановилась? Вот я пришёл домой, больше мне идти некуда. Но я не хочу быть тебе обузой. Хочешь уйти, держать не стану. Решай сама, как жить.
Степан Игнатьевич закашлялся, вытер со лба бисеринки пота, отодвинул стакан с недопитым чаем. Сердце Дуси сжалось от жалости при взгляде на эти худые руки, ей вспомнилось, какими сильными и надёжными они были.
– Стёпушка, куда ж я от тебя? Ты муж мой, хозяин в доме. Вернулся, и слава Богу! Будем жить, как прежде. А остальное всё пустое.
Но одно дело сказать это мужу, другое сказать любимому человеку: «Прощай!». Дуся не спала ночь, весь день ходила сама не своя, подбирая слова для объяснения. Ираида, укараулив Федора в окно, вышла ему навстречу в подъезд. Рассказала о возвращении мужа, о решении Дуси, попросила уйти. Но не тут-то было! Федор вскипел, он рвался в квартиру, требуя объяснения с женщиной, которую уже считал своей. Дуся, стоя в коридоре, поняла, что избежать тяжелого разговора не удастся, вышла на лестницу. Впервые увидела она Федора взбешённым. Он не выбирал выражений, оскорбляя её. Злые слова, хлестали, как пощёчины.
– Спасибо тебе, Федя. Ты сделал всё, чтобы я не жалела о расставании с тобой. Ты мне подарил крылья, ты же их и выдрал с корнем. Уходи и прощай.
Дверь за её спиной скрипнула, Степан Игнатьевич вышел на лестничную площадку и встал между гостем и женой. Взгляд его не обещал ничего хорошего. И хотя он весил раза в два меньше, чем мускулистый Федор, тот осёкся, развернулся и пошел вниз по лестнице. Сапоги прогрохотали по ступенькам, хлопнула дверь парадного, всё стихло. Все молча вернулись в квартиру, каждый постарался чем-то себя занять. Происшествие не обсуждали.
В начале лета Дуся встретила Федора на улице, под ручку с ним шла другая женщина, пряча счастливое лицо в букетике ромашек.
А потом грянула война. Степана Игнатьевича не мобилизовали, врачи признали чахотку. Стараниями Дуси он чувствовал себя лучше, немного поправился, приосанился, порозовели щёки, повеселели глаза, однако постоянное подкашливание не давало забыть о недуге, а приступы кашля мешали спать ночами. О том, что он пережил в лагере, Степан никогда жене не рассказывал, сказал только, что арестовали его по доносу завистника-карьериста. Следствие тянулось долгих семь лет, вину его так и не доказали, вот и реабилитировали. Да только эти годы и здоровье никто уже не вернёт. Живым вернулся, и за то спасибо.
Откровения Дуси прервал заспанный Кузьма.
– Вы чё это, бабоньки, меня не будите? Стемнело давно на дворе. Заночевать что ли здеся решили? Так мне это несподручно, спозаранку в гараже быть надо. Собирайся, Настасья Пална, ежели ехать хочешь, а ты, хозяюшка, плесни мне водочки «на посошок».
– Да куда ж тебе водочки, в дорогу-то! Да и нет ничего, за обедом ещё всё выпили.
– В дорогу, в дорогу… не лето, чай, замёрзнуть недолго без сугреву. Не жадничай, хозяйка, поднеси чарочку.
– Нет ничего, мил человек, тебе говорят, – на кухню, покашливая, вышел Степан Игнатьевич.
Настя быстренько засобиралась в путь, час и впрямь был поздний. Прощаясь, уговорились с Дусей видеться так часто, как только получится, и что Нина с Лизой на каникулы обязательно приедут погостить.
Весь обратный путь Кузьма был не в духе. То ли из-за чарочки, то ли по какой-то другой причине, но он молчал с мрачным видом. Настя была этому рада, хоть поспала дорогой. В Бузовьязы приехали далеко за полночь.
Новый 1942 год никто не праздновал, с фронта, вместо долгожданных писем, приходили похоронки. Теперь на почтальоншу смотрели не с надеждой, а со страхом, а та прятала глаза, доставая из сумки очередной листок с фиолетовой печатью. В январе всем десятиклассникам досрочно выдали аттестаты, и призвали в школу танкистов. Там, где раньше обучали комбайнёров и трактористов, теперь готовили танкистов. Вместе с другими ребятами Нина и Лиза проводили Ивана, того самого, который приносил им муку и зерно. Весной всех мальчишек отправили на фронт.
Забегая вперёд, скажу, что из всех выпускников сорок второго года бузовьязовской школы живым вернулся с войны только Иван. Все остальные погибли за Родину. Да будет земля пухом и вечная память тем мальчишкам.
Летом Нина закончила девятый класс. Узнав, что в педагогический в этом году принимают и на базе девяти классов, засобиралась в Уфу. Лиза тоже собралась в город, поступать на бухгалтерские курсы. Решено было, что поживут первое время у Дуси, а потом, если поступят, снимут комнату, чтобы быть вместе. За шустрой Елизаветой требовался пригляд.
Проводив дочек, Настя заскучала, теперь всю свою заботу она отдавала двум ребятишкам Таси, забавные малыши делали первые шажочки, их непоседливые ручки тянули всё, что попадалось на глаза.
Как-то вернувшуюся с работы Настю встретила сияющая Тася.
– Что случилось? По какому поводу такая радость? – устало спросила Настя.
– А вы проходите, Анастасия Павловна, в комнату, и сами всё увидите.
У порога Настя споткнулась о кирзовые сапоги. На кровати поверх покрывала и подушек крепко спал Чернышов. Солдатская пилотка выпала из опущенной руки, рядом лежал костыль. Настя тихонько пододвинула стул, села рядом, рассматривая мужа. Лицо осунулось, щеки, покрытые щетиной, ввалились, виски поседели, и в выражении лица появилось что-то жёсткое, чужое. Ноги были целы, только на одной ступне не хватало трёх пальцев. «Господи! Муж вернулся с фронта живой, руки-ноги на месте, счастье-то какое», – говорила сама себе Настя, но сердце почему-то молчало…
Вечером в доме был праздник. Настя с Тасей собрали стол, какой сумели. Двери не закрывались, соседки несли, кто что мог, каждая с надеждой расспрашивала, не встречал ли Иван Михайлович на войне её мужа, и как там вообще, на фронте, скоро ли фрицев погонят. Чернышов отвечал неохотно, в сотый раз рассказывая, что в первые же дни их часть попала в окружение, не успев побывать в бою. Командиров немцы сразу расстреляли на глазах у бойцов, а солдат, как скот, согнали в окружённый колючей проволокой загон. Поставили часовых с пулемётами, и тех, кто пытался бежать, расстреливали на месте. Раз в сутки приезжала полевая кухня. Каждому выдали по миске, но мыть их было негде. Тем, кто свою миску потерял, баланду наливали прямо в пригоршни, фрицев это очень забавляло. Среди военнопленных начались болезни, каждое утро охрана вывозила из лагеря трупы умерших за ночь.
Однажды приехала крытая машина с автоматчиками и собаками. Пленные начали прощаться друг с другом. Но их погнали не на расстрел, а к железной дороге. Во время погрузки в вагоны трём военнопленным удалось бежать, в их числе был и Чернышов. Несколько дней скитались по лесу, не имея представления, далеко ли до линии фронта. Совсем обессилев от голода, вышли к выселкам. Хозяин спрятал их на сеновале, накормил, чем смог, а ночью за ними пришли партизаны.
Несколько месяцев Иван Михайлович воевал в партизанском отряде, но однажды обморозил ногу в худом валенке, пальцы почернели, начался жар. Партизаны сумели переправить его через линию фронта. В прифронтовом госпитале ему ампутировали три пальца и переправили дальше, в тыловой госпиталь. Гангрена отступала медленно, Чернышов опасался, что ему ампутируют всю ступню. Обошлось, выкарабкался. Он уже собрался выписываться, все его мысли были дома, но из госпиталя его забрали в ГПУ, месяц разбирались, при каких обстоятельствах он попал в плен, и не завербован ли немецкой разведкой. Отпустили внезапно, когда он уже перестал надеяться на скорое возвращение домой.
Через недельку приехали из Уфы дочки, обе счастливые – поступили, для них начиналась новая жизнь. Отчим решил, что перебираться в Уфу нужно всей семьёй, Настя его поддержала. К концу лета вопрос с переездом был решен.
Глава 29. Раечка
Иван Михайлович устроился бухгалтером на один из эвакуированных заводов. Настя пошла работать мастером в пищевой цех того же завода. Поселились в самом центре Уфы, сняв две комнатки в двухэтажном деревянном доме на углу Революционной и Цюрупа.
Нина после лекций бежала в школу-интернат, куда её взяли на работу пионервожатой. Будучи сама по возрасту ровесницей старшеклассников, не понаслышке знающая законы детдома, она легко нашла общий язык со своими подопечными, и даже завоевала у них авторитет.
Лиза после занятий спешила на работу в Горпотребсоюз. Она приписала себе лишний год к возрасту, и её взяли счетоводом. Рабочих рук везде сильно не хватало, поэтому никто к году рождения в документах не присматривался.
В первые же дни яркую бойкую девушку пригласили в агитбригаду. А когда выяснилось, что Лиза не только хороша, как весенний цветок, но и прекрасно поёт и пляшет, она стала звездой коллектива. Агитбригада ездила с концертами по госпиталям, и как же раненые ждали выступления девушки, похожей на кинозвезду! При её появлении на измученных лицах расцветали улыбки, пусть на время, но они забывали о боли, о своих бедах. А Лиза смеялась и кокетничала, встряхивая льняными кудряшками, словно и не было войны, голода, холода, похоронок. Цветов Лизе не дарили, негде было их взять раненым, зато восторженных записок после каждого концерта набиралась полная сумочка. Придя поздно вечером домой, Лиза высыпала их на стол, за которым старшая сестра готовилась к завтрашним занятиям: «На, читай, старая дева! Так и просидишь за своими учебниками всю молодость!».
Много ли надо, чтобы у шестнадцатилетней девушки закружилась голова? Лиза решила, что её имя слишком обыкновенное:
– Ну что такое Лиза? Лиза-подлиза… не звучит. Называйте меня Лиля! Больше на Лизу я откликаться не буду, – говорила она, старательно накручивая папильотки.
И ведь добилась, упрямая девчонка, что даже Настя смирилась с её причудой и привыкла к новому имени.
Хозяйка квартиры удивлялась: «Чем ты, Настя, кормишь своих девок? Вон какие румяные, да пригожие!». А Настя и сама удивлялась, есть кроме картошки да свекольного жмыха нечего, а дочки, знай, цветут. И это несмотря на то, что обе стали донорами. У обеих сестёр оказалась ценная первая группа крови. За сдачу крови полагалась тарелка горячего супа с кусочком мяса и кружка настоящего чая с двумя кусочками сахара.
Днём, в промежутке между учёбой и работой, обе девушки частенько забегали на рынок, в ларёк к тёте Дусе, съесть пирожок с капустой, да и просто поболтать. Дуся всегда была им рада, выбирала пирожки порумянее и потолще, расспрашивала об их девичьих делах.
Как-то сырым и нудным осенним днём Дуся разговаривала с озябшей Ниной и вдруг заметила маленькую грязную ручку, тянущуюся из-под прилавка к приготовленному для гостьи пирожку. Дуся, вытянув шею, выглянула из ларька, глаза её встретились с двумя чёрными, круглыми, как бусины, глазищами на чумазом личике девочки лет трёх-четырёх. Не сводя немигающего взгляда с Дуси, девочка цапнула пирожок и бросилась наутёк, путаясь в полах большой рваной кофты.
– От, цыганское племя! С пелёнок воруют, спасу от них нет! – покачала головой бабка, торгующая семечками рядом с Дусиным ларьком. – Та шоб вам повылазило! – ворчала она, отгоняя веткой от своего товара голодных воробьёв.
На следующий день девочка-цыганка появилась снова. Она стояла неподалёку, наблюдая за ларьком и, видимо, поджидая удобный момент. Дуся достала из обитого ватином и клеёнкой короба пирожок и поманила девочку к себе. Та настороженно, как птичка, держалась поодаль. Потом голод привёл её маленькие ножки к ларьку. Дуся хотела заговорить с девочкой, но та, схватив пирожок из её рук, мигом убежала и скрылась в дырке в заборе.
– Это чья такая шустрая, не знаете? – спросила Дуся торговку семечками. Тетка была из тех, что непостижимым образом знают всё и про всех.
– Та, цыганский табор тут у парке стоял, всё на рынке ошивались, гадали, да кошельки тырили. А потом пропали. Чи ушли, чи шо. А девчонка, видать, отстала, може потерялась. Она уж с неделю тут околачивается, попрошайничает, с прилавков таскает.
– И что, никого из взрослых с ней нет?
– Не видала…, похоже, никого. Много нынче беспризорников развелось.
– Так ведь холода начнутся, замёрзнет ребёнок!
– Замёрзнет, коли милиция не подберёт, – равнодушно пожала круглыми плечами торговка.
Всю ночь лил дождь, холодный ветер качал фонарь под окном, и всю ночь Дуся не сомкнула глаз, думая о том, где ночует в такую непогоду эта маленькая девочка.
На следующий день ей было не до работы, она несколько раз ошибалась со сдачей, высматривая малышку. Девочки нигде не было. К вечеру, когда стало смеркаться, и пришло время закрывать ларёк, Дуся услышала тихое покашливание рядом с ларьком. Выглянув, увидела два знакомых глаза и протянутую ладошку.
– Ты за пирожком пришла? – спросила Дуся, шаря в коробе.
Девочка кивнула. Опять начал накрапывать дождь. Дуся, выйдя из ларька, присела перед девочкой, протягивая ей пирожок.
– На, кушай, только не убегай, я тебе ещё один дам. И чаю тёплого налью. Хочешь?
Девочка осторожно кивнула и с жадностью набросилась на пирожок.
– Как тебя зовут? – спросила Дуся, протягивая ей кружку с чаем.
– Ая.
– Мая?
Девочка отрицательно качнула головой и повторила: «Ая!»
– Галя?
Девочка вновь качнула головой и сердито сдвинула бровки: «Ая!»
– Ая, Ая… Рая?
– Малышка кивнула и протянула руку за новым пирожком.
– А где твоя мама, Раечка?
Девочка развела ручками: «Неть».
– А хочешь, я буду твоей мамой? Пойдёшь ко мне жить? У тебя будет тёплая кроватка, игрушки, одежда и каждый день пирожки, – Дуся обняла худенькие, как у цыплёнка, плечики.
Девочка внимательно глянула своими черными глазами-бусинами в лицо женщины, словно в самую душу заглянула, и медленно кивнула. Она доверчиво вложила свою грязную ладошку во взрослую ладонь, и они, выйдя за ворота рынка, вдвоём пошли по тротуару под моросящим дождём, подгоняемые порывами холодного ветра.
– Это что за чудо чумазое?! – всплеснула руками Ираида, открыв им дверь.
– Это Раечка, она теперь будет жить с нами.
На голоса в прихожую вышел Степан Игнатьевич. Увидев незнакомого мужчину, девочка испуганно спряталась за Дусю, обхватив её ногу, зарылась личиком в юбку. Степан Игнатьевич присел на корточки, попытался развернуть девочку к себе.
– Ну-ка, покажись, красавица.
Но та заревела в голос и ещё крепче вцепилась в Дусину юбку.
– Ладно, ладно, познакомимся потом, ухожу, – Степан Игнатьевич отступился, ушел в комнату. Дуся шёпотом в двух словах объяснила Иде ситуацию. Та сочувственно погладила кудлатую головку.
– У меня там картошка варёная осталась, сейчас разогрею для девочки.
– Лучше корыто достань, да воду поставь греться. Её сначала отмыть надо, а потом уж кормить.
Но всё оказалось не так просто! Раечка явно не знала, что значит «мыться». Корыто, мыло, мочалка были ей незнакомы. Она отчаянно сопротивлялась, не давая себя раздеть. Дуся и Ида растерянно смотрели друг на друга, не зная, как уговорить дикарку. Вдруг Ираиду осенило, она кинулась в свою комнату и вернулась с яркими бусами и фарфоровой чашечкой, опустила всё это в корыто с водой, показала Раечке, как можно играть с такими заманчивыми вещами. Та заинтересовалась, потянулась к бусам, попробовала наливать и выливать воду. Игра Раечке так понравилась, что она не заметила, как её тихонечко раздели и усадили в корыто. Играть с пузырьками мыльной пены ей тоже понравилось. Но как только дело дошло до мытья головы, Раечка подняла отчаянный рёв, чуть не перевернула корыто. Дуся и Ираида, сами мокрые с головы до пят, кое-как домыли ребёнка. На кухне царил разгром.
Успокоилась она только тогда, когда перед ней поставили тарелку с рассыпчатой варёной картошечкой, заправленной золотистым лучком, обжаренном на настоящем подсолнечном масле. Забыв обо всех огорчениях Раечка, наряженная в сатиновую Дусину блузку, доходящую ей почти до щиколоток, уплетала угощение за обе щёчки. Густые, спутанные волосы расчесать не было никакой возможности, к тому же, в них водились вши. Решено было остричь девочку наголо, что женщины и сделали, когда та уснула. Всю её одежду увязали в узел и вынесли на помойку.
Ночью между Дусей и Степаном состоялся серьёзный разговор.
– Мне кажется, ты опрометчивый поступок совершила, – шепотом, чтобы не разбудить спящего ребёнка, говорил муж. – Даже не посоветовалась со мной, всё с бухты-барахты. Ребёнок ведь не котёнок, не выкинешь, ежели что. Это же на всю жизнь! А ну как родная мать объявится, когда девчушка подрастёт? Ты же ничего о ней не знаешь.
– Ты прав, Стёпушка, наверное, прав. Но, пойми, не могла я уйти и оставить голодного ребёнка одного под дождём! Она же ещё такая маленькая, погибнет ведь! Я бы себе этого не простила. Может, нам её Бог послал. Я ведь так мечтала о дочке! Да и ты всегда хотел детей, хоть и не говорил об этом. Я же замечала, как ты смотришь на чужих ребятишек. Давай будем растить Раечку, как свою дочь, а там как Бог даст, от всех напастей в жизни не убережёшься.
На следующий день Дуся закрыла свой ларёк пораньше, сказавшись больной, а сама поспешила на барахолку. Сколько раз она с завистью наблюдала, как женщины выбирают и покупают детские вещи – штанишки, чулочки, платьица. И вот, наконец, и она выбирает одежду для дочки! Придирчиво рассматривает швы – не будут ли тереть нежную детскую кожу, прикидывает размер – чтобы было на вырост, но не смотрелось слишком большим. Нелёгким это оказалось делом – покупка детской одежды. А на последние деньги выторговала у пожилой женщины с печальным лицом целлулоидного пупса. Нагруженная покупками торопилась Дуся домой. Волновалась, как там Степан управляется с маленькой дикаркой. Но дома, к её удивлению, царили мир и согласие. Степан Игнатьевич нашёл деревянный брусок, распилил его на кубики, и вместе с Раечкой строил из них башню. Они увлеченно возились на полу голова к голове, разговаривая на каком-то только им понятном языке.
Увидев Дусю, Раечка обрадовано поспешила к ней навстречу, маленькие ручки обняли её за шею. Волна тепла и нежности затопила Дусино сердце.
– А смотри-ка, дочка, что я тебе принесла! – она, как фокусник, достала из сумки пупса.
Ни один фокус на свете не производил такого впечатления на зрителей, как появление этого пупса. Девочка восторженно выдохнула, осторожно взяла игрушку, потом быстро прижала её к груди и убежала, забилась под кровать. Дуся переглянулась с мужем.
– Боится, что отнимем. Не трогай её пока, сама вылезет.
Жизнь семьи круто изменилась, наполнилась новыми заботами, новым смыслом, новыми радостями, но и немалыми проблемами. Раечка оказалась на редкость смышленым ребёнком, она быстро освоилась в доме, заговорила, и её звонкий голосок с утра до вечера не умолкал в квартире. На здоровье Степана Игнатьевича появление ребёнка сказалось лучше лекарств, казалось, болезнь отступает.
Но характер у девочки оказался отнюдь не сахарным. Упрямая, своевольная, вспыльчивая, она доставляла приёмным родителям немало огорчений. Она не признавала запретов, её невозможно было поставить в угол, запретить что-то брать. Действовали только убеждения. К тому же у неё обнаружилась неприятная особенность – она, как сорока, тащила всё, что ей нравилось, и прятала свою добычу в самых неожиданных местах. Особенно страдала от дурной привычки Раечки Ираида, у неё то и дело пропадали бусы, брошки, статуэтки – все милые её сердцу вещички. Не один год потребовался, чтобы отучить дочку воровать.
Остриженные волосы быстро отрастали, густые, чёрные, как смоль, локоны обрамляли смуглое личико с правильными чертами лица. Ухоженная, всегда нарядно одетая девочка росла на редкость красивой. Только одно огорчало Дусю – слишком уж дочка не походила на своих светловолосых белокожих и сероглазых родителей, слишком уж явно читалась в её внешности цыганская кровь.
– Девочка моя, – говорил Дусе Степан Игнатьевич, – надо Раечке рассказать, кто она, что мы её приемные родители.
– Да, но не сейчас! Пусть сначала подрастёт, она ещё такая маленькая. Она только-только привыкла называть нас мамой и папой, – умоляюще смотрела Дуся на мужа.
В конце осени выпадают удивительно погожие дни, когда вчерашнюю грязь и слякоть вдруг укрывает чистый пушистый снег. Он кружит в воздухе, приглушая все звуки, пахнет морозцем. И даже взрослым хочется улыбаться, ловить ртом падающие снежинки, бегать по белой целине, оставляя чёткие следы.
Степан Игнатьевич смотрел в окно, Раечка примостилась рядышком на широком подоконнике, наблюдая за танцем снежинок за стеклом.
– А знаешь что? Пойдём-ка, дочка, гулять! Поиграем с тобой в снежки.
– Гулять, гулять! – завопила Раечка, мигом слезла с подоконника и притащила из прихожей валенки.
Во дворе они покидали снежки, взялись лепить снежную бабу. Степан Игнатьевич увлёкся работой, а когда оглянулся, Раечки рядом не было. Перепугавшись, он обегал весь двор, задыхаясь, поднялся до квартиры – девочки нигде не было. Выбежал на улицу, расспрашивая прохожих, не встречали ли они девочку в коричневом плюшевом пальто и красном капоре, добежал до рынка. Обессиленный, привалился к прилавку Дусиного ларька:
– Раечка пропала…
Целый час Дуся, закрыв ларёк, бегала по рынку, расспрашивая людей и утирая слёзы, а когда, потеряв надежду, вернулась к ларьку, обнаружила Раечку, мирно сидящую на руках у Степана Игнатьевича.
– Нагулялась и сама пришла, – виновато сказал он.
– Мамочка, я больше не буду, – потянулась девочка к Дусе.
Но обещание свое Раечка, конечно же, не сдержала. Она сбегала при каждом удобном случае. А нагулявшись на свободе, вся перепачканная, растрёпанная, неизменно возвращалась к Дусиному ларьку, часто с каким-нибудь пряником или яркой безделушкой в кармане.
И в сердце Дуси прочно поселился страх.
Глава 30. Разрыв
Пронизывающий февральский ветер трепал подол Настиной юбки, словно хотел сорвать её, проникал под старенькое пальто, касаясь ледяными пальцами кожи. Настя шла быстро, почти бежала по пустынной тёмной улице. Городской транспорт и днём ходил плохо, а в столь позднее время его не было вовсе. Рабочая смена в пищевом цехе, где работала Настя, кончалась тогда, когда заканчивалась партия свёклы, из которой получали сахар. Часто это случалось за полночь, и люди оставались ночевать прямо в цеху, по нескольку дней не бывая дома. По ночам в городе было неспокойно, милиционеров не хватало, и грабежи, нападения были обычным делом. Но Настю гнала домой тревога.
Она почувствовала себя в безопасности, только вбежав в подъезд своего дома. Отдышавшись, поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. Сначала зашла в комнату дочек. Лиля спала, свернувшись калачиком. Нина сидела над тетрадкой, набросив на плечи тёплый платок. Свет от настольной лампы, прикрытой полотенцем, уютно освещал пятачок на столе с раскрытыми книгами.
Настя склонилась над спящей Лилей-Лизой, поправила сползшее одеяло, коснулась светлых локонов, приобняла старшую дочку, поцеловав в тёмную макушку.
– Соскучилась я, как вы тут? Здоровы?
– Всё в порядке, мама, за нас не беспокойся. Чайник ещё горячий, тебе заварить свекольный чай? У нас немножко осталось.
– А я ещё жмыха принесла, сегодня давали в счёт зарплаты. Сейчас разложу, чтобы подсушить.
Настя развернула на подоконнике принесённый свёрток, поставила перед Ниной блюдце с пригоршней свекольных отжимков:
– Учись, дочка, учись.
Кивнула в сторону своей комнаты:
– Как там? Отчим дома?
Улыбка погасла на лице Нины, взгляд стал колючим.
– Дома… всё так же.
Настя тяжело вздохнула, прихватив стакан со свёкольным «чаем», пошла в свою комнату.
Муж сидел за столом, пьяно тыкая вилкой в кусок селёдки на тарелке. Перед ним стояла полупустая бутылка самогонки и наполненный стакан.
– А-а… Настёна пришла…, садись, компанию составишь…, а то пью один, как алкаш какой-то. А я ведь не алкаш…, не-е-ет! Интеллигентный человек! – он поднял ввёрх указательный палец и икнул.
Пододвинул к Насте стакан с самогонкой:
– Давай, жёнушка, культурно посидим, поговорим…, вот ты Бернса читала?
«Мы хлеб едим и воду пьем, Мы укрываемся тряпьем И все такое прочее, А между тем дурак и плут Одеты в шелк и вина пьют И все такое прочее».Настя отодвинула стакан.
– Не пил бы ты столько, Ванечка. Как утром на работу пойдёшь? Давай спать ложиться.
– Спать? С тобой? – он пьяно ухмыльнулся, – не хочу. Не понимаешь ты меня… И никто не понимает! Мне уже сорок лет, а что хорошего видел я в этой жизни?! В юности думал, вот выучусь, инженером стану, люди уважать будут, и всё у меня будет: дом, красивая и ласковая жёнушка, детки, на море дачу снимать буду. А что имею? В бухгалтерии счётами щёлкаю, чужие деньги считаю, а своих нет. Жена, как мышь серая, ласки не дождёшься. Детей нет и не будет, твои вместо благодарности, волчатами смотрят. Моря ни разу не видел. Думал – у богачей всё отберём, социализм построим и заживём красиво, а где она, красота? Ты оглянись – голод, холод, нужда, грязь!
– Так война же! Вот победим фашистов, и будет у нас жизнь другая, будут красивые вещи, пирожные—мороженные, театры, рестораны, всё будет.
– Война, говоришь? Что ты знаешь о войне?! Что ты можешь знать об этом кошмаре?! Ты не видела, как снаряд разрывает человека. Вот он только что рядом бежал, раз – и от него только кровавые лохмотья. А на его месте мог быть я… Тебя не гнали, как зайца, по лесу, не наливали в грязную миску вонючую бурду, которую и собака есть не станет. Как ты можешь меня понять?!
Иван плакал, по детски размазывая слёзы по щекам. Настя прижала его голову к своей груди, погладила растрепанные волосы, нашёптывая успокаивающие слова, а сама думала: неужели этот большой плачущий ребёнок, капризно требующий красивую куклу и вкусную конфетку, и есть тот умный, уверенный, утончённо-загадочный мужчина, смущавший её всего-то лет пять назад.
Война войной, а весна пришла в положенные сроки и засияла солнцем на ясном небе, встопорщилась зелёным ёжиком на газонах, засвистала птичьим гомоном. Тон военных сводок изменился, изменилось и настроение у людей. По всему фронту шли тяжёлые бои, но это уже не было беспорядочное отступление первых месяцев. Растерянность, страх сменились суровой собранностью, народ был готов сражаться до победного конца, каждый на своем месте.
Изменилось и настроение Чернышова. Его назначили главным бухгалтером завода. Он больше не напивался вечерами, повеселел, вновь стал очень следить за собой, стал меньше цепляться к Насте. Она сначала была рада таким переменам, пока не почувствовала запах незнакомых духов от мужа. На её вопрос Иван ответил:
– А чему ты удивляешься? У нас в бухгалтерии работают женщины, которые следят за собой и, в отличие от некоторых, пользуются духами. Я там сижу, как в клумбе, вдыхаю аромат, вот пиджак и пропитался.
Настя догадывалась, что дело не только в сослуживицах. А тут и «добрая душа» нашлась, рассказавшая, что видела Ивана под ручку с директором продмага, женщиной видной и холёной. Насте это было неприятно, но сильных переживаний не вызвало, главное – муж перестал пить и реже скандалил. Пусть себе живёт, как может.
Как-то среди ночи Нину разбудил шум, в комнате мамы что-то упало, послышался возмущённый голос отчима и мамин плач. Она прислушалась, потом вскочила и, набросив на плечи шаль, босиком побежала в их комнату.
Настя, сжавшись в комочек, плакала в углу кровати, посреди комнаты валялся разбитый стул, Чернышов в исподнем метался по комнате и ругался.
– Посмотри на себя в зеркало! Ты же позоришь меня своим видом! Свитер натянет, пучок зачешет, и вперёд на завод! В голове ничего, кроме работы. Ты же женщина! Жена главного бухгалтера завода! Где шёлковые платья? Где пудры-помады и всякие милые женские штучки? Ты же крокодил бесполый! Ты не следишь за собой, не следишь за домом, не следишь за дочерьми. Вот чем должна заниматься женщина! Где твои дочери шляются вечерами?
Заметив, наконец, Нину, застывшую на пороге, осёкся. Нина шагнула вперёд.
– Прекратите оскорблять маму! Она работает по четырнадцать часов, ей высыпаться надо, а вы скандалы по ночам закатываете. Это у вас наряды да финтифлюшки в голове, а люди о Родине думают, для победы себя не жалеют! И вы прекрасно знаете, что мы с сестрой работаем вечерами, а не «шляемся», как некоторые. Это вы со своей мадам шляетесь вечерами, видела, как вы прогуливаетесь под ручку!
– А ну вон отсюда, соплячка, не смей влезать в мою спальню! – Чернышов попытался вытолкать падчерицу, но Нина так его толкнула в ответ, что он не удержал равновесия, упал.
– Ещё раз услышу, что обижаете маму, вытолкаю, в чём есть на улицу!
Остаток ночи Нина не сомкнула глаз, вслушиваясь в тишину. А утром, вместо того, чтобы отправиться в институт, пошла на поиски квартиры. Комнату нашла быстро, жильё сдавали многие. В добротном частном доме на Пархоменко жили три женщины: хозяйка – приветливая дамочка средних лет, её старенькая мама и дочка-подросток. Просторная светлая и уютная комната имела вход прямо из сеней. И ещё одно важное преимущество – в углу была установлена печка-буржуйка, около которой не только можно было согреться, но и приготовить на ней ужин. Хозяйка одолжила новой квартирантке ручную тележку, на которой Нина перевезла весь их небогатый скарб. Потом она забежала в Горпотребсоюз, предупредить сестру, оставила ей новый адрес. Лиля удивилась, но узнав о ночном скандале, который она благополучно проспала, сестру поддержала.
Дальше Нина побежала на завод к маме. Ждать на проходной пришлось довольно долго. У неё сжалось сердце, когда увидела идущую через двор маму со стороны: похудевшую, с ввалившимися щеками, с тёмными кругами вокруг потухших глаз.
Выслушав сбивчивую, но решительную речь дочки, Настя не удивилась. Вот и подросла ей опора в семье, с такой не пропадёшь.
– Ты всё правильно сделала, дочка. Так будет лучше для всех: и для вас, и для меня, и для Ивана Михайловича.
С завода Нина побежала на рынок, повидалась и обсудила перемены с тётей Дусей, купила у неё три пирожка с капустой. Оставшихся денег хватило на пригоршню картофельных очистков и бутылочку хлопкового масла. К возвращению сестры и мамы она успела приготовить на печке-буржуйке ужин, вскипятить чайник. Она очень старалась, чтобы их первый вечер на новом месте получился приятным, и ей это удалось. Сидя за круглым столом, Настя с удовольствием оглядывала уютную комнату, тюлевую штору на окне, абажур с бахромой над столом, покрытым вышитой скатертью, плюшевое покрывало на диване, прислушивалась к треску поленца в печке и разговору дочек, наслаждалась теплом, покоем. На душе было легко, словно долго тащила груз и, наконец, освободилась от него.
Иван Михайлович объявился дня через три, вызвал Настю из цеха.
– Настёна, я понимаю, я виноват перед тобой, кругом виноват. Ты меня прости. Возвращайся, а? Всё-таки у нас какая-никакая, но семья, а семья – дело святое. Хотят девочки жить самостоятельно, пусть живут, взрослые уже, хватит уж им за мамкину юбку держаться. Денег я им дам, ты не беспокойся. А мы с тобой заживём по-новому. Уйдёшь с завода, принаряжу тебя, платье красивое куплю, туфельки там, чулочки. Не поскуплюсь!
Настя удивлённо посмотрела на теперь уже бывшего мужа, отрицательно качнула головой.
– Ничего у нас не выйдет, Ванечка. Мы давно идём каждый своей дорогой. Моя дорога рядом с дочками, да и ты не один. Живи, как тебе нравится. Не приходи больше.
Повернулась и ушла в цех.
Прошёл год, наполненный работой, учёбой, ожиданием сводок о ходе боёв и писем. Летели с фронта треугольнички от Настиного племянника Николая, того самого парнишки, что провожал её на вокзал в Вятке несколько лет назад. Сын брата Пани, как только началась война, из-за школьной парты ушёл в лётное училище, а оттуда на фронт. Девушки у него пока не было, а получать девичьи письма хотелось, вот и завязалась у него переписка с двоюродными сёстрами. Лиля писать не любила, ей и так кавалеров хватало, а Нина писала аккуратно и с удовольствием. До войны встретиться им не довелось, познакомились и подружились брат с сестрой благодаря переписке.
Вновь забегая вперёд скажу, что дружбу эту они сохранили на всю жизнь. Николай Павлович выжил в той страшной войне, дошёл до Праги. После войны красавец-капитан встретил свою любовь и прожил с ней долгую счастливую жизнь. Вышел в отставку полковником, воспитал дочь и внучку. В последние годы совершил ещё один подвиг, человеческий, много лет ухаживая за тяжело больной женой. С сестрой Ниной виделись они лишь раз, но писали друг другу тёплые письма до последних дней. Недавно мы вместо поздравления с праздником получили письмо от внучки Николая Павловича о том, что он ушёл из жизни так же достойно, как жил. Светлая память этому красивому человеку.
Но вернёмся в весну сорок четвёртого. Тяготы военного времени стали привычными, сводки с фронта придавали сил и уверенности в скорой победе. Как-то в редкий выходной Настя заглянула в гости к любимой подруге, хоть жили недалеко друг от друга, но видеться удавалось редко. Тем дороже для обоих были эти встречи.
Настя подивилась, как изменилась Раечка, ничего в её облике не напоминало ту маленькую бродяжку, которую Дуся привела с рынка. Теперь это была хорошенькая девочка в фартучке поверх домашнего платьица, с атласным бантом в коротких кудряшках, бойкая, с озорными глазками и крепенькими ножками. Первые пять-десять минут она держалась настороженно, издали наблюдая за гостьей. Потом освоилась, принесла и положила на колени Насти куклу, мячик. А потом и вовсе расшалилась, залезла с ногами на диван и всё пыталась привязать к Настиным волосам свои бантики, что-то приговаривая на своём языке.
Дуся собрала на стол, что в доме было, позвала Настю. Раечку спросила:
– Ты будешь с нами кушать?
– Буду. И бодавку буду!
– Что за «бодавка»? – удивилась Настя, садясь за стол.
– Да это она так добавку называет, – засмеялась Дуся, – что-что, а аппетит у дочки отменный, уговаривать не приходится.
Посидели за столом, отвели душу откровенными разговорами, поиграли с Раечкой, помянули Галочку. И посмеялись, и поревели. Попечалились, что Степан Игнатьевич стал совсем плох, почти не встает, только любовь к приёмной дочке, да заботы жены и держат его на этом свете.
Вечером Настя шла домой по бульвару, перебирая в памяти события минувшего дня. На бульваре в воздухе витал аромат черёмухи, набирала цвет сирень, пичуга в ветвях высвистывала свой мотив. И, казалось, нет на свете никакой войны, а есть мирная, хорошая жизнь. Навстречу ей шла нарядная пара: слегка прихрамывающий мужчина с тросточкой, в светлом макинтоше и шляпе с мягкими полями, в дорогих лаковых ботинках, и полная дама в замысловатой шляпке на завитых волосах и в габардиновом костюме с плечами на вате. Выглядела прогуливающаяся парочка необычно, словно пришельцы из какой-то иной жизни. Редкие прохожие оборачивались им в след. Настя с удивлением узнала в мужчине бывшего мужа. Поравнявшись с ней, Чернышов приподнял шляпу и слегка поклонился, в улыбке сквозила насмешка. Накрашенные губы его дамы презрительно изогнулись, она по-хозяйски взяла спутника под ручку. На Настю пахнуло каким-то дорогим вином.
Хорошее настроение улетучилось. Хотя Настя в душе своей перевернула эту страницу, встретить бывшего мужа с новой подругой было неприятно. Однако, укладываясь дома спать, она решила, что это хорошо, что Иван живет, наконец, той жизнью, о которой грезил, и что с ним рядом подходящая ему женщина. Он выглядит довольным, вот и слава богу. Значит, всё она, Настя, сделала правильно, жалеть не о чём. А вскоре новые события вытеснили из её головы мысли о Чернышове.
Как-то, придя со смены, Настя застала Нину, укладывающей вещи в чемодан.
– Ты куда это собираешься, дочка? – тревога стиснула сердце.
– Мамочка, ты только не волнуйся, я уезжаю по комсомольской путёвке.
– На фронт? – выдохнула Настя.
– Нет, меня отправляют в распоряжение ЦК комсомола Белоруссии. У меня уже все документы оформлены.
– Так там же сейчас самые тяжелые бои! Что же ты, восемнадцатилетняя девчушка, делать там будешь?
– То же, что и другие. В командировочном предписании сказано: «на восстановление народного хозяйства в освобождённых районах».
– А вдруг фашисты перейдут в наступление, окажешься на фронте, или того хуже…
– Не перейдут! Наши их знаешь, как гонят!
– А как же институт, учёба? – Настя цеплялась за каждый довод.
– Потом, мамочка, это после войны. Вот вернусь и обязательно порадую тебя дипломом. Да ты не беспокойся, какая уехала, такая и вернусь, обещаю!
Настя поняла, что спорить с дочкой бесполезно, внешность Нине досталась отцовская – черноглазая смуглянка, а характер её, Настин, упрямый. Уж если что решила – не своротишь.
Нина уехала на следующий день поездом до Брянска. Дальше ей предстояло добираться самостоятельно, на попутках, до Гомеля. Проводив её, Настя вернулась в опустевшую комнату, долго сидела без сил, полная тревожных мыслей. И потянулись дни ожидания весточек. Нина писала коротенькие письма, но часто, как и обещала. Жизнь постепенно вошла в новое русло.
Прошли октябрьские праздники. Настю за ударный труд наградили ценным подарком – куском мануфактуры, он сразу пошёл в дело – на новое платье для Лили.
Вскоре после праздника, в обычный день, Настя, занятая работой, не сразу заметила какую-то суету, возникшую в цехе. Люди, собираясь группками по два-три человека, что-то обсуждали, испуганно ахали. При приближении Насти, замолкали и торопливо расходились. Она поймала за рукав учётчицу Антонину:
– Что случилось? О чём шушукаетесь?
– Да я что? Я ничего не знаю…
– Говори, что знаешь!
– Ну…, люди говорят, что на заводе была ревизия, чегой-то там в документах нашли, подлог какой-то…, растрату. Ну… пришли, значит, за главным бухгалтером милиционеры…
– За Чернышовым?
– Ну… да. Только его нигде нет. А потом нашли на чердаке. Повесился он.
В ушах у Насти зазвенело, предметы вокруг завертелись в хороводе, сливаясь в белую метель.
Похоронили Чернышова тихо, в самом углу кладбища, около забора. На похороны Настя не пошла, не хотела видеть разряженную директоршу продмага. Подошла к холмику, когда разошлись немногочисленные родственники Ивана Михайловича. Присела рядом, погладила свежие комья земли.
– Эх, Ванечка, горемычный ты человек, что же ты наделал?! Недолгой оказалась твоя «красивая жизнь», а цена слишком высокой. Прости, коли в чём была виновата. Покойся с миром. Прощай.
Вот и ещё один могильный холмик на её пути, который уж по счёту?
Глава 31. Минск
Но вернёмся немного назад, в июльское утро сорок четвёртого.
Прибыв на рассвете поездом в Брянск, Нина сразу отправилась на поиски военной комендатуры. Ей повезло, нашлось место в штабном газике, направляющемся в Гомель. Утренняя прохлада быстро сменилась зноем. Тент газика защищал от палящих солнечных лучей, но нагретый воздух, врывающийся в машину, не освежал седоков. Пожилой солдат, шофёр, чертыхаясь, объезжал многочисленные воронки на разбитой дороге. Машину подбрасывало на ухабах. Нина, сидя на заднем сидении за спиной молчаливого майора, крепко держалась за опору тента, придерживая ногами свой чемодан.
Наконец после полудня машина въехала в Гомель. Нина растеряно смотрела по сторонам. Казалось, в городе не осталось ни одного целого здания, кругом руины. Из гор битого кирпича торчали куски уцелевших стен с пустыми глазницами окон. Даже от деревьев остались лишь искорёженные стволы.
– Фашистские сволочи, отступая, взорвали всё, что уцелело в ходе боёв, – пояснил Нине майор.
– Где же тут найти ЦК комсомола? Домов то нет…, – сокрушалась девушка.
– А это мы сейчас разведаем, – водитель окликнул женщину, толкающую перед собой покосившуюся детскую коляску, нагруженную какой-то утварью, видимо, найденной в разбитых домах.
– Гражданочка, где тут у вас комендатура?
– А вот свернёте на Крестьянскую, по ней выедете на Гитлерштрассе…, ой, то есть на Советскую…, ищите целый дом, он там один, не ошибётесь. Я думаю, начальство всё там.
Комендатура действительно располагалась в единственном уцелевшем доме на Советской, однако, уставшую Нину ждало разочарование.
– ЦК комсомола Белоруссии было здесь до вчерашнего дня, а вчера они переехали в Минск. Третьего дня наши Минск взяли! Гоним проклятого фрица в шею!
Пожилой солдат, дежуривший в вестибюле комендатуры, смотрел гордо, словно это была лично его заслуга. Нина устало опустилась на свой чемодан.
– А как же мне до Минска добраться? Мне же в ЦК надо! И есть ужасно хочется…
– Алеся, ты обедать? – окликнул дежурный девушку в светлой блузке, легко сбегающую по ступенькам широкой лестницы, – возьми-ка шефство над этой черноглазой, проводи её в столовую коллективного питания.
Алеся оказалась бойкой, общительной девушкой, ровесницей Нины, и они быстро нашли общий язык. В столовой было довольно многолюдно и шумно. Нина отоварила последнюю продуктовую карточку, выданную ей вместе с командировочным удостоверением ещё в Уфе. Она с интересом прислушивалась к непривычному местному говору:
– Ирына, где тэбя носыт? Вазмы трапку и пратры сталы!
После обеда Алеся проводила Нину до перекрёстка и поручила заботам девушки-регулировщицы в ладно сидящей на плотной фигурке военной форме.
– В Минск? Махом отправим, не проблема. Сейчас, почитай, весь транспорт в том направлении двигается, – и девушка ловким движением вскинула руки с флажками перед приближающейся машиной.
Не прошло и получаса, как Нина продолжила путь в открытом кузове военной полуторки среди каких-то ящиков и тюков. Устроившись поудобнее на одном из них, девушка уснула.
Проснулась уже к вечеру от тряски. Вдалеке погромыхивало. Нина решила, что собирается гроза, однако небо было ясным. В кузове кроме неё оказалось ещё двое попутчиков.
На дороге то и дело попадались гружёные домашним скарбом телеги. На некоторых сидели дети, за телегами брели на привязи козы, коровы.
– Партизаны из леса возвращаются. Многие уходили в леса целыми семьями, со всем хозяйством, – сказал один.
– Идти-то идут, да только к чему придут…, пожгли фашистские гады их хаты, – вздохнул второй.
И действительно, в придорожных сёлах обгоревших печных труб было больше, чем уцелевших домов. Нина, до сих пор знавшая о войне только по военным сводкам и кадрам кинохроники, впервые видела страшные следы войны своими глазами. Видела плачущих баб с притихшими детишками, роющихся на пепелищах своих подворий в поисках хоть каких-то уцелевших вещей. Столько долгих месяцев они жили в лесу, в землянках, воевали за свою землю, мечтали о том дне, когда вернутся в родное село, домой. И вот этот день настал, выжили, вернулись! Только ни села, ни дома нет…
Машина въехала в разоренный войной посёлок. В центре села, на площади стояла виселица, с неё ещё не успели снять повешенных: двух мужчин, женщину и девочку лет четырнадцати – пятнадцати. На груди каждого висела картонка с надписью «партизан». Лёгкий ветерок перебирал светлые пряди волос, упавшие на посиневшее лицо девочки, совсем ещё ребенка, всего-то несколько дней не дожившей до освобождения. От этого зрелища Нине стало нехорошо. Ещё долгое время перед её глазами возникала эта картина: лицо девочки-партизанки, ставшее для неё страшным лицом войны.
После посёлка шоссе оказалось заполнено советскими войсками. Прижавшись к обочине, полуторка пропустила целую колонну танков. Лязгая железом, грозные машины шли и шли мимо, казалось, им нет конца. Нина, держась за борт кузова, во все глаза смотрела на эту силищу, и душа её наполнялось гордостью за свою страну, уверенностью в скорой победе. Какой-то чумазый парень-танкист белозубо улыбнулся и помахал девушке рукой. Она помахала ему в ответ, крикнула: «Бейте фашистскую сволочь, миленькие! Гоните их прочь с нашей земли!». Её голос потонул в грохоте, но парень улыбнулся ещё шире и показал ей поднятый как флаг большой палец. Потом полуторка ползла среди колонны орудий с зачехлёнными стволами, обгоняя усталых, запылённых солдат. Дневная жара сменилась вечерней прохладой, когда, наконец, на обочине дороги замелькали ещё дымящиеся развалины пригорода. Машина въехала в Минск. И везде царила та же картина полного разрушения, как в Гомеле, только дома в столице были больше, а, следовательно, руины масштабнее.
Нина беспокоилась, что добралась слишком поздно, что двери Центрального Комитета окажутся запертыми, и тогда придётся ей ночевать голодной и под открытым небом в этом городе-призраке. Успокаивала себя тем, что июльские ночи короткие и теплые. Однако, опасалась она напрасно. В небольшой приёмной первого секретаря, в круге света высокой настольной лампы, сидела миловидная женщина в светлом костюме с высокими, по моде, плечами и с аккуратно уложенными короной светлыми косами. Словно не было вокруг разрухи, не гремели за открытыми окнами далёкими раскатами отголоски боя. Пальцы её ловко бегали по клавишам трофейной печатной машинки.
– Вы к товарищу Зимянину? – секретарша глянула на Нину поверх оправы роговых очков, – по какому вопросу?
Девушка почувствовала себя неловко. Второпях она не догадалась умыться, причесаться после долгой дороги, даже в зеркало на себя не глянула. И пока женщина с её документами скрылась за дверью, наскоро расчесала и пригладила растрепанные ветром волосы перед створкой окна, сняла и сунула в вещмешок запылённый жакет, отряхнула платье.
– Проходите, Халевина, Михаил Васильевич ждёт вас, – раздался за спиной невозмутимый голос.
Секретарь ЦК комсомола Белоруссии оказался невысоким симпатичным мужчиной лет тридцати. Коротко остриженные тёмные волосы были зачёсаны назад и открывали умное худощавое лицо с волевым подбородком. На гимнастёрке поблёскивали ордена. Оторвавшись от бумаг, он приветливо улыбнулся, сделал приглашающий жест в сторону стула, однако взгляд оставался жёстким, проницательным.
– Откуда к нам такая смуглянка приехала? Ого, из Башкирии, далековато! Как добралась?
– Нормально. Готова следовать дальше.
– Куда это «дальше»?
– Куда направите…, а лучше на фронт.
– «На фронт»! Там и без вас отлично справляются, а вот здесь такие боевые ох как нужны! Ты по городу проехала, видела, что с ним фашисты сделали? А город должен жить! И отправлять на фронт танки, машины! И госпитали должны лечить раненых! И дети в сентябре должны пойти в школу! Это и есть наша боевая задача. Не беспокойся, трудностей и опасностей у нас здесь на меньше, чем на передовой… Пединститут, второй курс… – Зимянин заглянул в документы девушки, – пойдёшь заведующей отделом образования Сталинского райкома комсомола. Ступай к Аглае, она оформит приказ.
И уже в дверях Нину задержал добродушный голос:
– У тебя мама-то есть?
– Есть, в Уфе осталась.
– И как тебя, такую молоденькую, мама одну так далеко отпустила?
– Я комсомолка – вспыхнула девушка.
– А вот мы в деле посмотрим, какая ты комсомолка.
Аглая, секретарша, документы оформила быстро.
– Здесь адрес Сталинского райкома, завтра к восьми утра придёте туда на работу. Найдёте Николаева, всё остальное он вам объяснит. Вот адрес квартиры, где вы будете жить, это в районе железнодорожного вокзала. Спросите пани Богуславу. И, наконец, продуктовые карточки. Не теряйте, их не восстанавливают. Кстати, наша столовая работает допоздна, если поторопитесь, можете успеть. Вход со двора.
Поражаясь скорости и чёткости, с которой Аглая решила все её проблемы, Нина помчалась искать столовую.
Уже стемнело, когда девушка, едва переставляя ноги от усталости, нашла нужный дом. Сам железнодорожный вокзал был сильно разрушен, полукруглые арки окон зияли тёмными провалами, но прилегающие к вокзалу жилые дома чудом уцелели. Нужный дом оказался двухэтажным угловым зданием с красиво закруглённым фасадом, выходящим на площадь. Дверь открыла худощавая женщина лет сорока пяти – пятидесяти с папильотками в светлых волосах. Старушка, по мнению восемнадцатилетней Нины.
– Вы будете Богуслава…, извините, как Вас по отчеству?
– Можете называть меня пани Богуслава.
– Нет, это неудобно, лучше с отчеством.
– Ну, если по-вашему, то Богуслава Кшиштофовна, – и женщина лукаво улыбнулась, заметив смятение новой жилицы, – но у нас, поляков, не принято по отчеству, так что лучше просто пани Богуслава.
– Кыш… Кыф…, да, пожалуй, лучше без отчества…
– Пройдёмте, я покажу Вам вашу комнату.
В неярком свете керосиновой лампы Нина увидела небольшую, но чистенькую комнату. На стенах в аккуратных, украшенных бумажными цветами, рамочках висело несколько портретов Ворошилова. Нина удивилась их количеству.
– Пани Богуслава, Вы имеете какое-то отношение к Ворошилову?
– Я его люблю много лет.
– А Вы что, с ним встречались?
– Нет. Но какой красивый мужчина! Если бы я имела счастье с ним встретиться, я бы непременно вышла за него замуж, – пани вздохнула и пожала плечиком.
На единственной кровати спала девушка.
– Это ваша соседка, сегодня прислали. Надеюсь, вы подружитесь. Располагайтесь на канапе, сейчас принесу вам постель.
Вернувшись через несколько минут со стопкой белья и подушкой, хозяйка застала новую жиличку крепко спящей на диванчике без всякой постели.
Утро разбудило Нину солнечным лучиком и веселой песенкой:
– «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали,
Не прячь гармонь, играй на все лады.
Поднажми, чтобы горы заплясали,
Чтоб зашумели зеленые сады…»
Песенку мурлыкала симпатичная девушка лет двадцати. Она вертелась перед зеркалом, расчёсывая коротко стриженные светлые волосы. Кудряшки укладываться не хотели, и девушка приглаживала их, обмакивая расчёску в банку с водой.
– Вставай, соседка, давай знакомиться, улыбнулась она, заметив в зеркале, что Нина открыла глаза.
– Меня Валей зовут. Валентина Мезинцева из Челябинска.
– И правда, соседка. Я из Уфы.
Оказалось, что не только жить, но и работать им предстоит вместе. Девушки подружились с первых минут. И даже непростые характеры – ершистый у Вали, и упрямый у Нины, не помешали этой дружбе.
Сталинский райисполком занимал уцелевшее крыло трёхэтажного здания на улице Ольшевского. Райкому комсомола была отведена одна комната. С трудом разыскав нужную дверь, девушки собрались войти, как вдруг из-за двери раздался грохот, а следом отборный мат. Перепугавшись, они отскочили от двери. Спустя пару минут осторожно заглянули внутрь. Просторная комната была захламлена какой-то мебелью, у стены громоздились столы, на них были свалены сломанные и целые стулья. Крепкий коренастый парень лет двадцати семи или чуть больше в одиночку разбирал этот завал. Видимо, несколько стульев рухнули на него.
– Скажите, где нам найти товарища Николаева? – спросила Нина.
– Ну, я Николаев, девчонки, а что?
– Нас направили к вам на работу в качестве заведующих отделами, – Валя постаралась сказать это как можно солиднее.
– Вас? Заведующими?!
Николаев поставил стул, молча вышел из комнаты, и скрылся за углом коридора. Девушки недоумённо посмотрели друг на друга. Минут через десять Николаев вернулся. Несколько месяцев спустя, вспоминая этот эпизод, он объяснил своё поведение. Будучи опытным разведчиком, командиром партизанского соединения, он не хотел работать в райкоме, не представлял себе эту работу.
– Я боевой командир, моё дело фрицев бить, в разведку ходить, а не развалины разбирать, бумажки перекладывать. Отправьте меня в тыл врага, там я буду на своём месте, а здесь я не справлюсь, – говорил он Зимянину.
– Ничего, партия прикажет, справишься. Дадим в твой отдел двух опытных сотрудников, они тебе помогут освоиться.
А когда «опытные сотрудники» оказались двумя пигалицами чуть ли не со школьной скамьи, душа его окончательно взбунтовалась. Но с Зимяниным, одним из организаторов подпольной и партизанской борьбы в Белоруссии, не поспоришь, Николаев по личному опыту знал, что тот умел подчинять себе людей, да и разбирался в них отлично. Раз этих девушек прислал, значит разглядел в них потенциал, а значит и ему, первому секретарю райкома комсомола, приглядеться надо.
– Так. Надо организовать в этой комнате наш рабочий кабинет, убрать всё лишнее, принести всё нужное. За дело.
В дверь просунулась вихрастая голова:
– Райком комсомола – это здесь?
– Здесь, заходите. Вы по какому вопросу?
Голова принадлежала рослому плечистому парню в выгоревшей косоворотке.
– Мне бы направление на работу и продуктовые карточки. Я из партизанской бригады «Народные мстители».
Нина с Валей в замешательстве посмотрели на Николаева, тот с не меньшим замешательством посмотрел на них. И суток не прошло, когда они вот так же пришли в Минск, не зная, где будут ночевать и что есть, а теперь должны помогать другим. Парень понял их по-своему.
– Я комсомолец, вот мой билет. Потрёпанный, правда, маленько, я его под стелькой сапога прятал.
Красная книжечка действительно была наполовину истлевшей.
– Вот что, партизан, помоги-ка тут девушкам, а я в ЦК за продкарточками сгоняю.
Вернувшись через пару часов с портфелем, полным документов, Николаев не узнал помещение. На двери висела рукописная табличка. Кабинет приобрёл вполне обжитой рабочий вид. Откуда-то притащили шкафы для бумаг, солидную настольную лампу на высокой ножке, даже телефонный аппарат, который пока молчал, раздобыли. На столе у окна красовалась трофейная печатная машинка, на которой, впрочем, никто не умел печатать. А в кабинете и в коридоре толпилось уже немало народу. Люди возвращались из леса, их нужно было расселить, накормить, определить на работу, восстановить документы. Три новоявленных сотрудника райкома, разбираясь и учась на ходу, погрузились в работу и только к вечеру спохватились, что не обедали и не завтракали толком сегодня. Они работали с темна до темна, а поток людей всё увеличивался.
Через несколько дней им прислали подкрепление.
– Наташа, – представилась рослая миловидная девушка с мальчишеской стрижкой, которая плохо сочеталась с нежной округлостью щёк. Несмотря на июльскую жару на ней был жакет с длинными рукавами, и девушки не сразу заметили, что правый рукав жакета, заправленный в карман, пустой.
Позже они узнали, что Наташа воевала в диверсионном партизанском отряде, пустила под откос не один железнодорожный состав с фашистами, боевой техникой.
Однажды, поспешив, допустила оплошность, и ей оторвало кисть руки. Рана долго не заживала, началась гангрена. В партизанском госпитале руку отняли сначала по локоть, потом по самое плечо. А обезболивание в полевых условиях какое? – полстакана спирта и свёрнутое жгутом полотенце в зубы. На её счастье с Большой земли прислали целую коробку с пенициллином, он спас ей жизнь. После освобождения Минска Наташа вернулась в свой полуразрушенный дом к маме, пережившей оккупацию. Глядя на эту девушку, трудно было предположить, что ей довелось пережить. Внешне мягкая, улыбчивая она обладала твёрдым характером, не позволяла себя жалеть. Она научилась всё делать одной левой рукой: писать, готовить, стирать, причёсываться. Вскоре подруги перестали замечать, что Наташа не такая, как они, и ни у кого не повернулся бы язык назвать её калекой.
Рабочий день в райкоме комсомола начинался с пятиминутки. Николаев, оседлав угол стола, раздавал задания.
– Валентина, собирай своих активистов и дуй по району, ищи адреса, куда можно подселить людей. Отдельно составь списки комнат, куда можно вселить семьи, отдельно углы и части комнат для женщин, отдельно жильё для мужчин. Срочно нужно пополнить нашу базу данных. С населением проводите воспитательную работу.
– Да у нас народ сознательный, никто не возражает против подселения. Понимают ситуацию.
– Наталья, ты отправляйся на вокзал. Твоя задача – срочно организовать бригаду по расчистке и восстановлению железнодорожных путей. На днях пойдут эшелоны с боевой техникой на фронт, готовится наступление, мы не имеем права сорвать сроки.
– Ясно.
– Нина, птицей лети на танковый завод. Это крупнейшее предприятие района, необходимо восстановить там комсомольскую ячейку, провести собрание, избрать работоспособного секретаря. Второе: организуй бригады комсомольцев по расчистке района. Люди должны работать в три смены всё светлое время суток, естественно, в свободное от работы на заводе время. И третье: организуй на заводе бригаду добровольцев-доноров. Госпиталю срочно нужна кровь в больших количествах. Вот адрес госпиталя, представишь туда списки доноров с адресами.
– Я сама донор. Готова сдавать кровь.
– Ну, тебе и карты в руки. Задачи ясны? Летите, птахи, вечером отчитаетесь. А я остаюсь работать с населением.
До победы оставался почти год. Год, наполненный работой «до упаду», ночными вызовами в госпиталь для срочной сдачи крови. По воскресеньям девушки выходили на расчистку развалин, сортируя ободранными в кровь руками кирпич на целый и битый. Там, а не в парках, не на танцевальных площадках, молодёжь знакомилась, влюблялась, так проходила их весна.
Глава 32. Победа
Толстый шмель с солидным гудением влетел в открытое окно кабинета, сделав круг, столкнулся с плафоном и тяжело шлёпнулся на стол Нины – прямо на стопку комсомольских билетов, – сконфуженно отряхнувшись, вылетел в окно и взмыл в выцветшее от июльского солнца небо. Нина проводила его завистливым взглядом: хорошо шмелю, никаких обязанностей, лети куда хочешь, хоть на речку, хоть в дубраву. Вздохнув, вернулась к работе.
Накануне секретарь райкома Николаев принёс целый пакет новеньких комсомольских билетов, и в воскресенье с утра девушки засели за их оформление. У каждой на столе высилась стопка сданных партизанами истрёпанных документов, затёртых, подпорченных сыростью, порой простреленных, порой залитых кровью. Некоторые просто приносили справки, выписанные командиром партизанского отряда, о том, что они приняты в ряды ВЛКСМ решением комсомольского актива. Всё это следовало проверить и оформить, как положено.
Дверь распахнулась, на пороге возник Николаев:
– Девчонки, вы чего сидите?! Там парад уже начинается! Подъем и бегом марш!
– Какой парад?
– Где?
– Партизанский парад. Дуйте по Красноармейской на берег Свислочи.
Уговаривать девушек не пришлось, собрались в момент.
Несмотря на утро, на улице было уже жарко, солнце припекало как следует – макушка лета, 16 июля. У Нины закружилась голова, чтобы не упасть, она присела на каменную тумбу.
– Что с тобой? Ты бледная, как стенка! – встревожилась Наталья.
– Да ничего удивительного, за ней ночью опять приезжали из госпиталя, второй раз за неделю кровь сдала, – всплеснула руками Валентина.
– Так там же раненные, крови катастрофически не хватает, а у меня первая группа, – оправдывалась Нина.
– Да тебе уж самой переливание крови требуется!
– А ты куда смотришь? – накинулась Наталья на Валентину, – Не отпускай её чаще, чем раз в две недели.
– Да её разве удержишь, упрямую такую, – оправдывалась та, – сейчас водички раздобуду.
Валентина раздобыла не только воду, но и кусок хлеба. Тем временем из-за угла показалась колонна военнопленных. Конвой вёл запылённых, оборванных, обросших щетиной немецких солдат в сторону вокзала. Один из пленных, увидев в руках девушки хлеб, что-то быстро заговорил по-немецки, срывая с руки часы, показал знаками, что голоден. Глаза Натальи сузились, она сложила пальцы единственной руки в хорошую фигу и ткнула ею в сторону немца:
– Вот тебе, фашист проклятый! Нашей земли захотели? Вот и жрите её теперь.
На яркой зелени луга в излучине Свислочи собралась уйма народу. Военный оркестр играл марши. Партизаны, вооружённые кто чем: кто советскими автоматами, кто трофейными, а кто и самодельными ружьями, разномастно одетые, но весёлые и счастливые, стройными рядами шли с развёрнутыми знамёнами своих отрядов мимо группы военачальников, командиров партизанских соединений, мимо толпы зрителей. Незнакомые люди обнимались, поздравляли друг друга, всех объединила общая радость, первый за долгие тяжёлые годы, долгожданный праздник. Девушки, принаряженные, в светлых платьях, с полевыми цветами в руках радовали глаз, словно не было войны.
Высокий парень с винтовкой на плече окликнул Наталью, помахал ей рукой из колонны марширующих партизан, и она вдруг зарделась, помахала ему в ответ. В этот момент она была совсем не похожа на ту девушку, что час назад показала кукиш фашисту.
– Это кто? – спросила любопытная Валентина.
– Да так… знакомый…, воевали вместе, – ещё больше смутилась девушка.
– У-у-у, понятно, что за знакомый, – хитро прищурилась подруга.
Обратно в райком Нина возвращалась вдвоём с Валентиной, Наталья потерялась где-то в толпе.
Фронт откатывался всё дальше на запад. Фашистские дивизии, попавшие в Минский котёл, были разгромлены, смолкла канонада, доносившаяся с запада в первые дни пребывания девушек в Минске. Каждый день по радио зачитывали списки всё новых освобождённых городов. И, несмотря на бытовые трудности, разруху, полуголодную жизнь, настроение у большинства минчан было радостное, ощущение близкой победы пьянило, придавало сил. Не прошло и двух недель, как в город вновь пришёл праздник, выплеснулся на улицы народным гуляньем, музыкой из громкоговорителей, салютом из всего, что стреляло.
Валентина ворвалась в квартиру, как ураган:
– Нинка, ты чего сидишь? Айда на улицу! Белоруссию освободили! Полностью!
Обняла, закружила растерявшуюся хозяйку:
– Пани Богуслава, наши в Польше!
Та перекрестилась на портрет Ворошилова, по сеточке морщинок скатилась слеза.
Постепенно усилиями минчан жизнь в городе налаживалась, расчищались улицы, ремонтировалось всё, что как-то можно было отремонтировать. В заводских цехах параллельно с выпуском продукции шли ремонтные работы, рабочие после смены брались за кирпичи, лопаты, мастерки. Первого сентября в городе открылось несколько школ. Горожане сами, вместе с учителями, вставляли стёкла в окна, закладывали пробоины кирпичом, чинили и таскали в классы сваленные во дворах и подвалах парты, выносили солдатские койки. Там, где ещё два месяца назад были немецкие госпитали и казармы, вновь зазвенели детские голоса и школьные звонки. Не хватало всего, от тетрадок и учебников до учителей. Но всё же учебный год начался, дети пошли в школу.
Нина пропадала в школах с темна до темна, на ходу решая бесчисленные проблемы. Детей надо было не только учить, но и как-то подкормить, организовать их время, пока родители работают. Слишком много опасностей подстерегало их в развалинах. Надо было возрождать пионерские отряды, создавать кружки. Война оставила после себя много сирот. Как выживали они в разрушенном голодном городе? У Нины сердце сжималось при виде недетских глаз на худых детских лицах, протянутых за подаянием грязных ладошек. Уж она-то хорошо помнила, что такое голод и бездомность. Надо было срочно открывать детские дома, собирать по подвалам беспризорников.
Неумолимо надвигались холода, а с ними новые проблемы. Порой в отчаянии и растерянности бежала Нина в ЦК комсомола. Зимянин находил время выслушать девушку и подсказать решение. Один-два звонка – и приходила помощь. Нине нравилось общаться с секретаршей Аглаей, у неё она училась спокойной собранности, деловитости, способности без суеты и паники разруливать текущие задачи. Это общение возвращало Нине уверенность в своих силах.
Очищались улицы Минска, на месте руин появлялись пустыри, вместо забитых фанерой окон поблёскивали стёкла, открывались магазины, заработала поликлиника. Город пережил зиму. И вот уже вновь сменили девушки промокающие валенки на резиновые ботики, а тёплые платки на кокетливые беретики.
Ночи становились всё короче. Девушки в своей комнатке задёргивали шторы поплотнее, чтобы солнце не мешало спать. Нина расправляла постель, мечтая лишь о том, чтобы скорее лечь. Валентина, сидя на своей кровати с зеркальцем в руках, выщипывала лишние волоски на бровях и тихонько напевала, как обычно. Вдруг за окном раздался шум, крики, вечернюю тишину прорезали выстрелы. В комнату девушек вбежала перепуганная хозяйка в длинной, наглухо застёгнутой до подбородка ночной рубашке и в папильотках на голове. Пани Богуслава мелко крестилась бормоча: «Матка Боска, Острабрамска, Ченстоховска…»
Валентина вскочила, распахнула окно, высунула голову наружу. С улицы сквозь пальбу донеслось: «Ура! Победа! Победа, братцы!!!».
С Нины мигом слетели усталость и сонливость. Кое-как натянув платья и накинув на плечи платки, девушки кинулись вниз по лестнице.
– Девочки, куда вы? Осторожнее, там же стреляют! – кричала им вслед пани Богуслава, торопливо распутывая трясущимися руками свои папильотки.
А на улице творилось что-то невообразимое. Люди, кто в чём был дома, некоторые в исподнем, кричали, смеялись и плакали одновременно, обнимались, целовались друг с другом. У кого было оружие, палили в небо. Со всех сторон неслось: «Победа! Ура! Гитлер капут! Разбили фрицев! Полная капитуляция! Конец войне!!! Ур-р-ра!!!» Такой радости, такого всеобщего восторга Нина не испытывала и не видела больше никогда.
Все трудные военные годы многим казалось, что вот закончится эта страшная война, наступит долгожданная, выстраданная победа, – и сразу кончатся все тяготы, вернётся довоенная мирная жизнь. Но всё оказалось не так просто. Люди по-прежнему работали без выходных и отпусков, получали хлеб по карточкам, дети не знали, что такое конфеты и пирожные. Разрушенное хозяйство с трудом, со скрипом возвращалось на мирные рельсы. Много рабочих рук навсегда осталось в земле, а те, что уцелели, не сразу вернулись домой. В Восточной Европе спешно строились военные гарнизоны, продолжались боевые действия на Дальнем Востоке.
В конце мая через Минск пошли первые эшелоны с фронтовиками. Победителей встречали с оркестром, с цветами. В городе все больше становилось людей в гимнастерках, на барахолках появлялось всё больше трофейных товаров, к концу лета начали открываться кинотеатры, рестораны. Жизнь менялась на глазах. И в Сталинский райком комсомола к несказанной радости Николаева пришло пополнение в виде двух ребят-фронтовиков.
В августе Нина засобиралась домой. Зимянин, прочитав её заявление, глянул хмуро.
– Чего это ты надумала уезжать? Что тебе здесь не работается?
– Скоро учебный год начинается, хочу восстановиться в институте.
– Так мы к октябрю университет открываем, выбирай факультет. Я поспособствую, чтобы зачислили, и учись здесь, на вечернем.
– Михаил Васильевич, у меня в Уфе мама и сестра, я им обещала вернуться, когда закончится война.
Первый секретарь задумчиво посмотрел в окно, вздохнул.
– Мама…. Ну что ж, мама – дело святое, поезжай, раз обещала.
И, подписав заявление, протянул бумагу Нине:
– Ступай к Аглае, она оформит проездные документы. Дела сдашь Федотову.
И проворчал вполголоса вслед девушке:
– Надо было замуж тебя здесь выдать…, да с женихами нынче напряжёнка.
Через неделю Нина уже шагала по знакомым улицам Уфы. Зябкий августовский вечер тихо выползал из тёмных подворотен и садов. Под ноги стелились первые опавшие листья. Это было немного странно после нагретых солнцем каменных улиц Минска. Она улыбнулась, вспомнив присказку хозяйки дома, у которой они снимали комнату в Уфе: «У нас на Урале июнь ещё не лето, а август уже не лето».
Вот и улица Пархоменко. Ничего здесь не изменилось за прошедший год: тот же покосившийся столбик у соседских ворот, так же гуси пьют воду из лужицы у колонки. Изменилась только сама Нина – детство, юность остались позади, столько пережито, столько преодолено, столько переосмыслено за эти месяцы. Ей было странно, словно вот она, взрослая, вернулась назад, в свою прежнюю жизнь, в свою юность.
Знакомые окна светились мягким приветливым светом. Нина поставила на землю чемоданчик, с облегчением сняла с плеча лямку тяжёлого вещмешка с прощальными подарками друзей: «почти новой» кацавейкой от пани Богуславы, томиком стихов с вложенной фотографией от Валентины, самодельным чернильным прибором из стрелянных гильз от Николаева и берестяной шкатулкой с вложенным в неё кружевным воротничком от Натальи.
Ступив на завалинку и отодвинув край накрахмаленной занавески, Нина заглянула в окно. Лиля в белой батистовой комбинации и папильотках старательно разглаживала утюгом оборку на платье. Мама, стоя у печки-буржуйки, что-то помешивала в кастрюльке. Нина бросила в сестру подвернувшийся под руку маленький камешек и тихонько присвистнула. Лиля оглянулась и ахнула: «Нинка! Мама, Ниночка наша вернулась!».
Глава 33. Опустевшее гнездо
Майский дождь застал Настю врасплох. Только что светило солнце, но вдруг налетевший порыв ветра взметнул юбку, а из набежавшей тучки, как из лейки, брызнули струйки воды. Настя успела вымокнуть, пока добежала до ближайшего крыльца. Тёплый дождик закончился так же внезапно, как и начался. И вновь засияло солнце, задрожало искорками в дождевых капельках, подмигнуло Насте из лужицы, словно стараясь разогнать печаль.
Настя возвращалась от Дуси с поминок. Несмотря на все старания жены, Степан Игнатьевич так и не оправился после пережитого в лагере, слабел день ото дня, лекарства не помогали. Ушёл тихо, во сне, Дуся хватилась, а его уж нет. Остались они вдвоём с пятилетней Раечкой. Испуганную малышку Настя забрала к себе на время похорон, и той так понравилось, что все её балуют, разрешают мерить бусы и взрослые туфельки на каблучках, что она забыла про свои страхи. А вспомнив, сама себя утешала: «Папу вылечат, и он к нам придёт, правда?»
Шёл сорок шестой год. Трудный для страны, полуголодный, но один из самых спокойных за прошедшие годы в жизни Насти. Война миновала, обошла её утратами. У неё была работа, придававшая ей уверенность в завтрашнем дне, была крыша над головой, пусть и не своя, а главное – дочки были рядом, под её крылом. Обе учились и работали, получали рабочие продовольственные карточки, зарплату, пусть и небольшую. И на душе у Насти было покойно. Но, как переменчива уральская погода, так переменчива наша жизнь. Именно тогда, когда появляется чувство стабильности, нас подкарауливают самые крутые перемены.
Ещё в сенях Настя услышала девичий смех и незнакомый мужской голос. В горнице улыбающаяся Лиля накрывала на стол, а Раечка оседлала колено высокого светловолосого моряка с тёмно-серыми, как осенние воды глазами. Брови шалашиком придавали его взгляду некоторую беззащитность. При виде Насти он привстал, чуть не уронив девочку. Та взвизгнула и, словно обезьянка, вскарабкалась к парню на руки. Нина строго одёрнула шалунью и освободила гостя от этой ноши. Настя про себя отметила, что избалованная девочка слушается её почти беспрекословно.
– Знакомься, мама, это Николай. Он лечился после ранения у нас в Уфе, в окружном госпитале. А теперь вот приехал в гости из Геленджика.
– Откуда?!
– Геленджик – это на юге, на Черном море, – уточнил парень.
Насте понравились и его открытый взгляд, и лёгкое смущение. За столом после чая повисла тишина. Лиля толкнула кавалера ногой под столом.
– Анастасия Павловна, я приехал за Лилечкой, хочу взять её в жёны. Вы нас благословите?
– Похоже, у вас и без моего благословения всё сладилось. У Лили спрашивайте, ей ведь жить. Только спешить не надо, подружите годик, узнайте друг друга получше.
– Мам, так мы год уже дружим, переписываемся, – Лиля встала за стулом Николая, положила ему руки на плечи.
– У них поезд завтра, билеты уже куплены, – уточнила Нина, глядя в окно.
– Как завтра? Куда?
Настино сердечко ухнуло вниз, затрепыхалось пойманной птицей.
– Так в Геленджик же, у меня отпуск всего на неделю, по семейным обстоятельствам, – Николай взял Лилю за руку, прижался к ней щекой. – Да Вы не беспокойтесь за Лилечку, у меня в Геленджике мама, она её как дочку примет, присмотрит за ней, пока я в море. И жильё у нас есть, и свадьбу сыграем, всё честь по чести.
На следующий вечер растерянная Настя и Нина проводили влюблённую парочку на поезд. Уже садясь в вагон, Лиля спохватилась:
– Сестрёнка, я забыла Генке книжку вернуть, лежит у меня под подушкой. «Собор парижской богоматери» называется. Ты занеси ему, ладно? И привет передавай.
– Какому Генке? Куда занести?
– Парень, через дорогу живёт, не видела, что ли? Недавно из армии вернулся.
Всю ночь Настя не спала, ворочалась, вздыхала. Не могла понять, как она поддалась на уговоры, отпустила дочку, свою кровиночку, в чужой край с незнакомым парнем. Да, на вид парень хороший, но в душу разве заглянешь? Хоть бы зарегистрировались, а не так…. Какая судьба дочку ждёт? Не обманул бы только её этот жених, не обидел бы.
Нина тоже не спала.
– Мам, не вздыхай, не кори себя. Лильку разве удержишь, коли она что решила?! Вспомни, как сама сбежала из родительского дома к папе. Да не только из родительского дома, от мужа законного сбежала! Твой характер у неё.
Нина встала, достала из-под подушки сестры книгу, положила на видное место, чтобы не забыть отдать.
Несколько дней спустя, теплым воскресным вечером, Нина сидела у открытого окна и читала ту самую книгу. Лёгкий ветерок доносил аромат сирени, распустившейся в соседском саду. К дому подошла цыганка с ребёнком на руках, второй держался за материнскую юбку, сосредоточенно ковыряясь грязным пальчиком в носу. Цыганка остановилась напротив окна, внимательно глядя на Нину.
– Дай ручку, красавица, судьбу нагадаю.
– Я не верю гаданиям, ступайте себе мимо.
– Зря не веришь. Я не простая цыганка, я бессарабка. Да ты меня не бойся, я денег не попрошу, дашь детям по прянику, а я всю правду тебе скажу.
А у Нины в шкафу и впрямь лежали пряники – гостинец Николая. Она достала два пряника, протянула их детям.
– Вот, возьмите. А гадать мне не нужно, идите с миром.
Цыганка перехватила руку девушки, бросила на неё внимательный взгляд и отпустила.
– А ведь ты, красавица, вот-вот замуж выйдешь.
– Вот и наврали, у меня и жениха-то нет. Парень, с которым со школы дружила, всю войну переписывалась, вернулся, да не ко мне, а к моей подруге. Так что ступайте себе мимо, не собираюсь я замуж вообще.
– То не твоя судьба была. А твоя рядом ходит, совсем близко, совсем скоро встретитесь. Всю долгую жизнь с ним проживёшь. Богатства большого не наживёте, но и сильно бедствовать не будете. Счастья большого у тебя в жизни не будет, но и большого горя тоже не познаешь. Работать много будете, уважать вас люди будут. Дочка у вас родится. Запомни мои слова, я правду говорю.
И пошла, не оглядываясь, только монисты зазвенели.
Из задумчивости Нину вывел голос Тамары, подруги с которой они работали в одной школе пионервожатыми.
– Ниночка, пойдём в сад Луначарского, там сегодня оркестр играет. Чего в такой вечер дома сидеть?
– И правда пойдём, а то мне уже чёрт знает что мерещится.
Нина захлопнула книгу, быстро переоделась, поправила причёску, обула туфельки на каблучках и выпорхнула на улицу.
Около витаминного завода улицу Пархоменко пересекала глубокая канава, перейти через которую можно было по деревянному мостику. На этом мостике дорогу девушкам уступил парень с гитарой на плече. Шёлковая коричневая рубашка, широкие кремовые брюки – как такого не заметишь? А главное, что привлекло внимание Нины – тёмные, густые, вьющиеся волосы, небрежно зачёсанные назад над высоким лбом. Саму её природа не наградила пышной шевелюрой, о чём она втайне вздыхала, и всегда обращала внимание на обладателей такой роскоши. Пройдя несколько шагов, Нина оглянулась. Парень тоже оглянулся вслед нарядным девушкам.
– Это кто такой? Ты не знаешь? – спросила она Тамару.
– Да как не знать. Генка это, ваш сосед напротив. Неужто ты его не видела?
– Нет. Да я с утра в институт, потом в школу, вечером за учебники, когда мне соседей разглядывать? Так это у него сестра книгу брала?
– Наверное. Молодёжь частенько собирается в Генкином дворе, он играет на гитаре, девушки поют. А то танцуют под патефон.
– Тамарочка, давай вернёмся на минутку, я книжку отдам, пока он дома. Мы же недалеко ушли.
Тамара пожала плечами, девушки повернули обратно. Взяв книгу, они перешли дорогу, подошли к открытому окну дома напротив. Нина постучала корешком книги по подоконнику. У окна появился тот самый парень.
– Это ваша книга? Сестра просила вам вернуть.
– Моя. А что же Лилечка сама не зашла?
– Она уехала в другой город. Со своим женихом. А вам просила передать привет.
Парень растерялся:
– Как уехала? С каким таким женихом? Когда?
– Обыкновенно, на поезде, позавчера. Для нас самих это было неожиданностью. Всего хорошего.
Подружки развернулись и пошли в сторону мостика.
– Девушки, а вы сейчас куда? – окликнул их Генка.
– В сад Луначарского, слушать оркестр, – оглянулась Тамара.
– Меня с собой возьмете?
Нина пожала плечиком:
– Давайте, только быстро, а то уже вечереет.
Парень не заставил себя ждать, одним прыжком перемахнул через подоконник и догнал девушек.
С утра у Насти ныло сердце. Неясная тревога не оставляла в покое. Она сама не могла понять, что с ней. От Лили вторую неделю не было писем. Да и предыдущие письма не радовали, не ладилось у неё со свекровью. Слишком властная мать Николая наводила свои порядки в молодой семье, да только не на ту невестку напала, нашла коса на камень.
К Насте подошёл начальник цеха.
– Что-то ты неважно выглядишь, Пална. Занедужила, что ли?
– Да что-то сердце прихватило, Семён Петрович. Слишком жаркая для августа погода, что ли?
– Причём тут погода? Отдохнуть тебе бы надо. Да и всем бы отдохнуть не помешало, пашем-пашем, как кони. Иди-ка ты, Пална, в медпункт, а потом домой, хоть выспишься до завтра, пока совсем не свалилась.
– Спасибо, Семён Петрович, что отпустили.
– Да-да, иди, пока не передумал. Кто бы ещё меня самого отпустил, тоже мотор барахлит.
Дорогой Настя отоварила карточки, пришла домой непривычно рано. В сенях увидела мужские туфли. За дверью было тихо. Полная дурных подозрений, распахнула дверь. Картина перед ней предстала самая невинная. Нина неподвижно сидела у стола, а напротив неё расположился с альбомом и карандашами соседский парень и рисовал портрет.
– Здрасте, – сказал он, не отрывая взгляд от альбома.
– Мам, смотри, как здорово у Гены получается!
Настя подошла, заглянула в альбом через плечо парня.
– И правда, хорошо.
– Похоже?
– Похоже.
Настя выложила продукты на стол. Нина помогла ей накрыть ужин. Гость не уходил. Втроем сели ужинать. За чаем Гена вдруг сказал:
– Анастасия Павловна, мы с Ниной решили пожениться. Вы не против?
От неожиданности Настя уронила чайную ложку. Вот и старшая дочь уходит от неё, оставляет её совсем одну. В сердцах отодвинула чашку:
– А чего ты у меня спрашиваешь? Ей жить, ей и решать. По мне – хоть за кого, лишь бы ей нравился.
Настя с шумом отодвинула стул и ушла из комнаты, оставив парня в недоумении. Вот когда она поняла чувства своего отца, Павла Яковлевича, его обиду на пошедшую против отцовской воли дочь. Растишь этих дочерей, растишь, ночей не спишь, жизнь за них готова отдать, а потом приходит какой-то чужой мальчишка, и твоя кровиночка уходит за ним без оглядки. И уже ему, мужу, а не родителям, дарит всю свою любовь и заботу. Несправедливо это!
На свежем воздухе Настя немного успокоилась. Мысли пришли в порядок, и обида, ещё немного поворчав и поворочавшись, улеглась на дно души. Она смотрела на окна дома напротив. Вскоре уж сама себе удивлялась: и чего взбеленилась? Радоваться надо! Не так-то просто в послевоенное время выйти девушке замуж. А Генка ещё и живёт рядом. Вот он, их дом, только улицу перейти. Это тебе не в Геленджик съездить. Опять же, дом свой. Живёт парень вдвоём со своим отцом. Мать умерла холодной, голодной зимой сорок третьего, сестры замуж повыходили, разъехались кто куда, а старший брат, соседка говорила, директор завода, давно своей семьёй живет. И дом у них справный, Илья Лаврентьевич хозяин хороший, сам его ставил. Работящая семья, хорошо живут.
За спиной скрипнула дверь. Гена, пройдя несколько шагов, увидел Настю, присел рядом на завалинку.
– Анастасия Павловна, ну что Вы расстраиваетесь? Нина против Вашей воли не пойдёт, а я ведь насильно её не заберу. Но только Вы подумайте, а я подожду.
– Да я не против тебя… просто под горячую руку попал. Лиля уехала, теперь Нина уйдёт, я совсем одна останусь.
– Почему одна? Вы у нас всегда желанной гостьей будете. Маму мне замените. Не буду лукавить, честно скажу, нам с отцом без женского глазу, без женских рук плохо, хозяйка в дом нужна, а Ниночка Ваша – девушка славная, серьёзная, умная, хорошей женой будет и хорошей хозяйкой. Да и Ниночке нужно поторопиться с замужеством. Институт закончила, через месяц ей по распределению в деревню уезжать, в дальний район.
– Ну и что же, что в деревню? В деревне учительница – уважаемый человек. Вместе поедем, нам жильё обещали, хозяйство свое заведём, козочку там, курочек.
– А замуж Нине в деревне за кого выходить? Да и масштабы у неё другие, не деревенские. Зачахнет она там.
Настя вздохнула. Прав был парень, во всём прав. И на жизнь серьёзно смотрит, не одни ахи-охи в голове. Такой, если женится, семьёй своей будет дорожить.
– Ну, если Нина согласна, я противиться не стану, благословлю.
Расписались молодые через неделю, в середине августа. Отпраздновать это событие решено было в доме жениха. Пельмени к праздничному столу лепили все вместе, дружно. В доме царило оживление, звучал патефон, приехавшие сёстры сновали между кухней и гостиной, накрывая на стол. И вот наступил торжественный момент: все уселись за стол, молодая жена понесла блюдо с пельменями к столу. Второпях запнулась за порог и… все пельмени веером рассыпались по полу! Наступила мёртвая тишина, Нина в отчаянии смотрела на то, что натворила, не смея поднять глаза на гостей. Ведь мясо для пельменей так трудно было достать! Первым нарушил тишину свёкор. Илья Лаврентьевич, кашлянув, сказал:
– Хорошо, что с утра полы помыли. Собирайте пельмени, да назад в кипяток.
Вернувшись со свадьбы, Настя зашла в тёмную комнату. Её встретила тишина, аккуратно застеленные кровати дочек. Подошла к окну. В доме напротив горел свет, из распахнутых окон доносилась музыка, смех, громкие голоса. Молодёжь веселилась, пришло их время. От чувства собственной неприкаянности на глаза навернулись слёзы. Вот она, дочка, рядом, в нескольких метрах, но у неё теперь своя жизнь, своя семья, свои заботы. А ей, Насте, о ком теперь заботиться? К кому спешить вечерами? Много лет у неё была одна цель: вырастить детей, поставить их на ноги, ради этого она не жалела себя. Вырастила. Поставила. И что в итоге? Вот эта комната в чужом доме, опустевшее гнездо? Ради чего теперь жить?!
Глава 34. Бабье лето
В Уфе первая половина сентября выдалась сырой и ветреной. Природа словно оплакивала ушедшее лето, ветер тоскливо стонал, заламывая ветви деревьев, тучи лили и лили слёзы. По утрам Насте не хотелось вставать с постели, выходить из дома, идти в надоевший до оскомины цех, видеть вокруг одни и те же лица, а вечером не хотелось возвращаться в пустую, продрогшую за день комнату, где её никто не ждал. Подходя к дому, она видела тёмное окно, и ей хотелось повернуться и бежать куда-нибудь к людям.
В один из таких дней, придя на работу, Настя заметила, что народ толпится около каптёрки. Протиснувшись сквозь толпу, увидела вывешенный график отпусков. В годы войны право на отпуск не отменяли, но фактически их давали (и брали) только в исключительных случаях. Война закончилась, и теперь по трудовому законодательству каждому полагалось шесть рабочих дней отпуска в году. Вот начальник цеха и вывесил график. И первой в нём стояла Настина фамилия – с сегодняшнего дня. Настя ахнула и ринулась в каптёрку, где стоял стол начальника.
– Семён Петрович, это за что же вы так со мной? Что же в субботу не предупредили об отпуске?
– Ну, не предупредил, не успел, зато тебя первую отпускаю.
– Так я же уже пришла!
– Ну и иди себе спокойненько домой. Отдыхай, сил набирайся. Я не понимаю, ты чего бузишь?! Если бы я у тебя отобрал отпуск, а то даю! А ты недовольна. Вот народ!
– А может, я поехать куда хочу? Билет же заранее купить нужно, – не отступала Настя.
– Ладно, иди, работай, с завтрашнего дня в отпуск пойдёшь.
– Э, нет! Со следующего понедельника. Чтобы два воскресенья к отпуску легли.
Начальник, ворча, пошёл исправлять график.
Весь день Настя и так, и эдак прикидывала, что ей делать в этот свалившийся нежданно отпуск. Отвыкла она отдыхать. Разучилась. Ну, выспится, а дальше что? Целыми днями одна в четырёх стенах! Съездить бы к Лиле, да три дня туда и три обратно – вот и весь отпуск, не получится. Вечером зашла к Нине посоветоваться.
– Мама, а ты съезди в Аргаяш, тут же близко. С тётей Саней повидаешься, могилку отца навестишь, в Челябинске родню разыщешь.
– А я завтра же билет на поезд вам куплю, – вступил в разговор зять.
Идея Насте понравилась и в ночь на воскресенье она уже сидела в поезде. Позади остались предотъездная суета, перрон с провожающими, вокзальные огни. Поезд, постукивая на стыках и мягко покачивая пассажиров, мчался в ночь. Настя с удивлением осматривала купе. Гена позаботился, купил билет в мягкий купейный вагон, и она себя чувствовала барыней: мягкий диванчик, шёлковые шторы с бомбошками, льняная скатерть, ковровая дорожка, огромное зеркало на двери. И соседи солидные: военный, обходительный такой, и его нарядная жена. Насте дважды доводилось ездить по железной дороге, и оба раза в переполненных общих вагонах. Но разве можно было сравнить эту поездку с теми?
Дверь купе приоткрылась.
– Чайку не желаете? – заглянула проводница.
Сосед отложил газету, соседка достала печенье:
– Угощайтесь.
За чаем познакомились, разговорились, как это часто бывает в дороге. Стаканы тонко позвякивали в красивых подстаканниках на белой крахмальной скатерти.
Настя вспомнила, как Геша бегал с чайником за кипятком на станциях, а она всё волновалась, как бы муж не отстал от поезда. Вот бы он сейчас посмотрел на неё в этом купе! Вот бы ехал с ней, как этот военный со своей женой!
Утром Настя проснулась, едва забрезжил рассвет, и весь остаток пути не могла оторваться от окна. Поезд шёл между гор, и пейзажи один красивее другого разворачивались перед её взором. Выглянуло солнце, и всё вокруг преобразилось, засияло осенним золотом. Состав не спеша огибал гору, одетые в багрянец клёны словно взбирались вверх, туда, где как мачты покачивались янтарные стволы сосен. А за поворотом склон уходил вниз, и берёзки дружной стайкой сбегали меж валунов. И где-то далеко внизу поблёскивало то ли лесное озерцо, то ли речка. Соседи спали, и никто не отвлекал Настю. Душа её наполнялась радостью и покоем, губы шептали: «Господи, спасибо, что живу!».
Выйдя из вагона на станции Аргаяш, Настя пожалела, что не отправила телеграмму Сане. Что-то изменилось в посёлке, что-то подзабылось, и она не сразу нашла дорогу к бывшему дому, поплутала немного, прежде чем вышла на Озёрную улицу.
Она неспешно шла по улице, узнавая дома, как давних знакомых.
Вот бывший Дусин дом. На крыльце молодая женщина запирает дверь. На миг Насте показалось, что это Дуся. Но женщина обернулась и наваждение пропало.
А вот и их бывший дом. Настя в волнении разглядывала его. Сколько счастливых и горьких событий связано с ним! Качелей, которые Геша смастерил для детишек, больше нет. Видать, новые хозяева сломали за ненадобностью. Построенный им штакетник покосился, облупился под дождями. Настя вспомнила, как красила его зелёной и белой касками. Нарядно получилось, издалека заметен был. А лавочка их любимая стоит под рябинушкой по-прежнему. Сколько счастливых вечеров провели они с мужем на этой лавочке, сколько задушевных разговоров она слышала! А рябина-то, рябина как вымахала за эти годы!
В соседском дворе залаяла собака. Хлопнула дверь, из дома выскочил парнишка, побежал к калитке. Следом выглянула женщина.
– Витька, пострелёнок, куда без фуражки? А ну вернись!
– Да не холодно, мам! Я ж только к Петьке, – отмахнулся пацан, срезав путь, ловко перескочил через забор, и был таков.
Настя с улыбкой наблюдала эту сценку. Она уже узнала Саньку и теперь ждала, когда та её заметит. Та заметила, но не узнала, пришлось Насте окликнуть золовку. Вот это была встреча! Охам, ахам не было конца, сюрприз удался. На голоса вышел Иван, и тут уже невольно ахнула Настя. Лицо его было обезображено грубым шрамом, тянувшимся от виска до подбородка.
– Что, Настёна, страшный я стал? Как чудище заморское…
– Ну что ты… просто неожиданно…
– А для меня ты и такой краше всех, – вмешалась в разговор Саня, – ступай-ко лучше, самовар разожги.
Вошли в дом, и пока Иван занимался самоваром, Саня, как фокусница, извлекла откуда-то бутыль.
– Вот, наливочка смородиновая, сама делала, как чуяла, что случай будет, – и шепотом добавила – от Ивана-то прячу, выпивать он стал, как с фронта вернулся. Оно и понятно.
Саня, не переставая рассказывать, сновала по горнице, накрывая стол.
– Это осколком мины его так, в сорок втором ещё. А зашивали в полевом госпитале, не до красоты там было, лишь бы не помер. А потом, уже в тыловом госпитале, как бинты сняли, да как он себя в зеркало увидел, сильно горевал, застрелиться хотел. Врач один, спасибо ему, мозги на место поставил. Сказал, что это будет предательством по отношению к той санитарке, что его на себе под обстрелом с поля вытащила, и к врачу, что раненых сутками оперировал. Одумался. И то сказать: Руки, ноги целы, глаза видят, говорить может, считай, повезло! Вот только слышать хуже стал. Но что не надо – то слышит! Мне из госпиталя написал, что он такой домой не вернётся, чтобы я его забыла. Ну, я сразу ноги в руки, у начальства отпросилась, и в тот госпиталь, сама его домой привезла. Поначалу не могла ему в лицо смотреть, а потом привыкла, сейчас уж и не замечаю. Мой Ваня, такой же добряк, как был.
И зашептала, заговорщицки округлив глаза:
– А знаешь, так и спокойнее, после войны сколь одиноких баб осталось, за каждые штаны цепляются, а мой всегда при мне. А что он мужик что надо, про то только я знаю!
– Ой, раскусят бабы твой секрет, – засмеялась Настя, – ведь ты, похоже, беременна!
– А что, уже заметно, да? Дочку ждём. Ведь три пацана у нас, девчонку хочется! Уж и имечко придумали: Галочка.
Разговоры за столом не смолкали до вечера. Настя приглядывалась к переменам в облике близких людей, а они также приглядывались к ней. Саня располнела, лицо округлилось, стало как-то проще. Вместо задорной стрижки с чёлкой – гладко зачёсанные на прямой пробор волосы, косичка свёрнута кренделем на затылке. Да и сама Настя, видать, не помолодела. Прожитые годы и невзгоды и на ней оставили свои отметины. Но вскоре все перемены во внешности отошли на второй план. Знакомая улыбка, словечко, жест – и вновь в глазах друг друга они прежние, словно и не было этих тяжёлых лет разлуки. Насте было хорошо, тепло и уютно среди этих родных, любящих и любимых людей.
На следующий день сходила она на кладбище. Одна пошла. Долго сидела возле могилки Геши, разговаривала с ним, гладила землю, просила прощения, что не уберегла их младшеньких, с гордостью рассказывала о старших.
Иван свозил Настю в Челябинск, помог отыскать Ульяну и Марию, дочерей её мачехи. Сама Татьяна к тому времени померла.
Встреча с Марией была короткой и какой-то холодной, сводная сестра о себе рассказывала неохотно, а Настина жизнь её и вовсе не интересовала. Обе сослались на занятость и расстались, уже навсегда.
Ульяна оказалась гораздо приветливее, участливее, сводила их с Иваном на могилку Павла Яковлевича, Настиного отца. Рассказала, как в последние годы жизни тосковал он по своим детям, особенно по ней, Насте, своей любимице, как маялся в чужом городе, как мечтал вернуться в родные Пустынники. Тут уж Настя дала волю слезам, никак остановиться не могла. Ульяна отдала Насте отцовские вещи: несколько фотографий, писем, молитвенник и маленькую деревянную иконку. Насте показалось, что от неё исходит тепло. Слёзы словно вымыли из её души остатки тоски.
В последний вечер перед отъездом сидели они с Саней на завалинке и вели задушевные разговоры:
– Ты, бабонька, брось на себя, да на других тоску попусту нагонять. Ну, вылетели дочери твои из гнезда, это ж хорошо, так и в природе заведено, встают птенцы на крыло и улетают. А ты на себя, на свою жизнь посмотри. Ведь не старуха пока, ещё и сорока пяти нет! Детей вырастила, на ноги поставила, войну такую пережила! И хозяина над тобой нет, сама себе хозяйка – живи да радуйся, пока внуки за подол не цепляются! Ты научись жить без хомута на шее. Эх, мне бы так пожить, да в большом-то городе! Я бы каждый вечер наряжалась, да в кино! А то в театр! А по воскресеньям бы по парку гуляла в шляпке туда-сюда, туда-сюда. А как надоест, книжки бы читала у окошечка, да на улицу поглядывала. А то с моими оглоедами забыла, когда книжку открывала.
Санькины мечтания прервал Иван.
– Мать, мы вечерять-то сёдня будем? Есть охота!
– О! А я чё говорила?! – вздохнула золовка, и тяжело поднялась, держась за поясницу.
Назад в Уфу Настя вернулась совсем в другом настроении. Всего-то восемь дней минуло, а столько событий они вместили!
В первый же вечер по возвращении в дверь тихонько постучали. В комнату заглянула дочь хозяйки.
– Тётя Настя, вы дома? Вам письмо принесли, пока вас не было.
Настя торопливо распечатала конверт, надписанный знакомым почерком. Прочитав, вытерла слезинку, улыбаясь, поставила чайник. Жизнь вновь обрела смысл.
В городе установилось тихое, солнечное бабье лето, и такое же «бабье лето» воцарилось в её душе. Она вспомнила о книгах, стала чаще бывать у Дуси. По воскресеньям они, взяв Раечку, отправлялись в городской сад слушать оркестр. Настя с удивлением обнаружила, что на неё с интересом поглядывают мужчины. Вновь проснулось забытое желание принарядиться, и она села за швейную машинку. Но самым приятным занятием оказалось шить детское приданое, Настя с удовольствием строчила чепчики и распашонки, подрубала пелёнки и мечтала о будущем внуке. Уж так ей хотелось мальчика взамен потерянного сыночка!
Глава 35. Шторм
– Шалава! Ну как есть шалава! Это ж надо, чего удумала! Репетиция самодеятельности у неё! Муж в море, а она в клуб! Я те покажу самодеятельность, я те покажу клуб! Не позволю сына позорить! – Олимпиада Марковна наступала на Лилю, уперев кулаки в крутые бока. Да только не на ту напала, выросшая в детском доме девушка умела за себя постоять. Она точно так же уперла маленькие кулачки в бёдра и пошла в наступление.
– Муж, говорите? Какой муж? А не вы ли уговорили Николая не торопиться со свадьбой? Я всё слышала: «Присмотрись, попробуй пожить». Что я вам, блюдо, что ли, «пробовать» меня? Так что нет у меня никакого мужа вашими стараниями, я свободная девушка, и куда хочу, туда иду.
– Ишь какая! Свободная девушка! В моём доме живёшь, мой хлеб ешь, обязана слушаться! Никуда не пойдёшь!
Олимпиада Марковна схватила сумку, авоську и выскочила за дверь.
– Я свой хлеб ем, на вашей шее не сижу! – крикнула ей вслед Лиля, но несостоявшаяся свекровь уже заперла дверь на ключ.
Олимпиада Марковна шла в сторону рынка, кипя от возмущения. И откуда взялась на её голову эта строптивая девчонка? Разве о такой невестке она мечтала? То ли дело соседская Гулечка: приветливая, домашняя, день-деньской по хозяйству хлопочет, лишний раз глаз не подымет. Такая перечить свекрови не станет. Сколь раз советовала Николаю к ней посвататься, так нет же, нашёл себе эту Лилю, чёрт знает, откуда привёз! А здесь таких и не видывали: белокожая, голубоглазая, кудри льняные взобьет, идёт – каблучками цок-цок, все мужики шеи сворачивают. А у неё, у Олимпиады, сердце кровью обливается, за сына душа болит. Нет, не отдаст она сына этой девице, не отдаст!
Тем временем Лиля, оказавшись взаперти, не стала тратить время на бесполезные переживания. Она достала из-под кровати чемоданчик, быстро покидала в него свои вещички и распахнула окно. Тесная квартирка находилась на втором этаже старого дома, со всех сторон облепленного верандами и лесенками. У каждой из шести квартир был свой вход со двора. Лиля срезала на кухне бельевую верёвку, привязала её к ручке чемодана и аккуратно спустила его на землю. Двое подростков, остановившись неподалёку, с любопытством наблюдали за её манипуляциями. Лиля на всякий случай пригрозила им кулаком. Затем сама выбралась на подоконник. Перила веранды были совсем недалеко, но как туда перебраться, не свалившись вниз? Между окном и верандой вверх по стене устремились ветви бугенвиллии, окутавшей яркими цветами полдома. Лиля подёргала плеть – вроде бы надёжно – и, ухватившись за неё, перемахнула на перила. Отряхнув платье, легко сбежала по ступенькам, подхватила чемодан, показала язык разинувшим рот пацанам и пошла вниз по улице в сторону моря. Со стороны её вполне можно было принять за беззаботную отдыхающую, только что приехавшую на курорт.
Вечер был по-летнему тёплый, хотя на дворе стоял конец сентября. Лёгкий ветерок доносил запахи моря, нагретых солнцем сосен и пряный аромат каких-то поздних цветов. Клуб моряков находился в красивом двухэтажном здании с колоннами на набережной, недалеко от пристани.
– Ты чего опаздываешь? И чего с чемоданом? – зашипела на Лилю Жанна. Девушки вместе работали в бухгалтерии Курортторга и вместе ходили на репетиции кружка самодеятельности.
– После репетиции расскажу.
Спустя пару часов они вместе вышли на набережную.
– И куда ты теперь? – спросила Жанна.
– Не знаю…
– А я знаю. Тут неподалёку моя тётка живёт, она сдаёт комнату отдыхающим, и по-моему, эта комната как раз освободилась.
Комната действительно оказалась свободна. Лиле она понравилась: чистая, уютная, и пристроена к летней кухоньке, есть где приготовить себе ужин. А если протопить печь, то и зимой здесь будет тепло. Вот только дорого, хозяйка просила по сто рублей в сутки, получалось, что половина Лилиного заработка будет уходить на оплату жилья. Но и тут выручила Жанна, уговорила тетку снизить плату до двух тысяч рублей в месяц, с учетом несезонности.
– Ладно, живи, – махнула рукой хозяйка, – но только до мая, а с мая либо плати по стольнику в сутки, либо съезжай, мне свою выгоду терять не резон.
На том и сговорились.
Оставшись одна, Лиля быстро разобрала свои вещи, развесила и разложила их в шкафу, задвинула чемодан под кровать, сняла ставшее тесноватым платье и в одной комбинации села на краешек постели. Её обступила тишина пустой комнаты. Тёмная южная ночь равнодушно смотрела в окно поверх крахмальных занавесок. Лиля подошла к зеркалу, оттуда на неё глянул печальный лик одиночества. Ужасно хотелось есть, но все свои деньги она отдала хозяйке в качестве аванса, а до зарплаты ещё неделя. Всю Лилину дневную браваду словно дождём смыло, из глаз закапали слезинки. Что делать? Как ей дальше жить? На обратную дорогу в Уфу денег нет. Да и не может она явиться к маме и сестре побитой собачонкой. Ведь она уже написала им, что беременна, а чтобы мама не переживала и её, Лилю, не мучила надоевшим вопросом, соврала, что они с Николаем расписались. Ещё накануне она не сомневалась, что это вот-вот случится, тем более что она носит под сердцем их ребёночка. А что теперь? Как Николай отнесётся к её побегу? Вдруг передумает, послушается мать и женится на этой соседке – как её? – Гулечке?
Так, в слезах, она и заснула.
На следующий день всё валилось у Лили из рук, ни погожий день, ни старания подруги не могли развеять её печаль, пока к концу рабочего дня не увидела в окно Николая. Он сидел на лавочке напротив входа в здание и курил. Ждал. Вмиг Лиля преобразилась, кинулась к зеркалу, припудрила носик, взбила кудряшки. И вот уже улыбается ей из зеркала прежняя беззаботная девушка. Подхватила под руку Жанну и вместе с ней выплыла на крыльцо. Сделав вид, что не заметила Николая, прошла мимо. Он догнал, тронул за локоток. Оглянулась, удивлённо вскинула брови – артистка!
– Ладно, Жанночка, до завтра. – И Николаю небрежно: – Ты чего пришёл?
Тот опешил:
– Как чего? Поговорить надо.
– Ну, давай поговорим, – пожала плечиком Лиля.
Они вышли на набережную, спустились к морю, сели на нагретые солнцем камни. Лиля скинула туфли, опустила ступни в ласковый прибой. Солнечный диск коснулся едва угадываемой в дымке линии горизонта, лёг как желток яичницы-глазуньи на бескрайнее изумрудно-бирюзовое блюдо.
Николай извинялся за мать, уговаривал Лилю вернуться.
– В дом твоей матери я не вернусь, и точка! Не хочу сидеть взаперти и выслушивать упрёки. Я сняла комнату, там и буду жить.
– А я как же? А наш будущий сын? Давай тогда я перееду к тебе?
– А мы с тобой будем гулять по набережной, а потом ты к себе, а я к себе. И никаких «в гости», пока не распишемся. Учёная уже!
У Николая брови «домиком» поползли вверх. Он встал, отряхнул форменные брюки-клёш, в серых глазах заплясали чёртики.
– Ну, раз ты так решила, то пошли.
– Куда? – забеспокоилась Лиля
– В ЗАГС, куда же ещё.
Через несколько дней Николай с Лилей расписались. Не было ни белого платья, ни фаты, да и откуда им было взяться в послевоенном провинциальном городке? Но стол всё же накрыли на увитой виноградом террасе перед хозяйским домом, и спелые гроздья свешивались над самыми головами немногочисленных гостей. Олимпиада Марковна не пришла ни в ЗАГС, ни к застолью, она категорически не одобряла решение сына.
Хозяйка с беспокойством поглядывала на округляющуюся талию Лили, и вслед за поздравлением не преминула предупредить:
– Вы пока, конечно, живите, но к весне подыскивайте себе другое жильё, нам тут пелёнки, детский плач ни к чему, всех отдыхающих распугаете.
– Да вы не беспокойтесь, нам в части скоро обещали комнату дать, женатым офицерам положено жильё, – счастливо улыбался Николай.
– Вот и ладно, вот и славно, – кивал головой муж хозяйки, подливая себе в стакан чачу.
И побежали дни, полные ожиданий, когда каждый час врозь кажется вечностью, когда то и дело вспыхивают беспричинные ссоры, сменяющиеся сладкими примирениями, полные маленьких открытий, откровений, смешных обид, всего того, что называют медовым месяцем. Так незаметно дожили до Нового года.
Новый год был любимым праздником Лили ещё со времён детдомовского детства. Для неё он был неразрывно связан с запахом еловой хвои, блеском конфетных обёрток и мишуры, предпраздничной суетой и ожиданием хоть самого маленького, но непременно чуда. Ей очень хотелось устроить настоящий праздник, и она старалась. Ёлочку ставить было некуда, зато нашлось место для букета из сосновых веток. Здесь, на юге, и сосны были не такие, как на Урале: низкорослые, разлапистые, с длинными иглами. Лиля вечерами клеила гирлянды из цветной бумаги, вырезала и развешивала снежинки, запасала продукты, какие удавалось раздобыть, заказала у портнихи свободное платье с плечами на вате, по последней моде. И вот долгожданный день настал.
Накануне с вечера задул норд-ост. Утром Лиля не узнала городок. Ещё накануне удивлявший её тёплым бесснежьем, зеленеющими, как ни в чём не бывало, газонами, обилием чаек, лебедей и уток, беззаботно покачивающихся на прибрежных волнах, утром он встретил её пронзительным, ломающим ветви деревьев ветром. Горная гряда терялась в низких, несущихся с севера тучах. Ветер швырял в лицо пригоршни песка с пляжей вперемешку с солёной водяной пылью. На набережной в одночасье всё покрылось толстой ледяной коркой. Обледеневшие, похожие на айсберги, баркасы бились о причал. Волны с грохотом обрушивались на берег, перехлёстывая через парапет. Птицы, не решаясь взлететь, жались к подножиям сосен. Ветер рвал из рук сумку и, казалось, вот-вот сорвёт с Лили пальто. Цепляясь за заборы, за столбы, прячась за деревья, она с трудом дошла до работы.
– Ну что, теперь знаешь что такое наша зима? – Жанна улыбкой встретила ошеломлённую продрогшую до косточек подругу, – небось, охотно бы променяла такую погодку на ваш уральский морозец?
Лиля надеялась, что с работы её встретит Николай, он должен был вернуться с боевого дежурства ещё утром, но муж не пришёл. С трудом добравшись до дома готовилась высказать ему свою обиду, но дома его тоже не оказалось. Час утекал за часом, а долгожданного стука в дверь всё не было. Беспокойство переросло в тревогу. Лиля старалась отвлечься предпраздничными хлопотами, но всё валилось из рук. Приближалась полночь. Она сидела одна за накрытым столом, обхватив голову руками, и вслушивалась в завывания ветра и треск сучьев в саду. По радио раздался бой курантов, вот и Новый год. Совсем не так планировали они его встретить. По комнатке гуляли сквозняки. Топить печку в такой ветер хозяйка не разрешила, опасаясь пожара. Лиля подобрала ноги на кровать, плотнее закуталась в шаль и не заметила, как заснула.
Разбудил её громкий стук. За окном сияло солнце. Вскочив, Лиля наскоро поправила растрепавшуюся причёску, распахнула дверь, но на пороге вместо Николая стоял незнакомый моряк.
– Вы будете Кислицина Елизавета Георгиевна? Вас просят прибыть в расположение части. Машина у калитки.
– А что случилось? Где мой муж?
– Вам всё скажут в части.
Парень старательно отводил взгляд от её выпирающего живота.
Дрожащими руками Лиля оделась и пошла к машине.
В штабе воинской части собралось несколько таких же встревоженных женщин. Среди них была и Олимпиада Марковна. Она окинула невестку недобрым взглядом и отвернулась. После некоторого ожидания к ним вышел командир части в сопровождении нескольких офицеров. В полной тишине прозвучали жестокие слова.
– Вчера ночью возвращавшийся с боевого дежурства сторожевой катер попал в шторм и разбился о скалы в районе Толстого мыса. Крушение произошло недалеко от берега, но из-за сильных волн и низкой температуры выбраться смогли только трое. Те, кто спасся, находятся в госпитале, остальные погибли. Примите наши соболезнования.
Командир зачитал фамилии выживших, Кислицина Николая в этом списке не было.
После секундной паузы женщины заплакали, завыли, запричитали. Лиля бросилась к свекрови, но та зашипела на неё:
– Это всё ты! Ты виновата! Коленька мой всю войну, почитай, прошёл, и Бог хранил его, живым вернулся. А стоило тебе появиться…. Это ты, ты беду привела в наш дом!
Хоронили погибших моряков в братской могиле на Толстом мысу, недалеко от места катастрофы. Лиля настаивала, чтобы гроб с телом Николая открыли и дали ей возможность проститься с мужем.
– Я не поверю, что его больше нет, пока не увижу, – твердила она.
Её требование выполнили. Увидев разбитое о камни лицо Николая, Лиля закричала. В ушах у неё зазвенело, всё вокруг завертелось, земля уплыла из-под ног.
Она чувствовала, что летит по какому-то тоннелю, мягко обнимающему её со всех сторон. Тоннель закручивался спиралью, и она летела всё быстрее и быстрее под невероятно красивую торжественную музыку. Казалось, целый оркестр звучит в ней самой. Постепенно полёт замедлился, и она уперлась в невидимую преграду. Что там дальше – рассмотреть не могла, всё заполнял свет. Услышала в своём сознании голос: «Тебе пока сюда рано, возвращайся». И она полетела вниз, сначала потихоньку, потом всё быстрее и быстрее, и вновь неслась с бешенной скоростью сквозь потоки музыки. Музыка звучала всё тише, полёт замедлялся. Лиля смогла рассмотреть белый плафон, вращающийся над ней. Плафон остановился, она увидела потолок, окрашенные зелёной краской стены, железный столик с какими-то инструментами рядом. Где-то негромко играло радио. Лиля подняла невесомую руку, ощупала показавшуюся странно маленькой голову, потом дотронулась до мягкого пустого живота.
К ней подошла женщина в белом халате.
– Очнулась, голубушка? Вот и славно, вот и умница.
– Где я? Где мой ребёнок?
– Ты в родильном отделении горбольницы, а ребёнок твой в детской палате, где же ещё ему быть? Сынок у тебя родился, поздравляю, мамочка. Слабенький, правда, семимесячный, не доносила ты до срока, но главное, живой. А врачи у нас хорошие, выходят. Советская медицина лучшая в мире!
– Я хочу его увидеть.
– А это, знаешь ли, дня через два, вам обоим прийти в себя и окрепнуть маленько надо.
Через пару дней Лиле принесли в палату маленький свёрточек. На крохотном личике она увидела знакомые бровки домиком, из души само вырвалось: «Коленька!». Малыш, как галчонок, открывал беззубый ротик, вертел головой, забавно гримасничая.
– Да ты грудь ему дай, мамаша, потом налюбуешься, – сказала детская медсестра.
Ребёнок, потыкавшись в грудь, нашёл сосок и принялся за работу.
– Ишь ты, наяривает, – улыбнулась медсестра, – ну всё, раз грудь взял, значит жить будет. Поздравляю вас, мамочка, с сыном.
Поначалу сын затмил в сознании Лили всё остальное, это помогло справиться с обрушившимся на неё горем. Но время шло, к другим женщинам в палате приходили мужья, родственники, приносили какие-никакие гостинцы, её же никто не навещал. Однажды только прибежала Жанна, принесла банку домашнего компота. Олимпиада Марковна навестить невестку, посмотреть на внука не пришла.
Женщины в палате охотно болтали, рассказывали о себе, пользуясь такими непривычными часами безделья между кормлениями, а Лиля молчала, отвернувшись к стене.
– Брошенка, што-ль? —спросила соседка по палате, пышнотелая казачка с длинными тёмными косами, – много щас, после войны, охотников до баб развелось, а мы и рады верить.
– Вдова… – нехотя ответила Лиля.
– Вдова? А сколько же тебе лет?
– Двадцать недавно исполнилось. Муж морским пограничником был, утонул неделю назад.
Женщины примолкли. Одна из них подошла, протянула ломоть хлеба, густо намазанный сметаной.
– Ешь, тебе силы нужны, чтобы мужика выкормить. А мне ещё из дома принесут.
Коленька набирался силенок, приближалась выписка, а вместе с тем росла Лилина тревога. Пустит ли её с ребёнком хозяйка комнаты? Где и на что жить? Как она выйдет на работу, если оставлять сына не с кем? Лиля села за письмо в далёкую Уфу, прося помощи у мамы и сестры.
Глава 36. Геленджик
Крещенский мороз на Урале – это вам не шуточки! Щиплет за нос, кусает щёки, пробирает до костей. Одно спасение – овчинный тулуп да валенки. Настя бежала по пустынной улице Пархоменко, прикрывая нос и рот заиндевевшей варежкой, платок, воротник тулупа и даже ресницы покрылись инеем. Хорошо, что повезло с трамваем, а то бы и не добежала от завода до дома. Снег весело похрустывал под ногами, окна домов особенно уютно светились сквозь покрытые пушистым куржаком ветви, город притих, завёрнутый в снега.
Несмотря на мороз, настроение у Насти было отличное: сегодня на отчётном собрании о ней сказали добрые слова, наградили грамотой и денежной премией, а ещё вручили ценный подарок – пачку настоящего грузинского чая и полукилограммовый пакет сахара. Всю дорогу она представляла, как придя домой, заварит себе крепкий ароматный чай и будет пить его маленькими глоточками с сахаром и с бубликом, а потом устроится на диване, укутав ноги шерстяным платком и, отгородившись от мира кругом света настольной лампы, будет вместе с Гуттиэре разгадывать тайну человека-амфибии. А ещё Настя обдумывала, как лучше поступить с премией: отложить на чёрный день или всё же купить себе к весне блестящие ботики, как у Ираиды, Дусиной соседки.
Прибежав домой, Настя скинула у порога тулуп, валенки и первым делом затопила буржуйку, поставила на печку чайник и только тогда заметила белый прямоугольничек на полу у двери. Видно, хозяйка подсунула письмо под дверь, а она замела полой тулупа в сторонку. Конверт надписан родным почерком. На душе стало совсем радостно, наконец-то долгожданное письмо, ведь после новогодней открыточки от Лили ничего не было, целых три недели! Настя заварила себе чай и, согрев руки о стакан, начала читать письмо. Однако с первых же строк улыбка сползла с её лица. Не веря своим глазам, она снова и снова перечитывала письмо. Хорошее настроение улетучилось без следа. Подбежала к окну, прижала ладонь к замёрзшему стеклу, глянула в протаявший пятачок: в доме напротив свет горел во всех окнах, значит дочка с зятем уже дома. Настя накинула тулуп, сунула ноги в валенки и, прихватив письмо, побежала к ним.
На семейном совете было решено, что маме нужно срочно ехать в Геленджик. Нина помогла правильно написать заявление на увольнение. Вот не предполагала Настя, уходя домой после собрания, что утром придёт с заявлением об уходе!
Проводив маму, Нина сама села за стол, написала сразу три письма почти одинакового содержания. В письмах она просила обеспечить жильем вдову и новорожденного сына моряка-пограничника, героя войны, погибшего в мирное время на боевом посту. Одно письмо было адресовано командиру части, в которой служил Николай, второе в Геленджикский горисполком, а третье в Москву, самому товарищу Ворошилову. Нина была комсомолкой и свято верила, что партия и государство не оставят её сестру и племянника в беде.
Для Насти последующие дни закрутились, как в калейдоскопе: увольнение, сборы, прощание с хозяйкой комнаты, с привычным укладом жизни, с друзьями и старшей дочерью, со ставшей родной Уфой, и в первых числах февраля поезд увёз её в неизвестность.
В эту поездку у неё не было желания вступать в разговоры с соседями по купе, она сидела, отвернувшись к окну, провожала глазами увязнувшие в снегах деревья и кусты. Смеркалось. Мелькнёт изредка полустанок, несколько домов, редкие огоньки, и вновь снега, деревья… Поезд всё дальше увозил её в ночь.
Настя сама осталась вдовой в тридцать два года, испытала, что такое одной поднимать детей, без защитника, без кормильца, без любви. Но она хоть девять лет была с любимым мужем! А дочка? Ведь и годочка не прожила, в двадцать лет осталась вдовой с ребёнком на руках! И где она сейчас? Может, скитается бездомной по чужому городу? Настя надеялась, что все удары судьбы приняла на себя, а дочкам достанется спокойная и счастливая жизнь, ан нет! И на их долю хватает горестей! Она ещё не видела внука, не держала его на руках, а в сердце уже поселилась тревога за него.
На следующий день пейзаж за окном поменялся, снега и лесов становилось всё меньше, потянулись унылые безлесые степи. Местами снега было так мало, что проглядывала голая чёрная земля. Ветер гнал позёмку, а вместе с ней летел, подскакивая, кустик перекати-поля, остановился, зацепившись за былинку, и вновь понёсся неведомо куда. Вот так и её гонят суровые ветры по жизни, не давая где-либо пустить прочные корни. Только-только жизнь наладится, появятся дом, друзья, работа, сложится нехитрый быт, как вновь жизнь срывает с места и несёт в неизвестность. Что-то ждёт её в чужом краю, где нет у неё ни дома, ни поддержки знакомых, ни работы, только два родных существа, которые сами нуждаются в её помощи?
На третий день поезд прибыл в Краснодар, отсюда до Новороссийска Насте предстояло добираться местным поездом. На перроне было тепло, но ветрено и сыро, под ногами хлюпало месиво из снега, воды и грязи. Валенки быстро промокли, в тулупе было жарко. Хорошо, что в чемодане у Насти лежали пальто и ботинки. Она переобулась и переоделась в зале ожидания. Однако ни тулуп, ни валенки в чемодан не помещались, пришлось увязать ещё один узел. Настя с тревогой смотрела на груду багажа: как за ним уследить, как ей всё это донести до поезда? Вон сколько сомнительных типов шныряет по залу.
Купив в кассе билет, удивилась, что в нём не указаны ни номер вагона, ни место, только номер поезда. Кассирша на её вопрос отмахнулась:
– Та куда влезете, там и сядете…. Следующий!
Поезд прибыл к перрону ночью, тут только поняла Настя фразу кассирши. В составе было всего четыре вагона, а народу – полный перрон. Как только открылись двери вагонов, народ кинулся внутрь, сметая проводников, отталкивая друг друга, передавая чемоданы через головы. Настя в растерянности стояла со своими узлами у вагона, толкаемая со всех сторон. Рядом открылось вагонное окно, из него высунулся парень в кубанке:
– Мамаша, подь сюды, давай чемоданы!
Какая-то бабка протиснулась сквозь толпу, сноровисто подала свой багаж парню, потом он подхватил и её саму, втащил в окно. Настя кинулась к нему:
– Родненький, помоги и мне! Сама не влезу!
По радио бесстрастный голос объявил об отправлении поезда. Паника на перроне усилилась. Парень на минуту замялся, потом протянул руки:
– Давай свои узлы, тетка, только быстро!
Вещи исчезли в вагоне, Настя протянула руки, парень усмехнулся, сдвинув кубанку на затылок:
– Вещички забрал, а ты мне зачем?
У Насти сердце ушло в пятки. Состав лязгнул, дёрнулся, проводники, отбиваясь от тех, кто не смог сесть, пытались закрыть двери. Парень рассмеялся:
– Да шучу я! Давай руки живо, – и втащил Настю в окно.
Она кое-как втиснулась на место на жёсткой полке, потёрла трясущимися руками разбитую коленку. За окном проплыли последние станционные огни, в вагоне стало почти темно, освещался он всего лишь двумя фонарями – в начале и в конце вагона. Настя вспомнила осеннюю поездку в мягком вагоне, как она отличалась от этой! А она-то думала, что теперь все поезда такие комфортные!
Поезд прибыл в Новороссийск рано утром. Настя перетащила вещи на привокзальную площадь, огляделась, присев на чемодан, и не поверила своим глазам: вокруг вымощенная плиткой сухая чистая мостовая, никакого снега, на газонах зелёная травка, на ветвях деревьев набухшие почки, впереди над горной грядой встаёт солнце, лёгкие облачка плывут по голубому небу. Словно из начала февраля она сразу попала в конец апреля. Мимо, постукивая каблучками, прошла дама в лёгком макинтоше и замысловатой шляпке, неся новенький чемодан с металлическими уголками, окинула Настю пренебрежительным взглядом. Настя словно увидела себя со стороны: в съехавшем на затылок платке, вспотевшая в тёплом пальто, в ношеных ботинках, вокруг узел, вещмешок, потёртый, купленный ещё в Малмыже чемодан. Ей стало досадно: ведь всю жизнь работала, себя не жалела, а на наряды так и не заработала. Вот тебе и «все равны»!
Через час Настя ехала в автобусе по узким извилистым улицам. Впервые своими глазами видела она город, через который прокатилась недавняя война, обгоревшие стены, пустые глазницы окон, остатки разрушенных снарядами домов, изрешечённые пулями заборы. Но жизнь в городе шла своим чередом, дымили трубы цементного завода, и мелкая, как пудра, цементная пыль оседала на траве, домах, одежде, поскрипывала на зубах. В прогалах между домами поблёскивала вода, там деловито поворачивали шеи подъёмные краны, разгружая и нагружая баржи, жили своей жизнью стройки.
Пазик, натужено фырча, взобрался по каменистой улице в гору, обогнул крайний дом, и перед Настей во всю ширь, сияя тысячами искорок, словно усыпанное осколками солнца, распахнулось море. У неё перехватило дыхание, ведь она даже не представляла себе, что море такое бескрайнее! Линия горизонта таяла в голубой дымке, и казалось, что тёмные силуэты кораблей уплывают прямо в небо. Или это облачка плывут с неба к берегу и, превращаясь в белые барашки на гребнях волн, с шумом разбиваются о скалы? Крикливые птицы парили над прибрежными скалами. Вдоль скал вилась серая лента дороги, повторяя все изгибы берега, и автобус послушно поворачивал то вправо, то влево, то поднимаясь вверх, то круто съезжая вниз. У Насти закружилась голова, она вцепилась в ручку переднего сидения, чтобы не упасть на вираже. Водитель посмеивался, глядя в зеркальце на непривычных к такой езде пассажиров:
– У нас эту дорогу называют «тёщин язык», есть среди вас тёщи? А студенты называют «прижмись ко мне поближе». Не теряйся, народ!
Лилю Настя, к своему огромному облегчению, нашла по указанному в письме адресу. Хозяйка дома, вопреки опасениям, не выгнала молоденькую мамашу с младенцем на улицу. Наоборот, принесла оцинкованное корыто, научила правильно купать и пеленать ребёнка, помогала и делом, и советами, хоть и бурчала себе под нос что-то типа «навязались на мою голову», «так и знала, что не будет мне покою ни днём, ни ночью».
По её совету отправилась Лиля в воинскую часть, в которой служил Николай. Долго дожидалась приёма у кабинета командира части. Разговор получился короткий. Капитан первого ранга, отводя взгляд, сказал, что да, Кислицын стоял в очереди на получение жилья, и должен был весной получить комнату, но теперь его нет, а нуждающиеся в жилье офицеры есть. Раз Кислицын в списках личного состава больше не числится, стало быть, из списка очередников его вычеркнули. А раз Лиля в части не служит, то и жильё ей дать не могут. Лиля попыталась спорить, отстаивать свои права, но командир вызвал дежурного, приказал вывести женщину за пределы части и впредь «посторонних на территорию не пропускать».
Лиля оказалась в отчаянном положении и очень обрадовалась приезду мамы, словно камень свалился с её плеч. Всё устроится, раз мама рядом, она теперь не одна. Весь вечер мать и дочь не могли наговориться после девяти месяцев разлуки. Настя впервые держала на руках своего внука, кончиком пальца гладила светлые волосики на темечке, и дыхание перехватывало от переполнявших её чувств.
Работу Настя нашла быстро, да какую! Устроилась кастеляншей в санаторий для военных моряков, помогли случай и бывший друг Николая. Зарплата небольшая, но это тебе не на заводе весь день на ногах стоять! На такую работу можно и с колясочкой ходить, и погулять с ребёночком время позволяет. Опять же питание санаторное, трёхразовое. Вон как дочка исхудала, одни глаза остались! Но самое главное, Насте выделили комнатку во флигеле для временного проживания прямо на территории санатория!
К большой радости хозяйки Лиля освободила её комнату для будущих отдыхающих. Ах, как изменилась её жизнь с приездом мамы! Разрешились казавшиеся непреодолимыми проблемы, растаяли страхи. Она поправилась, ожила, на щёчках вновь заиграл румянец, многие отдыхающие засматривались вслед хорошенькой молодой мамаше, гуляющей с коляской по аллеям санатория. А вокруг бушевала весна! Абрикосы цвели так, что молодая зелень листвы тонула в розовой пене. По утрам цветущая веточка миндаля заглядывала в распахнутое навстречу солнцу окно их комнаты и забавляла маленького Коленьку, покачиваясь над детской кроваткой.
В мае Лилю неожиданно вызвали в горисполком. В кабинете первого секретаря помимо его самого Лиля увидела уже знакомого ей командира воинской части. Отечески улыбаясь, он двинулся ей навстречу, усадил на стул возле себя.
– Ну что же вы, голубушка, не обратились ко мне за помощью, зачем сразу беспокоить высокое начальство? У них государственных дел хватает, а ваши проблемы мы и сами решить можем, – и, не давая Лиле возразить, торопливо продолжил: – Мы изыскали возможность выделить вам, как вдове героя, квартиру в новом доме. Вот, получите ордер, распишитесь здесь и здесь. Пусть сын моряка, будущий защитник отечества, растёт в хороших условиях. И впредь с проблемами обращайтесь прямо ко мне, прямо ко мне! – и выпроводил совершенно растерянную девушку за дверь.
Настя разрешила Лилино недоумение, рассказав о письмах, отправленных Ниной.
– Видать, сработало третье письмо, товарищу Ворошилову, – решили они и, не откладывая это дело в долгий ящик, отправились смотреть свою новую квартиру.
Длинный одноэтажный дом находился недалеко от автостанции. По плану в нём должно было быть восемь квартир, каждая со своим крыльцом, верандой и палисадом. Лилина квартира оказалась незапланированной девятой, совсем крошечной, выкроенной из двух соседних: тесная верандочка, служившая по совместительству прихожей, кухня, больше похожая на коридор, без окон, зато с печкой, и шестнадцатиметровая комната. К этому прилагалось две сотки палисада, втиснутого между двумя соседними, и сарайчик-дровяник. Небогато, но Насте с Лилей эти «хоромы» показались дворцом! Ещё бы! Своя отдельная квартира!
Лиля сидела на забытой строителями табуретке посреди комнаты, смотрела на залитый солнцем свежевыкрашенный пол, на выбеленные стены, потолок и плакала от радости, что у неё теперь есть своя квартира, что никакая хозяйка не сможет её отсюда выгнать. Слёзы лились и от горечи, что нет с ней рядом Николая, не с кем разделить эту радость.
Настя тем временем оглядывала их новые владения. «Удобства» – две дощатые кабинки в конце двора. Вода в колодце посреди двора. Рядом под соснами общий стол и скамейки, сосед натягивает между стволами верёвки для сушки белья. Земля в палисаде каменистая, заросшая колючим кустарником, называемом местными жителями «держи-деревом». Немало придётся ей потрудиться, чтобы расчистить и сделать пригодным этот участок, но она работы не боится. Главное, у них теперь есть свой сад.
Вновь забегая вперёд, скажу, что в этом дворе, под этими соснами сделает свои первые шаги Коленька, а потом и мы с двоюродным братишкой Вовчиком. В этом палисаде мы будем лакомиться выращенными бабушкой виноградом, медовыми сливами, абрикосами, здесь будем строить шалаш и играть в индейцев в дни школьных каникул. А придёт время, будем приезжать сюда со своими детьми в гости к бабушке.
В новом доме и жизнь у них пошла новая, хоть и полная забот, трудов, но спокойная и счастливая. По выходным, а иногда и просто в свободный вечер, они спускались с коляской по Садовой улице к морю. Гуляли по заполненной отдыхающими набережной. С танцплощадок в пансионатах доносилась весёлая музыка, в летнем кинотеатре шли трофейные фильмы с Гретой Гарбо и Диной Дурбин и советские комедии с Любовью Орловой, Людмилой Целиковской. На круглой клумбе распускались незнакомые цветы, по дорожкам санатория гуляли диковинные птицы павлины, а в ресторане «Платан» по вечерам играл джаз.
Настя с Лилей спускались на пляж к воде, Лиля купалась, а Настя чаще просто сидела у кромки прибоя, присматривала за Коленькой, играющим с обкатанной морем галькой, слушала тихий шёпот волн и наблюдала, как красный диск солнца опускается в море. От него прямо к её ногам простиралась алая дорожка, маня вдаль, за горизонт, и обещая счастливую жизнь.
Не знала Настя и того, что находится в самой середине своего жизненного пути, что впереди у неё ещё долгая-долгая жизнь, которую она проживёт в полюбившемся ей южном городе у тёплого моря, увидит взросление своих внуков, порадуется правнукам. Жизнь словно повернётся к ней другой стороной, в которой нет боли, нет потерь, нет горя, а есть простые человеческие радости и заботы.
А когда придёт её час, уйдет тихонько, держась за руки обеих своих дочерей, погаснет, словно догоревшая свеча.
Над её последним пристанищем зелёным шатром сплетутся ветви старой яблони и невесть откуда взявшейся алой рябины.


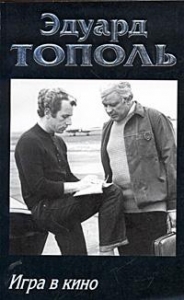





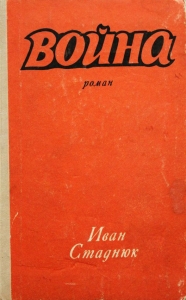
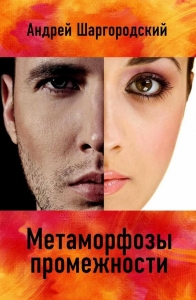

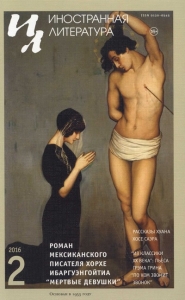

Комментарии к книге «Гроздь рябиновых ягод», Елена Чумакова
Всего 0 комментариев