Софринский тарантас
ПОВЕСТИ
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Сегодня дежурю в приемном. Я здесь на подмоге, временно переброшен со «Скорой».
За окном ночь. И темнота пугливо жмется к окну. Районная больница перегружена. Больные лежат в коридорах, ванных, холлах, везде, где только есть возможность поставить койку, раскладушку или же кинуть матрац. Всему причиной весна, в этот период обостряются многие заболевания, да и в придачу замучила эпидемия гриппа, столько осложнений, ну просто ужас.
Я без медсестры, она на больничном с почечной коликой. Два дня назад на все приемное была одна санитарка, да и та уволилась. Крохи ей платили в больнице. Сейчас она на заводской проходной, сидит себе, носочки вяжет и в ус не дует, каждый месяц ей за такое вот сидение сотенка в карман перепадет, а в приемном она без сна день и ночь трудилась, а платили восемьдесят рэ, да и то не всегда, в основном семьдесят. Короче, верчусь я один. Сам диагностику больным делаю, переодеваю их в больничную одежду и сопровождаю в палаты. Кроме всего, я должен заполнять врачебный журнал дежурств, делать скоропомощные инъекции и прочее, включая, конечно, и хирургические обработки. Контроль за температурой в больничных палатах тоже на мне. Сегодня только пришел на дежурство, как забарахлила кочегарка. Я обратился за помощью к кочегарам. А они на меня с лопатой да как заорут: «Мы не виноваты. Это уголь такой непутевый, вместо орешника привезли сыпун. Даже на максимальном поддуве он еле тлеет».
Вместе с ними иду к шефам на заводскую проходную и прошу их, чтобы, они дали больнице взаймы двадцать пять ведер хорошего угля. Всем палатам нужно тепло как воздух. Ночью обещали заморозки до минус десяти. А главная сестра больницы, как назло, обрадовавшись первым солнечным денькам, выставила из всех окон вторые рамы. Больничные кочегары любят, чтобы за них хлопотали. Вот один из них, с торчащими из-под кепки седыми прядями, участливо посмотрел на меня и сказал:
— Молодец доктор, хоть ты побеспокоился. Мы сегодня сказали завхозу, уголь непутевый. А он говорит, топите… Да пойми ты, доктор. Как так можно землей топить. Другое дело бы — люди у нас здоровые были, а то ведь все больные. А болезням только этого и надо… И вновь тогда врачам по утрянке придется лечить больных от новых болячек, в результате холода возникших.
«Эх, если бы все понимали нас, как этот кочегар…» — подумал я.
Кроме кочегарки на мне и пищеблок. Вовремя надо снять пробу, проверить чистоту, закладку пищи на будущий день. Короче, работы невпроворот, больше, чем на «Скорой».
Я сижу за столом и, наклонившись над журналом дежурств, заполняю его. Вдруг скрипнули тормоза за окном. Вздрогнув, кинулся к окну. «Могущественный» белый автомобиль задом подъезжал к дверям. Опять «скорая». Я поправил на голове шапочку, взял в руки фонендоскоп, ощупью проверил наличие шариковой ручки в кармане. Через минуту дверь отворилась, и врач с фельдшером на носилках внесли молодого парня в белом халате. Всего перевидал я за свои два года врачебной практики, но такое видел впервые. На носилках лежал мой коллега, да мало того — бывший однокурсник. В направлении подозревался инфаркт. Я удивился.
— Алексей, что случилось?
Он был бледен, молчал. Рукой чуть шевельнул и отвел в сторону голову. Видимо, острая боль в сердце не давала говорить.
Отпустив «скорую», я быстро прослушал его сердце, измерил давление, оно было под двести. Тут же, на месте, сделал внутривенное вливание и обезболивающий укол, снял электрокардиограмму. На электрокардиограмме диагноз подтвердился, у Алексея оказался инфаркт. Очень осторожно с помощью хирургической сестры мы переправили его в изолятор. Там было тихо, а для инфарктников тишина и неподвижность в первые дни болезни есть немаловажный фактор в успешном выздоровлении. Чтобы не тревожить его, я не задавал ему вопросов. Делал все быстро. Поставил капельницу. Из дома вызвал лаборантку и главного терапевта. Я волновался за Алексея всю ночь. Ведь он как-никак тоже врач «Скорой», только в отличие от меня работает на Второй подстанции, обслуживающей новый микрорайон города. На следующий день, когда я утром, сдав дежурство, зашел к нему поинтересоваться его состоянием, он, немного окрепший, тихо рассказал мне о том, что с ним случилось.
На «Скорую» поступил вызов: человек умирает. Очередь ехать была его. Шофер мчался как ветер. Три раза они с риском, для себя нарушили правила уличного движения при переезде перекрестка, А на одной из загородных колдобин «уазик» так шибануло, что открылись все дверцы. Чудом доктор не выпал из машины.
Он торопливо бежал и по лестничным ступенькам на четвертый этаж. И откуда у него тогда силы взялись? Видимо, врачебный долг был превыше всего. Он жаждал спасти больного во что бы то ни стало. Наконец нужная дверь близка. Он нажимает кнопку звонка.
Женщина в модном атласном халате за руку вводит его в богато меблированную залу. Увидев человека, он вздрагивает. Перед ним не больной, перед ним высокопоставленнейший человек города, без пяти минут мэр. На душе у доктора становится страшно.
Сидящий перед ним человек пьян.
— Это вы вызвали?.. — тихо спросил он, и обида, горькая, злая, охватила его. Ему хотелось крикнуть этому суперчиновнику: «Да как вы смеете в таком виде «скорую» вызывать? Наша станция задыхается. Сорок два вызова не обслужено, а вы…»
Высокопоставленная личность поднялась из-за стола и, пошатываясь, подошла к доктору.
— Парень, если бы ты знал, как у меня голова болит… — И дружески хлопнул его по плечу. — Короче, я знаю, что у тебя кое-что есть… Ну чего ты, расстегивай сумку…
Врач до последней минуты был мужественен.
— Магазины закрыты… — как ни в чем не бывало продолжил он. — А голова болит, нет мочи…
Его сытое лицо выражало торжественность и высокомерие. Доктор был для него ничтожеством.
В каком-то отчаянии, чувствуя, как неимоверно сильно нарастает боль в сердце, Алексей тихо сказал:
— И вам не стыдно?..
Лицо у высокопоставленной личности судорожно задергалось, но не смутилось. Через минуту, абсолютно уверенный в безнаказанности своего поступка, он, не сдерживая себя, расхохотался.
— Это надо же, он меня еще и винит. У меня горло болит, у меня ангина. У меня к лекарствам аллергия. Завтра же я вызову на ковер твоего главврача…
Алексей, крепко держа в руках медицинскую сумочку, с трудом вышел из подъезда. Липкий пот заливал лоб и лицо. Словно примирившись с ситуацией, он повалился тут же на скамейку у подъезда.
В этот же день, узнав фамилию высокопоставленной личности, я решил ему позвонить, я хотел сообщить ему, сказать, что доктор, которого он вызвал вчера поздно вечером, в очень тяжелом состоянии. Но секретарша то и дело заявляла, что шеф не отвечает на посторонние звонки. Я кинулся к главврачу больницы, начал умолять и просить его, чтобы он соединил меня с высокопоставленной личностью. Тот под моим неимоверным нажимом сделал это. И когда я, волнуясь, рассказал этому великому человеку, в каком состоянии находится доктор со «Скорой», которого он вчера вызывал, тот вдруг, вместо того чтобы посочувствовать, самодовольно хмыкнул:
— А я думал, доктора не болеют… — и положил трубку.
В травмпункте не хватает врачей. И меня на недельку направили помочь в приеме травматологических больных. Травмпункт одна из горячих точек больницы. Он расположен по соседству с приемным покоем. Площадь его большая. Он имеет операционную, предоперационную, приемную и крохотную комнату отдыха. Я попал в подчинение старейшего травматолога города Иван Ивановича Спичкина. Он всегда защищал молодых врачей. Его маленькая медицинская шапочка сидела на голове набекрень. Почти всегда, задумываясь перед сложным случаем, чесал он затылок, и поэтому она сама сползала на лоб. За каждым ухом у него торчали сигареты. Он считал, что так их удобно брать, всегда они под рукой, на подхвате, да и с пачкой возиться не надо. При разговоре руки держал на широких поясных тесемках хирургического халата. И хотя Иван Иванович был маленького роста, но именно эта поза придавала ему солидность и несколько сантиметров роста.
— Ну привет… — вежливо поздоровался он со мной в первый день. — Когда кончил?..
— Два года назад… — как можно спокойнее ответил я и спросил: — А вы?..
— Давно это было… — и вдруг поморщился. — Ты у нас «выкать» брось… У нас все травматологи мужики. Только «ты» говорим друг другу, это выравнивает.
Когда мы вышли с ним в холл, он, подойдя к окну, закурил. А потом вдруг с облегчением сказал:
— Вовремя ты подошел. Меня сейчас срочно в хирургию вызывают. Так что за меня оставайся командовать. Понял?..
— Понял… — гордо произнес я.
И только он ушел, как два милиционера, неизвестно откуда взявшиеся, ощущение было такое, словно они специально дожидались, когда уйдет Иван Иванович, втащили в травмпункт пьяного парня с окровавленной головой. Он еле держался на ногах, то и дело мычал, выпускал изо рта слюну. Старший милиционер положил на стол какой-то акт и произнес:
— Доктор, окажите, пожалуйста, ему помощь и дайте справку, что он до утра может находиться в медвытрезвителе… — И, присев вместе со своим товарищем на кушетку, добавил: — Чтобы выйти из ресторана по-людски, он не в дверь пошел, а на витрину. Когда вели его сюда к вам, замучились мы с ним… На каждом углу останавливается и трубит бог весть что.
Я подал милиционерам графин с водой, и они с жадностью осушили по стакану. Парень насупившись сидел на стуле, изредка двигая руками и ногами.
Я быстро осмотрел раны на голове, две были рваные, в одной торчал осколок стекла. Я без труда вытащил его, и парень даже не пошевельнулся. Раны надо было шить. Швов десять требовалось наложить. Заведя парня в предоперационную, я спросил его:
— Товарищ, как ваша фамилия?
А он как фыркнет да как замахнется на меня:
— Да пошел… Да я таких, как ты…
«Вот так дела…» — подумал я. Позвал санитарку, чтобы она подержала его. А он, как назло, еще сильнее замотал головой да в придачу стал плеваться на пол.
— Да кто же за тобой убираться будет? — одернула его санитарка.
А он и на нее:
— Пошла ты… Выполняй свою работу…
— А ну прекрати сейчас же!.. — крикнул на него вошедший в предоперационную милиционер. — Люди тебе помощь оказывают, а ты…
Парень небрежно посмотрел на него и ничего не сказал.
Вокруг ран надо было выстричь волосы. На две наложить мазевые повязки, а остальные зашить. Милиционер и санитарка держали парня за плечи и шею, а я, ножницами и бритвой быстренько убрав волосы вокруг ран, обработал их перекисью и приготовился шить. Надежды на обезболивающий эффект новокаина, даже если туда добавить адреналин, слабые, алкоголь противодействует обезболивающему эффекту, ослабляет его, а порой и нейтрализует. Однако только я сделал укол, как парень, оттолкнув санитарку и милиционера, встал со стула.
— Да я вас всех в порошок сотру… — И затряс над головой кулаками. — Нынче же всех вас не будет…
Прибежал второй милиционер, и с его помощью, уже втроем, вновь усадили парня, и я продолжил обкалывание раны новокаином. Как я и предполагал, он действовал слабо. На первом шве чуть было не поломал иглу, парень чувствовал боль да в придачу то и дело дергался и орал благим матом. При таком состоянии больного я не мог шить раны. В растерянности положил на стол зажим с иглой. Старший милиционер, словно поняв меня, сказал:
— Доктор, да напишите ему справку без обработки ран. Кровь у него запеклася, не сочится. А ваше шитье ему не поможет, он завтра опять где-нибудь напьется…
Парень, весь вспотевший, лишь внешне казался уставшим, внутренне же он был не на шутку возбужден. «Чего доброго, и ударит…» — подумал я, не зная, как с ним дальше быть.
— Товарищ, да разве можно себя так вести… — попытался я образумить его.
— Вы меня кровью не испугаете!.. — закричал он. — Вот вам… вот… — и сорвал с головы повязки, которые я наложил.
— Да что вы с ним чикаетесь?! — вспыхнул, глядя на него, милиционер и пояснил мне: — Выписывайте справку…
— Я не имею права выписать справку, покуда не будут зашиты раны, — ответил я, не зная, как мне дальше и быть. Чувствую, что потерял я, еще в самом начале приема, очень нужную и необходимую в данной ситуации приказную врачебную назидательность и строгость. Посмотрев на часы, сказал милиционерам: — Скоро кончится наверху операция, и я попрошу, чтобы анестезиолог дал ему общий наркоз.
И тут же послал санитарку узнать, как идут дела в хирургическом отделении. А сам в растерянности присел перед пьяным парнем. Он все так же сидел молча, изредка водя по сторонам головой. Раны не кровили, но зиять зияли.
Минут через пять вместе с санитаркой пришел Иван Иванович. Милиционеры, увидев его, обрадовались, они, наверное, приняли его за анестезиолога. Видимо, санитарка рассказала ему, что парень буйствует. Поэтому он сразу же подошел к нему и, подперев руками бока, хмыкнул:
— Милый мой, и где это тебя угораздило?..
— Да пошел ты!.. — крикнул на него парень. — Да я таких, как ты…
— Не знаю, как я, но ты скоро пойдешь… — улыбнулся Иван Иванович и, помыв руки, проверил наличие хирургического инструмента на столе.
А мне сказал:
— Будешь помогать его держать…
Он не сердился на вызывающее поведение парня. Внимательно осмотрев раны и взяв в руки иглодержатель с иглой, сделал нам знак головой. Санитарка, два милиционера и я в том числе зажали парня в тиски. Однако только Иван Иванович попытался проколоть кожу на голове, как парень, заорав: «Не трогайте меня!..» — так ударил Иван Ивановича ногой, что тот отлетел в угол. Но он опять не рассердился, а, моментально придя в себя, сделал замечание милиционерам:
— Если мы его сейчас не скрутим, то он до самого утра будет нас мучить.
Милиционеры поняли замечание доктора как сигнал к атаке. Да притом, если врач приказывает, они за свои действия не отвечают. Парень не успел даже пикнуть, как с него мигом слетели брюки, рубашка и остался он в чем мать родила. Руки его, заведенные за спину, зафиксировали ремнем. Он не ожидал, видимо, такой атаки.
— И не вертитесь, пожалуйста… — сказал ему Иван Иванович, вновь приготовившись шить. — А то вместо раны могу иглой в глаз попасть…
Однако, как только опять Иван Иванович попытался проколоть кожу, парень так дернулся, что все, и я в том числе, разлетелись по сторонам.
— Прежде, чем шить, обезболивать надо!.. — закричал он.
Иван Иванович был неумолим. Он вновь попросил нас подержать парня. Мы держали его очень крепко четырьмя парами рук, а он все равно, дергался на стуле и вырывался.
— Ребятки, держите до последнего… — попросил Иван Иванович.
Как это держать до последнего, я не знал. Но, видимо, знали милиционеры. Один из них что-то шепнул мне на ухо. И когда парень опять при прикосновении иглы к коже дернулся, два милиционера вдруг сдернули его со стула и, повалив на пол, прижали его своими телами. Вот в таком положении, стоя перед парнем на коленях, продолжил Иван Иванович шитье.
— Больно!.. — кричал парень.
— На то она и больница, от слова «боль»… — успокаивал его доктор и добавлял: — Меньше пить будешь, и боли не будет…
За десять минут раны были зашиты, обработаны и перевязаны. Милиционеры, в удовлетворении получив справку, быстро подняли парня с пола и одели его. Он что-то зло пробурчал нам, но мы не разобрали его слов. Милиционеры быстро увели его.
Иван Иванович спокойно сидел и записывал произведенную хирургическую обработку ран в журнал.
— А как же вежливость? — подсаживаясь к нему, тихо спросил я. — Ведь с больным так грубо нельзя обходиться…
— А с нами ему, выходит, можно обходиться как только ему заблагорассудится. Так, что ли, выходит? — впервые за все время вспыхнул Иван Иванович. — Да мало того, он еще пьян. Другой бы на его месте помолчал, а он… — И, ловко достав из-за уха сигаретку, закурил.
Руки его белые чуть вздрагивали. Он смотрел на меня с внимательной задумчивостью, видно, представляя, что бы произошло со мной дальше, если бы он вовремя не пришел.
Вот он нежно и даже как-то невинно улыбнулся и, выпустив дымок в сторону приоткрытой форточки, сказал:
— С некоторыми больными не всегда надо обходиться ласково, особенно в травматологии, когда поступают вот такие…
В знак согласия я повинно кивнул головой и подумал: «Да, с Иван Ивановичем не пропадешь…»
В отделение центральной районной больницы с диагностической целью поступила больная с подозрением на сложнейшее гинекологическое заболевание. О ее поступлении к нам был заранее оповещен весь медперсонал. Специально был проведен субботник по наведению чистоты в больнице. «Блатная» отказалась переодеваться в больничное белье, и в палату ее положили в цветастом платье с огромным вырезом на груди. А сколько золота было на ней, ну это просто не счесть. Кроме широкого обручального кольца на пальцах блистали три дорогих перстня, в ушах сияли на цыганский манер серьги, а полненькую, гладенькую шею обхватывал фигурный кулон, вколоченный в широкую цепь. Короче, дама смотрелась на фоне драгоценностей впечатляюще. Палата была на двоих. Но к ней, конечно, даже и при нехватке мест, из простого люда никого не положили. Ибо каприза у «блатной» не занимать. Вроде и должность у нее была пустячная — секретарь райисполкома, но ее почему-то все боялись. Главврач перед ней трепетал. Главный гинеколог и врачи-ординаторы дрожали, а о молодых врачах и говорить не приходится, они выглядели перед ней немыми истуканами. Ибо все прекрасно понимали, что если они хоть в чем-то не угодят или обозлят «Алису из страны чудес», так все подпольно ее звали в городе, то квартиры им не видать как своих ушей. Алисой ее прозвали за крупные махинации, совершенные на глазах общественности; своему сыну-студенту она сделала двухкомнатную квартиру, сама же она жила в трехкомнатной, ибо ей нужна была дополнительная площадь для приема гостей, разведенная дочь ее жила рядом с райисполкомом в двухкомнатной квартире расширенного образца. Короче, весь ее близкий родственный коллектив, состоящий из двенадцати человек, занимал двести квадратных метров жилой площади. Комиссий она не боялась, обкома или ЦК профсоюза тоже. А о крупных связях ее с верхами все говорили с трепетом. Тридцать лет она работала на одном и том же месте. И за это время всех сумела опутать и запутать.
В отделение она поступила на три дня. У нее, по рекомендации клиники, надо было срочно взять биопсию, то есть крохотный кусочек ткани из больного органа, и, исследовав его, сказать: доброкачественная ли опухоль у больной или нет.
— Только бы биопсия не подвела… — трепетал главврач.
Дочь его в этом году заканчивала институт. И он так мечтал пробить ей через Алису однокомнатную квартиру. Главврач, стараясь прослыть самым уважаемым в глазах Алисы, заранее предупредил весь персонал больницы, и в особенности санитарок, чтобы они, заходя к Алисе в палату, ласково улыбались ей. На весь трехдневный срок, в течение которого должна была пролежать в больнице Алиса, срочно был снят из центрального ресторана шеф-повар, мастер кухонного дела. Снабженный необходимыми продуктами, он на больничном пищеблоке за отдельной плитой готовил Алисе особые блюда, ибо больничной едой она как самый что ни на есть порядочный человек не могла питаться.
В день взятия биопсии в операционную, в нарушение всех законов, ее повезли в наимоднейшей одежде. А чтобы ну хоть как-то снять предоперационное волнение, она попросила главврача накинуть на себя шаль.
Если бы Алиса пожелала въехать в операционную в кирзовых сапогах и в полушубке, то и это ей было бы позволено. Так велик был ее авторитет.
— До чего же богатая женщина… — часто говорили о ней городские жители. — Она не то что от болезни, от смерти откупится.
— А если ей наскучит жить? Что тогда?.. — спрашивал кто-нибудь в сердцах.
— Вот это, наверное, и есть тот единственный вариант, когда она действительно может уйти из жизни, а так она будет жить в веках…
Денег у Алисы были горы. За внеочередные выдачи квартир ей давали взятки. И она их брала. «В наш век не брать то, что дают, стыд и позор…» — любила она шутливо произносить и смеялась, радуясь тому, как она легко из простых слов составляла мудрость.
Молоденький анестезиолог-ястребенок, еще толком не знавший Алису, попытался возразить появлению ее в операционной в таком виде. Но главврач так одернул его, что он надолго притих.
— Если будешь и далее так выступать… — сочувственно прошептала ему санитарка, — то всю жизнь проживешь в сарае…
Анестезиолог удивленно смотрел, как огромная делегация врачей, то и дело кланяясь, подкатила Алису на каталке к операционному столу. Главврач и заведующий осторожно переложили красавицу на стол. Операционная сестра и кандидат наук, которому было поручено взять биопсию у больной, начали торопливо шептать ей на ухо ласковые слова. Алиса, внимательно слушая их, смотрела в потолок и улыбалась. Минут через пять главврач вновь подозвал к себе молодого анестезиолога и приказал ему приступить к даче наркоза.
— Наркоз ей категорически противопоказан… — попытался он возразить. — При поступлении я смотрел эту больную, у нее выраженный бронхит, да притом с температурой, после дачи наркоза обязательно разовьется тяжелое осложнение. Бронхит перерастет в воспаление легких, а затем могут быть и всякие другие последствия.
Но, увы, Алиса уже лежала в операционной. И о возврате ее в палату не могло даже быть и речи. Главврач был человеком решительным, если уж что пообещал сделать, то сделает обязательно. И если биопсию он назначил на сегодня, то она будет сделана, невзирая ни на что, именно сегодня.
— Я приказываю вам… — закричал он на молодого анестезиолога. — А если вы не выполните приказ, я уволю вас…
— Это дело ваше… — гордо произнес анестезиолог. — Но я никогда не буду делать наркоз, заведомо зная, что он может повредить больному. А экстренных показаний для дачи наркоза у этой больной нет. Биопсия не срочная процедура. Пусть терапевты подлечат бронхит, и недельки через две я без всякого риска для легких проведу наркоз.
— Вы не представляете, что вас ждет в будущем… — вспыхнул главврач.
— Как не представляю, я все представляю… — вздохнул анестезиолог. — Меня ждет сарай… — и, посмотрев в налитые злостью глаза главврача, добавил: — Понимаете, при всем уважении к вам, я не могу этого сделать. Дать наркоз больному с заболеванием верхних дыхательных путей, когда нет для этого показаний, есть преступление.
Главврач спорить с молодым анестезиологом не стал. По его приказу был срочно вызван из соседней больницы другой анестезиолог, который за получение квартиры мог сделать наркоз по просьбе главврача кому угодно и как угодно. Последствия от дачи наркоза его не интересовали. Главное, лишь бы угодить начальству, а там будь что будет, таков был его жизненный идеал.
— Это кто такой?.. — подозрительно посмотрев на нового анестезиолога, настороженно спросила у главврача Алиса.
Главврач торопливо объяснил ситуацию замены.
— Хорошо… — согласилась Алиса. — Если он мастерски проведет наркоз, я позабочусь и о нем… А если вдруг после окончания процедуры у меня откроется рвота, то оставлю его в хвосте…
«Э-э… миланка, меня ты не проведешь… — подумал про себя анестезиолог. — Если и откроется у тебя рвота, то только в палате. А за палатные дела отвечаю уже не я, а лечащий врач…» — и он тут же строго предупредил медсестру, чтобы она после окончания наркоза, когда Алиса начнет приходить в себя, сделала ей тройную дозу снотворного.
Процедура в операционной прошла удачно. Из нужного участка ткани, хотя и с трудом, была взята биопсия. Целые сутки спокойно проспала счастливая Алиса. Это анестезиолог постарался. И главврач, радуясь его стараниям, заранее поздравлял себя с успехом.
Но когда проснулась Алиса, всю больницу вдруг охватила паника. Пришел результат биопсии: вместо доброкачественной опухоль у Алисы оказалась злокачественной. Как быть? Говорить или не говорить об этом Алисе? Если не сказать ей, то она, все равно узнав результат, озлобится на всех и обидится, почему, мол, вы, такие-сякие, ей сразу о результате не доложили. А если сказать правду, то она может не поверить, обзовет весь персонал дураками, проклянет, и тогда уж лучше ей на глаза не попадайся. Паника среди врачей нарастала. Искался выход из создавшейся сложной ситуации и, как назло, не находился. Однако здравый смысл восторжествовал. Посоветовавшись между собой, врачи решили Алисе объявить правду. А чтобы обезопасить себя от грехов, для объявления результата послали к ней пенсионера-лаборанта, который ни в чем не нуждался и для которого все люди были равны.
Он зашел к ней в палату со знанием дела и, осторожно положив на тумбочку заключение биопсии, сказал:
— Дамочка, прошу вас не волноваться, всякое в жизни бывает.
— Не тяните резину, говорите скорее… — вспыхнула Алиса. — И почему главврач не подошел? При чем вы здесь, в таких делах… я знаюсь только с ним.
— Его в военкомат вызвали… — соврал лаборант. — Поэтому он велел мне доложить… — и, откашлявшись, добавил: — Опухоль оказалась у вас сложной. Короче, злокачественная. Но расстраиваться нет смысла, по размерам она крохотулечка, и рост ее приостановить в наших силах…
— Вон, вон отсюдова… — вспыхнула Алиса. — Вы все это врете… Вас специально подослал ко мне главврач, чтобы не травмировать меня. Я думала, он меня уважает, а он, оказывается, мне смерти желает. Проходимец, вор, столько я дел ему добрых сделала, а он. Не верю я вашей биопсии, она все врет. Нету у меня опухоли и никогда не будет. Это вы сами все придумали… Чтобы после этого я хоть когда-нибудь кому-нибудь из ваших врачей помогла — не будет этого никогда. Я сегодня же поеду и лягу в другую больницу, там сделают мне повторную биопсию, после чего ее результат я положу вам на стол, и вы тогда убедитесь, что у меня нет никакой опухоли. У меня просто полип, доброкачественный полип.
Лаборант в растерянности развел руками. Он не знал, что и ответить неожиданно налетевшей на него женщине. А Алиса, тут же быстро собравшись, покинула нашу больницу навсегда. Совсем в другой клинике ей сделали биопсию, и она была очень довольна. Ей не объявили истинный диагноз, а, для вида успокоив и подыграв ей, написали, как она и хотела, что у нее биопсия нормальная, а вместо опухоли полип.
Она кинула эту бумажку на стол главврачу в присутствии врачей и сказала:
— Больше чтобы ни вы, ни ваши медики ко мне с просьбами не обращались… — и, хлопнув дверью, ушла.
Клиника, не сообщив Алисе истинный диагноз, сообщила его главному онкологу района. Тот попытался вызвать ее на прием, чтобы заодно поставить на учет и назначить лечение, но и он получил такой нагоняй, что даже и пикнуть об Алисином диагнозе не мог. Мало того, был вновь обвинен наш главврач в том, что он возглавляет кампанию против Алисы. И тогда весь райисполком пошел на него в атаку. Чудом он удержался.
Через год Алиса умерла. На вскрытии оказалось, что у нее была злокачественная опухоль.
Когда восторжествовала справедливость и все стало на свои места и когда квартиры на больницу посыпались точно дождь, кому-то из медиков была предложена и квартира умершей Алисы. Но никто не захотел въезжать в нее. Видимо, не так просто жить в квартире царицы-воровки. В ней и воздух, и дух не тот.
Рано утром отвез я в больницу женщину с переломом ребер. А вечером она босиком и в одном лишь халатике заявляется к нам на «Скорую». На глазах слезы. Волосы растрепаны. От волнения стучит зубами.
— Что с вами? — оторопело спрашиваю я.
А она пуще прежнего как заплачет.
— Не лягу я больше в больницу… — и в отчаянии продолжает: — Вы меня первый начали лечить, так что и долечивайте…
— Да в чем дело, объясните все по порядку… — И, чтобы успокоить ее, наливаю ей сердечных капель. Она присела на стульчик в холле. И, дыша поверхностно, уперлась руками в колени. Затем, посмотрев в приоткрытое окно, начала рассказывать.
— Как только вы привезли в отделение, у меня боль адская появилась. Целый час я кричала, объясняла докторам, что ребра напротив сердца болят. Наконец через час сделали мне укол, а мне почему-то от него еще хуже. Я докторов опять начала звать. А они мне, мол, вы не расстраивайтесь, минут через пять вам получшает. Час прошел, два, а мне все хуже и хуже, боль в ребрах, особенно при вдохе, такая, словно их живьем пилят. Да мало того, вслед за ребрами и сердце стало колоть. Никогда оно у меня не болело, а тут, гляжу, заболевает. Сделали они мне повторный укол, а мне все хуже, от боли я двинуться не могу. Пользы от их лечения никакой. Вот когда вы в машине укол сделали, мне сразу же полегчало. А от больничных уколов еще хуже становится. Да мало того, кругом врачи такие грубые, не дозовешься их, — и больная вдруг заплакала. — Доктор, миленький, терпения нет никакого. Все тело, весь позвоночник от болей раздирает. Я успокаиваю больную.
— Вам какие укольчики делали? — ласково спрашиваю я ее.
— Анальгин, — с трудом отвечает она.
Даже при поверхностном дыхании ее тело пронизывает острая боль.
Когда я приехал к ней на вызов, я сделал тот же самый анальгин, его я делал и в машине. Почему он тогда ей сразу помог, а потом вдруг перестал действовать? Боль у женщины нарастала, и, чтобы хоть как-нибудь снять ее, я, как и раньше, сделал ей три кубика анальгина. И чудо, минут через десять ей вдруг полегчало, боль хотя и не уменьшилась, но стала терпимей.
— Спасибо… — поблагодарила она меня.
А я стоял и не понимал, почему мой анальгин ей помогает, а больничный нет. «Неужели все дело во внимании… — подумал я. — Грубое, невнимательное отношение к больному может парализовать действие назначенных ему лекарств. Больной антагонистически настраивается и начинает не доверять врачу. И тогда все лечение идет насмарку…»
Работал на нашей «скорой» фельдшер Коля. Парень тихий, неповоротливый и какой-то вялый. Не по характеру он, видно, таким был, а по болезни. Он страдал врожденным пороком сердца. Все его поначалу жалели, а затем перестали жалеть. Работа есть работа, тем более на «скорой», где только быстрота, решительность и смелость в самых критических ситуациях могут принести авторитет.
Почти со всеми врачами он не сработался. И только я нашел с ним общий язык. Я не принуждал его делать те или иные обязательные фельдшерские процедуры. Если он не мог их делать или терялся, то я делал их сам, успокаивая его при этом:
— Ты не волнуйся, все наладится.
— Доктор… — запнувшись на полуслове, волнительно произносил он и внимательно смотрел на меня. Чувствовалось, что человек он душою добрый, таким только и быть в медицине. Я вижу, с какой всегда радостью он едет на вызов. Как глубоко задумывается у постели больного, стараясь быстро вместе со мною поставить диагноз. Однако не так страшна была его медлительность, как нерешительность. Вырвать его из нее и было моей задачей. Я старался полностью во всем ему доверять. И, словно понимая, он тихо улыбался, взгляд его теплел, и, выполнив вдруг удачно ту или иную процедуру, он спрашивал: — Доктор, а вдруг я ошибусь, что тогда?
— Не волнуйся, ошибку любую можно поправить. При условии, если ты сообщишь о ней вовремя… — успокаивал я его.
Постепенно он приглянулся мне, я привык к нему, и многие вызовы уже обслуживал только с ним. Я не грубил и не кричал на него, если он медлил. Я старался уважить его и, уважая, подбадривал как только мог. И постепенно осознанная торопливость начала приходить к нему.
Поехали мы раз с ним поздно вечером на вызов. На одной из загородных дач произошла драка. К жене пришел любовник. А муж застал их. И, не долго думая, схватил топор и начал кромсать все вокруг, а потом взял и кинул его в жену. Топор чуть-чуть поранил ей бровь, зато полностью отсек левое ухо. Мужа-дебошира забрала милиция. Весь пол в комнате был усеян окровавленными битыми стеклами. Женщина лежала на них распластавшись и стонала. Кровотечение из раны было сильным. Я кинулся оказывать помощь. Женщина была молода и красива. Поэтому травма для нее была ужасной. Из-за большой кровопотери пульс стал нитевидным и резко упало давление. Двумя зажимами остановив кровотечение и наложив на рану тугую повязку, мы с Колей быстренько на носилках погрузили женщину в машину.
Больница была почти рядом, и водитель без всякого труда за каких-то пять минут добрался до приемного покоя. В приемном покое женщина молчала, видимо, ей было стыдно, что ее личная жизнь стала известна посторонним лицам. Но не это интересовало дежурных врачей, а потом и меня, вдруг неожиданно очухавшегося. После травмы прошло двадцать минут. И отсеченное ухо можно было пришить без всякого труда, и оно прижилось бы. Но, увы, уха нигде не было. Вначале подумали, что женщина зажала его в руке, но это был носовой платок с запекшейся кровью.
— Доктор, неужели ты не сообразил ухо подобрать… — пристыдил меня заведующий.
— Да разве в таком хламе можно его найти?.. — попытался оправдаться я, потом сказал: — А во-вторых, не до уха мне было, кровотечение было сильным и надо было спешить.
И тут вдруг все это время молчавший Николай подошел ко мне и, достав из кармана завернутое в бумажку ухо, сказал:
— А вот оно. Я его случайно среди стекол нашел…
«Вот так Коля!..» — подумал я и после этого стал относиться к нему как к равному.
Поздней ночью я вез в больницу тяжелого больного с неснимающимся приступом бронхиальной астмы. Бедняга, как он хрипел. Ну а какая боль его мучила, трудно передать. Словно тисками зажата грудная клетка. Дыхание поверхностное и частое. Больной не надеялся на мою помощь, ибо прекрасно знал все лекарства, которые врачи возят во врачебной сумке. До этого у него дома я переколол ему все, что мог, но приступ удушья так и не снялся. Я сидел рядом и не знал, чем ему помочь. Единственное, что было в моих силах, это поторапливать водителя. На мои поднукивания он отвечал браво:
— Будет сделано… — и выжимал из «уазика» все, что мог. На улице была весна и уже вовсю текли ручьи.
Все как будто было хорошо, мы приближались к больнице. До нее оставалось семь километров. И тут вдруг, надо же такому случиться, при въезде в город прокололи колесо. Больной испугался, не менее испугался и я. Приступ у него усилился, и он, вдруг весь побледнев, обхватил руками грудь.
— Доктор, помогите… — прошептал он.
Я знал, что приступ бронхиальной астмы часто усиливается у чувствительных и впечатлительных людей, стоит им только понервничать. К такой категории людей относился и мой больной. Он испугался, что мы не довезем его до больницы и он умрет в нашей машине. Бронхорасширяющих средств в сумке не было, я их все переколол больному. И тогда, чтобы хоть как-нибудь облегчить ему страдания, я сделал промедол, строгоучетный препарат, но очень эффективный при снятии боли. Буквально через пять минут боль у больного прекратилась. Однако я знал, что через полчаса, когда действие препарата ослабнет, она вновь появится.
Приближался вечер, а вместе с ним и холод. Ручейки по краям прихватывало, и новый тоненький ледок красиво лоснился, отражая в себе тучевое небо и спину водителя. Расстелив фуфайку и став на нее коленями, он, пыхтя, откручивал болты на спустившем колесе.
— Как назло, домкрат заедает, — сказал он. — Масло подтекает, — а затем вдруг настороженно спросил: — Как больной?
— Приступ продолжается, но боль утихомирилась… — ответил я и начал помогать ему.
— Страшная болезнь… — чуть погодя сказал он. — У меня мать от нее умерла… На глазах, можно сказать, задохнулась.
Подложив камни под домкрат, мы кое-как приподняли машину и с трудом сняли спущенное колесо. Иногда, бросая помогать водителю, я, открыв дверцу в салоне, спрашивал больного, как у него дела. Но что он мог мне ответить? Он продолжал задыхаться. Воздух плохо шел ему в бронхи. И он все заглатывал и заглатывал его. Наряду с приступом бронхиальной астмы начала развиваться дыхательная недостаточность. Лицо и руки у больного посинели. Блеск глаз стал выразительным, он пугал, он настораживал. Смерть любит больных, которым врачи не помогают.
Покуда меняли колесо, мы потеряли больше получаса. Больному срочно был нужен ингалятор, бронхорасширяющий коктейль, кислород и все прочие процедуры и аппараты, которые только есть в стационаре.
— Доктор, скоро поедем? — с трудом спрашивает меня больной.
— Готово… — довольно произносит водитель и, ударив ногой по новому колесу, в сердцах добавляет: — Только, не дай бог, снова бы не проколоться… — И, не вытирая мазутных рук, сел за руль и лихо рванул с места.
— Долго еще? — то и дело спрашивал меня больной.
— Потерпите немножко… — успокаивал я его.
И вновь приступ боли охватил его. Промедола, сильнодействующего обезболивающего средства, у меня уже не было. Я сделал больному несколько кубиков анальгина, но он ему не помог. Стараясь успокоить его, я говорил ему теплые и нежные слова. Однако понимал, что больной в душе зол и на меня, и на водителя, да и на всю медицину из-за непредвиденного прокола колеса.
И лишь когда наш «уазик» подкатил к стационару, я с облегчением вздохнул. Прямо здесь же, в приемном покое, дежурные врачи начали проводить мероприятия по снятию приступа бронхиальной астмы. Были вызваны реанимационная бригада и заведующий бронхолегочным отделением. Больной остался жив.
Однако на следующее утро меня вызвала главврачиха.
— На каком основании вы сделали больному с бронхиальной астмой промедол? — строго спросила она. — Вы разве не знаете, что это строгоучетный препарат, мало того, он относится к ряду наркотиков…
— Я сделал это строго по показаниям… — попытался оправдаться я. — Кроме приступа бронхиальной астмы у больного был выраженный болевой синдром, а из-за боли в области легких и в бронхах, вы ведь сами знаете, в любой момент могла наступить остановка дыхания.
— У вас был для этого анальгин… — вспыхнула она. — Почему вы его не сделали?
— Я делал его, и не один раз… — сказал я. — В вызывной карточке отмечено…
Она покрутила карточку и, прочитав в ней все мои назначения, хмыкнула:
— Это надо же, промедол больному с бронхиальной астмой сделал. Да если, врачи подряд всем астматикам будут делать его, то наркотиков для других медицинских целей вообще не будет хватать… — И, опять строго посмотрев на меня, добавила: — Я работаю на «скорой» двадцать один год. И никто никогда еще не делал промедол таким больным. А астматики, я скажу вам, были у нас еще и похуже.
— Я сделал промедол строго по показаниям… — попытался я вновь объяснить. — У больного начался приступ болей, мало того, он нарастал…
— А я еще раз вам говорю, — вспыхнула главврачиха, — что астматикам промедол никогда не делается. Он показан лицам с запущенным раком или с сильными травмами. А вы промедол ввели совсем другому больному и не подумали, что списать эту ампулу никак нельзя. Из-за вашего халатного поступка мне теперь придется составлять проверочную комиссию, чтобы как следует разобрать весь этот ваш случай, мало того, придется ехать к больному и опрашивать его, действительно ли вы сделали ему промедол. Кроме всего, с этого дня я должна вас взять под контроль. Всех наставлений, что я вам сделала сегодня, мало. Все вызывные карточки после каждого дежурства вы должны приносить ко мне, и я буду их вместе с вами проверять на наличие правильности и обоснованности всех ваших медикаментозных назначений. А перед этим вам будут даны десять проверочных дежурств. Вот какие хлопоты вы наделали своим промедолом.
— Вы не правы… — попытался вновь возразить я. — Промедолом я облегчил страдания больного. Я ослабил приступ. И, не сделай его, неизвестно, жив ли бы он остался или нет.
— Меня не интересует ваш больной… — вспыхнула главврачиха. — Меня интересует промедол… А во-вторых, я уже говорила вам, что у нас его при бронхиальной астме никто не делал.
Спорить с главврачихой было бесполезно. Я в растерянности вышел из кабинета. «Выходит, лучше было бы, если не больной остался бы живым, а промедол…»
Своим ходом неделю назад привела мать-старушка в роддом. Передавая нам пакет с направлениями, просила и умоляла сохранить дочери ребенка.
— Разве можно быть бабе на земле без ребенка… — то и дело говорила она и, раскрасневшись, виновато поджимала губы и терла кулачком запотевший лоб. Дочь ее, белая, стояла рядом.
— А ты чего молчишь? — приглядываясь к ней, спросили доктора. — Ведь не матери придется рожать, а тебе.
Та в растерянности развела руками. И прошептала:
— Помогите, ради бога… — и заплакала.
А когда повнимательнее рассмотрели врачи все ее бумажки-направленьица, то поняли, что местные врачи направили женщину в роддом не для приема родов, а для прерывания беременности. Оказывается, она страдала тяжелым врожденным пороком сердца, что является противопоказанием не только для родов, но и для больших сроков беременности. В возрасте около года ей сделали первичную операцию по ушиванию сердечной перегородки. Через три года надо было сделать операцию вторично, но мать везти дочь в Москву отказалась, и вот теперь из-за этого ее дочь уже никогда не сможет испытать радость материнства. Мало того, что женщина истощена, но при прослушивании сердца определяется «ритм галопа», то есть сердце бьется очень поверхностно и часто — признак выраженной сердечной недостаточности.
— Ради бога, помогите… — просила она нас. И в глазах ее было столько жалости, что видавшие виды врачи терялись. Если пожалеть ее, уступить ее просьбе родить, то она умрет, а родится ли живым ребенок, это тоже под вопросом. А может даже быть и такое, что во время родов и она и ее ребенок окажутся мертвыми.
Завотделением ее успокаивает, и она, надеясь на него, заранее благодарит за помощь.
— Мне бы ребеночка… — шепчет она. Из-под подушки выглядывает красивая кукла, которую, оставила ей мать.
Всем нам хотелось ей помочь. Сочувствуя ей и чтобы снять с души грех, мы вызвали из Москвы профессора. Он внимательно осмотрел ее, выслушал. И когда собрался консилиум, с горечью сказал:
— Дальнейшее развитие беременности бессмысленно. Только немедленное, а точнее, срочное искусственное ее прерывание может сохранить женщине жизнь. А о ребенке не может быть даже и речи.
Под общей анестезией ей был сделан аборт. Когда она пришла в себя, то не знала, куда деть свой взгляд. Он был полон обиды на нас. На другой день пришла ее мать и, узнав обо всем, начала кричать на нас:
— Что же вы за врачи, если тяжелых родов принять не можете?!
Ей объясняли, доказывали, что все дело не в беременности и не в родах, а в сердце. А она все равно ругала нас, оскорбляла, пугала следствием.
— Идолы!.. — кричала она с презрением на нас. — Зачем сердце винить, если у вас не получается?..
В день выписки женщина вышла из палаты. Ее черные большие глаза были полны слез. Пальцами она то и дело перебирала прижатые к груди вещички.
Никто ничего ей не мог сказать. Все молча смотрели ей вслед.
У самого выхода она, оперевшись на стул, в каком-то испуге обернулась в нашу сторону и сказала:
— Мне муж сказал, если я не рожу ребенка, то он уйдет от меня… — и горько заплакала.
Неизвестно откуда появившаяся мать спешно заторопила ее. Она холодно отстранила ее. Постояв с минутку, медленно пошагала одна.
Глубокой ночью выезжали в гинекологию. Предстояла операция по поводу внематочной беременности, и мне велено было оказывать помощь в даче наркоза, раньше я прошел специализацию по анестезиологии. Женщина слабая, бледная, потеряла очень много крови. По моим подсчетам, не менее двух литров. Периферические вены у нее спавшие. Я с трудом выделяю вену, катетеризирую ее. Через нее быстро ввожу инъекционные обезболивающие средства. Затем ввожу препараты, расслабляющие дыхательную мускулатуру, чтобы после этого перейти на масочную подачу наркоза. Подношу маску к лицу. Проверяю наличие кислорода. Все нормально. Кислород есть. Включив аппарат искусственной вентиляции легких, нажимаю кнопку экстренной подачи кислорода. Вдруг вижу, женщина, захрипев, начинает синеть. Смотрю на шкалу дозиметра: поплавок, показывающий уровень кислорода, безжизненно завис на нулевой отметке. Все ясно, в системе неожиданно исчез кислород. В данной ситуации это трагедия.
— Доктор!.. — вскрикнула анестезистка. — Делайте «рот в рот», иначе она умрет… — и от испуга так затряслась, что задрожал операционный стол.
Препараты, расслабляющие дыхательную мускулатуру, действуют четыре минуты. Если я за это время не спасу женщину, она, умрет, и я буду виноват в ее смерти. Прежде чем дать наркоз, я должен был как следует проверить в системе кислород. Но ведь он только что был, а куда исчез, неизвестно. Ссылки на срочность ситуации неубедительны. Разве больная виновата в том, что ее привезли в гинекологию в тяжелом состоянии? Болезнь есть болезнь. И больница есть больница. И врачи в ней всегда должны быть готовы безотлагательно начинать борьбу за спасение человека.
Санитарка побежала за дежурным слесарем.
— Доктор, это не вы, это он виноват… — прокричала она мне напоследок.
Но разве больной от этого легче? Я начинаю делать дыхание «рот в рот», а она синеет пуще прежнего. Слабенькая она, да еще в придачу крови много потеряла. И, чтобы «завести» ее легкие, нужны силы, и силы немалые. Я стараюсь раздышать ее.
Хирург, чтобы хоть как-нибудь помочь мне, вместе с попавшейся в это позднее время выздоравливающей больной побежал на первый этаж за запасным баллоном.
В эти минуты я не думал ни о кровопотере, хотя больная продолжала кровить, ни об отсутствии пульса, меня интересовало, только дыхание.
Прошло две минуты, а результатов никаких. Закидывая голову назад, заглатываю как можно больше воздуха и со всей силы вдыхаю его в рот больной. Я устал. От статичности позы у меня начали болеть ноги, а от однообразных глотательных движений губы. В силу того что я мало оставлял для себя кислорода, у меня закружилась голова. А тут еще и анестезистка, чтобы поддержать меня, бегая вокруг стола, вскрикивала:
— Все, все, больше, она, наверное, не поднимется…
В операционной было прохладно. Но я готов сорвать с себя халат, до того мне жарко. Пот заливал лицо: Он солил и разъедал мне губы.
«Лучше бы я сейчас умирал, чем она…» — в каком-то ожесточении, граничащем с бессилием, подумал я. Вцепившись руками в край операционного стола, я продолжал вдыхать больной воздух. Вот уже самопроизвольно упала под стол и повисла в воздухе ее левая рука. Анестезистки рядом не было. Выбежав в предоперационную комнату, она, плача, вскрикивала по-бабьи:
— Ох, господи!..
Краем глаза смотрю на часы. Скоро будет пять минут. Осталось несколько секунд.
«После четырех минут заканчивается действие препаратов, расслабляющих дыхательную мускулатуру. И все мышцы, вновь сжавшись, должны помочь мне. Только бы не прозевать этот момент. Их сжатие, а моя подача кислорода должны «завести» больную, и тогда до оживления останется мизерный шаг…»
Я уже не замечал, как за моей спиной подключили запасной баллон. Как слесарь ругался и материл неизвестно кого. Он был в операционной в мохнатой шапке, на шапке был грязный снег, но хирург не ругался на него, он только просил:
— Скорее, скорее…
Когда прошло шесть минут и я уже совсем обессилел, женщина вдруг задышала сама.
Хирург успокаивал меня, хвалил. Анестезистка, что-то ласково шепча мне на ухо, заботливо растирала мне спиртом лоб. В руки дала несколько спиртовых шариков, чтобы я их нюхал, а я их уронил. Женщина, раздышавшись и придя в себя, поглядывала по сторонам и не понимала, что вокруг нее происходит.
— Готово… — сказал слесарь и, посапывая, приоткрыл редуктор на всю мощь. Шланги дернулись, кислород пошел. И маска, подтравливая, напряглась, поползла по скатерти вниз.
У нас не оставалось времени для рассуждений. Оказывается, кислород в баллоне, из которого питалась аппаратура, был, только почему-то не было его в трубопроводе, подходящем к моему аппарату. Так и не выяснив, в чем причина, пришлось взять кислород из запасного баллона, который был установлен тут же, в операционной, в метре от моего аппарата, и подсоединен, минуя трубопровод, напрямую.
Хирург быстро помылся. Операция ему была знакома. И он провел ее мастерски. Это его умение на некоторое время отвлекло меня от страха за случившееся, который продолжал держать меня. После операции, когда хирург, пригласив меня в ординаторскую, пошел готовить чай, ко мне зашла в предоперационную анестезистка и, испытующе посмотрев на меня, сказала:
— И зачем вам эта универсальность? Тем более анестезиология. Не знаю, как вас, но меня до сих пор всю колотит… — Она сняла косынку с головы и добавила: — Не знаю, как вы, но я с завтрашнего дня ухожу в поликлинику.
И слезы вдруг как хлынут из ее глаз. Еле успокоил я ее. Хотя мне самому так хотелось, чтобы меня кто-нибудь успокоил.
На другой день я взял у заведующего отделением недельный отпуск за свой счет.
А вскоре выяснилась и причина неожиданного исчезновения кислорода. Оказывается, внутри трубопровода, проходящего по больничному потолку, в труднодоступном, но продуваемом морозным ветром участке образовалась неизвестно от чего внутри влага, которая, моментально превратившись в ледышку, перекрыла доступ кислорода в мой аппарат.
Пришлось заново заменить и утеплить трубопровод. А по приказу главврача, на всякий случай, в предоперационной комнате был поставлен запасной баллон с кислородом. Ибо зима в то время была сорокаградусная.
Она приехала вечером, хотя все ее ждали с утра. Важные лица завалили звонками роддом, прося, чтобы все было сделано, как велено. Она поспешно вышла из длинной черной машины и, поздоровавшись с главврачом роддома, который тоже, как и все, дожидался ее с утра, деликатно поджала губы. А потом сказала:
— Пусть лучше мама с вами обо всем поговорит. Я устала. Да и тошнота меня замучила.
Мама была дама строгая, страшно влюбленная в себя и «вся из себя». Она; нервно пробуравив огненными глазами главврача, передала ему сложенную вдвое записку от какого-то «особого лица» и добавила:
— Здесь весь план действий… — И нежно притянув его к себе за пуговку на пиджаке, прошептала: — Обо всем этом никому ни слова. Не вздумайте сказать отцу. Если он узнает, сойдет с ума. Я сама, как видите, дрожу.
Ей было двадцать лет. И она очень была красива собой. Даже когда ее переодели в больничное и лицо ее стало рассеянно-удивленным, от ее тела все равно веяло какой-то необыкновенной упругостью и нежностью. Длинная шея и страстные пухлые губы говорили о том, что женщина она не простая, а таинственная. Не каждый имел право соблазниться на такую.
Она была студенткой. И не так велика была ее мама, как велик был папа. Говорили, что он был очень крупный военный начальник. Конечно, не радость, а горе привело эту девицу в наш загородный и, можно сказать, примитивный роддом.
Врачи и акушерки старались. Были введены лучшие медикаментозные средства. Ибо, чего греха таить, все мы прекрасно понимали, в какую сложную ситуацию попала эта молодая красавица. Если мы не поможем, кто же ей тогда поможет…
Главврач с ее матерью стояли за дверью родильного зала и, то и дело приоткрывая ее, настороженно смотрели на нас. Через полчаса лекарства подействовали, и начались роды. Беременная вдруг возбудилась, стала кричать, дергаться.
Наконец появился плод. Увидев его, мы так и ахнули. Родилась не мертвая, а живая девочка-мулатка. Она была недоношенная, голос был писклявый, и дышала быстро-быстро, словно в последний раз.
Ребенка увидела мать роженицы. Залетев в родильный зал без всякого на то разрешения, она закричала:
— Прикончите его сейчас же!..
Санитарки стали выводить ее из родзала. Тогда она кинулась к дочери:
— Кто отец?
— Его нет, — пролепетала та.
— Как?.. — удивилась мать.
— А вот так… — в огорчении хмыкнула дочь. — Их было несколько. — Как-то по-особому подчеркнуто произнесла она эту фразу, мол, она не с одним жила, а с несколькими, а нам показалось, что, использовав более звучную интонацию, она просто насмехалась над нами.
— Если отец твой узнает, он убьет меня… — захныкала мать. И, ссутулившись, вдруг сделалась очень жалкой и болезненной на вид.
Молодой роженице было все равно, случившееся ее не трогало. Она равнодушно смотрела на всех нас и не понимала, а может, не хотела понять, чего от нее все хотели.
Девочка-мулатка продолжала жить и через три часа, и через пять. Мы перенесли ее в палату для недоношенных. Здесь она пробудет ночь, а утром ее увезут в детский приемник.
Роженица уехала из роддома рано утром. С нами не попрощалась. Только мать ее просила и умоляла нас, чтобы мы ничего не сообщали ее отцу.
Через месяц я позвонил в приемник. Мне сообщили, что девочка жива и прекрасно себя чувствует.
Не всегда прекрасна врачебная работа. Бывают и горести.
Совсем недавно вызвали на дом ночью. Взволнованный голос сообщил по телефону:
— Спасите, человек погибает.
Узнав адрес, мы помчались что есть мочи. Когда едешь на такой вызов, то не до разговорчиков. Вся врачебная бригада напряжена. Внимателен взгляд и у шофера. Не отвлекаясь, он смотрит на дорогу, раскочегарив «уазик» на всю катушку.
Смотрю на часы. Полпервого ночи. В такое время только бы спать. Но ни о каком сне не может быть и речи. Образ умирающего человека перед глазами будоражит, зовет к себе, и ты полон желания спасти его.
Я оглянулся. Санитар и молоденький фельдшер ошалело смотрели на дорогу. «Скорее, скорее!..» — торопил их взгляд.
Наконец нужный дом. Мы все втроем поднимаемся на третий этаж. Нажимаем кнопку звонка. За дверью слышны пьяные возбужденные голоса. На некоторое время они утихают. Дверь открывается, и на пороге появляется женщина. От нее пахнет спиртным. Как-то неохотно пропускает она нас в комнату.
— Вызывали?.. — спрашиваю я. Но никто не отвечает. В комнате дым, полумрак, электрическая настольная лампа еле горит. Весь стол в бутылках.
— С кем плохо?.. К кому вызывали?.. — спрашиваю я. А женщина стоит в каком-то испуге и дрожит. Вдруг из-за перегородки, придерживая рукой живот, выходит мужчина.
— Помогите… — прохрипел он. — Сын в живот ударил, а за что, я сам не знаю…
Он прижимает рану рукой, а кровь все равно вытекает струйкой. Осмелев в нашем присутствии, он прокричал:
— За что собрался резать, за что-о-о?.. Отец я тебе или нет…
Я быстро уложил мужчину на диван и начал осматривать рану. Фельдшер раскрыл сумку, достал вату, зажимы. И только водитель спросил меня о носилках, как из-за перегородки вышел по пояс голый верзила.
— А ну, кыш все за борт… — И, взяв меня за плечо, оттолкнул. — Если сейчас же не исчезнете, я всех вас переколю…
И преступление сделать ему сущий пустяк. Больной и женщина безмолвствовали, видно, сами не на шутку перепугались случившимся. Рана у больного кровила.
— Я приехал оказывать помощь!.. — заорал я на парня. — И вы не имеете права препятствовать мне в этом.
— А я говорю, катись ко всем чертям, — разозлился он и схватил со стола огромный нож-тесак. — Считаю до трех, если не исчезнете, то я вас всех кокну…
Фельдшер с водителем выбежали из комнаты, да так лихо, что дверь захлопнулась. Видя, что я не ухожу, парень пошел на меня с ножом. Я начал отступать. О больном не могло быть и речи. Главное спастись самому. Парень в два раза выше меня ростом, в три раза шире в плечах. В руках окровавленный нож, видно, он несколько минут назад ударил им отца.
— Вы не имеете права этого делать!.. — кричу я. Криком я хотел взять его на испуг. — Я к вам не по своей воле приехал, вы сами же меня вызвали.
Он, пошатываясь, идет на меня. В правой, напряженной до белизны в пальцах руке торчит острый нож. Вот он уже в трех шагах от меня. Я прижат к двери. Правым плечом ощущаю замок, но боюсь открыть его, ибо, если повернусь к нему спиной, он меня точно ударит. И тут я, находясь в состоянии предсмертного страха, не на шутку взрываюсь.
— Ах, черт возьми!.. — взвизгиваю я и, схватив недалеко от меня стоящую табуретку, первым кидаюсь на парня и со всей силы ударяю его по лбу. Он, видимо, не ожидал такого «выхода» с моей стороны. Его все боялись до этого, а я вдруг взял и напал на него, и удар мой, как ни странно, оказался для него очень чувствительным.
— Да ты что? — прокричал он в страхе и, выпустив из рук нож, грохнулся у моих ног.
Он был оглушен, но не менее был оглушен и я. С трудом открыл я дверь, с трудом спустился к машине. Навстречу мне бежали фельдшер и водитель.
— Жив… — в каком-то испуге прошептали они. — А мы милицию вызвали. Те его знают, он рецидивист.
Оперевшись на плечо фельдшера, я с трудом прошептал:
— Иди останови кровотечение… двумя зажимами… сосуд виден… передави. — И, потеряв сознание, упал на асфальт.
Как после рассказали мне на станции, фельдшер, молоденький парнишка, не поднялся на третий этаж, он принялся приводить меня в чувство. Водитель вызвал вторую бригаду, и те вместе с подоспевшей милицией поднялись в квартиру, остановили кровотечение у мужчины и госпитализировали его. А парень как лежал у двери, так и продолжал еще долго лежать. Табуретка то ли от моего удара, то ли от его лба рассыпалась вдребезги.
Мне объявили на «Скорой» благодарность за самоотверженность. А в милиции через месяц вручили ценный подарок, оказывается, этого рецидивиста несколько лет искали и не могли найти. А я мало того что нашел его, но и обезвредил. Такой вот горький случай произошел со мной на «Скорой».
Молоденького вихрастого машиниста мы взяли со станции ночью. Говорят, поначалу он был в сознании, но потом, когда потерял много крови, оно пропало. Шел мелкий дождик. И он, переходя железнодорожные пути, поскользнулся. А в это время с горки спускался пустой вагон. В шуме дождя он не заметил его.
Прибыв на место происшествия, я остановил кровь наложением жгутов и кроме сердечных средств сделал ему все обезболивающие, какие только были в моей сумке.
Такие травмы очень тяжелы. Люди, и даже станционные работники, в испуге смотрели на нас со стороны, боясь подойти поближе. И лишь когда мы погрузили его на носилки и прикрыли окровавленные, вывернутые по сторонам ноги плащом, к нам подошли двое в форме станционных начальников. Один из них в растерянности спросил:
— Жить будет?
На что шофер, опередив меня, прокричал ему:
— Что же вы не помогаете?.. Человеку ноги оторвало, а вы даже жгута не наложили. А ну, берись за носилки.
— А мы думали, что он уже все… — пролепетал второй и, ухватившись за носилки, стал помогать нам. Фуражка упала с его головы, и он не поднял ее.
— Думал, думал! — опять прокричал на него шофер. — А человек живым все это время был. И вы, вместо того чтобы помочь, дожидались, когда он умрет.
Дождь усилился. Он шуршал по одежде. Заливал лица. Мы торопились как могли. До машины метров сто. И хотя я на весу держал капельницу, обезболивающих средств у меня больше не было. А болевой шок, от которого часто умирают такие больные, мог начаться в любую минуту. Да и кровопотеря была чувствительной.
Я торопил всех, мне жаль было парня, он был еще такой молодой.
— Пожалуйста, простите… — пролепетали почти хором станционные начальники, как выяснилось после, это были дежурные по станции. — Если бы знали, разве не помогли.
Шофер шел первым. Мускулистая его спина, обтянутая рубахой, бугристо вздрагивала и парила. Руки были в крови. Он помогал мне накладывать жгуты. И времени, как всегда в таких случаях, не было, чтобы смыть кровь. С плеч вода стекала на руки и вместе с новыми влившимися дождевыми каплями растворяла в себе кровь, делая ее при фонарном и лунном свете мутной и ржавой.
— Бог простит… — прохрипел он и, выругавшись, добавил: — Если уж родились мужиками, так и будьте ими.
Наконец мы у машины. Шофер, опустив на землю носилки, открывает заднюю дверь. С помощью все тех же начальников загружаем парня в салон. Носилки немного перекосились, и спекшаяся кровь вместе с дождевой водой обдала одного из начальников. Он упал.
— Обморок!.. — прокричал водитель.
Я быстро достал нашатырь из сумки, протер ему виски и поднес к носу. Секунд через пять мой новый пациент зашевелился, потом, чихнув, открыл глаза. Я быстро нащупал его пульс. Он был нормальным.
— Если что случится, вызывайте «скорую»… — сказал я его товарищу и, оставив необходимые медикаменты, побежал к «уазику», который водитель привел в боевую готовность.
— Я думал, он действительно помощничек. А он при виде крови чуть было не помер, — вздохнул водитель и, удостоверившись, что я закрыл за собой дверь, включил мигалку, и мы что есть мочи понеслись в стационар, который находился в десяти километрах. Подвешенная капельница болталась из стороны в сторону. Чтобы игла не выскользнула из вены, я как следует прижал ее лейкопластырем и для страховочки прибинтовал к локтевому сгибу. Больной не приходил в себя. Но не это волновало меня. Я знал, что парень останется без ног. Размозжение было очень мощным, почти все магистральные сосуды лопнули и затромбировались, кости раздробились.
Когда я привез парня в приемный покой, дежурный хирург, ни о чем не спрашивая меня, быстренько приподнял плащ и, бегло осмотрев ноги больного, приказал медсестре:
— После определения крови срочно в операционную… Заодно позвоните анестезиологам, пусть готовятся к ампутации. — И, сказав все это, с грустью посмотрел на меня: — Хоть он и молоденький, а побороться за него придется. Уж больно много крови потерял. Да и как бы гангрена не началась.
Санитарки и медсестры завозились возле больного. Хирург, стараясь выглядеть мужественно, прямо тут же в приемном закурил.
Мы с водителем переживали за парня. Ведь он всего три месяца назад женился, и вдруг такая травма.
Врачам на операции пришлось повозиться. Два раза останавливалось у него сердце. Три раза делалось ему экстренное переливание крови, Ампутация обеих ног операция хотя и не сложная, но запоминается надолго. К утру больной пришел в себя. Рядом с ним были отец и мать. Они ухаживали за сыном и тогда, когда его привозили из операционки после второй и третьей дополнительных ампутаций. Неизвестно откуда появившаяся гангрена захватила ткани, и, чтобы избавиться от нее, приходилось ампутировать и здоровые ткани бедра.
Я как сейчас помню его. Лицо мужественное. Глаза простые, без всякой утайки. С особым нетерпением он все кого-то дожидался. И очень часто прислушивался к шагам в коридоре, к звукам и шорохам за палатным окном.
— Мамань, — часто шептал он матери. — Если бы ты знала, как обидно. И надо же мне было на таком месте упасть…
— Не волнуйся… — любовно успокаивала та его, но скорбь все равно, как ни прятала она ее, проступала на лице.
День и ночь ему ставились капельницы. Через тоненькие пластмассовые зонды в места ампутаций вводились антибиотики. Почти каждый день в вену вводились медикаментозные средства, предотвращающие тромбообразование, частый бич больших ампутаций. Парня и морально поддерживали как могли. Хвалили за мужество, успокаивали, уверяли, что все наладится, а главврач пообещал даже раньше времени договориться с протезным заводом, чтобы ему сняли мерку. Но, увы, парень все равно был грустен.
Наконец пришла Нина, его жена. Модненькая, хрупкая, какая-то вся нервная. Все вышли из палаты, решив оставить их одних. Однако парень не мог ее встретить, он после обезболивающих крепко спал. Но она не зашла в палату. Всего минуту постояла у порога и, бегло посмотрев на туго забинтованные культи обеих ног и ничего не сказав ни врачам, стоявшим недалеко, ни родителям, жадно ловившим ее взгляд, ушла из больницы и больше к нему никогда не приходила. Как выяснилось после, она бросила парня. По долгому отсутствию жены он, видно, все понял сам. Внешне оставался мужественным. Хотя чувствовалось, что волновался как никогда сильно. Врачи ему назначили двойную дозу обезболивающих и успокаивающих средств, но они, что очень редко бывает в медицине, не помогали ему.
В день выписки, когда он прощался со всеми, слезы стояли в его глазах.
— Не волнуйся, сынок… — успокаивала его мать. — Ты никого не убил… А горя у кого не хватает… — И, прижимая платочек к щекам, свободной рукой держалась за сынов костыль.
Врачи были в трансе. Сколько они промучились, сколько они отдали сил, чтобы спасти парня. И невзирая ни на что, они его вылечили. Но кто вылечит его душевную рану, которая намного страшнее и тяжелее травмы физической?
Заболели у нас сразу два водителя. Чтобы машины не простаивали, главврач попросил с хлебокомбината, он находился рядом со «Скорой», двух шоферов для временной подмоги. Мне пришлось ездить с маленьким вихрастым парнишкой. Звали его Федей. Чудной он был, все как-то сторонился меня.
Вызов, бывало, обслужим, приедем на станцию, а он в комнату отдыха, предназначенную специально для шоферов, не идет, а сидит в кабине, книжку читает или газетку просматривает.
— Что с тобой?.. — спросил я его. — Почему всех сторонишься?
— А зачем мне с вашим народом дружить, если я есть временщик, — буркнул он. — Недельку поработаю с вами, а потом опять на хлебокомбинат уйду. Меня на линию ставят, хлеб вечерами развозить.
А один раз, когда мы возвращались с тяжелого вызова, я спросил его:
— Ты, наверное, раньше думал, что больных возить сущий пустяк?
— А мне все равно кого возить, — спокойно ответил он. — Только бы машинка тянула. А насчет жалости, мне и хлеб, и больных одинаково жалко. Все ведь так взаимосвязано.
Он был крепкий, жилистый парень. Водил машину легко и умело. В городе знал все потайные дороги, и благодаря его дорожным «секретам» мы на некоторые дальние вызовы вместо двадцати минут добирались за пять.
Но вот, гляжу, приболел он. То и дело кашляет и не успевает носовые платки менять, видно, насморк крепко его мучил. Я предложил свои услуги.
— Федя, разреши, я твои легкие прослушаю…
А он:
— Ну уж нет, как-нибудь сам обойдусь. Подышу над картошкой, мать-и-мачеху заварю.
— Ты не прав… — возмутился я. — Как так можно заниматься самолечением, если не установлен точно диагноз?
— А вот так… — вдруг в какой-то грусти усмехнулся он и добавил: — С вами, медиками, нельзя дружить.
— Да ты в своем уме? — возмутился пуще прежнего я.
— А как же, слава богу, еще не заговариваюсь… — спокойно произнес он. И, откашлявшись, отвернулся от меня, не желая, видно, разговаривать. «Что-то непонятное с парнем происходит…» — подумал я. Но когда мы прибыли на станцию, я вновь, как прежде, начал настаивать на обследовании его легких и обязательном осмотре. А он опять в ответ:
— Я без вас, сам выздоровлю…
— Что за дикость… — возмутился я не на шутку. — Ты что, сектант?
А он меня вдруг резко как оборвет:
— Хватит. Здоровье есть мое личное дело. Как захочу, так им и распоряжусь… — А потом в каком-то новом приливе злобы оттого, что его потревожили, он, побледнев, прижал руки к груди и взволнованно-исповедальчески заговорил:
— Аллергия у меня к врачам, понимаете ли вы это или нет, аллергия. А во-вторых, я уже говорил, что с вами, медиками, нельзя дружить. Сколько я ради вашей заботливости горечи пережил, одному богу известно… И наказывал себе я не один раз ни в коем случае не связываться с вашим братом. Так нет же, наоборот, к врачам лез, словно кто меня в спину подталкивал. Один раз приехал к нам на хлебозавод хирург за изюмом. Разговорились. Я попросил его левое колено мне подремонтировать. У меня работенка, сами ведь знаете, не шуточная, по целым суткам то и дело педали приходится нажимать. А как их нажимать, если с каждым годом сустав костенеет и движения ограничиваются. Он согласился меня прооперировать. Я думал, выпишусь от него через месяц, а выписался через год. Он мне такую операцию сделал, что у меня ногу вообще заклинило. После него мне шесть операций сделали, ох и намучился я.
Два года назад подселили ко мне на площадку врачиху-терапевта. Подружились семьями. Стала она по-дружески наблюдать меня. Все делает любя, соседка все же. Я ей хлебца свеженького, а она мне давленьице измерит, сердце послушает. Короче, лучшего врача не встречал. И все бы хорошо было. Но вдруг в одну из весен она заявляет мне: «У тебя, мол, Федя, кровоточащая язва желудка начинается, и тебе, мол, надо срочно оперироваться. Иначе…» — и так смотрит на меня, словно я вот-вот должен умереть. Растерялся я. Домой прибежал, жене рассказал. И запаниковал. Открытки от врачихи с направлением на операцию дождем сыпались на меня. Наконец насильно привезли меня в стационар. Жена расписку дала, что, мол, не возражает против удаления моего желудка. А сам я возразить не могу, потому что под уколами нахожусь, притупили они мою волю, боятся, вдруг я убегу. За время нахождения в стационаре три раза меня поднимали в операционную, и все три раза операцию откладывали, то ли диагноз не подтверждался, то ли расхождения в анализах какие-то были. Короче, с язвой непрооперированной я до сих пор хожу.
А полгода назад пришла к моей соседке подруга-невропатолог, познакомился я с ней. А на следующий день меня скрутил такой радикулит, что я два месяца пролежал в неврологии, а потом еще месяц с палочкой в поликлинику ходил. Совсем недавно по пути на работу подвез стоматолога. Познакомился. Парень ушлый, бойкий, все время смеется. Я помог ему машину отремонтировать. И вдруг на следующий день после ремонта зуб у меня как заболит. Я к нему. А он вместо больного здоровый зуб вырвал и лишь после этого для профилактики вырвал и больной. Двух зубов лишился. Раньше я хлеб обеими сторонами жевал, теперь одной. Вот такие-то дела, — и, вздохнув, он хрипло добавил: — Нельзя с вами, медиками дружить, плохая это примета…
Легкие его шумят. И он не успевает вытирать свой нос платком. Я ничем не могу ему помочь. Мне жалко парня. Стараюсь его переубедить, объяснить, что все то, что с ним произошло, чистая случайность. Но он не поддается моим уговорам. Так и расстались мы с ним, он больным, я здоровым.
Через недельку, обслуживая вызовы уже совсем с другим шофером и находясь недалеко от хлебокомбината, я заехал к Федьке. Его крытый грузовик загружали хлебом. Он, стоял рядом и все так же, как и прежде, кашлял.
— Федя… — окликнул я его.
Вздрогнув, он посмотрел на меня, но сделал вид, что не узнал. Понимая, что он болен, я подошел к нему.
— Федь, ну как?..
А он вдруг в какой-то злости как крикнет:
— Помирать буду, а к врачам больше никогда не обращусь, — и отвернулся. Так я и уехал ни с чем.
Он приходит на «Скорую», чтобы ему сделали сосудорасширяющий укол. В городе его все зовут человеком, который пережил всех. Он «патриарх», возраст его приближается к сотенке. Годы и время скрутили его в вопросительный знак. Голова и шея подались вперед, и он не может ими двигать из-за огромных окостенений позвоночника, сильно сгорбативших спину. Волосы на голове у него седые, борода серебристая, а мохнатые брови, наоборот, темные, как уголь. Они красиво очерчивают запавшие внутрь глазниц бесцветные глаза. На улицу он не выходит, а все время сидит в тени на крылечке дома. И, наверное, от этого его кожа, много лет не видевшая солнца, молочная, а мышцы недоразвитые, детские. Он следит за своим туалетом и денег на одежду не жалеет. Вот и сегодня явился в новом костюме и при модном широком галстуке, в простонародье называемом «селедкой». Бородка у него аккуратно расчесана, для особого приличия он то и дело достает из кармана пахнущий духами носовой платок и протирает им лоб и виски. Зубы у него золотые. И когда он открывает рот, то все забывают, что ему скоро девяносто, — блеск золота удивительно молодит его.
Он знает свои болезни, знает, чем их лечить. Достав из кармана нужное лекарство, всегда по нескольку раз убедительно просит сестру как следует протереть спиртом место укола.
Его любят на «Скорой» и уважают. И втайне завидуют, что вот, мол, ему повезло — столько лет на земле пожить.
— Дедушка?.. — сделав укол, спрашивает его медсестра. — А у вас дети есть?
— Детей нет, одни правнуки… — бодро отвечает он, благоухая свежестью.
Многие врачи удивляются его чистоплотности. Ведь в этом возрасте многие старички расслабляются, в одежде становятся неприхотливыми, а этот форсит, да не просто форсит, все сверкает на нем и горит.
— И как же вы себя в таком возрасте обслуживаете? — удивленно спрашивают его врачи.
— Очень просто… — отвечает он. — Руками… — И с улыбкой добавляет: — Они, эти ручки мои, и обстирывают меня, и кормят, и поят… Только они, родненькие, и ухаживали за мной все эти годы. Они спасли меня на фронте от смерти. Если бы вы знали, как я благодарен им… — и, расчувствовавшись, он целовал их.
— Дедушка, поделись секретом, как и нам столько прожить?.. — улыбаются молоденькие сестрички. Хрупкие они на вид, но трудяги отменные.
Старичок непринужденно усмехается. И, поправив галстук, с ходу отвечает:
— Положа руку на душу, скажу вот что… В жизни надо так жить, чтобы никогда не болело у вас сердце по каждому жизненному пустяку. То есть не надо умножать и развивать в себе, будь то чужое, будь то свое, горе. Я вот, например, как жил… В пятнадцать лет лишился отца и матери, голод их съел. Особо не тосковал по ним, подумал, поразмышлял и решил: так и должно быть, смерть есть смерть и никуда от нее не уйдешь… В двадцать лет женился, первый ребенок мой утонул в реке, перекрестил я его, похоронил. Затем и жена умерла, я и ее без слез похоронил… Зачем переживать? Подумал, поразмышлял, всем ведь умирать. Вот я и преспокойненько живу всю жизнь, потому что не принимаю к себе чужого горя. Злятся на меня почти все соседи — вот, мол, все его ровесники и родственники умерли, а он, черт, живой. Да пропади все пропадом, я один раз на земле живу, буду я еще через кого-то расстраиваться. Была бы жизнь вечной, другое дело… А времянка есть времянка. Сегодня ты жив, а завтра тебя нет. Если душа будет в чистоте сохраняться и от переживаний охраняться, то каждый человек может преспокойненько прожить до ста лет… Так что, детки, вот вам мой совет: не приумножайте в себе ни свое, ни чужое горе… — И, с солидностью крякнув, старичок взял свою палку и пошагал домой.
Притихли после этих слов врачи и медсестры. Да и что же это за жизнь без переживаний, без волнений, без любви к ближнему, без добрых дел. И что это за врач, который не умножает в себе чужое горе. Каждый день он встречается с больными людьми и за каждого переживает, страдает. Человек должен жить не для себя, а для других.
Была полночь, и после операции я устал. Перед заполнением операционного журнала решил прилечь на кушетку. Спать не хотелось, но тело все ныло, и кратковременным отдыхом я надеялся снять усталость. Вентилятор приятно жужжал. В приоткрытое окно ночной ветерок неслышно влетал в ординаторскую и освежал ее. Я находился в полудреме, хотелось полностью отключиться от всего на свете. Но этого не удавалось мне сделать. В больнице, а тем более в хирургическом отделении, где всегда очень много тяжелых больных, слышны шорохи, стуки, звоны, крики, стоны. Санитарок нет, и медсестры, а иногда и родственники ухаживают за больными.
— Доктор, можно позвонить?.. — и, не дожидаясь моего ответа, а если честно сказать, я и не хотел ждать этот ответ, в ординаторскую очень медленно, прихрамывая на правую ногу вошла внешне очень симпатичная женщина. Белый халатик с отделенческим штампиком у ворота говорил о том, что она больная. Мне некогда было присматриваться к ней. Скорее бы ушла усталость, а там пропади все пропадом. И я как можно равнодушнее произнес:
— Пожалуйста, звоните… — и закрыл чуть было приоткрывшиеся глаза.
Свет в ординаторской горел. И поэтому не темнота была перед моими глазами, а буро-красное поле, такого цвета, наверное, была кровь моих век.
Как ни откидываю в сторону мысли, а они все равно лезут. Вспоминалась операция. У больной были камни желчного пузыря. Они так сдавили окружающие ткани, что пришлось пойти на удаление пузыря. Пять часов длилась операция. И два раза по ходу ее пришлось переливать кровь. Омертвение соединительной ткани передалось на крупные сосуды, и они рвались и кровили. Пришлось перевязывать их, но узлы тут же слетали. И хотя все это позади, ход операции не забылся. Он стоит в голове, создавая тревогу. «И долго я еще буду присужден к этой операции?..» — вздохнув, я чуть приоткрыл глаза. Поле зрения, огражденное частоколом ресниц, было небольшим. Я видел, как указательный женский палец торопливо набрал номер. Прошло примерно около двух минут, никто не отвечал. После некоторых пауз, положив трубку, затем вновь поднимая ее, женщина торопливо продолжала набирать все тот же номер. И как только я увлекся этим наблюдением, как операция тут же забылась, а вместе с этим и усталость понемногу стала притупляться. «Какие знакомые руки…» — до лица же я не мог добраться: для этого мне надо было приподняться, что делать не хотелось. Наконец телефон ответил. И она обрадованно произнесла:
— Сынок, это ты?.. — А потом как-то взволнованно: — А где дядя? Ушел?.. Как ушел… Когда придет, ты скажи, что меня прооперировали, пять часов шла операция. Все хирурги были в мыле, а я, слава богу, ничего. Вот даже позвонить решилась…
Я вздрогнул. Вновь, как и прежде, ход операции стал прокручиваться в голове.
— Что будет завтра, не знаю… — продолжала она более спокойно. — Вещи в субботу вы с Ваней привезите, я вместе с вами убегу. Перевязки можно и в поликлинике делать. Самое главное, камни удалены. Слабость, конечно, и муторность есть, но я терплю…
И тут кто шилом меня кольнул. Я вскочил с кушетки и всмотрелся в звонившую женщину. Да, это была она, та самая, которую я три часа назад с горем пополам прооперировал. Поначалу у меня не мог повернуться язык. Трудно было даже представить, чтобы человек после такой тяжелейшей операции мог без всякого труда встать и пройти десять метров, такое было расстояние от ее палаты, не говоря уже о том, чтобы в данную минуту стоять и звонить. Все в моей врачебной жизни было, но такие чудеса в первый раз встречал. Я растерянно прошептал:
— Вы?..
А потом, придя в себя, но еще продолжая оставаться в превеликом волнении, прохрипел:
— Вы в своем уме? Операция только что закончилась. А вы, вместо того чтобы лежать, нарушили строгий постельный режим. У вас после этого может быть шок, обморок, расхождение швов, отрыв тромба, и тогда вас никто не спасет.
Стараясь не обращать на меня внимания, она что-то нервно-торопливо сказала в трубку и мужественно, а точнее, отчужденно посмотрела на меня. Лицо ее побледнело.
— У меня двое детей. Один в первый класс ходит, а второму три годика. Отец им неродной. Вот я и решила узнать, как они там…
— Да при чем здесь они?.. — взорвался я. — Разговор идет о вас. Как вы смели нарушить режим?.. Я еще раз вам говорю, что такое ваше поведение может в любой момент привести к смерти. И уж тогда вы никогда не узнаете, как они там.
— Доктор, да они ведь без меня и дня не смогут… — отрешенно прошептала она и, вдруг обхватив живот, согнулась. Скривив губы, затравленно посмотрела на меня и заплакала. Видно, обезболивающие средства перестали действовать и приступ боли, что бывает почти всегда после таких операций, охватил ее.
Я вызвал постовую медсестру и с ее помощью кое-как довел больную до палаты. У нее не было сил говорить. Не успели мы уложить ее, как страшный озноб охватил ее. Пришлось срочно сделать обезболивающие и противошоковые средства, поставить капельницу. Я боялся за расхождение швов Но при осмотре успокоился, рана была в порядке.
— Позвоните к ним утром и узнайте, пришел он или нет… — шептала она и мне и медсестре. — А то, не дай бог, уйдет…
Чувствовалось, что обезболивающий укол начал действовать. И едва заметная поначалу, вынужденная улыбка на ее лице постепенно стала более естественной. В душе женщина, наверное, счастлива была как никогда, ведь, невзирая ни на что, она смогла поговорить с детьми и успокоить их. Удостоверившись, что состояние ее улучшилось, я вернулся в ординаторскую. Но ни спать, ни отдыхать не хотелось. Перед глазами была больная с непонятным и недоступным беспокойством. Через несколько минут вошла медсестра. И, словно понимая меня, сказала:
— Материнское сердце любую боль переломит… Себя поранит, а ребеночка пожалеет…
За окном сказочно сияли звезды. Вечер был как никогда приятен и свеж. И операция, и ее план — все вдруг забылось.
Вечером пришел на дежурство. И не успел переодеться, как в ординаторскую вбежала медсестра. Глаза выпученные, вся дрожит.
— Максим Иванович, ваш Переверткин бушует, бросается на больных. Вы его отпускали, чтобы он съездил на работу отвез больничный, а он…
Кто-то громко позвал ее из коридора, и она выбежала. Сестры в работе обычно не признают официальность, поэтому говорят врачам не больной такой-то, а ваш. Как говорят «ваши дети», «ваш отец». Словно он на самом деле твой родственник. Хотя, по идее, врач и больной в лечении болезни должны быть родственниками, так легче побеждать болезнь.
Я быстро бегу по устланному синим линолеумом межпалатному коридору к двенадцатой палате, на ходу представляя, как я буду усмирять Переверткина. Он, видно, услыхал мои шаги и вышел из палаты. Глаза мутные. На лице равнодушная улыбка. На улице нет дождя, а он почему-то одет в плащ, на голове шляпа, которая сидит боком, готовая вот-вот упасть. В руках сеточка с вещичками. Он, наверное, знал, что я его выпишу за нарушение больничного режима, и дожидался меня лишь для того, чтобы получить необходимые документы.
— Максим Иванович… — пролепетал он улыбаясь. Шляпа упала с головы, и он, пошатываясь, поднял ее.
— Я вас отпустил как человека… А вы…
От него несло одеколоном. А когда он поворачивался или наклонялся вперед, в карманах звенели пузырьки.
— Сумасшедший, ведь у тебя опять может развиться отравление… — И, взяв его под руку, повел в ординаторскую.
Месяц назад он поступил к нам с тяжелейшим отравлением, выпив шесть флаконов жидкости, предназначенной для чистки стекол. Неделю находился в реанимационной палате, затем его перевели в терапию. Но, вместо того чтобы сделать для себя надлежащий вывод, он начал пить одеколон.
В ординаторской свежо. Окно открыто, и запах одеколона очень резок. Он садится в кресло, понуро опустив голову. Я торопливо подготавливаю документы к выписке.
Уставившись в пол, он бормочет:
— У меня не отравление было, я просто надорвался. Мы вагон разгружали с лесом. А начальник станции взял и обидел нас. Своим железнодорожникам заплатил по пятнашке, а нам, чужакам, по червонцу. Где же справедливость… Ох и злость же меня взяла. Чтобы не ударить его, я взял и толстенное бревно с земли поднял, вот у меня желудок после этого и опустился. А отравления быть не могло. Я ведь раньше скипидар пил, и ничего… И древесный спирт с этикеточкой «яд» мы, как молоко, прямо из горла. И ничего… Голова, правда, опосля раскалывается, искрит, словно гробовой доской пришибло. Мне и Ефремовна, лекарка наша, тоже сказала, что у меня не отравление, а опущение… Она врать не будет, я ей за правду четвертак дал. А вы отравление придумали. А чтобы перестраховать себя, к смертникам меня сунули, словно я беглый какой…
И умолкнув, как-то тревожно смотрит на меня, а затем, крикнув:
— Я такой человек, если работать, так работать… — и встав с кресла, он, приподняв руки над головой, показывает, как он тянет бревно. Но, не удержавшись, падает на пол, корчится в судорогах и хрипит так, словно кто ему гортань сдавливает. Оставив бумаги, подбегаю к нему. Фонендоскопом прослушивая сердце, одновременно определяю частоту пульса. Он напряжен и учащен. «Опять начинается интоксикация…» — быстро заключаю я. Вызвав медсестру, препровождаю больного в процедурную палату, где ему вновь придется делать дезинтоксикационные уколы и ставить капельницу. Потребуется кислород, ибо дыхание у больного не в меру быстро учащается. Больной лежит на кушетке вытянувшись. Плащ и пижаму медсестра с него сняла, и он по пояс голый. Находясь в сознании, наигранно смотрит на нас и смеется.
— Рано меня, доктор, выписывать, да и ни к чему…
— Да помолчите вы… — одергивает его сестра. — Людей пожалейте. Тихий час, а вы шумите…
Он не слушает ее. Мне кажется, что он не чувствует и уколов, его тело не вздрагивает, когда я прокалываю кожу и вхожу в вену.
Почти все алкоголики, когда прилично выпьют, становятся крайне дурашливыми. Вот и Переверткин сейчас такой же.
— Все это ваше лечение чепуха… Главное мое желание. В том, что алкоголик, грешен сам. Руки мои золотые никаким трудам не брезгуют. Поставьте на стол пять бутылок водки, она мне нипочем. Но стоит мне только намочить губы, как я сразу же кончаю донышком… А после донышка так завожусь, что могу выпить любую жидкость, пахнущую спиртом. Куда меня только не посылали лечить, и почти все в один голос заявляют, что я неизлечим… У меня мозговые извилины специально на алкоголь настроены. Так сказать, аллергия к трезвости. Если водку выпускают, значит, кто-то должен ее пить. А на работе меня держат за то, что я грузчик безотказный. Могу грузить и разгружать вагоны в любое время суток, и в дождь, и в грязь. Даже когда я в запоях, ко мне начальник станции приходит, и просит, и умоляет, чтобы я поскорее на работу вышел… Народ сейчас чистенький, погрузочно-разгрузочные работы ненавидит, считает, что в этом труде много пережитков прошлого, а если точнее выразиться, содержит в себе элемент рабства…
— Ну ты и загнул… — фыркнула на него медсестра. — Пропащий человек, а рассуждаешь… — И бегло сказала мне: — Надо жену позвать, пусть за ним сама ухаживает, а то от его говорильни с ума сойдешь.
На что Переверткин ляпнул:
— Жена есть бревно, которое всегда надо вовремя распиливать, иначе сгниет оно…
Медсестра мрачно посмотрела на него, но ничего не сказала. Ей неприятно было подсоединять капельницу человеку, который был во хмелю и который, вместо того чтобы молчать, нарушал больничные законы и выступал, стараясь создать о себе представление как бог весть о ком.
— Доктор, как думаете, можно его вылечить?.. — тихо спросила сестра.
Я устало присел у окна. Снял с головы шапочку, расстегнул на груди халат. Она в скорби дожидалась от меня вопроса. Видно, ей тоже жаль его. Когда Переверткин трезв — душа человек. Всем помогает в больнице, ходит в палаты к тяжелобольным, читает им книги. И почти все свободное время пропадает на пищеблоке, там погрузочно-разгрузочных работ уйма, а это ему нравится.
Медсестра дожидается ответа, а я и не знаю, что и сказать. Больной хотя и пьян, но приутих и насторожился.
— Все зависит от его желания, он ведь сам так сказал… — тихо отвечаю я, а про себя думаю: «Видно, не зря люди говорят, что в водке утонуло больше людей, чем в море…»
Больной начинает хохотать и дурачиться. Медсестра, с трудом сдерживая себя, выходит из палаты.
Петя Уколов, молодой врач, работал после института второй год, но авторитетом уже пользовался, особенно среди старушек. А они в плане лечения народ битый, их так просто не проведешь. Если помогли им твои таблетки, значит, хорош, а если мимо прошли — врагом становишься.
По идее, у Пети и фамилия была не в его пользу. Произнеси ее как следует вслух, да не просто так, со звуковым оттенком, и задрожит любой, ведь уколы принимать никому не хочется, а детям тем более. Петя и сам особо не любил свою фамилию, хотя по смыслу она была чисто медицинской, но с другой, с лечебной стороны дела, являлась отпугивающей, то есть не медицинской. Однако фамилия ломает любые преграды. На обходах Петя, внимательно выслушивая жалобы, подолгу сидел у постели больного.
И даже самого безнадежного убеждал, что он обязательно выздоровеет. Кроме этого лечения к успеху приводили и его теплые, обнадеживающие слова. У больного ухудшение, а Петя говорит: «У вас сегодня состояние лучше, чем вчера. И все ваши дела идут на поправку. Не волнуйтесь, вы выздоровеете, обязательно выздоровеете…»
И расстроившийся было больной оживал. А это ох порой какая важная штука в лечении. Больные любили и уважали Петю больше всех. Даже к профессору с таким уважением не относились, как к нему. И если он порой задерживался на операции, они скучали.
— И где же это наш доктор, Укольчик-колокольчик, делся?.. — спрашивали они друг друга. — Что случилось с ним? Он обещал к нам в палату зайти…
И как они радовались, если он приходил. Замечая его послеоперационную усталость, старались не жаловаться на свои болячки, а больше хвалили его лечение и почти все отмечали улучшение своего состояния.
А когда он вел приемы в поликлинике, многие выздоровевшие больные приходили к Пете не на прием, а просто так, посидеть у его кабинета. Любимый доктор принимает совсем других, новых больных, но им почему-то легко становится на душе, когда они просто сидят у его кабинета. Заведующая поликлиникой на одной из пятиминуток шутя всем так и сказала, что больные у врача Уколова кроме основного лечения заодно проходят и профилактическое, коридорное лечение.
Вот так вот на удивление всем и вразрез лечебному звучанию облагородил Петя свою фамилию.
После тяжелых вызовов я часто выхожу в больничный двор передохнуть. Напротив общежитие медиков. В нем живет в основном молодежь, за исключением, конечно, Матрены Ивановны. Ей шестьдесят пять, но она продолжает фельдшерить. Все ее знают в городе, все уважают, а отдельную квартирку почему-то не дают.
Вот и сегодня она подходит ко мне грустная. От тоскливых глаз глубокими бороздками разбегаются по щекам морщины. Она пытается улыбнуться, стараясь доказать тем самым, что ничего особого с ней не случилось. Но как ни пытается она это сделать, глаза все равно в печали.
— Перекурчик, значит, у вас… — улыбчиво произносит она и, поправив на голове платок, садится рядом.
— Ну, как насчет ордера?.. — спрашиваю я. Мне жаль старушку коллегу и обидно, что я, молодой специалист, ничем не могу ей помочь. Разве только что посочувствую.
Оперев на палочку руки, а на руки уложив свой подбородок, она, вздохнув, отвечает:
— Сегодня опять на жилищной комиссии была. Толстенький мальчик, типа вот тебя, начал кое-как читать мою справку о здоровье. Тогда я взяла и попросила его, чтобы он как следует прочитал ту графу, в которой отмечено, что я на передовой при выносе раненых была ранена в левую руку, у меня ведь след от пулевого ранения до сих пор остался. Он побурчал, побурчал, но прочел все, как я велела. А потом возраст мой зачитал, да с таким удареньицем, словно мне не квартира нужна, а гробовые доски. На награды не взглянул. Я ему тогда начала рассказывать про похоронку, которую на меня прислали из-под Сталинграда… А он нос воротит, вижу, неинтересно ему. Затем спрашиваю его: «Когда квартиру мне дадите?..» А он: «Ждите…» — «Сколько ждать? — возмутилась я. — Второй десяток жду, а вы все не даете…» А он мне: «Кто живет в общежитии, к остронуждающимся не относится…»
Так и ушла ни с чем. Обидно на душе стало, ох как обидно. Не пойду я больше на эту комиссию. Приходишь к ним словно просительница какая. Словно я никогда и не работала, и не воевала. Да я ему опосля стала доказывать, что у меня чистого рабочего стажа сорок три года. А он мне: можете и не работать, вас никто не заставляет, вы пенсионерка… Вот и поговори с ним, — вздохнув и бессмысленно смотря куда-то в землю, Матрена Ивановна нахмурила брови. — Без толку мне с этой комиссией говорить. Вроде сейчас я и по-человечески с ними веду себя, раньше ведь, бывало, бранилась. Не люди, а какие-то бездушные конторщики, им гвозди надо считать, а им народ доверили… Ну и паразиты, знала бы, что за таких придется воевать, не воевала бы… Может, я его отца спасла, из-под огня вынесла, а он со мной хамит. За что? Неужели я уже не человек… — И на какое-то время она замолкает.
— Действительно, почему так происходит? — удивляюсь я вслух. Мне непонятна бездушность и черствость работников, занимающих крупные посты. Врач всегда ко всем относится с душой. Точно так же поступать и они должны. Люди ведь к ним, как и к врачу, на прием идут.
Матрена Ивановна в изумлении смотрит на меня.
— Неужели не знаешь? — удивляется она.
— Не то что не знаю… — оправдываюсь я. — Я не пойму их…
— Изволь, скажу… — И, довольная тем, что я замолчал, она начинает объяснять: — Когда голодный сытому был товарищ?.. Никогда. Так и они. Вся причина отчужденности в зазнайстве. Раньше у нас в деревне особого богатства не было. Приедут к нам, допустим, гости, и все жители поселка к нам приходят просто так, выразить уважение, а это и нам приятно и гостям. То есть все мы жили одной семьей, потому что не богаты были… А сейчас люди заелись, вот поэтому и сторонятся друг друга, зависть их берет. Надо по-доброму жить, уважать друг друга. Жизнь коротка, поэтому надо поспешать делать добро, а не отказывать, тем более если заслуженно положена квартира… — Матрена Ивановна вздохнула, затем, сняв косынку, поправила гребешок на голове и добавила: — Нелегкая, видно, у меня судьба. И все, видно, из-за моей простоты. Как и все русские бабы, без хитринки жила, на зло злом не отвечала, всем прощала. В молодости все для дома старалась, работала в здравпункте на полторы ставки. А мой муж красавец в это время рыбу ловил да к соседке бегал. Вечером приду домой, а его нет. Как узнала об этом, молча оставила я ему нажитое богатство, взяла детей и ушла. Жила на квартирах, бедствовала, но не сдавалась. Муж опосля грозился, говорил, мол, все равно придешь обратно, в ногах будешь ползать, а я ноги о тебя, стерву, буду вытирать. Понес он кару за это. Избила его в старости новая жена с неродными детьми. Приполз он ко мне вот в эту самую общагу без угла и без рубля в кармане. За все это время, что гулял, из богатыря в хлюпика превратился, плечи коромыслом, мышцы тряпки. Но не выгнала я его, приютила, обмыла, переодела. Любила ли я его?.. Конечно, любила. Ведь мы с ним с фронта вместе пришли, мечтали дружно жить. Любовь, доктор, один раз бывает, а остальное привычка… — Расчувствовавшись, Матрена Ивановна торопливо вытирает с глаз слезинки. Выговориться, видно, ей хочется, и она вновь продолжает: — На свете два раза бывает правда, когда человек рождается и когда умирает, остальное время ложь. Я ему, толстенькому «попику», копию похоронки своей показала, а он оттолкнул ее, словно она чепуха какая-то… Сама же похоронка в рамке застекленной над кроватью висит. Когда трудно бывает, я взгляну на нее, и легче на душе становится. Ведь я, можно сказать, с того света пришла, а он меня еще этим укорит, вместо того чтобы поддержать, пенсионеркой обзывает. Я без сознания целые сутки присыпанная землей лежала, а когда пришла в себя, поползла к деревне… Ползу и не знаю, наши там или немцы. Подползла, слышу, не по-нашему говорят, значит, немцы. Подползла к другой деревне, слышу — два мужика по-русски друг дружку матюкают, я как заплачу, я как закричу… Они меня и подобрали. На минутку опоздай я — и навсегда бы пропала, отступали они…
А сколько я раненых из-под огня вынесла, скольким помощь оказала, мне сейчас даже трудно представить, откуда у меня тогда силы брались. До сих пор вся грудь и живот в шрамах, потому что ползать приходилось и по гвоздям, и по камням, и по горячим осколкам. Думала, что и не доживу до конца войны, убьют, ведь многие мои раненые снова в бой шли, а врагу разве это понравится… Немцы людей с красным крестом без всякой жалости убивали. Домой прихожу, а на меня похоронка. Родители вещи мои все пораспродали. А в память обо мне девчонку из детдома взяли… — Умолкнув, она дрожащими руками достала из кофточки платочек и, вытерев запотевший лоб, с каким-то уже новым для себя восторгом продолжила: — А после войны на параде я вдруг встречаю своего командира… Он как увидит меня да как заплачет: «Ты ли это или не ты?..» И на глазах всего люда как обнимет меня, товарищи его подбежали и в воздух стали меня подбрасывать да что есть мочи кричать: «Да здравствует спасительница! Слава ей! Слава ей!» А потом, когда они успокоились, мне командир рассказал, что после немецкого артобстрела они, не найдя меня, вместе с погибшими нашими бойцами положили мою медицинскую сумку, она вся осколками разорвана была и кровью залита… На Волге под Сталинградом есть братская могила, так там на дощечке и моя фамилия выбита.
На войне, доктор, все душа в душу жили. Каждый стремился отдать часть души ближнему, помочь, а сейчас… — И, запнувшись, закрыла глаза. Затем, достав из маленького карманчика таблетку валидола, сунула ее под язык. — Может, когда этот полненький умрет, другие будут получше… — И с тихой грустью улыбнулась. — Только жаль, меня уже не будет…
На прошлом дежурстве отвез больного в терапию с гипертоническим кризом. Давление у него за двести. Но не прошло и трех дней, как звонят на «Скорую», мол, срочно перевозите его в инфекционное отделение, у него грипп. В это время я оказался в диспетчерской. А раз это мой был больной, то я и поехал его перевозить. Приезжаю в приемное. Он сидит на кушетке, не в больничной одежонке, а уже в той, в которой я три дня назад привозил его. На нем старенький пиджак, под ним красный свитер. Глаза у больного длинные, узкие, спрятанные. То ли оттого, что он опух, то ли еще отчего-то, но он похож на корейца, хотя, безусловно, он русский. Я с сожалением смотрю на него. Он сморкается в платок и плачет Оказывается, покуда я ехал за ним, он поскандалил с врачами. Те говорят, что он грипп из дому в больницу принес. А мой больной доказывает, что он гриппом не болел, а грипп в больницу принесли посетители, да и могли сами врачи грипп занести. И вот из-за этого гриппа, неизвестно откуда и как взявшегося, он не сможет долечить гипертонию. ЧП и для больницы, ведь теперь из-за этого больного, у которого был констатирован грипп, первую и вторую терапию, а затем и всю больницу закрывают на карантин.
— Да поймите же вы, я не виноват… — доказывает больной. — Я был до этого здоров и никаким гриппом не болел, а вот у вас полежал и был готов…
Но врачи хором ему в ответ: «Да как вы смеете нас так осуждать. Наша больница на всю область известна как школа передового опыта. В коллективе все ударники, так что, уж извините, наша больница гриппом вас, да и всех остальных, ну никак не могла наградить. Слава богу, мы не отсталые и гриппы, как некоторые завалюхи, не раздаем…»
В споре больному не победить. Среди медперсонала, атакующего его, находится главврач, на вид культурный и очень чистенький. На его носу фирменные очки. А красный галстук, длинный и широкий, до самого пояса.
Делать нечего. Я забираю больного. В машине ему становится вновь плохо, как и три дня назад, давление переваливает за двести. Торопливо делаю инъекции. И всеми силами, точно обманщик какой, успокаиваю его и уговариваю, чтобы он не сердился на врачей, они не виноваты и карантин есть карантин, против него, увы, не попляшешь. Уговариваю, а сам тихо, чтобы не слышал больной, приказываю водителю, чтобы он поскорее вез нас в ближайшую какую-нибудь больничку-завалюху. Там, безусловно, может быть и беспорядок, и больные лежат не только в палатах, но и в коридорах, в ваннах и во всех других подсобных комнатах, где только можно лежать. Но зато там, я знаю, не спорят. Там нет времени для споров. Там лечат.
Скоро пересменка. И этот вызов последний. Машина несется по потускневшим от дождя улицам. Растопырив уставшие пальцы рук, я сквозь открытое окно подставляю их ветерку. Ветер охлаждает их. И усталость проходит. Если подсчитать общую сумму уколов, которые мне пришлось переделать за сегодняшнее дежурство, то цифра, наверное, перевалит за восемьдесят. А сколько раз мне пришлось открыть и закрыть дверцу автомашины. А сколько раз я, словно отъявленный санитар, брался за носилки и вместе с водителем спускал тяжелобольных с пяти-, а то и шестиэтажных домов при неработающем лифте, или же, наоборот, поднимал их. Руки ноют. Ноги ноют. Голова шумит. Все тело кажется застывшим. Неповоротливо оно, еле-еле слушается. Скорее бы пересменка. И скорее бы упасть в постель.
Рослый молчаливый водитель, плотно сжав губы, смотрит вдаль. На нем сермяжная поддевка, шея обмотана шарфом. Ровной рысцой несется «уазик» по колдобинам, и волнующе сипит его выхлопная труба, да порой, чуть прибуксовав в какой-нибудь яме-канаве, в непонятной радости вдруг завизжит, закричит облегченно мотор.
— Но, но, бодливый!.. — зачмокав губами, прокричит водитель и вот так вот, словно лошадку, три раза подбодрив свой «уазик», выедет из лужи, в которой он чуть было не споткнулся, а затем вновь понесется лихо и быстро, раскидывая грязь по сторонам. Белой пеной забивает двигающиеся по стеклу щетки-дворники дождик. В коротком промежутке очищенного от капель стекла вижу домик, а рядом на хрупкой ножке аист-колодец. Ведро, потемневшее от времени, точно маятник, болтается на веревке, лаская воздух и дождевые капли. Водитель, обозрев домик, остановил машину.
— Все, кажись, приехали… — И, выйдя из машины, пошел к колодцу попить.
Я пошагал в дом. Дверь приоткрыта, видно, меня ждут Прошел одну комнату, затем другую.
— Есть ли здесь кто?.. — спросил я.
— Здеся… — откликнулся молодой голосок из боковой комнатки.
Я вошел в нее. В левом углу лежит аккуратно выбритый и причесанный парень лет двадцати пяти, не больше. Он сиротливо посмотрел на меня и, указав на рядом стоящий с ним стул, сказал:
— Садитесь… Я сел.
Был он весь бледный. И очень уж сильно как-то опухли руки и ноги. Я спросил:
— Что у вас болит?..
Он с грустью посмотрел на меня и ответил:
— Вот холодный, голодный, с голыми опухшими пятками здеся лежу… — И добавил: — Отэкспериментировался… Служил студентам-медикам как подопытный кролик. А точнее, был для них экспонатом. Вместо того чтобы лечить, врачи с одной лекции на другую волоком таскали… Человек по сто в день мои суставы щупали, одних учебных историй болезни что-то около сорока на мне написали. Утром, бывало, проснусь, а практиканты тут как тут и ну давай меня из кабинета в кабинет таскать… Я говорю им, возьмите другого, я уже устал. А они хором, мол, нам другие не нужны, нам ты нужен. Во-первых, молодой, а во-вторых, с болезнью страшно запущенной, так что лучшего случая для истории болезни и не предвидится. И вот таскали, таскали они меня, по телевизору два раза показывали, на симпозиум я идти не мог, так на носилках принесли… И вот лишь после того, как со мной на двух лекциях кряду плохо с сердцем стало, перестали таскать… Отвоевался, говорят, и объясняют, что, мол, по науке так должно с моей болезнью и быть. Прогрессирование, мол, началось. Поступал-то я, доктор, к ним, суставы чуть-чуть болели, без красноты были, а тут словно култышки до помидорного цвета раздулись — и не встать, не лечь. Я им в день выписки говорю: вы хоть каких-нибудь таблеток мне выпишите, а они мне о своем горе, мол, кто же их теперь на лекциях будет выручать. Вот и лежу теперь один в доме, маюсь… — И больной, побледнев, вздохнул. — Шаг ступну, боль жуткая. Два ступну, падаю… Да и студентики-ловкачи, когда нужен был им для истории болезни, приходили, а сейчас забыли…
Тут я начал больного успокаивать, что, мол, не надо быть таким пессимистом, все скоро наладится в его здоровье и болезнь пройдет. Он, прищурив глаза, слушал меня. И я, к сожалению, понимал, что не помогают ему эти мои слова, потому что вместе с болезнью въелась в его душу обида. Обида к единственным на земле целителям — врачам.
— На кой мне их наука… — немного отойдя, доказывал он мне. — Я ведь тоже человек и тоже, как все, жить хочу… Вот вы говорите, что я пессимист. Попробуйте поживите, как я… — И голова его качалась от волнения, и от волнения изо рта выбегала тоненькой струйкой слюна, и он конфузливо вытирал ее, да какой там вытирал, просто размазывал по щекам.
Я сделал два укола. И он даже не среагировал на прокол ягодицы и не чертыхнулся, как некоторые полиартритики.
Я сопереживал ему.
— Держи лапу… — ободряюще произнес я и протянул ему руку, чтобы помочь встать. — Отвезу тебя в участковую больничку, где нет студентов. Короче, не волнуйся.
Я улыбался, я хлопал его по плечу. Сел вместе с ним в машину и положил свою руку на его неподвижную руку. Конечно, я только внешне бодрился, хотя внутри души моей ох как было тяжело, ведь я прекрасно понимал, что суставы его теперь никто никогда не вылечит и неподвижность их, а точнее тугоподвижность, ничем не уберешь.
Когда выехали на шоссе, больной попросил у водителя закурить. Я не отругал его, как обычно ругал за курево некоторых больных. Он прижег сигаретку и, раза два затянувшись, больше курить не стал, а держал ее в нервно дрожащей руке до самой больницы. Она затухла, а он все держал ее. Свободной рукой ощупывал коленки и прижимал их друг к дружке, словно они могли вырваться и убежать.
— Охламоны. Кандидаты во врачи… Дать бы им в рожу разок… — осматривая в приемном покое больного, ругался дежурный врач. И, точно соли переев, жадно пил из стакана воду, которую подавала ему сестра. Он шумел, не унимался. А она, подавая ему стакан, шептала:
— Да тише вы, доктор, тише. Впервой, что ли… — и, словно сама что-то осознавая, вздыхала.
— Я тебе дам тише… Я докажу… — не унимался врач.
И хотя на улице еще было светло, в моих глазах был туман. Мне было не по себе и на станции «Скорой», и уже после, дома. В этом случае в некоторой степени я чувствовал себя виноватым. Как-часто порой, будучи еще студентом, ради учебных историй болезни я гонялся за больным с тяжелым диагнозом. И я даже желал, чтобы его страдания и его болезнь продлились, и за время, на которое они продлятся, я смог бы написать историю болезни.
Я был заинтересован только историей болезни, а не больным. Я описывал его симптомы, я все описывал, но, увы, не лечил.
Приехал к больной. Вызов — острая дизентерия. Маленький деревянный забор огораживает частный домик. На калитке щеколды нет, а просто веревочка, за веревочку потянул — и калитка открылась. Вхожу во двор. За спиной санитарка, однако ориентируется в транспортировке здорово. Знает, как, куда, кого и зачем, в чем везти и все остальное в том же духе. С ней чувствую себя намного увереннее.
И вот только вошел во двор, как мне стало не по себе. Вызвали «скорую» к больному человеку, а во дворе музыка играет. Да еще какая музыка: треск, гам, шум какой-то. Четверо ребят, смеясь, бегают вокруг магнитофона, позы боксеров делают.
— А ну, доктора, поторапливайтесь. Ждали мы вас… заждались. Ха-ха-ха… Шумел под брянью лес… — и вновь пустились в пляс, поднимая вокруг пыль.
— Бесстыдники! Да разве так можно?.. — прикрикнула на них санитарка.
— А зачем нам стыд, бабуль? Со стыдом сейчас пропадешь. Нагишом останешься. По нахалке жить надо… Вот тогда лет двести проживешь. Ха-ха-ха… — И, наклонившись головами вперед, так затопали и завыбрыкивали ногами, что на некоторое время пыль и прочий мусор скрыли их из виду. — Хаю-хаю-хаюду… Поняла, бабка. Да здравствует серенький козлик. Если вам в жизни не везло, нам повезет…
Переступив через магнитофон, я зашел в коридор, а затем и в саму комнату. Низенькой она мне показалась и обшарпанной, давным-давно не ведавшей ремонта. Больная женщина лежала на постели скорчившись, поджав под себя ноги. Здесь же рядом с постелью стоял стол, на котором книги и пустые пакеты из-под молока.
— Мамань… ау, ты жива? — Это забежали в комнату двое ребят, наверное, ее сыновья. Она, неопределенно вздохнув, махнула на них рукою и отвернулась. Я попросил их выйти. У больной действительно оказалась дизентерия. Санитарка захлопотала, поставила чайник и стала готовить отвар из трав.
— Ничего, дочка, это поначалу лицо от дизентерийки темнеет. А стоит отварик из коры дуба выпить, так оно сразу розовеет. — И, присев рядышком, тихонько спросила: — Что же твои сыновья так разгулялись?
Женщина приподнялась на локтях. Наверно, она прислушивалась к шуму и гаму за окном. В горле ее засипело. Упав на постель, она вытянула вперед руки и, ничего не сказав, заплакала.
— Ну что ты? — успокоила ее санитарка. — Будет тебе. Да не бери ты все это в голову. Рано или поздно они поймут. А сейчас дети они еще. А раз дети, то пусть и повеселятся…
Женщина, приободренная словами санитарки, улыбнулась. Я же побежал к машине и, созвонившись по рации со станцией, выяснил, что за больной должна прибыть специальная эпидемиологическая «скорая», которая по моему диагнозу ее и госпитализирует.
Когда мы уходили, женщина кушала приготовленный санитаркой геркулесовый супчик. Она попросила назвать ей наши фамилии.
— Да что ты, милая, — возразила ей санитарка и, поправив постель, добавила: — Ты вот лучше ешь, ешь геркулес. Если будешь есть, быстро выздоровеешь. А ты небось, дуреха, думаешь, что фамилии лечат, да? Ну нет, фамилии не лечат. Это геркулес лечит… Поняла?
— Поняла… — улыбнулась женщина и, в радости ткнувшись в ложку, испачкала нос.
Чуть не споткнувшись о магнитофон, мы вышли из дома. Здесь, во дворе, музыка сотрясала все вокруг.
«Помирает невестка…» Да, такой вызов получил я в один из поздних вечеров осени. Адрес был где-то на окраине города. И мы несколько минут кряду, плутая по оврагам, разыскивали его. Наконец из темноты выглянула крохотная улочка, состоящая из пяти частных домиков. Светя верхней фарой, водитель нашел нужный номер. Но не успел я выйти из машины, как передо мною оказался деревянный забор высотою в два человеческих роста. Громко залаяла собака.
— Кто там? — раздался старушечий голос.
— Врача вызывали? — спросил я.
— Нечего зря стоять… — буркнул тот же голос. — Толкай калитку, и все твои дела…
Пугаясь захлебистого собачьего лая, я толкнул калитку. Порядка во дворе не было. Пуками лежала рядом с калиткой солома. А у самого крыльца огромная лужа и свалка коровьего навоза. Чуть левее я заметил небольшой деревянный навес, под которым стояла корова, рядом с нею шевелился поросенок, а под самым навесом кудахтали куры, да так громко и шумно, что мне показалось, что по количеству их было сотни три.
— Ну чего ногами взбрыкиваешь? А ну давай проходи… — и из-за моей спины, точно гром с ясного неба, появился какой-то черт-пузан. Я опешил. Но, видно, это и была та самая старуха, которая только что разговаривала со мною. Однако как это она могла так быстро оказаться рядом. Самих сумерек еще не было, и, хотя небо по краям хмурилось, синева в центре сохранялась. Огромная тень, одновременно падающая и от забора и от самого дома, создавала несуразно густую темноту. Старуха с птичьим клювом-носом осмотрела меня, а затем вымолвила:
— Ты откуда? Со «скорой»?
— Со «скорой», — пролепетал я, ибо, если честно сказать, не она сама меня пугала, а зловещий лай овчарки да ее страстные прыжки в мою сторону, то и дело растягивающие крохотную цепь.
— Ты че это, хозяйку не признаешь?.. — шикнула на нее старуха и, зачавкав по луже (она была в сапогах, в фуфайке с широким врезным клином на спине и в новом пуховом платке), палкой загнала овчарку в конуру, а чтобы она не вылезла, перекрыла ей выход огромным корытом, на которое сама же лихо и уселась.
— Это вы меня вызывали?.. — спросил я, когда лай утих.
Старуха, почесав пальцем нос, в изумлении посмотрела на меня, но затем, не поверив чему-то, прыснула. Но не долгим был этот ее благороднейший вид. В ту же минуту она нахохлилась и надулась. Затем, подобрав под себя руки, указала на дверь:
— Туда иди, там ее и найдешь… — И, высморкавшись в лужу, небрежно заправила под платок жидкие пряди и, что-то проворчав про себя, отвернулась. Теперь со спины она не чертом мне показалась, а огромным медведем, только, конечно, не добрым, как в сказке, а злым подранком, у которого нет и никогда не будет ни к чему жалости. Я толкнул дверь и вошел в комнату. Стены и потолок одинаковы по размеру и покрашены одной и той же краской. Напротив окна на диване лежала молодая женщина. Лицо показалось мне знакомым. Но работа есть работа, и здесь, конечно, не до лиц. Я как следует осмотрел больную. У нее было нервное истощение. В соседней комнате, почти рядом с ее диваном, за огромным дубовым столом сидел высокий мужик и с жадностью ел курицу, одновременно смотря телевизор. Я попросил приглушить звук, так как женщине при ее нервном истощении это только принесет вред. Однако он неприлично фыркнул и, махнув рукой в ее сторону, выпалил:
— А че сбавлять-то его, ишь, звук ей мешает. Да мне, может быть, весь белый свет мешает, но я же звук не сбавляю…
И подчинился лишь тогда, когда я вновь повторил свою просьбу.
— Ладно, вы уедете, я с ней сам разберусь… — И, наклонившись над курицей, стал с пущей жадностью в ней копаться.
Шприцы я мыл у рукомойника, еле протиснулся к нему, ибо весь проход был заставлен мешками. Мне некому было полить на руки, чтобы отмыть их от крови. Я возился один.
В комнату вошел мужик. Это был ее муж.
— Доктор, а доктор… — небрежно произнес он. — Вы что, в больницу ее забираете?
— Да, в больницу… — ответил я, хотя в больницу забирать ее и не думал. Я стоял и смотрел на него. Какой ужасный тип. Вместо рук какие-то щупальца. Ах да, я чуть было не забыл, у меня ведь близорукость. Надев очки, стараюсь с оптимизмом смотреть на него. Нет, руки у него, наоборот, большие.
— Ну вот, слава богу, дожился… — произнес он вяло и, плюхнувшись на кровать, стоящую напротив меня, побледнел. Прежнее упрямое лицо стало обиженным.
За окном возник далекий гул самолета.
— Увезите меня отсюда… Прошу вас… — прошептала она мне, но так, чтобы он не услышал.
«Неужели это та самая женщина?..» Я вздрогнул. В неврологию я мог госпитализировать кого угодно и без всякого труда. Там работал мой друг. Не теряя времени, я кликнул водителя. И, к удивлению старухи и ее сына, на носилках, конечно лишь только для виду, загрузил больную в машину.
— Доктор, о чем задумались?.. — спросил меня водитель, когда мы, покинув овраг, выехали на асфальт.
Что я мог ему ответить? Да и поймет ли он меня?
— Зачем думать зря?.. — добавил он. — Вызов обслужили, и ладно… Сколько их, вызовов. Если обо всех думать… — и вдруг, осекшись, усмехнулся, потупился. Мне надо было что-то отвечать. Скрыв истинную причину волнения, я между прочим сказал:
— Такое хозяйство, какое у старухи, требует, наверное, много кормов…
На что он с ходу ответил:
— Сейчас хлеба в магазинах много. Так что прокормит. Я в заборную щелочку заприметил, как бабка размачивала в воде белый хлеб… — и подмигнул мне. — А что, доктор, разве жизнь плоха, если и мясо, и молоко, и яичко свое? Одного бычка кокнул, и вот тебе на целых полгода тушенка… — И, заулыбавшись во весь рот, еще что-то проговорил.
А потом начал хвалиться своими познаниями по ведению домашнего хозяйства. Но я не слушал его. Образ счастливой девушки, давным-давно звонившей кому-то из телефонной будки, не выходил из моей головы. Ведь я тогда стоял рядом с ней. И она мне так нравилась. Улыбаясь, она все звонила и звонила кому-то, может, даже этому парню, сожравшему курицу, и указательным пальчиком, точно гадая, чертила по окну телефонной будки крестики-нолики. Когда она вышла, я спросил:
— У вас есть две копейки?..
— А что, если есть… — и засмеялась, снимая с головы платок.
— Ну что вы за мной гонитесь? — спросила она через некоторое время. — Вы же собирались звонить кому-то…
И тогда я растерялся, не сообразил, что и ответить… И отстал… А она, забавно помахав мне на прощание рукой, села в трамвай и уехала. А потом я, кажется, вновь увидел ее. Ах да, один раз, когда я еще только начинал работать врачом и жил бедно, не имея даже комнаты, не говоря уже о прочих житейских вещах. Я встретился с нею в продовольственном магазине. Я, кажется, купил тогда пятьдесят граммов сливочного масла. Продавщица, удивившись незначительному весу моей покупки, хмыкнула:
— Сколько лет работаю, но так мало еще никто не брал…
Я оглянулся. И, оглянувшись, вздрогнул. Рядом стояла она. И она засмеялась так громко, что я чуть было не упал.
А один раз, когда я приехал на срочный вызов в театр, кажется, было плохо с вахтером, на мне был короткий халат. Это был самый «большой» халат, который смогла подобрать мне сестра-хозяйка на мой двухметровый рост. Ведь все врачи на «Скорой» были маленькие, а главврачиха тем более была гномом. Поначалу я возмутился такой крохотности халата. Но меня успокоили, что, пока наша заведующая будет маленькой, до тех пор и не будет больших халатов. И вот, увидев меня в театре в таком халате, она, находясь в каком-то восторге, может быть, даже оттого, что на ней было белое как снег платье, вдруг, строго посмотрев на меня, спросила:
— Вы что, прикидываетесь или на самом деле чудак?
Я опешил. И хотя мне не до нее было, больной задыхался и мы осторожно перекладывали его на носилки, я все же сказал ей:
— Для врача не халат важен…
И она вновь с какой-то прежней бесстрастностью хмыкнула:
— Э-э, вы ошибаетесь, мой дорогой…
И, произнеся все это, скрылась в беспорядочно снующей из угла в угол зрительской толпе.
Я искал ее глазами. Надеялся, что она появится. Да пусть даже если не появится, то оглянется из толпы на меня.
Я помогал нести больного на носилках. Вокруг меня хлопотали администраторы, они что-то говорили мне и что-то доказывали. Но я не замечал их. Мне ни до кого не было дела.
«Черт возьми, это не женщина, а какое-то привидение!..» — думал я после, трясясь в машине.
«Хорошо бы встретиться с ней в такой ситуации, когда надо было бы ее срочно спасти. Вот тогда бы она поняла, кто я такой». Так думал я тогда. Давным-давно это было.
— Ой, доктор, у тебя лицо все серое… — внимательно посмотрев на меня, произнес водитель. — Приоткрой форточку, будет легче…
Я приоткрыл форточку. Мы неслись по шоссе во всю прыть. Сегодня как никогда быстро наступила темнота. Но ушедший вечер почему-то не выходил из моей головы. Дружно и счастливо освещали асфальт фонари. Иногда, когда машина останавливалась у перекрестка, я смотрел в салон. Он слабо освещался. Но я все равно хорошо видел ее, особенно ее лицо. Как жаль, что она не узнала меня. И не успеет теперь узнать. Скоро я привезу ее в приемный покой, где сдам дежурным врачам. И, сдав, умчусь на новый вызов.
Так душно мне никогда не было. Я смотрю на нее сбоку. Вот она уселась поудобнее, оперлась подбородком о колени и с некоторым интересом посмотрела на меня. Нет, нет, она все равно не узнает меня… «Ну почему, почему ты не узнаешь меня, — хочется мне крикнуть и, тут же остановив машину, деликатно войти в салон и, сев рядом с ней, сказать: — Я всю жизнь мечтал… Понимаете? Мне хотелось спасти вас, спасти геройски, невзирая ни на что… И я, кажется, спас вас…» — нет, здесь я скажу ей «ты». Но вот уже огни стационара. Перед нами обтянутое марлей, покосившееся и чрезвычайно мрачное окно приемного отделения. Тормоза скрипнули. И все кончилось…
Иногда, когда проведешь больного до самой палаты, а затем возвращаешься в приемный покой, то на миг замираешь, вдруг в комнате отдыха видишь бывших своих больных, преспокойненько сидящих в креслах и смотрящих телевизор. Как радуешься в эти минуты за них и как легко и свободно чувствуешь себя от этого.
Я вовремя им помог. И они уже поправляются. Не замечаемый ими, замираю у стены. Я не могу смотреть на них спереди и потому смотрю на них со спины или же сбоку.
Полуярким светом дрожит экран телевизора. И в такт ему небрежно, но в какой-то нежной преданности помаргивает на потолке маловаттная лампочка. Идет легкий фильм. Но все равно как хороши в это мгновение мои больные.
Вот мужчина-кочегар, я привез его в отделение с приступом аппендицита, по-хозяйски свободно сидит в кресле и, царственно сложив руки на животе, смотрит на экран, улыбаясь. Чуть левее от него, прямо на полу, присел молоденький парнишка, у него был перелом трех правых ребер, сейчас он восклицает: «Вот дает!.. Вот дает!..» И после восклицаний этих, сожалея о чем-то, важно, точно старичок, кряхтит. А рядом с ним полная женщина в отглаженном халате, вместо пояска к нему прилажена красная тесемка, кажется, ее зовут Галей, когда я вез ее, она все время стонала: «Доктор, миленький, я не выдержу ножа, отвезите меня обратно, отвезите, умоляю вас, миленький…» Я успокаивал ее как мог, хотя сам в душе все же не верил, что такая молодая сильная женщина могла испугаться хирургического ножа. Но, увы, как только мы приехали в больницу и она увидела хирурга, то тут же грохнулась в обморок.
Подперев подбородок и откинув назад голову, смотрела она сейчас строго и величаво на экран, то и дело моргая глазами. Из-под платка выбились на лоб русые волосы. Она белая, румяная, одухотворенная и счастливая.
Осторожно скрипнула дверь в палате, находящейся рядом с комнатой отдыха. Кто-то из смотрящих телевизор оглянулся вначале на скрип, потом на меня. Но, посмотрев на меня, парнишка лишь вздрогнул и, вновь уныло заморгав глазами, видно, он не узнал меня, уж очень было сумрачно, вновь воткнулся в экран телевизора. Я быстро прошел холл и вышел в приемное отделение.
Прежнее ощущение не покидало меня. Радость оттого, что я вовремя помог людям, вновь как никогда обуяла меня. Водитель, увидев меня, рассмеялся.
— Ну и видок же, доктор, у тебя, словно со свадьбы…
— А что ж, разве это не свадьба?.. — сказал я и, усевшись в машину, добавил: — Если все больные, которых мы в этот месяц привезли, выжили…
И он, поняв меня, улыбнулся.
Уже темнело, когда выехали к душевнобольному. Старичок, весь желтенький, полулежит на топчане окруженный родственниками и трясется. Огромный парень, видно его племяш, держит его руками и изредка произносит:
— Ну ладно, будет тебе, батя…
Глаза у старика возбужденно пыхают, и порой кажется, что они вот-вот выскочат из орбит. Сильно скрежещет он зубами, изредка шепча:
— Он стоял у той двери, в сером мундире и в серых штанах…
Я пытался успокоить старика как только мог. Но, видно, ранее исполосованная губительными тюремными страданиями душа давала знать голове, и вот теперь она, колдовски воспалившись, смешала и спутала и его здравое сознание, и его здравый ум. Неумело, точно малец, припадал он к подушке, когда я делал внутривенные вливания, Худенькая шея, придавленная книзу плоская грудь, ну все, абсолютно все говорило о том, что он за свою долгую жизнь не один раз разговаривал со смертью.
Вдруг кто-то брякнул за моею спиною:
— Доктор, вы его увезете?
А кто-то потише с женским причитающим всхлипом добавил:
— И зачем только нужна ему эта дурацкая больница. Умереть бы тебе сейчас, родимый, сердешный, чем вот так вот маяться…
И тут у меня опять спросили:
— Доктор, ну чего же вы молчите?
И, в волнении потерев ладонью висок, я ответил, что минут через десять уколы начнут действовать, вот тогда и посмотрим. И действительно, минут так через десять — пятнадцать старичок как-то обмяк, успокоился, взгляд его стал более осознанным. Вот он погрузил в меня свои старческие глаза и, приподнявшись, сказал:
— Доктор… — и, взяв за руку, без всякого сдерживания начал рассказывать: — Послал я, значит, старуху в магазин, для отвода глаз, конечно. А сам в погребок полез, капустки, моченых яблок достал. Короче, чекушечку припрятанную из валенка взял и, не сдержавшись, одним махом ее вылакал… Много ли мне, старому, надо… И тут… глядь, не успел и глаза как следует протереть, Сталин заходит… Вот та-ак, вот та-а-ак, ка-к и ты-ы… Прости меня, доктор, прости. Не надо, наверное, мне больше об этом говорить, да и не нужно…
Старичок обхватил руками голову. И видно было, как вновь задрожали выбившиеся из его рукавов совершенно нагие локти.
— У-у как… — взвыл он, и глаза забегали по окружавшим его лицам.
— Господи! Ты небось устал, да, да, устал… усни, миленький, усни… — посыпалось на него со всех сторон. И тут вдруг погас в комнате свет.
Кто-то, чиркнув спичкой, прикурил сигаретку, и от этого освещенное огоньком и смотревшее на старичка лицо стало походить на прокаженное; кто-то с трудом сдерживал себя от волнения, чтобы не разрыдаться. Но недолго длилось это, огонек от сигаретки приугас, и черты стали менее видимы.
— Простите, доктор, это, наверное, свет погас, в нашем районе часто такое бывает… — И мужчина-богатырь вновь чиркнул спичкой и, прикрывая ладонью огонек, понес его к керосиновой лампе, одиноко стоящей под висящими в углу иконами.
Уколы продолжали свое действие, и старичок, вдруг складно поджав под себя ноги, вновь замолчал, притаился, а затем сонно замигал глазками.
— Может быть, доктор, все это у него пройдет?.. — тихо спросил меня племяш.
— Да хватит тебе… — забурчали на него окружающие. — Ну вспомнил старик, ну привиделось, с кем не бывает. Зачем же его запекать на веки вечные? Чай, не безродный он тебе…
Я успокоил парня, пообещав, что у старика больше такого не повторится, но при условии, конечно, если он не будет пить.
— Доктор, насчет этого не волнуйтесь, с завтрашнего дня я его так в руки возьму, что и не выпущу…
Люди молча расходились. И не успели мы отъехать от дома, как вновь вспыхнул электрический свет и нахлынувшая было на дом темнота отступила.
Целый день метет пурга. Страшно, не по-человечьи, отчаянно кружит и свистит ветер. Наш «уазик» и все мы в нем кажемся потерявшимися, да, мало того, не в этом мире, а в колючем, чужом и страшном. Властно, ни на что невзирая пробивают снежную заволоку две фары, и, покорно подчиняясь им, в страхе рулит водитель. Не дай бог, обочина, и тогда, дернувшись раз-другой, «уазик» колесами уйдет под снег. «Все, отработались», — скажет тогда водитель, и целый час или два придется ждать, когда нас кто-нибудь вытащит. Змейками вьется пурга к небу и змейками спускается к земле.
— Дальше не проехать… — властно произносит водитель, упираясь в огромный посеребренный сугроб, представляющий из себя огромную снежную стену. Натянув поглубже шапку и откатив воротник, бреду к нужному адресу. Снег по пояс. Благо, что я не взял еще с собой чемоданчик, а то пришлось бы его держать на вытянутой руке, сугробы по пояс и выше. Сегодня день перевозок, и медикаменты почти не нужны.
— Доктор, чтобы не заблудиться, идите по направлению света фар!.. — кричит водитель. И пурга, словно огромный сутулый великан, без всякой церемонии заглушает голос. Перевозной вызов краток, нужно взять старушку, у которой подозревается опухоль, и отвезти в больницу.
Наконец под воздыхания низкосводной пурги проглянулся свет, а затем и домик, крыша и стены которого парили и дымились. Снег скользил по лицу, забивал ноздри. Но я, невзирая ни на что, шел вперед, словно собирался кому-то доказать, что нет на свете никакой пурги и что она вообще не существует. А ее белоснежные подушки, с которых она то и дело вздымалась и вонзалась во все живое, есть обыкновенный пух, теплый и скучный, который даже от самого легкого дуновения рта может отнестись и отвьюжиться. Подойдя к домику, вздрогнул. Буквально в двух-трех шагах от меня стояли старик со старушкой. Все какие-то мшистые, все какие-то беленькие. Видно, давно меня дожидались. Пурга завернула их своей снежной бечевой и, словно добившись своего, ликующе кадила над ними, то и дело тлинькая не полностью прикрытой ставенкой на чердачном окне.
Я назвал фамилию, указанную в вызове.
— Да, да… это мы… мы это… — произнес старичок и заботливо взял старушку под руку. Он был в тряпочной шапке, плотно подвязанной у подбородка, одной рукой опирался на тоненькую палочку, которая проваливалась в снег. Старушка при виде меня улыбнулась и начала что-то торопливо говорить старичку. Ветер относил слова, но я все же расслышал:
— Меня, уж больше не заберет Коля нянчить его детей…
Эту фразу она повторила раза три за все время, покуда мы шли к машине. Старичок поцеловал ей руку и подсадил в машину.
— Не беспокойся, завтра приеду…
— Да уж чего там. Да и как тебе обратно идтить, не дай Бог, пропадешь… — и протянула ему свою белоснежную руку.
— Доктор, а можно и я с вами поеду? — спросил меня старичок.
— Можно!.. — перекричал я пургу.
И не успел захлопнуть дверь, как старушка крикнула:
— Держи, лови ее… шапку!..
Не знаю, как это вышло, но налетевший крепкий порыв ветра сорвал со старичка шапку, и она исчезла в снежной пропасти-яме. Я дал старичку одеяло, Он, накрыв голову, сел в машину.
— Вот так ночь… — произнес водитель, лихо врубая скорбеть. — Возвращаться, обратно всегда легче.
Машина тронулась неслышно. Из-за воя пурги мотора почти не слыхать. Зато слышно, как старушка произносит:
— Меня уже больше не заберет Коля нянчить его детей…
«Что за Коля? Что за дети?.. Тут пурга проходу не дает, а она о каком-то Коле думает».
— Доктор, можно я ей снежку дам немного, а то у нее всегда в это время изжога…
— Можно, можно, но только немного…
И разрешаю старичку приоткрыть форточку в салоне. Протянув руку навстречу пурге, он сам небось удивляется, ибо она тут же залепляется снегом, да так, что он с трудом возвращает ее в салон.
— Полегчало?..
— Чуть-чуть…
— Ну и ладно…
Накрывшись одеялом, он подышал на руки.
— Ох и представляю, как разоспишься ты в больнице…
Старушка, положив свою руку на его руку, улыбнулась.
Пурга за окном визжала, скрипела — порой казалось, что она и нашу машину и всех нас раздирает по косточкам.
Снег забивает лобовое стекло, щетки не успевают его смахивать. Не утихает пурга, а еще более закипает, зверски взбивая все вокруг. Нам оставалось километров десять до города, как вдруг свет фар «уазика» погас, да и сам мотор, раз-другой что-то запутанно пробурчав, тут же замолк. Водитель в испуге приподнял капот, секунду-другую повозился в моторе и, закрыв его, в сердцах ударил по нему кулаком.
— Кажется, генератор накрылся. И аккумулятор, как назло, слабый…
И тут же пропал в снежном пекле — пошел в город искать машину, которая возьмет нас на буксир. А еще он должен обязательно позвонить на «Скорую», и если там есть свободная машина, то она должна обязательно примчаться за нами.
Я перебрался в салон. Прижавшись друг к другу, мы сидим словно обреченные на что-то неведомое и страшное.
За каких-то минут пять тепла в салоне как не бывало.
Холод остер. Мы еще сильнее прижимаемся друг к другу, попеременно дыша на заледеневшие руки. Где-то совсем недавно я в какой-то монографии читал, что в некоторых странах опухоли лечат холодом: если она наружная, то подвязывают к ней ледышку, а если внутренняя, то минут на пять — десять заходят в морозильную камеру или же нагишом выходят на мороз. Может, старушке это и на пользу, но зачем холод мне?..
Старик и старушка засыпают. Опомнившись, я трясу их, бью по щекам. Накрываю своим пальто, они словно в каком-то забытьи, глаз не открывают и ничего, ну ничего не говорят.
Надо срочно развести костер прямо здесь, в машине. Собираю все свои бинты, вату, обливаю их спиртом, одновременно мну металлическую шину, ведь на ней тоже есть тоненькая ткань. Но где спички? Спичек ни у кого из нас нет.
«Все, крышка…» — вздыхаю я и, откатив воротник, снимаю с головы закоченевшую шапку. И в эти предсмертные минуты тишины явился звук. С тайным наслаждением впиваюсь в него. Мне хочется с кем-то переглянуться, но я не могу, нет сил. Я замерзаю. С превеликим трудом доползаю до двери, открываю ее и вываливаюсь в снежную пургу почти прямо под гусеницы оранжевого, рявкающего по-звериному трактора. А вот, кажется, и водитель, но почему вместо головы у него огромная груша? Мое лицо и руки начинает кто-то растирать хрустящим, очень горячим снегом. Затем мне в рот вливают теплый чай. Я пожираю его с аппетитом. Мимо меня в огромную кабину «Кировца» поволокли старика и старушку, видно, их тоже приводят в чувство.
— Ничего, доктор, пурга еще часок-другой пофорсит, а потом мы с ней сторгуемся… — говорит тракторист.
Мы набились в его кабину точно яблоки: красные и живые… И старушка, гляжу, опять зашептала старичку:
— Меня уж больше не заберет Коля нянчить его детей…
— Да какие тут могут быть няньки… — отвечает ей тот. — Слава богу, сами чуть было не отнянчились… — И от жары, печка у тракториста аховая, расстегивает на груди пальто.
— Пой, пой, потом доскажешь… — гаркнул пурге чумазый тракторист, уперся сапогом в педаль, пустил свой трактор навстречу ветру.
Был он без шапки, в одном свитере, то и дело улыбался, наслаждаясь отражением в стекле яркого огонька сигаретки, лихо раскуренной им.
— Я, братцы, лучше профессии, чем медицина, и не представляю… — вдруг тихо сказал он. — Люблю и ее, и людей-медиков, в ней работающих, тоже люблю. А еще больных люблю. Что-то есть в них святое-святое…
Старушка улыбнулась. О чем она думала, трудно сказать. Но не это было главное.
Главное, мы победили пургу, а может, и опухоль.
— Ишь, гудит, точно шмель… — усмехнулся тракторист и, бодро добавив газку, произнес: — Ничего, ребятки, не волнуйтесь. Вы со мной, а не с кем-нибудь. Уж кто-кто, а я не расшибу, в целости и сохранности всех довезу…
В один из дней вместо вызовов послали дежурить к церкви. Рождество было морозным, народу в этот праздник около церкви — не протолкнешься: люди в основном пожилые и всякое среди них случается. И хотя на улицах полно снега, ветер его не кружит. Тишина удивительная, каждый звук, каждый шорох, да что там шорох, абсолютно все улавливал мой слух. Был вечер, электрические фонари на столбах, облепленные пушистым снежком, казались застенчивыми и неловкими. Они серебрили снег, дорогу, медленно ползущие по ней машины, шапки и платки прохожих.
— Часов шесть придется торчать… — сказал водитель.
И от этих слов я на некоторое время стал беззаботным и свободным. Да вы сами посудите, разве можно сравнить лавину тревожных вызовов с этим стоянием у храма; ведь не исключено, что ни с кем ничего не случится и мы простоим, как говорится, для блезиру, а точнее, передохнем. Перед белым переездом нас поприветствовал стрелочник, тоже весь белый, с огромной, почти до самого пояса, белой бородой, и лишь умные глазки его, точно две черные пуговки, да желтый флажок в руке придали разнообразие рождественской белизне, а заодно доказали, что человек не спит, а трудится. Почти рядом от переезда привалились друг к дружке две снежные бабы, их метлы тоже белые. Рядом стоит лошадь, выказывая огромные белые зубы, она ласково слизывает снег с ведра, торчащего на голове одной из снежных баб, морковных носов нет, она их сгрызла.
Лобовое стекло помутнело. Водитель включил щетки. Снежинки крупные-прекрулные падают на землю не сразу, а все кружат и кружат в воздухе. Может, снег шел и до этого, да я просто его не замечал.
А вот и деревянная церковь. Стены окрашены синей краской. Пять куполов, колокольня. Мы остановились у ворот. Водитель, довольный тем, что ему придется передохнуть, закрыв глаза, зевнул, потянулся, а затем, включив в кабине свет, достал потрепанный детектив и, усевшись поудобнее, принялся за чтение.
— Если что случится, я буду в церкви у выхода… — тихо сказал я. Он молча кивнул.
Народу на церковном дворе мало. Все в храме. У церковных порожков на валенке сидит старуха, держит в одной руке кружку, а в другой красную рукавичку. Монетки сыпятся и в кружку, и в рукавичку.
Над входом табличка, что такой-то и такой-то храм является архитектурным памятником и охраняется государством. Я зашел внутрь. В храме жарко. Народ толпится. Иконы с возвышенными строгими ликами красиво убраны. То и дело загорались новые свечи. Дьяк, точно негр загоревший, растопырив смоляные усы, лихо поет, и все подпевают ему. Благополучной и полной покоя была обстановка в храме. Хотя исподволь я видел, как кто-то то и дело вздыхал или же опускал глаза. Нежданно, словно из какого-то невольничьего стана, я увидел страшно лукавый и хитрый взор, положа руки на сердце, этот человек с нежно-розовыми щечками и круглым мясистым подбородком ко всем, да какой там ко всем, абсолютно ко всем, был полон злобы. Увидев меня, отошел к стене, в темноту. Кто это был? Я так и не распознал его.
Непокрытые головы, большинство из которых седые, вздрагивали и дивно менялись в поклонах. Пальцы рук, щепотками берущие над головами воздух, осторожно подносили его ко лбу, к груди, к правому плечу и со вздохом облегчения выпускали на левом плече. Многие лица показались мне знакомы. Их болезненность напомнила моих пациентов. Вот поп, старательно обмахав себя кадилом, пошел по храму. На его пути включали электрический свет. Я непредвиденно оказался на его пути. Растерялся, не зная, как и быть. И тут от старух мне последовала куча советов: «Не сходи с пути, мил человек, он тебя кадилом окропит, а это для здоровья знаешь как здорово!», «Не стесняйся, не стесняйся, у меня тоже сын молодой…», «Ты небось первый раз в церкви, это ничего… главное, по своей душе пришел…».
Поп приближался ко мне. Стоящий впереди меня низенький дед с заостренным подбородком и носом, видно, давно познавший законы церкви, при виде попа упал на колени и начал молиться.
Я, как чудак, метнулся в сторону от попа, тем самым вызвав оживление среди старух. «Молодой, небось первый раз все видит…» — залепетали в довольствии они. Видно, они устали стоять и им захотелось поговорить. Мимо меня прошли три лысеньких старичка с металлическими баллончиками в руках, похожими на самодельные рукомойники, в черную щелочку люди бросали монеты. На что они все кланялись и хором кричали: «Спасибо вам от самого господа!..» И так три раза: «Спасибо вам от самого господа!..» Я нагнал их и тоже бросил две монетки. И они, вдруг подозрительно осмотрев меня, замерли, а потом набожно поклонились и хором три раза прокричали: «Спасибо вам от самого господа!..» Удивленный всем этим, я вышел на воздух. Так же сидела на дырявом валенке старушка и так же держала в одной руке кружку, а в другой красную рукавичку. Только в отличие от прежней картины я хорошо теперь видел ее страшно толстые отечные ноги, а рядом самодельный костыль. Все это увидел благодаря свече, которая ярко горела перед ней на снегу, кто-то вынес ее, видно, из храма и поставил в стаканчике перед калекой. Ветерок носился по порожку. Пламя шаталось и не задувалось. Я оглянулся. Водитель, опершись о баранку локтями, задумчиво смотрел на старуху. Свет в кабине погасил и поэтому смотрел из темноты.
— Никто не обращался? — спросил я его.
— Нет, нет… — тихо произнес он и, вздохнув, добавил: — Через пять минут наступит Рождество. И там, глядишь, народ начнет потихонечку расходиться. А вслед за ним через часок уедем и мы…
Через пять минут зазвонили колокола. И какой-то чудак-мальчишка, наверно сын звонаря, по лесенке взобравшись на самый главный купол, в радости что-то крича отцу и смеясь, начал лопатой сбрасывать снег.
— Эй, доктор!
Я оглянулся. Из крохотной часовенки вышла круглолицая молодка, румянощекая, в бархатном платке и платье. И только я оглянулся, как она снежком сбила с моей головы шапку.
— Ай да девка! — засмеялся водитель, и прежняя таинственная задумчивость исчезла, сменившись довольством, радостью и лихостью.
— Не уйдешь… — добавил он и выпрыгнул из кабины. Вместе с ним мы ответили ей по снежку.
— Два против одного не считается!.. — закрывая руками лицо, прокричала она. И исчезла.
Снег скользил, снег падал. Звезды светились. И мне было радостно. Как хорошо, что сейчас нет больных! Как хорошо, что сейчас все здоровы!
И довольный собой месяц ковшом Большой Медведицы хлебал свекольные небесные щи. За куполами полоска ночного неба, в которое опустилась не одна пара звезд, была багрово-красной, словно кто небо подпоясал алым праздничным пояском.
Самый старый шофер на «Скорой» Петр Федорович. Душа человек, безотказный. Порой, когда ни попросят его молодые ребята выйти на поддежурство, он всегда выйдет. Да и врачей он никогда в беде не оставлял, всегда помогал погрузить или выгрузить носилочного больного и, не дожидаясь санитарок из приемного покоя, нес его вместе с врачом. В его машине тепло и уютно. Машину он зовет «барыней» и всем говорит, что ей сам бог велел больных возить.
— Жаль вот только, дороги грязноваты маненько… — часто вздыхал он, но тут же, ободряюще встряхнув головой, добавлял: — Ну ничего, никуда они у меня не денутся. Не дам я им избаловаться. У моей «барыни» одна нога на этой улице, а другая на той, только ее и видели. По любой колейке брыкает…
И вот за особые заслуги на «Скорой», наградили Петра Федоровича летней путевкой в самый что ни на есть крупнейший южный санаторий.
— Ну так что, поедешь? — ласково переспросила его перед самым отъездом председательша месткома.
— А чего ж не поехать… коли позволяете… — по-солдатски ответил Петр Федорович и, за день лихо собравшись, на другой отправился в путь-дорожку.
Но получилось так, что приехал он в санаторий рано утром. Регистратура была закрыта. Походил, походил он вокруг корпусов, но так ничего и не выходил. Затем лег на красавицу скамейку и задал храпака. Через час санаторный дворник разбудил его.
— Ты чего здеся лежишь? Небось пьяный?
— Какой я пьяный? — обиделся Петр Федорович и легонько двинул ему по носу путевкой. — Видал? — И добавил: — Разберись, а потом груби. Свой я. И приехал по закону.
— Нет, нет… не свой ты!.. — заорал не на шутку дворник. — Свои по корпусам лежат, а ты… Ну а ежели даже по закону, то у нас на ней больные после ужина отдыхают. А ты…
— Регистратура закрыта, — обиженно промолвил Петр Федорович.
— Мало ли чего… — перебил его дворник и добавил: — А ну давай-ка, черт ты этакий, улепетывай к регистратуре и сиди там и жди. Не дай бог, главврачиха тебя уже видела. Грехов не оберешься.
— Пойми… да по закону… я, — начал вновь доказывать ему Петр Федорович. — Вот путевка. Регистратура была закрыта, ну и решил я придремнуть. Ехал в жестком вагоне, если бы знал, как умаялся…
— Да чхал я на твою путевку и на твой вагон!.. — опять заорал дворник. — Мне не это нужно, мне порядок нужен. Ты небось думал, что у нас тут тюха-матюха, больничная чехарда. Ну нет уж, у нас фирма, санатория высшая класса. По чистоте на первом месте…
— Понятно… — вздохнул Петр Федорович. — Понятно, а я-то думал, что санаторий — это простор, ну, как летом в поле… или как в детстве… Помнишь…
Дворник грозно посмотрел на него.
И от еще большего волнения Петр Федорович взял чемодан не за ручку, а под руку и насупленный, угрюмо посматривая на красивые клумбы и фонтаны, потопал в сторону регистратуры. Но не зашел он в нее. А зашагал прямо на станцию, где взял билет и уехал обратно домой.
И больше в санатории он никогда не ездил.
Смешной он был человек. И не каждый мог его понять.
В сырую осень вызовов много. Порой все сутки проходят в автомашине. Вокруг болезни с неизбежными муками, и нет от них продыху ни больным, ни врачам.
— Доктор, ты что это точно пьяный… — смеется водитель. Он бывший артиллерист, с малолетства познавший роль запаса, сидит в расстегнутой телогрейке, разложив на баранке сверток с едой, и обсасывает куриные косточки. Пока я обслуживал вызов, он насытился. А вот я свой живот не скоро успокою. Буквально сейчас, следом за мной, поддерживаемая соседями, спустится больная, а в такие грустные минуты, сами понимаете, есть как-то неприлично.
И вот уже водитель что есть мочи гонит машину.
Голод не дает покоя. И если раньше придорожные березы казались красавицами, теперь же они все какие-то тощие, сутуловатые, макушки их угрюмы и жалки, а стволы все в грязи. Пивная бочка, стоящая у перекрестка, похожа на свинью. Солнечный диск теплится еле-еле, словно угасающая лампадка. Облака в крапинках, точно их кто-то подолбил из мелкашки. Пытаюсь насильственно заставить себя думать о чем-либо другом, но в желудке опять «скоблит» ножик. Глотаю слюну. Из-за долгой тряской езды по вызовам в животе все сбивается, как в маслобойке.
— Как себя чувствуете?.. — тихонько спрашиваю я больную, стараясь выглядеть перед ней как можно ласковее.
— Хорошо… — отвечает она и смотрит на меня довольно долго и странно. Может быть, своим женским чутьем угадывает во мне юного, незрелого докторишку, еще многому в жизни не научившегося и также многого не понявшего в этой суетной медицинской работе.
Я смотрю на нее. Нет, нет, ее лицо благородно, и в нем не просматривается насмешки ко мне, наоборот, оно полно сострадания.
Быстро нащупываю ее пульс. Затем пересматриваю электрокардиограмму. «Стенокардия. Блокада левой ножки». Тоны сердца ритмичные. Все пока хорошо.
Влетевший в дверную форточку ветерок освежил меня. Его поток совпал с томным, особым урчанием мотора на повороте и с щелканьем замочка на сумочке у больной.
— Доктор, кажись, приехали… — в радости произнес водитель и, застучав сапогами, приоткрыл дверцу.
— А это вот вам… — и больная протянула мне конфетку. Я вздрогнул.
— Нет… нет… — отказываюсь я и, отводя в сторону руки, выпускаю электрокардиограмму на пол.
— Да какой там нет-нет. Я же вижу, вас мучает голод. Берите, берите. Пустышка-ледышка, а жажду утоляет…
Мне почему-то стыдно.
— Спасибо… — благодарю я ее и, чтобы не оскорбить ее, тут же забрасываю пустышку-ледышку в рот. И помогаю больной выйти из салона.
Она маленького роста, с длинными локонами, с карими глазами, с родинкой на левой щеке. Губы от сердечной ноющей боли то и дело слегка раскрываются. У приемного покоя, когда я подал ей вторую руку, чтобы помочь ей взойти на крылечко, она, крепко сжав мои пальцы, произнесла:
— В следующий раз обязательно приглашу вас к себе на обед. Покушаете у меня аппетитно… — И с улыбкой добавила: — Сделаю ложный вызов, ей-богу, сделаю…
Я оступился. В который раз это неумение скрыть себя от больного подводило меня.
Она придержала мой шаг, видимо, ожидая ответа. И я, словно и дожидавшийся этого ее предложения, ответил как можно ласковее:
— Не волнуйтесь, я обязательно, обязательно к вам приеду…
В распутицу почти у самого вокзала прокололи колесо.
— Эхма!.. — вздохнул молоденький водитель и, выпрыгнув из кабины, кинул на сиденье кепку и, с печалью даванув по колесу ногой, по-мужицки стал закатывать брюки.
Мы возвращались с вызова. Так что не было тех забот и волнений, которые бывают, если, наоборот, мчишься на вызов.
День был солнечным. И точно зеркало было небо. И кружились, и пели в нем птицы.
— Что, дел много? — спросил я водителя и подошел к нему, чтобы хоть чем-нибудь помочь.
Он мотнул головой. Потом, стерев пот с мелких веснушек, добавил:
— Колесо заменить — дело простое… — И, быстренько открутив гайки со ступицы, заворчал: — Ох и надоели ж мне эти гвозди. Никогда раньше не ловил, а тут вдруг… — и пассатижами выдернул из баллона проржавленный гвоздь. — Вот из-за него, доктор, мы с тобой и лишились запаски. Ну а без запаски езда, сами небось знаете, дело последнее.
Затем, вдруг пожав плечами, на мгновение затих, а потом, блеснув зубами, с нежностью сказал:
— Слышите, проводы… — Прикурив папироску, радостно улыбнулся. — А гармонист, гармонист-то… Вы только посмотрите, как наяривает…
Я осмотрелся. И поначалу услыхал лишь один только тонкий, жалобный звук гармоники. А потом вдруг там, у старых берез, что росли почти рядом с платформой, увидел толпу народа. Да, это были проводы. Худенький, наголо остриженный парнишка в глубоком раздумье стоял в середине толпы и, слушая гармониста и поглядывая на девушку, видимо, невесту, стоящую рядом с ним, с расстановкой мял в руках сигарету, все никак не решаясь прикурить ее.
Ну а гармонист, то и дело приподнимая брови, тряс головой, а то порой, вдруг полусогнувшись, задыхаясь, так растягивал мехи, что цветастая материя на них, казалось, вот-вот лопнет, и тогда антоновские яблоки, нарисованные на ней, вдруг оживут и посыпятся провожающим прямо под ноги.
Гармонист невысок ростом. Худощавый, с обветренным, загорелым лицом, он не представлял особого интереса, не считая, конечно, его бархатных розовых шаровар, мастерски заправленных в коротенькие кирзовые полусапожки. Медаль «За отвагу» на его груди от времени так натерлась мехами, что солнце и в тени вспыхивало на ней.
Трудно сказать, что это была за компания. И был ли приглашен сюда гармонист по заказу, или же он был свой человек, а может, просто случайно встретился на платформе с провожающими.
Водитель попросил меня смотаться в станционный буфет и купить пирожков. Буфет рядом с платформой. Поднявшись по ступенькам, я почти совсем поравнялся с толпой.
Как быстро течет жизнь. Когда-то этот парень был мальчишкой, юношей, а теперь будущий солдат. Его девчушка-невеста с розовой ленточкой в волосах, то и дело всхлипывая, прижимается к его груди, лицо ее покраснело, хотя и чувствуется, что она почему-то теперь и не придает особого значения своему внешнему виду.
Толстоватый, солидный человек, наверное, его отец, весь напомаженный и накрахмаленный, с галстуком-бабочкой на шее, уже пьян. Увидав в моих руках пирожки, усмехнулся.
Свистнула подошедшая электричка, и от толпы повеяло тоской.
— Ну вот и все… — усмехнулся гармонист и, прекратив играть, откинул рукой с лица волосы.
Медаль на его груди занырнула в мехи гармошки, и те зажали ее, беднягу, защемили, с треском натянув планочку. Но гармонист не долго молчал. Выпив чарку, за ней другую, он тылом ладошки промокнул лицо и, жадно затянувшись папироской, заиграл что-то чистое и хорошее. Девчонки, поправляя в смехе брюки, закружились с парнями в танце. Мужики, и среди них молодой кореец, лихо открыли зубами три бутылки пива и по очереди, по кругу пили из единственного стакана.
— Все опять как не у добрых людей… — проворчала какая-то старушка и, достав из сумки алюминиевую кружку, попросила, чтобы и ей налили пива. Но она все не выпила. Лишь чуть отхлебнула.
Невеста обняла парня.
— Я скоро, скоро… ты только не плачь… — с напускной строгостью успокаивал он ее и чмокал то в щеку, то в губы. — Всего два годика, всего два…
— А если твои узнают?
— Ну знаешь… — сердито буркнул он, хотя и сконфузился. — Если стариков вводить в курс дела, то это не жизнь будет, а мука. Говорю тебе, рожай, и никаких гвоздей. А я им опосля-а… напишу…
Стоявшая до этого электричка приоткрыла двери и, воинственно присвистнув, чуть дернулась, видимо, лишь для того, чтобы поправить вагоны.
Кто-то крикнул:
— Братцы-ы, полундра! Братцы-ы, в ружье!..
И толпа, смешно закопошившись, ринулась занимать места.
Он, прижимая, прикрывал ее. Но она уж очень как-то резво лезла вперед.
Мой водитель, подбежав ко мне, выпалил:
— Ну ты, доктор, и даешь, тебя только за смертью посылать… — И, выхватив из моих рук пирожки, стал с жадностью их заглатывать.
Впереди блеснул зеленый глазок светофора. Двери закрылись. И электричка, выбравшись на простор, сопровождаемая ровным стуком, вольно рассекая воздух, понеслась к горизонту.
Платформа опустела. Я остался один. Осмотревшись, вздрогнул. Внезапно увидел гармониста. Бедняга. Все побежали садиться в вагон, а о нем позабыли. Но он не унывал Расставив ноги и в откровении, в такт своей задушевной мелодии так двигал и дергал головой, что дежурный по станции, усатый старик, высунувшись из окна и сдвинув на затылок форменную фуражку, в блаженстве смотрел на него.
— Эх как разыгрался… — произнес водитель, вытирая масло с запупырившихся губ. А потом, отряхнувшись, спросил меня: — Ты чего это уставился? Давно проводов, что ли, не видел?
— Да… — произнес я.
— Э-э… Сразу видно, не служил.
Но я не слушал его. Загадочная манерность гармониста, пустынная платформа, парень, уехавший служить, не давали покоя. Вся эта крохотная, почти сиюминутная сценка из жизни показалась мне самой любовной и самой простой.
Машина взревела, и водитель, уже в который раз проклиная проржавленный гвоздь, вырулил на дорогу.
Все исчезло. Лишь звук гармоники грохочущей волной откуда-то извне падал на меня и подхватывал и уносил вслед за ним. И в который раз я понял, что моя жизнь, такая никчемная и легонькая, подталкивается и двигается вперед благодаря жизни других людей.
Я посмотрел в боковое зеркало. Солнце светило и улыбалось.
Опять вызывает он. А ведь парню всего тридцать пять. То ли по молодости, то ли по неразумности врач-рентгенолог делая ему снимок груди, позабыл, в какой его положил проявитель. И когда снимок проявлялся, то по привычке взял первый с краю снимок какого-то старичка.
— Батюшки… — прошептал врач, выйдя на свет.
— Что случилось? — спросил его парень.
— Если я не ошибаюсь, то у тебя опухоль… — И чтобы укрепить свое предположение, стал объяснять: — Вот видишь, в четвертом межреберье пятно. А это жилочки от него идут к метастазам…
Парень снимок свой не взял, ушел. И за какую-то неделю слег. А за полгода так исхудал, что на него страшно было взглянуть.
На другой день врач-рентгенолог разобрался в снимках, стал дозваниваться к парню на работу, объяснять, разъяснять, что, мол, так-то и так, мол, не опухоль у него, дурачка, а самая что ни на есть отличнейшая норма.
Но на работе подумали так: «Ишь какой врачишка шустренький. Проболтался, а теперь изворачивается. Зубы заговаривает. Мол, никакой у него не рак. Ну уж нет, слава богу, сейчас люди не валенки, все понимают…» — и послали рентгенолога куда следует.
Что и говорить, дело приняло серьезный оборот. Десятка два врачей, обследовав парня, по нескольку часов кряду вдалбливали ему, что у него, мол, нет и никогда не будет ни какого рака. А он, их внимательно выслушав, в конце говорил: «Знаю я вас. Врач-рентгенолог проболтался. А вы за него меня успокаиваете. Так сказать, прикрываете. Нет, не выйдет. Я сам все видел. Он мне целый час про это пятно рассказывал…»
— Да поймите, снимок был не ваш, снимок был чужой, деда одного… Вот посмотрите…
— А что смотреть? Разве долго вам подсунуть другой снимок?
Не убедил его и главный онколог. В итоге все врачи отказались от него, лишь мы на «скорой» жалели его. Вот и сейчас, вызвав меня, он будет со слезами на глазах просить, чтобы я ему сделал морфий или промедол. По его понятиям, если почти всем онкологическим больным делают обезболивающие средства, значит, и ему надо их делать. И не сделав инъекции, от него не уедешь, уж больно жалко его, парень стонет, кричит, ну точь-в-точь как самый что ни на есть настоящий онкологический больной. Сделаешь ему пустяковый анальгин или даже хотя бы тот же самый кордиамин, и, глядишь, ему сразу легчает.
— Ну как, боль прошла? — спрашиваю я, не успев еще убрать из мышцы иглу.
— Да-да… прошла… — радостно шепчет он и, весь как-то обновившись, смотрит на меня так, словно я и есть его тот самый единственный спаситель.
— А вы и завтра приедете? — с мольбой притрагивается он к моему халату.
Ком подходит к моему горлу. Мне жалко его. Ну почему, почему абсолютно здоровый человек ни с того ни с сего заживо загоняет себя в могилу? Грудь его хрипит, под сиреневатой кожей на шее нервно пульсируют вены. Несуразно заострившийся лик бледен. И лишь в беззвучно шевелящихся веках да в мутных глазах еще теплится надежда. Неужели случайно оброненное слово может так ранить человека. Перевернуть душу, тело, разбить жизнь. Да, к сожалению, в медицинской практике нередки случаи иатрогении — заболевания, возникшего и развившегося от самовнушения, поводом для которого в данном случае послужило пятнышко с прожилочками.
Завтра он опять будет кричать от боли, до крови покусывать губы, изгибаться от судорог. И после сделанной пустячной инъекции дистиллированной воды прямо на игле успокоится.
— Доктор, ну что вы молчите? — вскрикивает он.
— Завтра утром я обязательно к вам заеду… — виновато произношу я и смотрю на его белые руки, прижавшиеся к груди. Мне жалко его, и мне стыдно за себя.
Заболел мой друг по «скорой» Васька Липкин. Я сижу у его койки. Он лежит и тонкими пальцами теребит лоскут больничной рубахи.
Жалость к другу щемит сердце.
Неделю назад я отдыхал дома после дежурства. Вдруг он ворвался ко мне.
— Все, решено!.. — крикнул он. — Завтра свадьба.
— Красивая?
— Очень…
В день свадьбы ярко светит солнце.
Машины ловко подъезжают к двухэтажному зданию загса, где при входе стоит праздничный светловолосый старичок сторож, только что отдежуривший ночь.
Под звуки свадебного гимна разливают шампанское. Молодоженам надевают кольца. Поздравляют. Потом в зал зашел старичок. Налили и ему в кружку. Он выпил, не икнув.
Кто-то предложил:
— Возьмем отца с собой…
— Возьмем…
И его усадили рядом с молодоженами.
Когда город кончился, перед глазами вспыхнуло зеленое поле, рассеченное грунтовкой. Стая воробьев закружилась над машинами, с криком и гомоном расклевывая брошенную булочку. В низине старик попросил остановиться.
Слева наклоненный столбик с табличкой. Внизу зелень, вверху синь. И ветерок.
— Степняк… — сказал старик, подставив ему лицо. — Он всегда с дорогой дружит, потому что пыль — его невеста.
Все засмеялись. Старичок предложил:
— Айда пехом…
— С удовольствием, но ведь дождик обещали, — вспомнил кто-то.
— Чепуха, мы разуемся и босиком.
— Это как босиком?
— А вот так… — и старичок, сняв парусиновые тапки и носки, закатал до колен штанины и так засверкал пятками, что только его и видели.
— Ать-два, ать-два… — отпустив машины, затопали все мы.
Шли бойко. Но, пройдя с километр, устали. Солнце жгло. Ветер с духотой не справлялся.
Жених посмотрел в небо.
— Дождика б…
Фата у невесты сползла.
— Какие удивительные волосы у тебя! — прошептал он.
— Сейчас у многих такие волосы, мой милый… — засмеялась она.
Навстречу солнцу выползли две дождевые тучки.
— У тебя есть зонтик? — спросила она.
Он улыбнулся.
— Откуда…
А когда загрохотал гром, она вздрогнула.
— Что с тобой? — спросил он.
— Ты почему зонтик не нашел? Почему? — прошептала она.
Мы шли, не обращая внимания на дождик. Мы пели, и плясали, и, смеясь, растирали дождевые капли по лицу.
Ветер гнул кусты. Дождь хлестал по лицу. Из-за старого забора доносился трезвон. Свадебные перчатки и фата свисали со столба.
Споткнувшись о камень, он упал. Попытался подняться, но, как муха в паутине, запутался в струях дождя. А когда освободился, замер. Ее глаза в сине-черных кругах. Вместо губ пепельные валики. Брови и ресницы отклеились. Сняв с головы мокрый парик, она начала выжимать его. Инстинктивно защищаясь, он поднял руку. Захотелось куда-нибудь провалиться. Но ощущение было таким, словно проволокой подвешен к облаку.
— Прости… — улыбнулась она и сделала полушаг к нему.
— Нет, нет!.. — вскрикнул он и, с трудом вырвавшись из ее объятий, побежал.
— Милый, что с тобой?..
Он оглянулся. Это опять была не она.
— Спасите-е-е!..
Но люди, услышав его зов, с места не двинулись. Рады были, что молодые, не откладывая на будущее, ищут деток в капусте.
Он подбежал к даче, в которой они собирались прожить все лето. По дощатой стене забрался на крышу. Раздвинув шифер, попал на второй этаж. На первом шумно. Дожидаясь молодых, веселятся друзья.
Под кроватью чемодан с вещами. Он достал его, быстро открыл и опять, как там, в поле, замер. Чемодан был набит флакончиками, баночками, черными и синими париками, полиэтиленовыми мешочками с искусственными бровями, ресницами, родинками.
В дверь застучали. Кинувшись к окну, он поскользнулся на разлитой по комнате туши. Падая, губами ощутил ее горечь. Но тут же встав и обхватив руками рюкзак с бельем, сиганул через окно на клумбу.
«Она опаздывает… — подумал он, прощаясь с дачей. — Видно, забежала к соседке, чтобы привести себя в порядок».
Он бежал быстро. Рюкзак оказался не в меру тяжел. Бедный, он не знал, что вместо белья в нем лежали все те же свертки с париками и коробочками с тушью.
У шоссе в размытой колдобине он присел. Целая вереница свадебных машин пронеслась в трех шагах от него. Красная ленточка, оторвавшись от самой лучшей по красоте машины, хлестанула его по губе. И он вновь, как и прежде, ощутил горечь туши.
Так заболел мой друг. Всякий раз, возвращаясь от него, я вспоминаю, что туалетный столик у моей жены забит тушью. Каждый день она красит брови, ресницы. Мы живем хорошо. И лишь иногда, когда на улице летом начинается дождь и она приглашает меня пройтись вместе с нею, я, ссылаясь на занятость, почему-то отказываюсь от ее приглашения.
…Вызвали на завод. Какой-то посторонний залез на заводскую трубу и пытался рубашкой перекрыть выход дыма. Диспетчерша попросила меня не волноваться, так как его уже связали и задача «скорой» всего лишь переправить его куда следует.
— Не было печали, так черти накачали… — вздохнул водитель и предупредил: — Доктор, вы как хотите, но я вылезать из машины не буду. У этих сумасшедших один бог знает что на уме. Ни с того ни с сего вдруг как полоснет тебя кулаком, вот тогда и узнаете.
Он прав. Душевные болезни страшнее и опаснее физических. Порой встретишься с душевнобольным, и душа враз опустевает. Потому что понимаешь, что не так просто излечить его.
…Художник, молодой человек, узкоголовый, с длинными волосами и коротенькой бородкой, рисовал картину. Необыкновенное до этого вдохновение овладело им. День на картине клонился ко второй половине. У самого горизонта он сделал несколько мазков, и через минуту вспыхнул осенний закат. Золотисто-красные облака, вспыхнув, засияли и ожили. А через какое-то мгновение уже новое закатное солнце со всех сторон пронзило жидкую голубизну волшебным блеском. Внимательно всмотревшись в линию горизонта, он вздрогнул.
Густой дым перед глазами. Без конца и края. Словно массу трупов мокрых галок в страшных корчах кто-то взял и наклеил на закат осеннего солнца.
Заводские трубы каждый вечер выпускали дым. И от этого небо по вечерам становилось точно резиновый мячик, который, проколов, подпалили, как ненужную вещь.
Протянув вперед руки, он пальцами прикоснулся к черноте, и в тот же миг все его пальцы, а вместе с ними и обе руки оголились и стали черными и неестественно твердыми. Он отнял руки, и вот уже вместо рук от его плеч отходят две блестящие черные ножки от старого довоенного рояля Во время войны бабушка весь рояль изрубила на дрова, а две ножки уцелели. Они были так тверды, что никаким топором не расколоть их.
Эти ножки от рояля, если их перевернуть и поставить на ровную плоскость, точь-в-точь напоминают трубы химзавода.
Заводские трубы, упав на землю, начали пускать дым на клены, на засыпающих птиц и поющих сверчков. Птицы умирали от дыма и как камни падали с деревьев. Сверчки, подняв вверх лапки, умолкали. Прохожие, сделав всего лишь один вдох, тут же чернели и валились на бок.
Затем трубы приблизились к балкону, где он стоял, и черный грязный дым сажей покрыл его руки, щеки, глаза и губы. Люди в бессилии увязали в саже, которая засыпала улицы в человеческий рост.
Не выдержав всего этого, он, выскочив из дома, ринулся в сторону горизонта. Он бежал к трубам. Он кричал, он звал народ за собой. Но люди испугались разбоя. Они мигом сообразили, как надо поступить с сумасшедшим.
Кто-то ударил его палкой по голове. Затем его повалили наземь. А заводской сторож даже пытался натравить собак.
Находясь у основания самой крупной заводской трубы, он хмельными полудетскими глазами смотрел на окружившую его толпу и понимал, что он бессилен. Однако упрямство взяло свое. Раскидав всех, он кинулся на трубу и стал подниматься по ней. Ему казалось, что, если, он не остановит дым, его убьют.
Пришлось два цеха временно остановить, чтобы перестал идти дым. С сумасшедшим вступили в переговоры. А уж потом, исстрадавшегося душой и обессиленного физически, его с трудом сняли пожарники.
…Шел мелкий дождь. В черном беззвездном небе то и дело грохотал гром. Грозный ночной ветер гнул деревья и как пьяный цеплялся за водосточные трубы, разбрызгивая по сторонам непрерывно журчавшую дождевую воду.
— Открывайте! Вы слышите? Открывайте!
Я стучал в намокшую дверь с табличкой «Приемное отделение». Наконец-то в зарешеченных окнах вспыхнул свет, но дверь не открывали.
— Вы в окно им потарабаньте, да посильнее… — посоветовал шофер и засигналил.
Я подошел к закрашенному окну и начал стучать согнутыми пальцами сильно и непрерывно. Почему-то я не обращал внимания на то, что мои новенькие чешские туфельки давным-давно промокли, а наглаженные брюки превратились бог знает во что, они липли к ногам, точно лейкопластырь.
Через две минуты в коридоре затарахтело ведро и грубый женский голос прокричал:
— Ладно, слышим, не глухие! Толком поесть не дадите! Все везете и везете, завозили уже все, ведьмяки…
Щелкнул замок. Заскрежетал и по-мышиному пискнул засов. Дверь открылась. Толстая высокая баба в длинном халате и в белом, бантиком повязанном платке на голове, накинув на себя клеенку, переступила лужу и вышла на свет.
— Чего привезли? — посмотрев на меня, спросила она. — Буйного, пьяного или спокойного? А то, может, вы не к нам привезли, так я в другой корпус пошлю.
— У нас галлюцинаторный синдром. Вот здесь все записано, — ответил я и мокрыми руками подал сопроводительный лист.
Выглядывая из узкой щели клеенки, санитарка попыталась что-то прочесть на бумажке, а затем передумала и соглашающе кивнула:
— Коль с бумажкой, то к нам…
Дождь полил сильнее. Красный крест на самой верхней фаре автомашины давным-давно промок и теперь походил на свежую человеческую кровь. Угловатая тень выделилась на одном из зарешеченных окон, затем исчезла.
— Чай, городские будете? — спросила она.
— Да нет, из поселка, — ответил я, выводя из машины больного.
— Где химзавод, что ли?
— Да… да… где химзавод.
— Ну ладно, давайте его мне…
И толстая баба, цепко взяв больного за руку, перепрыгнула булькающую лужу и оказалась на сухом порожке.
— Минуточку… — попросил я ее и протянул санитарке две черные ножки от рояля. — Возьмите, это с ним. Он все время говорил, что это его руки.
— Что-о? — вскипела та и, емко задышав, вылупила глаза. — Еще чего не хватало… Видите ли, он больных слушает. Да наши больные вам чего угодно наговорят. Даром что безголовые, а они усе… усе… могут…
Однако она все же взяла ножки и, взяв их, заметила, что больной успокоился и перестал дрожать.
Больной не заметил, как омытые дождем деревья необыкновенно нежно наклонились над ним.
Санитарка заставила больного постоять в луже, помыть туфли, а затем пропустила его вперед. Две черные ножки от рояля она, хмыкнув, сунула в свой огромный карман.
— Вот ведь чепуха какая, вроде и руки у него на месте, а он рояльные ножки заместо рук с собой приволок… — удивилась она и толкнула больного в узенький коридор.
Наступало утро. А мелкий дождик продолжал шуметь.
— Пьяный небось? — как-то насмешливо-грустно спросил меня шофер.
— Да нет… нет… он абсолютно трезв… — ответил я ему.
Он в удивлении посмотрел на меня.
— Доктор, ну так отчего ж тогда все это произошло? — видимо, случай этот тронул его не на шутку.
Я не знал, что и ответить ему.
Дождевые капли, ритмично разбиваясь о лобовое стекло, падали вниз под колеса. Сгорбившиеся телефонные столбы, сопровождающие лесополосу по правой стороне, плыли в воздухе и дрожали. А вдали, ближе к горизонту, неподвижно стояло над зеленым лесом большое черное облако. А под ним, точно мумии, крохотные трубы.
Водитель пристально посмотрел на них, а потом, вытерев нос, с обидой опустил свой взгляд куда-то вниз.
Вырвавшись на асфальт, мы лихо обогнали водовоза на лошадке. Он неумело поприветствовал нас рукой, потом что-то крикнул и вскоре совсем исчез в мягком теплом сумраке.
Везу женщину с головными болями в больницу. Ее сопровождает муж. Он сидит в машине и нервно указывает мне, какие инъекции надо делать и какие давать таблетки.
Превозмогая головную боль, женщина шепчет:
— Доктор, вы представляете, ощущение такое, словно кто-то кипятком обварил мне мозг…
Не лицо у нее, а маска, полная глубокой печали. После обезболивающих инъекций она еще более застонала и надсадно заскрежетала зубами.
Всю дорогу я только и видел перед собою ее голову с то и дело слипающимися глазами и ее руки, которыми она с жадностью обхватывала виски. На пухлых пальчиках ее блестели кольца, перстни, а на правом указательном у нее было два кольца, одно простенькое, другое с бриллиантами. Цельным желтым цветом блистало золото, и разноцветные камни ярко светились у ее головы. Муж ее, в туго-натуго застегнутой на груди шинели с новенькими майорскими погонами, громко требовал, чтобы я не тянул зря время, а поскорее делал больной морфий или что-нибудь в этом роде.
Я подчинялся ему. Я делал все, что мог. Ведь мне тоже, как и ему, было жаль ее красоту, маленький дамский лобик, чуть прикрытый взъерошенными локонами, остренький нос и глаза, добрые-добрые, словно и нет никакой внутри ее боли. Иногда она, откидывая в сторону голову, кому-то улыбалась, но не кричала благим матом и не орала, что вот, мол, я все — умираю, погибаю и вы все срочно спасите меня. Видно, она научилась терпеть.
— Крошка, что с тобой, крошка… — суетился вокруг нее майор, то и дело прикрывая ей ноги одеялом.
В салоне летала из угла в угол белая бабочка. Вот она преспокойно, невзирая на то что машину качало из стороны в сторону, села на укладку шприцев. Она могла перепрыгнуть на стерильную иглу. Я поднял руку, чтобы прихлопнуть ее.
Но женщина сжала мою руку:
— Доктор, не надо…
И от этой ее просьбы я совсем обессилел. В душе я так увлекся ее спасением, что готов был отдать за нее свою жизнь. Выписка из ее прежней истории болезни, которую неожиданно показал мне майор и в которой было указано, чем страдала больная, не на шутку насторожила меня. Видно, он знал латынь, а может быть, сам интуитивно что-то чувствовал. Намокшие усики под его носом нервно задергались, он рукою рванул запаренный ворот гимнастерки, и одна пуговичка тотчас сорвалась с ворота, а другая осталась висеть на оттянутых ниточках.
Так скованно, находясь в необыкновенной растерянности, я и просидел несколько минут, покуда мы не уперлись в дверь приемного покоя.
Когда ее переложили на носилки, она попросила:
— Доктор, пусть муж понесет…
Но он не смог нести. Не на шутку разнервничавшись, точно пьяный, качнулся.
— Доктор, я не могу видеть эти больницы. Они не помогают, они…
— Да будет тебе, Федя, будет… — прошептала она. — Я тебя очень прошу… — и потеряла сознание.
В приемный покой был вызван невропатолог.
— У нее раньше приступы были… — торопливо начал объяснять ему майор. — Но не такие… А тут вдруг начался приступ, ну а после приступа она как начала кричать… да как кричать, вы даже не можете себе представить… — И, видно, по своей старой привычке он тут же начал давать советы: — Учтите, вы сами ничего не делайте. Пусть первым долгом ее нейрохирург осмотрит… Все с ним согласовывайте, все с ним.
— А мы и не собираемся ей ничего такого и делать… — спокойно произнес тот. — Мы просто сделаем ей обзорный снимок, за что нейрохирург только благодарить будет…
— Нет, нет… — вспыхнул майор. — У нее не опухоль. У нее не опухоль. У нее нервное истощение… Она раньше не кричала, а тут вдруг кричать начала. Понимаете ли вы это или нет?
Майор, с пеной у рта доказывающий какую-то свою версию, был, может быть, и прав, по простоте души своей желавший скорейшего выздоровления своей супруге.
— Да вы что, врач?.. — вдруг резко остановил его невропатолог.
— Нет, не врач… — пролепетал тот и, нервно, с дрожью в голосе проглатывая звуки, долепетал: — Но вы… должны… помочь… — И в ту же секунду, как и все мы, он на некоторое время стал истуканом.
К вечеру больная потеряла сознание. Не вернули ее к жизни ни реанимационная бригада, ни даже нейрохирург, на оперативную помощь которого так надеялся майор.
На вскрытии у больной оказалась опухоль мозга. Патологоанатом, выйдя после к майору, переодетому почему-то в штатское, начал в чем-то его переубеждать, на что тот, то и дело дергал ворот рубахи и шептал:
— Да ничего мне теперь не нужно…
Так и остались по его просьбе неснятыми кольца на ее пальцах.
Иногда, когда посылают на перевозку тяжелобольных, в подмогу дают санитарку Полю. Сухонькая она, на один глаз подслеповата, но работу свою знает. Рукава на ее халате коротко подрублены, белая косынка повязана по-старинному — концами наперед. Карманы забиты бинтами, ватой, бумазейными тряпочками, все это нужно ей. Ведь она не только убирает за больными в машине, но и по пути в больницу лишний раз пожалеет его: вытрет пот со лба или же, наоборот, намочив тряпицу в прохладной воде, приложит ее к голове или к груди больного. Бинтиками она умело подвязывает тоненькие шланги-трубочки капельницы; и как порой ни мотает из стороны в сторону машину, они, как следует закрепленные ею, не двигаются, и игла в вене сидит надежно.
Когда едешь с Полей в больницу, она молчит. Но когда дело сделано и ты возвращаешься холостяком на подстанцию, тут уж она как начнет говорить, только слушай ее. Она любит повторять фразу, на которую почти все мы, и врачи, и медсестры, сочувствующе вздыхаем. Прежде чем ее произнести, она как-то завороженно притихает, а потом вдруг, глубоко вздохнув, говорит:
— Ну вот скажите мне, кто в этом виноват?.. Ведь я, почитай, шесть десятков все санитарю и санитарю. И всего за каких-то семьдесят пять рублей. Каждый год все жду и жду, покудова зарплату мне набавят. А если и набавят, то всего лишь пятерку. А что по нынешним временам на пятерку купишь? Да ничего.
Водитель по кличке Бык, вздыхая, молчит. В одной руке держит руль, в другой платочек, которым то и дело стирает с лица пот. Жара на улице невыносимая. Люди одеты легко. Многие из них спешат на пляж. Наша машина спускается вниз к реке. Поля, приоткрыв окно, недоверчиво посматривает на отдыхающих.
— Эх, воля вольная, — вздыхает она, и, взглянув на меня, а потом на водителя, добавляет: — И для чего все это? Ведь и я девочкой раньше была… Но чтоб так ходить. Юбки не юбки, дудочки не дудочки… Колени до бедра до самого-самого вылупили… Стыдно глядеть. А вместо бровей синяки к глазам приделали, идут улыбаются…
— Свобода… — сказал ей водитель и впервые за все время рассмеялся.
— Да пошел ты со своей свободой… — вспыхнула Поля и заворчала: — Сколько раз я тебе говорила, что от скуки все это происходит. Скука, она ведь черт знает что с человеком делает…
Водитель молчал. А Поля продолжала:
— Ребята волосы отрастили… Космачи проклятые. И уж лимонад пить не будут, подавай им водочку… Я своему сыну говорю: Володя, подстрижи волосы. А он ни в какую… Говорит, что, мол, я старая, ничего не понимаю.
Водитель улыбнулся. А потом сказал:
— А как же Гоголь, бабуль?
— Гоголь… Гоголь… — и рассердилась. — Ну то вон когда было. Да и Гоголь попроще с людьми был, не то что сейчас некоторые. Я вот своему сыну говорю, давай, мол, Володя, в деревню съездим, родных проведаем. А он ни в какую. Говорит, что в деревне пыльно… А ведь сам, постреленок, из деревни. Деревня его выходила, выкормила. Ну и дуреха я, возьми и в город электриком его устрой.
Наконец подъезжаем к «Скорой». Мигом умолкнувшая Поля всматривается в знакомое здание. Она выходит из машины, в руках узел с грязными простынями.
— Ты, бабуля, устарела, — усмехается водитель.
— Чего?.. — повышает она голос. — Это я устарела… Ты лучше на себя посмотри. К больным людям, а в чем ездишь. Джинари все в заплатах. Они небось давным-давно сопрели, а ты, как бродяга, в них днюешь и ночуешь.
Водитель шарахнулся от Полины и, не оглядываясь, торопливо побежал в шоферскую.
На порожках стоял расстроенный главврач.
Увидев его, Полина не смутилась. Наоборот, заулыбалась.
— Доктор?.. — спросила она меня. — А у нас много еще перевозок?
— Три… — ответил я.
Подойдя к главврачу, она неодобрительно посмотрела на него и сказала:
— Евсеич, ты вроде хозяином считаешься, а время зря убиваешь. Дороги в нашем поселке тряские. А ты, чтобы тяжелобольных пожалеть, вместо хороших подушек суешь нам рваные. Я даже не знаю, как их больным и под голову ложить… Видно, лень тебе получить хорошие, заелся. Ну, если нету новых, черт ты этакий, то отдал бы мне порватые на дом, я бы их подлатала…
Главврач смутился, а затем как можно миролюбивее сказал:
— Не сердись, Поля, завтра все улажу… Просто дел много, не успеваю.
Его ответ понравился ей.
— Знать, не только мне, но и тебе тяжело… — произнесла она и, поправив платочек, добавила: — Эх, ну раз так, то ладно. Я покудова своими подушками, те что из дома принесла, обойдусь.
И пошагала в здание. Фигура ее на вид слабоватая. Походка робкая, года берут свое. Но зато дух, ох же и дух у нее! Так и кажется, что она никогда не умрет. Один раз напали на нее бандиты. После работы возвращалась она через парк домой и видит, трое ребят к девушке пристают. Она закричала: «Что вы делаете? Отпустите девушку, иначе я милицию вызову!»
— И кого это ты вызовешь?.. — засмеялись ребята и, оставив девушку, подошли к Поле.
— Фень… — говорит вдруг один другому. — Подбрось бабку… Пусть полетает…
И видит Поля, что один из парней нож из-за пазухи длинный достал и к ее груди точно шпагу стал направлять. Но не растерялась Поля, свисток у ней в кармане был, она тогда еще в охране на полставке работала, «медтехнику» сторожила. И знала, как милицию на себя звать. Думает: «Нож-то он ножом, и хоть глубоко он меня пропорет, а дыхание все равно сохранится, чтобы свист как следует произвести».
Чудачка Поля. Ей ножик к груди приставляют и велят кошелек доставать, а она как ни в чем не бывало из кармана свисток достает и что есть мочи как засвистит.
Ребята не предполагали такого поворота дела. Трухнули не на шутку. Увидев бегущий народ, тут же смылись. Затем приехала к Поле и милиция. Спрашивает милиционер:
— И каких размеров ножик у них был?
— Тебе по пояс, — отвечает Поля, а сама оглядывается, ведь точно помнит, что они без ножа убежали. Видно, если их отыщут и начнут обыскивать, а они преспокойненько скажут, что, мол, не было у них никакого ножа и бабка все придумала.
— Выходит, он больше метра? — удивился милиционер.
— Да, больше метра… — ответила Поля и, став на колени, начала копаться в траве.
— Выходит, сабля у них была?
— А может, даже и пика… — И вдруг засмеявшись, Поля крикнула: — Да вот она!
Смотрят все в траву и видят, что из земли еле заметно рукоятка торчит. Стали тянуть — не вытягивается. Милиционер взял лопату, чуть подкопал вокруг и с силой выдернул из земли шашку. Откуда она взялась у ребят, трудно сказать. Только ясно одно, чтобы следы замести, хулиганы затолкали ее в землю.
— Да… бабка… — вздохнул милиционер. — Если бы не свисток, трудно сказать, что бы они с тобой сделали.
— Я и без свистка свистеть могу… — улыбнулась Поля и, по-мужски скривив набок губы, вдруг так засвистела, что милиционер глаза на лоб выкатил.
Вот такая смелая у нас санитарка Поля.
Раньше я и представить себе не мог, как это можно рвать зубы на «скорой». А вот пришлось и это сделать. Правда, был я тогда на вызове не один, а вместе с докторшей, маленькой, худенькой пенсионеркой Александрой Александровной. У больного опухла щека и с трудом открывался рот. Вместо слов он издавал какое-то несуразное мычание и захлебывался слюной. До этого ему в поликлинике сделали по внутренней стороне щеки два разреза. Но гной почему-то из них не шел. Была полночь. И мела пурга. Мы находились в двадцати километрах от города. Парень-то, можно сказать, героем был: невзирая на температуру, периодически сменяющуюся ознобом, и припухлость, то и дело вызывающую не только боль, но и затрудняющую прием пиши, он работал — развозил на тракторной тележке корма по фермам. Вызвали нас доярки, ибо парень сам почему-то все чего-то стеснялся, а может, терпеливый был, как и все сельские труженики.
— Вся загвоздка в зубе… — сделала заключение Александра Александровна. — Выдернем его, и гной вылетит…
Зубы я никогда не рвал, а Александра Александровна, оказывается, рвала. Поэтому мы решили так. Она будет тянуть зуб, а я держать больного.
Парня усадили на стул в красном уголке. Простыней шею обмотали и приготовились. А он вдруг как замычит. Мы его спрашиваем, в чем, мол, Вася, дело, его Васей звали. А он опять мычать. Тут доярки перевели, они разбирали его мычание: мол, Вася спрашивает, вы как зуб собираетесь дергать, с новокаином или без новокаина.
— Насчет новокаина не волнуйся… — успокоила его Александра Александровна, набирая в шприц новокаин.
Проклятый зуб. За него почти и не ухватиться. Полусгнившие края шаткие. Такой зуб дернешь, верх слетит, а корни как были, так и останутся.
— А может, отвезти его в больницу… — предложил я, ведь у нас не было даже зубных щипцов.
— В такую пургу и за столько кэмэ трясти больного с такой чепухой… — возмутилась старушка и, словно разгадав мою последнюю мысль, добавила: — А мы его зажимчиком Кохера деранем. А если Кохера не подойдет, кривым сосудистым кокнем…
Метель за окном продувала все щели в красном уголке. Изморозь на них парила, а из-под подоконника тоненькой струйкой клубился мелкий снежок. Он кружил над полом и долго не падал, словно отыскивал, куда ему лучше упасть: то ли на лавку, то ли на связку газет или же на аккордеон, лежавший на целой горе телогреек. Совсем близко поревывали коровы. Спертый запах навоза, пота, плесени, соли, смешанный с прочими непередаваемыми приправами молочнотоварных ферм, висел в воздухе.
— Рвать зуб в таких антисанитарных условиях… — пролепетал я.
— Ну, если вы не желаете, то я буду делать это сама… — буркнула Александра Александровна и добавила: — Тоже мне, гуманист нашелся. У больного все показания для экстренной экстракции зуба, а он…
Я не стал более протестовать. Александра Александровна была старше меня и по титулу, и по возрасту, так что я просто обязан был ей подчиниться. Выпроводив доярок из комнаты и подставив табуретку под ноги, она потянулась к Васькиному зубу. Ей трудно было как следует ухватиться зажимом за основание зуба. Да еще и свет был плохим. Пришлось вновь позвать доярок, и они, принеся две переносные лампы, подняли их над головой, направляя свет на Васин рот.
Ох и чудная же старушка Александра Александровна, ей зуб тянуть, можно сказать, нечем, а она шутит. И все говорит, говорит, не дает больному от боли вздрогнуть. То есть мастерски захватила его чувства, мысли и душу в руки и вяжет из них веревки, какие ей только угодна А как ласкова она. Да при такой ласковости с ее стороны любой зуб ей доверишь. Под ее говорок я позабыл о всех сложностях данной нашей ситуации.
Я держу больного за плечи. А Александра Александровна говорит ему:
— И не уходи от меня, Васенька, не уходи. Не уходи, хорошенько дыши, хорошенько… Ну, а теперь слюнку сплюнь, быстренько сплюнь. Тазик крепенько в руке держи, чтобы он не упал. Ох и чудачок же ты, жаль, у тебя ни сестренок, ни братишек нет, чтобы они за тебя слюну сплюнули… Дыши, Вася, глубоко дыши. А теперь ротик сделай пошире…
И Александра Александровна, собравшись вся в комочек, что есть силы дергает зуб на себя. Вслед за зубом огромный фонтан гноя, смешанного с кровью, вылетает изо рта. И она, да и я, прилично испачкались. Но ничего, абсолютно ничего — ни запахов, ни холода, ни дрожи — не замечается — радость от того, что больному облегчено страдание, все затмевает.
— Не уходи, миленький, не уходи… — просит Александра Александровна Васю. — Рот открой пошире и дыши… — Она промокает лунку ваткой, смоченной в перекиси. — Сейчас я сменю ваточку и расскажу тебе, как тебе дальше следует себя вести…
— Кровь по горлу течет… — уже членораздельно произносит Вася.
— Не разговаривать, я ватку меняю. Жми ее зубами, посильнее жми. Молодец…
Щека у Васи спадает лишь наполовину. Он не сразу поправится. Отек тканей будет давать о себе знать дней шесть. Но сделано самое главное — выпущен гной, источник инфекции, которая вот-вот могла доставить больному самые большие неприятности.
Доярки несут нам теплой воды, но как ни моемся мы в ней, а отмыться от крови никак не можем.
— Ну и не надо… — облегченно вздыхает Александра Александровна. — Зато согреемся, руки у меня, доктор, ох как озябли… — И тихо толкает меня: — Только вам открою секрет — зуб я первый раз в своей жизни дергала, представляете, первый раз…
Я опешил, глядя на нее. А она хоть бы что, стоит передо мною точно Дед Мороз, раскрасневшаяся, свежая, снежная.
Выходит, она обманула меня. Обманула ради спасения больного, ради врачебного долга. В растерянности сажусь я на стул и смотрю на Ваську. Он натянуто, то и дело улыбаясь, удовлетворенно посапывает носом.
Я изнашиваю много халатов. И все потому, что почти все они мне малы. Нет, я не слишком высок, хотя рост выше среднего.
Вот и сейчас я говорю сестре-хозяйке:
— Простите, но вы мне дали халат, которым я едва ли повяжу свою голову.
Сестра-хозяйка, с горечью смотря на меня, вздыхает, а потом говорит:
— Это все потому, что заведующая наша маленькая, а раз маленькая, то и халатов больших нет. Да и врачи разве все такие, как вы… — И, забрав из моих рук халат, она вдруг разом решает вопрос: — Лучше я вам выдам четыре простыни, и вам по вашему вкусу и комплекции в нашем ателье сошьют модные халаты…
Делать нечего. Я беру простыни и иду в ателье, где на меня уже без всякой примерки шьют халаты.
Мне хочется, чтобы на моем врачебном халате было как можно больше карманов, в которые бы я мог положить что угодно, включая, конечно, широкую укладку шприцев для внутривенных вливаний и толстенные справочники-пособия. Но, увы, мода есть мода. А еще есть такое понятие, как «внешний вид».
— Три кармана, ну четыре, но, учтите, не более… ведь у нас тоже госстандарт… — ворчит закройщик и улыбается.
Препроводив больного на второй этаж, я медленно спускался вниз. У гардероба меня окликнули:
— Доктор, чай, не узнали…
Я оглянулся. Пожилая женщина, худенькая, темноволосая, с улыбкой смотрела на меня. Она стояла у гардеробной обитой кожей и войлоком двери. Рядом с нею ведро с землистого цвета водой, совок и веник. Она грудью опиралась на швабру.
Как ни пытался я ее припомнить, она все никак не вспоминалась.
— Конец месяца, вот и приходится генералить… — сказала она нерешительно, а затем вдруг продолжила более уверенно: — Да вы что, не узнаете меня? Прошлым летом вы меня сюда с радикулитом привозили. Спина у меня болела, и вы мне в машине сделали укол от боли… И часу не прошло, как мне полегчало. С той поры я все бегаю и бегаю… Если больного ночью ходячего привезут, я ему и халат на плечи накину, и тапки надену да наверх провожу…
Она улыбалась. Улыбался и я, почесывая затылок. Да разве всех упомнишь. Сколько их, больных, за свою жизнь перевозил. Сотни. Тысячи.
Я попрощался, поблагодарил ее за память.
— Давай лечи, помогай людям, как мне помог… — улыбнулась она.
С радостным чувством покидал я забрызганный угол и гардеробщицу, нежную, добрую, в руках которой была истертая до блеска швабра.
Ночью в машине умер больной. Мы уже были на полпути к больнице, как у него вдруг повторно усилился приступ бронхиальной астмы. Я делал что мог, но ни внутривенные вливания, ни внутримышечные инъекции, ни даже ингаляции не помогли.
Время, только время могло нас спасти. Нужна была реанимация, нужен был кислород, теплый коктейль. Не один раз спасали мы этого больного в больнице.
Приближалась весна, и снежок кое-где подтаивал. Находясь в двух километрах от больницы, на повороте наша машина остановилась. Оказывается, прокололи колесо, наехав на незаасфальтированные бракованные плиты, темные прутья которых чуть-чуть выступали из застывшего цемента. Ни попутных, ни встречных машин не было. Я связался по рации со «Скорой», и мне ответили, что при всех моих желаниях помощь к нам может прибыть лишь через полчаса.
Мне не верилось, что так вот могло случиться. Пока меняли колесо, прошло десять минут, а вперед этим путем ехать нельзя, вся дорога в этих плитах, зимой, когда снег твердый, по ней можно ездить, а весной нельзя. На объезд микрорайона мы потратили полчаса. Я спасал больного. Я спешил. Я переделал все мероприятия по его оживлению. Но время, потерянное впустую, делало свое дело. Больной, вдруг захрипев, судорожно раз-другой передернулся и заснул навеки. Кто виноват в его смерти — плиты, которые кое-как кинули прошлым летом дорожники, или же мы, врачи?..
Водитель после этого случая стал возить с собой две запаски. И порой вздыхая, он часто, глядя на дорогу, вдруг вспоминая об этом случае, умерший был его сосед, говорил мне:
— Это что же, доктор, выходит, мы, вместо того чтобы помочь больному, наоборот, помогли ему умереть…
Я молчал. А он все вздыхал и вздыхал.
Свежий, бодрый, я сижу в кабинете для приема амбулаторных больных и, посматривая на часы, жду больную, ту, которую лечил еще студентом.
Вот скрипнула дверь, и худая, стройная женщина боязливо спросила: «Можно?»
Тот же широкий белый лоб, умные глаза и тот же серебряный перстенек.
— Вы!.. — радостно воскликнул я. — Сколько лет сколько зим… — И подбежал к ней, элегантно взял за руку, усадил.
— Ну как?
— Да все так же… — ответила она, аккуратно промокнув платочком запотевший лобик.
— Неужели?
— Да какое там неужели. Совсем расклеилась. Ну да что без толку говорить… — и кинула на стол справку-выписку. — Вы вот лучше на это посмотрите. А то ведь восемь лет не виделись…
Я, с улыбкой вздохнув, смотрю на нее и не верю глазам. Как быстро прошло время. Лет восемь назад, а может быть, и меньше, эта женщина была молода, красива и во всей ее фигуре и движениях чувствовалась грациозность.
«Отчего так быстро летит время?» — думаю я и небрежно отодвигаю выписку.
— Почему вы раньше ко мне не обратились? — И, посмотрев на нее, вздрогнул. Она торопливо засовывала в конвертик деньги. — Как вы смеете! После всего, что было между нами. Как вы смеете!..
И на какое-то мгновение мы замолчали. Наконец она сказала:
— К тебе ведь сюда не просто попасть.
— Но ты ведь знаешь мой домашний телефон. Могла бы в крайнем случае оформить вызов на дом.
— Но и ты ведь знаешь, что самая большая глупость, когда женщина звонит женатому мужчине домой… — с гордостью произнесла она.
Я встал, точнее, нашел повод, чтобы встать. Пошел закрыть окно, так как залетевший в кабинет ветерок сорвал с ее головы косынку и распушил волосы.
Потом я подошел к ней и сел рядом. Вся сжавшись, она внимательно начала рассматривать меня. Маленькие пальчики ее были боязливыми и худыми.
— Знаешь, друг… — вздохнув, вдруг вымолвила она: — Я все никак не могу успокоиться после всего того, что было в моей жизни. Может быть, я говорю глупости. Но все-таки мне кажется, что только я одна должна быть вечно красивой, сильной, здоровой… — И, по-детски откинув голову, она улыбнулась.
— Ты не сердишься на меня? — тихо спросил я.
— Сейчас не надо об этом… — прошептала она. — Да и ни к чему…
— Как это ни к чему. Ведь мы можем, как и прежде, продолжить дружбу…
Она ласково похлопала меня по щеке.
— А ты по-прежнему и мил, и глуп. Живешь в каком-то радужном медицинском мирке… — и впервые за все это время она попыталась засмеяться, но смех ее тут же прервался тяжелым кашлем. Откашлявшись, она указала на грудь. — Раньше я пела, а теперь вот…
Я налил ей чаю. И она уже с какой-то новой для меня старческой осторожностью отпила глоток и тут же его отставила, Мне было непонятно ее беспокойство. Если честно сказать, я не верил, что она могла так заболеть. Словно в оправдание моих мыслей, она положила на колени сумочку.
— Чуть не забыла… — прошептала она и, открыв ее, достала таблетки и выпила их.
— И много ты их перепила? — спросил я.
— Не считала… — и с какой-то иронией начала поспешно перечислять: — Коробок двести анальгина, около ста — пентальгина, триста — супрастина, двести — тавегила…
Я в испуге поднялся. «Восемь лет я не видел, и эти восемь лет она пила всякую дрянь». Ну а когда она начала перечислять инъекции, которые ей пришлось сделать, я, позабыв о том, что я медик, не выдержал и прокричал на весь кабинет: «Господи, и ты еще жива?» Но первая любовь с таким недоверием посмотрела на меня, словно я был не врач.
Мой Ваня, молодой фельдшер, бывает резок. Но эта резкость не озлобляет больных, а, наоборот, успокаивает. Например, везем мы больного, И вот прямо в машине необходимо сделать ему укол. Салон трясет, качает, так что укол получается не из легких. Больной ворчит:
— Да ты что же это, парень? Все равно что лопатой долбанул…
— Простите, пожалуйста… — кротко извиняется перед ним Ваня и добавляет: — А если честно сказать, то у зубного врача и похуже бывает.
Больной, растерявшись, забывает про больной укол и уже смотрит на Ваню так, словно он действительно спас его этим уколом-колом.
А один раз везем мы алкоголика. Шумит он и что-то кому-то доказывает, мол, я и в училище не учился, и в самодеятельности не участвовал, а танцевать могу. На поворотах он не удерживается на салонной скамейке и падает на Ваню. Наконец терпение у Вани лопается и он, схватив за грудки алкаша, говорит ему:
— Если ты, дядя, не прекратишь свой дебош, то я дам тебе ремня. Ты слышишь или нет…
Но алкаш не слушается. Шумит пуще прежнего. Мало того, начинает протягивать руки. И тогда Ваня снимает с себя брючный ремень и, обмотав им руку, показывает его алкашу.
Тот, увидев ремень, морщит нос и, поняв, что Ваня не шутит, утихает. И мы спокойно доезжаем к месту нашего назначения.
Он всегда любил защищать стационарных врачей. И часто, везя больных на госпитализацию в ту или иную больницу, любил говорить им:
— В нашем городе больницы не то что в некоторых. Везем мы вас порой холодненькими, и без пульса, и без давления. А больничным врачам хоть бы что. Раз-два — и глядишь, раздышались вы. Так что стационар, дорогие товарищи больные, вам позарез необходим…
Он все говорил и говорил. Водитель вез. Я заполнял на ходу вызывную карточку. И под его монотонный говорок время быстро пролетало. Да и больной духом не падал. Знал, что везут его туда, куда надо.
В трудных ситуациях Ваня, почесав свой затылок, говорил:
— Раньше старики время лаптями измеряли и ведь точно угадывали, а я вот… — и сердился на себя за то, что в некоторых случаях помочь человеку ничем не может.
Иногда он просил помощи у меня. И если в силах я был помочь, то он внимательно запоминал мои советы и назначения. А если и я был бессилен, то вздыхал, все лицо его кривилось. И, словно чего-то лишившись на свете, он с грустью, по-детски страдальчески смотрел то на меня, то на безнадежно лежащего перед ним больного.
— Лучше бы меня задушила эта болезнь, чем его… — часто шептал он. — Ибо нет худшего, когда ты, медик, в белоснежном красивом халате сидишь перед ним. Он с надеждой смотрит в твои глаза. А ты, наоборот, в его смотреть не можешь…
Один раз он заболел. Пошел к участковому врачу в поликлинику. Но на другой день вновь вышел на работу. Был чем-то расстроенный.
— Что с тобой? — спросил я, первым почувствовав, что он не в своей тарелке.
Мало того, его беспокоил насморк, да и глаза были воспаленные. Они слезились. Он очень равнодушно посмотрел на меня. А затем вдруг резко произнес:
— Эх вы, тоже мне врачи. Да разве я, фельдшер «Скорой», зря в поликлинику пойду? За пять лет первый раз пришел, и вот тебе на. Я говорю им, кашель душит меня, по вечерам ознобы, в бронхах хрипы. А они заявляют мне хором, мол, для того, чтобы выдать больничный, нам нужен не кашель, а температура или хотя бы температурка… Был бы я врач, может быть, они и снизошли бы, а то я ведь фельдшер… — и, вздохнув, он засопел своим простуженным носом.
Его сопение походило на всхлипывание. Чтобы хоть как-нибудь успокоить, я, прописав ему лечение, отпустил его домой. Он сопротивлялся и не желал уходить с работы, но лишь после того, как я объяснил ему, что он может запустить болезнь и тогда ему придется пропускать не один день, а недели, а может, даже и месяц, да и разве можно больным медикам выезжать к больным, он утих — верный признак того, что понял меня.
— Только учтите… — добавил он. — Я не жаловался на вашего брата. Просто все это я рассказал вам по дружбе, понимаете, по дружбе…
И, приложив руку к груди, закашлял.
Поступив в мединститут, он все равно продолжал подрабатывать на «скорой».
— Вот так Ваня! — обрадовались мы все, когда узнали, что он все вступительные экзамены сдал на пятерки. — Это надо же! С первых дней, и ты уже на коне въезжаешь…
— А как же… — улыбался он и шутя отвечал: — Я ведь тоже, как и вы, хочу денежку заколачивать. Вы деньгу отхватываете, точно помещики, не то что мы, бедные фельдшера… Так что я, чтобы озолотиться, решил стать врачом и стану им…
Но не из-за денег, конечно, собирался он стать врачом. И он стал врачом. Да каким еще врачом. Сейчас он профессор, заведует крупной клиникой.
К вечеру, когда обслужено двадцать вызовов, не только я устаю, но устает и водитель. Переправив очередного больного в стационар, мы свободны. От нашего здания «Скорой» мы находимся примерно в пятнадцати километрах. Водитель, маленький, щупленький, со шрамом на левой щеке, следствие ранения на фронте, включает рацию. Он намного старше меня. Обветренное морщинистое лицо его, когда он берет трубку, замирает. И глаза, прежде доступные, вдруг становятся чужими.
— Я одиннадцатая, ответьте, «Планета»…
— «Планета» отвечает… — раздается в ответ.
И тут вдруг водитель, то ли от усталости, то ли еще от чего-то, весь натужившись и полусогнувшись у трубки, точно он находится в окопе, с хрипотцой и с какой-то застоявшейся болью в голосе, начинает поливать:
— Эй вы там, наверху, вы что, разве забыли, что мне до пенсии четыре года осталось. Э-э… ну и черти… Вам, видно, в горсобесе там хоть бы что. Курить не полагается, то не полагается, другое не полагается. Короче, все не полагается… А вот взяли бы вы и, вместо того чтобы болтать, ветеранам войны пенсию назначили бы с пятидесяти пяти. Особенно тем, кто все пять лет провоевал. Положено нам или не положено, я вас спрашиваю, за все эти пять лет отдохнуть?..
Я толкаю водителя в бок.
— Вы куда это звоните?
— Диспетчерше… — в растерянности произносит он и выпускает из рук трубку. — Простите, доктор… — тихо произносит он. И, откачнувшись от руля, ищет в окружающих предметах опору. — Это надо же… — удивляется он немного погодя. — Почти все тайные мысли, которые иногда мне проходу не дают, я взял и диспетчерше выпалил. Это надо же!.. Что она теперь подумает обо мне?
И он просит меня, чтобы я позвонил на «Скорую» и объяснил диспетчерше, что Иван Иванович от усталости взял и слегка пошутил.
Работала у нас на «Скорой» врач Марина Викторовна. Уколы и внутривенные вливания она так делала, что трудно себе даже и представить. Не успеет больной от боли ахнуть, а она, глядишь, уже в вене. Одевалась всегда аккуратненько, чистенько. Никогда ни с кем не грубила, потому что очень вежлива была. Но больные, невзирая на все ее положительные факторы, почему-то ее невзлюбили. И все, наверное, потому, что лицом она походила на мужика. Нос картошкой. Под глазами темные мешки. Правый угол рта ниже левого. Даже щеками ее бог не наградил, впалые они, особенно под скулами.
Но ведь не лицо главное. Главное душа. И не знаю, как поступили бы другие врачи, но лично я в трудные минуты неожиданно свалившейся на меня болезни доверил бы свое здоровье только Марине Викторовне. Не красотою лечат больного, а душою. Но больным разве это докажешь? Короче, после первого вызова второй раз Марину Викторовну больные обычно не вызывали. А некоторые избалованные пациенты без всякого стыда звонили в диспетчерскую или даже к главврачу и предупреждали:
— Учтите, к нам ее больше не присылайте! — И выговаривали: — У вас что, покрасивей баб нету?
Мы жалели Марину Викторовну, успокаивали. Она, через силу улыбаясь, отвечала нам:
— Главное — не унывать. Поклюют-поклюют, а там глядишь, и перестанут…
Но больные не унимались. Еще обостреннее стали воспринимать ее приезд на вызовы. И Марина Викторовна с болью в сердце ушла работать в поликлинику.
Вызвали к семидесятичетырехлетней женщине. Меня никто не встретил. Я сам зашел в дом.
У женщины инсульт. С трудом она рассказывает:
— Я, значит, готовила… И вдруг на тебе, упала… А потом меня дед волоком до койки тянул.
Дед стоит со мной рядом, в ночной рубахе навыпуск и кальсонах, на ногах старые черные валенки. Вот он показал мне листочек бумажки из-под порошков, на котором старческим корявым почерком написано название лекарства, которое посоветовала пить соседка. Над койкой, где лежит старуха, на медном гвоздике висят настенные часы и картина, на которой цветы и дорога.
Робкое немое выражение лица старика и его дрожащая рука с протянутой бумажкой-запиской усиливают мою тоску. Что я могу сделать при инсульте в таком возрасте? Что?..
— Па-азвольте узнать… — вежливо обращается ко мне старичок. — А можно ее… в больницу…
— Нет, сейчас пока нежелательно… — отвечаю я. — При таком заболевании нужен длительный домашний покой (акцентирую слово «домашний»). И лишь месяца через два-три, как только понизится и успокоится давление, можно подумать и о стационаре.
Старичок умолк. Бумажка в его руке продолжала дрожать.
Я сделал несколько инъекций старушке. Прописал необходимое лекарство, объяснил, как его принимать.
Когда я уезжал, старичок все так же, в своей прежней серо-белой одежде, сидел у окна и с какой-то жуткостью и выпрыгивающим из глаз страхом смотрел в широкое окно, за которым снежинки, бесовски кружась, все сильнее и сильнее опутывали оконные синие стекла…
В сельской амбулатории заболел врач. И всеми делами в ней заправляет молоденький, в неумело застегнутом халатике фельдшер Коля. Он окончил стоматологическое училище. Но вот уже больше месяца, как он осваивает и познает незубные болезни. Благо хотя бы этих болезней десятка два было. А то ведь их сотни, и одна сложней другой. На дворе осень, праздник простуд и прочих обострений.
Я приехал, когда Коля бинтовал голову молоденькой женщине. Он бинтовал, а кровь из раны все равно сочилась через все слои бинта. Женщина смотрелась в маленькую косметичку и, отыскивая в зеркальце свой лоб, просила:
— Доктор, сделайте, пожалуйста, так, чтобы раны не видно было…
— Сделаем… сделаем… — обнадеживающе шептал ей Коля, и руки его обессиливающе дрожали и часто выпускали из рук бинтовой валик.
Коля вызвал меня к двум старушкам, лежавшим в амбулатории прямо в холле на двух самодельных, сколоченных из досок кушетках. Указав на них, он вздохнул:
— Не пойму, что им, этим двойняшкам, от меня надо… — И уже более серьезно добавил: — А может быть, и у той, и у другой аппендицит. Короче, нахожусь в тупике…
Женщина с полузабинтованной головой взвизгнула:
— Я же просила вас все сделать так, чтобы не видно было раны. А вы…
— Простите, подзакрутился я… — как-то отрешенно произнес Коля. И начал заново перебинтовывать ей голову.
Передо мною две старушки. Обеим за шестьдесят. Вначале я осматриваю одну из них. Пальпирую живот, проверяю симптомы и признаки острых заболеваний органов брюшной полости.
— Здесь больно?.. — спрашиваю я.
— Больно… — отвечает она.
— А здесь?
— И здесь больно… — Старушка, назвав меня «отцом-благодетелем», в волнении задрожала. — Все больно…
И действительно, в каком бы я месте ни нажимал на живот, она охала и ахала. Мало того, краем глаза изредка поглядывая на вторую старушку, я замечал, что она, только стоит мне нажать на живот первой, ойкает и кряхтит точно так же, как и первая. Симметрично дергались их лица. Симметрично дрыгали они ногами. Прав был Коля, развезло старушек не на шутку. Наконец разобравшись с первой старушкой и поставив ей диагноз нетипичного аппендицита, я решил ее срочно госпитализировать. И вот как только мы с Колей и с водителем погрузили ее (она была очень тучной,) в машину, подойдя ко второй старушке, я заметил, что она вдруг перестала ойкать. При виде меня она как ни в чем не бывало привстала с кушетки. Болезнь первой как-то психологически повлияла и на нее, и, видимо, посматривая на нее, она внушала себе те же самые симптомы.
Коля выпучил глаза. Его руки зашуршали в карманах его крайне узенького халатика.
— Вот те раз… — пролепетал он. — Только что бабка умирала, а тут на тебе, воскресла…
Старушка, изредка поглядывая на нас, ловко поправляла юбку и платочек.
— Окаянная, да как же можно так… — вспыхнул Коля. — Ну если бы ее бес попутал, то зачем меня, и особенно вас, врача, путать… Мало того, из такой дали вызывать и от срочных дел отрывать…
Он забыл, видно, о том, что первая старушка действительно была больна. Я успокоил его. И уже собрался было уходить, как вдруг старушка, боком подойдя ко мне, приостановила меня рукой и погрозила пальцем:
— Сынок, учти, кого-кого, а меня ты под нож никогда не заманишь. Таблетками лечи, а под нож, умирать буду, не дамся…
Вот тебе на! И я и Коля так и раскрыли рты.
На старших курсах мединститута я подрабатывал на «скорой» в качестве медбрата. И меня часто посылали на вызовы со старейшим в то время врачом «Скорой» Верой Давидовной. Небольшого роста, полненькая, с виду подумаешь, что она вялая, неповоротливая, но, увы, она была очень подвижная, По этажам, разыскивая нужный адрес, так носилась, что я еле поспевал за ней. Халат у нее всегда отглажен и накрахмален. Коротенькая прическа заправлена под шапочку, а чтобы волосы при езде не выбивались, она сзади чуть-чуть подкалывала их к шапочке. Лицо ее было зеркалом. Я часто видел в нем и радость, и счастье, а порой грусть и непомерное горе. И все эти перемены в нем обязательно связывались с ее врачебной работой.
— Запомни, сынок… — часто говорила она мне. — В нашу работу за деньги, как некоторые работники, не нанимаются. В нашей работе нужна душа. Вот и все условия…
На вызовах она не грубила, была очень ласковой. Обращаясь к пациенту, называла его «товарищ больной», тем самым подчеркивая и сохраняя за ним прежнюю гражданскую значимость. Если больному требовалась госпитализация, она, помогая ему собраться, приговаривала:
— Ты думаешь, миленький, я в больницу тебя везу для того, чтобы тебе там уколы делали? Ну нет уж, насчет уколов не беспокойся, пустяшка все это. Я-то везу тебя туда совсем по другому поводу. Я везу тебя туда для того, чтобы ты там еще больше добреньким сделался. В нашей жизни, сам ведь знаешь, добреньких людей не хватает…
Если я не мог попасть иглой в вену, она не осуждала меня, а, наоборот, успокаивала.
— К венкам привыкнуть надо. Благодаря венам мы спасаем человека. Иголку коли не в небо, а всегда осмысливай, зри. Пусть венка самая худенькая, самая тоненькая, а ты ощупью, сверху не идет, сбоку попробуй. Всегда чувствуй и ощущай вену, точно свою. Жгут накладывай не туго. По локтевому сгибу постучи, три шлепка сделай.
Она говорила мне все это на ухо. И действительно, я смелел, а за смелостью появлялось спокойствие. И я легко попадал в вену.
Я рад. Рада и Вера Давыдовна.
Коротки подработки. Да и не всегда я попадал на дежурства вместе с Верой Давыдовной.
Потом мы расстались с нею. Мне предстояли госэкзамены.
И вот один раз я, уже молодой дипломированный врач, жадно хлебая зимний воздух, мчался на свидание к девушке. Я ничего не замечал. В моих ушах был ее тонкий смех и ее поблескивающие молодые глаза. Шел снежок. И ветерок сливался с поземкой. Вдруг блеснул ледок. И, не удержавшись на ногах, я грохнулся, растянувшись во весь свой двухметровый рост. Шапка с головы слетела. Портфель раскрылся, и белый халат, вывалившись из него, стал походить на снег.
Я был в нескольких метрах от места моего свидания. И я увидел, как моя красавица, с улыбкой посмотрев на меня, отвернулась. Нет, нет, она не ушла, она просто отвернулась, а может, мне просто показалось, что она отвернулась, ведь поземка без всякого приличия кружила перед моими глазами и поле зрения могло восприниматься не как поле зрения, а черт знает что. С трудом приподнялся я.
Кое-как затолкал в портфель халат. Вдруг голос, страшно знакомый голос, раздался за моей спиной:
— Доктор, разрешите я вас отряхну.
Я оглянулся и вздрогнул. Передо мною стояла Вера Давыдовна, прежняя, скромная, в белоснежном пуховом платке.
— Извините… — пролепетал было я.
Она принялась отряхивать меня от снега.
— Я вижу, вы все такой же… — И, застегнув ворот моего пальто, поправила на голове шапку.
С помощью Веры Давыдовны я добрался домой. А красавица? А что красавица. Я как-то неожиданно забыл о ней… Выздоровев, я вновь назначил ей свидание. Была предновогодняя неделя, и мальчишки пускали фейерверки, их искры подолгу кружились в воздухе точно бабочки.
Вновь то самое место. Ветер продувает его. И, наверное, поэтому здесь очень холодно. В нетерпении осматриваю прохожих. А ее все нет и нет.
Трудно осуждать своих коллег.
В час ночи поступил вызов на железнодорожный вокзал. Взволнованная женщина, дежурная по вокзалу, сообщила следующее: «Девчонка пятнадцати лет зашла на вокзал и, упав, начала от родовых схваток корчиться».
За окном автомашины было свежо. Наступала весна. Сонный водитель то и дело шмыгал веснушчатым носом. Широкоскулый, удивительно здоровый парень. Я по глазам его уже знал, что, когда мы будем грузить эту девчонку в машину, он обязательно вставит ей пику в бок. «Ишь ты… — продекламирует он. — Какая шустренькая… — И добавит: — Небось думала, что это дело все равно что палец в варенье сунуть».
У входа в вокзал нас встречают дежурная и нахрапистый наблюдательный лейтенантик. На устах у обоих все те же слова: «Такая-сякая… Видно, тайком от родителей собралась тут у нас родить…»
Я ничего не ответил. Да и что я мог ответить, ибо слова, которые они произносили, почти каждому нормальному человеку, имеющему дочерей, будут не по душе.
В центре зала ожиданий толпился народ. Увидев меня, люди стали раздвигаться. Маленькая худая женщина, держа два огромных узла в руках, вся какая-то возбужденная, перегородила мне дорогу.
Милиционер одернул ее и отстранил. Все мое внимание было обращено на распластавшуюся на полу девочку. Я вгляделся. А когда наклонился, то прежние мысли вылетели из головы. Ни вторичных, ни даже первичных признаков беременности у девочки я не нашел. А о родах и вообще не могло быть речи. Видно, то, что девочка чересчур часто обхватывала низ живота и стонала, словно при родовых схватках, и показалось дежурной, что девочка беременна и должна вот-вот родить.
Увидев меня, девочка прошептала:
— Пить, пить…
Дежурная, теребя в руках сигнальные флажки, спросила меня:
— Доктор, ну как?
— Вы ошиблись. Здесь или кишечная непроходимость, или перитонит… — резко ответил я и попросил лейтенантика помочь погрузить девочку на носилки.
Тогда я не придал значения, почему так все время настойчиво тянулась ко мне девочка. Правда, один раз в машине я с трудом разобрал ее младенчески тихую мольбу: «Доктор. Нет, нет… меня не возьмут…»
— Взять-то тебя возьмут, никуда не денутся. Вот только бы нам по пути не улететь… — успокоил я ее, с трудом всадив в ее спавшуюся вену иглу, чтобы подсоединить капельницу.
Водитель, четко выполняя мой срочный приказ насчет скорой езды, давным-давно пришел в себя.
— Ну и ведьма… — почти всю дорогу шумел он. — Как можно ее ставить дежурной по вокзалу, если она не может беременную от небеременной отличить.
Девочка, заплакав, вновь потянулась ко мне.
— Да не бойся, дуреха… — успокоил я ее. — Возьмут тебя. Обязательно возьмут.
Что-то пробормотав, она свободной рукой достала из карманчика бумажку и, отвернув от меня лицо, протянула ее мне. Да, все верно, Маше Кольцовой пятнадцать лет. Поднеся поближе к салонному фонарику направление, я повнимательнее осмотрел его. В больницу Маша была направлена фельдшером детдома с предположительным диагнозом острый гастрит, осложненный кишечными болями. И тут я опешил. Черным резким почерком по левому краешку направления было дописано другой рукой: «Отказано от госпитализации из-за вшивости», а чуть ниже строгая приписка: «Вначале излечите ее от вшей, а потом вновь направляйте».
Детдом находился в тридцати километрах от города. И добираться до него надо было электричкой, а потом еще на двух автобусах.
От какого-то незначительного толчка в салоне направление выскользнуло из моих рук. Водитель позвал меня. Но я не откликнулся.
Последняя термометрия у девочки уже в приемном покое показала температуру за сорок. Диагноз прободной язвы был отвергнут, врачи поставили диагноз кишечной непроходимости, начавшейся в детдоме и развившейся уже в городе. Почти все сотрудники приемного отделения в каком-то недоумении смотрели на знакомую им по первому обращению девочку. И вдруг взоры их сделались нервно-пронзительными. Нет, не вшивость, отмеченная дежурными врачами в левом уголке направления, пугала их. Разлитое воспаление брюшины — вот что вызывало дрожь в их теле.
— А мы думали?.. — первой нарушила молчание пожилая сестра, а потом вдруг вся затерзалась, стала тискать руками полотенце. — Это надо же, вшей испугались… — и, быстренько намочив под краном полотенце, начала растирать свое лицо.
— Думали, думали, вот и додумались… — пробурчал сквозь нос молоденький, элегантно-чистенький врач и непонимающе посмотрел на меня, словно только я и мог его помиловать и спасти.
Я поставил себя на его место. Трудно сказать, как бы я поступил. Может быть, тоже, заприметив на девочкином теле вшей, не стал бы далее осматривать ее, а, с пренебрежительной барственной раздражительностью фыркнув, произнес бы: «Не хватало нам, чтобы от нее вся больница завшивела…» — и отфутболил бы ее обратно к фельдшеру в детский дом. А может быть, все же, не пугаясь вшей, осмотрел бы ее живот до конца и тогда, наверное, девочка была бы спасена, ведь от ее первого обращения в приемный покой прошло как-никак шесть с половиной часов, время, за которое многое можно сделать для спасения. Врачебная халатность равносильна беде…
— Уж больно чистенькие мы, медики, стали, культурненькие, порой боимся пальчики о больного замарать… — часто кричит пронзенный какой-нибудь обидой наш самый старый доктор, фронтовик Архипыч. И весь набычившись, припомнив нам и этот случай с вшивостью, вдруг разрядит закипевшую злобу на врачебную нерадивость:
— Эх вы-ы! Заразы-ы! Что же это вы?.. Рано позабыли окопы. От этой нечисти на фронте порой некуда было и ногой ступить. Но мы ступали. И ничего, как видите, выжили. А тут испугались. Да взяли бы бритву, три куска мыла.
Его слова подбадривают. Зажигают.
Но, увы, все это слова. Как говорится, после драки кулаками не машут.
Пятнадцатилетней девочки, которую я повторно привез в приемный покой, уже нет и никогда не будет…
Женщина проглотила кость. Я приехал на вызов, осмотрел горло. Тоненькая рыбная кость впилась в заднюю стенку глотки. «Пустяки… — решил я. — Вытащу ее прямо здесь, на дому».
Но не тут-то было. Только я начинаю просить женщину приоткрыть рот, как она кричит: «Ой, больно. Ой, не могу…»
Я успокаиваю ее. А она вновь при виде в моей руке блестящего зажима: «Ой, больно! Ой, не могу!..» — и в слезы.
— Да поймите вы… — в который раз объясняю я ей. — Кость чепуховая. Да притом не вся впилась, имеется хвостик.
А она опять, словно ее режут: «Ой, больно! Ой, не могу!» — и от какого-то непонятного мне страха задыхается и хрипит.
«Лучше бы я ее в стационар отвез, чем вот так вот маяться. А может, у нее слизистая такая чувствительная?» Я даю ей успокоительные таблетки, а для уверенности дела орошаю слизистую новокаином.
Наступает пауза.
— Доктор, а может, мне хлебный мякиш проглотить? — тихо спрашивает женщина, и я вновь чувствую, что ее дыхание опять становится поверхностным, нервным.
— Да на кой вам хлебный мякиш… — объясняю я. — Кость ваша на виду. Я ее запросто вытащу. Секундочку…
Зажим уже почти наполовину в ее полости рта. А она опять: «Ой, больно! Ой, не могу!..»
Наконец мое терпение лопается. Я теряю контроль над собой и начинаю со злостью доказывать:
— Да разве так можно при вашем-то возрасте себя так вести. Вы взрослая, а ведете себя хуже малого ребенка. Чего орете, что вам больно? Кость вашу я вижу, и не вкалывать я ее собираюсь, а, наоборот, вытаскивать. Облегчить ваше страдание. Понимаете, облегчить. Так что ничего здесь нет страшного. Другое дело, когда зубы рвут или спинной мозг дрелью сверлят — там, конечно, не до смеха. Или живот вдруг ни с того ни с сего вскроют, а потом его три часа зашивают.
При слове «живот вскроют» она вздрогнула, быстренько смахнула с глаз слезы и, живехонько пододвинувшись, уверенно как-то вдруг произнесла:
— Ладно, будет вам. Я согласна. Вытаскивайте…
«С чего бы это она!..» — удивился я и без всякого труда вытащил кость из ее теперь уже широко раскрытого рта. Она с любопытством осмотрела кость.
— Ну вот и раскулачил я вас… — прошептал я в растерянности, вытирая бинтиком потный лоб.
Я никак не мог понять, как это она после такой вот, можно сказать, изнурительной маеты вдруг спокойно позволила вытащить кость.
— Ну вот, а вы боялись… — произнес я.
— Да, вы правы… — примирительно сказала она и добавила: — Ведь я намного большую боль раньше перенесла, мне на операции случайно живот вскрыли.
Я улыбнулся. Вот что значит случайно оброненное слово. Не будь его, я, может быть вконец измучившись, повез бы ее в стационар.
С некоторыми больными, которые часто вызывают «скорую», знакомишься на всю жизнь. Очень часто к нашей помощи обращался шестидесятилетний Арсений. Семья у него большая, и хлопот ему хватает. Широкая выпуклая его спина, тучное лицо с постоянной поспешливостью в глазах и каким-то немым горьким криком на губах — все говорило, что он человек крайне грустный и нелюбимый.
Я часто встречался с ним то в магазине, то на улице, а то и в аптеке. Он вежливо снимал передо мною свою шляпу.
Он завидовал моему одиночеству и какой-то даже бесшабашности, так свойственной порой молодым докторам.
— Добрый вечер… — говорил он.
— Добрый вечер… — отвечал я и тихонько, с сочувствием спрашивал: — Ну, как ваши дела?
Поправив на носу очки, он отвечал:
— Да как вам сказать. Я ведь почти все время болею…
— Как это? — удивлялся я.
— Да так вот… — вздыхал он. — Больше болею за других. То дети болеют, то жена, то брат…
Раздобревшее от откровения лицо его без всякой застенчивости начинает сиять. Он рад, что я его выслушиваю до конца.
Кончив говорить, он вдруг спохватывается:
— Ой, доктор! Чуть было не забыл. Мне ведь в аптеку надо. Соседка болеет…
И, уже забыв про меня и даже не попрощавшись со мною, он бойко шатает к аптеке.
И хотя мы случайно с ним встречаемся, он мне очень дорог и близок. Ведь я тоже, как и он, болею, покуда не придет смерть.
Один за другим следуют вызовы. И почти в каждом нужен разбор, что-то требуется уточнить, выяснить. Ибо от этого первого телефонного знакомства с больным порой многое зависит.
Звонок. Диспетчерша торопливо подняла трубку.
— Алло, «Скорая» вас слушает. Так. Хорошо… Ну, а все же, что у вас болит? Как это… все болит?.. Непонятно. Если можно, поконкретнее. Хорошо, выезжаем… — И, вздохнув, она протягивает мне вызывной лист.
— Что случилось? — спрашиваю я.
— Не знаю, говорит, все болит…
— Как это? А вы пробовали ее расшевелить?..
— Пробовала. Она говорит, что у нее и голова, и рука, и нога, и спина. Короче, все болит…
«Да… — вздыхаю я. — Попробуй разберись».
Диспетчерша, сочувствующе посмотрев на меня, вновь взяла трубку. «Алло, «Скорая» слушает…»
Я в растерянности иду к машине. Потому что абсолютно нет никакой надежды разобраться по такому звонку, что же на самом деле хотя бы предположительно болит у больной.
— Тихий ужас… — говорю я водителю. — Лес болезней Все болит…
— Как это?
— А так. Все болит…
— И сколько лет?
— Сорок…
— Ну знаете… — бурчит водитель. — Делать ей нечего. Вот и болтает…
Он оказался прав. Вызвавшая нас женщина оказалась здоровой. На мой вопрос, для чего же она вызывала «скорую», ответила, что в тот период, когда вызывала, у нее «все болело», а когда мы приехали, «все перестало болеть».
«Слава богу… — подумал я. — А то попробуй разберись, когда «все болит».
С Анной Петровной, передовым фельдшером «Скорой», я ездил на вызовы не один раз. С ней не скучно работать. Я ни разу не видел ее сердитой.
Анна Петровна любит давать советы молодым фельдшерам, которых каждый год направляют к нам на работу. Они приходят на «Скорую» модные, разнаряженные, с широченными серьгами, бусами-плетями, перстеньками, кольцами. Анна Петровна, тут же заметив их парадно-праздничную расфуфыренность, скажет: «Девоньки, больному не браслеты ваши нужны, а знание и умение… Да и как можно в таком блескучем виде у постели больного появляться… Поскромнее надо внешне выглядеть, скромность родственница врачевания…»
Часть девчонок слушалась ее, часть нет. Характерно все же было отметить то, что больные сразу же почему-то любили тех молоденьких фельдшериц, которые приезжали на вызовы без украшений.
Высказывала замечания Анна Петровна и насчет обувки.
«Вызова, девоньки, обслуживайте в простеньких туфельках, но ни в коем случае не на каблуке. Каторгу ногам зря не делайте. Подниматься на дальние этажи на каблучке вроде легко, а спускаться хужего не придумаешь, как по льду идешь…»
Поначалу девки не слушались. Обслуживали вызовы в моднейших туфельках, каблучок у которых тоненький и острый как игла. Но затем через неделю многие из них взяли больничные: кто пятки повыворачивал, кто мозоли натер, а у некоторых икры стали болеть и судорогой стопы сводить.
На свой первый вызов я поехал с Анной Петровной. Что и говорить, мне было очень страшно. Да и, как назло, первый вызов был ночным. За окном темень, и холодный, пронизывающий ветер гудел и метался.
Под колесами «уазика» асфальт скрипел, ветер усиливал звуки. С напряжением я всматривался в улицы, в номера домов.
— Не волнуйтесь, доктор… — шутила Анна Петровна. — Больных много, а вы один. Тем более вновь прибывшее пополнение надо жалеть… — И, подмигнув шоферу, смеялась вместе с ним.
«Сейчас им весело… — думал я. — А если на вызове ошибусь, они осудят меня… Ведь и так порой средние медработники на врачей, только что окончивших институт, настороженно смотрят. Проверяют, выпытывают грамотность, знания… Чтобы осмеять, так и ждут ошибки…»
У крыльца дома, в который нас вызвали, Анна Петровна остановила меня:
— Разрешите я первой войду… — И приветливо добавила: — Ведь я женщина…
Дом был деревянный, одноэтажный и многоквартирный. С Трудом мы нашли больную. Оказывается, боясь одна оставаться в своей комнате, она перебралась к соседям. По возрасту больная была молодой, однако состояние ее оказалось тяжелым. Давление было за двести. Мало того, оно осложнилось сильным носовым кровотечением. Кровотечение было для меня неожиданностью. Я перебирал в голове новейшие кровоостанавливающие губки, импортные зажимы, чего, безусловно, не было в моей сумке. Как оказать помощь простыми средствами, я не знал. Чем бы кончилась вся эта моя растерянность, если бы не Анна Петровна, я не знаю. В отличие от меня, она не растерялась, быстро внутривенными вливаниями снизила у больной давление и мастерски, словно заправский отоларинголог, затампонировала ватой нос, остановив тем самым кровотечение. Жильцы квартиры, а потом и сама больная стали называть Анну Петровну доктором, а меня медбратом.
Затем мы погрузили больную на носилки и отвезли в стационар. А когда возвращались на станцию, Анна Петровна стала благодарить меня за то, что я полностью доверил ей больную.
— Только не осуждайте меня… — сказала она. — Новое пополнение врачей надо жалеть… А во-вторых, вызов ночной. А ночью девушка всегда чуть впереди юноши должна идти, — и, прижавшись ко мне, она очень ласково улыбнулась.
— А вы знаете… — волнительно произнес я. — Если бы не вы, я пропал бы… При таком крохотном количестве медикаментов и вдруг такое обширное кровотечение.
— Глупости все это… — засмеялась она и, хитро улыбнувшись, добавила: — Если будете ездить со мной, всему научитесь…
В вечернем свете лицо ее красиво светилось. А руки, которыми она поправила мне ворот халата, были очень теплыми, нежными. Она сняла с головы шапочку.
«Чудесная девушка!..» — подумал я. И лицо мое загорелось.
Старший врач жалуется младшему.
— У меня голова раскалывается…
— Ну а что я сделаю?.. — возмущается тот. Но потом вдруг советует: — Сходи к Анюте, может, она что даст.
Тот идет к Анюте, фельдшеру сумочной, у которой хранятся почти все медикаменты. Анюта, отыскав анальгин, советует выпить. Он принимает враз три таблетки, затем еще две. Проходит час. Но голова, как и прежде, болит, раскалывается. Не зная, как унять боль, он вновь идет к врачам.
— Ну что? — спрашивают те.
— Вот она боль, вот она… — жалуется старший врач, показывая на лоб.
Тогда младший врач, найдя медицинский справочник, начинает рыться в нем. Но медицинский справочник не справочник автомобилиста, и, тут же кинув его в сторону, с грустью смотрит на старшего врача, который так обхватил руками голову, что со стороны кажется, что это не голова у него, а шар, готовый в любую минуту вырваться и улететь.
— Слышишь, а слышишь… — советует вдруг он. — А ты сходи к Пахомовне, может, она что посоветует…
Пахомовна старушка махонькая, ветхозаветная, в школе не училась. Она у нас работает по вечерам на так называемой подработке, а днем санитарит в районной больнице.
— Бога ради, Пахомовна, выручи… — застонал врач, переступив ее порог. — Голова болит, раскалывается.
Пахомовна, со смущением привстав из-за стола, поправила на голове беленький платочек:
— Ой, да что же ты, миленький, стоишь как купец. Присаживайся… — и подала табуретку.
Он сел. Тоскливо, измученными глазами посмотрел на махонькую, в два раза меньше его старушенцию. А та, понимающе закивав льняной головой, предложила:
— Выпей лимонной водицы, небось горло-то пересохло…
— Спасибо… — прошептал он, с жадностью припав к ковшу. А про себя подумал: «Меньше крохи, а сочувствует!»
— Боль твою я мигом на мороз выгоню, вот увидишь… — по-воробьиному нахохлившись, с уверенностью произносит Пахомовна. И, поправив медное колечко на пальчике, раза три ладошкой погладила доктора по голове. — Рука у меня, сыночек, тепленькая… — И добавила: — Голова — это ерунда. Вот коли ногу или руку подвернешь, это другое дело…
А потом она пожевала воздух губами и произнесла:
— Сыночек, а ведь это у тебя не головка болит, а душонка. Выхода она просит. Тоска ее нагнала. Вот она и выхода просит. Смикитил, сыночек…
— Смикитил… — засмеялся доктор.
А Пахомовна тут же:
— А хочешь, я тебя бульончиком попотчую? А потом чайком мятным.
— Еще бы… — улыбается он и чувствует, что головная боль уменьшается.
— …Алло. Говорите громче. Плохо слышно. Стасова, 3… Квартира. Алло… Вы кто ей будете?.. Хорошо. Встречайте…
— Сложный вызов? — спросил я диспетчершу.
— Да нет… ничего особенного… — успокаивающе проговорила она. — Сосед вызывает. То ли соседка упала, то ли кто приложил ее. Никак не пойму. Он захлебывается, все проглатывает. Единственно, поняла, что просит как можно скорее приехать…
И вот мы мчимся на вызов. Водитель весь какой-то маленький, похожий на ушастого зайчонка, совершенно не обращая на меня внимания, со страхом рассматривает своими крохотными глазами темноту. Дорога ужасная, буквально только что при минусовой температуре прошел дождик. Так что гололедица отменная. Я смотрю на водителя с уважением Он со всей силы впился руками в баранку и, включив дальний свет и сирену, пилит без передыха, почти не сбавляя скорости на поворотах. Впереди нет-нет да появится огонек, но, подрожав, тут же исчезает. И тогда кажется, что эта темень не отступится и будет вот так вот всю жизнь.
— Ничего… — окидывая меня взглядом, произносит водитель. — Скоро приедем… — И, жадно вдохнув из приоткрытой форточки свежего воздуха, улыбнется призрачной темноте.
Машина плавно останавливается у нужного дома. Где-то наверху слышится шум. Я поднимаюсь на третий этаж и захожу в приоткрытую квартиру. И тут…
— Зачем вы приехали? Зачем? Кто вас вызвал?.. — кричит на меня худенькая женщина в длинном не по росту халатике и прикрывает рукой рассеченную кожу на лбу. Рана кровоточит. Тряпица, которой она пытается остановить кровь, промокла, и при надавливании ткань сама уже кровит похлеще раны. А вот и прибежал сосед, весь какой-то затравленный, белобрысенький и в очках.
— Это ты вызвал? — кинулась она к нему. — А-а-а… Другого выхода не мог найти. Да ты знаешь, что за это тебя придушить мало…
Я пытаюсь поставить сумку на стол, снять пальто. Уж больно рана опасная, и она меня пугает не только большим размером, но и своим обильным кровотечением. Однако больная как ни в чем не бывало выпроваживает меня из квартиры вон.
— Уходите сейчас же. Уходите. Я не хочу, чтобы о моем скандале с мужем узнал весь город. Из-за вас разговоры пойдут. Он занимает пост… Что вы наделали?.. Вы даже не представляете… И зачем вы только приехали.
Я пытаюсь успокоить ее. Она ни в какую, орет на меня, уходите, и все. Рана продолжает кровоточить, и руки ее, которыми она прикасается ко лбу, стали от крови шоколадными.
Сосед уже и не рад, что вызвал «скорую». Хотел сделать как лучше, а вышло, что он своим вызовом оповестил о трагедии весь дом.
— Вас надо срочно госпитализировать… — объясняю я ей. Но она продолжает меня выталкивать. — Тогда обратитесь хотя бы в травмпункт, — упираясь, кричу я ей, не понимая, что уже давным-давно нахожусь на лестничной площадке.
— Пошел ты вон! Вон… вон!.. — в истерике кричит и рыдает она. — Вы меня опозорили… Вы… — заикается она. — Если бы вы только знали, что наделали. Он не простит… не простит… Понимаете ли вы это или нет?
— У вас обильное кровотечение… — доказываю я ей свое. — И вам надо срочно обратиться в приемный покой. Придется наложить три шва. Это минимум. Понимаете, минимум…
— Дурак… — бросает она мне и захлопывает дверь перед моим носом.
Я оглядываюсь по сторонам. Почти изо всех квартир вышли люди. Они в ужасе смотрят на испачканный кровью мой халат. «Если она вдруг умрет от кровотечения, они подпишутся… они… заступятся за меня… Спасибо, что хоть вышли».
Люди в испуге смотрят на меня. «Неужели я так страшен?.. — я креплюсь, хотя от слова «дурак» звенит в ушах. — Нет, не годится… — вздыхаю я. — Люди могут струсить, не подпишутся и не заступятся. Мало того, еще обвинят, скажут, что, мол, не разобрался в ситуации, не настоял и прочее, прочее».
Кто-то из толпы, глядя на меня, фыркнул. А косопузый малец, стоящий впереди всех, вдруг, поковырявшись пальцем в носу, произнес:
— А чего тогда по телевизору говорят, что дяди доктора все могут.
«Это надо же, хилоногий, весь рот в повидле, а царапнул до потрохов». Я краснею. А ему хоть бы что. Вот он достал откуда-то капустную кочерыжку и, посматривая на меня на самом деле чуть как не на дурака, стал хрустеть ею и улыбаться. «Нет, нет… не годится…» — вздыхаю я, от злости не зная, куда себя деть.
Терпение во мне лопается. «Эх, была не была!»
И вот я, уже объятый каким-то беспамятством, бросаюсь на обтянутую дерматином дверь. Стучу в нее так, что покалывает в обеих лопатках. Фасонно сшитый мой халатик с треском расползается на спине. Наконец, безъязыко морщась, она открывает дверь. Вижу, что перетрухнула. И тут, не теряя и доли секунды, сграбастываю ее в охапку и, не дав ей даже опомниться, прямо в халатике и в комнатных тапках на руках несу к машине. Шофер с ходу понял меня. Его мотор взревел. Взвизгнула сирена, и отработанно в такт ей кроваво-красно задрожала мигалка.
— Что вы делаете? — опомнившись, закричала она, уже находясь в машине. — Это самоуправство. И вы за это ответите…
Но я не слушаю ее. Дело сделано, женщина будет спасена. Водитель едет как надо, обгоняя всех подряд и справа, и слева.
— Вы хам… — продолжает она с прежним неотразимым напором. Но тут же, достав перевязочный пакет, я подавляю весь ее этот напор остановкой кровотечения.
Упершись в стенку салона, она смотрит на меня как на быка, не зная, то ли ей радоваться, то ли вновь плакать.
— Ну ладно, будет тебе… — нашептываю я ей и от волнения сам себе пошмыгиваю носом. Кое-как полубантиком завязав кончики бинта на ее голове, добавляю: — Вот окажу тебе скорую помощь, и тогда живи как хочешь… А пока… — И, утерев остатками бинта слюну с ее рта и пройдясь ласковым взглядом по всей ней, я вновь запальчиво нашептываю ей: — Ну ладно, будет тебе… будет…
Она взъерошенно смотрит на меня. И я замечаю, что уже нет у нее той прежней нервной судороги и захлеба, от которого я поначалу растерялся и струхнул.
Был я знаком со знахаркой, высокой, тучной старухой, вечно ходившей в мужской соломенной шляпе и в широкой, защитного цвета юбке, шитой из солдатского сукна.
— Ольга Даниловна, — часто спрашивал я ее, — и на кой ляд вам воду мутить?
— Как на кой… — фыркнула она. — Если б вы, врачи на «скорой», были б как врачи, а то ведь вы все как один калачи. Как только часы свои отработаете, тут же сматываетесь. А покинутых больных только я и досматриваю…
— Вот как… — удивлялся я и спрашивал: — Бабуль, а это правда, что вы им пупки заговариваете?
— Чего… — сердилась она. — Сам ты пупок. Дипломов нахапали, а чтобы у столетнего запор вылечить, ну ни в зуб ногой…
— Да вы поймите, бабуль, я специалист не по запорам, а по скорой и неотложной помощи… — говорил я.
Но она перебивала:
— Знаю я вашу механику… — И добавляла: — Перебывал у меня после вашего скоропомощного обслуживания всякий люд. Только вот я одна с этим людом и маюсь… — И, еще разок вздохнув, она строго осматривала меня. — Не знаю я покудова, сынок, какая там у вас медицинка будет лет через десять. Но покудова у вас одни лишь ошибки. — И, сожалеючи смотря на меня, объясняла: — Я-то, сынок, вот этой самой надеждой да верой в ваши врачебные ошибки почти всех больных и вылечиваю… — И, вдруг засмеявшись, хлопала меня по плечу. — Теперь понял, в чем секрет мой… — И подтягивала юбку на пузатенький живот.
— Понять-то я понял… — в огорчении отвечал я ей. — Только, бабуль, насчет врачебных ошибок как-то уж у тебя получается несерьезно. Редко они в наш век, эти самые врачебные ошибки, случаются…
Но она не слушала меня. Опять строчила свое:
— Ну и работнички, креста на вас нет. Вместо того чтобы лечить, носитесь на машине день и ночь…
Я вздыхал. А она торжествующе смотрела на меня.
Один раз вызвала меня хроническая больная, жена одного офицера. Женщина истеричная, чуть что не так, чуть что не по ее, сразу же пишет жалобу. Я, зная ее нрав, без всякого осмотра поставив ей диагноз — хроническая пневмония, отвез ее в областную клинику. Областные врачи за каких-то пару-тройку деньков, тоже разузнав нрав больной, недолго думая, переправили ее в институт. Ну а там ей то ли с «потолка», то ли не с «потолка» поставили серьезный диагноз, короче, туберкулез.
Грустная, непричесанная, вся какая-то растрепанная, зашла она к нам на «Скорую». Прочтя ее выписки, мы развели руками. Мол, так-то и так, болезнь серьезная. И на врачей вам, дамочка, обижаться нечего, а лучше возьмите и попейте рекомендованные институтом таблетки.
Она рассердилась, мол, как это так, пить в таком огромном количестве таблетки, и, обругав нас, кинулась к знахарке. Ну а та, недолго думая, отодвинула в сторону все выписки и говорит:
— Таблетки выкинь. И, как прежде, пей да гуляй…
— А как же туберкулез? — удивилась та.
— Дурочка, да не съест тебя этот туберкулез… — захохотала знахарка. — Надо же кому, врачам поверила. Никогда им не верь. Уж коли сказала я тебе, что не съест он тебя, то и не съест. Я с недельку бога помолю, чтобы вместо туберкулеза у тебя ошибка вышла… И все у тебя пройдет…
Жена офицера, доверившись знахарке, вновь, как и прежде, повеселев и вновь, как и прежде, исполнившись радости, забросила таблетки и стала пить и гулять. В гарнизоне на танцах, опьянев от сухого вина, она, яро танцуя твист с молодым прапорщиком, с чувством прикусывала зубами свой ярко-красный платок, то и дело спадающий с ее плеч. Ну а после танца, смеясь на всю залу, она, глазами найдя гарнизонного фельдшера, с презреньем смотря на него, шептала:
— Ну теперь понял, чудак, что я не больна, а здорова…
Год она протанцевала, второй. А на третий, вдруг вся потемнев, слегла.
Через полгода она замучила нас вызовами. А еще через полгода ее не стало. На вскрытии оказалось, что нелеченый туберкулез перешел в рак.
В первый день после отпуска еду в трамвае на работу. Трамвай кажется каким-то неуклюжим и приплюснутым, колеса его на поворотах то и дело басят и скрипят. Отвернув ворот пальто, я прижался к стеклу.
Спешащие на работу люди держали над головой зонты, и сверху казалось, что это не люди, а разноцветные и несоразмерно вдруг увеличившиеся пуговицы из галантерейного магазина.
На одной из остановок ко мне подсела санитарка Степановна. На работе ее шутя зовут — Бабушка — солнечный лучик.
Без зонтика, в накинутой на голове клеенчатой косынке, она, увидев меня, обрадовалась:
— Доктор, а мы по вам соскучились. Думаем, скоро ли вы из отпуска вернетесь…
— Сегодня первый день выхожу… — улыбнулся я.
— Не зря, видно, сон мне приснился… — с улыбкой сказала она. — Я по комнате одна хожу, а в окно голуби стаей бьются, это к гостям… Вот вы моим гостем и получились.
Я засмеялся ей в ответ, подумав, что Степановна меня развлекает. Но затем, разговорившись, понял, что она придает снам особый смысл.
— Неужели по снам вы многое в своей жизни предугадали? — удивился я.
— Только по снам… — с гордостью произнесла она и, сняв клеенчатый платок с головы, подсела ко мне поближе. — В девках мне раз приснилось, что иду я по полю одна, вдруг впереди куст диких роз. Сорвала я одну, к груди ее приколола и так всю дорогу до самого дома с нею и шла. В дом захожу, а там гости-сваты сидят, а среди них парень молодой. Муж мне попался красивый, лучшего в поселке не было. После войны он в нашем здравпункте фельдшером работал, и я вместе с ним. А как умирал, то приснилось мне, что убираю я горницу, часть подмела ее, а вторую подместь нет сил. Бросила я веник с мусором у порога и легла спать. А утром проснулась, муженек мой ушел от меня насовсем…
На некоторое время лицо ее побледнело. С минуту помолчав, она продолжила:
— У меня ко снам чутье… Люди ко мне не только микрорайонские, но и дальние обращаются. Просят: «Ты, мол, Степановна, во сне посмотри, как мне дальше жить». Выслушаю я внимательно просительницу и спать постараюсь тут же лечь. И, глядишь, действительно, словно по божьей указке, решение приходит… Приезжает раз ко мне с пригородного совхоза молодуха одна. Как она меня нашла, я даже не знаю. Может быть, ей кто порассказал обо мне. Старики ведь что дети малые, первым делом новостями балуются… Короче, заходит она ко мне в комнату и как начала плакать, слезы лить. Я успокаиваю ее, а она плачет, не унимается. У ней, оказывается, муж запил и повадился к другим бабам ходить. Вот она и просит меня: «Бабушка, посмотрите во сне, как мне быть, детки у нас малые, да и люблю я его, окаянного». Пообещала я ей помочь, мол, как только появится первый сон, я ей письмецо напишу. Оставила она мне адресок и уехала. А на другой день мне сон приснился: необыкновенная красавица, вся в зелено-перламутровом одеянии, ходит по лужку, а вокруг нее хороводом мужики кружатся.
Вызвала я потом телеграммой девку к себе и говорю: «Вот что, милка, езжай ты домой да вытаскивай из комода самое лучшее платье и платок. Нарядись неписаной девицей, а его, мужика окаянного, к себе не подпускай. Слово тебе даю, все образумится». И вы знаете, доктор, действительно все у ней быстренько уладилось, муж ее образумился, пить перестал и ее, ненаглядную, любит…
Бабушка — солнечный лучик разрумянилась. В каком-то смущении посмотрела она на свои руки. Они были грубыми. Много тяжестей ей приходится таскать на работе, одной воды для мытья полов из подвала наверх попробуй наподнимай. Носилки в машинах надо все протереть да из каждого уголка грязь выскрести. Ей за семьдесят. Живет она одна. И только сны, видимо, были ее единственной радостью.
Трамвай, скрипнув, затормозил. Задняя дверь легонько открылась. Придерживая Степановну, я ступил на влажный асфальт.
— А вам, доктор, снятся сны?.. — вдруг спросила она меня.
— Очень редко… — ответил я.
— Ничего, опыта жизни наберетесь… И вам тоже будут сниться сны…
Дождь полил как из ведра, и на улице стало совсем темно. Но мне не было грустно. Я рад был встрече со Степановной.
Выехал в пригород на вызов. Была ночь. И темнота прятала улицы и дома. Наконец найден адрес. Дом ветхий, железнодорожный барак. Крылечко, двери и половицы в коридоре громко скрипят, так и кажется, что ты вот-вот провалишься.
Шофер был рядом со мной. Видимо, ему захотелось пройтись со мной не просто так. В этом доме давным-давно жила его мать, здесь он родился, затем родители переехали. Но не стерся в его памяти этот ветхий, скособоченный, во все стороны перекошенный, покрытый трещинками и щелями дом. Когда мы подъезжали к нему, он первым выпрыгнул из кабины и сказал:
— Темноты, доктор, не бойтесь, я вас провожу.
И пошагал впереди легко и свободно. У порога снял кепку.
— Ишь, новые карнизы наклеили…
Прежде чем взяться за дверную ручку, я оглянулся. Водитель все так же, не надевая кепку, стоял спиной ко мне на крылечке, и в осунувшихся его плечах и в опущенном затылке, как и во всей фигуре, чувствовались прежняя торжественность и легкость. Свет в коридоре горел слабо.
Я открыл дверь и зашел в маленькую комнатку.
— Не перевернитесь… — ласковым голоском предостерегла меня старушка, лежащая в правом углу на высокой деревянной кровати.
Обойдя два стула, на которых лежало чистое белье, я подошел к ней.
— Простите, давленьице у меня… — прошептала она и добавила: — Как бы не ухлопало… Сорок уколов приняла, а с места оно не сдвинулось.
Тоненькое байковое одеяло накрывало ее. Горка таблеток и ампул лежала на тумбочке. Сиротская обстановка в комнате и какой-то полумрак, видно электрическая лампочка была маловаттной, не в меру расстроили меня. Я измерил давление. Оно было высоким. Прослушал работу сердца. Кроме гипертонии у старушки была сердечная недостаточность. Больше недели она лежит пластом. Из-за сильного головокружения не может встать. На краешке стола, так чтобы она могла достать рукой, мелкими кусочками нарезан хлеб.
— Сирота я… — опережая мое недоумение, произнесла она. — Некому даже присмотреть… В бараке живет одна молодежь. До вчерашнего дня мне станционный электрик Феня кое в чем помогал… Попросишь его, он тебе и водички, и молочка принесет… Но вот как только кончилось в магазине вино, так он и перестал ходить… Он вас, видно, от тоски вызвал… Сама, как видите, я не в силах это сделать.
Электрическая лампочка над моей головой тихонько потрескивала, и где-то у стены, ближе к комоду, тоненьким попискиванием возбуждал мое любопытство сверчок. Темнота грубо упиралась в стекла, и казалось, что нет выхода к свету. И лишь пристанционный околопутейный красненький огонек, невзирая ни на что, рассекал ее, и тогда казалось, что не лампочка потрескивала, а темнота.
Красный огонек красиво отражался и на стеклышке моих часов, и на шприце, которым я делал укол.
Я собрался уже было покинуть ее, как вдруг, устремив на меня обнадеживающий взгляд, она сказала:
— Не оставляйте меня… — И начала просить: — Госпитализируйте меня, пожалуйста… иначе я тут пропаду.
Одеяльце слетело с нее. Повалившись на бок, она руками старалась приподнять его с пола.
Переложив старушку на носилки и погрузив ее в машину, мы ехали к первой ближайшей больнице.
— Давно, бабуль, в бараке живешь?.. — спросил ее водитель.
— Второй десяточек… — ответила она. — Я до этого в станционном доме жила. Когда его снесли, меня сюда перенесли…
Некоторое время водитель молчал. А затем вновь спросил:
— Бабуль, а Павлика Хмелика ты знала?.. Он рядом с вашим домом в пристанционной будочке жил, и еще на гармошке играл…
— Это тот, кто людей от неминуемой смерти спас?.. — тихо переспросила его старушка.
— Он самый… — удовлетворенно улыбнулся водитель и разом вдруг как-то приободрился, захрабрился, точно это жизненное воспоминание было той самой освежающей душевной находкой, ради которой он и выехал на этот вызов.
— Вот только призабыл, как его по отчеству звали… — вновь улыбнулся он. — Я ведь в этом бараке до семи лет жил, а потом отцу квартиру дали.
— Понятно… — прошептала старушка и, помолчав, добавила: — Павел Васильевич его звали… На войне он погиб.
Старушка жила одна, и поговорить ей хоть с кем-нибудь было настоящей радостью. Она еще о чем-то рассказывала водителю. Но я не слушал ее. Я думал, как мне придется ее госпитализировать. Ведь кроме своего преклонного возраста она нуждалась и в уходе. Таких больных «скорая» обычно оставляет дома, дает указания и распоряжения по дальнейшему их лечению участковому врачу и уезжает. То есть предлагается стационар на дому. Но у старушки стационар на дому пройденный этап. Участковый врач все перепробовал, он назначал даже внутривенные вливания, что на дому не всегда делается, а давление у старушки как было высоким, таким и осталось, мало того, оно постепенно нарастало, в любую минуту могла возникнуть угроза инсульта.
В салоне машины я еще раз прослушал работу ее сердца. Оно сокращалось аритмично, его перебои я чувствовал даже при определении пульса на периферических сосудах.
А что, если поставить ей инфаркт под вопросом. С этим диагнозом приемные отделения обязаны брать больных, невзирая на возраст. В крайнем случае, можно поставить не инфаркт, а предынфарктное состояние. Главное, только бы ее всунуть в отделение, где она, пусть даже при минимальном уходе, получит систематическое лечение и ежедневный врачебный осмотр.
Однако через несколько минут я отказался от постановки инфаркта под вопросом. В приемном покое прямо при мне могли сделать больной электрокардиограмму, и весь мой подвох тут же выяснится.
— Доктор, а что, если нам сказать в приемке, что мы подобрали ее на улице… — словно угадывая мои мысли, посоветовал водитель. — У меня вон сосед-инвалид без ноги, тоже, как и бабушка эта, в возрасте, раньше, бывало, больше шести месяцев дожидался очереди, чтобы лечь в больницу… Зато сейчас он не унывает. Выход, можно сказать, стопроцентный нашел. Надумает, допустим, сегодня в больницу лечь, так сегодня же и ложится. А дело он делает вот как. Идет на станцию или в другое какое-нибудь общественное место без документов, чтобы по паспорту не узнали, где он живет, и на глазах всего честного народа, закатив глаза, падает в обморок. Те, конечно, от страха охают, за голову хватаются и, недолго думая, вызывают «скорую», которая, не зная адреса больного, а он, известное дело, в силу сердечных болей или каких-нибудь других причин, не говорит его им, отвозит больного в приемный покой, где его скрепя сердце и принимают… На улицу ведь человека не выбросишь. Так что и мы давайте точно так же поступим с бабушкой… Только вот хорошо было бы, если бы она подыграла нам, убедила приемных врачей, что мы действительно на улице ее подобрали…
— А как же вызывная карточка?.. — спросил я.
— А вы, доктор, ее спрячьте в карман и никому не показывайте… В крайнем случае, на станции можно сказать, что мы потеряли ее…
И водитель, обрадовавшись выходу из создавшейся было трудной ситуации, предложил бабуле:
— Если вас спросят в приемном, где мы вас взяли, вы скажите докторам, что мы вас на улице подобрали…
Бабушка вздохнула. И, помолчав, сказала:
— Сынок, а я ведь не бездомная. Хоть и в сарае живу, но по прописке. А бездомной я никогда не была и не буду… На улице лежать дело последнее… Раз я в машине лежу, то вы меня теперь не выбросите, обязательно госпитализируете.
— Бабуль, дело не в выбросе… — попытался ей объяснить водитель. — Дело в конспирации, а во-вторых, чтобы вас поскорее в больницу положили, так желательно сказать… Поняли?..
Старушка чуть тронула обеими руками спущенную на грудь и растрепавшуюся на концах косынку, видимо, она хотела поправить ее и тем самым прихорохориться. Но от этого ее движения обострилась сердечная боль, и она, не ответив водителю, закрыла глаза. Я быстро нащупал пульс, он мало того что был аритмичен, но он и участился не в меру сильно: он трепетал, он мерцал, он куда-то лихо-обеспокоенно мчался, словно дикий загнанный зверь, предчувствующий смерть, но еще пытающийся ухватиться за жизнь. «Скорее бы приемный покой…» — подумал я. А водитель, въезжая на территорию первой попавшейся на нашем пути больницы, прошептал:
— С этой бабкой каши не сваришь…
И, чтобы защитить ее, я тихо сказал ему:
— Не то состояние у нее… На фоне давления развилась сердечная недостаточность…
— Понял вас… — удовлетворенно произнес водитель и лихо подкатил к приемному покою.
Мы осторожно внесли больную. Я передал вызывной листок дежурному врачу. Он бегло прочитал его. Затем, нащупав у больной пульс, понял, что в постановке диагноза я был прав. Он внимательно прослушал сердце. Подозвал сестру и сказал ей, чтобы она сделала необходимые инъекции. Мы с водителем начали объяснять ему, что больная живет одна, притом без всяких удобств, в бараке и находиться ей дома в таком состоянии ни в коем случае нельзя. Мало того, старушка уже прошла полный курс лечения на дому. Я доказывал и объяснял врачу, что только стационар может спасти старушку и обезопасить от греха. Доктор, слушая меня, изредка произносил:
— Бывает… все бывает…
После уколов аритмия у старушки чуть уменьшилась. Да и пульс перестал частить.
— Поймите, ей как воздух нужна госпитализация… — начал я вновь упрашивать врача. — Что вам стоит положить одного человека… В крайнем случае, я готов помочь вам, я опишу ее историю болезни…
Дежурный врач подозрительно посмотрел на меня и сказал:
— Нет… Таких больных мы в стационар не кладем… — и внизу моего диагноза на вызывной карточке размашисто дописал: «В госпитализации отказано!..»
— Я прошу вас сделать это в виде исключения… — кинулся я его вновь упрашивать.
— С удовольствием… — сказал он. — Но при одном условии: если разрешит главврач. А точнее, если он сделает на уголке вашего направления приписочку, что он не возражает, да при этом роспись свою поставит. Я же лично такие распоряжения делать не могу. Вы хотите, чтобы за эту старушку с меня все дежурства и подработки сняли… Вам что, кроме этой старушки, некого было в стационар привезти?
В растерянности я держал в руках вызывной листок. Вместо сочувствия, как я и ожидал, я получил в первом приемном отделении отлуп. Старушка, видимо не понимая, в чем дело, спросила меня:
— Чего это доктор болтает зря, делать ему, что ли, нечего?..
Я ничего ей не ответил. И лишь когда мы с водителем вновь загрузили ее в машину, молча сунул вызывной листок в карман.
— Куда теперь?.. — спросил меня растерянно водитель.
— В центральную… — сказал я ему.
И вот мы заносим старушку в приемный покой центральной больницы. Два дежурных врача точно так же внимательно осмотрели старушку и, согласившись с моим диагнозом, без всяких рассуждений отказались ее госпитализировать. Я начал объяснять им, что старушка одинокая, живет в бараке, да мало того, впереди четыре нерабочих дня. Но они ни в какую. Без всякого черкают в вызывной карточке, что в госпитализации отказано.
— Я прошу вас… — начал я их умолять.
— Вы что, хотите, чтобы мы пожаловались на вас вашему главврачу или старшему врачу станции?! — закричали они на меня. — Пусть дома ваша старушка полежит, ничего с ней не случится…
— Тогда разрешите у вас поставить больной капельницу…
Они вновь крикнули на меня:
— Слава богу, у нас здесь не реанимация… Да и кто тебе сказал, что больной показана капельница…
Волнение мое нарастает. Но я, увы, бессилен что-либо сделать. Молча загружаем мы с водителем больную обратно в машину. Растерянность охватывает меня. Я не знаю, куда мне дальше ехать. В запасе остается клиническая больница. Но положат ли старушку Туда, если у меня уже есть два отказа? Время поджимает. Около часа потерял я на эти два приемных отделения.
В клинике я нарываюсь на заведующего отделением, он сегодня дежурит. Бегло осмотрев больную, он взрывается, мол, как это я до сих пор не знаю, что больных в таком возрасте кладут лишь в исключительных случаях, когда отек легких, двухсторонняя пневмония, эмболия и прочие критические состояния, но ни в коем случае не гипертония, пусть она даже с признаками сердечной недостаточности.
— Но хроническая недостаточность может в любой момент при таком давлении обостриться… — доказываю я.
— Вот когда обострится, тогда и привозите… — отвечает он и точно так же, как и предыдущие дежурные врачи, отказывает мне в госпитализации.
В клинику я продолжаю верить. Спросив разрешения у заведующего, я звоню профессору, своему бывшему учителю, чтобы он в виде исключения помог мне положить старушку. Долго телефон был занят. Наконец профессор взял трубку. Он терпеливо выслушал меня и попросил передать трубку заведующему. Тот торопливо взял ее и пообещал профессору выполнить его просьбу.
И с пренебрежительностью ко мне он произнес:
— Давайте вызывной лист… — и попросил санитарок и водителя переложить больную с носилок на кушетку.
Но, когда те кинулись к ней, она была мертва. «Она слышала наш спор и не смогла стерпеть…»
Я кинулся к ней. Ее рука была еще теплой. Бледное лицо, покрытое потом, восковидно блестело.
Водитель не сдержался. Поднес папиросину к губам и сказал:
— Вот так вот, взяли и человека на тот свет отправили… — а затем посмотрел на заведующего: — Попробуй верни теперь ее обратно… Ну что молчишь, профессор… Эх ты, старухе места пожалел. К чему ты теперь… Нет в тебе никакой надобности… — и, выругавшись, он, оттолкнув санитарку, кинулся к выходу.
Я равнодушно принял из рук заведующего вызывной листок, в котором он постарался отметить, что смерть произошла не в стационаре, а в машине «Скорой», по пути в больницу, эта деталь почему-то была для него очень важна. Я небрежно сунул листок в карман халата. К чему он теперь и что он может значить, если человека нет.
С носилками в руках вышел из приемного отделения во двор. «Ну почему я в первый раз не настоял на своем?.. Надо было в наглую оставить больную в приемном, а самим уехать, а точнее, убежать… Но тогда бы мог получиться скандал… Да и старушка так верила, что ей врачи не откажут. Допустим, я и оставил бы больную, но дежурный врач мог вызвать другую «скорую» и приказать, чтобы старушку увезли обратно…»
Было что-то около десяти вечера. Мы ехали обратно на станцию. Продырявленная электрическими фонарями темнота теперь мне не была страшна. Хотелось кричать, бить кулаками по машине, что-то кому-то доказывать. Но не было сил.
ПСИХУШКА
Колька Дерябин последнюю неделю проводил в своем родном поселке. На днях в заводском клубе его принародно во второй раз осудят и на три года увезут в городскую тюрьму. Всего год и два месяца он пробыл на воле после первого срока и вот опять влип…
В день получки, зайдя в кафе с Лианой, бывшей балериной, с которой он познакомился месяц назад в психушке, где работал санитаром, заметил, что Лиана как-то подозрительно моргнула, а потом закосила глазом бармену, умело не доливающему вино в бокалы.
— Ты чего это глазки строишь? — подозрительно спросил ее Колька.
— Он на тебя похож… — засмеялась она и шутя добавила: — Ты извозчик, а он фрайер.
Заметив, что Колька засерчал, Лиана нежно обняла его.
— Что ж, выходит, по-твоему, мне нельзя и на молоденького мальчика посмотреть?
— Бармен мало того что недоливает, но и не извиняется… — сказал ей с дрожью в голосе Колька.
Он не любил несправедливости. И особенно воров.
— Да я не о том, — прижалась Лиана к нему. — Я о культуре. Не каждый может так гордо держать себя на людях.
— Если так, то ты не балерина, а плясунья… — вспыхнул Колька. — Тоже мне, па-де-де, Коломбина, Дона Анна. О культуре говоришь, а сама не петришь в ней…
После этих его слов Лиана пригорюнилась, затем в каком-то возмущении высоко подняла брови и, сдерживая себя, чтобы не расплакаться, прошептала:
— Мы, кажется, в кафе. А в кафе запрещается говорить грубости…
— И глупости… — добавил он удовлетворенно.
— Зря ты так… — заупрямилась она вновь и собралась уж было покинуть кафе, чтобы больше не видеть его.
Но он, взяв ее за руку, сказал тихо:
— Дуреха… шуток, что ли, не понимаешь.
Бармен смотрел на них, все так же хитро улыбаясь.
— Уходи… — вскрикнула вдруг она. — Если ты не уйдешь, я уйду.
Он не придал особого значения ее словам. И, сказав по-мужски:
— Да тише ты, не шуми… — усадил за дальний широкий столик. Достав из кармана четвертак, произнес: — Если бы ты не «косила», а работала как все, то я, может быть, как и он, был фрайером. Я с олигофренами день и ночь вожусь, лишь бы тебя ублажать. А во-вторых, если я между вами что замечу, то обоих тут же точно мошек по стеклу разотру.
Бармен поставил на стол солонку и положил меню. Он был высоким и, как показалось Кольке, очень наглым. Колька его почти не знал, ибо в пристанционное кафе не любил заходить. Бармен уходил от них не как официант, а как хозяин, медленно и солидно размахивая по сторонам пухлыми руками, в одной из которых было красное полотенце. «Почему красное?» — ухмыльнулся Колька и, глядя на Лиану, произнес:
— Бой быков, что ли?
— Ты на это только и горазд… — вздохнула Лиана, продолжая все с тем же прежним интересом смотреть на молодого бармена. Зрачки ее расширились. И в глазах появился блеск. Признак того, что болезнь начинала прогрессировать. «К черту милосердие, к черту…» — хотелось закричать Кольке. Он понимал, что Лиана начинала уходить от него. И он уже ничего не мог изменить. «Она забывает меня…» — и от этой мысли вдруг обмер. Руки и ноги онемели.
«Если баба с дефектом мозга, в любой момент жди выкидончик…» — вспомнил он санитарскую присказку.
Народ в кафе был весь какой-то праздничный и веселый. Много было девок, и некоторые из них были не заняты. Колька, взглянув на них, пожалел себя. «Старый пес, надо же, с молодухой связался. Думал, болезнь ее собой заслонить. А она вишь какая крученая. Куда уж нам…»
Бармен включил музыку. И Колька посмотрел на него. Он не только лицом гордый, но и руки у него тоже гордые. При разливе вина солидно напрягаются. А не в меру широкий подбородок еще более плющится, когда при наклоне головы прижимает галстук-бабочку. «И зачем я в этот кабак ее заволок?» — жалеючи вздохнул Колька, не зная, как ему дальше быть и что делать.
«А может, она раньше с ним крутила… — подумал он и побледнел. — Кажется, и на прошлой неделе она просила, чтобы я ее сводил в это кафе. Все ясно…» — и, сжав губы, он небрежно сунул ей в руки четвертак. Она удивленно и в каком-то добром расположении посмотрела на него. Но ему уже было все равно.
— Раз засветилась… — со злостью прохрипел он, — то, извини, третьим лишним быть не могу.
Голова его закружилась, и воздух вдруг показался ему каким-то удушающим. Мало того, он вдруг почувствовал свой санитарский запах. От него пахло больницей: сероводородными таблетками аминазина, который горстями пьют психи, постельным застиранным в хлорке бельем и ацетоном, которым он накануне растворял краску для больничных полов.
Холодно улыбнувшись самому себе, он коснулся рукой лица. Небритое, оно было как никогда горячим. Двое суток подряд он дежурил. Больные поступали почти непрерывно, и ему некогда было заняться собой.
Лиана вдруг резко встала из-за стола и прокричала на все кафе:
— Думаешь, плакать буду?! — И, скривив губы, со злостью добавила: — Я что, тебе жена?
Он открыл ногой дверь и сказал вставшей из-за стола матери:
— Мамань, я Лиану к черту послал, — и, прислонившись к двери, усмехнулся.
В доме было тепло. Пахло хлебом и сиренью, огромный букет ее стоял в банке на столе. Из открытой форточки слышно было, как щебетали воробьи. По комнате, не находя себе места, летала желто-оранжевая бабочка, порой она стукалась в цветную фотографию Лианы, которая висела у окна рядом с календарем. Колька сорвал ее фотографию со стены и бросил к печи. Захлебнувшись свежим весенним ветром, уперся руками в стол. Прищурив глаза, посмотрел на мать. Та была, как и прежде, высохшая и бледная.
— Говорила тебе с больными не связываться, а ты не послушался… — сказала она и, вздрогнув от кинувшейся к ней бабочки, закашляла со свистом и хрипом.
— Легкие… — жалостливо прошептал Колька и, подойдя к матери, любезно усадил ее за стол, сказал: — Ничего, мам, страшного. Мало ли у меня этих баб перебывало. Захочу, восемь штук завтра приведу. И все будут в доме моем сидеть и песни петь.
— Опять больные, что ли? — удивленно спросила мать.
— А чем больные не люди… — вспыхнул вдруг Колька. — Такие же люди, как и все, а может быть, даже и посерьезнее, посердечнее и поласковее, потому что душевные переживания познали…
— Если они будут такие, как твоя Лиана, то я выгоню их из дома, — вздыхает мать.
Колька сидит рядом. Ей хочется, чтобы он всегда был с ней. Она понимает, что жизнь ее на исходе и она скоро расстанется со своим сыном. Больше у нее никого нет на свете. Муж погиб на фронте. А две племянницы, которые живут в городе, приезжают один раз в пять лет.
— Не везет тебе, сынок, на девушек, — произносит мать и жалостливо смотрит на сына. — Тебе скоро сорок, а семьи ты так и не создал.
— Создам, мать… — бурчит Колька. — Все еще впереди… — И взрывается: — В чем, в чем я, мать, виноват? Ведь я с ними по-человечески, как порядочный. А они с недельку поживут и начинают озоровать. Месяц назад монтажницу с кирпичного приводил, помнишь, в моей комнате каждый вечер песни пела. Думал, путевая. А она погибшая оказалась. Спилась… А Лиана, разве ты забыла, как на первых днях танцевала. Живот заголит и адажио как зафигачит, а как выпьет, шмеля-вьюна танцевать начинает, и так ловко, только голые пятки сверкают… Допустим, она и дура, но прежний талант не отнимешь. Она не один раз мне говорила, что саму Эсмеральду танцевала, а затем Коломбину и Дону Анну.
Мать удивленно смотрит на сына, а затем произносит:
— Да пойми ты, не ты им нужен, а твои деньги.
— А как же другие женятся?
— Другим бог помогает… — растроганно произносит мать. — А тебе не везет… — И, подойдя к печи, поднимает с пола скомканную фотографию Лианы и, расправив ее, добавляет: — А еще хвалилась своей родословной. Видите ли, ее отец был одним из великих организаторов совнархозов. Ври ты больше. Пройдохой ты как была, так ею и останешься. Не знаю только, на что врачи смотрят. Но я бы на их месте тебя из психушки никогда бы не выпускала. Лечить тебя надо, ведьму гулящую.
Мать еще что-то бормочет, но Колька не слушает ее. Потерянно смотрит на свои руки, на скатерть, на букет сирени.
Мимо окна прошла незнакомая женщина, затем, остановившись, как-то подозрительно посмотрела по сторонам и вновь пошла.
— Нету ее… нет… — вздыхает Колька, и выходит на улицу. Ему душно. И как назло, у матери ничего нет выпить. Пенсию ее он всю пропил. Зарплату санитарскую тоже. И зачем он отдал Лиане четвертак? Пусть бармен ее поит. Раньше на месяц денег хватало. А тут почти все за три дня просадил. Уж больно понравилась она ему. Молодая, интеллигентная, самое главное, очень хрупкая. Колька давно мечтал бабу иметь хрупкую. Хрупкие женщины очень милые, так он считал. И вот познакомился на свою голову.
— Сынок, не переживай… — сказала мать.
Колька приветливо посмотрел на нее.
— А я и не переживаю… Погреться всегда с кем найду. Но чтобы постоянно жить, нет уж… Все они ведьмы… — и, обрадовавшись этим своим словам, рассмеялся.
Мать молча смотрела на него. Руки ее, как и она сама, сухие, морщинистые, то и дело вздрагивали. Платье, все износившееся, висит как на вешалке. Ему лет двадцать, а она его носит и носит. Не на что новое купить. Колька всю пенсию пропивает. А когда он с балериной познакомился, то пришлось в долги влезть.
— Сынок… — нежно трогает сына мать. — Вдруг я завтра умру, что с тобой тогда сделается?.. — И, вытерев глаза, добавляет: — Пропадешь, как пить дать пропадешь. Люди кругом чужие, так и готовы съесть…
Эти слова раздражают Кольку.
— Да не умрешь ты, мамань, — пытается он успокоить ее. — Зачем умирать? Живешь себе и живи… — Затушив ногой догорающий на земле окурок, добавил: — А вот если и дальше такие сволочи будут мне попадаться, то я, мать, честно тебе скажу, не выдержу. На второй заход в зону напрошусь. Не могу я по-человечески жить на этой воле. Мне в зоне намного свободнее, а тут одна заблудка… Я что ее, эту балерину, объедал?.. Я к ней всей душой, а она…
— Разве с больной что возьмешь… — пролепетала мать лишь для того, чтобы успокоить сына.
— Это она в психушке была больной, а на волю выпустили, значит, здоровая, — возразил Колька. — У Ней справка-заключенка о том, что она прошла курс лечения, врачи не дураки. Ты, мать, многого не знаешь, а я знаю, как-никак более полугода санитарю. И в лечении поднаторел. Некоторые больные горстями таблетки пьют и не умнеют, а эта месячишко на уколах прокантовалась и на целый год нормальную видуху приобрела, а может, даже и более. Хотя и повторный заход не исключен, у ней циклическая болезнь, то есть циклами фигачит. Таблетки ей не помогают, только уколы выручают, на одной из репетиций в двадцатипятилетнем возрасте она так закружилась, что остановиться вовремя не смогла, вот и грохнулась в оркестровую яму вниз головой. А до этого нормальная была. Сам видел, как она на респектабельных спектаклях-завитухах заглавные роли исполняет. Так копытит, что любой мужик губы распустит.
— Раз она такая всесторонняя, то почему ее никто в жены не взял?.. — не унималась мать.
— Это загадка… — согласился Колька и в оправдание развел руками. — Я ее ведь чуть больше месяца знаю. Горе, можно сказать, свело. Если бы она сегодня не взбесилась, то, может быть, у нас и любовь вышла бы…
— Впредь никогда не спеши… — сказала мать. — Понял?..
— Как не понять… — вздохнул Колька, соглашаясь с ней. Как бы то ни было, он любил мать и уважал ее.
Когда поздно ночью привезли балерину в приемное, буквально через полчаса вызвали Кольку. Вдруг ни с того ни с сего во время заполнения истории болезни она так возбудилась, что подняла над головой стул и со всей силы грохнула его об стол. Старушка санитарка успела на нее накинуть простыню, а подоспевший Колька, в две секунды повалив ее на пол, связал ей руки и ноги. После укола, удивленно посмотрев на Кольку, она сказала:
— А ты откудова такой?
— Отсюдова… — равнодушно ответил он.
Поначалу она неприятной ему показалась: кожа на руках вся в красных пятнах и ссадинах, волосы на голове все спутаны, точно она целый год не расчесывалась, платье широкое и старомодное, с длинными рукавами, видно, в психдиспансере ее переодели, чтобы спокойно везти в психовозке. Мало того, глаза у нее блестели точно у идиотки. И губы дрожали, как у олигофренички.
— И всегда ты так с девочками обходишься?.. — прошептала она, а потом, дернувшись, как закричит: — Тебе финкой бы горло проткнуть! Ишь, как на больничных харчах отожрался. Бабник-похабник. Пока ты здесь, я не останусь тут ни в коем случае… — И в беспамятстве затряслась, а затем начала биться телом и головой об пол, тараща на всех глаза и высовывая язык.
— Опять возбуждается!.. — сказала санитарка.
Но доктор поправил ее:
— Не возбуждается, а раздваивается, точнее разваливается. Одного укола мало, придется второй всадить… — и позвал медсестру.
Колька прижал больную к полу, и медсестра, не обращая внимания на ее истерический крик, без всякого волнения сделала укол. Но и после второго укола балерина долго не могла утихнуть. Кольке и крик, и она сама опротивели, и поэтому, чтобы поскорее избавиться от нее, он, спросившись разрешения у врача, привязал больную за руки и ноги к кровати. И передал по смене, как зафиксированную и остробуйствующую.
Утром ее, крепко выспавшуюся и успокоившуюся после действия лекарств, сменщик отвязал. Осмотревшись по сторонам, она спросила у окружавших ее больных:
— В арестантской я, что ли?..
— Нет… — успокоил сменщик.
А маленькая, худенькая и остриженная наголо больная добавила:
— В доме терпимости ты… Мы люди не чужие. У нас фабрика есть, где мы детские калоши клеим и рукавицы шьем. А еще у нас Клеопатра есть, купец приезжий, рыжий волк, портрет царя и два новеньких билета на дневной сеанс… — И, улыбнувшись, «худоба», торопливо достав из кармана своего рваного халатика маленький колокольчик, что есть мочи зазвонила им над головой и закричала: — Новенькая, дуй на руки, дуй. Если будешь дуть, голове полегчает. Мы все дуем, и нам легчает. Ты руки не разглядывай, ты дуй на них… И памятка твоя и ум постепенно восстановятся… Ура, ура!.. Да здравствует новенькая Клеопатра, купец приезжий, рыжий волк, портрет царя и два новеньких билета на дневной сеанс!..
К звонившей «худобе» вдруг подошла какая-то старуха в полосатом халате и с чалмой на голове. Уперевшись по-барски руками в бока, она прокричала на ухо звонившей:
— Господь с тобой!.. — И, вздрогнув вся, зарыдала: — Нитки, иголки, нитки, иголки… Пойду в милицию, может, свиданку с богом дадут…
«Худоба», перестав звонить, настороженно посмотрела на нее и прошептала:
— Что мне делать теперь?..
Старуха, бросив плакать, вдруг опять в какой-то радости прокричала:
— Господь с тобой!..
— Он не со мной, он с тобой… — в ответ сказала «худоба». — Потому что ты счастье ищешь… Душа у тебя связана, а ты все равно его ищешь…
Старуха, прижав к груди руки, смотрела на нее в каком-то восхищении. Морщинки на переносье вздрагивали. Грудь тяжело дышала.
— Канарейка в клетке, вот кто я!.. — громко произнесла она.
— Глядите, договоритесь у меня… — зорко наблюдая за ними, кричит санитар и прямо в палате закуривает.
Краем глаза смотрит на новенькую, которая очень премило сидит на краю постели. Халат ее расстегнут, и стройные ноги видит вся палата.
— Отстань… — шипит на санитара старуха. — Я тебе посылку свою отдала. А вчера мне мужик десять пачек сигарет передал. Куда ты их дел?..
— Как куда… — хмыкает санитар, глубоко затягиваясь. Он любит на виду у больных курить. Дразнить их. — Как куда? — улыбаясь, продолжает он. — В сейф-запасник положил. Доктор велел выдавать тебе меньше всех, по одной сигаретке через день, по ночам ты слишком громко хрипишь. Эмфизема у тебя, не дай бог, на моей смене окочуришься, отвечай тогда за тебя, в морг на вскрытие за сорок километров вези. Так что, уж прости… Я не главный командир, есть и повыше…
Когда Колька вечером пришел на смену, санитар, осмелев, перед уходом, уже без халата, в новом костюме подошел к балерине и сказал:
— Я отдал распоряжение, а точнее, уговорил врачей не стричь тебя… Так что будь добра, при случае уважь… — И, похлопав ее по щеке, спросил: — Тебя как звать?
— Лиана…
— Ты к нам поступала раньше?
— Нет…
— Первый раз такую разумную статуэточку вижу… — улыбнулся санитар и приказал: — А ну сними с плеч халат, я на тебя погляжу… Нет ли шрамов.
В голове Лианы какая-то тупость сидела. И в знак благодарности, что сменщик не остриг ее наголо, она сняла с себя халат. Санитар жадно ощупал ее грудь, плечи и внимательно снизу доверху оглядел.
— Ты чем живешь?.. — спросил он.
— У меня группа… — ответила она.
— Наркотиками не колешься?
— Нет…
— А ну повернись…
И она повернулась. И он, ласково хлопнув ее два раза по спине, сказал:
— Одевайся… — И, с уважением посмотрев на нее, когда она оделась, спросил: — Ты меня любишь?..
— Не разобрала еще… — тихо сказала она. — А во-вторых, я не распутная…
Санитар усмехнулся:
— Да я не об этом… Славная ты… — И сказал Кольке: — Что делать с ней, даже не знаю… Может, сразу поставить над больными старшей. Новой Клеопатрой назначить…
— Не спеши… — приостерег Колька. — Это она сейчас, покуда уколы действуют, смирная. А посмотрел бы ты, как вчера пол грызла, еле скрутил ее…
— Не знал, что она такая больная, — натягивая на голову кепку, сказал санитар. — А то бы после лечения ее на дом сопроводил… — и, не дождавшись, когда Колька, пересчитает больных, ушел.
Он, так же как и Колька, работал санитаром временно. Просто после лечения от алкоголизма в этой больнице решил немного подзаработать, а заодно погасить перерыв в трудовой книжке.
«Худоба», вдруг подойдя к Кольке, сказала:
— Ты посмотри, как она на тебя смотрит.
На что Колька раздраженно сказал:
— Надоели вы мне… — и выругался. — Рядом с вами чокнутым станешь. Черт знает чепуху какую-то день и ночь несете… И когда только отрезвеете.
Он сердито топнул ногой на «худобу». И та, понуро опустив голову, отошла к зарешеченному окну, следом за ней, что-то бормоча себе под нос и придерживая руками чалму, пошла и старуха.
Трое больных, накрыв голову одеялом и оставив лишь щелочку для глаз, увлеченные только им какой-то понятной мыслью, азартно ходили из угла в угол. Колька не стал их беспокоить. Тронь их, они так заорут и взбесятся, что и не рад будешь. Присев на стульчик у двери, посмотрел на балерину. Та сидела на кровати и в каком-то старании дула на руки, словно она их обожгла. Колька насторожился, но затем успокоился. Руки были как руки, целые и невредимые. «Ишь, как раздваивается, наверное, скоро опять психоз начнется…» — и пошел за врачом. Тот пришел неохотно. За ночь поступило много больных. И надо было заполнить истории болезни да заодно назначить лечение.
— Ты чего это?.. — ласково спросил врач балерину, присаживаясь рядом с ней.
— Отрезветь хочу… — улыбнулась она.
Доктор, пошевелив бровями, внимательно посмотрел на нее. Затем спросил:
— Детка, я вчера тебя опрашивал?..
— Не знаю… — ответила она и еще сильнее начала дуть на руки.
— Ладно, хватит воздух в тело вгонять… — сказал доктор. — Пойдем ко мне в кабинет, я тебя опрошу, а заодно сказку расскажу…
— Сопроводить?.. — настороженно спросил Колька.
— Не надо… — спокойно произнес доктор и, взяв балерину за руку, повел по коридору.
«И что в ней хорошего санитар нашел… — вздохнул он, глядя ей вслед. — Только привезли, а она номера отчубучивает…»
И сам себе сказал:
— Хватит, надо увольняться отсюдова.
«Худоба», выйдя из палаты, вежливо поклонилась ему. И он обрадовался этому. Поклон подтверждал необходимость предпринятого решения.
Она пришла от доктора примерно через час. И на вопросительный взгляд Николая произнесла:
— После опроса он меня в лабораторию отослал. — И добавила: — Почему вы на меня так смотрите, словно меня бог только что сотворил?
— Надо, значит, и смотрю… — ответил он и вздохнул. — По долгу службы. Кто знает, что у вас на уме?
Она улыбнулась.
Колька сидел на стуле. А она вдруг неожиданно подошла к нему из-за спины, и он почувствовал на себе ее тепло.
Устыдившись чего-то, он медленно встал и сказал:
— Не полагается больным так близко подходить… Я понимаю, что у вас, может быть, и нет никаких злых умыслов против меня, но другие больные могут это ваше поведение расценить как сигнал к атаке, то есть нападения на меня… И если она начнется, то несдобровать ни вам, ни мне…
Она быстро отошла от него, примерно метров на пять, и сказала:
— Мне как-то неудобно, что вы меня охраняете… Совсем недавно вы так строго посмотрели на меня, что я испугалась. Вот и пришлось спрятаться за вас.
— Вы до этого были во многих психбольницах. Что же тут удивительного… — сказал он уравновешенно и уважительно.
— Но это в других, а в вашей первый раз… — улыбнулась она.
— Наша больница для вас не сюрприз, у нас все строго… Все двери на треугольных ключах, на работу и с работы возят на специальных автобусах — психовозках, телевизор смотреть разрешено только по воскресеньям, куревом распоряжается лечащий врач, а когда его нет, старшая сестра…
— А лес у вас рубят?.. — обиженно вдруг спросила она.
И он это заметил и, чтобы успокоить ее, сказал:
— У нас лесоповала нет. Но все принудчики, и даже те, кто совершил убийство по состоянию «чока», работают на резиновом заводе грузчиками. Приезжают оттудова как черти, все в саже…
— Я тоже хочу на резиновый завод… — перебила она его.
— Пожалуйста… — ухмыльнулся Колька. — Я не против, если врач разрешит.
— А женская бригада там есть?.
— А как же… — ответил он, удивляясь странному ее любопытству. — И не одна бригада, а две, хотя на резиновый завод посылают в основном только старух. А молодых девиц в исключительных случаях.
— Почему?.. — с прежним любопытством спросила она.
— Вы что, прокурор?.. — хмыкнул он.
И хотя грубо произнес эту фразу, ему нравилось разговаривать с балериной. С ней не то что с некоторыми другими — бред выслушивать. Она почти нормальная.
— Мне интересно… — воскликнула она и добавила: — Если можно, помогите мне на резиновый завод попасть. Там все же лучше, чем здесь.
Он посмотрел в ее странно доверчивые глаза и откровенно сказал:
— Молоденьких на завод потому не пускают, что они часто беременными становятся. А это для нашей больницы большие хлопоты… В этом году были случаи, когда рожали больные, не участвующие в работах на резиновом заводе.
— Но как в таких условиях… — покраснела она. — У вас все запирается, да и в этом здании, как я поняла, одни женщины находятся.
Продолжая удивляться ее любопытству и желанию поговорить, Колька улыбнулся и ответил:
— Были у нас тут два санитара, да и братва, которая в соседнем корпусе от алкоголя лечится, тоже пронырливая… Санитарских кадров не хватает, поэтому их очень часто на подмогу посылают…
Балерина умолкла. В растерянности опустив голову, носком правой ноги начала нервно тереть пол. Пухловатые губы ее еще более налились. Волосы распустились. Зажатый промеж колен халат обтягивал налитые мускулистые бедра. Она подняла голову и так настороженно посмотрела на Кольку, что ему стало неловко. Бегло осмотрев палату, он сказал:
— Вы так меня расспрашиваете, словно первый раз в психушку попадаете. Разговаривать вам, что ли, не о чем?..
— Да, не о чем… — кивнула она и, рукой поправив волосы, приветливо посмотрела на него.
Кольке делать нечего. И поболтать он тоже не прочь. Снисходительно улыбнувшись, он спросил:
— По мужу небось скучаете?
— У меня нет мужа… — прошептала она. — И не было…
И тут же напряглась. Прижавшись к стене, у которой стояла, отрешенно посмотрев в окно, за которым алкоголики шумно гоняли мяч, сказала:
— Я балериной мечтала стать, понимаете, балериной… — И настороженно спросила его: — Давно я тут?
— Со вчерашнего дня… — ответил он и, заметив, что она, как и в день поступления, начинает вся как-то напрягаться, хотел было нажать кнопку вызова врача. Но передумал. Неудобно получалось. Столько времени с ней откровенничал, и вдруг ей опять всадят тройную дозу аминазина, после которого она будет сутки спать, а проснувшись, станет, как и все остальные в палате, заторможенно-вялой и ни на что не реагирующей.
— Успокойтесь… — сказал он тихо.
— Нет, нет!.. — истерично прокричала она и, задрожав вся, добавила: — А вот это вы видели!.. — и, сняв тапки, пробежалась по палате на одних носочках, как на пуантах.
Больные, вскочив с постелей, уставились на нее.
— А вот это видели!.. — прокричала она вновь и, замахав руками точно крыльями, прошлась на носочках по кругу, а затем, подпрыгнув чуть ли не к самому потолку, мягко опустилась и закружилась на одной ноге, как юла.
И больные и Колька так все и ахнули. Не было в их палате еще таких чудес. Кружиться на одном месте после курса таблеток каждый мог, но чтобы так мастерски, на одной ноге!.. Короче, случай был редчайший. И «худоба», та, что самая первая советовала балерине на руки дуть, в каком-то восторге подпрыгнув на одном месте, прокричала собравшимся вокруг больным:
— Арестованная, а как прыгает! Так, чего доброго, и в окно вылетит… — И, протянув руки к балерине, сказала. — Голубушка, ты не отошедшая, ты вошедшая… Матерь городов ты. Дорогая, покружись еще, я тебе за это двадцать пять копеек дам и чашку супа.
И в ответ на ее просьбу балерина закружилась еще более.
— Браво, браво!.. — захлопали в ладоши и засвистели больные.
А когда балерина, вновь взлетев, благополучно приземлилась, все кинулись к ней и начали обнимать ее и целовать.
— Это я Эсмеральду вам станцевала… — захлебываясь от восторга, что ее поняли, начала объяснять балерина. — «Эсмеральда» — моя самая любимая вещь. Сильные вращения, туры в воздухе, горячая стремительность танца, па-де-бурре, па-де-де, затем снова па-де-бурре. У Эсмеральды была мать сумасшедшая… Поэтому я не просто здесь оказалась. Все связано…
— Вы хотите сказать, что вы репетируете в сумасшедшем доме… — перебил ее Колька. — Нет, даже не думайте об этом Я не позволю этого… Свобода свободой, но есть строго определенные рамки и границы, которые душевнобольные не имеют права переходить…
— Из-за таких санитаров, как ты… — прокричала вдруг какая-то совсем новенькая больная, — больные еще более тупеют. Твое постоянное присутствие делает нас посмешищем. Слава богу, мы еще не глупые. Ты создан лишь для того, чтобы создавать нам душевные неудобства. Санитарство не нужно. Долой санитаров. К черту нашего санитара. Он мерзавец. Если я вам расскажу, как он надо мной издевался…
— Все правильно… — поддержали ее вдруг несколько точно таких же шизофреничек. — Этот наш санитар не просто алкоголик. Он сумасшедший алкоголик… Мы ошиблись в санитаре. Короче, за себя не ручаемся…
— Разговорчики!.. — прикрикнул Колька на возбудившихся больных и ласково погрозил им пальцем. — Если будете продолжать шуметь, вызову доктора и он назначит вам по дополнительному уколу…
Услышав это, больные притихли. Балерина, приговаривая: «Да здравствует Эсмеральда!» — вновь запрыгала по палате, возбуждая своим азартом больных. Раскрыв рты, они смотрели на нее как на чудо. Им не нужен был санитар, им нужна была только балерина и ее Эсмеральда. Больной мозг изменчив, не одно и то же действие или событие извне излечивает его, а постоянная смена, их разнообразие.
— Дочка, как тебя зовут? — спросила балерину «худоба».
— Лиана!.. — прокричала та ей в прыжке.
— Неплохо!.. — улыбнулась «худоба» и с такой открытой злобой посмотрела на Кольку, что он вздрогнул.
«Ну и бабка… Видно, порешить ей человека ничего не стоит…» — заключил Колька и спокойно выдержал ее взгляд. Смутившись этим упрямством санитара, «худоба» отбежала в сторону, точно ужаленная. Кольку временно прикрепили к женской палате. Здесь он должен был пройти практику или, точнее, стажировку перед отправкой в мужскую буйную палату. Он с нетерпением дожидался того дня, когда его открепят от этих баб. Надоели они ему своею простотой и какой-то неестественной однообразностью. Скучно с ними, муторно. На работу идешь, как на каторгу.
Балерина, напрыгавшись, стала знакомиться с больными, обнимать их и жать им руки. «И кто ее только выточил…» — удивлялся Колька стройности ее тела. Он еще не умел прятать этот по-особому мужской взгляд, потому что балерина, перехватив его, тут же спрашивала его:
— Почему вы так смотрите на меня, словно собираетесь на мне жениться?
— Это вам так кажется… — старался успокоить он ее. — Вы лечитесь, а я работаю. Да и у наблюдателя всегда взгляд беспокойный…
— А наш санитар может лаять как собака… — сказала вдруг «худоба».
И Колька, не выдержав, оборвал ее:
— Смотри, старая, договоришься у меня…
— Спасибо… — улыбнулась «худоба» и добавила: — Но, кроме всего прочего, я хочу напомнить, что душевнобольные ненаказуемы… Это самые добрые люди, и обижать их не следует… — и, отведя балерину в сторону, что-то прошептала ей на ухо.
И вскоре больные стали называть балерину Клеопатрой.
— Дева красоты! Дева красоты!.. — закричали они.
Шум в палате поднялся не на шутку. Николай грозно прокричал:
— Прекратите беспорядки!.. — и поднял над головой кулак.
Больные, разбежавшись по углам и по койкам, приутихли. Балерина и Колька остались в центре палаты одни.
— Извините, но мне почему-то стало очень весело… — сказала она. — Я никогда так не кружилась…
— Я понимаю вас… — буркнул Колька, вежливо отводя ее к постели. — Но в палате этого делать не полагается. Были бы вы здесь одна, другое дело, а то ведь здесь больные, которые от ваших прыжков возбуждаются.
— А разве им разрешено шуметь? — остановившись у своей постели, она указала на окно, за которым, крича на весь двор, гоняли резиновый мяч алкоголики.
— Они другое дело… — поправил ее Колька. — Они к душевнобольным не относятся… — И добавил: — У них режим свободный, а у вас строгий. Они без санитаров обходятся, а вы…
Глаза ее вдруг точно так же, как и в день приема, злобно сверкнули. Она не присела на кровать, как все больные, а уперлась в спинку кровати. По взгляду балерины, хотя опыт работы у него был мал, Колька понял, что она начинает раздваиваться. Кнопка вызова врача была далеко. И он опять почему-то решил повременить с вызовом. Поза «Эсмеральды», хотя он и стоял от нее, загородив проход в трех метрах, была очень напряженной. Словно Колька наступал, а она оборонялась. Да и взгляд уже не был тем прежним — доверчивым и искренним. Фальшивость и наигранность в нем были. Чтобы не выдавать своей настороженности, Колька, опустив руки в карманы, звякнул треугольными ключами. Для всех больных, кто более-менее соображал, звон ключей обозначал, что санитар сердится. Новенькая больная этого не знала.
— Как ваше имя-отчество? — спросила она.
— Николай Николаевич… — ответил он как можно спокойнее.
— А можно Колей тебя звать?.. — хитро улыбнулась она, впервые назвав его на «ты».
— Пожалуйста… — ответил он, и от передергивания ее плеч стало ему опять не по себе. «Жаль, сменщик на нее смирительную рубашку не одел, а я тоже не догадался…» — подумал Колька. Лицо балерины из приветливого и красивого вновь, как и в день приема, стало суровым. И он понял, что предстоит работа…
Чтобы снять тревожные мысли, со всей силы звякнул ключами. Почти все больные вжали головы в плечи и притаились. В палате наступила мертвая тишина, перебиваемая криками алкоголиков.
— Так вот, Коля, ты, наверное, теперь понимаешь, что я не больная… — торжественно произнесла она.
Он в нерешительности молчал, все еще не понимая, та ли перед ним балерина, с которой он несколько минут назад разговаривал.
— Я не больная!.. — прокричала она. — Я нисколько не больная… — И, указав на больных, добавила: — Они все это видели, я убедила их…
После этих слов Колька окончательно разуверился в ней. И если раньше не спешил нажать кнопку вызова врача, то теперь решил сделать это безотлагательно.
— Насчет больных вы немножко неправы… — он на некоторое время отвлек ее этой фразой и, отступая, чуть приблизился к вызывной кнопке, которая была метрах в десяти. Если сразу же пулей кинуться к кнопке, больные не поймут. Их сознание и подсознание, хотя они и приутихли, возбуждено и заряжено балериной. Звон ключей может отвлечь на очень короткое время, за которое он навряд ли незаметно сможет добраться до кнопки. Больные знают, что после звона ключей Колька рано или поздно вызовет врача, который прикажет привязать балерину к кровати и всадить ей три страшно жутких и больных укола. Почти все это они испытали на себе.
«И зачем я ее только пожалел…» — замер Колька. Он нежно смотрел на приутихших больных, которые, судя по всему, были злы на него. В палате давно уже не делались уколы, и раздвоиться им всем было сущий пустяк. Если броситься к кнопке бегом, они все равно настигнут. В дверь выбежать он тоже не успеет, потому что она закрыта на два замка. Палата глухая, тупиковая, и крики о помощи навряд ли кто услышит. Да и вызванный доктор придет не сразу, примерно через двадцать минут. А за это время Кольки уже не будет. «И зачем я только согласился санитарить?..» — в растерянности подумал он и незаметно сделал к кнопке еще один шаг. У него все же была надежда. Небольшая, слабенькая, но все же надежда. После нажатия кнопки можно стать спиной к стене и биться насмерть, то есть пустить в ход руки и ноги.
— Ты думаешь, я сошла с ума?.. — продолжала наступать балерина. И некоторые больные, уже не обращая внимания на звон ключей, становились рядом. Это придало ей еще большую уверенность, и Лиана, сделавшись необыкновенно гордой, произнесла:
— Почему ты молчишь? Я хочу слышать от тебя вразумительный ответ.
Она задыхалась от волнения. А глаза так впились в него, что ему стало холодно. Он незаметно отступил на шаг.
— Ты кто такой?.. — усмехнувшись, спросила балерина. Почти все больные встали с постели и с животной покорностью подошли к ней.
— Санитар… — непонимающе ответил он.
— Ха-ха… — засмеялась она. — И не стыдно тебе, мужику, находиться среди баб… Срамота… Ты даже не представляешь, как ты глупо перед всеми нами выглядишь…
После этих слов Кольке захотелось кинуться на балерину и так связать ее простынями, чтобы она и пикнуть не могла. Но «худоба», которая, как и все остальные, приняла сторону балерины, указывая на него пальцем, точно паровоз прокричала:
— Он не санитар, он алкоголик… — и, округлив глаза, захохотала. — Два месяца назад он вместе со всеми резиновый мяч гонял. Мы не хотели его, мы от него отказывались. Его к нам насильно поставили…
Поняв, что балерине нравятся эти ее слова, «худоба» расходилась еще более. Подняв над головой сжатые в кулаки руки, продолжила:
— Он не санитар, он плотник. Он гвозди в руки наши заколачивает, распинает, душит, вяжет, еду забирает… Из-за него посылки перестали доходить, а курево он «налево» втридорога продает. Деньги, которые нам передают, присваивает. Он все пропивает… Все, все… Даже больничную краску. А скоро он и нас всех пропьет… А его напарник по субботам и воскресеньям отпускает нас к алкоголикам и требует, чтобы мы любили их. Он заодно с ним. Когда я поступала, он разбил мне глаз… А вдове прапорщика… — и «худоба» указала на высокую наголо остриженную женщину, которая была выше и шире Кольки, — руку выдернул и два зуба выбил. А у Зои, которая умерла, перстень снял и с напарником пропил. А девочке одной пересыльной, чтобы она не храпела, напарник позвоночник табуреткой проломил, а он его не выдал и доктору сказал что хребет от судорог лопнул. А еще его напарник нас раздевает…
Колька не выдержал и сказал:
— А при чем здесь я?..
— А при том, что все вы заодно… — точно сговорившись, хором вдруг прокричали «худоба» и балерина.
До кнопки оставалось три шага.
— Если я в чем виноват… — сказал вдруг Колька, — то давайте сядем и все обсудим.
— Алкоголиков не обсуждать надо, а вешать!.. — прокричала вдова прапорщика и, подойдя к Кольке, замахнулась на него. — Если бы мой муж не пил, я бы сюда не попала. Клонись в ноги, клонись!.. — закричала она пуще прежнего. — Я тебя топтать и презирать буду…
— Клонись, клонись!.. — закричала обрадованно «худоба», тоже наступая на него. — Чтобы ты больше в нашей палате никогда не был, мы тебя съедим. Мы не хотим тебя… — И, указав на балерину, она сказала: — Мы будем подчиняться только Клеопатре Египетской… — и что есть мочи прокричала: — Ура-а-а! Да здравствует Клеопатра Египетская! Ура-а! Ату его!.. Ату-у-у!..
И палата вся задвигалась и зашумела. Параноики в радости стали обнимать олигофренов. А шизофреники старческих слабоумов. Балерина торжествовала. Победа была за нею. «Худоба», накрывшись простынею, ощущала себя на седьмом небе. Из-под дальней угловой койки вдруг вылезла прыщавая длинноухая старуха, которая все время там и жила, и, подойдя к Кольке, прошептала:
— Вавила, ты ли это?..
Ее красные налитые глаза от постоянной подкроватной темноты были рачьими. Питалась она плохо, в основном корками и объедками, которые оставались от больных. Старуху никто не замечал, никто не обращал на нее внимания. Единственно, чем отмечали ее медперсонал и больные, так это тем, что никогда не занимали ее постель. Постельное белье на кровати не менялось, потому что старуха спала на полу. Была она грязная и вечно голодная. Зубы у нее были желтые и огромные, как у лошади. Во рту не помещались и поэтому выступали наружу.
— Пропала твоя головушка… — проскрежетала она, торопливо закатывая рукава грязного халата. — И учти, мне не тебя жалко. Мне твоего отца Осипа жалко. Ох как жалко…
— Клонись в ноги, я тебя презирать хочу!.. — закричала опять в каком-то бешенстве вдова прапорщика и своей длинной ногой так ударила Кольку, что он отлетел к стенке. Ох как он обрадовался этому удару. Кнопка была рядом, и он без всякого труда надавил на нее, да не просто, а глубоко, что означало всебольничную тревогу. Сигнальная лампочка над потолком симпатично засияла. Больные, увидев ее, замерли.
— Корова, лучше бы тебя тут и не было!.. — закричала «худоба» на вдову прапорщика. — Что ты сделала? Что?..
— Это не я… — заплакала вдова. — Это черти влезли в мою голову.
— Что это обозначает?.. — спросила балерина больных, указывая на лампочку.
— Тревогу… — пояснила «худоба». — Сейчас прибегут санитары и врачи… Свяжут нас простынями и так уколами законопатят, что мы будем целую вечность спать…
Больные заслонили от Кольки дверь, и открыть ее уже не было никакой возможности. Мало того, две олигофренички длинными безобразными ногтями без всякого труда выкрутили с ограничителей шурупы и засунули их в замочные скважины. Теперь двери открыть как снаружи, так и изнутри можно было только ломом. Самая высокая больная, чуть приподнявшись на носочках, своими жердеобразными руками вырвала лампочку вместе с проводами. Для Кольки это могло стать причиной трагедии. Цепь прервалась, и сигнал тревоги на центральный диспетчерский пульт теперь не поступал. Мало того, диспетчеры кратковременность звучания могли принять за ошибку и отказать в помощи.
Балерина, понимая, что может попасть в очень трудную ситуацию, забегала по палате, как юла. Лишь одна «худоба», чего не ожидал от нее Колька, была спокойна как никогда.
Не зная, что может произойти дальше, Колька стоял у стены как истукан. Единственной надеждой продлить спасительное время было физическое сопротивление всей этой массе.
«Боже мой… — в страхе размышлял он. — И зачем я только связался с этой подработкой? Был бы я лучше алкоголиком, чем сейчас смертником. Это же людоеды, настоящие людоеды… От них избавились, а я, дурак, решил на них подзаработать…»
Колька был зол не только на больных, но и на себя. Он ненавидел и ругал себя за то, что разрешил балерине прыгать в палате. Именно после прыжков больные полюбили ее и все приняли эту неожиданно возникшую гордую бешеность как освобождение от его санитарства. И только он об этом подумал, как толстенькая узкоглазая параноичка, которая раньше клялась в любви к Кольке, прокричала:
— Колька присвоил две мои посылки. Долой его, долой санитарство…
И, растерявшись было, больные вновь объединились. Крик придал им силы. Длинноухая прыщавая старуха зубами, точно собака, прогрызла новый Колькин ботинок и, сорвав его с ноги, полезла под первую попавшуюся койку. Однако быстро вернулась и, став на четвереньки, приготовилась ухватиться за оголенную Колькину ногу. Вдруг балерина, пришедшая в себя, прокричала:
— Стойте, он еще нам нужен!.. — И спросила Кольку: — Ключи от оконных решеток у тебя?..
— Нет… — ответил Колька.
— А у кого? — допытывалась балерина.
— У замглавврача…
— Врешь… — крикнула она. — Он тоже небось, как и ты, вор…
— Я не вор… — попытался возразить Колька.
Ему становилось не по себе. «Неужели сигнал не услышали?»
Прошло пятнадцать минут, а помощь не приходила. Даже топота шагов не было слышно ни в коридоре, ни на лестнице.
— А зачем ключи?.. — решила подсказать балерине «худоба». — Если есть у него голова… Мы возьмем его за руки и за ноги. Пару ударов, и он вместе с решеткой и окном вылетит наружу…
— Только хорошо бы его перед этим освободить от мужицкой крови… — предложила вновь осмелевшая вдова прапорщика. — Он мне не нравится. Я люблю полных, а он худой… алкоголик атрофированный…
Услышав это, Колька в ужасе прокричал:
— А-а-а!..
Прыщавая длинноухая старуха поняла это как сигнал к атаке. Став на ноги, она прыгнула на Кольку. Сорвала с него брючный ремень и опять залезла под койку.
— Был бы хоть санитар как санитар, а то алкоголик атрофированный… — завыла вдова прапорщика и кинулась на Кольку с кулаками.
Балерина раздвоилась. Сняла с себя халат и в какой-то необыкновенной радости, хлопая руками точно крыльями, начала танцевать по палате.
«Как была она дурой, так и осталась…» — краем глаза глядя на пируэты балерины, подумал Колька. Почти все больные, страшно разъяренные и злые, за исключением двух двойняшек-олигофреничек, которые в жизни своей никогда не дрались, накинулись на Кольку с целью разрешения неожиданно возникшего вопроса: мужик он или баба. Прыщавая старуха, выкарабкавшись из-под койки, в растерянности смотрела на кучу-малу и плакала. Как и в другие прежние расправы над санитарами, за ее тридцатипятилетнее пребывание в этой палате ей навряд ли опять что достанется.
Буквально за какие-то две-три секунды с Кольки слетели халат и рубашка.
— Сумасшедшие, что же вы делаете?.. — орал он, отбиваясь.
Но больные были непробиваемы, они лезли как танки.
— Я и курево вам отдам, и посылки… — орал он. — Только не трогайте. Я мужик, говорю, мужик… Если не верите… Я ваш брат, каторжанин-алкоголик. Неужели позабыли, как я мячик за окном гонял? Вы тогда беспризорные были… Я не хотел… А главврач, чтобы срок скостить, меня к вам поставил…
— Врешь!.. — кричала «худоба».
— Ты не мужик, ты баба!.. — орала вдова.
Колька отмахивался от налезавших на него разъяренных женщин руками и ногами. Когда-то в детстве ему показали приемы каратэ, и это ему сегодня пригодилось.
От сумасшедшего дерганья джинсы Колькины лопнули по шву.
— За что?.. — заорал он.
— Щекочите его!.. — закричала вдруг маленькая больная с блестящими глазами. — Все алкоголики щекотки боятся…
Для сумасшедших характерно непостоянство действий. Столпотворение идей в их головах мешает достигнуть намеченной цели. Полураздетого Кольку телами прижали к стене, а двое больных, сняв с него носки, с необыкновенным наслаждением начали щекотать ему пятки. Колька, захохотав, начал извиваться точно уж. Но женские тела хоть и дрожали, но удерживали его у стены.
— Ха-ха!.. Помогите!.. — что есть мочи кричал Колька, выбиваясь из сил.
Балерина, устав от своих па-де-де и хлопанья руками, не обращая внимания на происходящую расправу, на полусогнутых прыгала по палате. Что было бы дальше с Колькой, трудно сказать. В один из пиков производимой над ним щекотки вдова прапорщика, прижимавшая Кольку сильнее всех вдруг придушенно вскричала:
— Такой маленький!..
Все растерялись. Щекотку прекратили.
«Худоба» спросила:
— Кто маленький?..
Вдова, отдышавшись, во всю глотку опять закричала:
— Такой маленький!..
Две больные, накинувшись на нее, стали что есть мочи трясти и допытываться:
— Кто это такой маленький?..
Она, видно начав раздваиваться, зациклилась на одной и той же фразе:
— Такой маленький…
А когда ее под угрозой битья спросили, кто же Колька — мужик или баба, она ответила:
— Не поняла… Но что алкоголик, это точно…
— Если он наш санитар, мы должны о нем все узнать… — прокричала «худоба» и, боясь, что и она вот-вот раздвоится, так как прояснения в ее памяти были недолгими, со всей злостью кинулась на Кольку.
Вскоре джинсы и майка были с него сняты. И до того момента, чтобы предстать в чем мать родила, оставалось буквально каких-то две-три секунды, как вдруг две олигофренички, до этого спокойно стоявшие в сторонке, вдруг громче всех прокричали:
— Горько! Горько!.. — и что есть мочи дружно захлопали в ладоши.
От этого нового поворота «худоба» раздвоилась. Бросив Кольку, она прошептала:
— Надо же, вроде тихие, образованные были до этого девки, а вот тебе на, отчубучили… Кого ему, алкоголику, целовать? Стену, что ли… Вот так милость с их стороны. И кто просил этих олигофреничек высовываться? Таблеток, что ли, каких нализались или просто такими уродились? Орут как бешеные «горько, горько». Таблетки надо водой запивать, и не будет тогда горько… Считают себя благородными. А по лицу видно, дуры дурами!..
Остальные, еще покуда не раздвоившиеся, приговаривали:
— Правильно! Все правильно, сокровище ты наше!.. — И, бережно взяв Кольку за руки и за ноги, усадили его в центре палаты на гору, сделанную из подушек.
И такие женские ласки начал испытывать на себе Колька, что, позабыв все обиды, тут же растаял. Лучше женской заботы, чем эта, раньше никто к нему не проявлял. Его целовали в щечку, расчесывали волосы на голове и гладили руки. А какие слова говорили. В одно ухо шептали: «Ты отец великий, наш ты хлопотарь…» А в другое: «Ты не просто санитар, ты министерский санитар…» А затем на него очень нежно дуть начинали и говорили-приговаривали: «Ты один у нас такой из фарфора. За твоей спиной не пропадешь… Все дураки только и мечтают иметь такого санитара. Надзирать он не надзирает, а за душой наблюдает… Он долготерпим и зря больных не слопает. Слава ему! Слава ему!..»
«Вот тебе и дурдом, вот тебе и больница!.. — восхищался Колька. — Фараоны такого не ощущали. Если теперь не пью я, то, чего доброго, в радости от такой рекламы и запьешь…» — и, точно кот, в удовольствии щурил глазки. И уже ему хотелось отменить сигнал тревоги. Вот он уже, сладко позевывая, засыпает. Лелея всего лишь одну мысль: «Было бы это на воле, то послал бы кого-нибудь в магазин, чтобы для полного удовольствия остограммиться…»
— А водки у вас случайно нет? — тихо спрашивает Колька больных.
— Откуда… — лепечут те и, чтобы не обидеть его сухим законом, слаще прежнего шепчут: — Министерский ты наш, отец-царь, хлопотарь…
А грохот-топот ног по лестнице и по коридору все громче и громче. Два раза дернулась толстая металлическая дверь, в которой по неизвестным причинам заклинены были боковой и центровой замки. А затем она тут же рухнула, точно простреленная пушечным ядром. Есть такая незаменимая в психушке отмычка-взрывчатка, через пару секунд любая стена может быть уложена наповал. Первыми ворвались в палату два санитара с носилками. За ними пожарник с брандспойтом, врачи с простынями и прочие службы экстренной помощи, общее число которых составляло более двадцати человек. Но, забежав в палату, они все растерялись. Больные, в том числе и балерина, были на своих местах. Они лежали спокойно, строго соблюдая режим тихого больничного часа. Вот только санитар Колька, к удивлению всех, в одних трусах лежал на горе из подушек и, откинув назад голову, храпел на всю закрутку.
— Ты в своем уме? — стали будить его санитары. — Создал тревогу, а сам спишь…
— Это не я… — сквозь сон пробормотал Колька.
— А кто же еще… — вспыхнули санитары. — Тоже мне, маленький…
И вдруг, увидев обгоревшие на потолке провода от сигнальной лампочки, развели руками:
— Понятное дело. Провод на провод… И, выходит, он не виноват…
Приведя Кольку в чувство, спросили:
— Почему ты голый? Неприлично все же, женская палата…
— Мне жарко… — сказал Колька. — А во-вторых, я своим видом никого не оскорбляю…
— Все ясно… — заключили врачи. — Пары аминазина… — И, сделав Кольке нужные уколы, отнесли его в кислородную палату, где он до утра должен был лежать и приходить в себя.
Вот такое вот неприятно-приятное раздвоение произошло с Колькой на второй день пребывания балерины в его палате. Он любит его вспоминать. И кому рассказывает о нем, все, конечно, смеются и никто не верит.
— Если вовремя раздвоиться, то это с любым произойдет… — доказывал Колька.
Но как это надо было вовремя раздвоиться, он и сам толком не знал.
После этого случая Кольке объявили выговор и велели отдежурить подряд трое суток «штрафных», то есть без оплаты. Он не обиделся на такое строгое наказание, а, наоборот, даже обрадовался. Ему хотелось работать в больнице день и ночь непрерывно. Неожиданно он полюбил Лиану. После проведенного углубленного лечения она сразу же поумнела и перестала возбуждаться и раздваиваться.
«Если на улице ее встретишь, то и не подумаешь, что она чок…» Слово «чок» на санитарском жаргоне обозначало чокнутый, то есть не в своем уме. Грубое оно, конечно, но ничего не поделаешь, все санитары так говорят.
Когда сменщику Иоське рассказали о том, что произошло с Колькой в палате, он спокойно заключил: «Перегрузился парень, вот и вышло у него помутнение в мозгах…»
Но для приличия все же спросил:
— Коль, что это с тобой такое произошло? Вся больница о тебе только и говорит.
Колька спокойно ответил:
— Надышался паров аминазина. Он, этот аминазин, для больных привычен, а мне в тягость…
— А правда говорят, что больные удавить тебя хотели?.. — Иоська был любопытный малый. Ему всегда хотелось все знать. И добавил: — Неудобно как-то получается. Одно дело, если бы мужики давили, а то ведь бабы… — и заржал. — Ох и лягаются они, умрешь с ними. Один раз они и на меня накинулись, еле отбился от них… Особенно эта «худоба», поморка старая, так и лезет, кричит: «Ты мою тринадцатую забрал». А на кой она мне, эта ее тринадцатая зарплата, если я ее не видел и в руках не держал? Говорят, что она, покудова добивалась от своего предприятия тринадцатой зарплаты, и с ума сошла. Куда только ни обращалась, а зарплату ей все равно так и не выдали. Уморы они, эти бабы, ох уморы… Иногда хвосты поджаты, на койках точно ангелы сидят, а иногда так расходятся, словно нечистая сила в них вселяется, так и ловят момент, чтобы тебя втихаря оглоушить. А иногда, словно по свистку, как взбудоражатся, кричать начинают, рвать на себе одежду, безобразничать. Доктора с медсестрами не успевают аминазин колоть. Да и сам с ними так накрутишься, что белый свет не мил. Ты первый год работаешь, а я как-никак третий, так что, если замечаю назревающий шмон, без разбора вяжу простынями полпалаты, и они тут же утихают… — И, успокаиваясь, Иоська добавлял: — С мужиками намного легче, чем с бабами. Хотя там уж если кто оглоушит, так оглоушит. Одному в мужской палате никак нельзя дежурить, только втроем.
Иоська работает санитаром в больнице потому, что его нигде на работу в районе не берут. Проштрафился он за пьянку, да как еще проштрафился. Характер у него такой: бывает, устроится на завод слесарем, дня не проработает, а на другой, глядишь, уже в вытрезвитель попадет. Ему сорок лет, а у него уже три трудовые книжки с указанием «продолжение следует», и почти во всех кратковременные сроки работы да штампы «принят — уволен». На работу его обычно устраивала спецкомиссия райисполкома, а иногда, в виде исключения, и милиция. Милиция заставляла кочегарить в самых захудалых кочегарках, чего Иоська страсть как не любил.
Пребывание в психбольнице было для него раем. Здесь он перестал пить и приобрел клевую «сидячую» работу. Да и палату ему, как физически слабосильному, выделили самую что ни на есть безопасную, женскую из разряда полуспокойных. Редко к женским палатам приставляют санитарить мужиков. Но если санитаров в больнице не хватает, приходится ставить кого угодно, лишь бы только порядок в палатах соблюдался. На воле, конечно, и Колька, и Иоська всем говорили, что они с мужиками работают, да и не с психами, а с алкоголиками; а чтобы солиднее звучало, объясняли, что они не смотрят за ними, а бригадирствуют, учат их в мастерских рукавицы и тапочки шить. Не все алкоголики после лечения соглашались санитарить в больнице. Многие считали эту работу для себя унизительной, хотя и платили неплохо, все же как-никак вредность. Некоторым она казалась самой что ни на есть неэтичной, особенно если дежурить в женских палатах. И рассуждали так: свои бабы дома надоели, а тут еще они и сумасшедшие.
Колька с Иоськой, невзирая ни на что, работали. Им некуда было деваться. Кольку тоже нигде не брали на работу в районе, хотя он и думал со временем покинуть психбольницу.
Случай с Колькой напугал Иоську. И он начал как можно чаще вязать подозрительных больных, страхуя себя от возбуждения всей палаты.
Колькиным объяснениям насчет инъекционных паров аминазина он не верил. Да и раздвоение не признавал. Считал, что только белая горячка может затуманить Кольке разум.
Дверь в палате отремонтировали в тот же день, наладили и сигнализацию. Электрики заменили патрон в потолке и ввинтили новую лампочку, а чтобы ее больные впредь больше не вырывали, надели на нее металлическую сетку, то есть зарешетили. Главврач провел с Колькой часовую беседу о вреде паров аминазина. Под Колькиной палатой на первом этаже находился процедурный кабинет, где почти день и ночь в две смены кипятились шприцы для производства инъекций аминазина. За одни только сутки в этой процедурной делалось больным около тысячи уколов. Процедурная постоянно парила. Часть пара выходила в форточки, а часть проникала в Колькину палату. Может, это было даже и хорошо, потому что аминазиновый пар благотворно действовал на всю палату. Он успокаивал больных. И лишь только Кольке вредил, он раздваивал его и заставлял вступать в контакты с больными, подыгрывать им и считать себя точно таким же «чоком», как и они.
Главврач посоветовал Кольке не сидеть долго в палате, а почаще выходить в коридор и следить, чтобы форточки всегда были открытыми. Главврач уважал санитаров, потому что их постоянно не хватало. А Кольку любил больше всех: безотказней работника не было во всей больнице. Кроме того, Колька неприхотлив. Жены у него нет. Спешить ему некуда. Если его попросят отдежурить целую неделю, он отдежурит. И вместо одной может наблюдать за тремя палатами.
Колькину палату после происшедшего случая зааминазинили, то есть всем больным, включая, конечно, и «худобу», назначили тройную дозу аминазина в инъекциях. В таблетках этот основной и святой в плане успокоения препарат назначать более или менее соображающим больным было бесполезно. Многие из них для виду бросали его в рот, но глотать не глотали. Когда врач или медсестра уходили, они незаметно выбрасывали таблетки в форточку или в ячейки решетки приоткрытого окна. Зимой выброшенные за окно таблетки скрывал снег, который валил почти каждый день. Зато весной, когда снег таял, под окнами обнаруживались целые горы разноцветных таблеток аминазина, из-за дозировки цвет их был разным. Коричневые таблетки были самые сильные, а желтые самые слабые. По приказу главврача, чтобы избежать греха от проверяющих лечебную работу комиссий, больничный дворник Илья загружал их лопатой в тележку и вывозил на свалку. Порой он более трех дней был занят этим важным для больницы делом. Работал непрерывно, как вол, и, часто толкая нагруженную таблетками тележку в гору, ругался: «Если бы они вовремя их пили… То с ума бы не сходили. И зачем их только выпускают. Лучше бы детям побольше витаминов делали. Если больные не пьют, то кому они нужны, эти мозговые снаряды».
И постепенно на свалке образовывалась аминазиновая гора. Больничный дворник смотрел на сваленные таблетки и, вздыхая, хмурился.
— Вместо того чтобы выбрасывать, лучше бы алкоголикам отдали. Они до лечения жадные, все без разбора подберут. Может быть, эти мозговые снаряды на пользу пойдут и они перестанут пить водку.
Свалив очередную тележку на аминазиновую горку, дворник, вздохнув, смотрел на окна, из которых глазели на него больные.
— Эх, видно, ничего с ними не поделаешь. Только уберешь из-под их окон таблетки, а через недельку, глядишь, опять асфальт весь засыпан…
И то ли от горя, то ли от тоски дворник, взяв из горки несколько таблеток, тут же с аппетитом их съедал. После чего он буквально через полчаса, свернувшись калачиком на дне тачки, крепким мертвецким сном засыпал и просыпался лишь на вторые или третьи сутки. И был он очень доволен таким благодатным отдыхом.
— А с психикой как у тебя после них?.. — спрашивали его после кочегары.
— Хоть кол на голове теши… — улыбался он и, протерев глаза, смотрел на аминазиновую гору. — Эх, братцы, если бы вы только знали, сколько сна пропадает в этих мозговых таблетках.
Кочегары удивленно смотрели на него и ничего не понимали. А один из них, самый молодой, морщил нос:
— Если бы они были съедобными, их бы птицы поклевали.
И все вдруг подхватывали хором:
— А все потому, что они не лечат, а калечат… Пока пьешь — ничего, а кончил пить, голова опять дурной становится…
Дворник смотрел на них и улыбался. Ему было все до фени. Он был спокоен как никогда. Мало того, он выспался на много дней вперед.
— Ты, гляди, от них с ума не сойди… — замечая его заторможенность, говорили кочегары.
На что он, махая рукой, смеялся:
— У меня голова всем головам голова. Хоть кол на ней теши. Любые переживания без всякого принимает и переваривает. И мыслей самых страшных не боится. Потому что пуганая. Порой мысли эскадроном в мозгу как закружатся. Ну, думаю, все, голова с плеч слетит. А минутка проходит, и все опять на место становится.
Дворник все говорил и говорил. А кочегары слушали его и смеялись.
Больница находилась в небольшом лесу, который пересекала железная дорога. Колька ездил на работу на электричке. От его дома до больницы всего две остановки. Лечебные корпуса не огорожены, и порой деревья подступают почти к самым окнам. Больных на улицу выпускают очень редко, Лишь летом в очень жаркие дни их выводят на огороженную трехметровой сеткой площадку примерно на один-два часа. Трудно сказать, приводила ли такая строгая изоляция больных к их скорейшему выздоровлению. Зато побегов из больницы почти не было. Да и как убежишь, если все окна зарешечены, а входные и выходные двери закрываются на два замка, открываемые специальными трехгранными ключами. На вольном положений в психбольнице находятся лишь одни алкоголики. Они гуляют и по территории, и по лесу. Никто за ними не следит В их корпусе нет даже санитаров. Ночью алкоголики спят без охраны с открытыми дверями. Им разрешено пользоваться часами, магнитофонами, телевизорами и прочими электрическими вещами. Они выписывают газеты и журналы. И у многих тумбочки забиты харчами, которые им почти каждую неделю привозят родственники и жены. Алкоголики — народ избалованный, больничной едой брезгуют, а по отношению к душевнобольным почти все себя считают наполеонами, хотя в первые дни приема порой ничем не отличаются от душевнобольных, а порой бывает, что выглядят и похуже.
Обеспеченные алкоголики могут заказать для себя в целях воспитательных бесед опытного психотерапевта из местного кооператива. Беседа вместе с сеансом гипноза стоит недорого, всего три рубля. Ну а тот, кто побогаче, может в день выписки вшить под кожу ампулу, якобы на три года вызывающую отвращение к алкоголю.
Колька бедным был. Поэтому он лечился тем, чем и всех лечили. Каждый день после обеда ему давали с ложки выпить водку, затем сестра делала укол, и минут через пять его начинала сотрясать страшная рвота. От нестерпимой боли в кишках он падал на пол и кричал, выпуская пену и пищу изо рта, что есть мочи обещая и врачам и медсестрам больше никогда не пить. И он действительно перестал пить. Иногда, правда, срывался, особенно когда попадал в компанию выпивох. Однако на работу всегда приходил трезвым.
Целую неделю кололи аминазин и балерине. И если больные после инъекции грустнели, она, наоборот, по-прежнему была веселой, шутила с больными и танцевала. Ее тоненькая и легкая, как пушинка, фигура будоражила Кольку. Больничный халат она мастерски перешила, и он стал походить на платье. Чтобы пары аминазина меньше проникали в палату, Колька принес замазки и попросил балерину замазать все щели между стенами и полами. Целый день она провозилась и, к удивлению Кольки, законопатила все.
В одно из воскресных ночных дежурств она вдруг как-то незаметно, со спины подошла к нему и, взяв его за руку прошептала:
— Возьмешь меня? Возьмешь?.. — И добавила: — Неужели я тебе не нравлюсь…
И хотя он ей сказал: «Тебе спать пора…» — но с волнением все равно не мог справиться. «Неужели мысли она мои подслушала? До этого ходила, виду не показывала. А тут вдруг взяла и представилась…»
— Надоело мне одной быть, понимаешь, надоело… — она жадно смотрела на него. — Я умею хорошо готовить и стирать.
Она тоже волновалась. Грудь вздрагивала. И дышала Лиана торопливо-испуганно. Сумерки ее не старят. Она по-прежнему выглядит молодой. Он не знал, повезло ему или нет. Первый раз в жизни женщина сама навязывалась ему.
— Хозяйкой, говоришь, хочешь быть… — улыбнулся он.
Ее откровенность тронула. Да и день был сегодня каким-то скучным и хмурым, и Колька не против был поболтать. Он знал, что на таких больных никто никогда не женится. Мало того, он вдруг вспомнил тот день, когда ее, не в меру взбесившуюся, пришлось вязать простынями в приемном покое.
— Тебе со мной повезет… — торопливо говорит она, не спуская с него глаз.
Он стоит перед ней чуть ссутулившись и не понимая, то ли она серьезно говорит, то ли шутит. А может, просто разыгрывает. Делать ведь ей нечего. Целый день по палате без толку ходит. Вот и разгулялась.
— Что это на ум тебе взбрело?.. — усмехнулся он. — Ты у нас не заброшенная вечница, через недельку выписывают тебя, а на воле мужиков, сама знаешь, хоть пруд пруди…
Сказал и испугался своих слов, боясь вспугнуть ее. В палате было по-прежнему тихо. Все больные крепко спали. Редко когда бывает такая умиротворенная обстановка. «Случайно, не подстроила она все это?.. — подумал он. — От нее ведь что угодно можно ожидать. Больные могут не спать, а лишь всего-навсего притворяться спящими. Стоит крикнуть балерине, и вновь начнется такая катавасия, не расхлебать». Он открыл дверь в коридор. Тишина была прежней — ни шорохов, ни звуков. Не было слышно и голосов больных из дальней палаты, мучающихся годами бессонницей.
Она вдруг нахмурилась, и страшно дикий взгляд поразил его. И тогда Колька понял, что она не шутит. Он быстро подошел к сигнальной кнопке и стал к вызывному щитку так, чтобы в любой момент сделать вызов. Это на случай, если возбудится вся палата.
Оглянувшись, она пристально осмотрела палатный сумрак. И, осмотрев, с беззаботностью произнесла:
— Ты самый молодой здесь, поэтому я и навязываюсь…
Этой фразой она точно пнула его. На какой-то миг он забыл, что перед ним больная.
Плечи ее шевельнулись. В каком-то испуге она поправила на груди халат.
— Мамочка родная!.. — Губы ее задрожали, и она заплакала. — Если ты меня не возьмешь, я удавлюсь… Пойми, я не навязываюсь…
Он еще больше удивился ее просьбе. И если раньше его клонило ко сну, то теперь даже и мысли не было. Вдруг с какой-то виноватостью Лиана подошла к нему и, исхудалыми пальцами вытирая слезы с глаз, прошептала:
— У тебя есть закурить?
Он молча дал ей сигарету и прикурил.
— Спасибо… — она жадно затянулась раз, другой. А затем, когда вышли в коридор, сказала: — Ты уж прости меня, дурью башку… Я пошутила. Развезло меня от скуки, вот я и напала на тебя…
И, усмехнувшись, она нежно поправила ворот его халата. Морща лоб, он достал сигарету и прикурил от ее огонька.
— Ты не пугайся меня… — сказала она. — Я сигаретку докурю и в палату уйду…
Щетинистый подбородок Кольки в ярком коридорном свете поблескивал. И она вдруг, как-то запросто потрогав Кольку, спросила:
— Сам-то женатый?.. А то я, может быть, поторопилась с навязыванием.
Забыв, что она больная, он ответил:
— Я один…
— Значит, я не ошиблась… — улыбнулась она и от волнения покачнулась. Затем, коснувшись его руки, спросила: — Всю жизнь один?
— Всю жизнь, — вздохнул он.
— Значит, ты берешь меня?
— Зачем?
— Я тебе детей буду рожать…
Ноздри ее вздрогнули. И взгляд стал вновь диким и упрямым.
— Мы будем лучше жить, чем другие… — вдруг зашептала она. — Я так рада, что познакомилась с тобой. Но только ты не думай, что подзаборная… Я совсем недавно осиротела, понимаешь ли ты, совсем недавно… — И она прижалась к его груди.
— Успокойся… — ласково произнес он, чуть тронув рукой.
— Как же нам теперь жить?.. — спросила она.
— Это не твоя забота… — произнес он и вдруг замер. «Что я делаю? Ведь она же больная». — Иди в палату… — печально сказал он. — Пошутили, и хватит.
Появившееся счастье разом как-то исчезло. Он снял с головы белую шапочку и вытер ею лоб.
— Что с тобой? — растерянно спросила она. — Почему ты меня обманываешь?
Он грубо отвел в сторону ее протянутые руки.
— Нас могут увидеть… Лучше поговорим там, в палате… — и подтолкнул ее к двери.
Лиана покорно вошла в сумрак и, подойдя к зарешеченному окну, остановилась.
— Мне страшно, очень страшно… — обхватила она руками голову. — Ну что я такого сказала, что ты сердишься на меня.
Ей было обидно, что ее не понимали.
— Вздор нести не время… — пробурчал он. — Да и наскучило все…
— Нет, нет… — взорвалась вдруг она. И двое больных, привстав с кровати, растерянно посмотрели на нее.
Он решил закрыть палату и уйти спать в дежурку. Но Лиана загородила ему выход.
— К чему все это?.. — произнес он как можно вежливее. — А во-вторых, я пьяница и не хочу жениться.
— Тем лучше… — прошептала она.
— Смешная ты и упрямая… — улыбнулся он, и вновь появившийся в нем азарт заставил его позабыть, что она больная.
Ее дыхание было очень близким, и он чувствовал его на своих щеках и шее.
— А может, ты прикидываешься?.. — вдруг произнес он. — Специально все делаешь, чтобы больных разбудить…
— Нет, нет… — воскликнула она и отняла его.
— Пойми, да разве все это возможно… — говорил он ей. — Ты больная, а я пьяница. Никто не поймет нас.
Прижавшись к его груди, она прошептала:
— Ради бога, не бросай меня, прошу тебя…
— Да как же тебя бросишь… — вздохнул он.
Почти все больные, как по команде, встав с кроватей, настороженно смотрели на них.
Дома он объявил матери о своей любви к Лиане. Она удивилась неожиданному поступку сына. Но Колька ее успокоил:
— Я ее не неволил, она сама сказала, что любит меня.
На что мать возмутилась:
— Сколько их у тебя перебывало. И ни одна больше года не задерживалась.
— Эта не такая… — принялся доказывать Колька. — С нее, наоборот, пример брать надо. Ест она мало, фигуру сохраняет. А если бы ты знала, как она танцует. Короче, деваха что надо. Не пропадем мы с ней. За группу она получает сто двадцать рублей. Да и я как следует начну вкалывать. Пить брошу, и заживем на зависть людям.
— А в поссовете распишут вас?.. — спросила она.
— А зачем нам расписываться?.. — сказал Колька. — Мы и так проживем.
— Все же я не советовала бы тебе, сынок, связываться с бабой, у которой психболезнь, — не отступала мать.
— Чего-о?.. — вспыхнул Колька. — Да если ты с ней ласково будешь себя вести, то она никогда и не возбудится. Уж я-то лучше тебя, наверное, это знаю. Как-никак на своей шкуре все испытал. Покудова не трогаешь больного, все хорошо, а чуть задел, начинает раздваиваться.
Мать молча смотрела на сына, в растерянности перебирая фартук. Колька понял, что мать не в своей тарелке, волнуется. Поэтому он спросил ее:
— Ты чего это пугаешься?
— Уж больно болезнь у ней страшная… — пролепетала мать и добавила: — От них ведь что угодно ожидать можно…
— Опять за свое… — вздохнул Колька.
Он понимал мать, но чувствам своим уже не мог изменить. Он полюбил Лиану. И она была ему дороже всего на свете. Поразмыслив, он вдруг сказал ей:
— Ты что это, мать, хочешь, чтобы я опять начал пить?
— Боже упаси… — перекрестилась она. — Я так рада, что тебя подлечили.
— Так в чем же вопрос?.. — вспыхнул Колька.
И она согласилась:
— Ладно, пусть живет… Даст бог, может, и не убьет…
И Колька, воспрянув духом, с благодарностью обнял мать.
— А она, случайно, не выпивает? — спросила мать, вся вдруг тоже как-то повеселевшая. Она рада была за сына, что он после лечения стал походить на человека.
— Только по праздникам, — успокоил ее Колька.
— Значит, верно хорошая.
— Лучшей и не придумаешь… — и Колька, хлопнув руками, подпрыгнул. — Балерина есть балерина… Один раз в Большом театре она чуть было саму Эсмеральду не станцевала. Ты ее, мать, как только увидишь, то сразу же и обомлеешь. Это ведь не какая-нибудь тебе канавная шлюха или лимита кирпичная. Она дочь приемная одного генерала, который верхами командовал.
— Ох ты боже мой!.. — всплеснула руками мать. — Так бы сразу и сказал… А то начал тарахтеть, а я слушаю, слушаю и все никак не пойму.
— Конспирация, мать… — воскликнул довольный своей шуткой Колька. — Сейчас о родословной не принято трепаться. Завистников много, а где зависть, там и злость. Да и вдруг власть переменится.
— Молодец, сынок, соображаешь… — похвалила его мать и тут же добавила: — Веди ее скорее…
Затем Колька вдруг вспомнил погибшего на фронте отца, и они с матерью прослезились.
— Если бы батя узнал, что я с балериной познакомился, он похвалил бы меня… — произнес Колька и, чтобы полностью оправдать привод в дом Лианы, добавил: — Батя искусство страсть как обожал… Помнишь, мать?..
— Помню… — завсхлипывала мать и, затеребив вдруг Кольку, стала просить его: — Веди ее, веди…
Странная мать у Кольки, а точнее, старенькая. Многое она уже забывает. Видно, склероз дает о себе знать. Сколько жен-времянок у Кольки перебывало, она уже и не помнит. А имена их подавно все запамятовала. Хотя и жила с некоторыми бок о бок и полгода и год, вместе с ними ела и хозяйство вела. Учительская пенсия у ней маленькая, и, чтобы деньги на еде сэкономить, она раньше курей держала. Почти каждый день яички свежие, да и мясцо к осени вместе с супом-лапшой всегда было. Однако год назад перебила она всех курей. Нет больше сил за ними ухаживать, а последние Колькины жены вообще кур почему-то презирали, говорили, чем с ними с утра до вечера возиться, лучше пойти в магазин и без сякого труда купить. К Колькиной холостяцкой жизни мать привыкла. Если в тридцать пять лет он не женился, то в сорок пять и подавно не женится. Может, избаловался он, потому что единственным сыном у матери был, а может, среда довела. Работал он на стройке каменщиком, народ на объектах веселый, а точнее, пьющий. Постепенно и Колька научился с ними пить. А где водка, там и пропажа ума. Стоит деньгам появиться, как они все на ветер улетают. И постепенно стал Колька гол как сокол. В комнатке, где он жил, ничего у него, кроме железной кровати и тумбочки, не было. Раньше был на стенке маленький коверчик, так он и его пропил. Холодильник и телевизор в ломбард отвез, а выкупить так и не смог. И если бы не поссовет, то неизвестно, что бы с Колькой дальше было. Председатель вместе с матерью уговорили Кольку пройти курс лечения от алкоголизма в наркологическом отделении, которое находилось в пяти километрах от поселка.
Лечение пошло ему на пользу. Пить он, конечно, пил, но не такими запоями, как прежде. Работая в больнице, он и здоровьем окреп, и силу почувствовал. Работа ограждала его от водки. Видя почти каждый день душевнобольных и наблюдая за ними, он понимал, что в любой момент может стать точно таким же «чоком». На Колькиных глазах умер не один десяток ребят-алкашей от белой горячки. Многих из них привозили в больницу без сознания, в состоянии припадков, сопровождающихся страшным кошмарным бредом. Почти все они, не приходя в себя, умирали. «Никогда не буду пить… — говорил сам себе Колька, глядя на таких больных. — Пропади она пропадом, эта отрава…» Сердце стучало от страха за точно такую же смерть, которая в любой момент могла накрыть и его. В такие минуты закрывал глаза и старался думать о чем-нибудь другом. Но, как назло, больные и люди, потрясенные смертью от белой горячки, шумели: «Надо же, такой молодой умер! Вот горе, и кто только водку придумал…»
От этих слов Колька закрывал уши. Но мысли почему-то все равно звучали в голове. А иногда кто-нибудь из санитаров или медсестер говорил: «Смотри, Коль, если так, как прежде, будешь пить, то и тебе несдобровать… Белая горячка убьет…»
После этих слов ужас охватывал его. Так и хотелось наброситься с кулаками на сказавшего. «Вместо того чтобы что-нибудь доброе сказать, они грубости говорят… К чему это? И для чего?..» И, с трудом сдерживая себя, бормотал в ответ: «Я не пью… — И добавлял: — Неужели не видно по мне?» И, раскрыв широко глаза, ошалело смотрел, как накрывали умершего белой простыней.
У Кольки не было постоянного места работы, любимой профессии. Такое положение, которое он, можно сказать, сам себе создал, томило и мучило. Он не знал, как поправить его. Считал себя неудачником-горемыкой. Десять лет назад, по настоянию матери, поступил в институт, но год проучился и бросил. Утомительной и вредной для ума показалась ему учеба. Три года назад соседка устроила его по блату на завод к попам, где делали церковные принадлежности и где зарплата у рабочих была очень приличная, но Колька всего месяц проработал на этом заводе. Уж слишком дисциплины у попов много, а это ему не нравилось. Вольному ему быть хотелось, ни от кого не зависимым. Для чего учиться, считал он, если все равно умрешь. И для чего много зарабатывать денег, если они ничего не определяют. Наоборот, в погоне за ними можно так себя закрепостить, что и не рад будешь. Много ли надо на хлеб насущный?.. Сущий пустяк. Тем более для одного. Поэтому Колька рассуждал так: день прожил я, и ладно. А чтобы унять в душе грусть-тоску и ощущение своей ущербности от того, что он не такой, как большая часть людей, он пил. И часто считал забытье в пьянке высшим счастьем.
Знакомство с Лианой отрезвило его, и Колька решил с ней начать жизнь заново.
Он привел ее в дом вечером. Мать, увидев Лиану, обрадовалась:
— Наконец-то, а то я уже заждалась. Столько хорошего мне Колька о вас порассказал…
Она крепко обняла невестку, и та, смутившись, сказала:
— Не судите нас строго… — И добавила: — Я готова извиниться перед вами, потому что во всем виновата…
— Бог с тобой, дочка, живите… — успокоила ее старушка. — Я очень рада.
Чтобы приободрить мать, Колька тихо шепнул ей на ухо:
— С ней все нормально, она выздоровела. Если желаешь справку, могу показать…
— Без тебя вижу… — буркнула та ему, удовлетворенно поправляя на себе платье.
Что и говорить, балерина ей понравилась. Тоненькая, худенькая, очень вежливая. По характеру тихая. Короче, нет даже признаков сумасшествия.
— Спасибо за доверие… — поклонилась Лиана старушке и, посмотрев на Кольку, добавила: — Я вашего сынка в обиде не оставлю…
— А зачем его обижать, он ведь не нищий… — улыбнулась мать. — Слава богу, работает… — А про себя подумала: «Ишь какая уважительная, точно собачонка… Таких у Кольки никогда еще не было. Одни грубиянки и лентяйки были, только и знали меня за вином в магазин посылать. Ну а это просто прелесть, такая угодливая!»
Платьице на балерине было старомодное, длинное. Зато платочек новенький, свежий, видно, Колька его совсем недавно ей купил. Черная пухлая сумочка, которую балерина не выпускала из рук, складывалась точно книжка, к ремешку ее были пристегнуты белые перчатки. Соломенная шляпка, во многих местах искусно и почти незаметно заштопанная, аккуратно лежала на ее спине, придавая всей ее фигуре грациозность, тоненькая резинка, за которую она держалась, нежнейшим образом обхватывала шею балерины, чуть касаясь кожи и не впиваясь в нее. Видно, шляпка была очень легкой. Из всего туалета балерины черные лакированные туфельки были самыми потрепанными и даже немножко великоватыми, словно не с ее ноги. Зато уход за ними чувствовался. Застежки были ровными, гладенькими. Туфельки выглядели бы еще более невзрачными, если бы трещинки и дырочки не были бы замазаны фиолетовыми чернилами. Все это можно было заметить при внимательном осмотре. Однако для Кольки главным была не одежда, а человек.
Взгляд у Лианы был увлекающий. Мало того, по взгляду чувствовалось, что она обладала доброй душой. Иногда, правда, какая-то грусть проскальзывала в ее лице, но очень на короткое время, видимо, это был след прошедшей болезни.
— Колька говорил мне, что ты танцуешь… — уважительно произнесла старушка.
В доме ее с самой войны, как только она проводила мужа, никто не танцевал. Времена были трудные, так что радости было мало. Музыку она любила слушать по приемнику или же когда Колька по пьянке включал проигрыватель, поставив какую-нибудь первую попавшуюся пластинку. В свободные минуты она радовалась музыке, вспоминала мужа, детство, маленького карапуза Кольку. И долго, очень долго жила в ее душе понравившаяся ей мелодия. Словно какой-то таинственный свет, она ободряла ее и вселяла надежду.
Колька, быстро включив проигрыватель, поставил пластинку, и музыка заиграла. Затем, с улыбкой посмотрев на Лиану, сказал:
— Изобрази для матери что-нибудь…
— С удовольствием… — ответила та и, сняв шляпку и туфельки, вся разом как-то собралась, а затем вдруг в такт музыке грациозно прошлась по комнате.
— Это она для виду буксует… — сказал Колька матери. — Подготовляется, так сказать.
И действительно, не прошло и минуты, как Лиана стала бойко и красиво танцевать. Она чувствовала себя в воздухе легко и непринужденно. Своим ритмичным танцем она дополняла музыку и оттеняла ее смысл.
— Браво! Браво!.. — захлопал в ладоши Колька. Глаза его сияли от счастья. Он рад был, что Лиана показывала свое искусство в его доме. — А вот эта поза, когда она руки опускает, называется пароход… — объяснял Колька матери. — А это она меня копирует, будто я на нее сержусь…
— Очень мило и хорошо… — улыбнулась мать.
Ее сын при виде этой балерины ожил, стал походить на человека, хоть чем-то в своей жизни интересующегося.
Колька заново поставил пластинку и крикнул Лиане:
— А теперь сделай моей мамке шмеля.
И закружилась, завертелась на одной ноге Лиана точно юла, в быстром ритме то опуская, то поднимая раскрасневшиеся руки.
— Эта штука классикой называется… — трогательно произнес Колька матери. И, обняв ее, тихо спросил: — Ну как девка?..
— Живи с ней, живи… — подбодрила мать сына. И Колька, от возбуждения не зная, куда приткнуться, кинулся к Лиане и, обняв ее, стал жадно целовать и шептать: — Мамка говорит, что у нас все устроится…
Лиана, точно девочка, краснела и бледнела. И сердце ее билось. Она попыталась оттолкнуть Кольку.
— Какой тут стыд, все свои… — успокаивал он ее.
И все бы было у Кольки и дальше хорошо. Но неожиданно через три дня Лиана запила, то есть сходила в магазин, купила две бутылки красного и дома сама прямо на глазах матери осушила их. Придя с работы, Колька застал ее под столом спящей.
— Что такое?.. — спросил он у матери.
— Горе… — чуть не плача, прошептала мать. — Говорила, что сегодня у нее день рождения, а я в паспорте посмотрела, а у ней нет никакого дня рождения.
— Как так?.. — удивился Колька.
— А вот так… — и мать протянула паспорт Лианы.
Колька внимательно просмотрел его и покачал головой:
— Действительно, только год и указан, а месяца и числа нет… — И вздохнул: — Как же я раньше не заметил?
— У ней и прописки нет… — добавила мать. — Когда я с ней, пьяной, разговаривала, то она мне сказала, что у ней и ни дома, и ни угла нет. Болтающаяся она. Чтобы от голода, особенно зимой, не умереть, она по психбольницам мотается… И отец ее никогда совнаркомы не организовывал, потому что его у нее совсем нет и не было… — И, взяв из Колькиных рук паспорт и кинув его на стол, она заплакала: — Ой, и что же теперь делать… Не дай бог, она возбудится и меня прибьет. А прибьет она не глядя, в любой момент, потому что прекрасно знает, что ответа ей за это никакого не будет… — и мать зарыдала пуще прежнего.
Чтобы поправить положение, а заодно поразмыслить о том, что же дальше ему делать, Колька сказал:
— Но она же балерина, черт возьми…
— Никакая она не балерина… — взорвалась мать, — потому что всю жизнь бродяжничала… Она мне рассказала, что позапрошлый год всю зиму и лето с шоферами каталась, они ее из рук в руки на трассах передавали, а потом взяли и беременную в лесу выкинули. Она от голода чуть было не умерла, да мало того, простыла. Так что ни о каком ребенке не могло быть и речи, хотя она и собиралась назло всему миру психа родить…
— Но она же танцует, черт возьми… — взорвался Колька. — А во-вторых, она разумная, о чем ни спросишь, все знает и рассуждает умнее некоторых.
— Чего не знаю, того не знаю… — ответила ему мать. — Где она этой чепухи набралась, может, все навыдумывала… Об этом я не успела спросить… Она кинулась вдруг танцевать да вот под стол свалилась…
Колька в растерянности смотрел на развалившуюся под столом Лиану. Тронул ее чуть-чуть, но она не отреагировала. Дернул за ногу, но она как храпела, так и продолжала храпеть, не обращая ни на что внимания. Мать стояла в углу и что есть мочи крестилась:
— Господи, помилуй! Ни кола ни двора, сын непутевый, да еще эта беда… В любой момент можно погибнуть…
— Ладно, хватит!.. — закричал Колька на мать. — С кем не бывает… И не убивать же мне теперь ее…
— Но ты же видел и знал, кого вел!.. — закричала на него мать.
— Видела и ты… Что ж не сказала?.. — огрызнулся Колька. — Сама ее расхваливала, а я теперь виноват…
— Бесстыдник… — вспыхнула мать. — Я говорила, я предупреждала, что она душевнобольная… А ты настоял, уговорил, о любви стал рассуждать, доказывать, что не можешь жить без нее. Другой бы на твоем месте, если бы на такую и позарился, то вначале паспорт посмотрел и, чтобы обезопасить себя, в кожвен сводил…
— Прости, мать, оступился… — вздохнул Колька и с необыкновенной злостью взял вдруг и выволок Лиану из-под стола. Но она по-прежнему не реагировала, продолжала храпеть.
— Не прощу, никогда не прощу тебе этого… — продолжала мать. — Лучше бы ты хулиганку-алкоголичку привел, чем ее… Она дом может спалить, задушить… Не спи теперь… Как теперь от нее ты отвяжешься?.. Как?.. Она уже, словно заправская хозяйка, все стены в доме газетами обклеила. Я ей сказала: «Что, обоев в магазине нету?» А она в ответ, мол, она привыкла в бедности жить. Все это она делает благодаря тебе. Ты все ей разрешил.
— Ладно, мать, не раздувай пожар, — попытался успокоить ее Колька. — Я завтра вызову Иоську, и мы ее обратно в психушку свезем.
— Какой позор! Какой позор!.. — зарыдала пуще прежнего мать. — Сколько лет прожила, а такого еще не было… — и затряслась. — Ты что, нарочно ее сюда привел?..
— Нет, не нарочно… — вздохнул Колька и в растерянности посмотрел на спящую у его ног Лиану. — Она в палате моей была, вроде смирно себя вела, не дурила, не озорничала… Вот я и решил, а почему бы мне не жениться на ней, если она нормальная…
— Она нормальная?.. — вспыхнула вновь мать. — Нет уж, она самая что ни на есть ненормальная, в придачу еще и алкоголичка. Одеколон, все настойки пьет…
Лицо у старушки налилось и раскраснелось. Черные глазки зло сверлили ненавистную невестку. Колька стоял между матерью и Лианой как истукан, не зная, как ему дальше быть.
— Как только протрезвеет… — сказала вдруг мать, — ты как следует ей надавай. Чтобы вся синяя была, чтобы не знала, куда себя деть.
Впервые Колька видел мать такой злой. Он пугливо посмотрел на нее, а затем, опустив голову, произнес:
— Психбольных нельзя бить…
— А говорить можно?.. — вспыхнула мать.
— Можно, но не все…
— Ах вот ты какой, оказывается… — заплакала она. — За нее заступаешься, а за меня нет.
— Я не заступаюсь, я просто любил ее… — перебил ее Колька и, чтобы с горя не расплакаться, болезненно улыбнулся и зажмурил глаза. Руки его были холодные, а со спины уже начинался озноб. «Нервы не выдерживают…» — решил он и, собравшись с силами, сказал матери: — Пожалуйста, прочти молитву.
— Повернись ко мне… — попросила она. И, когда он повернулся, она перекрестила его и громко, на всю комнату, начала читать любимый Колькин девяностый псалом «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…». Он раньше его и сам не один раз читал, чтобы излечиться от алкоголя. А иногда носил текст в потайном кармане, надеясь, что с ним быстрее вылечится. Сегодня он попросил мать прочесть псалом лишь для того, чтобы предотвратить катастрофу. Он боялся, что с горя вновь запьет.
— Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое… — читала старательно мать, то и дело крестясь и уголком платка вытирая глаза.
— Как только кончишь, так сразу же и во второй раз повтори… — сказал Колька и, взяв Лиану на руки, отнес ее в свою комнату. Сняв туфли с ее ног, положил на постель и накрыл одеялом. — Прости, что не так… — сказал он ей и хрустнул пальцами.
Холод в руках был прежним, и он не мог понять, откуда он появился. Слышно было, как по дому звучали слова молитвы. Но они почему-то не успокаивали его. Он прикоснулся к ее лбу. «Тепленький…» При теплом лбу больных мутит, а раздвоение, наоборот, наступает при холодном, да и во сне такие больные начинают разговаривать, а Лиана, слава богу, молчит.
— Кто ее возьмет теперь?.. — вздохнул он. — Вот и люби на свою голову таких… — и выбежал во двор.
Мать кинулась за ним:
— Сынок, ты куда?..
— Отстань!.. — грозно крикнул он и добавил: — Все одно… Понимаешь, мне теперь все одно…
В страхе она замерла. Все прежнее, добытое таким неимоверным трудом, разрушалось. Колька сегодня придет пьяным, страшно пьяным.
Колька вернулся домой на следующий день утром весь какой-то страшно обтрепанный и грязный. От него несло перегаром, и чувствовалось, что он еще не отрезвел. Правая рука и щека были в запекшейся крови. Он, что-то фыркнув выбежавшей навстречу матери, зашел в свою комнату. Единственное махонькое окошко освещало ее.
Лиана, свернувшись калачиком, спала.
— Лиана Александровна… — громко произнес он и сдернул с нее одеяло. — Станцуйте что-нибудь.
Она вскочила с постели, точно ужаленная.
— Здравствуй… — усмехнулся он и, сев на стул, закурил. Курил жадно, плюща пальцами сигарету.
— Что с тобой?.. — удивленно спросила она.
— Да вот, сердце решил отвести… — произнес он, пристально вглядываясь в нее сквозь клубы дыма.
Она вся была точно чуткий зверек. Глаза в страшном испуге, поза напряженная. Готова в любой момент метнуться в сторону, если Колька кинется на нее. Мать стояла у приоткрытой двери, но Колька ее не видел. Ему теперь на все начхать, он пил и будет пить. Холодным властным взглядом он посмотрел в окно и сжал пальцы в кулаки. В данной ситуации он чувствовал свое преимущество и силу перед ней. Во всех отношениях он был прав… Да и раньше он никогда никого не обманывал. А вот она… Он мог укокошить ее за одну секунду. Один прыжок, и она будет оглушена и связана. А затем он сходит за Иоськой и вместе с ним на попутной машине отвезет ее обратно в психушку.
— Вчистую проиграл… вчистую… — вздохнул Колька. — О, ч-черт… — И, с неподдельным трагизмом посмотрев на Лиану, сказал: — Ну, че стоишь, садись.
— Ты разбойник… — прошептала она. — Я не сяду…
— Слыхал я это… — пробормотал он и нахмурил брови.
Жизнь за окном начиналась. Солнечный овод со стороны двора бился в стекло. Был воскресный день, и уже кто-то с кем-то радостно говорил.
— Я знаю, я все знаю… — затараторила вдруг она. — Ты попрекать меня будешь.
— Не думай об этом… — указывая на стул, произнес он.
— Как же не думать, если…
— Глупости все это… — оборвал ее Колька. — Я больных никогда не бил и бить не буду… — И, с грустью посмотрев на нее, растерянно улыбнулся. — А вот я, глядя на тебя, никогда бы не поверил, что ты блудницей была.
Она покорно села за стол.
— Как же так?.. — спросил он ее.
— Один раз попробовала, а потом все и покатилось… — тихо произнесла она.
— А как же паспорт? Ни числа в нем твоего, ни месяца.
— А это паспорт не мой, — вспыхнула она и вся как-то нервно дернулась.
— А чей? — удивился он.
— Не знаю… — ответила она и от напряжения, это было очень заметно по ней, вся вытянулась.
Рот ее приоткрылся. И дыхание стало частым и быстрым.
— Тогда выходит, что тебя не Лианой зовут?.. — удивился Колька.
Прежнего буйства его как и не бывало. Чтобы он мог попасть впросак, а точнее, связаться со страшно загадочной и неизвестной ему женщиной, такого с ним еще не бывало.
— Как же так?.. — вскрикнул он.
— Все очень просто… — усмехнулась она. — Это не мой паспорт, я его случайно нашла… А вместо чужой взяла и свою фотографию наклеила.
Колька приподнялся из-за стола. Кажется, он полностью протрезвел.
— А твой паспорт где?.. — спросил он в невероятном волнении.
— А у меня его нет…
— Как нет?..
— И не было…
Дверь раскрылась, и в комнату вошла Колькина мать, вся белая, точно ангел. Она зло смотрела на Лиану. Такого обмана она еще не встречала.
— Выходит, ты и без имени, и без фамилии… — сорвалось с ее языка.
— А разве я виновата в том, что мне никто никогда не выдавал документов?
— А как же ты на свет появилась? — удивилась мать. — На каком основании?
— Я не знаю… Ничего не знаю… — взорвалась Лиана. — Что вы меня все пытаете?.. Что я вам сделала плохого?..
— Мать, ты всегда вот так вот… — одернул Колька мать.
— А я виновата, что с языка сорвалось, — отступая, пролепетала та.
— Понимаешь, не твое дело все это… — добавил Колька. — Мы сами разберемся.
— Это я и без тебя знаю… Но если ты ее в дом мой привел, то я должна знать хоть, как ее на самом деле зовут. Если ее люди спасли, должны же были они ее хоть как-нибудь назвать… А то получается, что она неизвестно как и где на белый свет появилась. — И старушка, вновь расходившись, спросила ее: — Скажи хоть, как тебя на самом деле зовут?..
— Я не знаю сама, кто я.
— Ну тогда скажи, где ты родилась?.. — сконфузилась старушка, не понимая, чем она могла обидеть Лиану.
— Один милиционер мне сказал… — беззащитно произнесла вдруг Лиана, — что меня люди на помойке нашли, в мусорном ящике… Так что разве я стала бы о себе все скрывать. В детстве мне давали какую-то справку, но я ее потеряла. А всех имен, которыми меня звали, и не перечислить. По этому паспорту я значусь Лианой, так что покудова Лианой и буду.
Колькина мать на некоторое время смутилась, а затем, сердито посмотрев на растерянного Кольку, произнесла:
— Таких, как ты, на белом свете единицы… Ты всех людей уважаешь, ты всем помогаешь… А про себя подумал? Это надо же таким глупым быть, чтобы незаконнорожденную привесть… — и, перекрестившись, она вышла из комнаты.
Колька вытер потный лоб и в задумчивости произнес:
— Тут и выпивка не спасет.
Лиана молча всхлипывала.
— Ну ладно, будет тебе… — жалостливо произнес он. — Я не выгоняю тебя. Живи… А если что не так, извини… Ведь я ничего до этого о тебе не знал…
— Я ничего не знаю о себе, понимаешь, ничего не знаю… — прошептала она.
Он подошел к ней и ласково положил руку на плечо.
— Мать моя надежная, никому ничего не расскажет. А если пикнет, я ей пригрожу. Ведь мы с тобой сейчас по закону почти как муж и жена.
Затем, приподняв ее со стула, он тихонько засмеялся:
— Я как узнал, что ты напилась, испугался. Хотел уж было Иоську позвать. Он мастер обратку оформлять.
— Не делай этого, не делай… — кинулась она к нему. — Я хорошо себя чувствую. А выпила я потому, что тебя заждалась. Да и на душе тяжело вдруг стало, вот и сорвалась… — И, торопливо осмотрев его, спросила: — Ты из-за меня такой сегодня?..
— Да… — чуть не плача ответил он.
— Вон ты какой… — и она прижалась к его груди.
Колька, обняв ее, улыбнулся.
— Опять живы мы с тобой… Опять… Скоро все сегодняшнее сойдет, и мы заживем… — И Колька заоткровенничался. — Будь хоть какая ты. А я все равно души в тебе не чаю. Простая ты… Прошу тебя, не обижайся. Слышишь, не обижайся…
— А ты как меня звать будешь?.. — спросила она.
— Как и звал, Лианой… — ответил он.
— Мне тоже это имя нравится… — и она с доверчивостью посмотрела на него.
А потом они долго смеялись. И смех их был слышен на весь дом.
После этого случая он прожил с ней дружно еще пять дней. И все бы, наверное, и дальше было хорошо, если бы он не предложил ей сходить в кафе. Она не хотела. Но он настоял.
— Разве мы не люди… — сказал Колька. — Все время дома сидеть тоже не дело… Да и, слава богу, мы еще не старики… Я раньше, когда один жил, все время в кафе ходил…
— Хорошо, я согласна… — улыбнулась она и добавила: — Только при одном условии, если я одену лучшее платье.
Конечно, она шутя все это сказала, лишь бы только развеселить его. Никакого у нее лучшего платья не было. А те два, что принесла с собой, были государственными, то есть больничными, выданными ей безвозмездно. На обоих платьях прямо спереди были даже больничные штампы «ПБ», что обозначало психбольница. Лиана пыталась вывести клейма хлоркой с формалином, но они, увы, не исчезли, лишь чуточку поблекли. Но она и этому была рада, ибо теперь отметины были менее заметны.
Минут через пять она переоделась в чистое больничное платье и появилась перед Колькой как никогда красивой и стройной.
— Сегодня мы с тобой в кафе идем, а завтра в магазин… — сказал он. — Ибо женщина без гардероба не женщина. Я присмотрел два матерьяльчика. Ты поняла меня?
— Конечно… — улыбнулась она.
Ну а чтобы продлить свое удовольствие, он сказал:
— А еще я хочу тебе часики купить…
— Я первый раз в этом году иду в кафе… — улыбнулась Лиана.
И она так вежливо поклонилась Кольке, словно он был не человеком, а каким-то волшебником. Хотя он и на самом деле был для нее чудом. Да и мать хоть и серчала, но все же приняла невестку и полностью доверяла ей весь дом и хозяйство.
— Ты покудова одевайся… — сказала Лиана радостно. — А я, если можно, на минутку отлучусь…
— Пожалуйста… — довольно произнес он.
И она выбежала из дома на улицу.
— Ишь как обрадовалась!.. — воскликнул Колька.
И мать, глядя на него, усмехнулась. А потом сказала:
— Рано ей еще появляться на глаза всему поселку… А если желаете выпить, пейте лучше дома.
— Надоело, все надоело… — ответил ей в сердцах Колька. — Да и пить мы не собираемся… Мы просто на людях посидим… Все же как-никак там модная музыка. А во-вторых, ты, мать, пойми, мы еще не старики…
Мать умолкла, поняв, что спорить с Колькой было бесполезно. Если он что решил, то так и будет.
— А вдруг ее там кто-нибудь из шоферов узнает?.. — вновь шепнула Кольке на ухо мать. — Что тогда? Что-о?..
— Не бойся, я в обиду ее не дам… — успокоил ее Колька. Если взял, то в люди выведу… И больше у ней не будет собачьей жизни. Она человеком у меня станет, женой, хозяйкой. Мало того, я для нее и место на работе найду.
— А разве без прописки возьмут?.. — удивилась мать.
— Если я порекомендую, возьмут… — гордо произнес Колька. — Ну а если вдруг откажут, я устрою ее на работу по твоим документам… И тогда уж они обязаны будут взять ее…
— При таком условии, конечно, возьмут… — согласилась с ним мать. Она понимала, что сын не шутит.
Колька надел белую рубашку, красный модный галстук, на рукава нацепил запонки. Туфли на нем были новые, лакированные. Он их давно купил, но ни разу еще не надевал. Мать, чтобы поддержать его марафет, из потайного угла достала спрятанный ею раньше, когда он был еще в свободной продаже, флакон тройного одеколона.
— Ишь ты какая!.. — похвалил ее Колька за это. — Да за эту штуку, если ты хочешь знать, сейчас можно машину дров привезти… — И причмокнул губами. — Чем на себя его брызгать, лучше выпить, для сугрева, так сказать, души.
— Ну уж нет!.. — прикрикнула на него мать.
И Колька, быстренько помазав одеколоном лицо и голову, вернул его обратно.
— Пошутить, что ли, нельзя… — обиженно произнес он. — Сама ведь знаешь, сейчас я почти не пью.
— От тебя что угодно ожидать можно… — буркнула она. И хотя виду не показывала, но в душе была сердита на сына за эту непутевую бог весть откуда появившуюся Лиану.
— Как бы то ни было, но я держусь… — ответил Колька. — И от нее теперь не отшатнусь… Не знаю, что и как раньше у ней было. Но со мной она себя хорошо ведет.
— Еще бы хорошо не вести… — с грустью произнесла мать. — Ты ее кормишь бесплатно, одеваешь, развлекаешь. Я так не жила, как она сейчас живет…
— Она больная… — по-прежнему упрямился Колька. — А раз больная, то ей все можно простить…
При слове «больная» мать конфузится. Чувствует, что неправа. Колька намного человечнее ее. Он желает добра, он стремится помочь, вытащить из трясины испорченную душевнобольную. И если раньше мать считала его взбалмошным, пустым и ровным счетом ничего не понимающим в жизни парнем, то теперь, наоборот, уважает и считает, что он не такой, как все.
«Она по миру ходила, а он взял ее в дом привел и лелеет, точно святую… — размышляет она. — Кто так в поселке сделает? Да никто… Потому что мало того, что дело это позорное, но когда узнают, что она сумасшедшая, дураком обзовут. Да мне, матери, со стороны нечему ему завидовать. А ему хоть бы что, блестит радостью, словно заново весь вдруг возродился. Сам ведь ужас как несчастлив, а Лиану все равно любит. Да мало того, сочинил, что из беды ее спасет… И она, дура, встрепенулась, подзадоривать его стала, мол, давай распишемся, и все. А кто ее пропишет и распишет, если паспорта у ней столько лет нет и не было… Ее прятать надо, а он ее в кафе ведет… Ведь люди не дураки, в любой момент могут догадаться… Перенесет ли он, если ее вдруг от него силой в больницу заберут. Вот Иоська говорит, что она рано или поздно, а все равно возбудится. Такие уж натуры эти душевнобольные. Мало-мальски ничего, а затем вдруг как начнет заговариваться. Так что за ней глаз да глаз… Ему все говорят, остепенись. А он хоть бы что, а теперь вот даже на работу собирается ее устраивать…»
Мать смотрит на сына, который перед зеркалом осторожно поправляет пиджак, ворот рубашки и галстук. И не узнает его. Неужели это ее сын? Как удивительно быстро он стал другим. Она думала, что рассказ о бродяжничестве Лианы и ее гулянках заставит сына ожесточиться, сделаться злым, ненавидящим абсолютно всех баб и особенно пьяниц. А он, наоборот, не удалился от Лианы, а приблизился к ней, да как еще приблизился. Даже ребеночка желает чтобы она родила.
— Мать, о чем ты думаешь? — вдруг спросил ее Колька.
Взгляд его был напряженным и страшным, не таким, как несколько минут назад. Видимо, он догадывался о ее совсем других мыслях — не соответствующих словам. Она, вздохнув, чуть шевельнула губами и ничего не вымолвила. За столько лет необыкновенно приветливым показался ей сын. Чистый, вымытый, надушенный одеколоном, он словно, пришел из детства.
— Мать, прости, прости, пожалуйста… — превозмогая волнение, произнес Колька.
И, жадно глотнув воздух, высвободил руки из карманов. Ему трудно, ох как трудно было все это время. Он был одинок в своей затее, страшно одинок. Бесцельным и веселым казался поначалу этот его поступок. А затем он понял, что все выходило наоборот. Взвалив на себя эту огромную ношу, Лиану, он теперь отвечал за нее, а точнее, за ее жизнь и судьбу. В любой момент его могли вызвать в милицию и спросить, зачем и для чего он связался с беспутной девахой. Своим этим поступком он унижал себя в глазах других людей. Во всяком человеческом поступке люди порой желают видеть только выгоду. Но только не жертву. Жертвенность их настораживает, а порой даже и озлобляет, особенно если она ни на что не похожа.
— Что же ты молчишь?.. — прошептал Колька и вдруг прокричал на всю комнату: — Пожалей меня, пожалей!.. Иначе я не знаю, что с собой сделаю…
— Сынок, глупости все это, глупости… — затараторила мать и, кинувшись к сыну, обняла его, затем вдруг вся задрожала, торопливо стала гладить его по голове. — Все наладится, вот увидишь, все наладится…
Он растроганно шмыгал носом, красной рукой то и дело дергая ворот рубахи.
— Где же она?.. Я ее жду, а ее все нет…
Близился полдень, и летний воздух был теплым как никогда. И в комнате было так светло, что Колька видел почти все морщинки на материном лице. Седые волосы ее, аккуратно расчесанные, блестели на солнце. В растерянности он смотрит на нее.
— Черт возьми, где же она?.. — он держит в своих руках руки матери и, с трудом улыбаясь, произносит: — Если можешь, прости меня…
— Ты, наверное, очень влюблен в нее? — ласково произносит мать.
— Да… — тихо отвечает он, в раскаянье добавляя: — Я знаю, что это ужасно, но что теперь поделаешь…
— Успокойся, сынок, все наладится… — произносит мать. И он понимает, что не одинок. Мать рядом с ним, она поддерживает и сделает все, чтобы сыну было хорошо.
Кольке от радости душно. Он счастлив. Хотя волнение все равно не проходит Лиана сказала, что сейчас придет, уже прошло пятнадцать минут, а ее все нет.
«Где же она? Неужели испугалась, что ее в кафе увидит весь поселок? Все это чепуха. Ведь мы живем друг для друга».
И он уже кинулся было к двери, чтобы выбежать во двор и окликнуть Лиану, позвать ее и выяснить, почему она не заходит в дом. Но дверь неожиданно перед самым его носом открылась, и на пороге появилась Лиана с букетом цветов в руках.
Отдышавшись, она воскликнула.
— Возьмем эти цветы с собой.
Глаза ее сияли.
— Конечно, возьмем… — сказал он и запах цветов показался самым лучшим в мире.
С необыкновенным праздничным настроением они шли в кафе по улице. И, глядя на них, люди удивлялись.
Колька видел, как на них завороженно смотрели прохожие. Многие восхищались Лианой. Многие завидовали ему, что вот, мол, Колька какой боевой, такую стройную деваху отхватил. И если Иоська не разболтал о Лианиной болезни, а Колька просил его об этом, и не один раз, то лучшего счастья для Кольки и не представить.
Взбодренный добрыми взглядами жителей, Колька, чуть приостановившись, заявил Лиане:
— Вначале мы сыграем с тобой свадьбу, а потом распишемся…
— Не рано?.. — в смущении прошептала она.
— Наоборот, поздно… — сказал Колька. — Перед свадьбой, как и полагается, повенчаемся.
— А как же маменька?..
— А маменьку мы и спрашивать не будем. Я хозяин… А если получится разбивка, уйдем на квартиру.
— А паспорт?.. — все еще не веря Колькиному предложению, в растерянности спросила она: — Боюсь я.
— Ничего страшного… — успокоил ее Колька. — В нашем поссовете и по туфтовой бумажке распишут… Ну а когда у нас появится свидетельство о браке, то и милиция никуда не денется, пропишет… После росписи липовый паспорт уничтожим. В крайнем случае, в паспортном столе скажешь, что, мол, у тебя его никогда и не было, потому что ты на всю жизнь больная… Поняла? — и он крепко обхватил, обнял ее за плечи.
— Поняла… — весело ответила она.
Был полдень. В это время на центральной улице всегда полно народа. И Колька на ходу здоровался со всеми.
Кафе находилось рядом с дорогой. Одноэтажное и длинное здание с массой дополнительных пристроек могло вмещать в себя более ста человек. Это если рассадить их за столики. Но еще ведь был и бар, где можно пить коктейли через трубочки, сидя на приставных стульчиках. В два часа дня в кафе народу намного меньше, чем вечером. Поэтому Колька и выбрал это спокойное время.
— Как свежо здесь!.. — сказала Лиана, одной рукой открывая дверь, а другой прижимая к груди букет цветов.
— А какая здесь музыка!.. — воскликнул Колька. — Музыкальный ящик старый, но свое дело знает.
В кафе было много шоферов. И при виде их небольшое волнение охватило Кольку. Но затем, увидев, как легко и плавно прошла Лиана к свободному столику, он успокоился.
И все бы и дальше было хорошо, если бы вдруг Лиана не увидела за окном подъехавший к кафе новенький «КамАЗ», груженный кирпичом. Как будто ничего особенного не произошло. Худенький, маленький водитель в засаленной кепке выпрыгнул из кабины и, зайдя в кафе, купил бутылку минералки и прямо тут же, у прилавка, жадно, ни на кого не обращая внимания, стал пить.
— Ну и жара… — возвращая пустую бутылку, сказал он бармену и, выйдя из кафе, стукнул два раза по раздувшимся задним баллонам и укатил. Как и в кафе, так и на улице, бегло взглянув в окно зала, он не заметил Лиану. Но даже если бы и заметил, не уделил бы ей особого внимания. Он был намного старше Лианы. Да и была она не одна, а с Колькой. А вот Лиана, увидев шофера, как-то разом напряглась, отложила в сторону цветы и, покраснев, торопливо встала из-за стола.
— Что с тобой?.. — растерянно спросил ее Колька.
Она пристально и с какой-то ненавистью посмотрела в окно. Легковые машины медленно плелись за переполненным кирпичом грузовиком. Пыль ухудшала видимость, и машины тащились по обочине.
— Где ты был?.. — вдруг сердито спросила она.
— Как где?.. — хмыкнул Колька. — Рядом стоял. Ты что, позабыла?.. — и запнулся. Какой-то страшно неприятный блеск мелькнул в ее глазах. «Как бы опять не начала раздваиваться…» — испугался он и, тут же усадив Лиану за стол, крикнул смотрящему в их сторону бармену: — Слушай, налей-ка нам для храбрости два стакана.
— Ркацители или мадеры? — спросил тот.
— Да нет, что-нибудь покрепче.
— Будет сделано… браво произнес он и достал из-под прилавка бутылку водки.
— Я не знаю, как ты, но я пить не буду… — сказала она.
— Почему?.. — удивился он и добавил. — Ведь мы всего-навсего по стаканчику, так сказать, для храбрости…
— Я сказала не буду, значит, не буду… — вдруг со злостью фыркнула она и швырнула цветы на пол. — Мне в этом кафе только бармен и нравится. Он жулик, а я только жуликов и люблю… — Голова ее дернулась, и, засмеявшись, Лиана с прежним болезненным блеском в глазах настороженно спросила его: — Зачем ты привел меня сюда? Зачем?.. И что тебе надо от меня здесь?.. Ты что, захотел проэкспериментировать на людях? Проверить мою психическую конституцию. Так сказать, сексуальную устойчивость и испорченность.
— Как ты можешь так говорить… — вспыхнул он.
— А вот так!.. — крикнула она-вдруг на весь зал. — Я теперь все поняла… Да, да, я униженная, оскорбленная, а ты честный. Имея и сознавая такое свое превосходство надо мной, ты получаешь удовольствие от снисхождения ко мне… И тем самым ты удовлетворяешь свое желание простить и прощать мне все самое гадкое и страшное в моей жизни… Мало того, я хочу сказать сейчас тебе, что я не психбольная и не подброска. Я профессиональная проститутка. Мне вдруг захотелось сыграть роль, и я ее сыграла… Все, что я говорила до этого тебе и твоей матери, была неправда… Кстати, не исключено, что я и сейчас говорю тебе неправду… Ибо и я сама, и моя душа созданы для вранья…
«Раздваивается…» — мелькнула в Колькиной голове мысль. Он попытался взять Лиану за руку и вывести из кафе. Но она вырвала руку:
— Я уже сказала тебе, что мне понравился бармен.
Бармен стоял в десяти метрах от них и улыбался.
— Слушай, парень… — обратилась она вдруг к нему. — Этот алкаш-санитар, — и указала на Кольку, пристает ко мне, и я не могу от него избавиться.
Колькино терпение лопнуло. Достав из кармана четвертак, он кинул его на стол и ушел.
Он шагал по улице и оглядывался, но она не бежала за ним. Она даже не вышла, из кафе. «Вот и женись на такой!.. — ругался он, проклиная себя и весь белый свет. — Думал, баба как баба. А она оказалась… Вытащить хотел, прописать… А что теперь мать скажет? А Иоська… Возьму сейчас и все вещи ее за ворота выкину. Не желаю я больше ее видеть. Не желаю…»
Колька в волнении прошел свою улицу и вскоре оказался на краю поселка, где было очень тихо. Еще не понимая, где находится, он, вдруг страшно побледнев, упал на колени и, упершись руками в землю, пристально посмотрел в траву. Она была черной, грубой, с массой изломов и неровностей.
— Видно было, что она дурит… — прошептал он. — А я все верил. Надеялся, образумится.
Он закрыл глаза, ему так хотелось спрятаться от мыслей, будораживших его. Но они, наоборот, стали еще более ощутимы. Он вдруг понял, что он кем-то строго наказан за свое легкомыслие. И это наказание казалось ему самым чудовищным во всей его прожитой жизни.
«Не любит она меня и никогда не любила…» Колька весь сжался. Ощущение было таким, словно он стукнулся головой об стенку. «Ее жизнь игра, и она в этой игре шут…» Он открыл глаза и осмотрелся. Трава была зеленая.
— А матери я скажу, что ее никогда и не было, просто я ее взял и выдумал… Да, да, выдумал… Из головы родил. Как все здорово получилось!.. Как все здорово!.. — и потер руками.
Земля и сухая травка осыпалась с них, и он в необыкновенном для себя облегчении встал.
— По отношению к ней я теперь беспамятный, сам придумал, сам и ниспроверг.
Придя в себя, он быстро нашел дорогу к дому. Легко и непринужденно толкнул знакомую калитку. В окне появилось лицо матери. Он махнул ей рукой. Но у порога вдруг замер. На крылечке лежали комнатные Лианины тапки, которые он купил ей неделю назад. Вновь волнение охватило его, а вслед за ним и прежние мысли.
— Как же так?.. — прошептал он растерянно. А затем вдруг понял, что Лиану он не выдумал. Она существовала и находилась на земле так же, как и он.
Когда мать, выходя ему навстречу, открыла дверь, он ощутил запах платья, губной помады, пудры и всего остального, что было присуще только Лиане.
«Никогда со мной так муторно еще не было… — вздохнул он и рукой ощупал разгоряченный лоб и щеки. — Я не помню даже, как и познакомился с ней. Все смешалось».
На следующий день он встал очень поздно. Солнце светило вовсю. Щебетали вокруг птицы. И ветерок был теплым и нежным.
Его состояние по отношению к вчерашнему дню было совсем иным. Вместо злости тоска вдруг стала мучить. Захотелось увидеть Лиану Пусть даже чужую, но только бы увидеть. В эти минуты он почему-то не осуждал и не проклинал ее. Не было даже омерзения к ней, хотя она могла провести ночь с кем угодно. «Я найду и верну ее обратно…»
Быстро одевшись, он посмотрел на ее старое больничное платье и белую косынку. Это было все из одежды, что она оставила в его доме. «Она вернется, обязательно вернется…» И, выбежав из дому, он понесся к кафе что есть мочи. Минут через пять был уже там. Переведя дух и стерев пот со лба, вошел в зал. Обед еще не начался, и народу в кафе почти не было. Лианы за тем самым столиком, за которым он оставил ее вчера, не было. Да и почему она должна быть здесь?
Двое мужиков сидели за крайним столиком и, хитро посматривая на Кольку, курили. «А что, если их спросить…» — подумал он и уже было собрался обратиться к ним, но тут неожиданно за стойкой появился бармен, тот самый, вчерашний, полненький, красивый, с тоненькими усиками.
— Не узнаешь меня?.. — обратился к нему вежливо Колька.
Бармен, вздрогнув, нахмурился.
— Ты откуда?..
— Неужели позабыл?.. — удивился Колька. — Помнишь, я вчера с бабой пришел, водочку заказал… А потом ушел… Лианой ее зовут…
— Ах вон ты кто!.. — улыбнулся бармен. — Как же Лиану твою не помнить, отлично помню ее… Всю ночь с нею провел… А к утру она вдруг истерику начала закатывать… — бармен хмыкнул. — Тебя Колькой, что ли, звать?..
— Да…
— Санитаришь, что ли?..
— Да…
Вздохнув, бармен полотенцем вытер пустой стакан.
— Вот она и требовала, чтобы я ее к тебе отвез… Стала доказывать, что она беспамятной была, а ты ее вроде спас, из больницы выволок… Короче, по ее просьбе налил я ей два стакана, затем вывел на дорогу и в первую попавшуюся машину сунул.
— И давно это было?..
— В шесть утра…
— А что за машина была?..
— Откуда я знаю… — бармен усмехнулся. — Такой дурехи еще не встречал. Ты представляешь, родить от меня собиралась. Ну а после первого стакана она в такой пляс пошла, что не усмирить… А на выпивку, ты представляешь, до сумасшествия жадная, все время просила, чтобы я ей наливал. Она без водки, по природе своей какая-то чумная, а с водкой вообще одурела.
— Да как ты смел?.. Ведь она больная… — кинулся к нему Колька.
— Больные болеют… — огрызнулся бармен. — Эх ты, а еще санитар…
— Да я… — и Колька, схватив его за ворот, потянул на себя.
— Ну ты, руки… — взвизгнул бармен и попытался вырваться, но хватка у Кольки была мертвая.
— Зачем, зачем ты посадил ее в машину?.. Кто дал тебе на это право? — заорал он на него. — Ведь она больная… Мы столько дней ее лечили. А ты споил ее и выбросил… Да знаешь ли, что ты сделал?.. Ты, ты… убил ее…
— Не городи чепуху, — закричал бармен. — Разве я в чем виноват?.. Она сама навязалась…
— Нет, ты растоптал ее… Использовал ее доверчивость…
— Я не хамил… наоборот, я ей еще двадцать пять рублей дал.
— Ах так!.. — и Колька со всей силы рубанул бармена по лицу. Тот в ответ точно так же треснул Кольку. И пошла у них драка не на жизнь, а на смерть.
После драки Колька прямо тут же, в кафе, шоферами и другим честным народом был повязан и отправлен в отделение милиции, где на него, как на ранее судимого, было моментально заведено уголовное дело. Домой его отпустили лишь на следующие сутки и то под расписку. Как выяснилось после, бармен был госпитализирован, а в свидетельском акте, присланном из кафе, было указано, что Колька, начав драку первым, расколотил не ящик вина, как он указывал на допросе, а два ящика коньяка и шесть ящиков вина. Получалось, что ущерб кафе был нанесен им на приличную сумму денег, которой ни у Кольки, ни у его матери никогда не было. Поэтому вовремя и в срок не выплаченная и то и дело упоминаемая в обвинительных протоколах и справках сумма еще более усугубила хулиганские действия Кольки. Все время до суда он старался найти Лиану. Объездил все гаражи и посты ГАИ, но никто ее не видел и не встречал. «Где же она может быть? Куда она делась?.. — думал Колька. — Ведь она не могла за одну ночь далеко уйти…» И продолжал все искать и искать. Он знал, что свободные дни его на земле сочтены. Крепкий до этого мир стал вдруг для него призрачно-хрупким. Вечерами, слыша, как причитала за дверью мать, приговаривая: «Ах ты, Коля, Коля, разудала твоя голова…» — он вдруг понимал, что судьба-злодейка ударила по нему со всей силы, и выдюжит он или нет, он и сам не знает.
На третий день после привода в милицию мать слегла, как она говорила, «от давления». Оно и раньше ее беспокоило, да все таблеточки помогали. А тут и уколы перестали брать. Колька два раза вызывал «скорую», но давление все равно не снижалось. Чтобы ухаживать за матерью, пришлось бросить работу. Главврач, жалея Кольку, попросил написать заявление на отпуск за свой счет — хотел сохранить Кольке стаж. И характеристику он тоже выдал отменную. Прочитав ее, прокурор удивился:
— И за какие это такие труды тебя хвалят?..
— Я рядовой, так что начальству виднее… — промямлил Колька.
— Ну, а все же… — допытывался тот.
— За поддержание порядка… — ответил Колька. — Чтобы больные в палате были обуты, одеты и вовремя покормлены. Чтобы не буянили. Плюс досмотр, проглатывают они таблетки или нет… Если по-честному, то работа не особо хорошая, нервная. Напряжение адское. Так и смотришь, как бы на тебя кто не накинулся… Ага… — вспомнив, тут же добавил он: — Еще надо следить, чтобы больной не убежал… Побег больного на волю — чепе для больницы и для всего района.
Прокурор внимательно вслушивается в Колькины слова, словно изучает, искренне он все это говорит или врет. Почувствовав это, Колька замолкает. Он понимает, что прокурор ему не товарищ, года не скостит, а, наоборот, только добавит. Кто идет в тюрьму по второму заходу, того не жалеют.
— Значит, связавшись с одной из психбольных, ты решил жениться на ней… — говорит прокурор, понимая, что Колька не врет и характеристика на него с места работы действительно верная.
— Был грех… — взрывается Колька и добавляет: — Но весь грех-то не в ней… А в этом бармене, с которым она ночь провела… Я думал, он поймет, что она больная… А он ее, можно сказать, выбросил. Вот я со злости и врезал ему…
Прокурор молча вслушивается в его слова. Колька начинает просить и умолять его, чтобы прокурор дал распоряжение поскорее найти Лиану.
— Понимаете, она сирота и у ней абсолютно ничего нет… — не выдерживает вдруг Колька. — У ней нет никаких документов, она не знает даже, как точно себя и звать…
— Понимаете, все дело не в сиротстве… — перебивает его вдруг прокурор. — И не в проституции, которую вы своим поведением поддержали. А в драке, которую вы устроили в кафе…
— Виноват… — и, ссутулившись, Колька не знает, что ему дальше и сказать.
Он не знает, что будет с матерью, когда его увезут в тюрьму. Сейчас по силе возможности он ухаживает за ней, кормит с ложечки, дает таблетки, помогает приходящей медсестре кипятить шприцы. И по вечерам сидит у постели до самой полночи.
— Не приходила?.. — почти каждое утро спрашивает его мать.
— Нет… — отвечает с горечью Колька.
Ему самому так хочется, чтобы Лиана вернулась. Ему кажется, что если бы она вернулась, то сразу бы все в его жизни наладилось. И бармен бы его простил, и в тюрьму его не взяли. Вместо зоны дали бы химию на два года или поселение, в крайнем случае, могли присудить годичный двадцатипроцентный вычет из его зарплаты в пользу государства. Но Лиана почему-то не приходит, хотя Колька и открывает на ночь калитку. Два раза к нему приходил Иоська, весь какой-то хмурый и злой. Предлагал Кольке выпить, но он отказался. И тогда Иоська, в растерянности смотря на Кольку, вздохнул:
— Как же это так?.. Неделю назад вместе работали и вот тебе на…
А потом вдруг начал предлагать Кольке «закосить», то есть разыграть из себя душевнобольного, или заявить, что по пьянке все вышло, ведь зона для алкоголиков пусть даже и принудительная, но все-таки не то что тюремная зона. Колька молча слушал его и даже соглашался с ним, но душевнобольным почему-то себя на допросах не делал, а рассказывал все так, как на самом деле было.
Через неделю мать слегла в больницу. Не пролежав там и месяца, умерла. Колька в это время находился в следственной камере, и на похороны матери его не отпустили. Мало того, никто даже не сообщил, что она умерла. Он узнал об этом лишь на суде.
Ему зачитывали приговор, а он, не слушая слова судьи, в растерянности шептал:
— Как же я теперь?.. Как же?..
А потом вдруг от страха, что матери больше нет, он закричал на весь зал:
— Матушка, прости меня! Прости меня!..
Его кинулись успокаивать. Но он был неуправляем. И тогда милиционеры, связав ему руки, пригрозили закрыть тряпкой рот. Он в ответ огрызнулся:
— Вам бы только издеваться… Неужели я такой был опасный, что меня на похороны нельзя было отпустить?! — И затем опять как закричит: — Матушка, прости меня!.. — и пронзительно, на весь зал, зарыдал.
Окружающие люди его не интересовали. Мрачен был и мир за окном. Судья о чем-то долго говорил, а потом выступил прокурор. Заседатель и секретарь торопливо заполняли протоколы. Колька перевел взгляд с их голов к потолку и, стараясь полностью отключиться от всего этого гама, мыслями обратился к богу. Он знал, чтобы подкрепить мысли, нужны слова. И, вспомнив обрывки материнской молитвы, зашептал: «Яко ты, господи, упование мое. Вышняго положил еси прибежище твое…»
Затем голос его сорвался. От волнения судорогой перехватило горло. Чтобы мысленно продолжить слова, он, стремясь побыстрее сосредоточиться, весь сжался. И вдруг вместо слов образ матери явился ему. А следом и тихий голос ее: «Сынок, это я виновата во всем… Если бы я лечиться тебя не отправила, то греха, может быть, и не вышло…»
— Нет, это я, это я виноват… — прокричал он и в порыве мучительного стыда упал на колени.
— Что это такое?.. — возмущенно произнес прокурор, восприняв Колькины слова как относящиеся к нему. Судья тут же дал охране сигнал увести Кольку. И милиционеры, подняв его с пола, вывели в коридор.
Как коротка и скоротечна сладость жизни. Вроде жить Колька начинал хорошо и все ладилось и клеилось у него. А потом вдруг в один прекрасный момент все исчезло. «Кто я теперь?..» — размышляет в камере Колька. На нем старая грязная роба. Он только что пришел с работы и, подложив под голову руки, отдыхает на нарах. Через вольнонаемных он рассылает письма во все, какие только знает, психбольницы с просьбой сообщить ему, числится ли где больная по кличке Лиана. Однако прошло уже больше пяти месяцев, а ни ответа, ни даже хоть какой-нибудь весточки нет.
«Неужели так никто и не ответит…» Руки его дрожат. Чуть приподнявшись на локтях, он вдруг вспоминает ее лицо в тот день, когда впервые привел Лиану к себе домой. Как радостно и счастливо оно было. Пушисто завивался волос на лбу. И яркий румянец выделял на правой щеке пятнышко-родинку. Когда они остались одни, она спросила:
«Скоро обженишь меня? А то я страсть как боюсь быть одна…»
Он обнял ее.
— Не бойся, я тебя не брошу. Вместе будем…
В те минуты он отбросил всю свою мужицкую грубость и властность, стараясь быть с ней очень нежным.
— А ты не боишься меня?..
— Баб бояться последнее дело… — засмеялся он.
— Гляди, бить будешь, уйду… — шутливо сказала она.
— Ишь какая ты, сразу испугалась.
— Ты меня не знаешь. Я не испугалась. Я просто гордая… А потом сам ведь знаешь, бабы любят мужиков пытать…
— Ты не гордая, ты добрая… — прошептал он.
И тепло ее тела всколыхнуло всю его кровь. Он проговорил с ней всю ночь. И лучших минут, наверное, в жизни его не было. Разве мог он тогда знать, что произойдет?
После драки в кафе все вдруг узнали, что он водился с душевнобольной, да мало того, даже собирался жениться.
Колька, вспомнив все это, на некоторое время оживает. Глазами жадно всматривается в серые окна и во все щели, через которые проникает свет. Словно в нем, в этом свете, скрывается какой-то условный сигнал, говорящий о том, что Лиана жива и он должен с ней скоро встретиться. Но недолго длится эта радость. Слишком сильно истосковалась Колькина душа, и для ожидания и надежды почти нет в ней места.
Скоро предстоит пересылка, то есть отправка в дальний и глухой лагерь, откуда и письма невозможно послать. Он не знал адресов психбольниц, поэтому посылал письма наугад, почти в каждый областной центр, где такие больницы почти всегда есть.
Он уютно лежит в потной робе, кожей не чувствуя ни сырости, ни грязи. Перед глазами потолок, исписанный названиями этапов. Рядом точно такие же, как и он, пересыльные. Всего в бараке их сто человек. В полумраке люди кажутся страшно большими и громоздкими, точно шкафы.
Ночами он долго не мог заснуть. А если и засыпал, то громко на весь барак начинал бредить Лианой. Чтобы успокоить его, зэки стаскивали его с нар и избивали, а со временем вообще отказали ему в нарах, и он спал, как щенок, на полу. Однако ему было все равно.
На последнем пересылочном этапе рано утром в отгороженном трехметровым забором тупике их высадили. Старые вагоны отослали и подогнали новые, только не на прежнюю платформу, а на дальнюю, находящуюся почти у самого забора. Заключенных пересчитали. Удостоверившись, что все целы, отрядник-капитан приказал:
— На корточки, шагом марш!..
Все тут же присели и сопровождаемые собаками поползли к вагонам. Если кто вставал, милиционеры тут же били палками и стращали собаками. Колька приотстал. Уж больно ослабел он, да и раньше в своей жизни никогда на корточках не ходил. Он попытался встать, но подбежавший капитан пригрозил:
— Не смей вставать…
Колька упал. И тогда капитан, пнув его ногой, выругался:
— Ах ты, полосатик-балонтер, ты что это придуряешься!..
— Сил нет… — прохрипел Колька. — Ноги судорогой сводит.
— Тогда ползи, ползи, тебе говорят!.. — закричал капитан. — Да гляди, баул свой не потеряй… — А своим помощникам сказал: — Этому курева больше не давать, и глядите, чтобы не чифирил. А то уж больно хил…
— Будет сделано… — ответили те и, натравливая на Кольку собак, стали поторапливать его. Раздирая пальцы о щебень, он полз по мазутным рельсам. Встать разрешили лишь тогда, когда он был в трех метрах от вагона. Зайдя в вагон, отдышался. Баул, то есть вещмешок, в котором были кой-какие вещички и хлеб с сушеной килькой, был цел. Когда он расстегнул его, чтобы удостовериться, что одежда на месте, то вместо нее вдруг увидел пук оберточной бумаги и кирпич. Оказывается, кто-то подменил его вещи. Он хотел обратиться с жалобой к отряднику-капитану, но затем передумал. О тех, кто ранее попал к надзирателям в немилость, не беспокоятся. Да и разве кто признается, что распотрошил его баул. Колька побоялся обращаться к капитану еще и потому, что тот опять в присутствии всех мог обозвать его балонтером. Кликуха эта среди заключенных не очень почетная. Балонтер — это тот, кто возит баланду, еду. Обычно посылают на эту работу какого-нибудь хиляка или доходягу, которому не сегодня, так завтра помирать.
При пересылке нервы у сопровождающих милиционеров сдают. Здесь нужен глаз да глаз. Сколько раз порой бывало, когда проигравшемуся в карты зэку предлагалось на пересылочной перекличке откликнуться не на свою фамилию, а совсем на другую; срок заключения у носящего ее был намного больше. И получалось, что заключенный с большим сроком попадал в лагерь получше, а с меньшим, наоборот, в лагерь особого режима или даже в одиночку. Попробуй расхлебай эту путаницу на месте прибытия, если заключенные похожи друг на друга. А если заключенный не выдавал себя или случайно не пробалтывался, такой обмен в ходе пересылки почти всегда удавался.
— Чего стоишь?.. — увидев на проходе Кольку, закричал рядовой отрядник.
— Да вот баул распотрошили… — ответил он и хотел уж было пожаловаться отряднику, что одежонка у него была новая, да и хлеб с килькой тоже свежий. Но отрядник был зол как зверь. Замахнувшись на Кольку, а затем толкнув его в спину, он заорал:
— Я тебе дам баул!.. А ну проходи! В нору, я кому сказал…
Прижав к груди баул с бумагой и кирпичом, Колька побежал к дальнему купе, где находились заключенные по его статье. В купе ему места не досталось. Все полки и даже пол были заняты. Вагон был старый, «столыпинский», без вентиляции и без окон. Электрический свет еле тлеет. Он с трудом протиснулся к стоящим зэкам.
— Ищи замену… — сказали они ему. — Купе переполнено, положено десять, а загнали двадцать.
При таком количестве людей и такой тесноте получалось, что многим придется всю ночь стоять. Ну а чтобы стоячие хоть немного полежали и передохнули, нужно было найти замену, человека, который хоть на несколько минут пустил на свое лежачее место, а сам в это время постоял бы. Один из лежачих, огромный верзила, с верхней полки крикнул Кольке:
— Одна замена рубль… А если нет денег, пять килек.
— Согласен за рубль… — ответил ему Колька и, прислонившись к ребятам, облегченно вздохнул.
Если бы даже и не нашлось ему замены, он стоял бы всю дорогу, пока не свалился. Падающих жалеют, им уступают место без очереди, но и то ненадолго, всего на полчаса.
— Откуда деньги у тебя?.. — спросил Кольку верзила. — Если много, то давай в картишки перебросимся. Может быть, ты мое место после первого банка выкупишь.
— Семь рублей у меня всего, ларьковые… — ответил Колька.
— Эх ты… — обиделся верзила. — А говоришь, что с деньгами… — и, отвернувшись, захрапел.
— И долго будет длиться пересылка? — спросил Колька заключенного, который сидел уже не один срок.
— Месяца два, а то и три… — ответил тот и засмеялся. — Да ты не бойся… Когда наголо тебя после всех этапов разденут, вот тогда и кончится твоя пересылка.
И вслед за ним и все остальные дружно засмеялись. Но Кольке почему-то было все равно, смеются они или нет. Ему не хотелось думать. А к своей предстоящей жизни, а точнее, существованию он относился равнодушно. Если выживу — хорошо, а не выживу — тоже хорошо.
Затолкав в купе еще двоих, зарешеченную и опутанную колючей проволокой дверь, закрыли на два замка.
— А как же в туалет?.. — прокричал кто-то проходящему надзирателю.
— Туалет до следующего утра… — ответил он. — Так что прошу посдерживаться…
— Ну и гад… — проскрежетал он.
— Не надо было сюда попадать… Вот и не был бы он тогда гадом… — шутливо произнес худой старик, руки у которого были все в наколках. — Без туалета можно обойтись, а вот без чифиря, если и дальше так пойдет, можно и удавиться… Хуже пересылки я еще не встречал… Говорят, амнистия на носу, а надзиратели как собаки кусаются…
Старик вытер нос и, вдруг подозрительно глянув на Кольку, спросил его:
— Ты что это баул, точно бабу, прижал?.. Небось кильки там у тебя целый пуд…
— Вместо кильки у меня кирпич… — обиженно ответил ему Колька и, раскрыв баул, достал из него кирпич.
— Братцы, да он полоумный!.. — заорал старик, тараща глаза. — Я думал, у него там килька, а у него кирпич. Баулом невзначай сверху зацепит, и нет тебя… — И, обхватив голову, он засмеялся, а за ним и все остальные.
— Кирпич, кирпич!.. — орали все.
— Я с собой его не брал… — объяснял Колька. — Его мне кто-то подложил…
— Ну и ловкач… — доказывал ему после старик. — Да ты знаешь, что тебе за этот кирпич могут срок допаять. И будешь ты по третьему заходу маяться…
— Куда же мне его теперь?.. — растерянно спросил его Колька.
— Чепуха, мы мигом его укокошим… — и старик хитро прищурил глаза. — Рубль дашь, и мы его за минуту раскрошим…
Колька отдал рубль. И двое заключенных со стариком с таким азартом накинулись на кирпич, что вскоре он под их ногами превратился в порошок.
— Радуйся!.. — гордо сказал ему старик. — А то сидеть тебе за него целый месяц в штрафном изоляторе… Кирпич в умелых руках похлеще ножа…
И все опять дружно засмеялись. Впервые Колька смешил людей. Наивен он был и беспомощен. И по-детски беззащитен. Получалось, что он сегодня распрощается с семью рублями и на целый месяц останется без ларька. Люди будут курить, есть конфеты, консервы. А он будет только смотреть. «Будь что будет…» — думал он. Двое заключенных продолжали втаптывать в пол раскрошившийся кирпич.
— Па-де-де… — глядя на них, сказал Колька.
— Па-де-бурре… Щелкунчик… — поняв его, засмеялись они и, защелкав в воздухе пальцами, ритмично затопали.
И в этот миг перед его глазами появилась Лиана. Как могла она явиться в это столыпинское купе и в этот грубый и страшный мир. На ней были новые балетные туфельки. И она радостно подпрыгивала в воздухе.
Он кинулся к ней сквозь стоящие тела, оттолкнул в сторону старика и двух заключенных, растаптывающих остатки кирпича. Вот его руки коснулись ее рук. Близок знакомый цвет глаз.
— Прости, пожалуйста!.. — произносит она.
— Спасибо, что ты вернулась, спасибо… — шепчет он.
Вагон на подъеме сильно вздрагивает, скрипит, визжит, готовясь вот-вот накрениться набок. Перед глазами все исчезает, и Колька в бессилии падает на людей. Краем уха он слышит, как кто-то кричит:
— Да он и на самом деле плох… Упал как кирпич…
Под полкой ему как хиляку без очереди уступают на некоторое время место. И он засыпает так крепко, как никогда в своей жизни не спал. Баул его ходит по рукам. Все шарят в нем, выворачивают дно. И, ничего не найдя, со злостью ругаются, проклинают хиляка.
В одном из пересылочных пунктов, когда всех их, новеньких, прогнали сквозь строй стариков, хозяев барака, с него, как и говорил раньше старик, сняли почти всю одежду, кинув взамен какое-то дряхлое шмотье. Прекословить хозяевам было бесполезно, таков закон пересылки. «Ребячество…» — вздыхал Колька в таких случаях и не обижался за поборы. Не замечал он и холода цементного пола, и потной сырости. Бараки на пересылочных пунктах переполнялись, окна и двери открывать не разрешалось. И от духоты и нехватки воздуха человеческие тела сильно потели. Пол был склизким от потной влаги, и во многих местах были огромные лужи. Пересылочные рады были и этому. Главное, тело хоть куда-нибудь приткнуть, а там пусть забирает хоть смерть.
— Главное, протащиться до своего родного лагеря, а там в люди можно выбиться… — вздыхали пересылочные.
И Колька, глядя на них, не понимал их желаний и надежд.
Его бред по ночам становился все сильнее и сильнее. Надзиратели качали головами. Даже при ударе под дых он не стонал. Стиснув зубы, молча переносил боль.
Как слабака, его после прибытия в лагерь перевели с бетонных работ в компрессорную. Каждый день, приходя на работу раньше всех, он должен был завести компрессор и проверить десять отбойных молотков. Осенью они работали исправно, а зимой заедали, а точнее, замерзали от накапливавшегося внутри конденсата. Чтобы молотки поскорее «отходили», Колька разогревал их на костре, а когда не разрешалось разводить костер, совал их в горячий глушитель компрессора. В работе он забывался. Но ненадолго. Стоило ему вернуться в барак, как он начинал пугаться неожиданно охватывающего его одиночества. Это изматывало Кольку, и на работу он приходил сильно ослабевшим. В один из дней, когда он вообще не смог выйти из барака, его отправили в лазарет.
— Не захотел в бараке жить, теперь уколы получай… — ругался на него бригадир.
Он ничего не ответил ему. Палаты в лазарете хотя и многоместные, но тишина была в них отменная. Больные тяжелые и больше всего страдают из-за перегрузок от тяжелого физического труда.
— Кто такая Лиана?.. — спросил его доктор на обходе, — Почему вы все время повторяете это имя?..
— Это моя больная… — тихо ответил Колька.
— А разве вы раньше имели какое-нибудь отношение к медицине?.. — удивился доктор.
— Да, имел… — вздохнул Колька и отвернулся к стене. Яркий солнечный свет переливался на ней. Колька смотрел на этот блеск и радовался ему, как в детстве.
РАССКАЗЫ
СВЕТ РОССИИ
Радуйся, великославный Российский наш заступниче, отче Сергие; радуйся, совершенный в добродетелех человече. Радуйся, преблагий и добрый наставниче иноков. Радуйся, образе пустынножителей и устроителю общаго жития; радуйся, всех православных скорый помощниче и заступниче.
Из Акафиста Преподобному отцу нашему Сергию, игумену Радонежскому, ЧудотворцуНет святее на русской земле места, чем Радонеж. Даже в самый морозный день солнечные лучи пробиваются здесь сквозь зимние облака и освещают земные холмики, речку и храмик близ леса с устремленной вверх колокольней. Приходилось мне бывать здесь во всякое время года. Забившись под ветхий надоградный навесик храма, я, жалкий странник, видел перед своими глазами и дождь, и грозу, и пургу. Но свет, все тот же солнечный свет, хоть и по крупицам, но добирался к этой таинственной и чудесной земле.
В Радонеж лучше всего приходить пешком, как приходили сюда когда-то с великодушным терпением наши далекие предки. Две дороги сюда ведут, и обе тихие, мирные, по-современному широкие.
Мороз крепчает. Да так, что лес начинает разговаривать. Дубы и березы потрескивают, ели попискивают, и весь этот полный беззаботной удали морозный звон спускается к низине, к чуть замерзшей по краям речке, где торжественно и замирает. Разогретый ходьбой, я с наслаждением вслушиваюсь в лесные звуки, напоминающие таинственный разговор.
— Это звон тишины… — говорит мне бородатый старик, хранитель храма-музея, которого я не видел два года. Он не изменился за это время. Все тот же прежний, полный доверия и расположения ко мне как к старому другу. На нем дешевая кожаная шапка и полушубок с огромным воротником и полами до самых пят. Рукавиц он не носит, видно, слабый морозец ему не страшен.
Чуть прищурив свои широкие глаза и разгладив бороду, он вдруг, к чему-то прислушиваясь, замирает, а затем тихо произносит:
— Лес разговаривает только в морозец, да и то недолго. А так в основном у нас здесь тишина, да не простая, а чистейшей воды, — и, сняв шапку, перекрестился. — Радонеж — особенное место. Здесь Сергий порешил стать монахом. А вон под той березкой он стоял… — И вдруг, строго посмотрев на меня, старик спросил: — Ты ведь, кажись, крещеный?
— Крещеный… — тихо ответил я.
Мы подходим к березе, на которую он указал. Старик вновь снимает шапку, следом за ним и я. Легкие движения воздуха, похожие на ветерок, здесь ощутимы, а с ними и морозец. Он пощипывает губы и щеки, покалывает ноздри и веки. Вокруг березки и над нею яркий солнечный свет. Снег под ногами искрится, и скатертью кажется он. Старик несколько раз крестится, не вытирая с глаз слез. Да их и вытирать, наверное, не надо. Чуть скатившись с ресниц и не успев даже расплыться, они тут же замерзают на разрумянившихся щеках. Березке лет пять, и она стройна и крепка. Тонкие длинные ветви ее устремлены вверх. Лишь кое-где они покрыты наледью и снежком. Словно понимая мое удивление, касающееся возраста березки, старик говорит:
— Вот именно на этом месте, под такой вот березкой и любил стоять Сергий.
Сколько березок с 1328 года на этом месте родилось и умерло, один бог знает. Одна другую сменяют и все растут, словно красоту свою и тень для дитятки Сергия сохранить стараются.
Я подошел к березке и прикоснулся к ее стволу. Он был крепким, упругим и, к моему удивлению, теплым. На какое-то мгновение это смутило меня. И с детской беспомощностью я, посмотрев на старика, произнес:
— Вокруг стужа, а от нее теплом пышет.
— Это не просто тепло, — словно понимая меня, произнес старик. — Это дух того времени, он всегда приходит к тому месту, где Сергий любил стоять, вот и сегодня пришел… — И, указав рукой на горку, воскликнул: — Смотри, смотри, как над снегом он расстилается, а вот он уже к речке подбежал, воду трогает и полынь шевелит.
Я смотрел туда, куда мне указал старик, и мне тоже казалось, что я видел дух Сергия Радонежского. Водная гладь реки действительно задрожала, и прибрежная полынь вместе с осокой вдруг зашевелилась. Откуда мог прийти этот дух, я не знал. Но он был. Я явственно ощущал его тепло и трепет на своем лице и руках. Он не страшил меня, а, наоборот, звал и манил за собой. Я впивался в него глазами, стараясь все заметить и отметить в нем. Река парила. И парная дымка вместе с духом струилась синим потоком, который поднимался к небесам.
Я пришел сегодня в Радонеж не просто так. Я был в беде. Я был несчастен, как бывает несчастным любой художник в трудные, нелегкие минуты творчества. Здесь, на этой святой русской земле, я хотел успокоиться, набраться сил и дать приют своей одинокой душе.
Я рад был каждому слову и намеку старика. Все, что он говорил, я впитывал и принимал. Да и, наверное, другой бы поступал точно так же на моем месте.
— А вон он уже у серого камня… — произнес старик. — Там археологи при раскопках нательный крест Сергия нашли и свистульку с гуслицей.
С волнением смотрел я на серый камень. Под лучами зимнего солнца он блестел и переливался, отражая в себе небо, горку и церковь.
— Смотрите, смотрите, а сейчас он к храму поднимается, — воскликнул старик. И действительно, дух оторвался от водной глади и, приподнявшись в воздухе, поплыл в сторону храма, торжественно стоящего над нами. И вослед река парила, и жалко было, что ее пар не мог подняться так, как дух. Наверное, духом был и этот пар, но старик не хотел мне об этом говорить. Да и не нужно было в эти минуты говорить. Бодростью и свежестью веяло от реки. Ее неподвижная гладь, обрамленная снегом, показалась мне вдруг таинственным образом в серебряной ризе. Солнечные лучи отражались в ней и вспыхивали точно огоньки только что зажженных свеч.
Старик дрожащей рукой поправил волосы на голове и, чуть коснувшись бороды, негромко, но очень красиво запел:
— Возбранный от Царя сил Господа Иисуса, данный России воевода и Чудотворче предивный, Преподобие отче Сергие! прославляюще мы прославльшаго тя славы Господа, благодарственное пение воспеваем ти: ибо молитвами твоими от нашествия иноплеменных и скорбных обстояний нас присно избавлявши, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких бед нас свободи, да зовем ти: Радуйся, Сергие, скорый помощнице и преславный Чудотворче.
— Что это за песня? — спросил я старика, когда он закончил.
— Это не просто песня, а церковное песнопение… — перекрестившись, произнес он. — И поется оно в православных церквах в день его памяти.
Мы подошли к речному берегу. Тишина здесь была необыкновенная и даже, можно сказать, сказочная. Нигде не встречал я такой. Слышно было не только дыхание, но и даже малейшее движение воздуха, поэтому всякое передвижение по снегу казалось грохотом. Водная гладь, чуть покрытая по краям тонким ледком, светилась голубоватым светом. Прозрачность воды меня поразила. Сквозь толщу ее я отчетливо видел прибрежное дно с крохотными камешками, песчинками и листвой прошлогодней осени. Мне казалось, что не я смотрел на воду, а она на меня. Я даже взгляд ее ощутил и ее чуть запотевшие, широко раскрытые глаза. Этот взор и фарфорный блеск речных глаз завораживал и манил. Подойдя к самому краю берега, я пальцами пробил ледок. Вода, коснувшись пальцев, чуть шевельнулась и, подрожав, вновь замерла. В воде я увидел себя, старика, удивленно смотрящего на меня, изредка падающие на лед снежинки, наклоненные деревья, крест с куполом, окруженный воздушными крохотными пузырьками, изредка поднимающимися со дна.
— На той стороне, — указав рукой в сторону тумана, произнес старик, — Сергий своими руками родник выкопал. Вода в нем до сих пор ключом бьет. Все колодезники удивляются, как это, мол, так долго может вода идти. А она знай себе идет и идет и утихать не думает. У родника всегда мисочки стоят. Одно удовольствие из него воду пить. — И удовлетворенно вздохнув, добавил: — Вот что значит Предивный Чудотворец.
Эти слова — Предивный Чудотворец поразили меня. Столько лет прошло, а память о дивном русском монахе до сих пор жива. Из поколения в поколение люди сохраняют его добрые дела и обращаются к нему за помощью в своих молитвах.
Богата русская земля святыми людьми, которые дают душевные и телесные силы целым поколениям русских людей.
— Предивный Чудотворец… — вновь произнес старик и, с почтением посмотрев на меня, указал на изгиб реки. — А вот на этой полянке князь Дмитрий Донской вместе с боярами и войском своим отдыхал, когда ехал за благословением к Сергию в Троицеву лавру. Останавливался он здесь и на обратном пути. На расстеленных коврах вместе с дружиною прямо у реки он и совершал трапезу. Квас и медовуху пили из белоглиняной посуды да из мисочек столовых. А когда стемнело, то светец зажгли, и гусляр песню запел. А затем все дружно молились, прося Господа Бога помочь одолеть татар. По бокам церквушки, не этой, а совсем другой, усиленный дозор стоял, охраняя князя и бояр. Так вот на этом месте археологи нашли горшки глиняные и всякую белоглиняную посуду, которая, видно, от их трапезы осталась, а еще нашли оселки, ножи, стрелы и шпоры. А у самого бережка найден был красивый наперсный крест, не исключено, что его князь Дмитрий Донской на счастье в воду бросил, а может, воин из его охраны, тоже молившийся за благополучный исход битвы.
После молебна князь Дмитрий Донской, став на колени, речной берег поцеловал и сказал: «Возьми нас под крыло, российская земля!» Затем, поднявшись, достал из ножен меч и прокричал так, что услышали все дозорные: «Благословеньем Сергия да укрепится дух наш! Грудью ляжем, россияне, а победим татар!..»
Старик от волнения раскраснелся. Чувствовалось, что он говорил правду без всяких прикрас. Редко кто из простых людей на Руси не знает игумена Сергия Радонежского и князя Дмитрия Донского. Оба они причислены к лику святых. Их имена постоянно в наших сердцах. И говорить о них, вспоминая их подвиги, есть самая лучшая радость для русского человека. Вот и старик в беседе со мной, распахнувшись душой, вдруг помолодел и стал походить на того древнего богатыря воина, которого мы часто видим на картинах Васнецова. Мне показалось, что передо мной стоит не старик моего времени, а мудрец старец того далекого древнего 1328 года, когда 15-летний Сергий вместе с родителями переселился из Ростова в городок Радонеж, находившийся в 54 верстах от Москвы.
Тогда, в точно такую же зиму, родители Сергия перебрались на постоянное место жительства в этот городок. Отца его звали Кирилл, мать — Марией. Именно здесь, в Радонеже, Сергий решил стать монахом, да не просто монастырским, а пустынником. Это обрекало его на трудную жизнь вдали от людей. Вместе с братом Стефаном Сергий некоторое время бродит по лесам и наконец останавливается близ маленькой речки Консеры. Место ему понравилось. И он решает избрать его для своего вечного пустынного жития. Вскоре они строят здесь келью для житья и малую церквицу, которая освящается в честь имени Святой Троицы. Так глухое место в лесу, по желанию Сергия, впоследствии станет знаменитой Троицкой лаврой, одной из самых величайших святынь русского духа.
Сергий Радонежский был крупнейшим русским просветителем, политическим и церковным деятелем. Он всегда стремился к объединению и сплочению русского народа, сохранению его идеалов и традиций. Он ценил святость и красоту русской души и верил в ее великую будущность. Объединению русского народа и его духа он посвятил всю свою жизнь, и именно в нем он видел силу и мощь России. Как важно и просто необходимо нам сейчас это сплочение! В нем спасение Отечества! В нем наша духовная сила и прогресс!
Я смотрел на смиренного старика. Я наслаждался его видом, его бескорыстием, полным раздумий взглядом. Кто он сейчас в эти минуты? Представитель какого мира? Только что он казался мне древним мудрецом, оставаясь одновременно и моим соотечественником, человеком моего времени. Не нужно, наверное, было переносить его в другое время. Потому что русский человек всегда вечен, в каком бы времени он ни был. Годы ему нипочем. Расступаются перед ним все дороги и веси. Раскрывается перед ним любая встречная душа, с беспокойством ловя каждое его слово.
В последнее время мы мало произносим такие святые и дорогие для нас, слова, как россиянин, соотечественник, сородич. В некоторой степени даже стыдимся. Иноплеменникам это на стать, а для русского человека забвение этих слов есть великий грех. Надо всегда помнить эти слова, любит и лелеять их, ибо нет у русского народа ничего дороже этих слов. С волнением читаешь строки из нетленного труда Н. М. Карамзина «История государства Российского», посвященные великому князю Димитрию Иоанновичу, прозванному Донским. Я помню их наизусть. Их слог, их святая глубина, полная велеречивости, покоряют, волнуют душу и заставляют гордиться своими соотечественниками, в трудное для страны время давшими достойный отпор татарам.
«Каждый ревновал служить отечеству: одни мечом, другие молитвою и делами христианскими, между тем как юноши и мужи блистали оружием на стогнах Москвы, жены и старцы преклоняли колена в святых храмах; богатые раздавали милостыню, особенно великая княгиня, супруга нежная и чувствительная; а Димитрий, устроив полки к выступлению, желал с братом Владимиром Андреевичем, со всеми князьями и воеводами принять благословение Сергия, игумена уединенной Троицкой обители, уже знаменитой добродетелями своего основателя. Сей святой старец, отвергнув мир, еще любил Россию, ее славу и благоденствие: летописцы говорят, что он предсказал Димитрию кровопролитие ужасное, но победу; смерть многих героев православных, но спасение великого князя; упросил его обедать в монастыре, окропил святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем Александра Пересвета и Ослябю, из коих первый был некогда боярином брянским и витязем мужественным. Сергий вручил им знамение креста на схимах и сказал: «Вот оружие нетленное! Да служит оно вам вместо шлемов!» Димитрий выехал из обители с новою и еще сильнейшею надеждою на помощь небесную».
В школьных учебниках имя Сергия Радонежского почти не упоминается. Редко и даже с какой-то опаской говорят о нем и в институтских лекциях по истории. Бегло, галопом промчатся в своих статьях по этому периоду русской истории видные профессора и академики, словно он ничего и не значит, словно его и не было. Под своеобразным, страшно лукавым и таинственным запретом это святое русское имя. Сергия Радонежского историки назвать боятся, а славную память о нем в народе стремятся занизить. Силен, видно, еще иноплеменник и инородец, если великого человека земли русской даже в наше время готов покрыть паутиной.
Некоторые крупные руководители, наделенные государственной властью, считают, что современный русский человек в Бога не верит, потому что вера ему вредит и она в корне ему не нужна. Хотелось бы ответить им, что вера есть не только внутреннее таинство русской души, но это еще и история, память, родные и отеческие корни, без чего русский человек не может существовать. И можно с уверенностью сказать, что вера русского не может подчиниться ни вождю, ни начальнику. Она едина и вечна, как ни была порой угнетаема и оскорбляема.
С грустью приходится читать слова крупного партийного деятеля минувших годов, с уверенностью заявлявшего, что «…верующих в бога становится все меньше и меньше — растет молодежь, а она, в подавляющем большинстве, не верит в бога». Налицо субъективизм и волюнтаризм, отрицание истории и непонимание жизни. Вера для русского понятие не только святое, но и невероятно сложное, и так громогласно ее отрицать, меряя всех одною меркою, словно люди есть какая-то серая масса, есть великий грех. С Богом шли на татар воины Димитрия Донского, у всех на груди были нательные крестики, потому что без православной веры они жизни своей не мыслили и, перед боем пав на колени, крестились, и в эти горькие для многих, последние минуты на их устах было слово «Бог», навеки слившееся с Отечеством и со всей землей русской. Об этом в яркой летописной форме говорит Н. М. Карамзин, писание которого есть истинная правда.
«Димитрий собрал воевод и, сказав им: «Час суда божия наступает», 7 сентября велел искать в реке удобного броду для конницы и наводить мосты для пехоты. В следующее утро был густой туман, но скоро рассеялся: войско перешло за Дон и стало на берегах Непрядвы, где Димитрий устроил все полки к битве. В средине находились князья литовские, Андрей и Димитрий Ольгердовичи, Феодор Романович Белозерский и боярин Николай Васильевич; в собственном же полку великокняжеском бояре Иоанн Родионович Квашня, Михаил Брянок, князь Иоанн Васильевич Смоленский; на правом крыле князь Андрей Феодорович Ростовский, князь стародубский того же имени и боярин Феодор Трунка; на левом князь Василий Васильевич Ярославский, Феодор Михайлович Моложский и боярин Лев Морозов; в сторожевом полку боярин Михаил Иоаннович, внук Акинфов, князь Симеон Константинович Оболенский, брат его князь Иоанн Торусский и Андрей Серкиз; а в засаде князь Владимир Андреевич, внук Калитин, Димитрий Михайлович Волынский, победитель Олега и болгаров, муж славный доблестию и разумом, — Роман Михайлович Брянский, Василий Михайлович Кашинский и сын Романа Новосильского, Димитрий, стоя на высоком холме и видя стройные, необозримые ряды войска, бесчисленные знамена, развеваемые легким ветром, блеск оружия и доспехов, озаряемых осенним солнцем, слыша всеобщие громогласные восклицания: «Боже! даруй победу государю нашему!» и вообразив, что многие тысячи сих бодрых витязей падут через несколько часов, как усердные жертвы любви к отечеству, Димитрий в умилении преклонил колена и, простирая руки к златому образу Спасителя, сиявшему вдали на черном знамени великокняжеском, молился в последний раз за христиан и Россию; сел на коня, объехал все полки и говорил речь к каждому, называя воинов своими верными товарищами и милыми братьями, утверждая их в мужестве и каждому из них обещая славную память в мире с венцом мученическим за гробом.
Войско тронулось и в шестом часу дня увидело неприятеля среди обширного поля Куликова. С обеих сторон вожди наблюдали друг друга и шли вперед медленно, измеряя глазами силу противника: сила татар еще превосходила нашу Димитрий, пылая ревностию служить для всех примером, хотел сражаться в передовом полку: усердные бояре молили его остаться за густыми рядами главного войска, в месте безопаснейшем. «Долг князя, — говорили они, — смотреть на битву, видеть подвиги воевод и награждать достойных. Мы все готовы на смерть; а ты, государь любимый, живи и предай нашу память временам будущим. Без тебя нет победы». Но Димитрий ответствовал: «Где вы, там и я. Скрываясь назади, могу ли сказать вам: братья! умрем за отечество? Слово мое да будет делом! Я вождь и начальник: стану впереди и хочу положить свою голову в пример другим». Он не изменил себе и великодушию: громогласно читая псалом «Бог нам прибежище и сила», первый ударил на врагов и бился мужественно как рядовой воин; наконец отъехал в средину полков когда битва сделалась общею.
На пространстве десяти верст лилася кровь христиан и неверных. Ряды смешались: инде россияне теснили моголов, инде моголы россиян; с обеих сторон храбрые падали на месте, а малодушные бежали; так некоторые московские неопытные юноши — думая, что все погибло, — обратили тыл. Неприятель открыл себе путь к большим, или княжеским, знаменам и едва не овладел ими: верная дружина отстояла их с напряжением всех сил. Еще князь Владимир Андреевич, находясь в засаде, был только зрителем битвы и скучал своим бездействием, удерживаемый опытным Димитрием Волынским. Настал девятый час дня: сей Димитрий, с величайшим вниманием примечая все движения обеих ратей, вдруг извлек меч и сказал Владимиру: «Теперь наше время». Тогда засадный полк выступил из дубравы, скрывавшей его от глаз неприятеля, и быстро устремился на моголов. Сей внезапный удар решил судьбу битвы: враги, изумленные, рассеянные, не могли противиться новому строю войска свежего, бодрого, и Мамай, с высокого кургана смотря на кровопролитие, увидел общее бегство своих; терзаемый гневом, тоскою, воскликнул: «Велик бог христианский!» — и бежал вслед за другими. Полки российские гнали их до самой реки Мечи, убивали, топили, взяв стан неприятельский и несметную добычу, множество телег, коней, верблюдов, навьюченных всякими драгоценностями.
Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня, довершив победу, стал на костях или на поле битвы под черным знаменем княжеским и велел трубить в воинские трубы; со всех сторон съезжались к нему князья и полководцы, но Димитрия не было. Изумленный Владимир спрашивал: «Где брат мой и первоначальник нашей славы?» Никто не мог дать об нем вести. В беспокойстве, в ужасе воеводы рассеялись искать его, живого или мертвого; долго не находили; наконец два воина увидели великого князя, лежащего под срубленным деревом. Оглушенный в битве сильным ударом, он упал с коня, обеспамятел и казался мертвым; но скоро открыл глаза. Тогда Владимир, князья, чиновники, преклонив колена, воскликнули единогласно: «Государь! ты победил врагов!» Димитрий встал: видя брата, видя радостные лица окружающих его и знамена христианские над трупами моголов, в восторге сердца изъявил благодарность небу; обнял Владимира, чиновников; целовал самых простых воинов и сел на коня, здравый веселием духа и не чувствуя изнурения сил. Шлем и латы его были иссечены, но обагрены единственно кровию неверных: бог чудесным образом спас сего князя среди бесчисленных опасностей, коим он с излишнею пылкостию подвергался, сражаясь в толпе неприятелей и часто оставляя за собою дружину свою. Димитрий, провожаемый князьями и боярами, объехал поле Куликово, где легло множество россиян, но вчетверо более неприятелей, так что, по сказанию некоторых историков, число всех убитых простиралось до двухсот тысяч. Князья белозерские, Федор и сын его Иоанн, торусские Феодор и Мстислав, дорогобужский Димитрий Монастырев, первостепенные бояре Симеон Михайлович, сын тысячского Николай Васильевич, внук Акинфов Михаил, Андрей Серкиз, Волуй, Бренко, Лев Морозов и многие другие положили головы за отечество; а в числе их и Сергиев инок Александр Пересвет, о коем пишут, что он еще до начала битвы пал в единоборстве с печенегом, богатырем Мамаевым, сразив его с коня и вместе с ним испустив дух; кости сего и другого Сергиева священновитязя, Осляби, покоятся доныне близ монастыря Симонова. Останавливаясь над трупами мужей знаменитейших, великий князь платил им дань слезами умиления и хвалою; наконец, окруженный воеводами, торжественно благодарил их за оказанное мужество, обещая наградить каждого по достоинству, и велел хоронить тела россиян. После, в знак признательности к добрым сподвижникам, там убиенным, он уставил праздновать вечно их память в субботу Дмитровскую, доколе существует Россия».
Читали ли эти строки чиновники-руководители, которых с уверенностью за их высказывания можно назвать иноплеменниками. Наверное, нет. Не признавая историю народа, с которым они живут и которым командуют, они признают лишь карьеру и мечтают только о продвижении по партийной лестнице вверх, где ждет их материальное раздолье.
Как много еще таких руководителей-трутней. Словно саранча, они облепляют русский ствол жизни и безнаказанно пожирают и уничтожают все на своем пути. До каких пор в них будут эти привычки заезжих людей?
Старик с улыбкой посмотрел на меня и сказал:
— А теперь поднимемся на горку, я тебе еще кое-что покажу.
Мне жаль было расставаться с рекой. И, взглянув на нее напоследок, стараясь как следует запомнить ее, я смиренно поклонился ей и пошагал за поднимающимся на заснеженную горку стариком. Полы его полушубка приподнимал ветерок. И когда они развевались, старик походил на огромную птицу, собирающуюся вот-вот взлететь. Пугаясь этого, я поспешил за ним.
Сказочная обстановка Радонежа была дорога мне, и я боялся нарушить окружающую меня тишину громким словом или неверным движением. Даже ступал я на снег так осторожно, словно этот снег был не нынешним, а снегом зимы 1328 года.
Вдруг направо вверху раздалось звонкое протяжное блеянье. Это овцы в хлеву, который находился, видимо, рядом с храмом, нарушили тишину. И все сразу как-то ожило, зашевелилось, наполнилось смыслом и какой-то новой, высокой радостью. Ведь когда-то, давным-давно, много лет назад в хлеву скрывали волхвы младенца Иисуса Христа от Ирода. И сразу перед глазами предстала картина, на которой Божья Мать сидит с младенцем в хлеву, окруженная ягнятами и овцами.
— К счастью запели… — произнес старик, чуть замедлив шаг. — Да оно и всегда так бывает, когда ягнятки поют. — И, сказав это, пошагал на удивление легко и уверенно.
Перекликаясь, дружно блеяли овцы. Видимо, они разбудили от дневной спячки какого-то беспокойного петуха, который, захлопав крыльями, начал звонко, на всю округу петь вечное ку-ка-ре-ку. На горке появились деревенские мальчишки в зеленых шапках-ушанках и в расстегнутых пальто, все заснеженные, возбужденные, румянощекие. У двоих из них красные штаны, которые на искристом снегу полыхают ярким пламенем. Их лица смелы и беззаботны. Старик, остановившись, улыбнулся. У них были старинные санки, без полозков, а чтобы они лихо скользили, днище их было обито тонкой жестью. Это были так называемые старинные русские санки-кузовки с высокими деревянными бортами. Кататься на них одно удовольствие. Самый смелый из ребят с любопытством посмотрел на нас и сказал:
— Дедушка, не желаете с дяденькой прокатиться?..
Остальные хором прикрикнули на закружившуюся вокруг нас собачонку. Раза два подпрыгнув, она тут же утихла.
— Желать-то желаю, да года не те… — ответил благодарственно старик и обратился ко мне: — А ты не желаешь?
— В следующий раз… — тихо ответил я.
Словно поняв наше смущение, мальчонка спросил нас:
— А у родника, который выкопал Сергий Радонежский, вы были?
— Нет еще… — ответил старик.
— Обязательно сходите, все туристы туда ходят, — и, сказав это, он вместе с остальными ребятами лихо запрыгнул в кузовок. Он тут же дернулся и понесся к речке.
Смеясь, ребята что-то кричали друг другу, руками обхватывая бортик кузовка, который несся все сильнее и сильнее, готовый вот-вот подняться и полететь. Мы позавидовали их безостановочному, стремительному спуску. Красный цвет их штанов, зеленый цвет шапок и темный цвет пальто издали на снегу напоминал цветы, брошенные с горы неизвестно кем.
— Братцы мои!.. — кричал самый старший из них. — Братцы мои! — И этот его живой человеческий крик вместе с блеяньем ягнят, пеньем петуха нес с собой такое ощущение прелести жизни и добра, что я вместе со стариком вздохнул и прослезился.
Наконец мы поднялись на вершину горки. Ветерок здесь был ощутим, он трогал щетину на подбородке и заставлял щурить глаза. Прямо перед нами был памятник Сергию Радонежскому. Ах вот куда меня привел старик!
Открытый совсем недавно, он стоял недалеко от дороги и почти рядом с храмом. Высокий монах в рясе благословляет светловолосого мальчонку, как бы наставляя его на добрые дела. Чуть впереди памятника камень с надписью «Сергию Радонежскому благодарная Россия». Нелегко было установить этот памятник. Первая попытка не удалась. Люди, собравшиеся на открытие памятника, были разогнаны, а грузовик с памятником, находившийся в пути, был остановлен и отправлен обратно в Москву. Возмущенный обком партии назвал эту добрую, почитающую русскую историю акцию самой что ни на есть возмутительной, граничащей с хулиганствующей вседозволенностью. Непонятно только, чему здесь было возмущаться. Радоваться надо было и приветствовать открытие монумента выдающемуся деятелю русского духа. Вторая попытка все же удалась. И 29 мая 1988 года памятник игумену Сергию Радонежскому в присутствии многих тысяч людей был торжественно открыт. Хотя и здесь чиновники не успокаивались. Вместо объявленного открытия в 15 часов открытие провели в 13 часов, чтобы не очень много народа было. Но народ, словно чувствуя обман, пришел раньше. И чиновничья злость, нежелание, суетливость потонули в людской доброте В ходе таких антинародных акций непонятным становится только одно — кто насажал этих чистеньких, гладеньких, власть имущих болванчиков, прикрывающихся словами беспокойства за народ, в райкомы, исполкомы и прочие управучреждения? Кто им дал право распоряжаться людскими судьбами? Им, которые не знают и не желают знать истории и культуры своего народа. Им, которые несут народу массу душевных страданий и боль. Про таких обычно говорят: «Гнать их надо в шею, ибо не было у них чувства родины и не будет».
Но, невзирая ни на что, существует и еще ох как цепко держится за кресла этот современный тип сверхпартруководителя-карьериста с красной гербовой корочкой, дающей ему право судить и миловать.
У подножия памятника чуть припорошенные снегом свежие цветы. И хотя поблекли они, но все равно алый цвет их красив на снегу.
Старик молчит. В какой-то задумчивости смотрит на памятник. Белый мрамор чуть темнее снега, и от этого блеск его выразителен и прекрасен. Мимо нас, поклонившись, прошел худенький мальчик. Глаза голубые и очень большие, а в руках узелок. Он пошагал к дальнему кладбищу у березовой рощицы. Кто похоронен на нем из его близких или друзей, один бог знает. Вроде он еще и маленький, но фигурка и все движения его взрослые. Видно, печаль и горе раньше времени состарили его. Ребята, катающиеся с горки, что-то в радости крикнули ему. С признательностью махнув им рукой, он, чуть приостановившись, вновь пошагал. А вокруг снег, все так же пушась, искрился и, приподнимаемый ветерком, переносился с места на место. Я оглянулся. За моей спиной храм уходил куполами в небо. Синички сидели на золоченых крестах и на деревянных перильцах колокольни. У входа в храм на деревянной зеленой балке золотыми буквами написано: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
К сожалению, в храме давно не служат. Помещение его отдано под музей. И вместо верующих в нем частый гость турист или случайно забредший в эти края путник.
В небесной синеве золотые кресты таинственно мерцают. А купола так ярко горят, что кажется, и облака, и небесная синь от них золотятся. А все это вместе похоже на русскую хохлому, наполненную чувственной росписью. У ограды лежат древние могильные камни, испещренные временем, солнцем и ветром. От имен, когда-то выбитых на них, остались чуть заметные следы. Когда-то, давным-давно, примерно в IX веке, на землях Радонежа жили племена славян-кривичей. Здесь же находилось и их святилище «Белые боги». На Радонежском городище были найдены бронзовые подвески в виде медведя. Этому лесному зверю славяне поклонялись. А рядом с Радонежем были селения. Вспоминаешь их по названиям, и сердце радуется, до чего же русские, чистые названия: Сурожик, Мушкова горка, слободка Софроновская, Вохна, Дьяково, Раменье, Данилишова слободка, Гуслица. Особенно запомнилось мне название Гуслица. Кто, кроме русского, мог придумать такое нежное, теплое слово — Гуслица. Им можно украсить любую речь и любое близкое по духу место. Сильна и самобытна наша родина!
— А Гуслица жива?.. — отвлекши свой взор от храма, спросил я старика.
— А как же!.. — воскликнул радостно он. — Да и как же Гуслице не жить. Была, есть и будет Гуслица на русской земле. А еще есть Софьино, Сафарино, Варнавицы. Одно название лучше другого.
Старик понимал меня, а я его. Мы были близки друг другу. Он разговаривал со мной как равный с равным, просто, душевно и открыто. О Радонеже и о Сергии Радонежском он мог говорить сколько угодно. Он стоял рядом со мной с непокрытой головой.
— Не простынете?.. — спросил я его.
Да как это можно простыть, — усмехнулся он. — Я ведь за свою жизнь не одну зиму пережил. Любой холод мне знаком, так что я закален, — и старик улыбнулся.
Но затем вдруг лицо его стало беспокойным. То ли неожиданно налетевший ветерок его взволновал, а может, новые мысли душу тронули. Что и говорить, человек он был чувствительный. Редко таких встречаешь, С руки в руку переложил он шапку, робко тронув бороду, поправил ворот рубашки и сказал:
— Стыдно… Столько лет прошло, а памятник игумену Сергию Радонежскому только сейчас поставили. А некоторые и вообще про Радонеж мало что знают. В Троице-Сергиеву лавру заглянут, у раки с мощами Сергию помолятся и думают все. А зря, место, где Сергий мальчонкой бегал, забывать нельзя. Преудивительное место это, сколько лет живу здесь, а все нажиться никак не могу. Да и разве можно забыть то место, где ты родился и где такой величайший человек святость русской души постигал? Ни на что не похоже это место. Здесь любо дышится, смотрится, слышится. Все, все здесь любо!..
Нервы у старика сдали, он прослезился. А затем вдруг какая-то грусть обуяла его. Он зашмыгал носом и завздыхал. Чтобы хоть как-то расшевелить его, я спросил:
— А вы какие-нибудь подробности знаете о благословении князя Сергием?
— А как же! — с важностью произнес он и с прежним восторгом продолжил: — Дмитрий Донской за благословением к Сергию Радонежскому поехал в сопровождении князей, бояр и воевод. Он торопился, ибо через день, 20 августа, ему надо уже было выступать с войском из Москвы против татар. По прибытии в Лавру он присутствовал на молебне, где усердно молился, но при этом сильно нервничал, гонцы-вестники то и дело докладывали ему о приближении огромного числа татар. После молебна он хотел было сразу же уехать. Но Сергий уговорил его остаться на трапезу. И лишь только после трапезы с монахами великий князь был благословлен. Сергий перекрестил великого князя крестом и под молитву окропил святою водою. Дмитрий Донской попросил у преподобного двух монахов-воинов, Пересвета и Ослябю. Дав согласие на это, Сергий велел монахам тотчас же собираться, а для укрепления их святого духа вместо шлемов надел на их головы святую схиму с нашитыми на ней крестами. Перед прощанием с князем он еще раз благословил его крестом, а святой водой окропил всех, с ним прибывших, при этом громко сказал князю: «Без всякого сомнения, государь, иди против них и, не предаваясь страху, твердо надейся, что поможет тебе Господь». И Господь помог!
Старик улыбнулся. Не нужно было догадываться о выражении его лица. Оно было полно гордости за Сергия Радонежского.
— Вот какой человек был на земле русской! — в восторге добавил он. — Будет ли еще!
Дети шумели и спорили недалеко от нас. Они не замечали наших дум, не ведали их и не знали.
— Ишь непоседы!.. — глядя на них, улыбнулся старик. — Посмотришь на их прыткость, и, глядишь, легче станет: бойкая, сладкоголосая смена растет.
А рядом на дереве, с ветки на веточку перепрыгивая, посвистывали снегири. Вот два из них подлетели к подножию памятника. И от их красных грудок чуть примороженные и припорошенные снежком свежие цветы стали как никогда красивыми.
И, словно понимая меня, старик сказал:
— А разве есть на свете лучше земля, чем эта?.. — полюбовно положил свою руку на мое плечо. — Сохрани ее бог, русскую землю! Чтобы была она вечной и крепкой! И чтобы люди на ней такие, как Сергий Радонежский, не переводились.
И, попрощавшись со мной, старик бойко пошел по улице, размахивая шапкой в руке. Ветер приподнимал его седые волосы, пушил их, а он, не поправляя их, с гордостью думал о чем-то своем.
МОНАХ НИКИТА
Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
В прицерковном доме света не было. Лишь лампадка теплилась в углу, и от этого исподлобный взгляд Николая Угодника был горек и безрадостен. А может, ему казалось, что он был строг. Монах Никита, у которого поверх рясы надета фуфайка, стоял на коленях и, посапывая, молился. Затем, словно в полузабытьи, задвигал ртом, вначале ничего не говоря, словно хлебная мякина была в нем, но затем, собравшись с силами, нервно продолжил:
«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится. Речет Господеви. Заступник мой еси и Прибежище мое Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы, летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща, и беса полуденного…»
Сквозь приоткрытое окно слышны далекие выстрелы. А совсем почти рядом звуки губной гармошки и ядреный девичий смех, то и дело перебиваемый дружными аплодисментами. Подвыпивший полицай на чистом русском кричит: «Че мне от шнапса сделается… Да ниче». И совсем близко у леса, там, где изгиб реки, куковала кукушка, да так громко, словно не осень была, а весна.
Комната полупуста. На столе миска, кусок черствого хлеба, старый молитвослов и походная Библия. На тумбочке у койки крест и две просфоры. Здесь, прямо на постели, шинель без погон, а из-под подушки выглядывает рукоятка нагана. У двери аккуратно стоят кирзовые и резиновые сапоги, из которых торчат пахнущие потом портянки.
«С ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое», — закончив молитву, он перекрестился и поцеловал глиняный пол. Затем, продолжая находиться в каком-то потрясении, прикоснулся к нему по-православному лбом. Воспаленные глаза слезились, грудь содрогалась, губы шевелились, и во взгляде наряду с негодованием и ненавистью было унижение.
Враг был за окном. И все, кто мог, воевали с ним. И только он один, молоденький, двадцатилетний монах, был здесь. Он ясно ощущал и чувствовал свою ненадобность и никчемность. Он стыдился этого своего существования и нелепого положения. Немцы пожалели его как священника и даже не противились службе. Но для кого служить, да и разве можно служить во вражьем логове. Неделю назад, когда здесь были русские, приход был большим, а сейчас на утреню и вечерню приходят три старушки; одна калека, вторая душевнобольная, третья — бывшая жена старосты, который стал полицаем.
Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге появился мужик, какой-то распаренный весь, пахнущий водкой и краской. Вытерев пену с губ, сел за стол. Он без автомата, на поясе лишь нож. Грудь расстегнута, пальцы толстые. На верхней губе и на переносице пот.
— Бабу хочешь? — спросил он.
Никита удивленно поднял на него глаза.
— И вино тоже есть, — хихикнул мужик.
Дрожащей рукой Никита перекрестился и произнес:
— Я монах.
Мужик, сняв с головы фуражку, бросил ее на стол. Затем, хмыкнув, оттолкнул от себя Библию.
— Ты не монах, ты слепец… А точнее, булавкой приколотый. Вот доложу про тебя коменданту, и он прикажет, чтобы ты за день из православного католиком стал…
— Я не стану католиком, — упрямо произнес Никита.
— А не станешь, значит, ты коммунист… — и, прицелившись в него пальцем, мужик чмокнул губами, сымитировав выстрел. — Коммунисты все жулики, на расход их.
Никита стоял на коленях. Только сейчас он, как следует всмотревшись в сумерки, разобрал, что перед ним староста-полицай. Как же он голоса его сразу не узнал?
— Все иконы, алтарный крест я с собой в Германию возьму. Кадила, потиры, звездицы, дискосы — тоже все мое. Я в Бонне сан приму. А архиерейский стихарь с орарем и золотом шитый саккос с большим омофором я жене-иноземке отдам, пусть с детьми балуется.
— Господи, смилуйся, — произнес Никита.
— Он-то смилуется, а я нет, — засмеялся староста и, достав из портсигара иноземную папироску, закурил. — Ну, а для приличия мы обыск в твоей хатенке сделаем. Вдруг ты что припрятал. Монахи те же дьяволы, бабу так опутают, что и не узнаешь…
— Уходи, — прошептал Никита. — Уходи, и хрупкими ладонями вытер лицо.
— Ага, не по нутру пришлись слова, — засмеялся тот и кинул на пол окурок. — Ладно, мир всем. Окромя церковных принадлежностей пошутил я. И не дуйся, ведь я с тобой как с родной душой пооткровенничал.
За окном бодро заиграла губная гармошка. И, услышав ее, староста вздрогнул. Растопыренной потной рукой облокотился о подоконник и встал. Матерная страстная власть и мужицкая беззаботность слились в его взгляде воедино. Над горящими глазами брови сжались, и он гордо произнес:
— Жена-иноземка мне деток родит. А я ей за это по кадке помидор с огурцами сварганю и шубу с калошами. А песни наши убогие к черту, только немецкие буду петь…
Затем он, пугливо вздрогнув, настороженно осмотрел худенького монаха. Брови нахмурил, большие пальцы рук, как барин, сунул за пояс. Он стоял перед ним как кот перед пойманным мышонком.
— Ты гляди у меня, свечи в храме особо не жги. Они деньги стоят. Да и партизаны могут заприметить. Не дай бог, в храме окопаются… Им ведь теперь терять нечего. Его ведь, если и захочешь, не подорвешь. Им ведь только повод дай, с колокольни как жахнут по штабу. А я там как-никак рядом живу. Немцы дураки, не поймешь, чем живут, хотя бы стеной себя окружили или на крайний случай забор из толстых досок соорудили.
— Господи! — слабым голосом прошептал Никита и встал.
— Хватит тебе, все господи и господи, — вспыхнул староста. — Я не трогаю тебя потому, что жаль мне тебя. А так бы я тебя вместе с партизанами расстрелял. Служить я покудова не запрещаю. Комендант через неделю приедет, вот тогда и решим, что с тобою делать. Или веровать будешь, или полицаем служить.
— Оставьте меня, — тихо произнес Никита и, посмотрев на горящую лампадку, троекратно перекрестился. Затем закрыл глаза. А когда открыл, то замер. Староста, достав из кармана две гранаты и несколько обойм к нагану, кинул все это на кровать.
— Это тебе для защиты. И о вере забудь, ты теперь солдат германской армии.
Староста вытер руки и, поправив ремень, разгладил на груди гимнастерку. Только сейчас Никита заметил, что он вооружен. Слева за ремнем, ближе к спине, торчал наган. И он тут же вспомнил, что староста был левша.
— Монах не имеет права воевать, — не выдержав, крикнул Никита и с трудом сдержался, чтобы не накинуться на старосту.
— Ну, ну, только не поучать, — одернул его тот и, накинув на голову фуражку, добавил: — Прощевай, а насчет девочек не беспокойся, я тебе их ночью пришлю… Все монахи в этом приходе были баловники, так почему же и тебе им не быть.
Староста и раньше был груб, но такой грубости, как сейчас, Никита даже не мог себе представить.
Вдруг где-то недалеко раздались выстрелы.
— Партизаны, — прошептал староста и, выхватив из-за пояса наган, осмотрелся.
Выстрелы участились.
— Поскорее бы брехунов прикончить. — И, перекрестившись, добавил Никите: — Тебя после нашего ухода они первого вздернут, скажут, молодой, а уже тунеядствуешь. Крест сорвут, а узнают, что ты баб на оккупированной территории лапал, в расход пустят.
— Прекратите, сейчас же прекратите, — вспыхнул Никита, в ужасе обхватив руками лицо.
— Ничего, ничего, если будешь выступать, то народ еще не то о тебе узнает по моей подаче, — и, перекрестившись, староста выбежал из избы и, прижимаясь к правой стене храма, стал медленно продвигаться к дороге.
Никита, подбежав к постели, выхватил из-под подушки наган и, подойдя к окну, начал целиться в старосту. Хотелось нажать на курок изо всей силы, но неожиданно он вспомнил, что не умеет стрелять.
На другой день, когда он, открыв храм, вошел в него, в нем уже не было ни одной иконы.
Он никогда не ругался, но здесь при виде пустого храма, вдруг весь как-то суетно сжавшись, прошептал:
— Сволочь…
Кожа на его лице задрожала. Глубокая впадина под кадыком потемнела. Он с трудом удержался на ногах, чтобы не упасть. На нем была поверх рясы надета фуфайка. Он снял ее, бросил на пол и с болью прохрипел:
— Выхолощил, гад, все выхолощил.
Под ногами были окурки, ржавые гнутые гвозди, грязные запыленные обрывки бархата. На скамейке лежал топор. Староста позабыл его. На лезвии выщербинки и налипшие кусочки масляной краски.
Руки у Никиты задрожали. У него не было сил больше находиться в храме. Он по-бабьи неумело всхлипнул. К горлу подступил ком, и несколько минут он даже слова не мог сказать. Никогда он еще не попадал в такое несчастное для него положение. Его собственные белые бледные руки юноши-неженки вдруг показались ему желтыми, а ногти ало-красными, даже видно было, как пульсировала под ними кровь. С трудом он нашел силы соединить три пальца правой руки вместе и перекреститься раз, другой, третий.
Ободранные, исковерканные стены равнодушно смотрели на него. Жилистые тонкие пальцы носились перед ним в воздухе. Он посыпал себя и окружающее пространство крестами, хотя при этом прекрасно понимал, что нет такой силы, которая могла бы вернуть иконы. И тогда, чтобы успокоить себя, он начал шептать: «Всякое дыхание да хвалит Господа! Всякое дыхание… Всякое дыхание…» Какая-то необъяснимая прочность и сила были в этих словах. И в данную минуту ему показалось, что лучше этих слов у него никогда не было. С жадностью шепча их и любуясь их звучанием, он боком, точно виновник какой, вышел из храма и здесь, у ворот, окончательно ослабевший от потрясения, упал на мокрую от росы траву. Перед глазами была паутина, опавшие листья, две высохшие с поднятыми кверху лапками мухи и грубая, точно щетина, трава; осень брала свое, и поэтому даже роса не могла смягчить ее и сделать весенней. И все это пахло невыбродившим кисло-сладким хмелем. И только он вдохнул этот запах, как ему сразу же вспомнилась русская печь, ласковый говор матери, неторопливо достающей рогатиной подрумянившиеся на металлических листах хлебы. Он почему-то позавидовал этому давным-давно прошедшему времени.
А ведь он, если бы захотел, мог раньше, до прихода врага, как и все его прихожане, эвакуироваться. Он имел право убежать или пойти воевать. И это бы было оправданно, если бы только он не был священником. Принятый им сан обязывал поступать его совсем иначе, чем миряне. Он мог бросить дом, вещи, город и все остальное. Но он ни в коем случае не имел права бросать храм, настоятелем которого, пусть даже и в логове врага, он являлся.
Вдруг перед собой он увидел хромовые сапоги. Запах свежего гуталина обжег его и напугал. Не поднимая глаз, он услышал, как клацнул затвор автомата. Затем кто-то громко сплюнул сквозь зубы. Носки сапог были в десяти сантиметрах от его рук. Вот они чуть шевельнулись, затем отодвинулись, а затем он почувствовал, как один из них толкнул его в бок.
— Ты что это как пьяный вытянулся? — раздался знакомый голос. — Может, партизаны тебя ранили? Смотри, арестую, вот тогда узнаешь…
Чиркнула спичка, и запахло дымом. Никита поднял глаза. Перед ним стоял староста, большеглазый, румянощекий, гладковыбритый.
— Отвоевался. — презрительно произнес он. Говорил тебе, иконы заберу, вот и забрал. Ты думал, что я пустой в Германию поеду. Нет уж… На многих иконах ризы золоченые, да и роспись диковинная, незаезженная, так что я не прогадал. А там я, как только приеду, на лошадей их променяю. Ну что же ты лежишь, вставай… А не встанешь, так я баб сейчас позову, они мигом тебя поднимут. Их немцы так разбаловали, что они один разврат и знают.
Староста мог совершить любую подлость. Поэтому Никита, перекрестившись, поцеловал землю и встал.
— Ты чего сегодня будешь делать? — спросил его староста. На нем был немецкий китель с медалькой у воротника, новые офицерские галифе и широкий ремень.
— Молиться буду, — тихо ответил Никита.
— А молиться-то не на кого, — засмеялся староста. Православная душа преставилась. Теперь здесь католический храм будет, так что о своей вере забудь… Ненужной она оказалась, и если бы силу имела, то войну бы не проиграла.
— А кто сказал, что война проиграна? — спросил вдруг сердито Никита и добавил: — Пока не поздно, верни иконы в храм.
Староста с недоумением посмотрел на Никиту. Грустный заплаканный вид не предвещал ему ничего хорошего. Поэтому, чувствуя свое превосходство, он, поправив автомат на плече, усмехнулся:
— А для кого вернуть? Для кого?.. — Глаза его сузились, и, по-волчьи ощерив зубы, он прохрипел: — Все проиграно, все проиграно.
— Ты пьяный, — прошептал Никита.
— Нет, нет, я трезвый!
— А раз трезвый, то не имеешь права так говорить.
— Почему?
— А потому, что ты православный.
Староста подобрал к животу опустившийся ремень и, шумно вздохнув, произнес:
— Православный — это покудова ты, а меня поздно к этой вере причислять.
— Как?
— А вот так, — громко крикнул он. — Раскрестился я, бросил веру эту.
— Но ты же русский.
— Русских нет, война проиграна.
После такого ответа старосты Никита растерялся. Его положение еще более усугубилось. Если раньше он все же надеялся, что староста образумится и одумается, то теперь прекрасно понимал, что перед ним был вероотступник, убежденный в себе.
Никита перекрестился, а затем нервно произнес:
— Что же, ты теперь и стены храма уничтожишь?
— Все, все в моих руках, — засмеялся староста. — И храм, и ты, и партизаны тоже, у них выхода нет, позади болото, а впереди мы. Ох и месиво мы скоро им сделаем, укокошим всех до одного, А заодно и тебя, чтобы не требовал икон.
— Антихрист, — крикнул на него Никита. — Антихрист.
— А ты скот, — и староста ударил его прикладом.
Никита вскрикнул от боли и упал. И он вновь лежал на траве, но теперь уже легкий и невесомый. Небо было перед глазами, а в нем облака и два голубя. В голове был шум Сердце билось как стрепет в силке. Слух был как никогда обострен. Вдали урчал автомобиль, а совсем близко, буквально в десяти метрах от него, ласково и бодро играла губная гармошка.
Староста зверовато посмотрел на Никиту.
— Зараза, еще раз пикнешь, стрельну.
Никита, глядя на небо, ласково улыбнулся и сквозь слезы, чему-то вдруг радуясь, тихо произнес:
— А ты сейчас стрельни, брат.
Тот, вздрогнув, нахмурился. Затем, вскинув автомат, прицелился. Никита не смотрел на него. Неподвластной, таинственной была его радость. Поведение монаха удивило старосту. Он думал, что Никита начнет молить его о пощаде, а он, наоборот, ждал, чтобы в него как можно быстрее стрельнули.
— Вот и отлично… — словно отгадывая его мысли, отрешенно произнес Никита.
Глаза у старосты расширились. И страшная старческая злоба охватила его.
— Ты погибнешь! — прокричал вдруг он. — Ты погибнешь, а я нет. — А затем, опустив автомат, сказал: — Разувайся…
Ничего не понимая, Никита снял с себя ботинки.
— А теперь раздевайся.
— Как? — совершенно спокойно спросил он его.
— Наголо…
Несколько секунд Никита был неподвижен. А затем, присев, осторожно снял с себя рясу, брюки и нательное белье.
— Ну вот вишь, как я тебя опозорил, — засмеялся староста и что-то крикнул по-немецки. И вскоре возле Никиты собрались немцы. Они смеялись, тыкали в него пальцем, кидали фантики. А он сидел перед ними как ни в чем не бывало, словно его и не унижали.
— Наконец-то опростал я тебя, — довольно хихикнул староста. — В таком виде тебе только и взлететь… Херувим, настоящий херувим. — И заржал: — Гы-гы, гы-гы…
Никита молча сидел на траве.
— Ладно, пошутил я, и будет, — произнес вдруг староста и кинул ему одежду и ботинки. — Бери… И помни, если бы автомат осечки не дал, я бы тебя кокнул. Иноверец я теперь, не по пути мне с вами.
Какой-то немец, весь худой и прозрачный, на приличном русском крикнул старосте:
— Может, дать ему папироску?
— Нет, он не курит, — сказал староста и поскреб затылок.
Солнце пригревало, и в застегнутом под горло немецком кителе ему было непривычно жарко.
На порожек огромного дома, где находился штаб, вышел горбатенький офицер. Он, приподняв фуражку, что-то громко крикнул немцам. И те, тут же вздрогнув и произнеся: «Рус, рус… партизаны…» — побежали к нему.
— Чуешь, — крикнул староста Никите. — Я же говорил тебе, что они где-то здесь, рядом. Ночью боишься из дома выйти. Они ведь дикари, повесят на первом суку. И тебя повесят за то, что вместе со всеми не ушел. И теперь вот не на них служишь…
— Вера и служба разные вещи… — произнес Никита и с какой-то брезгливостью откинул от себя одежду и ботинки. Лишь маленький нательный крест был на нем.
— Ты что, тронулся, — прищурил глаза староста.
— Нет, слава богу, у меня с головой все нормально…
— Гы-гы, — вдруг дурашливо засмеялся староста и, поправив на плече автомат, побежал за немцами.
Ночью Никита сделал самодельные иконы из фольги и, освятив их, повесил в церкви перед алтарем. Впереди были праздники благоверного князя Феодора Смоленского и чад его князей Давида и Константина, ярославских чудотворцев; мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и болярина его Феодора, чудотворцев; Прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского, приближались и преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России-чудотворца и апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Прохаживаясь по пустому обезображенному храму, он думал о всех этих праздниках и не знал, как ему быть. Хотелось бросить все и убежать куда-нибудь в лес, но не к партизанам, а в какую-нибудь непроходимую глушь. После того как староста приказал раздеться ему наголо, он возненавидел людей. И даже если бы в город сейчас вошли самые добрые в мире люди, он уже не способен был полюбить и их, Это признание вдруг как-то разом утвердилось в его голове, и он уже не в силах был презреть его и выкинуть из головы. «Фольговые иконы лучше прежних», — подумал он, чтобы успокоить себя, и, не закрывая двери храма, ибо беречь в нем уже было нечего, пошагал в свою комнатку-келью.
Осень была в разгаре. Опавшие листья то и дело приподнимались ветерком и кружились перед ним словно живые. На сиреневом небе желто-красный лес сказочно светился и полыхал. Он ушел бы в него сейчас, если бы не предстоящая зима.
«А что, если выкопать землянку», — подумал он, с напряжением всматриваясь в околесную дубовую рощицу. По краям она была бронзовой, а в середине серой. И птицы кружились над ней и не садились.
«Почему я никогда не был счастлив? — Искренним и нежным тоном спросил он самого себя и тут же нервно добавил: — Хуже того, я, как все, смертный».
Ему вдруг показалось, что жизнь его как верующего человека кончилась и он никому не нужен. И от этого, глядя на лес, он презрительно улыбнулся. Гоготали в небе журавли и гуси. А совсем рядом над маленьким кустиком рябины кружилась и гудела пчелка. С какой-то виноватостью и преступностью он посмотрел на нее, и новый ужас, охвативший его, уничтожил все прежние его желания.
«Что же это я как юродивый, — в испуге задрожал вдруг он. — Веру чуть было не осрамил. Слава богу, что рядом никого не было, а то с языка бы слетело, и тогда поминай как звали».
Кровь прилила к его голове, и он опустил глаза. В эту минуту он был отвратителен самому себе. Самолюбие, на которое поначалу он чуть было не стал рассчитывать, теперь беспокоило его как никогда и было для него сверхоскорбительным.
— Если бы я отрекся, вот тогда, может быть, и было бы мне все позволено, — шевельнул он губами. — Староста безгрешен по-своему. И страдания от него заживут. И никто не узнает, что сей сон означает. Он полицай, с ним ничего не поделаешь.
Обдумывая свои дальнейшие действия, Никита ударил носком землю. Захотелось вдруг боли и оскорбления. Захотелось быть обиженным и униженным. Ибо для него, как он считал, и для всех верующих нужен был повод для молитвы.
Вдруг за своей спиной он услышал шорох. Быстро оглянулся и вздрогнул. Это была больная старушка, которая с остальными двумя ходила в храм.
— Отец иеромонах, — хмуро произнесла она. — Что же вы храм не закрыли?
Он пугливо сложил перед собой руки, не зная, что ей и ответить. На ней были старые кирзовые сапоги, латаное-перелатаное платье и бледно-синий, выгоревший на солнце платок. Лицо, подслеповатое и трясущееся, было несчастным.
— Замок и ключи забрал староста, — немного успокоившись, сказал он ей.
— Сумасшедший он, что ли! — воскликнула старушка и перекрестилась.
Пальцы рук ее были грязные и в мозолях. Увидев, что Никита посмотрел на ее руки, она сказала:
— Картошку копала, — и, задрожав, продолжила: — Надо позвать партизан. Они рядом, я была у них. Я дурная, они меня не послушают, а вас послушают. Прикажите, чтобы они убили его. — Она торопливо вытерла губы кончиком платка и, настороженно оглянувшись по сторонам, добавила: — Я сегодня к ним пойду. Немцы их послезавтра расстреливать будут. Погибнут они, бедненькие, потому что им по болоту за два дня в дальний лес не уйти. Вот я их на прощанье и попрошу, чтобы они сукиного сына вздернули.
После этих слов глаза у старушки засветились и похорошели. Обрадовавшись своему желанию, она уже не скрывала его, хотя Никита был по-прежнему грустный.
— Не время тебе, батюшка, хворать, не время, — всматриваясь в него, прошептала она и, бережно взяв его за руку, повела его, точно мальчонку, в комнату-келью. Он поплелся следом за ней как-то нескладно и очень покорно. Говорить ни о чем не хотелось. Ему нравилось быть замкнутым, а еще ему вдруг захотелось, как в детстве, жареных подсолнечных семечек. Но он постеснялся об этом попросить старушку.
Воздух на улице был прохладным и свежим. Перепревающая и вянущая трава пахла кислинкой и бродящим домашним вином. Иногда в воздухе ощущался запах дымка, это немцы в походных кухнях готовили обед.
— Батюшка, бери пример с меня, — то и дело произносила старушка и, на ходу поправляя платок, легко и свободно тащила за собой Никиту.
В комнате, усадив его за стол, она сняла с него ботинки. Затем, затопив печь, сварила большой чугунок картошки.
Он с жадностью ел картошку, а старушка сидела на маленьком стульчике напротив и все спрашивала и спрашивала:
— Батюшка, а вы вот скажите, они Москву возьмут?
— Нет, — ответил он.
— Я тоже так думаю, — обрадовалась она. — Наполеон тоже ведь прытко шел, ну а потом благодаря партизанам еле ноги уволок.
— Говоришь, видела партизан? — спросил ее вдруг Никита.
— Видеть-то видела, да обречены они, — вздохнула она. — Если бы на день или два немцы задержали бы их убийство, то большая часть партизан переправилась бы через болото.
Посмотрев на горящую перед иконами лампадку, Никита вздохнул и, встав из-за стола, три раза перекрестился. А затем произнес:
— Выходит, я, как и они, несчастный.
— О чем это вы, батюшка? — встрепенулась старуха.
— Да все о мучении, — тихо ответил он и, посмотрев в окно, где рядом с комендатурой стояла толпа немцев, презрительно улыбнулся.
Никита был юношей. Старуха это понимала, и в эти минуты он вдруг показался ей не только смешным и наивным, но и беспомощным. А выражение потерянности и какой-то покорной трагичности на его лице тронуло ее до слез.
— Помогай тебе Бог, — поклонившись ему, прошептала она.
За окном зазвучали пистолетные выстрелы, это немцы, развеселившись от выпитого пива, стреляли по лежавшему на дороге автомобильному баллону. Вместе с ними веселился и староста, хорохорясь и что-то крича во всю мощь, он стрелял из автомата в небо, которое по-прежнему было сиреневым и в котором с прежним азартом кружились журавли и голуби, словно и не было войны и беды.
Через день, поздно вечером Никита потушил лампадку в своей комнате и, взяв с собой лишь небольшой узелок, пошел в храм. Он закрылся в нем один. Три мощнейших внутренних замка-засова были надежны, скорее чугунные створки дверей рассыпятся, чем они раскроются. Для надежности он подпер их двумя бревнами, которые старушки заготовили для дров.
Перекрестившись на фольговые иконы, которые чуть поблескивали у алтаря, он, поднявшись в маленькую надалтарную комнатку, которая находилась рядом с колокольней, зажег самую крохотную лампадку в левом, далеком от окна углу. Здесь же, на полу, перед самым окном, выходящим в сторону комендатуры, развязал свой узелок и в темноте очень осторожно разложил на платке невидимые, но определяемые на ощупь предметы. И лишь после того как он разложил их, он немного успокоился. Откуда-то достал корку хлеба, смачно погрыз ее. Затем, расстелив на полу фуфайку, свернулся на ней калачиком и в понятной лишь ему радости тихонько заснул.
День приближался к полудню, когда Никита проснулся. Увидев яркий солнечный свет, вздрогнул. Испуганно встав и подойдя к окну, начал смотреть в него. Комендатура с копошащимися вокруг нее немцами была перед ним как на ладони. От храма до нее примерно чуть более пятисот метров.
— Чуть было не проспал, — прошептал он и, перекрестившись, открыл окно.
Свежий осенний ветер приятно защекотал губы и пугливо забился в бороде и в волосах на голове. Он жадно вдохнул его раз-другой, затем, повернувшись спиной к окну, в какой-то задумчивости осмотрел комнату. Сквозь квадратные проемы напротив видны были большие и малые колокола и веревки от бит. Когда-то здесь дневал и ночевал однорукий звонарь, а теперь его нет, как только началась война, он подался в бега. В углу он увидел старые, покрытые пылью ботинки, миску, изогнутую напополам ложку. «Волка ноги кормят», — с улыбкой подумал он и, по-мирски сунув руки в карманы подрясника, вновь повернулся к окну. У комендатуры стояли грузовики с прицепленными пушками и широкой платформой, на которую грузили снаряды и оружие. А чуть поодаль от комендатуры из двух бензовозов немцы сливали в мотоциклы и легковушки бензин. Некоторые из них прямо тут же на траве принимали пищу, другие пили водку и пиво, третьи, протирая автоматы, курили. Рядом стояли полицаи, и среди них был староста.
Небо, как и вчера, было сиренево-пурпурным. И замшело зеленел рядом с холмами у горизонта лес. Собираясь к отлету, птицы кружились над самыми домами. Разноцветная листва, опадающая с деревьев, с восторгом неслась по дороге и по рыжей, высохшей на солнце траве. Воздух был накален прохладой, он звенел свежестью точно натянутая струна. Так и хотелось кинуться в эту осеннюю прохладу бабьего лета и полететь над землей как птица, вспенивая за собой воздух и разметывая по сторонам трясущиеся облака.
«Жалко, с собой воды не взял», — подумал он и жиденьким взглядом посмотрел на свои руки. Напряжения тела и духа он не в силах был скрыть. Руки дрожали как у пьяного.
— Покойник я, арестант, — прошептал он, и ужас охватил его.
Он вдруг понял, что поступок, на который он решился, был глуп. Но он не мог уже от него отказаться. Продолжая смотреть в окно, в растерянности обхватил руками голову. И от трясущихся рук и она задрожала. Весь смысл его жизни и все мечты, вера и идеалы — все разом куда-то исчезло; словно он и не жил до этого. Перед ним вдруг в воздухе мелькнули чьи-то очень красивые глаза, губы, брови, затем появилась улыбка. Кто это был, он так и не понял. Может, хорошенькая девушка-монашка, в которую он в детстве был влюблен, а может, соседская девушка с длинными волосами, которая его понимала и считала, что как только он повзрослеет, то обязательно сделает предложение. Но он, увы, так и не сделал никому предложения. Став монахом, он лишился этого желания навсегда. Вдруг опять появились в воздухе красивые женские глаза и томно улыбающиеся губы. А затем он увидел тонкую женскую шею и вздрагивающую грудь.
— Что это? — испуганно встрепенулся он и оторопело произнес: — Кто ты, бес или сатана? — А затем, три раза прошептав: — Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа! — перекрестился и тут же обрадовался, ибо, как он после ни щурил и ни напрягал глаза, в воздухе уже ничего не появлялось.
Оказывается, очень страшно находиться в храме, в котором нет икон.
Время дорого. Понимая это, Никита подошел к разложенному на полу свертку и как-то брезгливо и очень осторожно взял левой рукой наган, который когда-то вместе с гранатами принес ему староста. Он показался ему тяжелым.
— В белой ладони черный наган, — прошептал он. И вдруг вспомнил, как в Богоявленском патриаршем соборе, перед рукоположением его во священники, архиерей в алтаре спросил его:
«Убивал ли ты иногда в своей жизни какую-нибудь тварь?»
«Нет», — ответил он.
«А желание было убить?»
«Нет… — вновь ответил он ему и добавил: — Ваше Высокопреосвященство, я никогда в своей жизни не стрелял». И архиерей, крепко сжав его руку, растроганно произнес: «Глупый ты… Ведь не только пулей убить можно, но и словом».
Почему вспомнились эти слова ему именно сейчас, он не мог понять. Кровь притекла к руке, сжимающей наган. И скоро она из белой стала розовой. Глядя на нее, он сказал:
— Прав не только тот, у кого сила, но прав и тот, кто творит чудеса. Господь умел творить их, поэтому и воскрес. Аминь. — И, перекрестившись, добавил: — Пребудь во мне, а я в тебе!
И переложил наган из левой руки в правую. И, переложив, вдруг явственно ощутил рубчатую рукоять. Она была твердой и теплой. С печалью посмотрел он на дуло, обрекая себя при этом на что-то крайне неприятное ему. Была минута, а с ней и другая, когда ему захотелось разубедить себя в этом и смириться. Но он не стал этого делать. Все до этого мысли, а с ними молитвы разом похоронились в глубине его души. И после этого он понял, что не в силах отказать себе.
Недолго думая, он без всякой растерянности подошел к раскрытому окну и, двумя руками обхватив рукоять нагана, начал целиться в самую гущу немцев, столпившихся вокруг автомашин. Первый выстрел потряс и напугал, но второй уже был более привычен. Была пауза, когда он под шквалом автоматного и пистолетного огня никак не мог вставить очередную обойму. А когда вставил, то так вдруг обрадовался, что и стрелять стал более прицельно.
Немцы всполошились не на шутку. Они почему-то решили, что в храме засели партизаны. И как ни объяснял им и ни переубеждал их староста, что это стреляет всего лишь навсего глупый монах-мальчик, от которого, как только кончатся у него патроны, вреда уже никакого не будет, немцы все равно ему не верили. На этот счет у них было свое чутье. И оно подтвердилось: от шального Никитиного выстрела неожиданно взорвалась платформа со снарядами. Взрыв был настолько сильным, что он разрушил не только комендатуру, но и пять близлежащих домов. Староста струхнул после этого не на шутку. Ведь монаха Никиту он мог повесить в любое время.
— Что ж он делает, паразит, — прошептал он в страхе и, вспомнив, что у Никиты могут быть гранаты, которыми он его раньше снабдил, впервые за все время перекрестился.
«Не дай бог, немцы об этом узнают, — подумал он и побагровел от досады. — Вот и пойми, что у кого в голове. Раньше ведь он как ангел ходил, а тут вдруг воевать решил».
В воздухе пахло дымом и гарью. Торопливые хлопки автоматных выстрелов тут же захлебывались в резких звуках пулеметных очередей. Пули ударяли не только в стены, окружающие окно, но и в колокола, и те нервно и больно звенели.
— Один момент, — вдруг громко крикнул староста и, поднявшись во весь рост, пошагал к храму.
— Что ты делаешь? — удивленно крикнули ему немцы, перестав стрелять.
Староста, равнодушно махнув им рукой, взял лестницу и, приставив ее к стене, по длине она чуть-чуть не доставала окна, из которого стрелял Никита, стал медленно подниматься по ней, держа в руке гранату. Он был уверен, что Никита не попадет в него.
Передышка для Никиты была нужна как воздух. От длительной стрельбы рука задубела. Распрямив уставшую спину и положив на подоконник наган, он, взяв с пола гранату, приник к стене у окна. Он видел, как староста брал лестницу, как приставлял ее. Если бы он стрельнул в него сверху, то, наверное, не попал бы. Мало того, пришлось бы высовываться из окна, и тогда немцы не пощадили б его.
На душе у Никиты стало суетно.
— Я кого-то убил, — прошептал он, и голова его закружилась. — А это есть грех.
Неожиданно шепот перешел на хрип, и он стал захлебываться от слов, и во всем этом несвязном клокотании понятно было лишь слово «грех». Глаза провалились и запали в глазницы. Взгляд затуманился. Сердце колотилось словно напоследок — быстро и тихо. Во рту был металлический привкус. Его набухшие губы потрескались и полопались. Кровь сочилась с них, но он не видел ее. Он боязливо посмотрел в сторону окна. Ощелканные пулями деревянные створки дымились. И дым этот во всей заоконной массе, точно чей-то огромный черный рот, пожирал все вокруг.
Прислушиваясь к тишине и пугаясь ее, реагируя на каждый шорох и стук, он силился не только найти выход из создавшейся ситуации, но и оправдать свои действия. Одновременно он понимал силу совершенного греха, перед которым был бессилен. В смущенной покорности он посмотрел на зажатую в руке гранату и, сдерживая дыхание, произнес:
— Истинный Бог, поверь, что все это есть правда. Не вини в греховности, обвини лишь в том, что я и так слишком долго пожил…
Он представил, как, в крике, кинется на него сейчас староста и он не в силах будет что-либо с ним сделать. Страшась этих мыслей, он запрокинул голову и прислушался. Тихий, медленный стук за окном говорил о том, что староста поднимается все выше и выше. Еще сильнее запахло дымом, а затем в комнату влетел кисловатый запах махорки, наверное, готовясь к атаке на партизан, староста искурил много самокруток и папирос. Если Никита промедлит, то не миновать беды, и он, как заправский солдат, прикоснулся к запотевшему кольцу гранаты. На какой-то миг на лице его появилась улыбка, и шевелящимися губами он произнес:
— Еще бы часок продержаться, — хотя при этом прекрасно понимал, что будет сейчас убит.
Молчали автоматы и пулеметы. Молчали немецкие солдаты, с напряжением наблюдавшие за поднимавшимся с гранатой полицаем. Вдруг ветер еще более изменил направление и со всей силой подул на храм, неся за собой дым и гарь. Солдаты стали протирать глаза и кашлять. И в этот миг одному из старших немецких офицеров закралась в голову неприятная мысль: а что, если этот полицай, заранее не предупредив их о своем поступке, вместо того чтобы кинуть гранату, возьмет и юркнет в окно и, перейдя на сторону партизан, расскажет им все тайны, касающиеся расположения дивизии? Офицер был не в духе. Он прекрасно понимал, что операция по уничтожению партизан сорвалась. Мало того, в результате взрыва платформы с боеприпасами много человек погибло. И, наверное, поэтому он, недолго думая, поднял наган и выстрелил в старосту. Но благодаря дыму не убил.
— Надо же, гад, все-таки успел ранить, — не поняв, кто в него стрелял, прохрипел староста, падая на землю.
После передышки немцы открыли огонь по храму. Со стороны входа подкатили пушку и прямой наводкой с третьего выстрела выбили, а точнее, превратили в труху трехметровые двери. Но когда ворвались в храм, не на шутку удивились. Он был пуст как внизу, так и наверху. Мало того, в комнатке рядом с колокольней, одна стена которой рухнула, они нашли три неиспользованные гранаты, два пистолета и несколько черных обойм с патронами.
Они прекрасно знали, что по ним стреляли именно из этого окна, а вот кто стрелял, человек или дух, они так и не узнали. Это взбесило немцев не на шутку, они стали жечь храм, взрывать и расстреливать его одновременно из трех пушек. Однако полностью разрушить его так и не смогли. Храмы ведь раньше на Руси строили не только с любовью, но и с душою, или, как говорится, на века. Старосте-полицаю также не повезло. Обвинив его во всех грехах, немцы повесили его рядом с храмом у горящих развалин. Говорят, что он недолго висел, какие-то две старушки подпалили столб-перекладину и он, полицай, весь окровавленный, рухнул в адов огонь.
Зато партизаны спаслись. Под покровом темноты они довывели весь свой оставшийся отряд через болото в безопасное место. Местные жители так и не смогли их убедить в том, что их спас монах Никита. Партизаны не могли даже не то что поверить, но и представить, что тщедушный, болезненный на вид юноша, фанатически верящий в Бога и при этом никогда в своей жизни не бравший оружия в руки, вдруг решился дать бой целой команде немцев.
Судьба Никиты неизвестна. Куда он делся, до сих пор никто не знает. Одни говорят, что он чудом спасся, проникнув в подземный ход. Другие утверждают, что он сам себя подорвал гранатой. Наверное, нервы не выдержали, вот он и подорвал себя… При этом действовал сознательно, как все сознательно делал в своей жизни.
ВЕРА
Витьке холодно. Душа ноет, сердце ноет, тело ноет. Он пьет лекарство, которое дает ему жена, но боль все равно не проходит. Почти всю свою жизнь он верил главному Начальнику, а на днях он оказался дрянью.
— Вишь, как свалили друга твоего, — сказали Витьке слесаря.
— Он по состоянию здоровья ушел и в связи с уходом на пенсию… — слабым голоском попытался возразить им Витька.
И тогда вдруг токарь Прошка-богатырь подошел к нему и, достав из робы замусоленную газету, сунул Витьке под нос.
— Ему рожу надо было набить при всех, а его на пенсию. Вор он и гад. Книжечками-корочками прикрывался и рад был…
За спиной Прошки стоит почти весь цех. Станки остановили и собрались все вместе. Витька прекрасно знает, что произошло. Прошка, встав на табуретку, читает: «Известно, к чему приводит отсутствие коллегиальности и широкой гласности при решении кадровых вопросов: на руководящие посты выдвигались люди, оказывающиеся на поверку беспомощными, не знающими сути дела. Обстановка келейности в ряде случаев приводила к тому, что на работу выдвигались люди по признакам личной преданности…»
— Короче… — закричали слесаря на Прошку.
— Могу и короче… — огрызнулся тот и продолжил: — «За грубые нарушения норм партийной жизни, проявления вседозволенности, протекционизма, злоупотребление служебным положением, взяточничество, коррупцию товарищ главный Начальник привлечен к ответственности. На дачном участке он выстроил роскошную резиденцию с сауной, теплицей, фонтаном, бильярдной, кинозалом и бассейном. Все это было оборудовано роскошной мебелью и другими атрибутами княжеского быта. Для обслуживания личных помещений использовался наемный труд. Свои личные дворцы он и некоторые другие главные Начальники строили в то время, когда в районе рушился родильной дом и в аварийном состоянии находилось три детских дошкольных учреждения…»
Витька мастер. Рабочие его любят. Но вот внушил он себе, что главный Начальник чуть ли не бог. А оказалось, что все обман. И произошло все это так внезапно, что Прошка от растерянности не знает, куда и глаза деть. Хотелось не верить всему этому, но газета есть газета. С горечью держит он в руках ее, всю замусоленную, пропахшую потом. И то ли от пота, то ли от влажности в цеху кажется, что текст, в котором сообщалось, что его сосед-дачник, главный из главнейших Начальников, снят в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья, покрыт погребальным воском.
— По делу ему… Слышишь, Витька, по делу ему… — в восторге кричит Прошка.
Рабочие подошли к станкам и вновь завели их, и те загудели.
Витька стоял понурив голову. Работать не хотелось. И выходить из цеха на улицу тоже не хотелось.
«Как же так?.. — ни на кого не обращая внимания, думал он. — Как же так?..» И заводской полумрак вдруг оживал перед его глазами, и он, точно какой-то страшный великан, медленно наступал на него, то и дело останавливаясь и трясясь.
— Мы так просто дело не оставим. Мы попросим, чтобы с ним как следует разобрались… — продолжал кричать Прошка. Витька протер глаза. Оказывается, не полумрак на него наступал, а сам Прошка. — Его в зону надо, в лагеря… а его на пенсию…
Прошка был злой.
Почему человек так загадочен и сложен? Почему он так меняется, особенно если его назначают куда-нибудь повыше? Он знал ведь главного Начальника с детства. Они вместе играли в прятки, вместе ели хлеб, летом вместе засыпали на сеновале.
Его домик и дачу Начальника разделяла дорога. По ней мало кто ездил, потому что она была глухой, в начале шоссейного ответвления имела самодельный шлагбаум, который пропускал только автомашину Начальника. Ключ от замка на шлагбауме был и у Витьки, но он им мало пользовался. Привозить ему особо было нечего. А друзья у него почти все безлошадные, а пешему под шлагбаумом пройти чепуха. Витькин домик, как и дача Начальника, примыкает к лесу. Старинные ели и сосны растут густо, почти всегда они молчаливы, даже на ветру не шумят, стоят в какой-то таинственной неизъяснимой задумчивости и лишь изредка макушками чуть-чуть двигаются.
Издали они кажутся выточенными из камня. А когда летом солнце не в меру ярко слепит, ели и сосны блестят, точно металлические. Своей этой вековой крепостью они так прочны, что некоторые люди их побаиваются и особо не любят лесом ходить, а идут через просеку по асфальтированной и освещаемой по вечерам электрическими фонарями дорожке.
Ночью по лесу летают совы. В последнее время они перестали прятаться и уединяться, а смело подлетают к домам и жалобно, по-детски кричат и охают, надеясь, что кто-то обратит на них внимание. Но люди заняты делом, им не до сов. Да и надоели они им. Ведь каждый живущий здесь постоянно помнит их с детства. Так что кричат совы и щелкают клювом в свое удовольствие. Хотя, безусловно, каждый житель к ним относится с уважением. Сова птица добрая, предостерегающая и кричит не зря. Она все время подсказывает человеку, напоминает ему, что он всегда должен стремиться измениться к лучшему, иначе быстрое время может с ним расстаться.
Витькина жена говорит, что совы не кричат, а плачут. Умер кто-то на земле, вот они плачут.
Когда совы, вылетев из леса, садятся на забор, Витька подолгу рассматривает их из окна. Глаза их, точно раскаленные в печи две картошины, горят ярко-ярко. Перышки на брюшке то и дело вздрагивают. Кривым клювом то и дело чистят они крылья, изредка постукивая им по штакетинам. Иногда в туманной дымке кажутся они Витьке озябшими собачонками, неизвестно как взобравшимися на заборную перекладину. А порой, когда вечер синий-синий, а где-то вдали заманчиво-дразняще блестит неисчезающий закат, они напоминают сказочных маленьких гномиков, таинственно-важных и наивно-красивых.
Начальник не любит, если совы садятся на его опутанный колючей проволокой забор. Увидев их, он закрывает на даче все окна. Витькина жена Анюта часто кидает им хлеб. Но они его почему-то не едят.
— Несчастная птица, — вздыхает она. — День с ночью перепутала. А чтобы, видно, не скучать, к нам тянется…
— Чепуха все это, — вздыхает Витька. — Старожилы говорят, что на том месте, где сейчас дача Начальника, когда-то давным-давно кладбище было. Вот эта птица по интуиции к этому месту и тянется. Начальник, зная об этом, в страхе окна и закрывает. Предупреждение, сама ведь знаешь, очень сильное у этой птицы. Жить-то покудова живи, но и не забывай, что помрешь. Только жаль, они заранее смерть предсказать не могут. Все кричат, все ухают, даже в дождь порой все насквозь промокнут, а сами все равно кричат. Словно пытаются кому-то что-то доказать. Но трудно, очень трудно понять птиц.
Анюта своими тонкими руками раскрывает окно. Запах влажной травы пьянит, и разделенный до этого оконной рамой закат сливается, пружинисто распрямляется.
— Совки, не нагоняйте страху, — тихо произносит она.
Витька стоит рядом, облизываясь, пьет маленькими глотками квас, стараясь вслушаться в птичьи крики. Длинная Анютина коса в сумерках кажется обсохшей, а увеличенная спина широкой, мужицкой. Черные ветви с черными листьями лезут в окно, и закат их почти не освещает, потому что пустотный он, сам уже догорает.
Совы, разгоняя воздух, прыгают по забору, и неестественно большие когти их кажутся крашеными.
Вот дружно снялись они с Витькиного забора и полетели к Начальнику. И вслед за ними какая-то тяжесть в Витькиной душе сместилась, да и во дворе вновь, как и прежде, стало легко и свободно.
— Почему Начальник их никогда не отпугнет? — спросила Анюта. — Ведь я сама видела у него ружье…
— Беды боится, — ответил он. — Сама ведь говорила, что они все время предупреждают. Видишь, свет он уже гасит, сейчас пойдет окна закрывать. Почему он все время прячется от них?
Они стоят у окна какие-то маленькие, слившиеся друг с другом. Задумчивы и печальны их взоры. Витька переживает за Анюту. Восприимчива уж больно она. Все ее трогает. Всех ей жалко.
— Тс-с-с… — вдруг прошептала она. Кто-то невидимый, страшно топоча, прошел по улице. Закат погас. И темнота, раскачиваясь из стороны в сторону, в свое удовольствие располагалась по земле, чуть паря и дыша прохладой. Ветерок, прожужжав у окна, стал гонять листву. И сочувственный ее шорох-шелест, на какое-то время выхваченный из всех вечерних шумов, то исчезал, то появлялся в беспредельной темноте.
— Кто это мог быть? — тихо спросил Витька. — Случайно, не Начальник ли?.. Он, говорят, сейчас только ночью на улицу выходит и в дождь. Пасмурное и темное время — его самое любимое время.
Анюта сочувственно вздохнула.
— Нет, это дачный сторож прошел, — решила вдруг она. — Он всегда так ногами шумит. Потому что, боясь простудиться, в сапогах ходит, — взгляд ее ясен, лицо строго. И он поверил ей. — Невидимо как-то этот сторож ходит. Если бы грохот шагов не выдавал его, то никто бы так и не узнал, кто по улице прошел…
В комнате, где они стояли, долго не был включен свет. Они включили его лишь после того, как погасли окна в доме Начальника.
— Почему он на даче целый месяц один?.. — спросила Анюта.
— Откуда я знаю, — буркнул Витька. — Вот в субботу схожу к нему и все узнаю…
Окно открыто, и темнота, рассеченная светом, блестит у забора, точно засаленный воротник черного Витькиного пальто.
— У-у… у-у… — жалостливо стонут совы.
— Ой, кажется, это он, — вздрогнула вдруг Анюта.
Витька кинулся к окну. Начальник стоял в метре от окна и тяжело дышал. Времени на испуг не было. И Витька прошептал:
— Ну что же вы тут стоите. Заходите, — и, выпрыгнув из окна, взял его за руку и завел в свой дом.
Холодным, скользким был его взгляд. Попросив закрыть окно, он грузно присел за стол. Красные, одутловатые щеки, красный нос и мутные, бесцельно бегающие глаза не соответствовали прежнему его положению, точнее посту. В последнее время он стал очень тучен и неуклюж. Небрежно, по привычке, он сграбастал своими огромными белоснежными ручищами кружку чаю, которую поставила на стол Анюта, и стал жадно не пить, а лакать его.
Витька молча сидел рядом. На Начальнике потертая рубаха, на плечах черный плащ.
— Гуляйте, — что слышно вдруг произнес он и, глянув на руки свои, улыбнулся. Пальцы его заскользили по скатерти.
— Что-то сердце у меня ноет. Видно, быть дождю…
Он попытался улыбнуться. Но прежней бравой, самодовольной улыбки почему-то не получилось. Кислая мина скривила его лицо, лишь на время выказав его недоброе превосходство. Затем в каком-то смущении он доверчиво посмотрел на Витьку и спросил:
— Про меня в народе что слышно?..
— Говорят, что вы на пенсию ушли по состоянию здоровья, — успокоительно ответил он ему. — Ну, а больше ничего… Каждый ведь своим делом занят. А всех слушать времени не хватит.
— А ты все запоминай и слушай. Я тебе за это хорошо заплачу. Понял?..
— Понял, — кивнул ему Витька.
Начальник еще раз изучающе осмотрел его. «Случайно, не врет ли, не прикидывается?» Полный тревоги Витькин взгляд был как никогда откровенен. И Начальник поверил ему. Оставив недопитой кружку, он так же неожиданно ушел, как и пришел.
— Ушел… — прошептал Витька и дрожащей рукой провел по лицу, словно картину с глаз какую-то отметнул.
— Хоть бы слово путное сказал… — вздохнула Анюта. — А то посидел, посмотрел на нас, словно мы есть что-то ненужное, и ушел как дикарь… Страшновато с ним в комнате находиться… — спустив с головы на плечи платок, она подошла к двери и, закрыв ее на засов, села на диван. Минуты две просидела молча. В комнате тихо было и тепло.
— Нелегко ему, горе у него… — жалобно произнес Виктор.
Вдруг в коридоре что-то звякнуло.
— Слышишь, стучит… — привстав с дивана, вскрикнула Анюта и, кинувшись к Виктору, остановила его. — Не открывай дверь, не открывай… Это, наверное, он…
Она задрожала. Витька прижал ее к себе, успокоил. Как никогда разогрета была ее грудь, пылали щеки и сердце билось не в меру часто и тряско.
— Тише, тише… — шептал он ей.
А она, хватая его за руки, просила:
— Не открывай… А то, чего доброго, убьет нас. Ему ведь все равно… Он предсмертный. Ишь ты, как порожняком стучит, весь дом сотрясается. Небось и пальцы уже до крови поразбивал.
Витька не сдержался и крикнул:
— Эй, кто вы такой?..
Стук не уменьшился и не ослаб. Был прежним, постепенно нарастающим.
Витька дернулся. Анюта остановила его.
— Не ходи, он лютый, он предсмертный.
— Не верю… — огрызнулся тот. Ноздри его дрогнули. Налилось краской лицо, и от этого взгляд его стал менее вымученным.
— Витенька! Родненький мой!..
— Не лезь… — оттолкнул он ее. — Я не слабее его. Если кинется, я его перекрещу.
И, подойдя к двери, он освободил ее от засова и толкнул, чтобы она открылась. Она послушно скрипнула, вольно распахнулась, с уважением представив хозяина темноте.
— Товарищ Начальник, что с вами?.. — крикнул Витька, шагнув вперед. — Хватит волчиться, заходите… Я-то тут при чем… Заходите…
Привыкнув к темноте, Витька осмотрелся, но никого рядом не было.
— Товарищ Начальник, с вами Виктор говорит… — он прошел во двор, оглянулся, осмотрелся, но Начальника нигде не было.
Он зашел в дом весь какой-то побледневший и сказал жене:
— Наверное, показалось…
— Не может быть… — пролепетала та.
— Я что, тебе вру… Весь дом обошел, а его нигде нет… — и, вновь закрыв дверь, грубовато сам себе заявил: — Видать, нервы у нас обоих сдают. Вот и показалось… Думками о нем голова забилась, да так, что и не вздохнуть никак, — он нахмурился, подошел к питьевому баку и, зачерпнув в кружку воды, стал с жадностью пить ее и мочить ею лоб. Водная прохлада расслабила голову, и ему стало на некоторое время легче.
Жена сердобольно смотрела на него, но, продолжая находиться в страхе, побоялась двинуться с места. Подойдя к ней, он усадил ее за стол, и сам тоже присел. И после этого опять надолго установилась тишина. И хотя ошибочным был до этого стук, они почему-то дожидались его, и им даже казалось, что в их дом вот-вот должны постучать.
Так и заснули они в эту ночь сидя, что было впервые за всю их жизнь.
Начальник подошел к своим воротам. Торопливо открыл ключом высокую калитку и исчез во дворе. Там он потеплее укутался в плащ и медленно отправился в сад. Он шел в абсолютной темноте на ощупь. Гравий шуршал под его ногами, а если он наступал на камни, то они скрипели, ибо земля под ними давным-давно рассохлась, и они, потеряв свою форму, в которую раньше были заключены, болтались из стороны в сторону, как им только заблагорассудится.
Наткнувшись на дерево, он не ойкнул, а молча перетерпел боль и затем, ощупав ствол, тихо произнес:
— Наконец нашел… — и, прислонившись к нему, осмотрелся. Лишь дыхание выдавало его волнение да дрожащие пальцы. Он прижал лицо к чуть влажному стволу и стал остуживать распалившиеся щеки. Краем глаза сквозь сетку ветвей он видел, как прыгали по забору совы.
Его дача электрифицирована по последнему слову техники. И если бы он сейчас включил все освещение, то над участком ночь превратилась в день, и эти проклятые совы или тут же ослепли, или, в испуге друг с другом сталкиваясь в воздухе по-паучьи цепляясь за окружающие предметы, перелетели к самой ближайшей темноте.
Над головой шумела листва, и прохлада, разгоняемая ею, падала ему на голову. Губы и пальцы его через некоторое время похолодели. А он все равно старался плотнее прислониться к дереву. Таинственное царство ночи не пугало его. Наоборот, он всегда жаждал ее, молил, чтобы, она поскорее пришла. Днем, боясь быть обнаруженным, он сидел в даче. А ночью украдкой выходил и, точно сторож, медленно бродил. И если в это время со стороны посмотреть на него, то можно было подумать, что хозяин дачи беспокоился о своем богатстве и, боясь, что его обворуют, все ходил и ходил по одному и тому же кругу, делая ничего не значащие шаги.
Темнота спасала его. Мало того что он свободно мог ходить в ней, но и выражение лица было почти незаметным.
Он не любил звезды, если они светили очень ярко. А луну просто ненавидел, из-за нее ему приходилось прятаться и ночью. Но если вдруг над поселком неделями шел дождь-ливун, он благодарил бога за спасение.
Редко кто в такую непогоду пройдет по дачной улице. Так что смотреть на Начальника через заборные щели некому Только дождик начнется, как он тут же выносит из дома богатое деревянное кресло и, поудобнее усевшись в нем, раскрывает над головой зонт и сидит до тех пор, покуда не засыпает. Дождь мочит его боты и ватные брюки, он бережет себя и поэтому любит одеваться тепло. Он рад, что наконец-то свободно, без всякого страха может увидеть день, пусть пасмурный, но все же день. Дождевые струи хлещут его по рукам, пыхая сыростью и влагой. А ему все равно. Он, точно бездомный старик, сидит себе и сидит, закрываясь всего лишь одним зонтом. Ватные брюки промокли, и вот уже вода неприятно кусает и щиплет икры и бедра. Начинают чесаться пятки. Но он старается перетерпеть действие влаги. Он подолгу рассматривает очертания деревьев, забора и прочих предметов, находящихся в дачном дворе. Все это приятно воздействует на него, будоражит ум, и постепенно он вновь начинает чувствовать себя величайшим из людей.
И лицо его оживало, и теплел он душой. Часто в такие минуты слезы радости выкатывались из глаз.
— Небось думают, что убили, нет, не убить меня… — и, встав с кресла и переложив зонт с правой руки в левую, он начинал выразительно щелкать пальцами, что любил делать всегда раньше, когда занимал крупный пост. Острым взглядом выщупав перед собой какой-нибудь заметный предмет, он вдруг с прежней, привычной для него властностью шептал: — Если я приказал выполнять, значит, надо выполнять… — и тут же запнувшись и перехватив дыхание, чтобы не вылетело на белый свет еще кой-чего, он начинал тихо смеяться. — Небось думают сейчас, что я не смогу в таких условиях прожить. Нет, это вы уж себе соломку стелите, когда падать будете. А я пусть неожиданно грохнулся, но, как видите, жив. Потому что неуничтожим. Комкать вы меня всего искомкали. А душу достать так и не достали…
Порой в кратковременном счастье засмотревшись на какой-нибудь предмет, он от усталости ронял зонт и, промокнув до нитки, уходил на террасу и, не снимая ни брюк, ни бот, валился на диван и крепко засыпал. Вода текла с него ручьями, образуя вокруг дивана огромную лужу. И он, жадно втягивающий широкими ноздрями воздух, казался огромным чудищем, плывущим в неизвестно какие края.
В последнее время над поселком редки дожди. А те, что появляются, идут не больше часа. И часто он старается мысленно вызвать приятные ему дождевые ощущения, сохраняющие его превосходство над невидимыми людьми и убирающие хоть на короткий миг его грусть и подавленность. Но разве может фантазия создать ему в реальности то, чего бы он на самом деле пожелал? Конечно, нет. Да и память у него уже не та, она истерлась, напуганной какой-то стала. Так что темнота есть, была и будет его единственным удовольствием.
Наметанно-зорко втыкает он свой взгляд в темноту. Окрепший ветерок тревожит верхушки деревьев. И вот уже холод прыгает за воротом его плаща, холодит грудь.
— Нашел, нашел… — прохрипел он. И прежние скрытые мысли, от которых его уже тошнит, вновь возымели свою силу. Взволнованно задыхаясь, он вдруг кинулся к влажной земле и зло, с едва заметной хитринкой в глазах (кто-то включил свет на уличном столбе, и Начальник стал хотя и сумрачно, но виден) прохрипел: — Ишь как прирезали… Нет уж, хватит… Не желаю больше так… не желаю… — и, проткнув пальцами землю и не в силах больше загасить свой хрип, он зарыдал вдруг громко и открыто во всю свою мощь.
Он крутился по земле, словно бешеный, кусал зубами траву, бился по ней, до крови царапая о камни и кустарники руки и щеки. Он продолжал исступленно кричать и рыдать даже тогда, когда услышал у калитки громкий говор. Ему больше не хотелось скрывать себя от посторонних. Если они существуют, почему он не должен существовать. Горе раздирало его. На какой-то миг он воспринял темноту как какую-то подачку, данную ему свыше. И от этой мысли стал он еще злее, заметался еще более, с треском начал вырывать и ломать кусты и сухие коренья. То есть все то, что раньше тайно тяготило его, вдруг сейчас одним махом проявилось в нем и, проявившись, не человеком сделало его, а каким-то страшно диким зверем. Если бы посторонний в эту минуту зашел к нему во двор, он бы загрыз его, до того он был зол и человеконенавистен, хотя сам и представлял собой род людской.
В одной из садовых канав, окончательно обессилев, он в беспамятстве и заснул. А утром, когда зашел в гостиную комнату, то в зеркале не узнал себя: он был весь седой.
Витьке на работе тяжко. Затыркали его Начальником. День и ночь говорят про него. А один раз они начали упрашивать Витьку, чтобы он тайно провел их всех на дачу, не для любопытства, конечно, а для разбирательства.
— Имеем же мы право с ним по-мужски поговорить… — и, чтобы защитить себя, добавляли: — Почему он квартирами торговал? Почему он рабочим заработки срезал? А к верхам он присосался лишь для того, чтобы жить припеваючи… Императором себя возомнил, царем, думал, вечно в правлении быть. Лычек себе навешал, нацеплял, а сколько сволочей за это время расплодил. Ох и оборотень. Его надо под барабанный бой на лобное место в полдень вывесть и медленно вешать…
Резковаты были Витькины товарищи. Но иначе, видно, говорить они не могли. Некоторые из них по десять лет проработали на заводе, а квартир так и не получили. Многие жили в деревянных бараках без всяких удобств. Неприглядной была и заводская столовая, да и готовили в ней кое-как, потому что продуктов, а особенно мяса, всегда не хватало. Завод механический. Труд адский, и сил приходится тратить очень много: за фрезерным станком так порой ребята накрутятся, что еле домой приходят. И если бы не заводские душевые, то и помыться им негде, ибо не только в бараках, но и во многих блочных домах нет удобств, по старинке их строили, «тяп-ляп» Но, невзирая ни на что, план рабочие всегда дают. Терпят они страдания и все ждут, надеются, говорят, что скоро все должно улучшиться. Верили они и крупному Начальнику а он, оказывается, подвел их…
— Надо срочно раскулачивание повторное произвести… — возмущаются порой не на шутку они. — Потому что некоторые секретари вместо того, чтобы открыто, принародно жить, «засекретились» в своих дачах-дворцах с прислугой. Наш поселковый трухлявый детсад по сравнению с одной такой дачей кажется крошкой. На детсады и больницы у начальства вечно средств нету, а для «секретов» всегда пожалуйста… И продают они эти свои «секреты» на старости лет не за две тысячи рублей, а за сорок две… Откудова, скажите, они могли взять на такую сумму строительного материала. Конечно, не из своего кармана… Путем приписочек наворовали, а потом этим же наворованным еще и спекулируют. Нет, так дальше дело не пойдет! Наступать надо на таких проходимцев. Наступать безостановочно, денно и нощно. Высвечивать их всех надо работящему люду. И не на пенсию надо отсылать таких бюрократов, а за станки без пенсии. А вместо дворцовых дач в бараки их, то есть произвести обмен жилья с нами. Сами ведь раньше не один раз о равенстве говорили, так пусть слово теперь на деле держат. Рассекретить надо всех гадов, чтобы впредь они ни засекречивались… — вроде и храбро говорят все это Витькины товарищи, а у самих лица грустные, с болью в глазах. — Ох и наплодил Начальник червоточины, не понять только, зачем… Ведь если по существу рассудить, то они и двух рублей не стоят, барчуки новоявленные. Многие лета издевались, поедом ели кто ниже их рангом, грамотой и лозунгами прикрываясь. А теперь вдруг душечками ангельскими прикидываются, на пенсию толпами бегут. Да не просто так стараются уйти, а с почетом, засекреченность свою блюдут. Да если ты по-настоящему честный, то передай свою дачу-секретер детишкам или больнице, а сколько людей еще без жилья… Так нет же, что-то ни одного еще такого храбреца на свете не выискалось. Все только под себя гребут, а не от себя. Приучились секретничать, а рассекречиваться не хотят. Им бы только засекречиваться. А перестройка для них, что нож к горлу.
После таких речей рабочие почему-то расстраивались. Дело валилось из их рук. И они не сразу приходили в себя. Правда их будоражила, заостряла сознание, и они, если по-человечески сказать, переставали верить в улучшение своей жизни.
Пуще всех переживал Прошка, вздыхая, он курил одну папиросину за другой и растерзанно, беспомощно произносил:
— Ох и вляпались мы, товарищи… Ох и вляпались…
А во что вляпались, никто толком так и не понимал. Каждый думал по-своему, в силу развитости и резвости ума. Зато все успокаивали токаря-богатыря.
— Да будет тебе, Прошка… Может, даст бог, и все наладится…
Токарь сочувствующе смотрел на товарищей. А Витька не знал, куда свой взгляд приткнуть. Обидно ему было и за себя, и за Начальника. Ему хотелось убежать с завода и надолго куда-нибудь спрятаться, чтобы никого, абсолютно никого не видеть и в одиночестве все заново взвесить и оценить. Да, он помогал Начальнику строить дачу. Но откуда он мог знать, что она построена на ворованные средства. Он сам, можно сказать в одиночку, соорудил вокруг нее высоченный и необыкновенный по красоте забор… Выходит, и он причастен. Он старался избегать встреч с ребятами. На обеденный перерыв не ходил. И в раздевалке появлялся лишь тогда, когда все уже расходились. А совсем недавно, буквально неделю назад, он упросил мастера перевести его в другую смену. Но Прошка настиг его и здесь. Один раз он пришел в цех и прокричал так, чтобы слышали все:
— Витька, а ну скидывай портки…
Витька вздрогнул:
— Ты что, в своем уме?
— Я-то в своем… — хмыкнул тот. — А тебя проучить надо, чтобы ты не водился с холуями.
Больше он ничего не сказал. Очень близко подошел к Витьке и посмотрел вдруг на него с такой горечью, что тот не знал, куда и деться. Витька, не выдержав его взгляд, опустил глаза. Лучше бы он избил его, чем вот так вот смотреть. Прошка ушел и никогда больше не приходил.
Умерла Вера. А точнее, Вера Алексеевна, учительница, которая учила Виктора и Начальника. Всю жизнь она была маленькая, сухонькая, едва заметная. Но сострадательней ее не было никого на свете. Она всегда могла успокоить человека, приласкать. И где она столько доброты брала? Как сохранила ее? Ведь столько невзгод перенесла — голод, блокаду.
Жила она в деревянном домике скромно и простенько. Детей у нее не было. Муж погиб на войне, а за другого она выходить не стала. Да и некогда ей было выходить, все детишек учила. Жители поселка с любовью называли ее не Верой Алексеевной, а Верой.
Витька как-то виновато зашел к ней накануне смерти и, тихо поздоровавшись, сказал:
— Начальник наш мучается…
— Знаю… — тихо прошептала она и, привстав из-за стола и оперевшись на палочку, как-то беззаботно усмехнулась: — Выходит, я ничего теперь и не стою, раз такого выучила…
От нее пахло дешевыми духами. Как всегда, она была в белой кофточке, чистой и накрахмаленной.
— Высох весь он, Вера Алексеевна… День и ночь мечется. Потому что выхода не может найти.
Учительница в какой-то растерянности посмотрела на Витьку.
— Не надо гордиться… — торопливо прошептала она. — Пусть выйдет к народу и во всем признается.
— Его не простит народ.
— А ты передай ему, что надо выйти… Скажи, что я на его месте обязательно бы вышла. Прощение попросила бы. Ну, а если бы народ не простил, с ума бы сходить не стала, а молча бы приняла наказание как заслуженное… — и, сказав это, учительница вздрогнула, волнующим взглядом посмотрела Виктору в глаза и попросила: — Только сегодня вечером это ему все скажи. Он должен послушаться. Ведь не зря же он был моим учеником. А еще передай, что неисправимых нет. Передай ему, что я буду ждать его. Я поддержу его. Ведь он был мой ученик, — голос Веры Алексеевны был как никогда решителен и смел. Витьке показалось, что многие морщинки расправились на ее лице и она помолодела. Его поразило также и сочувствие учительницы.
— Я все, все ему о вас скажу… — прошептал приободренный ее поведением Виктор. Эта встреча и беседа с Верой Алексеевной придали ему сил.
— Спасибо вам, что не погубили… — добавил он ей. — Хорошее сердце у вас. Я все расскажу ему, для него это будет такая новость.
Она крепко пожала его руку.
— Если и с тобой что случится, подумай обо мне. Ты ведь тоже мой ученик… Я всегда думала, что из тебя получится мыслитель… Но ты порешил свою судьбу иначе.
— Не всех счастье балует, а иногда оно и вообще не приходит… — усмехнулся он и, чтобы избежать рассуждений-самообвинений, торопливо произнес: — До завтра, Вера Алексеевна.
— До завтра… — сказала она и добавила: — Так и скажи, что я жду его.
На белоснежной кофточке ярко блеснула брошка, серебряный березовый лепесток. И этот необычный блеск он связал с добрым предзнаменованием. Он утешливо улыбнулся учительнице. И ушел от нее крайне возбужденный и необычайно сильный. «Лучше ее нет никого на свете! Она открытая, она смотрит правде в глаза. И она не душит, как некоторые, она жалеет».
Он шел по улице как никогда счастливый и гордый. Вера Алексеевна для Витьки не только учительница, но и друг, лучше которого в мире нет. Он решил завтра рано утром перед работой забежать к Начальнику и передать приглашение от Веры Алексеевны. Но он не смог этого сделать. В полночь в окно его дома постучал сторож и сообщил, что умерла учительница. Витька быстро собрался. Вместе со сторожем они сходили на дом к главврачу и упросили ее милицию не вызывать, ибо та по закону увезет сразу же, так как смерть неожиданная, увезет ее в морг. А зачем вскрывать и мучить Веру Алексеевну, если по возрасту ей смерть была положена. Главврачиха согласилась. И утром, осмотрев умершую, тут же выдала справку о смерти.
Из старых учеников один Виктор пришел на похороны. Начальник отказался, сославшись на недомогание. Но пообещал, как только будет первый дождь, он попросит Витьку, чтобы тот сводил его на могилу.
— Она же любила вас… — вспыхнул Витька.
— Знаю… — буркнул Начальник и впервые за все время разоткровенничался: — Ужасно милая и добрая старушенция была. И, как все наивные люди, любила городить всякие глупости. Ну, а еще она почему-то больше походила не на постоянную жительницу, а на дачницу… — и, как положено в таких случаях, он ошеломленно вздохнул и больше о ней ничего не сказал.
Витьку удивила мертвенность Начальникова лица. Не лицо, а маска, без всяких душевных переживаний, эмоций и страстей. Лишь одно напряжение да морщины, страшно безобразные и углубляющиеся, как показалось Витьке, не по дням, а по часам.
«И зачем он истязает так себя. Надо есть. А он одну минералку пьет…»
Витька очень жалел, что раньше не зашел к учительнице. После беседы с ней Начальник мог измениться, перестать быть странным и замкнутым.
«А может, он просто что-то выжидает?..» — решил совсем недавно Виктор, и Начальникова странность на некоторое время показалась ему нормой.
Ключ от калитки у Виктора был, и он мог заходить к Начальнику на дачу без предупреждения. Трехметровый строгий забор с колючей проволокой поверху был построен раньше дачи, Витька считался создателем его. Он отполировал и проолифил все доски. И к металлическим рейкам-планкам прикреплял их не гвоздями, а шурупами. Невозможно было вырвать заборные доски, Витька проверял свой крепеж, он дергал их на себя, бил молотом, вдвоем со сторожем тянул тросом, а доски-«сороковки» стояли себе за милую душу и даже с места не двигались, и все благодаря винтовому крепежу. Конечно, если взять топор и начать колоть «сороковки», то они вмиг рассыпятся, но оторвать их или отодрать, как обычно отдирается, словно семечка щелкается, штакетник с гвоздями, не так то просто, усилия для этого нужны, и усилия немалые. Он выкрасил забор зеленой краской, которая приятно блестела и лоснилась на солнце. Въездные ворота висели на могучих петлях и закрывались изнутри тремя засовами и двумя крюками.
Забор защищал Начальника от окружающего мира. А в последнее время, когда он стал очень нервным, он спасал его. Идет ли человек по дачной дороге пехом, сидит ли он или стоит в кузове грузовика, ни тот, ни другой абсолютно ничего не увидят, что творится в дачном дворе; поверх забора еще метра два вверх торчат густые и плотно прижавшиеся друг к другу макушки кленов. Так что ограда-охрана у Начальника, можно сказать, необыкновенная. Однако дачный двор можно рассмотреть через рассохшиеся щелки в заборе. Начальник страшно боится этих щелок. Ведь наблюдатель длительное время может оставаться незамеченным. Да и в щелочке разве заметишь издали сторонний глаз, жадно обсасывающий двор. Этот глаз может высмотреть даже то, чего сам не высмотришь. Очень противно становится на душе, когда ты узнаешь вдруг, что за тобой длительное время тайно наблюдали. Это пошло. А во-вторых, перед этим неизвестно откуда, но смотрящим на тебя глазом ты кажешься голым и страшно беззащитным. И, наверное, поэтому начальник раз в месяц делал обход забора изнутри и залеплял краской видимые щелочки и трещинки в досках. А в прошлом году почти перед самым его уходом на пенсию местные трактористы с наружной стороны забора во всю его длину прокопали полутораметровой глубины и трехметровой ширины оградительный ров и, чтобы кой-кому неповадно было рассматривать двор в щелки, наполнили его водой. Однако все равно кто-то продолжал тайно следить за Начальником через заборные трещинки. Не раз он слышал, как сопели, смеялись и хихикали некоторые доски. А один раз так вдруг загоготали три доски, что Начальник, не выдержав, снял со стены шестизарядный винчестер и, выйдя на крыльцо, огненными выстрелами отпугнул врага.
Но на второй день гогот не прекратился. Точно так же гоготали и на третий, и на четвертый день… И выстрелы врага уже не пугали. И тогда Начальник жестью обил изнутри эти злосчастные три доски. И после этого гогот никогда не появлялся.
Витька пришел к Начальнику после похорон Веры Алексеевны. Он сидел на терраске, укутанный в плащ. Увидев Витьку, вздрогнул.
— Калитку как следует закрыл?.. — торопливо спросил он.
— Как всегда… — буркнул Витька. — Кроме замка, прижал засовом, — и вздохнул. — Кого здесь бояться, наша улица, сами ведь знаете, глухая, по ней только сторож ходит.
Начальник, приподнявшись с кресла, поздоровался с Витькой и как-то безучастно посмотрел в небо. Взгляд холодный, неподвижный. Что он выражал, Витька так и не понял.
— Хлебца принес?.. — точно проснувшись, спросил он.
— Как велели… — успокоенно ответил Витька. — Пять буханок, заодно сахар и соль… Всего вышло на десять рэ… Чая не было, завтра привезут, я и возьму. А принести смогу лишь в субботу… В пятницу я на целые сутки ухожу, конец месяца, план надо давать…
Начальник настороженно осмотрел Виктора. Тот потупился. Он заметил, что Начальник начал опускаться, больше внешне, конечно. Руки грязные, на лице щетина трехдневной давности. Лицо опухшее, все в царапинах. А главное, волос на голове почему-то весь седой.
— Про меня что говорят? — вдруг тихо спросил он.
Витька вздохнул. Нет, он никогда не скажет Начальнику того, чего тот добивается. И поэтому он без всяких затруднений ответил:
— Многие сочувствуют, и абсолютно все жалеют… Хорошим человеком вас называют. Говорят, что такие люди, как вы, один раз в сто лет появляются. Короче, без ума вам все признательны… И немножко расстроены, ибо не знают, кто теперь будет…
— Врешь ты все, врешь… — взорвался Начальник, и пальцы его сжались в кулаки. — Если бы народ так говорил, учительница не позвала бы к себе… Они небось проклинают меня, смерти моей желают. Ждут не дождутся, когда я преставлюсь.
Сгорбившись, Начальник закашлял, затем, успокоившись, протер свои холодные глаза. Желтизна лба и рыхловатость лица усиливали какую-то его внутреннюю болезненность. А может, это и не болезнь была, а обида. А вот на что обида, Витька не мог догадаться.
— Я вам как человеку все с открытостью говорю, а вы начинаете куролесить… — с укоризной произнес ему Виктор.
— Нет, нет, меня не сломать… — в каком-то злорадстве произнес Начальник и, свесивши голову вниз, как-то странно хмыкнул и неизвестно для чего стал тереть руками колени. Затем, посмотрев на Витьку, он шутовски улыбнулся. — Я совсем из другого теста, чем вы… — голова у него затряслась.
Витька стоял рядом и молча сочувствовал ему. Известнейший до этого человек, имени которого многие поклонялись, за какой-то месяц стал вдруг совсем иным, превратившись бог знает во что.
Скучно и грустно было находиться рядом с ним Витьке. И постепенно он понимал, что пути их рано или поздно должны разойтись.
Иногда, выйдя из Начальниковой дачи на улицу, Витька начинал мучиться. «Ну почему, почему я боюсь сказать ему все открыто. Наверное, он прекрасно знает, что и меня он, как и всех, обманывал. Однако виду не показывает, боится чистосердечных признаний и лжет. Все время несет какой-то бред. Этим бредом он прикрывается, как вторым забором. Человек, живущий за ширмами. Прежде чем докопаться до его души, сколько преград надо сломать. А может, его мучает позор. Он не знает, как снять его с себя».
Долго, очень долго ходит по узенькой дачной дорожке в одиночестве Виктор и все думает и думает. Но, так ни до чего и не додумавшись, в каком-то ошеломлении он приходил домой и, перекинувшись с Анютой всего несколькими словами, запирался в своей комнате и вновь задумывался.
Простодушный он был человек, а простодушному невозможно понять великих грешников.
Лето, как назло, в этот год было сухое и жаркое. Ясные длинные дни тревожили. Свет мучил Начальника и угнетал. В один из дней он уж было собрался пожить в погребе, но передумал, ибо все же надеялся, что после засухи обязательно должны полить дожди.
За последнее время он похудел и осунулся. Витька не мог смотреть на Начальника вечерами; издали заприметив его настороженно прогуливающимся по двору, в испуге вздрагивал: в сумерках тот походил на старуху.
Мрачен и тревожен вид его. Как попало болтаются по ветру клочкастые волосы. Большая нижняя губа не в меру отвисла, и огромный язык то и дело облизывает ее. Руки обсыпаны бородавками, он чешет их, но зуд все равно не уменьшается. Подражая собакам, он долго нюхает воздух, стараясь ощутить в нем запах влаги, а вслед за ней приближение дождя. Изможденные глаза его воспалены, они очень устали от темноты. Больше года длится его дачное одиночество. Его проводов на пенсию жена не выдержала, две недели пролежала в больнице и умерла. Сын обвинил отца в ее смерти и отрекся от него, частое общение с ним могло повредить его карьере. И поэтому он один раз даже и по радио осудил отца, признал, что тот не в меру много злоупотреблял, и в заключение вдруг вскрыл такие грехи, которые верхам и не снились. За новую информацию об отце его наградили и успокоили, пообещав не трогать. Если раньше он приезжал почти каждую неделю на дачу, то теперь даже избегал поездок. Он даже не знал, жив ли еще его отец. Отец был ему не интересен. Мысленно он похоронил его. А товарищам, если те вдруг спрашивали его об отце, он с пренебрежительностью произносил:
— Мне страшно представить, как я мог терпеть в доме такого варвара. Чтобы преподать мне настоящее воспитание, он всеми силами пытался развратить меня. Но я, как видите, не поддался. Поэтому я перед обществом чист, а он изгнан…
Товарищи слушали его и не верили своим ушам. «Это надо же, как здорово сын отца осуждает. Не стыдится грязью поливать. Сразу видно, истинный патриот. Правде смотрит в глаза, не то что некоторые».
Сын в открытую поливал отца. Знал ли об этом его отец, трудно сказать. Перед выходом на пенсию он просил сына приехать на дачу. Но тот как в воду канул. Мало того, изменил на квартире номер телефона и все последнее время почему-то жил у товарища, а жену с детьми отправил к теще.
Сын хотя и прятался от отца, но знал, что в первой же, пусть даже самой случайной встрече с ним он не избежит скандала. Его пугало и преследовало то, что отец знал место работы.
«Если он приедет на работу и в аффекте зайдет к мой кабинет, то опять пойдут слухи и обо мне, и о нем. А народ их так разовьет, что некуда и глаза будет приткнуть. Будут смотреть на тебя как на подсудимого, и тыкать «прежним» отца, и радоваться, потому что мне нечего сказать им против. Нет, я не трус. Просто я не хочу его видеть. Надо постараться его забыть. С отцом все кончено. Он должен теперь спокойненько пребывать в доме. А на его гнев и жажду отпора всем наплевать. Он никто. Ему лучше куда-нибудь подальше запрятаться и не выставляться наружу. В верхах его хоть изредка, но вспоминают недобрым словом, а ярые реформаторы с заносчивой важностью в открытую называют его случайной личностью и считают, что он сильно всех их надул. Он пострадал, и теперь он должен пожизненно ощущать на себе последствия. Если он открыто покается, тогда ему, возможно, кое-что и простят. Но кто поверит его раскаяниям. Все подумают, что он корчит из себя дурака. Не так просто зачеркнуть прежнюю жизнь и пренебречь всеми теми идеалами, которым ты верил и которые ты свято чтил. Поверженный чаще всего затаивается, в крайнем случае перевоплощается и почти никогда не исправляется.
Скорее бы перестал он меня мучить. Мало того что он напялил позор на себя, но он может в любой момент опозорить и меня, и тогда вся моя дальнейшая жизнь будет погубленной…»
Сын был очень самолюбив и горд. Если раньше он отца уважал, то теперь считал его ничтожеством. Порой не сдерживая себя, он часто заходил в находящийся недалеко от работы храм и, подойдя к первой попавшейся иконе, настойчиво просил непонятного ему бога:
— Скорее, скорее закончи его жизнь. Иначе я с ума сойду Нет мне покоя… Вдруг он придет на работу… Ох, бедный отец, скорее бы закончил высший разум твою жизнь…
Произнеся все это, он быстро выбегал из храма и как чумной бежал по парку, ведущему к трем вокзалам. Пребывание у иконы не освежало его и не ограждало от опасности. А появившееся был о спокойствие тут же исчезало. И он вновь, как и прежде, начинал мучиться, горячиться и раздражаться на окружающих, точно ребенок. Он все никак не мог одержать верха над мыслями об отце. Они преследовали его.
«Надо срочно съездить к Виктору… — вдруг в один из дней решил он. — Пусть он уговорит отца не приезжать ко мне. Только он, как бывшей личный его рабочий, может открыто объяснить ему ту опасность, которая может возникнуть в результате его приезда ко мне. Ни в коем случае нельзя засвечиваться, сейчас не то время. Он не должен погубить меня. Его общение со мной ни ему, ни мне пользы не даст. Он стал чужим и мне, и народу, и всем родным. Все кончено. Надо сказать Витьке, чтобы он не выпускал его. Держал на привязи и разрешал выход только под контролем. Пусть пребывает он только в покое. Тревога ему противопоказана. Разволновавшись, он может сделать неожиданное выступление. Мало того, пусть Витька лишит его всякой цели. В крайнем случае, он может заявить ему об этом открыто, мол, так и так, вам, дорогой товарищ Начальник, надо опорожнить голову от всех тех дел и событий, предшествовавших вашему уходу на пенсию, и стать более приземленным, то есть надо пить-есть и ни о чем не думать… Отключиться ему надо, да так, чтобы вообще перестать соображать. Все равно ведь жизнь прожита. Зачем ему память… Память ему не нужна. Он должен ее уничтожить. Если в беспамятстве он будет жить, все у него наладится. Все это надо срочно Витьке объяснить. Он обязан переубедить отца. Ни в коем случае не давать ему воспламениться. Кроме Витькиных действий, надо всюду объявить, что он безнадежен… Это должно вызвать жалость, и тогда скандала не возникнет. Пусть Витька убеждает отца день и ночь в том, что он безнадежно болен. Это подействует, отец сейчас как никогда мнителен… — и, додумавшись до всего этого, сын, потерев руки, засмеялся. — Все так легко, просто и естественно, был отец и нет его. И как я раньше до этого не додумался. Хорошо было бы его вообще в даче на веки вечные запереть, а еду и питье через люк в крыше подавать. Короче, под колпак его и на задвижку. Держать только под колпаком и никуда не выпускать. Таким путем отвязавшись от него, я как следует могу заняться самим собой…»
В ближайший выходной он приехал к Виктору. Тот, словно дожидаясь его, сидел на скамеечке возле дома. Не успел он выйти из «Волги», как тот, узнав его издали, подбежал к машине.
— К отцу приехали?.. Буквально пять минут назад он спрашивал о вас.
— Да нет… — пробурчал тот как-то нехотя и из-за полноты своей кое-как выбрался из машины. — Отец повременит. — и добавил: — А вот ты мне нужен.
Витька оторопело смотрел на Начальникова сына. Горячечный он был весь какой-то, раскрасневшийся. Вроде и молодой, а руки уже дрожат и взгляд почему-то уж чересчур боязливый. С облегчением снял он с потной головы шляпу и, деловито расставив ноги, закурил. Первой затяжкой точно спихнув какую-то усталость, он с облегчением вздохнул и остановил свой взгляд на зеленом заборе, за которым находился сейчас его отец. Этот необычно упругий взгляд его все проглядывал, все просматривал. Но что можно увидать за трехметровой глухой стеной?
Да и отец в это время, как обычно, по двору не ходит, а, закрыв ставни на всех окнах и заперевшись на три засова, при электрическом освещении сидит в спальне, в черном плаще, и все думает, думает. Иногда словно очнувшись, он вздрагивает и, выключив свет, подходит к окну и, точно притаившийся зверь, смотрит на солнечный свет, проникающий сквозь щелочки ставен. Он видит, как колеблются два березовых листика, затем в поле зрения попадает зеленая заборная доска, колючая, ржавая проволока и две молоденькие пчелки на ней, усиленно двигающие хоботками по своим передним лапкам; ближе к себе он видит измятую траву, воткнутую в землю штыковую лопату и беспомощно лежащий рядом с ней раскрытый зонт, от времени весь выцветший, по нему деловито хороводятся муравьи, видимо, его округлость напоминает им пуп земли. Ветер гоняет по двору старую районную газету, в которой напечатано его самое первое выступление. Спиной повернувшись к окну, он как-то понуро опускает голову и стискивает ее ладонями. Губы его начинают медленно шевелиться. Глаз нет. Их заменяют черные глазницы. Из огромной вазы, переполненной вишнями, которые купил ему на рынке Витька, упали на серую скатерть две спаянные хвостиками пузатенькие вишенки. Они чернеют на столе, они манят.
Когда с лица Начальника исчезают глаза, он становится очень страшным. Таким страшным его, кроме Витьки, никто и не видел. Кажется, что вместо живой головы у него череп. Чтобы не смотреть на Начальника в такие минуты, Витька закрывает глаза или, включив свет, отворачивает свой взгляд в сторону. Заметив его растерянность, Начальник как-то жалостливо произносит:
— Я, наверное, напугал тебя, ноя не виноват в этом, это темнота с сумерками. Когда они густеют, то я в них как будто погребенным становлюсь. Один раз я из темноты на себя в зеркало посмотрел и чуть не упал… Не только кожей пропотел, но и всеми внутренностями. Никогда так страшно мне не было…
И после этих его слов немного успокаивается Витька, и черные ямки-провалы бесчувственных Начальниковых глазниц кажутся ему черными очками. Только зачем он их ночью надевает. Ведь темноту темнее не сделаешь. Наверное, он напяливает их по привычке. Раньше, занимая крупный пост, он, выезжая на люди, всегда любил их надевать, тогда они придавали его лицу некую загадочность. Черные очки охлаждали взгляд, притупляли окружающие несправедливости, жалобщики и просители сквозь их стекла казались ему не злыми, а какими-то наивными. Он, внимательно выслушивая их, обещал помочь им, хотя на самом деле ничем не помогал. Мир в черных очках был покорным. И ему нравилось это окружающее его смирение, он наслаждался им, радовался, смеялся, чувствуя себя небывалым по значению деятелем. В очках земля казалась музейной. По какой-то непонятной ему инерции она двигалась и даже развивалась. Хотя его существование ей абсолютно было не нужно. И зачем он только появился на свет со своими курчавыми, белопенными волосами? Для чего? Чтобы ходить в черных очках. Неужели ради этого ему надо было появиться? И ради этого занять крупный пост? Что изменилось с его появлением на земле? Абсолютно ничего. Наоборот, с его появлением на земле многое стало ухудшаться. Черные очки развратили его, всех и вся уравняли, все сделали однообразным и однобоким. Окружающий мир был для него не миром, а каким-то молчаливым, бледным призраком. Темные очки. Такие блестящие, такие милые. А может — нет у него никаких очков, а есть лишь угрожающая темнота глазниц, предвещающая печаль, разрушения и трагедии.
Вишенки на столе кажутся покрытыми шерсткой. Они еле заметны. Начальник, чему-то обрадовавшись, улыбнулся. В темноте руки его кажутся фиолетовыми. В растерянности он останавливает на них свой взгляд. Ему хочется ни о чем не думать. Дачная печаль и тишина его радуют. Одиночество подкрепляет и питает его.
За забором громко проурчала машина. Он вздрогнул. Кинулся к окну. И, выискивая в нем световую щелочку, воровато стал осматривать двор. Калитка не дернулась, не пискнула и не скрипнула. «Значит, это опять не ко мне приехали… — решил он. — Или к Виктору, или просто какой-нибудь дачник… Скорее пришел бы он и все рассказал…»
И Начальник, перестав осматривать двор, сел в угол на корточки и, уткнув голову в стену, решил в такой позе заснуть.
— Разрешите, я крикну, и он выйдет… — обрадовавшись приезду Начальникова сына, сказал Виктор. — Он столько месяцев вас не видел… Он вас любит, он завешал вашими детскими фотками стену в спальне. Если позволите, я сбегаю за ним. А вы на машине к калитке подъедете. Он незаметненько сядет в нее, она у вас зашторенная, так что его никто и не увидит. Вы покатаете его по бетонке, он давно ведь не ездил на машине, забыл небось уже, как дует в автомобильную форточку придорожный ветерок. Если бы вы знали, как приятно ему вас будет увидеть. Одно время он вам письма писал, а потом видит что ответа нет, перестал… А теперь вдруг в вашем лице такое счастье ему привалило. Вы даже не представляете, как важен ваш приезд… Короче, я сейчас… — и Витька уж было кинулся к зеленому забору, но Начальников сын резким окриком остановил его и, взяв за рукав, подвел к машине.
— Ты представляешь, что будет, если мы с ним встретимся… — каким-то наивно-детским и беспомощным голоском произнес тот. — Вновь всколыхнется все прежнее, он спросит о матери, а что я могу сказать, если она прокляла его. Да и мне самому недолго здесь можно находиться, не дай бог, усекут, тогда опять на работе разговоров не оберешься.
— Нет, нет, он все равно будет рад вам… — настаивал на своем Виктор, горя желанием вывести к сыну отца. — Если бы вы знали, как он изгоревался. Сам с собой ужиться не может. Все тужит, тужит. А вы расшевелите его.
Но как ни уговаривал и ни упрашивал Витька, Начальников сын не отозвался и встречаться с отцом категорически отказался.
— Потом, потом… — бормотал он, то надевая, то снимая шляпу. — Если ты не возражаешь, я в одну из ближайших ночей приеду к тебе, и ты отведешь меня к нему… Но только не сейчас.
Дик и пуглив взгляд сына. Он то и дело оглядывался, стараясь что-то высмотреть для себя немаловажное. Глаза его воспалились. Он курил одну сигарету за другой. Высокий его, почти весь облысевший лоб покрылся потом.
Витька пригласил его в дом. Но он, как-то замявшись, отказался, сославшись на недостаток времени. Немного отдышавшись и придя в себя, он, прищурившись, посмотрел на Витьку и разбитно, что не характерно было раньше для него, сказал:
— Если он спросит обо мне, ты скажи, что я в загранке. Понял…
Витька, точно пленник, кивнул.
— По твоему настрою я чувствую, что он еще не остыл… Если же он вдруг вздумает собраться ко мне на работу, ты отговори. И прошу тебя ни в коем случае не выпускать его на улицу. Сам понимаешь, у него в любой момент появится заскок явиться ко мне. Поэтому я советую тебе на калитку повесить снаружи замок.
— Так вы его совсем не желаете видеть? — пролепетал Виктор.
И тогда Начальников сын, кивнув ему, с хрипотцой пробурчал:
— Да, да, пока не хочу… Это противоречит всем моим планам.
Витька неприятно поежился, это холодная и какая-то уж очень влажная дрожь пробежала по всему его телу. Он чувствовал, что нервы у него сдают Но мужественно перетерпев охватившую его горечь-обиду, он предупредил появление в глазах слез Сердце защемило. Кровь ударила в голову Чтобы хоть как-то притупить волнение; он глотнул ртом воздух и как можно беспечнее перевел взгляд на околозаборный ров, в котором серебрилась на солнце вода.
Начальников сын с пеной у рта продолжал ему что-то разъяснять, объяснять и доказывать. Его коричневые желуди-глаза все также продолжали буравить и ощупывать работягу, словно пытались найти для себя хоть какое-то оправдание.
— Да, да, — бормотал уклончиво Витька. — Я все сделаю, как вы велите, — и с грустью посмотрев на него, в землю ронял свой взгляд. Он проигрывал это свое согласие-бормотание по нескольку раз, и Начальников сын, почему-то веря ему, продолжал безостановочно говорить.
«Видно, им все можно… — подумал Виктор. — Сегодня он ему отец, а завтра никто, — и с болью в душе возмутился: — Да как же это так, быть рядом и к отцу не зайти. Ко мне, чужому человеку, зашел, а к отцу нет. Какой ум им правит, какая совесть? Отец его народил на свет, а он просит, чтобы я не напоминал ему о нем. Даже сучьим после этого его не назовешь. Выходит, чумовым он вылупился. Нет ни креста в нем, ни души, одно имя. Раньше таких убивали, а теперь вот растят. Зачем он на земле такой?.. Варвар пустырный…»
И приободрившись и воспрянув духом, Витька с какой-то насмешливой жалостью свысока посмотрел на него.
Тот, закончив говорить, досадливо кашлянул раз-другой и, натянув шляпу на самые брови, скользнул глазами по родному забору и сказал:
— Вот увидишь, правда будет на нашей стороне… — и, попрощавшись с Витькой, добавил: — Не забывай выполнять все то, о чем я тебе наказывал… — и сев в машину, с такой вдруг лихостью рванул с места, что Витька чуть было не грохнулся в ров с водой.
Причина столь неожиданной торопливости Начальникова сына вскоре стала ясна. Несколько человек, абсолютно незнакомых Витьке, вышли из соседней дачи. Они были новенькими в поселке. И никого здесь не знали. Зря Начальников сын испугался их.
«Он боится людей похлеще, чем отец… — подумал Витька. — Когда же наконец перестанут они прятаться… Ведь их никто не наказывал, а они, как дикари, всего боятся…»
Черная «Волга» выехала на бетонку и, набирая скорость, понеслась во всю прыть.
«Значит, не дело они делают, а видимость создают…» — оставшись один, размышляет Виктор, и какая-то противная усмешка, граничащая с веселой дерзостью, не сходит с его лица. И как никогда разрастается в его душе отвращение к сыну Начальника, да и к самому Начальнику. «Что же они прячутся? Может, почувствовали, как Прошка говорит, что не жили они, а просто людей дурачили. И рады бы они откупиться, да нечем. Все труха… Благо сыну повезло, он может отказаться от отца, вот отца, страшно представить, что ждет…»
Конечно, Витьке обидно, что вот он несколько лет работал на Начальника, все свое свободное время помогал ему обихаживать дачу, старался во всем угодить ему, а в итоге получается, что он врагу помогал. Ох, до чего же жестока и бессмысленна жизнь. В каком-то отчаянии ищет Витька выхода своей душе из создавшейся обстановки и не находит его. Всякие глупости лезут в голову, а умное или хотя бы что-нибудь путное не приходит.
«Я был рабочим его. И он, наверное, прекрасно знал, что я к нему на удочку попал… Кончено все… Выходит, я не жил… я просто приспосабливался под него. Как я мог поверить ему? Ошибиться на старости лет в вере — это все равно что перестать существовать. Тридцать лет, которые я провел рядом с ним, надо просто взять и выбросить».
Витьке душно. Сняв поношенный пиджак, он небрежно вешает его на одну из заборных штакетин. Его двор и дом как на ладони. С улицы даже видно, как копошится на кухне Анюта.
Вглядевшись в дорогу, затем в бетонку, он вздыхает: «Он больше никогда сюда не приедет…»
Бесчувственно смотрит он на зеленый забор и на ров, заполненный водой. «Подумать только, все тридцать лет я был призраком, его тенью…» И вновь поразившись этой своей мысли, он вдруг стал так противен сам себе, что какой-то страшный испуг охватил его, в эти минуты ему даже захотелось наложить руки на себя. После он часто вспоминал это потрясение, потому что оно как-то враз изменило его. Он сделался замкнутым, молчаливым. И если раньше он был физически силен, то теперь вдруг ослаб. На работе посчитали, что он притворяется, но просьбу его удовлетворили и на три месяца, учтя заключение невропатолога, перевели на легкий труд. И лишь одна Анюта догадывалась, почему он вдруг стал совсем иным.
Он регулярно два раза в неделю рано утром или в сумерки приходил к Начальнику и приносил ему продукты, которые тот заказывал. О сыне он ничего ему не сказал. Да и самому ему не особо хотелось вспоминать о нем. Постепенно Витька стал замечать, что Начальник с уважением начал относиться к нему Ощущение было таким, словно они местами поменялись. Теперь он, работяга Виктор, есть Начальник, а Начальник, наоборот, стал им. А может, это так казалось Витьке. Ради самоуспокоения до чего угодно додумаешься.
Начальник был в здравом уме, но уязвленная и надорванная прошедшими событиями его гордость постепенно делала его иным. Иногда он, конечно, был, как и прежде, груб, но иногда, наоборот, робок и несмел. Порой он боялся обидеть Витьку Уговаривал его остаться, вечером подольше побыть с ним. А может, эта простецкая нескладность появлялась в нем в силу привязанности. Ведь, кроме Виктора, у него не было никого. Заросла бурьяном дорога, по которой раньше, в выходные дни, почти через каждые полчаса въезжали и выезжали красавицы «Волги».
Кому нужен опозорившийся человек? Если он себя не смог уберечь, других тем более не убережет. И разбежались во все стороны его друзья. А ведь многих он вывел в люди, и некоторые по его протекции занимают сейчас такие посты, которые ему и самому не снились. Раньше они удивляли его покорностью, и он запросто командовал ими, и даже солировал, выделяя себя и свой голос с хрипотцой среди их безвкусного многоголосия. Но они позабыли его, уничтожили все его визитки, подарки и даже грамоты, которыми он награждал их почти каждый год. Его имя в любой момент могло скомпрометировать их. И тогда дальнейшее их продвижение никогда не произойдет. Мало того, они все в душе презирали его, он обещал им горы, а сам взял и сбежал.
Боясь остаться в полном одиночестве, он просил Виктора приходить к нему. А совсем недавно он сказал ему:
— Ты не волнуйся, к осени я обязательно перееду…
— Куда вы переедете?.. — удивился тот. Он знал, что у Начальника есть квартира, но разве он будет в ней жить, кругом ведь все знают, а в его ситуации это не жизнь будет, а каторга.
— Это я тебе после скажу… — ответил Начальник и, прикусив губу, с трудом сдержался, чтобы не расплакаться.
— Вы не волнуйтесь… — начал успокаивать его Виктор. — Мне вы не наскучили, я как раньше к вам ходил, так и буду ходить. Скоро мне отпуск дадут, так что мы вместе будем.
Начальник кладет свою руку на его плечо.
— Спасибо тебе… — но улыбка на его лице какая-то бледная, полуживая. И Витька понимает, что Начальник фальшивит. Как и прежде, скрытен и холоден он. Боль переносит молча, и Витька чувствует, что это стоит ему многих сил.
— Спасибо тебе… — вновь повторяет он. А голос все равно дрожит, и страшная досада и грусть читаются в нем.
— Так вы точно уедете?.. — переспрашивает его настороженно Виктор.
— Да нет, это не скоро… — отвечает ему тот и шепотом добавляет: — А может, и никогда и не уеду…
Начальник кутается в плащ. И в сумерках он не растворяется в воздухе, а сливается с землей. Иногда Витька осуждает Начальника. А иногда, как сегодня, жалеет.
«Человек он живой… А то, что случилось… Да мало ли с кем что случается. Настоящие люди должны друг другу прощать…»
Витька оглянулся. Начальник смотрел на него и смеялся.
— Товарищ Начальник, вы смеетесь!.. — обрадовался Виктор, но, всмотревшись, понял, что тот смехом старался скрыть слезы. — Это же хорошо, это же хорошо… — и, чтобы не выдать себя, Витька еще несколько раз повторил эту фразу.
А Начальник все смеялся и смеялся. Смеялся безостановочно. И слезы все текли и текли.
Лето кончилось. А осенние дожди все равно не приходили. Лишь ветры на один-два дня приносили холод, а потом опять жара палила, высасывая всю влагу из земли да уменьшая уровень воды в околозаборном рве. Полынь-трава в этих краях до этого была всегда мелкая, невзрачная, и мало кто ее замечал. А тут вдруг она так разрослась, что местами достигала метра и более. А ветер, сметая с ее головок пыльцу, горчил все вокруг, покрывал дорогу, и та блестела на солнце, точно оплавленный металл.
Скоротечна последняя неделя лета. Зато по-особому красива и озорна. Последними цветами отцветают и перецветают травы. От жары земля дышит испариной, в ней запах хлебов перемежается с нежным запахом дома, леса, поспевших ягод. И как никогда ошалело красив и чувственен закат. Блестят молоком потолстевшие стволы берез. И величавый русский дуб то и дело в какой-то только ему свойственной медлительности клонит ветви к земле и, шурша листвой, точно с устаревшего мундира пуговицы, роняет на землю давным-давно созревшие и разогревшиеся на солнце желуди. И земля под дубом тут же за каких-то два-три дня делается веснушчатой.
Вечерами эту землю-конопашку подолгу освещает красное закатное солнце. Застряв в могучих дубовых ветвях, оно долго не уходит за горизонт. И тогда красное солнце кажется не солнцем, а стиснутой ладонями русой головой. Бисером горит небо. Дрожат на ветру пересохшие травы. И перебродившие копны сена пуще прежнего дурманят все вокруг себя. Уже кое-где на дачах горят костры. Это палят картофельную ботву и сухую траву. И этот первый предосенний дымок как никогда робок, сторониться он всего и долго стелется по земле, боясь приподняться ввысь.
Последняя неделя лета с раскаленными до предела зорями столетиями считалась на Руси самой красивой.
В такое время надо выходить на природу, гулять по лесу целыми днями и с жадностью впитывать в себя святую русскую красоту. Но Начальник почему-то не может выйти. Он все также сидит в кресле, завернувшись в черный плащ. Взгляд выцветших глаз безрадостен. Он исхудал. И морщины, точно землю в жару, с жадностью покрыли его руки и шею. Только что у него побывал Витька, и сумка, полная продуктов, стоит у его ног. Он зверовато смотрит на нее и вдруг заключает:
— Все, хватит, надо уходить… — И оттолкнув ее ногой, встает с кресла и, опираясь на лопату, идет к дубу, у подножия которого еще вчера выкосил траву.
«Ни Витька и никто другой об этом не должен знать…»
И вновь перемотав себя черным плащом и пристегнув его резиновым поясом, чтобы полы не болтались на ветру, он начинает медленно копать землю.
По ночам дул холодный ветер. Он поднимал в воздух листву, песок, щепу. И Начальник был перед ним крошечным, точно птенчик. Но упрямства ему не занимать. Невзирая ни на что, он копал землю до тех пор, покуда не слипались от усталости глаза.
Через пять дней рядом с дубом появилась милая, забавная ямка. Но он почему-то решил углубить ее. В один из дней, присев на дно ее, он улыбнулся:
— Пивца бы сейчас… — и, сняв шляпу, засмеялся как никогда смело и открыто.
В яме ветер не страшен. Однако он все равно не стал снимать с себя черный плащ и, отдохнув, продолжил в нем работу, как и прежде.
Он продолжал работать в плаще. Смешно, что он значил для него? Почему он кутался в него даже в жару? Неужели он думал, что в нем он спасется.
Сырая земля под ударами штыковой лопаты чавкает и шуршит. Горячий пот выступает на ладонях, покрытых занозами, солит мозольные ранки, щиплет их до боли, раздирает. Но он терпит боль. Крепко обхватив черенок лопаты, он выворачивает землю, с жадностью вдыхая ее свежий запах. Раньше он работал в перчатках, но, поняв, что от них нет никакого толку, забросил их.
Он готов копать бесконечно. Что он и делает. Ибо только в этой бесхитростной работе он и забывается. Этот однообразный, монотонный труд заслоняет все его прежние мысли и хоть на некоторое время освежает мозг. Однако при таком рассуждении получается, что его копанью не будет конца. Это он осознает, когда, устав, прислоняется к земляной стене, но поделать с собой ничего не может.
— Ну и чума… — хихикает он, прикасаясь к стене лицом. — Со стороны могут подумать, что я клад или мертвеца ищу…
Земля мягкая, полусырая, вся в крапинках и в полуостывших трещинках. Беспокойно рассматривая ее, он с жадностью остужает в ней ладони. И земляной холодок, точно тоненькие и невидимые водяные струйки, охватывает его пальцы и, расслабив, остужает. Он полон желания расхохотаться, холодок, проникнув в душу, приятно щекочет ее, вызывая сладкую дрожь по телу. Но недолго это длится. Лихорадочная сладость быстро улетучивается. И стоит ему только отдохнуть и позабыть про лопату, как прежние мысли, которых он боится, вновь приходят к нему и настойчиво рвут его всего на части, вызывают усталость и изнеможение.
«Я не могу открыто посмотреть в глаза людям, потому что они поняли, что я за гусь. Они раскололи меня. Стоит мне выйти на шумную улицу, как они тут же на меня накинутся и разорвут на куски. Они не простят мне. Я не могу им даже хоть что-нибудь солгать, я все раньше им солгал и перелгал. Хорошо, что дачу не трогают, а то, чего доброго, налетели бы тучей черною, да так, что не успеешь и пожаловаться…»
Он расстегнул на груди плащ и простуженно вздохнул. Вновь какая-то досада и боль проступили на его лице. Он небрежно вытер слюну с обвислых, отдутловатых губ и боязливо оглянулся. Твердая земля была вокруг. Он поднял руку ко лбу, словно собираясь перекреститься, но тут же, как-то боязливо поеживаясь, опустил ее. «Вырезать бы все внутри себя и другое вставить…» На фоне темной земляной стены он казался как никогда потерянным. Поблекший, ничего не утверждающий взгляд, беспрестанно вздрагивающие губы, холодное, ничего не выражающее лицо — все это у тех людей, кто знал Начальника, могло вызвать сочувствие, но не прощение. И он понимал все это.
Пресный, местами чуть плесневелый запах земли будоражит его. Словно позабыв, где он находится, а так обычно бывает с людьми, которые после сильных потрясений вдруг потеряли свое место в жизни, он садится на дно ямы и вслух говорит:
— Что же это я, уже полдень, а я еще не обедал…
Но перед ним не стол, а комкастая, только что вывороченная осклизлая земля. Он с жадностью берет ее руками. И взяв, вдруг вздрагивает. Она кажется ему страшной, в ней человеческий волос и неприличная на вид, неподвижная мошка.
— А-а… — в диком ужасе вскрикивает он и, бросив лопату, выпрыгивает из ямы, точно дикий зверь из капкана, и несется по дачному двору к даче. Задыхаясь от волнения, он с трудом закрывает входную дверь на три засова и, размазывая грязными руками пот по щекам, падает в рядом стоящее кресло. Затем он настороженно-выжидательно прислушивается к шорохам и звукам. Но вокруг тишина, ни сном ни духом не ведающая, есть ли он на белом свете или нет его.
— И зачем я только начал эту яму копать? Можно так же было в темноте сидеть, а выходить лишь ночью… — торопливо пытается продолжить он свою мысль, чтобы тем самым прояснить «земляную» обстановку, в которой он несколько минут назад находился.
За окном уже сумерки. Начальник, не включая света, пытливо всматривается в свои грязные руки и ноги. Они в земле. Жалок и плащ, он весь покоробился и местами порвался. Модные, шоколадного цвета туфли превратились бог весть во что. На правой туфле от постоянных нажатий на лопату подошва лопнула пополам, а спереди так расщепилась, что черные пальцы преспокойненько выглядывают и даже шевелятся.
Он снял туфли и, включив свет, сдернул с себя плащ.
— Некуда спрятаться. Что же это такое… — с грустью прошептал он. И, словно не понимая эти только что произнесенные слова, хмыкнул. Он не отогнал севшую на его левую щеку толстую муху, ведь когда-то он брезговал ими. Наоборот, замер, став не человеком, а изваянием.
Ему хотелось расстаться со своим прошлым. Но ничего не получалось. Он продолжал ворошить его, как и прежде. Оно мучило, оно бесило его. Он думал, что изгонит его, вгрызаясь в землю. То есть не оно загрызет, а он, наоборот, перегрызет ему глотку. Прошлого не должно быть. Его надо вычеркнуть.
Откуда взялась мысль, что надо срочно копать яму, он не знал. Вероятно, ему просто захотелось поработать физически, и он поначалу и не думал, что ему это чем-то понравится. Но вскоре тоска вернулась.
Как трудно стереть прошлые дела. До бесконечности они тверды, и, наверное, их никогда ему не вытравить.
— Мне надо увлечься копаньем, и тогда, может быть, из этого что-нибудь выйдет. Надо превратить весь двор в ямы, а чтобы случайно не упасть, я настелю досочек и буду по ним ходить. Эта внешняя напряженность должна помочь мне. В ней я забуду прошлое и стану совсем иным.
И он вновь воспрянул духом.
Рано утром он, кое-как перекусив и вновь закутавшись черным плащом, пошел копать яму. В каком-то новом отчаянии он яро и зло начал вгрызаться в землю. И через неделю такого добился успеха, что влезать и вылезать из ямы мог только по лестнице.
Работая лопатой, он не боялся дневного света. Во-первых, в яме его никто не мог увидеть, а во-вторых, чернотой своих стен она напоминала ему темноту.
Почему-то на всю жизнь он запомнил это копание ямы. Это были лучшие его минуты. Содержательней дела он не мог себе даже и представить. Он не осторожничал. Теперь он никого не боялся.
— Трудно будет зимой… — размышлял он в минуты отдыха. — Мороз все скует, пойдет снег, станет мести пурга… — и горько вздыхал, враз как-то делаясь неживым.
С трудом приходилось выкидывать землю наверх, она часто сыпалась ему обратно на голову. Тогда он решил набирать ее в ведро и по лестнице вытаскивать. Руки его измозолились, исчезли и жировые складки шеи. Истончилось лицо, нос заострился, стал походить на клюв. Запах сырой, свежевыкопанной земли он чувствовал на расстоянии. Он манил его какой-то неведомой силой. Став на колени, он смеясь щупал землю руками. И земляное море оживало перед его глазами, напоминая то свежую ночь, то приближающиеся дождевые тучи, то густую тень от деревьев, где прохлада перемежается с умиротворенностью. В лунном свете земля казалась мокрой, облитой водой, а при ярком солнце смутно белеющей и ворсистой. Лицо и руки у Начальника загорели, и от этого взгляд его стал каким-то каменным и отчужденным.
— Вы сошли с ума… — сказал ему раз Виктор, вид у него был праздничный, он через два дня уходил в отпуск.
— Они думали меня убить… — засмеялся Начальник в ответ. — А я живой… И, как видишь, тружусь…
— Бесполезен весь этот ваш труд… — и почесав затылок, Витька заключил: — Так, чего доброго, и в землеройку превратитесь…
Он сверху смотрел, как на дне ямы копошился Начальник, и жалел его.
«Ишь, как земле он обрадовался. Только все это ложь… До воды докопается и бросит. У земли тоже ведь есть свой предел. Образованный ведь человек, а до чего дошел… То темноту себе придумывал, теперь яму. Две лестницы связал. Скоро родники пойдут…»
И Витька в один из дней вдруг взял и открыто ему заявил:
— Что вам, жить надоело? Зачем вы это делаете? Вы и себя мучаете, и меня. Скоро земля кончится и вода пойдет.
На что Начальник ответил:
— А я после этой вторую яму начну…
— Вам, видно от скуки некуда деться?..
— Ну нет уж. Как только физически я весь истружусь, вместе с потом сдеру с себя все… Тем самым через это я добьюсь внутренней новизны. Копанье меня очеловечивает.
— Зачем зря себя утруждать, давайте я вас отведу в совхоз, там рабочие руки нужны.
— Нет, на людях я больше никогда не смогу находиться.
— Что ж, тогда выходит, что все это ваше земляное царапанье есть не здравый замысел, а труха. Зарубите себе на носу, что если вы и дальше будете заниматься вот таким самоудовлетворением, то вы никогда не сделаетесь человеком. Да вы им и раньше не были. Эх, да что с вами без толку говорить… — и разоткровенничавшись, Витька сплюнул на землю. Ему обидно было то, что Начальник не хотел его понимать. По уровню знаний и занимаемых до этого должностей Витька, конечно, был ниже Начальника. Но ведь есть же еще такие понятия, как совесть, долг, душа. Витька не мог оценить сам себя. Но он никогда не забывал эти возвышающие жизнь слова.
И после этих резких Витькиных слов словно что отсеклось у Начальника. Он немо посмотрел на Витьку, Губы его задрожали. С какой-то озлобленностью поднял он над собой лопату и, размахнувшись, кинул ее в темный угол. Нервы дрогнули. Паденьем на колени он попытался было погасить судорогу тела. Но она, как на беду почувствовав его неуверенность, охватила его и стала душить. Рухнув на бок, он забился на земле.
Витька, испугавшись его состояния, спустился к нему. Потом, вновь выбравшись из ямы, принес ведро воды и стал отпаивать Начальника. Тот, жадно заглатывая воду, опускал в ведро голову и так мочил ее, словно у него на темечке была рана.
— Что же это тогда выходит… — захныкал он вдруг. — Я никому не нужен. — Затем, поднеся мокрые кулаки к лицу, как закричит на Витьку: — Все, все, не могу больше терпеть. Вот ты уйдешь, а я возьму и руки на себя наложу Не хочу больше жить… Опостылела мне такая жизнь, — и зарыдав, Начальник стал просить Витьку: — У меня нет больше сил. Я прошу тебя, вызови милицию. Пусть делают со мной что хотят. Но так жить не могу. Не могу-у-у… Пойми ты, не могу-у… Пусть приедут. Пусть хоть кто-нибудь приедет. Иначе удавлюсь. Не могу… Страшно мне.
Оступаясь, он самостоятельно выкарабкался по лестнице наверх. Вначале Витька участливо смотрел на него. А потом вдруг какое-то страшное презрение охватило его: он презирал этого человека, которого столько лет любил и уважал.
«Что же он как баба. Ни совести, ни гордости…» — и он неприятно поежился, словно не Начальник был перед ним, а какой-то склизкий гад. Он изумился ничтожеству стоящего перед ним человека. А потом вдруг понял, что вместе с ним ничтожен и сам. Обессиленно-беспомощным он каким-то стал, словно в ловушку попал. Неожиданно возникла мысль накинуться на Начальника с кулаками и измутузить его как следует, а потом проклясть. Но он почему-то не стал этого делать. Он продолжал ему верить. Но даже проникшись его беззащитностью, он, уже не отдавая отчета себе, вдруг сказал:
— Что после тебя на земле останется?.. Что-о?.. Отвечай, — и уже больше не владея собой, со слезами прошептал: — Чего же ты молчишь? Что, нечего тебе сказать… Раньше митинговал, а сейчас побираться хочешь пойти. Эх ты, а еще мужиком называешься. Я думал, ты не опустишься, а ты… Пропащая душа… Бродяжка-душа.
Начальник, вдруг перестав трястись, с удивлением посмотрел на Витьку. Он не узнавал своего последнего подчиненного. Сумасшедшие глаза. Распущенные по сторонам волосы. Бледное и оскаленное от чрезмерного напряжения лицо. В эти минуты Витька был решителен как никогда. Не желал он больше видеть Начальника. И поэтому о сострадании к нему не могло уже быть и речи. Поджав строго губы, он быстро подошел к Начальнику и, резко взяв его за ворот, приподнял с земли.
— Я отказываюсь от тебя… — пренебрежительно проговорил он. — Ты мне больше не нужен, как и всем не нужен.
— Господь с тобой! С чего это ты взял… — жалобно проскулил тот. — Отпусти, тебе говорят… Ну, кому я сказал.
— Как же, конечно, отпущу… — засмеялся в бешенстве Витька. — Был бы ты искренен, а то ведь ты плут. Оказывается, нельзя было верить тебе, а я верил…
Он подтянул сопротивляющегося Начальника к самому краю ямы. Ветер, молчавший все это время, вдруг подул во всю мощь, без разбора, приподняв в воздухе листву, он опрокинул ведро, и остатки воды бестолково растеклись по земле.
— Я просто не пойму тебя… — задергался Начальник.
Но Витька, не слушая его, неожиданно резко, прямо в лицо ему произнес:
— Ты есть мертвец, до которого никому нет дела. Понял? А раз так, то и хорони сам себя… Хоронись… Я кому сказал, хоронись…
— Карау-у-ул… — закричал в испуге тот и, упираясь ногами в землю, попытался вырваться. Но Витька так вдруг сильно встряхнул Начальника, что тот тут же угодливо сгорбатился и приутих.
— Что же ты слово, гад, не держишь… Сам ведь мне только что обещал удавиться, а теперь обратное просишь… Раз выкопал яму, сам в нее и хоронись… — и Витька без всякого труда опустил Начальника по лестнице на дно ямы.
Начальник отпрянул в угол.
— Не трогай меня… — закрывая лицо руками, прокричал он. Он, видимо, думал, что Витька ударит его лопатой. Но тот, и сам не зная, для чего, взял ее в руки. В страшном потрясении вылез Витька из ямы. Перед глазами был дачный двор и красивый зеленый забор. Он как-то странно ухмыльнулся. А затем вдруг, неловко откинув в сторону лопату, побежал домой.
В сарае он достал бензопилу и, одним махом заведя ее, кинулся к Начальниковой калитке. Она была открытой. Какие-то дачники вышли из соседних домов и стали с удивлением смотреть на него. А он, не обращая на них внимания, валил зеленый забор.
— Ну и сила же у тебя… — сказал кто-то за его спиной. — Ты режешь его, словно ножницами бумагу.
Начальник сидел на дне ямы. Шум бензопилы его не интересовал. Его интересовало другое: «Милым человеком представлялся. А оказывается, варвар из варваров. Страшно подумать… Меня, пусть даже и отставного руководителя, и за ворот хватать. Нет, с завтрашнего дня его надо срочно отвадить. Иначе он возьмет и пришибет».
Красивая бабочка, вдруг залетев в яму, села на его руку. Затаив дыхание он с улыбкой собрался рассмотреть ее. Но она тут же снялась и улетела.
— Глаза как у кота… Он же бешеный, насквозь видит… — и с какой-то досадой он вдруг уцепился за стену, чтобы приподняться, но он не смог этого сделать, слишком много потерял сил в борьбе с Витькой. — Хорошо, что не произошло все это ночью, он убил бы меня. Раньше в пояс кланялся, а теперь разголосился…
Он взял комок земли, сжал его в ладони и кинул под ноги.
— Все хотят, чтобы я скорее удавился. А я не давлюсь, знать, не судьба…
Он горько усмехнулся, скользнув боковым взглядом по лестнице, по ноздреватой высокой стене.
— Кто виноват, что вы раньше меня не ненавидели. А теперь вот, когда пленен, оскорблять начали. Я живой, а не мертвый… Никого больше не хочу видеть. Побуду покудова в яме…
И он, раскидав по сторонам острые комья земли, разровнял и утрамбовал ладонями для себя небольшую площадку. И в каком-то наслаждении прилег на нее, свернувшись калачиком. На некоторое время это расслабило его волю и сознание, отчего, он выглядеть стал менее затравленно. Влажная земля была рядом. Он беззлобно смотрел на нее, чуть вздыхая. И в эти минуты она показалась ему как никогда близкой и родной.
Осенний ветер продолжал поднимать и кружить листву. Но его живая прохлада почему-то не трогала находящегося в страшном потрясении Витьку. Перед его глазами были лишь визжащая лента бензопилы и разлетающиеся по сторонам доски. Сваливая забор, он выпускал на свободу дачный двор. Дачная улица почти всегда была пустынной, а тут вдруг столько народу собралось. Люди как-то странно смотрят на Витьку, потому что не могут понять, то ли он по приказу пилит забор, то ли просто с ума сошел. Ведь без продыха столько времени пилить не каждый сможет. По-разбойничьи смотрит Витька на знакомый ему дачный двор; красиво плещется в бассейне вода, у огромных колонн раскрыли пасти два льва, на голове одного из них Начальникова шляпа.
— Разве можно валить такой замечательный забор… — сделал кто-то Витьке замечание.
На что Витька буркнул:
— Не ты клеил эти доски. Так что не тебе меня учить…
И, переведя дух и вытерев пот с лица, он, все так же волнуясь и торопясь, вновь продолжал валить забор.
— Скажите, пожалуйста, этот дворец, наверное, скоро детсаду передадут?.. — вежливо спросила его пожилая дама.
И впервые за все время Витька, улыбнувшись, громко ответил ей:
— Откуда я знаю… — а потом, смеясь, добавил: — Если я сегодня жив останусь, может, и передадут.
— У него абсолютно ничего нельзя понять…
— Да не мешайте ему, пусть парень пилит…
И народ, осмелев, с любопытством повалил на дачный двор.
Люди с наслаждением рассматривали красивое здание с лепными балконами, окруженное фонтанами. Необычайно чиста и тепла была вода в бассейне. Дачный двор всем показался очень уютным, здесь можно вечно отдыхать; он не скучен, а сколько в нем разных таинств…
Например, с каким удивлением все вдруг столпились у огромной ямы, на дне которой лежал, свернувшись калачиком, симпатичный человек. Весь чумазенький, широкоскулый, и волосы над смоляным ухом торчком стоят. Мало того, он шевелится и точно циклоп смотрит на всех одним глазом. Все решили, что это колодезник, который, выпив немного для храбрости, решил перед пуском воды прикорнуть.
Ветер, не унимаясь, поспешно все дул и дул. И кто-то, с любопытством посмотрев, как он развешивает в воздухе листву, сказал:
— Быть дождю.
Когда закончился бензин в бензопиле, Витька, с облегчением посмотрев на заполненный народом дачный двор и на поваленный забор, прошептал:
— Слава богу, белый свет увидал… — и быстренько раздевшись, залез в ров с водой и вдруг начал в нем так бултыхаться, словно он не работяга-мужик был, а маленький мальчик. Жизнь начиналась для него заново. И он доверчиво и восторженно встречал ее и радовался ей.
ВОЙНА
Федор Уголек — вулканизаторщик. Ему за шестьдесят, но пенсию не получает.
В тысяча девятьсот сорок третьем году его полк попал в окружение. Командир приказал сдаваться, Федор не послушался. С группой бойцов решил прорываться. Немцы встретили их прорыв шквальным огнем. Перед самым выходом из кольца Федора ранило в голову. Обрывочно он до сих пор помнит, как его солдаты-товарищи, толком не разобравшись и решив, что он мертв, спихнули его в канаву да кое-как штыками и обожженными досками — он видел все это сквозь щелочки полуопущенных век, но сказать ничего не мог — стали присыпать землей. Кто-то из бойцов торопливо, со слезами на глазах снял с него сапоги. И дивная, влажная земля, как никогда приятно охлаждающая голые ступни ног, вновь посыпалась на него.
— Добрый был человек… и солдат… и товарищ… — раздавались вокруг голоса. Старшина достал из кармана химический карандаш и бумажку и быстро переписал из солдатской книжки все Федоровы данные, если не позабудет, да и если он сам выживет, то матке Федоровой обязательно напишет, что ее сын геройски погиб.
Бережно и даже с какой-то лаской заострял боец штыком у его изголовья березовый колышек. Весна была в разгаре, и запах березового сока, такой мирный и такой желанный, был как никогда ощутим.
— Ребята, деньги и документы все выложили?.. — спросил старшина.
— Выложили… — ответили солдаты. Их было трое, работали они близко друг от друга. И штыки, встречаясь в земле, звенели.
— А винт?.. — так старшина называл карабин.
— Да кому он нужен без приклада… Брось его. Пусть он вместе с Федором отдыхает.
— Крест поставить или дощечку?.. — старшина снял с головы пилотку, и все остальные сняли вслед за ним.
— Дощечку… — хором ответили солдаты. — Только, товарищ старшина, не забудьте написать, что Федор Федорович Уголек есть верный сын Смоленской области и погиб он геройски, защищая святую Русь… Он всегда называл свою Родину святой Русью…
— Знаю… — соглашающе вздохнул старшина и, торопливо слюнявя химический карандаш, начал выводить на дощечке только что произнесенные бойцами слова.
Пахнущие потом и кровью солдаты посмотрели на старшину, и грустные взоры их помутнели. Жутковато выглядели они, грязные, опаленные лица с угловато выступающими скулами и заросшие щетиной. Вместе с храбростью и ошалелостью в их глазах проглядывала обреченность.
— Счастливый он… — сказал один из них. — Его вот прикопали, а нам, может быть, никто и лицо не прикроет… Упадем под немецкой пулей и будем на воздухе гнить…
Старшина, кашлянув, звякнул фляжкой.
— Братцы, не паниковать… — Испещренная словами дощечка задрожала в его руках. — Царство ему небесное, вечный покой, святые славы!..
И вновь приятная влага стала растекаться по его груди и ногам. Это бойцы поливали землицу теплой водой, черпая ее котелками из лужицы. И полив ее, в самое влажное место воткнули березовый колышек с привязанной к нему ремнем дощечкой.
А затем кто-то глухо и почти еле слышно, точно из-под земли, сказал:
— Может, наш колышек, даст бог, приживется, и тогда деревце вырастет.
А ему в ответ с прихрипом, еще более глуше:
— Припомним, братцы, это место… Даст бог, если будем возвращаться обратно, помянем Федора и памятник ему сделаем…
И перестала вдруг дрожать и говорить земля. Торопливо ушли на дальнейший прорыв бойцы. А Федор, кое-как присыпанный землей, продолжал лежать, и сознание вроде у него было, и даже слух, да вот только глаза землей присыпаны, и не пошевелить ему ни руками, ни ногами.
…Собрав в себе силы, он задергался, зашевелился, пытаясь выкарабкаться из могилы. Его спасла не только влажность и рыхлость земли, но и ее неутоптанность.
Весь черный, больше похожий на зверя, а не на человека, выполз он из земли. И только выполз, как кровь ручьем хлынула. Испугавшись крови, он в каком-то отвращении к ней задрожал весь и задергался точно червь. А тут вдруг зловонная мокрота изо рта повалила, и он ошарашенно закашлялся, боясь, что от жадности к свежему воздуху захлебнется ею.
Вокруг дымились деревья, люди, шинели, комья земли. Продолжая кашлять, он вдруг с какой-то жадностью начал черными пальцами очищать свой рот. Кое-как освободив его от слизи, он оторвал оба рукава от гимнастерки и, связав их между собой, туго перевязал голову. Кровь тут же перестала стекать на шею, а затем как-то и сама рана приутихла, ныть-то она ныла, но прежней острой боли уже не было. Его ноги были еще в земле, так как не было сил их вытащить. Увидев рядом с собой густой куст травы, он сорвал его и с жадностью съел. Он объел почти все листья с какого-то кустарника. Грязь и кровь насохла на его пальцах, и он вдруг, посмотрев на них, испугался, его руки походили на страшные звериные лапы. Постепенно к ощущению страха примешалась и усталость. Какой-то невидимой тяжестью она свалила его, и он, уложив занемевшую голову на березовый колышек с дощечкой и оставаясь все так же полуприсыпанным, крепко заснул.
Проснулся ранним утром. Был май, и долина, в которой он лежал, сказочно дивно парила.
— Жив… — в радости прошептал он и заплакал. Язык от волнения заплетался. Сердце колотилось. И пуговочки-глаза на грязном лице из стороны в сторону метались, рассматривая перед собой незнакомый ему окружающий мир. Над его головой вовсю цвели подснежники, а на дне рва, в котором он лежал, корни близрастущих деревьев густо и плотно сплетались друг с другом, сочно поблескивая влагой. Крепко ухватившись за них, он полностью выкарабкался из земли. Рядом лежали штыки и две обгоревшие доски, которыми его закапывали. Не вставая с земли, он, вытянувшись, ухватил близлежащий штык и начал торопливо обкалывать вокруг себя землю. На какое-то время он, увлекшись копаньем, забыл про боль и усталость. Наконец штык звякнул, и он, знобко дернувшись телом, радостно, точно малец, вскрикнул:
— Слава богу, нашелся!..
И через несколько секунд ствол его карабина, с которым он прошлую ночь прорывался из окружения, был в его руках, и пусть не было на нем приклада и не работал от запекшейся крови и грязи курок, зато номер родного оружия четко прорисовывался.
«Все в порядке… — облегченно вздохнул он. — Теперь бы только своих найти…» И, на корточках выбравшись из рва, он, пошатываясь, пошагал искать воду. Жажда мучила, скребла и сушила глотку. На ходу он обсасывал сорванную траву, листья, веточки. Наконец добрел до воронки, дно которой было заполнено маслянистой водой. Упав на колени, он с жадностью присосался к воде воспаленными от сухости губами. И еще более согрелась от воды его душа и приободрилась. Радостно усмехаясь, он почерневшими руками намочил лицо, шею, грудь:
— Жив… — безбоязненно пролепетал он и оглянулся. А оглянувшись, так и замер. По обоим краям воронки в абсолютно новенькой форме стояли четыре солдата НКВД с направленными на него автоматами.
— Руки!.. — гаркнул из них самый высокий.
Выпустив обрубок своего карабина, он поднял над головой руки. А потом вдруг, с надеждой посмотрев на них, не испуганно, а уверенно-счастливо, начал объяснять:
— Братцы, я свой… Нас окружили… Но мы пятеро не захотели сдаваться. Пошли на прорыв. Меня ранило, а товарищи подумали, что я мертв, взяли и похоронили меня… А я, как видите, живым оказался…
И Федор в радости, что встретил своих, заулыбался. Это надо же, как быстро свои нашлись. Он постарается долго в госпитале не задерживаться, чтобы снова в бой пойти. Он полон желания воевать до последнего. И если он вот сейчас не умер, значит, победа будет за ним. Так решил он.
— Младший сержант Федор Федорович Уголек, родом из-под Смоленска… — и от радости он поперхнулся, уверенный в том, что его поймут и примут как брата родного.
Высокий, чуть опустив автомат, с угрюмоватой усмешкой покосился на него:
— А где погоны?.. Где знаки отличия?..
— Они на голове… — засмеялся вдруг Федор. — У меня рана кровяная, осколок затылок весь посек. Если не верите, я могу повязку развязать…
То ли от волнения, то ли от слабости его замутило, и он с трудом удержался на ногах.
— Ладно… — буркнул вновь высокий, видно, он был самый главный. — Руки опускай и шагай за нами… Но учти, если дергаться начнешь, пристрелим… В нашем штабе с тобой быстро разберутся, кто ты…
Солдаты опустили автоматы. Федор с трудом выбрался из воронки.
— Как фамилия твоя?.. — спросил его один из солдат.
— Я же сказал… Уголек… — как-то растерянно произнес он, почувствовав сильное пренебрежение солдата к нему.
— Зачем сдавались?.. — заорал вдруг верзила. — Ведь вам сказано было, что подмога идет…
— Откуда я знаю… — Федора опять замутило, и, остановившись, он прикусил губу.
— Ладно, не стой… — толкнул его верзила. — Тоже мне раненый. Небось придуряешься. Если врач на медпункте определит, что ты пустяшно ранен, то мы прямо там же тебя и кокнем…
— За что?.. — возмутился Федор. — Мы с боем прорывались к вам… Я чудом выжил… А вы, вместо того чтобы поддержать, готовы расстрелять…
— Могила близка всем… — буркнул низенький солдат и усмехнулся: — Ну ты и грязен, словно из чернозема слеплен.
— Помыться ему лень было… Поэтому он и такой… — с усмешкой произнес верзила. Он, видно, рад был, что нашел окруженца, а если вдруг и на самом деле этот солдатик окажется предателем, то повышение в звании ему обеспечено. Через некоторое время злобная мыслишка в плане того, что неплохо бы прямо сейчас же объявить этого заморыша предателем, приятно заскребла верзиле мозг. «Так и быть… — в удовольствии для себя решил вдруг он. — Обвиню его предателем… Одним солдатом больше, другим меньше. Ведь могло быть и так, что он убит уже был или, как он сам говорит, в могиле начинал, истлевать… Мы его чудом отыскали и теперь вот ведем, а могли бы и не вести…»
Верзила настороженно посмотрел на грязного пленника. Тот шагал, мрачно опустив голову и закинув за спину руки. Какое-то недоумение выказывалось на его лице и внутренняя боль, которая всегда страшна и тревожна.
— Ты предатель!.. — в полный голос прокричал вдруг верзила. — Все погибли, а ты убежал, — и, подскочив к Федору, ударил его прикладом в спину. Тот с какой-то охмелелой немотой оглянулся на него. — А может, ты даже и более того, шпион… — заржал верзила.
Больше Федор ничего не слыхал. Какой-то свежестью, настоянной на дожде, пахнуло на него. Он облегченно, теряя сознание, вдыхал эту свежесть. И вкус ее был схожим с вкусом травы и листвы, которую он до этого грыз и жевал, чтобы утолить жажду. Падая, он сильно ткнулся головой в землю, и рана под повязкой вновь закровила. Скособочившись весь, он не чувствовал, как лилась за ворот гимнастерки теплая кровь. Солдаты торопливо пинали его ногами, стараясь привести в чувство. А он был нем под ударами, точно мячик, метался из стороны в сторону.
Кто-то сказал:
— Вот связались на свою голову… — И добавил: — Давайте пристрелим…
— Нет… — буркнул верзила. — А вдруг он на самом деле шпион. Так что будем тащить волоком.
И двое солдат, чуть приподняв его, бечевой каждый по очередности привязали к своему ремню по руке, и Федора потащили в штаб. Благо он был маленький, легонький, и солдаты особо не сердились на него. Да и земля была влажная, тело скользило по ней как по маслу.
Он пришел в сознание в медсанбате. И лишь как только врачи заметили, что он осознанно начал смотреть на свет, его начали допрашивать. И, конечно, тут же, буквально через час, версия о том, что он шпион, отпала. Он назвал свою часть, номер оружия, фамилии командиров. А потом, немного погодя, почувствовав уверенность в своей правоте, он по памяти громко и торжественно начал читать благодарности от вождя. Но не спасли его бывшие заслуги и награды. Как не спасли и благодарности. Стать окружением во время войны дело опасное. Он был признан одновременно и дезертиром, и предателем, и еще чем-то в этом роде. Военный трибунал осудил его на десять лет тюрьмы плюс пять лет лагерей. Он попросился в штрафбат, ему отказали.
Перед отправкой в зону, находясь в штрафном изоляторе, он метался, искал выхода. Но как ни старался он объяснить и разъяснить арестовавшим его людям ситуацию, в которую он попал, те все равно не верили ему.
— На войне разговор короток… — сказал ему часовой. — Радуйся, что не расстреляли тебя…
Он попросил обвинителей разрешить ему написать письмо Сталину. На что те ответили:
— Безусловно, вы имели бы право написать рапорт командиру взвода… Но ваш командир оказался предателем, как оказались ими и командиры роты, батальона и полка… А во-вторых, никакие рапорты от предателей не принимаются…
— Я хочу письмо написать, а не рапорт… — взорвался вдруг Федор, в день отправки в тюрьму он был посажен в глубокую яму и теперь кричал из нее часовому, охранявшему его. Если товарищ Сталин лично два раза отметил мою храбрость, почему я к нему не могу обратиться… Уж если и он не поверит мне, тогда другое дело… А так я не признаю ваш самосуд… Я никого не предавал…
Никто ему из военных трибуналистов писать письмо к Сталину не разрешил. И лишь в тюрьме разрешили ему написать письмо, и не одно. Но ответа он не получил.
Осужденный ни за что ни про что человек труднодоступен контакту. Разуверившись в жизни, в добре, в вере, люди замыкаются. Таких, к сожалению, в тюрьме не любят. Их считают умненькими, готовыми совершить какой угодно поступок. Федор просто не давал воли своим чувствам, хотя судьба и обстоятельства скрутили его в бараний рог. Раньше по совету матери он бессмысленно, но покорно искал защиту в боге. Затем, став взрослым, вдруг поверил, что кроме бога есть и вождь, как и бог, великий, но более живой и близкий, почти осязаемый. События, происшедшие с ним на войне, захоронение живым, а потом обвинение в предательстве выхолостили его душу. Эти все прежние события теперь казались ему прошедшим сном, смутным, расплывшимся; порой ему казалось, что какой-то невидимый колдун ставил на его пути препятствия-испытания, и он, не в силах их преодолеть, был не человеком, а всего лишь навсего подопытным кроликом. Он так и не понял, кто был этот злой колдун-волшебник, не понимающий добра и умеющий только приносить страдания. Зато после выхода из лагеря на волю он понял одно: ни бога, ни вождя никогда на свете не было и не будет.
И даже если иногда после этого ему доказывали, что бога, мол, действительно нет, но зато есть какой-то высший разум, он и высшему разуму не верил. И считал, что даже тот, кто провозглашал веру во что-то великое, сам же этому не верил, а лепетал все эти ложные теории лишь для того, чтобы выглядеть умным.
За период его пятнадцатилетнего пребывания в лагере все родные и близкие его умерли. Кто на войне, кто от голода. Он во всеуслышанье был объявлен дезертиром и предателем, поэтому без всякого разбирательства тут же вытравливался весь его род. У отца и матери нет могилы; младшего брата вслед за ним тоже упекли.
Когда-то мать часто любила говорить ему в детстве: «Сынок, всегда читай молитву, и ты найдешь в жизни счастье». И он, черноглазый мальчуган, стоя перед образами, не сводя взора с божественного лика, читал вслед за матерью: «Воззовет ко мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое…»
Но не спас и не прославил его всевышний. Вместо счастья кровью и слезами залил его. За что? В чем он виновен был? Эти горькие мысли будоражат Федора. Ему хочется понять свою судьбу, докопаться до истины. Выявить причины событий, сошедшихся на нем злым клином.
— Почему со мной так поступили?.. — допытывался он в лагере у одного философа.
На что тот, не глядя на него, отвечал:
— Не только с тобой, но со многими это случалось…
Философ держался, крепился. Всем старался все объяснить и все рассказать. Его, уважали не только заключенные, но и надзиратели.
— Почему меня сразу не убили?.. — удивлялся Федор, и в каждой жилке и в каждой черточке его лица было столько страдания, что немели у многих при этом сердца.
Часто, по-сиротски простирая перед собой руки, он шептал:
— Разве можно терпеть бесконечно?..
«А может, я умер, я мертв… — с досадой рассуждал он. — И это мое земное пребывание есть адов путь… Только ради чего это испытание?..» Иногда эти мысли на некоторое время согревали его сердце и душу. Но ненадолго. Какой-то рок несправедливости до отупения потрясал его, ставил крест на всей его дальнейшей жизни. Но, невзирая ни на что, он перенес лагеря.
Освободившись, он в Воркуте сел в первый попавшийся поезд и, сжимая в руках отпускную справку, поехал куда глаза глядят. За вагонными окнами жизнь радовалась, строились дома, дороги; и красивые лозунги, обращенные к молодежи, как и прежде, напоминали о млечном пути, полном радости и счастья.
Места в вагоне ему не досталось. И проводница, пожалев его, поместила на третью полку.
— Смотри, если что упрешь… — строго наказала она, — амнистия не поможет. Все вы, реабилитики, на вид богомольны. А стоит чуть замешкаться, точно воробьи все подбираете…
Растерявшись от этих ее слов, он ничего не сказал ей. Немного, конечно, нахохлился, но петушиться не стал. Другим он возвращался на волю. Не хитрым и не покладистым. А смертельно раненным и полным равнодушия ко всему. Такое ощущение бывает лишь у обреченных больных, которые прекрасно знают о плачевном исходе своей болезни.
Его ссадили в Москве, отвели в милицию, где с ходу определили, что возраст у него не пенсионный, а трудовой. И тут же, недолго думая, отправили на сорок пятый километр начинать новую жизнь. Он выпросил у милиционеров две картошины и щепотку соли и так рад был тому, что они не отказали ему. Знать, все же сердце у людей есть. Две картошины и щепотка соли приободрили его.
Сев в электричку, он приоткрыл окно. Ветерок легонько ударил по лицу. И, волнуясь, он глубоко задышал. Вновь, как и прежде, когда он в тот далекий майский день вылез из могилы, за окном благоухала весна. Он улыбнулся зеленым деревьям, цветущей сирени, траве.
— Это надо же, две картошины дали… — прошептал он и вдруг засмеялся по-новому, смело и просто, как смеялся когда то в детстве.
На работе с подозрением осмотрели его документы, подтверждающие освобождение и реабилитацию. А потом, удостоверившись, что все у него в норме, извинились:
— Ты, конечно, прости… Но среди вашего брата бывают ведь и уголовники.
Он поморщился. Ибо этим словом его вновь ранили. Он долго смотрел на начальника, стараясь не обращать на его слова внимания. Но не получалось. Мозг невидимыми зубами ухватился за эту обиду, не выпускал ее.
— Родные есть?.. — спросил его начальник.
Он вытер окропленную потом верхнюю губу и, вздохнув, опустил голову.
— Почему молчишь?.. — спросил тот его вновь.
— Привычка… — и, словно осмысливая что-то, оглянулся.
И тогда начальник захохотал:
— Вот чудо в решете… Ведь ты на свободе… Пойми… На свободе…
И после этих, пусть даже и чужих, слов ему вновь показалось, что он не одинок. Хотя и в этих словах он чуть было не докопался до обидного смысла. Он остерегался слов. Он прослушивал их интонацию. Запоминал, с какой мимикой их произносили. Вовремя перехватывал взгляд. Этот его цепкий анализ был следствием лагерной жизни.
— У нас не хватает вулканизаторщиков… — более спокойно произнес начальник. — Пару недель под руководством мастера провозишься с сырой резиной, а затем латки на камерах будешь лепить, включая, конечно, и разбортовку колес. Понял?
Он повинно кивнул головой.
— А привычку эту молчать брось… — взорвался вдруг начальник. — Слава богу, мы не надзиратели, а такие же, как и ты, люди.
От этих слов он вдруг замер, как замирают в ожидании выстрела. Ему все еще не верилось, что люди на воле понимали его и принимали.
Трудолюбия ему не занимать. Он быстро прижился в коллективе.
Федор худенький, маленький, так и кажется, что не одолеть ему огромных кразовских и мазовских баллонов. Но стоит только взять ему в руки монтировку, как дело тут же спорится. Легонько, без всякого труда, правда, лишь иногда посапывая, разбортовывает он громадины колеса. Раньше до него работал молодой парень-богатырь. Была бы сила, а ума не надо. Из трех колес он за день лишь одно до ума доводил, а остальные гробил: то монтировку в дугу согнет, то, наоборот, обод помнет или покрышку вместе с камерой разорвет. Короче, шарахались от него шоферы. С ним если свяжешься, машина и сутки, и двое простоит. Так что разбортовывали и клеили колеса шоферы потихонечку сами.
Зато, когда, получившись у мастера, пришел в гараж Федор, дела наладились. Мало того что он колесо отремонтирует, так он еще и лишнюю запасочку сварганит. И чудо: постепенно к концу месяца почти у всех шоферов вместо одной — по две запаски к кабине прилепилось. А дело это большое, особенно в распутицу. Допустим, одно колесо прокололось, шофер, заменив его запасным, не спешит в гараж возвращаться, так как у него еще одно колесо есть.
«КрАЗы» и «МАЗы» в основном возят черную и красную глину для кирпичных заводов. Подъездные дороги хотя и присыпаны щебнем, но почти все разбитые; чего в их колдобинах только нет: доски, скобы, гвозди, шлак с металлическими рейками. Обычно весь этот мусор вываливают на дорогу солдаты, временно работающие на заводах. Дорогу они подравнивают как следует, но заодно, непроизвольно, конечно, способствуют проколу баллонов.
Федор двойным комплектом запасок спас шоферов от длительных, очень томительных и ненужных простоев. Мало того что машины стали работать без перерывов, но и зарплата у шоферов подскочила.
— Уголек, и где ты только раньше был?.. — часто, шутя, говорили довольные вулканизаторщиком шоферы. — Стоило тебе появиться в нашем гараже, как баллоны перестали лопаться… Латочки у тебя, что и говорить, капитальные, их не то что ножом, бритвой не отдерешь. Ты небось в зоне тоже баллонами заправлял? Ну чего молчишь? Признавайся.
Федор, внимательно посмотрев на шоферов, тяжко вздыхает:
— Десять лет я сиднем сидел… А остальные пять лет болванки в лагере грузил…
— А разве камер там у тебя не было?.. — удивлялись шоферы.
— Нет, не было… — с грустью отвечал им Федор и, повернувшись к ним спиной, стоял так до тех пор, покуда шоферы, поняв, что они мешают ему, понуро уходили.
— И зачем спросили мы его об этом?.. — вздыхали они после. — Оказывается, обидели мы ведь человека. Хорошо, что характер у него спокойный, а то другой набросился бы…
И после этого случая шоферы договорились о лагере Федору не напоминать. В общаге, где он прописан, есть у него крохотная комнатенка. Вещей в ней мало. Редко он в ней бывает, потому что дни и ночи проводит в гараже. Последнее время он почему-то боится покоя и тишины. Внешнее спокойствие и раньше, а сейчас тем более его пугает.
Он торопится жить. Хотя прекрасно понимает, что две жизни ему уже не прожить. Он успокаивается, если поблизости есть люди или когда гудят за спиной станки и моторы. Благо рядом с гаражом кирпичный завод, так что шума не занимать. Порой внешне он кажется беззаботным и даже каким-то смиренно-радостным. Но только смех все равно выдает грусть, мало того, что он беззвучен, но он так дыхание перехватывает, что лицо краснеет, жилы на шее непомерно наливаются, ноздри раздуваются и в какой-то горькой, холодной тревоге блестят глаза.
С трудом сдерживая волнение, он, опустив голову, старается поднести к лицу руку, чтобы ее прикосновением унять дрожь щек, но она, словно натыкаясь на какое-то препятствие, не поднимается.
Иногда, притаившись, он завидовал шоферам, которым жены приносили обед. Жены понимали и уважали труд мужей, говорили им ласковые слова, приободряли.
— А это кто?.. — первый раз увидев Федора, спросили они мужей.
— Наш вулканизаторщик… — с гордостью отвечали те, а потом вдруг в каком-то смущении добавляли: — Его казнить хотели, а он вот выжил… Если бы не он, то мы бы в этом году пропали…
И жены как-то виновато и сконфуженно смотрели на Федора. Такой маленький и, можно сказать, усыхающий человек больше походит не на работягу, а на мытаря; оказывается, их мужьям подсобляет. Руки у него золотые, к делу приспособлены. Так считали женщины и угощали Федора кто стаканом молока, а кто пирожком. Он благоговейно принимал эту пищу и торопливо съедал.
— Разные люди на свете бывают… — вздыхали шоферы. — Некоторые сразу же от горя погибают… А другие… Вот как наш Федор, знай себе живет.
Женщины с добродушием смотрели на Федора.
— Может, вам что зашить надо… Вы не стесняйтесь, говорите… — предлагали они. Но он отказывался:
— Я с одежонкой в ладу и покудова обхожусь без заплаточек…
И от этого отказа он казался всем очень добрым и ласковым.
На другой день бабы принесли ему кучу рубашек, брюк, старых костюмов. Он с благодарностью принял всю эту амуницию, но носить не стал, отнес в общагу.
— Ты не молчи, говори, если тебе что надо… — теребил его уважительно мастер.
— Ладно, если когда-нибудь мне что потребуется, я скажу… — успокаивал его Федор. — А сейчас я ни в чем не нуждаюсь… — и степенно и даже как-то гордо смотрел на мастера. Тот вздыхал и не знал, что ему сказать.
Летними ночами Федора часто беспокоят сны. Чтобы спрятаться от них, он накрывает голову фуфайкой. Иногда это помогает, и видения исчезают, а иногда так фантазии разрастаются, что Федор бредить начинает.
…В огромном котле, закутавшись в шинель, сидит вождь. Волосы и усы у него мокрые, откуда-то сверху падает на него вода. Лицо всепрощающее, голос светлый, слегка прерывающийся. Точно из преисподней он слышит голос:
— Федор, ты еще жив, а я уже мертв.
— Ты не прав, Гаврилыч… — отвечает ему Федор, он почему-то вождя называет Гаврилычем. — Это я умер, а ты еще жив.
— Нет, нет… — возражает ему тот. — Я в котле, а ты еще нет.
— Дело не в котле, а дело в славе… — спокойно произносит Федор. — Хотя после смерти и нет уже для тебя смысла в том, что будут говорить о тебе, но все же хочется, чтобы тебя считали умным, а не дураком.
Под котлом много дров, но в них нет огня. Это говорит о том, что судьба вождя не решена. Никому не известно, сколько еще времени сидеть ему в этом котле.
— К твоему котлу, Гаврилыч, никто никогда не подойдет… — произносит вдруг осмелевший Федор. — Так и будешь ты всю жизнь мучиться. От неведенья корчиться… Что может быть страшнее этого.
— Я людей не науськивал и не учил… Они сами все делали… — взорвался вдруг Гаврилыч-вождь.
«Чехарда какая-то…» — вздыхает, просыпаясь, Федор и, прокрутив в голове, уже натрезвую, еще раз сон, понимает, что в нем почти все слова из его лагерных писем, которые он по особому разрешению лагерного начальства отправлял в верха.
Федор выходит на воздух. Темнота вокруг тиха и спокойна. Лишь одно величавое небо, переполненное звездами, кажется взволнованным, словно только оно одно и понимает его и сочувствует ему. Кто создал этот мир над головой и вокруг? И что он значит? Федор смотрит на звезды.
— Сухарика не хочется?..
Федор вздрагивает. Перед ним стоит сторож, тоже, как и он, махонький.
— Что-то не спится… — вздыхает сторож и, достав из-за пазухи бутылку, жадно пьет прямо из горлышка мутноватую жидкость. Напившись, он вытирает усы. Федор, всмотревшись в него, в ужасе вздрагивает. Вождь, с которым он разговаривал во сне, стоит перед ним.
— Вот мы и опять с тобой вместе… — в каком-то злорадстве хихикает вдруг он и, оскалив зубы, поправляет на кителе ворот.
— За что?.. За что?.. — кричит в ужасе Федор, не находя себе места. — И кто тебя только выдумал, кто народил… Не могу я больше так жить, не могу…
— Уголек, заклей камеру, а то завтра утром выезжать… — часто просят Федора шоферы, когда его рабочее время давным-давно вышло. И он безотказно клеит камеры. Он может клеить их ночью и даже тогда, когда никто не согласится их клеить.
Как пташка, днями и ночами сидит Федор в своей каморке и клеит и чинит колеса. Трудно быть вечным работягой, он это знает. Но только в работе он и находит утешение. Увлечется делом, и, глядишь, уже меньше жалят его бедную душу далекие воспоминания.
Он и питается в этой самой ветхой каморке, где запах резины, солярки и бензина ни в жизнь не вытравить. На нем старая, вся истрепавшаяся лагерная куртка и кирзовые сапоги, из обувки он носит только их. Под столом калачиком свернуты две фуфайки. Если вдруг снова придут забирать его в лагеря, он уже, как прежде, не опростоволосится, будет при форме. Ему кажется, то, что он реабилитирован, еще ничего не значит. Крупные люди, наказавшие его, не были судимы, и пусть они умерли, но дела их все равно живы. Мало того, ведь к власти могут в любой момент прийти их продолжатели. И тогда вновь ни за что ни про что могут забрать Федора, ведь на него легче всего свалить грехи, он ведь лагерный.
Оказывается, как и прежде, наивен он, хотя себя наивным и не считает. Но года берут свое. Седина серебрит его волос, и не тоненькие морщинки, а глубокие морщины вольготно бороздят лоб и щеки. Он спит в каморке, на старом широком сиденье от «КрАЗа». Вместо подушки узел с тряпьем. Одеяло заменяет замасленная рогожина. Видно, с кровью въелась в него лагерная жизнь, и поэтому он не может принять современную роскошь. Со стороны, чужому человеку покажется, что вулканизаторщик, как и все нищие, темен сознанием, упрям и груб и о его святости не может быть и речи. Но со стороны всегда легко рассуждать. Труднее понять человека.
Осенью дни светлые. В это время только на воздухе и бывать. Но Уголек в каморке сидит.
— Федор, о чем ты плачешь?.. — иногда спросят его шоферы. А он молча посмотрит на них и ничего не ответит
ВАНЬКА БЕЗНОГИЙ
Иван Кузнецов литейщик. Заработки у него хорошие, по пять сотен порой приносит, а жене все мало. Избаловалась она, мало того что жирком заплыла, но и бока вдруг на старости лет почесывать стала. В этом же подъезде жил бухгалтер Феня, которого она полюбила. Не скрывая симпатии к нему, она говорила:
— Были бы все мужички такие, как Феня… Чистенькие, аккуратненькие.
— Я не знаю, сколько он гребет… — бурчал ей Иван. — Но меня, могу даже об заклад с тобой побиться, в нашем доме никто не перегребет… — а потом, вдруг не сдержавшись со злостью ударял кулаком по столу. — Высоко ты, как я погляжу, пташечка взлетела. Пирог с изюмом тебе не всласть, птичьего молока небось захотелось, — и вздыхая, скрипел зубами. — Сволочью, оказывается, ты была. Я обул тебя, одел, в люди, можно сказать, вывел, а теперь, выходит, не нужен. Да не нравлюсь я тебе, уходи к нему, не держу. Забирай из вещей что хочешь, только душу мою не рань… У меня без тебя на заводе дел невпроворот. Я не так, как твой Феня, — целыми днями на попе сидит. Я сталь варю, окруженный россыпью звезд. Меня уважают и ученики, и подручные. И не счеты у меня в руках, а копье десятиметровое, чуть что ошибся, и зальет тебя металл, поминай как звали… А ты, чтобы меня после работы словом добрым поддержать, переживаний добавляешь.
Иванова жена Ася слушает его молча, то и дело поджимая губы, а потом точно так же, как и муж, взрывается:
— Мне не деньги нужны, а человек. Я один раз живу…
— Выходит, я не человек?.. — удивляется он.
— Нет, не человек… — разъярялась она не на шутку, угрожающе фыркая и подпирая кулаками бока. — Это ты на заводе будь телком работящим. А домой приходи измененным, словно ты и не работал. Мне ласка нужна и культурное обхождение, а не твои басенки… Почему ты все смены работаешь, потому что дурней тебя никого нет. Что тебе начальство приказывает, то ты и делаешь. А на жену ты плюешь, думаешь, деньги принес, и все. Да в гробу я тебя видела; чем с тобой, грязнулей, изюм есть, я лучше с Фенькой сухари буду грызть, зато у нас с ним будет все осознанно происходить… А ты сталь вари и завод вперед двигай. Короче, как был ты деревенщиной, так и остался им.
— Ух ты, лиса городская… — кричал на нее Иван. — Смотри, договоришься у меня…
— А я тебе еще раз говорю, — продолжала злиться жена, — что не жить, не жить нам вдвоем. Фенька приветливый, а ты бешеный, точно конь… По нему скучаю, а по тебе нет…
— И долго ты с ним встречаешься?.. — с какой-то тревогой вдруг спросил он ее.
— Уже год.
— Что же ты раньше не сказала… — И, с болью взглянув на бесстыдно-улыбчивое лицо жены, он враз как-то растерялся.
Ощущение было таким, словно саблей его по голове полоснули или сердце пламенем обожгли Больше с ней ни о чем не говоря, он упал на свою кровать прямо в робе и, закрыв подушкой лицо попытался исчезнуть чтобы не видеть белый свет. Почти тридцать лет он прожил с нею бок о бок. И вот вдруг взбесилась баба, точно белены объелась. Может, климакс ударил. А может, действительно не любила она его все эти годы, а только деньги сосала. Когда он узнал, что она бесплодная, он не выгнал ее. У него даже не было мысли жениться на другой. Он любил ее.
Они жили на втором этаже. И часто утром он видел со своей кухоньки, как уезжал на работу на своих новеньких «Жигулях» Феня. Если случайно он встречал его на улице, то в разговоре с ним был приветлив и уважителен. Хотя Фенька как-то оторопело смотрел на него, словно боялся, что Иван возьмет и накинется на него. Ведь такой богатырь может кого угодно удавить.
— Благодарствую за внимание, — крайне вежливо произносит ему в ответ бухгалтер и, быстренько освободив Ивану дорогу, убегает от греха подальше.
— Ну и худобина… — вздыхал сочувствующе ему Иван. — Никак не пойму, в чем только душа его держится.
И, приободренный этим недостатком бухгалтера, он чувствовал какую-то приятную удовлетворенность. Но не долго это длилось. Измена жены давала о себе знать. Больнее всего она ощущалась, когда он после работы приходил домой. Он чувствовал на себе ее холодно-расчетливое отношение. С пренебрежением относилась она к нему абсолютно во всем. Он мешал ей, он был ей не нужен. И он мучился днями и ночами, переживая, почему это произошло. Один раз придя с работы, он, в мальчишеском испуге увидя ее злой, хотел уж было, сам не понимая за что, попросить у нее прощения или, по-рабски пав перед ней на колени, трепетно прижать к груди руки и сказать: «Прости меня, мать. Не все ведь такие люди на земле, как он… Бывают и похуже… такие вот, как и я. — А затем в необыкновенном волнении обратиться: — Дорогая, миленькая, умоляю тебя, не уходи. Я буду слушаться тебя и во всем тебе угождать. А если что тебе из вещей не хватает, я готов кроме дня и ночью вкалывать. В нашей стали сейчас вся страна нуждается», — и, заплакав, ему хотелось после этих слов задрожать. Ведь все же он ее как-никак любил.
И он собрался было это сказать ей и пасть на колени. А она, выйдя к нему в один из таких вот тяжелых послерабочих дней, вся по-модному разнаряженная, вдруг сказала:
— А я, кажется, беременна им… — И такое вдруг щегольское злорадство охватило ее, что он с трудом сдержался, чтобы не ударить. — Ну что, доволен? — хихикая, не отступала она.
У ней, видно, была цель во что бы то ни стало обозлить его, добиться, чтобы он создал скандал и первым ударил ее. Конечно, насчет беременности она пошутила. Но шутка была по остроте крайне злой. Ей во что бы то ни стало хотелось вывести Ивана из себя, во что бы то ни стало.
— А сегодня он придет ко мне поинтересоваться насчет женитьбы… — до предела вдруг растянула она Ивановы нервы. — Если он тебе не нравится, а я знаю, что это так и есть, ты можешь на это время покинуть нас…
«Да она действительно меня уже и за человека не считает…»
Глаза его дико заблестели. Преждевременность ситуации нарастала. Голова закружилась, и в ногах, и в руках он почувствовал слабость. Но все же, сдержавшись и собрав всю волю в комок, он тихо, без всякого злорадства сказал:
— Ну и сволочь, оказывается, ты была… — и добавил: — Если честно сказать, мне нисколечко не жаль тебя. А насчет моей демобилизации, не волнуйся. Я скоро уйду. И ты будешь без затруднений встречаться с ним.
Сокрушенность исчезла с его лица. Он улыбнулся, словно знал, что видит ее в последний раз.
— Дождь в шляпе!.. — окончательно расслабившись, засмеялся он. — Не я первый, не я последний. Я все прощаю тебе. Все, абсолютно все… Даже мучений в этот момент на душе не чувствую. Словно и не жили мы все это время. Как хорошо сейчас на моей душе. Нет обиды к тебе и, наверное, не будет. Все чин чинарем. Да здравствует дождь в шляпе!..
И беззлобная улыбка действительно появилась на его лице, и глаза засияли, говоря о том, что нет зла в его душе. Хотя внутри сердце больно билось, и виски распирало от шума, и, напрягаясь, разбухали вены на шее. Перед глазами замельтешили крохотные мушки, и, чтобы не упасть, он зашел в свою комнату и, закрыв дверь за собой, вдруг тихо, чтобы она не слышала, заплакал. «Люди добрые, за что?..» — шептал он воздуху и стенам, и грязный, похожий на землю лоб сжимался, покрываясь морем морщинок. Истощенное лицо его, полное гнева, было как никогда страшным. Грузно опустившись, он сел прямо тут же на пол. Руками обхватил голову, не зная, куда приткнуть свой мучительный взгляд. В эти минуты отчаянья он вдруг почувствовал какую-то неприязнь и к жизни, и ко всему на белом свете.
«Кому скажешь, не поверят… — вздохнул он. — Да и кому сказать, если не было у меня, кроме нее, никого…» В робе литейщика он прямо тут же и заснул. Измученный работой и оскорблениями со стороны жены, он спал крепко. Поэтому и не услыхал, как пришел к жене Фенька.
Отец и мать у Ивана давно умерли, и поэтому был он одинок. Измену жены переносил с трудом. Он почти не разговаривал с ней. Питался отдельно, хотя часть зарплаты ей отдавал. В каком-то нетерпении он дожидался зимы. Как только она началась, он напросился у заводского начальства съездить от завода в командировку. И недалеко вроде он отъехал от города, как в пути познакомился с неизвестными железнодорожниками и все деньги, предназначенные ему для житья-бытья, просадил. Ночью его, пьяного, почти ничего не соображающего, выбросили из вагона проводники. В станционный дом его ночевать не пустили, и остался он на улице. Синоптики обещали тепло, а оказалось, наоборот, ударил мороз с пургой. И вот покудова он пьяный, то и дело блукая, искал в степи, где бы ему можно было переночевать, он отморозил ноги.
С тяжелой степенью алкогольного опьянения какой-то сердобольный тракторист доставил его к нам в отделение. Ботинки с его опухших ног снялись лишь после того, когда мы разрезали их по обеим сторонам ножом. Мертвенно-бледные, ледяные на ощупь стопы не двигались. Сам же он бредил, все кого-то звал и, вывертывая в судорогах губы, стонал. Мы принялись растирать ему ноги. Просили его пошевелить ими, но он был невменяем. Не дали результатов и теплые ванны с постепенным повышением температуры. На следующее утро, при повторном контрольном осмотре стоп, стало ясно, что ступни надо удалять.
Когда больной пришел в себя, он почувствовал все это сам. Стопы были какими-то ватными, они не двигались и, казалось, состояли не из тканей, а воздуха. Он лежал на постели в растерянности, не зная, куда деть налитый горем свой взгляд. Он был весь какой-то заброшенный и грязный, хотя его вчера в приемном мыли под душем. Волосы сальные. Щеки болезненно вздуты. Глаза отечны и воспалены. Руки, ноги, лицо на фоне его белоснежной больничной пижамы от грязи походили на металл. Щетина, уже несколько дней не знавшая бритвы, устрашающе топорщилась по сторонам.
— Кузнецов, вы кто по специальности? — строго окликнул его завотделением.
— Литейщик… — тихо ответил он и от волнения задрожал.
— Такая геройская профессия. И чуть было не умерли. Водка любых выкашивает… — И со свойственной только хирургам холодностью добавил: — Был бы ты броневой, другое дело. А тело есть тело, иголочкой его чуть-чуть кольни — и уже кровь потекла. А ты в сорокаградусный мороз полураздетый больше двадцати километров прополз. Довольствуйся, что живой. Но учти, больничного не получишь… Да и в справочке будет отмечено: причина отморожения — алкогольное опьянение.
Он смотрел на заведующего равнодушно. Видимо, понимал безысходность ситуации.
Хотя перед самой операцией он, вдруг ухватив меня за халат, жалостливо спросил:
— Ну что, доктор, распрощаюсь я теперь с ножками?..
Трудно было смотреть в его глаза. Чем-то он сразу мне понравился. Хоть и чумазый был, а веяло от него какой-то добротой и простотой.
— Только прошу вас, не сообщайте на работу, что по пьянке все произошло… — начал просить он. — Ведь вы все прекрасно знаете, что жена от меня ушла, а если я и работу потеряю, то тогда мне кранты. Могу не выдержать и улететь…
И, бездеятельно махнув рукой, приподнялся на локти, пугливо осмотрелся. Безысходность и горечь-тоска вновь вспыхнули в его глазах.
— Что же вы молчите, доктор, насчет ног? — прошептал он и запнулся.
Взгляд его переместился с простынки на меня. Страшно смотреть в такие глаза, цепляются они за самые корни души.
— Что же я буду делать без ног? — чуть не плачет он. — Ведь я одинок, без родных…
В растерянности не зная, что ему и ответить, я приподнимаю простынку с его ног. Ступни мало того что отечны, но они еще покрылись огромными пузырями, наполненными черной кровью, признак крайне плохой. Пальцы высохшие и бесчувственные. Ни о какой сосудистой пульсации не может быть и речи, ее нет. Кровь к стопам не поступает. Выход один — ампутация. И делать ее надо срочно, иначе может развиться гангрена.
— Будем стараться… — попытался я его, успокоить.
Он с признательностью поклонился, и взгляд его подобрел.
— Если я в операционной умру, никому ничего не сообщайте. Я одинок, — и ухмыльнулся. — Так называемая бродяжка-душа. Везде вроде внешне и место у ней есть, а чтобы основательно притулиться, нет. Перелетная птица, все равно что дождь в шляпе…
— Но вы ведь работаете…
— Да какая может быть работа, если мне через год на пенсию… — произнес он небрежно и, зажмурив глаза, отвернулся лицом к стене. — А теперь вот безногий. Ума не приложу, как я так запросто мог опростоволоситься…
— Вам ни в коем случае сейчас нельзя волноваться… — начал успокаивать я его.
А он, вдруг вздрогнув, ослабело сказал:
— А я и не волнуюсь, я просто так. Честное слово, просто так…
Операция была тяжелой. На больного нашло вдруг какое-то необыкновенное возбуждение. И долго его не брал наркоз. На одной из ног при ампутации стопы сорвался жгут, и при накладке второго жгута, которого как назло рядом не оказалось, произошла обильная кровопотеря. Ни о какой, даже частичной сохранности стоп не могло быть и речи. После операции увезли Ивана в палату инвалидом. Четыре месяца пролежал он в стационаре, выписывать его не спешили. Дожидались, когда приедут мастера из протезного завода и снимут мерки с ног. Но потом выяснилось, что, наоборот, больного надо везти на завод. В больнице транспорта не нашлось.
Начался сезон охоты, и главврач, взяв отпуск, день и ночь носился на единственном «уазике» по лесам.
На одном из вечерних обходов завотделением заявил Ивану:
— Совесть у тебя есть, сколько ты можешь лежать? Группа тебе гарантирована, так что на днях готовься к выписке.
А на другой день в нашу ординаторскую забежала дежурная медсестра, вся заплаканная.
— Иван Кузнецов хотел повеситься. Больные его в туалете с петли сняли. Он так и сказал, что если его попытаются выписать, то покончит с собой.
Вызванный психиатр при осмотре и опросе Ивана особого помешательства не установил и для приличия поставил диагноз: больничный психоз — и прописал ему кучу успокаивающих средств.
Главврач, узнав об этом, возмутился. Но затем, переговорив с Иваном, успокоился. Через неделю медсестры принесли в отделение старую инвалидную коляску. И теперь Иван, отложив в сторону костыли, стал передвигаться на ней. А если отделение перегружалось больными, он, отдав свою койку вновь поступившему, откидывал спинку в коляске и спал в ней в полусогнутом виде.
После операции он стал молчаливым. Больше уединялся и от людей прятался. Но с появлением коляски как-то оживился и добился, чтобы завотделением разрешил ему ухаживать за онкологическими больными.
Эти две палаты у нас были вечно заброшенными в плане ухода. Санитарки редко заходили к этим больным, а родственники вообще не приходили. Они специально клали сюда своих близких, чтобы избавиться от них.
Трудно поначалу было ухаживать Ивану за такими больными. Это чувствовалось по его крайне уставшему виду и испугу в глазах. Бывший литейщик, мастерски раньше варивший сталь, и вдруг сразу в больничную преисподнюю попал санитарить.
Но постепенно Иван привык. И мало того, полюбил онкобольных. Раньше мы обходы в этих палатах делали один раз в неделю, потому что невыносимо там было находиться. Теперь же, как и положено, посещали их через день. Иван такой марафет в них навел, что удивил не только всю больницу, но и главного онколога. После этого Ивана медработники так зауважали, что без всяких приняли в свой коллектив. И порешили не протезировать его, а пусть он так в коляске и передвигается.
Когда начался в нашем отделении ремонт, Ивана переправили в участковую сельскую больничку на двадцать коек, где он стал вечным больным. Койка ему была не нужна. Спал он все в той же своей коляске в коридоре или же в столовой. О больных он беспокоился постоянно и любил, если его называли санитаром. Никто не слал ему открыток, никто не приезжал к нему. Постепенно позабыли и его фамилию. И в больнице, и в селе звали его просто — Ванька Безногий. А врачи, жалея его, часто вздыхали:
— Не дай бог, если исчезнет он, кто же тогда будет санитарить…
А если кто приставал к Ваньке с расспросами о его нелегкой судьбе, полной страдания, он, гордо откинув назад голову, залихватски отвечал:
— Все то, что вам злые языки обо мне порассказали, это неправда. Я обиды никогда не имел и иметь не буду Как говорится в народе, да здравствует дождь в соломенной шляпе.
— А как это понять? — удивлялись те.
— А очень просто… — и Ванька на полном серьезе объяснял: — Сквозь соломенную шляпу дождь всегда пройдет, не оставив следа. Так и обида во мне как вошла, так и вышла. Русский человек тем и отличается от всех, что никогда ни на кого не помнит зла. Всегда всем прощает, как и я. А если на каждую чепуху в жизни обижаться, то не хватит и времени этими обидами заниматься.
— А если вдруг жена вернется к тебе, ты примешь ее? — продолжали с любопытством расспрашивать его.
— Конечно, приму… — улыбался Иван. — Ведь я с ней почти тридцать лет прожил…
— Но ведь она же… Ты же ведь сам говорил…
— А с кем не бывает… — без всякой обиды отвечал он и вздыхал: — Баба есть баба. Ну оступилась немного. Да и я, можно сказать, погорячился малость. Надо жить было на одном месте и никуда не уезжать…
Спрашивавшие не отступали:
— А почему на заводе к тебе начальство так плохо отнеслось? Ведь ты всего один раз в жизни своей выпил. А они даже страхделегата не прислали и помощи не оказали. При такой инвалидности могли бы и квартирку отдельную дать.
— Я не обижаюсь на них… — спокойно и даже как-то немного гордо отвечал Иван. — Они, может быть, и рады были бы кого-нибудь ко мне подослать, да некого. У нас завод передовой, и поэтому мы каждый год должны план перевыполнять. А если все будут только по больницам ездить, кому работать. А квартирка мне не нужна. Зачем она мне, если я один…
— Ну ты и силен, — смеялись врачи. — На все у тебя оправдание.
— Да не оправдываюсь я… — и в который раз Иван объяснял: — Как говорится в народе, да здравствует дождь в шляпе! Так вот я и живу. Никогда не надо ни на кого обижаться. Не людей надо винить, себя надо винить. Лично я благодарен больнице за заботу. И спасибо вам, доктора, за то, что я живой, это ведь самое главное.
И, произнеся эти слова, он с гордостью смотрел на всех.
ОБУВНОЙ МАГАЗИН
Зимой ночные дежурства в больнице длинные. И мы, молодые врачи-хирурги, чтобы хоть как-то скоротать время, часто собираемся в ординаторской, где за чашкой чая, под монотонное тревожно-жалостливое завывание морозного ветерка у чуть приоткрытой форточки рассказываем друг другу всякие истории. Они не только укорачивают наше время, но и расслабляют.
Иногда вместе с нами дежурит старейший хирург города Иван Прокофьевич. Ему скоро на пенсию. Но по работе он любого за пояс заткнет. Операции делает мастерски, не говоря уже о постановке диагнозов. Тридцать лет он уже работает. И все его в больнице любят и уважают. Человек он добрый, незлобивый, не злопамятный. И рад передать свое мастерство молодым.
И хотя седина покрыла его голову, внешне он все равно красив. Не на врача он порой похож, а на графа. Острый взгляд, солидный подбородок, ну а больше всего он впечатляет своей выправкой. Подтянут, худ, лишних движений почти не делает, не фамильярничает: так и кажется, что все у него заранее рассчитано и продумано. Однако даже черточки эгоизма не почувствуете вы в его манерах. Казалось бы, все хорошо в его судьбе: положение в обществе, уважение и любовь коллег, награды за многолетний труд. Но вот что смущает: Иван Прокофьевич всю жизнь прожил один. Но, увы, ничего не поделаешь, личная жизнь есть личная жизнь, и не каждый имеет право вмешиваться в нее.
Сегодня Иван Прокофьевич дежурит вместе с нами. И почти все собравшись в ординаторской, мы с нетерпением ждем, когда он начнет свой рассказ. Он снял шапочку и, осмотрев всех нас, вздохнул.
— Вот какое, братцы, дело. Там, где сейчас водокачка, был у нас обувной магазин. — И тут же, схлебнув чайку, замолчал.
Что происходит в эти минуты с ним: руки его дрожат, взгляд начинает бесцельно бегать, видимо, он не может сосредоточиться. Наконец внимательные глаза его заискрились. На щеках появился румянец. Скорбно откинув назад седые пряди, он вдруг произносит:
— Да что толку говорить. Который раз говорю… А во-вторых, нет тут ничего особенного, любовь как любовь, грустная и простая. Без всяких нравоучений. А если бы рядом в то время со мною кто был, может быть, и подсказал…
— С подсказки разве любовь получится?.. Это так себе… — перебивает Прокофьевича молоденький ершистый хирург.
— Тоже мне, гений… — одергиваю я его.
— Да тише вы, тише… — успокаивают остальные нас. И в ординаторской на некоторое время наступает тишина.
Я смотрю на Прокофьевича: ну до чего же он в эти минуты не защищен. И это человек, который в свои далеко не молодые годы может непрерывно изо дня в день простаивать за операционным столом десять, а то и более часов. А тут вдруг какое-то далекое воспоминание тронуло его и чуть не подкосило. Неужели душа его за столько лет не очерствела и осталась нежной и по-детски ранимой. Мало того, он пронес и сохранил в ней любовь к женщине.
Иван Прокофьевич начинает свой рассказ.
…Близ станции Русланихи, чуть левее, недалеко от переезда находится обувной магазин. Одноэтажный, с плоской крышей. С двумя фонариками у дверей и полевой тропинкой идущей к глухому забору давным-давно обвалившейся церкви. Я зашел в него этой весной совершенно случайно. У электричек — обеденный перерыв, и мне некуда было деть время.
Радуясь, из магазина выходили с покупками люди. Был май, и летняя обувь была так необходима.
Я бесцельно бродил по магазину, толкался, бегло рассматривал выставленную на прилавках обувь.
Мне понравились туфельки, нежные, с белой модной застежкой. Но, увы, мне некому их покупать. Я только закончил институт. Был холост. И хотя были у меня девушки, но они сами себе все покупали. Поэтому, перестав восхищаться женской обувью, я подошел к мужскому отделу. Подошел с мрачной, нарочитой серьезностью; огромные, чугунного цвета ботинки, сверкая заклепками, смотрели на меня, точно уставшие сомы, которых взяли и ни за что ни про что вытащили на берег.
— А на вас здесь обуви нет… — произнес тихий женский голос за моей спиной.
Я оглянулся. Милая женщина в форме работника торговли стояла передо мной и приветливо, а точнее заботливо, улыбалась.
— Мне не нужна обувь… — начал я. — Нынче… — и сбился, затем поправился: — Буквально через полчаса кончится перерыв в движении электричек… Поэтому я и оказался в вашем магазине, от нечего делать, просто так.
— Извините… — уже более спокойно и без всяких там улыбок произнесла она.
В какой-то рассеянности я пробирался сквозь толпу покупателей к выходу. Мне было грустно.
Я глянул на свои легонькие, купленные на институтскую стипендию год назад парусиновые штиблеты. По бокам они прилично истерлись, да и вид их был крайне не нов.
«Доктор должен одеваться чисто», — вспомнились слова одного профессора на выпускном бале. Я оглянулся, чтобы посмотреть на витрину, ведь бывает, что в целях рекламы там долго залеживается обувь. Однако моих размеров под стеклом я не нашел.
И вдруг, собравшись было уйти, я увидел ту самую женщину-продавца, которая первой обратилась ко мне в магазине. Взгляд ее был таинствен. Мне показалось, что я где-то ее встречал. Чуть-чуть подведенные голубые глаза. Легкий румянец. Прямые губы. Кажется, она училась со мной на первом курсе института. Пойти спросить ее… Да нет, к чему все это… — и, на прощание равнодушно взглянув на нее, я пошагал к станции.
Я спокойно доехал на электричке. Никто и ничто не предвещало мне плохого. Однако через день я неожиданно понял, что полюбил ее…
Весна этого года была как никогда красива. Она бродила, кипела зеленью. Она манила, предвещая много в жизни хорошего. Медовый крепкий запах весенних трав пьянил. Благоговейно я открывал окно в ординаторской. Вдали белым снегом полыхали вишневые сады. На лугах цвели цветы. И не замолкая пели птицы. Теплый воздух был как никогда нежен, он красиво подрагивал над нарядными дворами, ласково припадал к пашням и прошлогоднему жнивью.
Клубясь, плыли по синему небу огромные облака. Ярко светило солнце, отражаясь в бойких придорожных ручейках.
Я работал в этих краях по своей воле. Сам пожелал сюда распределиться. В больнице было только два хирурга при положенных шести. Так что работенки хватало. Я жил в прибольничном бараке. Питался на пищеблоке. Забот и хлопот у меня не было никаких.
И вот я вновь в магазине. У прилавка толкучка, что-то дают, кажется, дамские сапожки. Я быстро осматриваю зал. А вот и она. Нежно смотрит на меня, но не узнает.
— Вы меня не узнали? — ласково лепечу я. Меня то и дело толкают в спину посетители, но я не замечаю их.
И вдруг, вместо того чтобы ответить — да, она отвечает — нет. Сердце в груди запрыгало, а шум в ушах вдруг сменился топотом.
«Ну и дурачок… — подумал я про себя. — Это надо же, любовь себе такую выдумать. Три дня назад я стоял на этом самом месте. Тогда она сама позвала меня. А теперь вдруг не узнает…»
Я хотел убежать. Но какой там убежать. В магазине опять что-то выбросили, и толпа меня прижала к продавщице так, что я начал ощущать ее дыхание на своих щеках.
— Тебя как зовут? — спросила она.
— Леня… — ответил я. Толпа напирала сзади, но я не огрызался. Наоборот, я был счастлив.
— Не Леня, а Лекок, — засмеялась она.
И мне тоже стало ужасно весело Я верил в предчувствие, а еще в то, что в первый миг неудавшаяся любовь тут же переходит в настоящую.
— Вы женаты? — спросила она.
— Нет.
— А мы с мужем хоть и разведены, но он у меня живет.
Толпа кипела, гудела. Ради импортных босоножек она готова была повалить нас. Я рад был, что мы так быстро познакомились.
— Я все это время о вас думал… — прошептал я.
Она посмотрела на меня с улыбкой и ничего не сказала.
— Как вас зовут?
— Галя.
— А можно, Галя, я вечером к вам зайду?
— Зачем?
— Чтобы проводить вас.
— Пожалуйста…
И тут толпа успокоилась, видно, босоножки кончились.
Да, наверное, я полюбил ее. После работы я провожал ее домой. У меня не было в этих краях никого, кроме нее. Я увлекался Моцартом.
Ну, а еще я писал письма маме. Она у меня старенькая, очень внимательная к моей судьбе. Ей так хотелось, чтобы я женился на медсестре. «Два медика в семье — это здорово!» — напоминала она почти в каждом письме. Но время шло, а ее желание я так и не исполнял. Многие медсестрички в больнице были заняты, а те, что были свободны, требовали очень многого. А что с меня взять. Ни тачки, ни дачки.
Не знаю, полюбила меня Галя или нет, но после третьего моего провожания вдруг сказала.
— У моей подруги пустая квартира… В пятницу она даст ключ, и мы встретимся…
Я обрадовался. Галя многое понимала, а еще она была отличный собеседник. И когда уединяешься с такими, как она, людьми, они становятся очень притягательными. И здесь я почему-то вспомнил Фрейда. Нет, увы, я не был сторонником его учения. Мало того, его теория всеобщей победы чувств над душою мало убеждала меня. Я верил только в победу души. И часто порой вечерами в своей служебной комнатенке я долго не засыпал. Меня волновал вопрос: кто я? И что я? И долго ли я еще буду на этой земле? Я напрягал свой ум, тормошил душу. Но, увы, кроме данной ситуации, в которой я находился, я ничего понять не мог.
Как просто и очень легко полюбил я ее. Может, это произошло оттого, что я был совсем один в этих краях. А еще этот какой-то сказочный обувной магазин с двумя фонарями у входа, прижавшимися друг к другу, и с колокольчиками на витрине, и с пластмассовой елочкой, видно, оставшейся еще с позапрошлого года, ибо она сильно потускнела — солнце выжгло из нее всю зелень. Обувной магазин одна и, можно сказать, единственная достопримечательность поселка. Почему обувной магазин, а не магазин «обуви»? Да потому, что все его так называют, обувной магазин. Вечерами его витрина шикарно светится, и тогда кажется, что выставленная обувь, унылая и безрадостная до этого, вдруг оживает. Ну, а когда на стекле начинает отражаться месяц со звездами, то рассматривать обувь становится одно удовольствие. По вечерам к витрине часто приходят влюбленные, случайные прохожие, подростки, старики и даже станционный сторож. Всем нравится фантазировать. В эти минуты ни у кого нет тяжких тайн на душе. Сказочная обувь, женская, мужская и детская, необычно сияет перед глазами. Воображению нет предела.
— Вот так обувь!.. — в восхищении воскликнет кто-то. — Ее только красавицам носить.
И вслед за этим пойдут излияния и восторги. Кажется, не будет им конца. Но станционный сторож есть станционный сторож. В который раз как следует икнув, так как он объелся селедки с хреном, он вдруг скажет:
— Глупости все это. Бывают и красавцы дураки. Неужто я или вы эту обувку носить не сможем. Конечно, сможем. Лично мне всегда приятно приходить в этот час к витрине. У меня после этого аппетит появляется… Селедочки с хреном могу целых две баночки прямо без хлеба слопать…
Кто-нибудь обидится на его вот такое заключение. Другой равнодушно пожмет плечами. Но многие все же пусть и с улыбкой, но согласятся с ним. Ибо сторож, как видно, из ума не выжил, говорить умеет.
Освещенную витрину я часто вижу из окна предоперационной на ночных дежурствах. Сквозь шевелящуюся листву тополей обувной магазин походит на сказочный пароход, с щегольством подбегающий к берегу. И мне уже кажется, что я кого-то встречаю на нем. Вот тихо в темноту спустится трап. И на нем неожиданно появится та, которую я всю жизнь жду…
Скорее, скорее бы пришла долгожданная пятница. В четверг я зашел в магазин. Заметив меня, Галя оглянулась.
— Ой, а вчера я вас целый вечер вспоминала… — улыбнулась она и тихо добавила: — Ой, если, конечно, можно, купите шампанского. Я страсть как его люблю.
— Что вы, конечно, конечно… — торжественно произнес я. — Кстати, я могу вас обрадовать. Шампанское куплено. А еще я заказал огромный букет роз.
— Ой, зайчик, как здорово!.. — умиление ее было искренним и таким нежным, что я не знал даже, что и сказать ей. — Я люблю розы. При виде их я становлюсь сама не своя. Розы это пожар, страсть. Вот видите, как я умею говорить. Я когда-то хотела педагогом стать, учить людей… — заулыбалась она, внезапно помолодев.
Затем она с каким-то намеком спросила меня:
— А вам правда наш магазин нравится?
— Правда.
— Ишь ты, а я думала, вы пошутили. Лично мне он так, так надоел…
Я не спускал с нее глаз. Хотелось крикнуть на весь магазин: «Любимая, я не могу без тебя!»
Но вместо того чтобы крикнуть, я тихо сказал:
— Этот магазин мне дорог, потому что в нем я встретил вас.
Когда она смеялась, ее локоны вздрагивали. А венчик-челка, по-модному закругленная, чуть приподнималась.
Я счастлив. Как быстро изменилась моя судьба. Галя любит меня. Я чувствую это, да, да, чувствую.
— Не надо об этом… — сказала она в смущении. Она находилась за прилавком в двух шагах от меня. А мне казалось, что она целует меня…
Я оперировал легко. Мои больные выздоравливали быстро, потому что не было осложнений. Главврач был доволен мною. Ну, а когда я сконструировал новый операционный инструмент — ранорасширитель для аппендэктомии — и на конференции доказал, что он нужен, то главврач неожиданно перестал называть меня «зеленый» и часто на пятиминутках ставил меня в пример старикам. Я любил хирургию. Я был заражен ею.
Во время операции я забывал обо всем на свете. В этот момент исчезало даже мое сознание. Но стоило отойти от операционного стола, как перед глазами вновь появлялась Галя с милой простодушной улыбкой. Я проникался ее образом. И этот ее образ производил на меня необыкновенное впечатление. Что бы это значило? Были девушки лучше, были и красивее. А в поселке многие девицы, узнав, что я молодой врач и еще не женат, строили глазки, а некоторые добивались со мной и знакомства.
А может, и никакой Гали на белом свете нет. Может, я просто выдумал ее. Но если, допустим, я выдумал Галю, то обувной магазин я выдумать не мог. Он виден из окна предоперационной.
Стоило мне после операции хоть на минутку увидеть обувной магазин, как на душе легчает. В обувном магазине работает Галя. И она смотрит сейчас небось в мою сторону, как и я в ее.
«Чехарда какая-то… — думал я, пожимая плечами. — Абсолютно незнакомая женщина, и вот тебе на. И старше меня на три года, имеет ребенка и мужа, пусть он даже и разведенный с ней… А что скажет мама, если узнает?..»
Я прокручивал в голове сотни инструкций — советов бывалых мужиков, специалистов по ухаживанию за дамами. Но ни одна из инструкций не подходила ко мне. Случай, происшедший со мной, был единичный, неповторимый.
Я был в каком-то забытьи. При виде ее я терялся, я переставал быть самим собой. Не знаю, понимала ли она это или нет.
И вот в долгожданную пятницу я поднимаюсь за ней следом на второй этаж, ключ от квартиры в ее руке. Брелок звенит, она на ходу то и дело перебирает пальчиками цепочку. А ее другая рука в моей руке, до чего же она теплая, а по нежности с ней не сравним никакой бархат. Я полон желания остановить ее, чтобы сказать ей что-то важное. Но у меня почему-то нет сил приостановить ее. Я покорно плетусь следом. В свободной руке моей сумка. В ней огромный букет роз, две бутылки шампанского, а на дне медицинский халат. Сегодня я ушел с дежурства, а точнее, договорился с коллегой, чтобы он отдежурил за меня и вечер и ночь. Галя выглядит прелестно. На ней модное длинное платье, белые туфельки и соломенная шляпка. Она улыбается, и легкий румянец на ее щеках тут же превращается в жар.
Я соглашаюсь со всеми ее высказываниями. Я повинуюсь ей во всем. Я киваю даже там, где кивать не положено. Но, увы, я ничего с собой поделать не могу. Я влюблен. Мало того, совсем недавно я сам себе дал обещание любить ее всю жизнь.
Ну почему мы очень долго поднимаемся на второй этаж?
— Спасибо, спасибо за все, за все… — лепечу я ей на ухо.
А она смеясь с любопытством смотрит на меня.
— Погодите еще благодарить за все.
И, заглянув в лицо, треплет меня за холку точно котенка.
— Ну, зайчик…
Смущаясь, я краснею. А потом открываюсь:
— На днях я написал маме о вас.
Она удивляется.
— У вас еще мама есть?
— Да…
— И вы ее слушаетесь?
— Да…
Она смеется. Ей весело. Мне тоже. Неловкости друг перед другом как и не бывало. Не скрывая чувств, я крепко обнял ее.
Мне нравится, когда она называет меня зайчиком. Этим немножко глупым словом, которое она произносит не всегда к месту, она очаровывает меня еще сильнее. И пусть иногда она произносит это слово серьезно. А мне все равно смешно, приятно смешно. В последнее время ко многим ее словам я стал относиться точно к лепету ребенка. Ведь когда любишь, ты не замыкаешься на мелких деталях.
Вот ее рука таинственно прикасается к стене. Дорогие перстеньки дрожат и блестят точно рыбьи глаза. Остановившись и прислушиваясь к чему-то, она замирает. И с преувеличенной строгостью смотрит на меня.
— Вас можно поздравить… — произносит она и одеревенело улыбается, а может, даже от света стала ее улыбка такой. — У меня не было мамы. Она умерла, когда мне было всего три года. Я ничего о ней и не помню. Как я в детстве была одинока, если бы вы только знали…
Я в смятении. Не знаю, что и сказать. Странное волнение, которым охвачена она, передалось и мне.
— Ладно, это в последний раз… — она прижала платочек к глазам и уже с прежней строгостью добавила: — Я обещаю вам, что я больше не буду говорить об этом.
В эти минуты она была самой слабой в мире. Но не менее слабым был и я.
— Да, вы правы… — пролепетал я и поцеловал ей руку.
Она была мне дорога как никогда. В ответ она погладила меня по голове. И я прижал ее руку к груди, позабыв, где я нахожусь. Две старушки, прошедшие мимо нас, друг другу сказали:
— Хотя и благородно, но в наш век это дико…
— Я люблю вас, понимаете, люблю! — запинаясь, пробормотал я.
— А вы не ошибаетесь?
— Нет, нет.
И если бы в эти минуты ее отобрали у меня, то я, наверное, умер.
— Каждый день вы говорите мне люблю, люблю. И мне приятно, что я вами любима, особенно сегодня!..
Квартира была двухкомнатной. Галя чувствовала себя в ней совершенно свободно, видно, не раз была в гостях у подруги.
Как только дверь за нами закрылась, я поцеловал Галю.
— Сумасшедший… — засмеялась она. Глаза ее были робки, несмелы. Зато лицо горячее-горячее. Она внимательно посмотрела на меня, как смотрят только продавцы на покупателей.
Видно, стараясь угодить мне, она включила музыку. Магнитофон был старый, обшарпанный, но единственная кассета звучала сочно и мощно.
После шампанского она стала какой-то нежно-беспомощной.
Ничего не боясь, я говорил ей о своей любви к ней. И она в каком-то блаженстве слушала, сменяя один глубокий вздох другим. Она покорила меня своей легкостью и грациозностью, ибо по комнате она двигалась совсем иначе, чем в магазине. Ее движения были полны свободы, а покачивание бедер несло в себе такой темперамент, что только глупый не смог бы его заметить.
Я восторгался ею. Я был счастлив. Все же как-никак, а квартира есть квартира, не то что мой больничный барак без всяких удобств и массой любопытных жильцов.
— Зайчик, я тебе нравлюсь? — спрашивала она, кружась со мной в танце.
— Люблю… — восторженно шептал я.
Из приоткрытого окна с жадностью врывался в комнату ветер, занося с собой запах сирени. Но я не замечал его. Я думал о ней. «Мама не права, можно жениться не только на медсестрах, но и на продавцах…»
— А что такое любовь?.. — вдруг с какой-то беспечностью спросила она меня.
Я растерялся. Как, как ответить ей, женщине, испытавшей и повидавшей на свете больше, чем я. На столе стояла чашечка с кофе. Я залпом выпил кофе. Но растерянность не снялась. Как врач я знал, что, если принять кофе в такой дозе, его действие начнется примерно минут через пять.
Продолжала играть музыка. Она стояла у окна и, сияя глазами, смотрела на меня из темноты.
— Если бы вы представляли всю силу моей любви к вам… — прошептал я. Музыка утихла, и я мог разговаривать с ней шепотом. — Впервые увидел вас, и впервые…
Она улыбнулась. Затем подошла ко мне.
— Небось будешь скучать по мне, если я тебя брошу… — эту фразу она не прошептала, а выкрикнула.
Она руками нащупала мою грудь Затем бесстыдно-жадно начала целовать в щеки, губы, нос. Видя темный контур ее шеи, я шептал:
— Милая, я люблю тебя, я люблю тебя.
— Как мне тебя отблагодарить за такие слова… — ласково сказала она и тут же засмеялась таинственно, еле слышно. — Побойся бога, лучше бы подумал, кого ты полюбил…
В эти минуты я был как никогда откровенен.
— Мне сейчас все равно…
Я наслаждался ее ласковым взглядом. Я был беззаботен. Счастливая дымка захватила мою голову. «Выходит, в чем-то Фрейд прав. Почти все отношения между мужчиной и женщиной подчинены чувствам. И все ради этих чувств в мире и происходит…»
Я был двухметрового роста. Здоровье во мне пылало. Даже в трескучий мороз я мог преспокойненько окунуться в прорубь.
Выпив шампанского, она опьянела. А я хоть бы что, наоборот, взбодрился.
Она замолчала. А затем вдруг сказала:
— Раздевайся…
— Не понимаю… — пролепетал я.
А она опять:
— Раздевайся. Быстро…
Поначалу в растерянности я без всякого смысла завертелся, задвигался.
— Через час мне дома надо быть, понял, зайчик… — продолжала она, раздеваясь. — Муж в любой момент нагрянуть может. Увидит меня штормовую, так места на мне живого не оставит, всю измусолит. Язва он, сатана. Сатана был, сатана и есть. Алиментами укоряет, да чхала я на его алименты. Не могу я, зайчик, — понимаешь, не могу его переносить… И, прижавшись ко мне, она заплакала.
От страха меня охватил озноб. Я был перед ней абсолютно гол. Ветер из приоткрытого окна холодил мне затылок, спину, ноги.
Выплакавшись, она, взяв со стола сигаретку, закурила. А когда погасила свет, то напряженности между нами как и не бывало. Мы отдались ласкам. Но минут через пять она вдруг как крикнет:
— Почему я должна мучиться, пусть он мается…
— Ты это о ком? — тихо спросил я ее.
Она пристально посмотрела на меня. Губы ее дрожали. И слезы, вновь слезы были в ее глазах.
— О муже… — и продолжила: — Какой-то мерзавец. Ведь по закону развелась. А он позавчерась пришел и всю одежду мою порвал, разбил посуду. Дочку хотел забрать, хорошо бабушка дома была, не дала…
— Ошалел он, что ли?.. — посочувствовал я.
— Сатана есть сатана… — нервно шевельнула она бровями.
Мне хотелось с ней говорить о любви. Я согласен был даже забыть о душе и предаться чувствам, несчастный Фрейд, которого я постоянно ругал, был мне теперь близок.
— Галя, я люблю тебя!.. — сказал я вновь ей и поцеловал в мочку уха.
— Ужас, как жарко!.. — вздохнула она. — Очуметь можно… — и опять завела разговор о муже: — Я его не трогаю, почему он меня трогает, — видно, ее действительно «заштормило» от шампанского, ибо она понесла бог знает что: — И пусть я птица подневольная, но с кем хочу, с тем и гуляю… Понял, доктор, ты понял меня…
Ужас охватил меня. На душе вдруг стало мерзко, страшно. Но Галя не останавливалась, она продолжала:
— Разве вас, мужиков, поймешь. Первый год он хорошим был, а со второго из повиновения вышел. Ревновать стал. А то порой напьется и душить лезет. Крысой обзывал, вот в благодарность за то, что я ему дочь родила… — Она говорит торопливо, развязно, то и дело прижимая руки к груди. — Доктор, а ты понимаешь, я ведь тоже человеком хотела стать. И, может быть, даже стану. У меня мечта стюардессой стать, выучу английский и в загранку пойду, шмотки, бабки, валюта. Это ведь не то что в обувном магазине из-за стольника горбатиться. Там уж, извини, я не квас-шампанское буду пить, а «Наполеон» или «Рики-тавири».
Я молча слушал ее. А она все говорила и говорила. Говорила совсем не то, чего хотелось мне. Во всей этой ее истоме-исповеди не было, да и не могло уже быть места любви. А может, и не было у нее ко мне никаких чувств. Может, просто она решила со мной поиграть. И всю эту любовь я сам себе выдумал. Нет, нет, я ее не придумал. Просто в обувном магазине, находясь на людях, она была совсем иная, чем сейчас.
Я успокаиваю ее. Хотя сам растерян. А она, обнимая меня руками, спешит продолжить:
— Мне тридцать, и я не глупая, как некоторые. Я обязательно стану стюардессой, вот увидишь, смилостивится бог. Ну, а еще совершенно неожиданно на днях я решила уйти от бедности. Я боюсь даже говорить тебе об этом, неловко как-то. Вдруг неправильно поймешь, ведь ты образованный, не то что я…
— Говори, — ласково попросил я ее.
— Короче, я решила завести поросят. На днях беру пять кабанчиков. Ты представляешь, к осени каждый кабанчик будет стоить что-то около семисот рублей. Пойми, это же деньги. А мне так машина нужна, так нужна. Я просто обожаю ездить в машине. На ней я буду ездить на работу, чтобы знали наших. А насчет комбикорма никаких забот, сколько я пожелаю, столько и будет.
— Но ты же днями работаешь, а поросята любят уход… — впервые перебил я ее.
— Так не я же буду ухаживать, а бабушка. Ей все равно делать нечего… — на какую-то секунду она, посмотрев на меня, сконфузилась, но ненадолго, прежний, поросячий восторг вновь завладел ею.
— Мне отец три тысячи перечислил. А остальные я с поросят соберу. Ну, а теперь я хочу познакомить тебя со следующим сюрпризом.
Она еще что-то говорила о муже, потом о сестре, затем о том, какая она хозяйственная и добрая. Но я не слушал ее.
«Как же это я мог так опростоволоситься, — думал я, натягивая брюки, ибо почти вся кожа на мне покрылась пупырышками, а руки и ноги от холода начинали дрожать. — Вместо того чтобы в порядочную женщину втюриться, я в дурочку втюрился. Зачем и для чего мне все эти ее проблемы. На кой ляд они мне. Я пришел с ней сюда не для этого. Оказывается, она не меня безумно любит, а поросят… Батюшки, вот дурак так дурак, не хватало мне еще поросят, — и от такого горя я уж чуть было не прослезился. — Вот опять ко мне со своим мужем пристает. Да если разведена с ним, какой же он теперь ей муж. Тоже мне, прохвост, неужели баб других на белом свете нет, что он к ней приклеился. Тем более она стюардессой собирается быть, в иноземные страны летать… Неизвестно только, кто тогда будет комбикорм поросятам доставать…»
Перед моими глазами предстала свиноферма, и я явственно вдруг ощутил специфический запах. Меня затошнило. И я тут же зажал нос.
— Что с тобой? — кончив свою болтовню, обратилась она ко мне. — Неужели тебя тоже заштормило. Да, да, конечно, заштормит, ведь ты же ничего не ел…
Она принесла мне стакан, воды. И я жадно его выпил. Затем второй, третий, покуда не отбил от себя специфический запах.
— Ты думаешь, если руки у меня наманикюрены, то труда не знают. Нет, знают, да еще как знают. Мы с бабушкой в частном доме живем. Единственно, это печку не приходится топить, у нас газ; а вода почти за километр, вот и приходится мне каждый день перед работой и после работы полные ведра таскать. Вот видишь, венки на тыле проступают, это от ведер. А чтобы мозолей не было, я шерстяные перчатки надеваю, хотя все равно от тяжести красные пятна на пальцах целый день сверкают. Чтобы они были менее заметны, я их пудрой присыпаю… — И она обняла меня. — Будет тебе дуться на меня… Ты, наверное, думал, что я тебя люблю, нет, ты мне просто нравишься. Все же как-никак ты доктор, так что, может, когда-нибудь и пригодишься, у меня шофера, таксисты, электрики, сторожа были, а докторов не было. Ты первый у меня такой, великанчик мой хороший… Ну, зайчик, чего приуныл. Я, чай, тоже не дура, баба — ума палата.
Я прикрыл глаза. А она обнимала меня, целовала. Нет, я не был оскорблен или удивлен. Я просто понял, что сегодня в этой квартире я потерял ее и как женщину, и как человека. И если раньше я любил ее нестерпимо сильно, то теперь был равнодушен. И все ее просьбы исполнял просто так, без всякого для себя удовольствия, лишь бы только не обидеть ее. Был вечер. И вечерний свет чувствовал себя в комнате свободно и развязно. Ее обнаженные плечи необъяснимо блестели, а может, даже они были намазаны кремом, она, как и все красивые женщины, любила косметику.
Она прятала лицо на моей груди. Видно, ей хотелось быть для меня близкой.
Тайком, на ощупь дотянувшись рукой до выключателя, она погасила ночник. И огромная тень, похожая на черную собаку, выскочила в окно. И здесь я то ли захмелел, то ли вновь поддался влиянию Фрейда, короче, я забылся. Я не видел ее лица. Но как удивительно прекрасен и таинствен ее шепот А как очаровательно нежны ее движения.
— А ты опосля пойдешь меня провожать?.. — спросила она.
— Пойду, пойду… — пробормотал я и добавил: — С тобой я готов пойти даже на край света.
И в этой темноте она вновь меня поразила. Она была, как в обувном магазине во время работы, чистой, осторожной и очень уверенной в словах.
«Как может быстро меняться человек…» — подумал я вслух.
И, вздрогнув, она певуче спросила:
— Ты о ком это?..
И я дружелюбно ответил:
— Это стихи.
— Твои?..
— Нет, Есенин…
Теперь она не была мне чужой. В темноте, предав самого себя, я оказался вдруг сторонником Фрейда. Вот и пойми человека.
За окном луна светит не в меру ярко. И звучит где-то выше этажом магнитофон.
— А правда прооперированные люди долго не живут?.. — спрашивает она меня.
— Кто тебе это сказал?..
— Да так, один чудак…
— Нет, он не прав.
Она лежит со мной рядом кроткая, милая. И то прежнее сказочное ощущение любви вновь возвращается ко мне. «Только бы о муже больше не говорила и о поросятах. Об английском и стюардессе можно…»
— Мне так хочется стать твоей больной, — шепчет она и, вдруг вскочив с постели, включает в комнате свет. И утихшая было во мне обида вновь возникает.
— Да, да, конечно… — бормочу я.
— Не конечно… А я хочу быть вечно твоей больной. Исцели меня так, чтобы я долго, очень долго жила. Я люблю жизнь и хочу жить. У тебя есть ум, знания, и ты должен мне помочь…
«Вот так продавщица… — думаю я. — Она не то что магазином, торгом сможет командовать. И у ней действительно ума — палата…»
Она невероятно быстро оделась.
— Ладно, будет-тебе дрыхнуть. Поспешай. Ты обещал меня проводить.
Впопыхах, кое-как выпиваю чашку чая. Она не пьет, лишь изредка посматривает на меня, ибо всецело занята приведением своего лица в надлежащий вид. У ней полная сумка косметики, и со стороны мне кажется, что можно запутаться во всех этих баночках, флакончиках и пузырьках. Но ей хоть бы что, они умело мелькают в ее руках.
А затем она вновь заговорила о муже. И в растерянности я кое-как проводил ее домой.
Поздно ночью я пришел к себе в больничный барак. Не раздеваясь, упал на кровать. Обеими руками обхватил голову. Я не был сторонником Фрейда, и как положено тому быть, он покидал меня. «Это не женщина, а какое-то наважденье. Она в двух лицах. И я должен выбрать и полюбить ее только в одном лице. Но это же немыслимо. Я должен тогда отказаться от многого».
Чтобы хоть как-то выйти из создавшегося затруднения, я подошел к проигрывателю и, включив его, поставил пластинку с концертом Моцарта.
Через несколько минут музыка подняла настроение. И душа, которая до этого во мне на какой-то период окоченела и к которой я долгое время не мог докричаться, вдруг ожила. И вновь я стал прежним, юным и немножечко наивным. Да и кому охота с головой уходить в жизнь, ведь намного приятнее витать в облаках и создавать те образы любви, о которых ты мечтаешь. Моцарт освежал мое сознание, вливал силы. И хотя было за полночь, мне не хотелось спать. Целую бы вечность я слушал бы музыку и видел перед глазами Галю, которая работает в обувном магазине. Я буду встречаться с ней в обувном магазине, но только не за пределами его. Я не хочу потерять любовь. И покуда я живой, я должен, я обязан любить.
Постепенно к утру, окончательно запутавшись в новых мыслях, я заснул.
В последнее время операций в больнице много. Заболел мой напарник-хирург, и мне приходится работать за двоих.
За весной наступило лето, теплое, полное, ясное. К вечеру, когда закончены все мои дела, я, выйдя из больницы, не к себе иду, а в обувной магазин. Пуще прежнего в последнее время полюбил я Галю. Знает ли об этом она, трудно сказать.
Мне нравится, когда она стоит в магазине за прилавком, ласковая, нежная. Без всякой грубости и в который раз пленяя меня своей красотой и беззаботностью, она с улыбкой скажет:
— В последнее время вы почему-то не хотите меня провожать…
— Дела… — в смущении отвечаю я. — Мало того что работаю за двоих, но на меня еще взвалили ночные дежурства.
— Ну, хорошо… — и, посмотрев на меня по-новому, она вдруг скажет: — А я тут совершенно случайно познакомилась с таксистом. Такой прелестный парень, мало того что он бесплатно доставляет до дому, так он всю дорогу читает стихи…
— Есенина?
— Да, да, Есенина… — она отвечает мне с такой искренностью, что моя привязанность к ней возрастает.
Толком не зная зачем, я смотрю на обувь совсем не моего размера. Затем смотрю и на нее. Как таинственно красиво светятся ее глаза. Она рада. Рад и я. И эта краткая радость дает мне могучую силу.
У меня нет в этих краях близких людей. Я одинок. И, наверное, если бы не обувной магазин, то я бы сошел с ума.
— Доктор, не забывайте свою больную… — по-детски кричит она мне и машет на прощание рукой.
К магазину подъехало такси. И водитель, совсем еще юноша, браво выйдя из машины, руками сквозь стекло витрины просит Галю выйти к нему.
— Что вы здесь делаете?.. — я вздрагиваю. Передо мной стоит главврач, он строг, солиден, надменен.
— Выбираю обувь… — как можно спокойнее отвечаю я.
— Хорошо, но не каждый же день ее выбирать… — и, дружески похлопав меня по плечу, смеется.
Я молча, тихо выхожу из магазина и, подставив лицо летнему ветерку, иду к больнице. Перед глазами дорога, деревья и Галя, которую я люблю и без которой, как мне кажется, я уже существовать не могу.
Иван Прокофьевич, закончив рассказ, взглянул на часы. От неожиданно налетевшего ветра форточка на окне раскрылась, а затем вновь закрылась. Старый доктор, достав сигареты, подошел к окну и закурил. Словно отыскивая что-то, он смотрел через окно в темноту, туда, где раньше стоял обувной магазин. Затаив дыхание, мы молча смотрели ему в спину. Вдруг Иван Прокофьевич резко повернулся к нам. Лицо его было белым, точно снег. Благородство, так свойственное его натуре, вновь проступило в его чертах.
— Коллеги… Я лично такого мнения, что любовь, о которой я рассказал, единичная, так сказать, исключительная в своем роде. С моей стороны здесь не было никакой игры…
И если до этого он был спокоен и сдержан, то после последней фразы засуетился, затоптался на одном месте, словно не знал, куда себя деть, словно был рассержен на себя за что-то. Не вынимая сигареты изо рта, он стал раскуривать ее неестественно жадно и шумно. Дымок широкими полосками тянулся к форточке и исчезал.
Мы молча смотрели на старого доктора.
ДАЛЬНЯЯ СТОРОНА
Деревня Васюки далеко от Москвы. Я был послан в нее из клиники помочь местному врачу провести медосмотр. На вокзале провожала меня почти вся кафедра. Наукой я особо заниматься не хотел, однако вследствие распределения приходилось это делать. Прощаясь со мной, мне жали руку бородатые доктора, молоденькие ассистенты и вертлявые лаборантки-модницы. Я смущался. Ощущение было таким, словно не я подчиняюсь им, а, наоборот, они мне подчиняются. Оказывается, в Васюках они почти все раньше перебывали, и не один раз. В разговорах часто вспоминали эту старинную русскую деревеньку. Восхищались ее жителями, простором полей, редким по вкусу воздухом. Однако не только ради этого пришли они меня провожать. Почти все они просили:
— Сережа, будь добр, захвати хлебца. Какого, не важно. Главное, чтобы васюковский был…
И совали пакеты для хлеба. Я в растерянности держал пакеты, не зная, куда их деть. Наконец один из профессоров, худенький, маленький старичок, достал из кармана пустой полиэтиленовый пакет-сумку, ловко расправил его и сказал:
— Ссыпай сюда…
Я, как грибы, высыпал эти наказные пакеты в его сумку.
— Можешь отчет позабыть. Но уж хлебца обязательно захвати… — солидно хихикнул профессор и кроме своего, набитого чужими пакетами, фирменного пакета-сумки подсунул еще один дополнительно.
— Это для страховочки, на всякий случай…
И тут я, не выдержав, сказал:
— Товарищи, учтите, то количество хлеба, которое вы наказали, обойдется мне в копеечку.
— Там все проще… — успокоили они. — Хлеб в Васюках раздается бесплатно… И не вздумай платить, обидятся. Как только приедешь в Васюки, люди сами тебе его начнут предлагать. Вот увидишь…
Пожав плечами я вздохнул. Строго и как-то измученно посмотрел на интеллигентное окружение и соглашающе махнул рукой.
— Ладно, если, как вы говорите, будут с ходу горы хлеба предлагать, привезу…
Все от радости запрыгали, захлопали в ладоши. А две молоденькие лаборантки-модницы чмокнули меня в щечку.
Машинист электрички три раза протяжно свистнул, предупреждая о том, что состав вот-вот тронется. Запрыгнув в вагон и держа в одной руке чемоданчик, а в другой пакет-сумку, набитую пустыми пакетиками, я стал соглашающе-удовлетворенно кивать на страстные помахивания рук сослуживцев.
— Хлебца не позабудь… — вновь закричали они. Дверь электрички закрылась, и, легонько дернувшись, состав быстренько покинул платформу.
Кинув пакеты и чемодан на верхнюю полку и усевшись поудобнее в кресло, я стал смотреть в окно.
Осень была в разгаре. И золотистые листья опадали с деревьев. В синем небе перед дальними скорыми перелетами молодняк журавлей опробовал крылья. Возле при дорожных домов были видны ладные стога сена. А на столах под навесами горками лежала капуста. Еще не порубленная, кочанная, она вспыхивала под лучами солнца белизной. «После того как заготовят капусту, жди холодов…» — вспомнились мне бабушкины слова.
Густой белый дым мелькал в огородах. Это жгли картофельную ботву и прочий послеуборочный хлам. Положив лицо на руки, я внимательно смотрел на убегающие за окном дома, леса и поля. Я рад был поездке. На кафедре, куда я распределился после института, я был одинок. Жилья у меня не было, жил я в общаге по лимитной прописке, рассчитанной всего лишь на три года. Почему я попал на кафедру, я не знал. Не знал и заведующий. Наш курс был «малоученым», то есть в науку никто не подался, все решили быть практиками. Поэтому и пришлось затыкать дырки на кафедрах такими вот, как я, ни на что не претендующими врачами.
Кафедра оказывала помощь селам в плане проведения медосмотров. Хотя делалось это больше на бумаге. В деревню из ассистентов и профессоров никто ехать не хотел. Время у них рассчитано по минутам, головы забиты сверхидеями, поэтому отвлекаться на второстепенные дела ни в коем случае нельзя, в любой момент можно прозевать открытие. Мое появление на кафедре как «неуча» было как раз кстати. Своими выездами на село я должен был перекрыть ранее происшедшее катастрофическое недовыполнение медосмотров и заодно снабдить кафедру деревенским хлебом, который ученые мужи обожали употреблять.
В свой чемоданчик я положил все необходимое: аппарат для измерения давления, фонендоскоп, руководство по расшифровке электрокардиограмм, рецептурные бланки и документальные формы спецотчетности, заполнив которые я затем должен был сделать заключение, помолодел ли инфаркт миокарда на селе или нет. Как врач-кардиолог, я заранее примерно знал, что трактористы страдают гипертонией, скотники и доярки — спазмами сосудов сердца, а работники силосных ям — учащенным сердцебиением, ибо уже давно доказано, что специфический запах всех силосов, и особенно кукурузного, возбуждает сердечно-сосудистую систему.
В Васюках был всего-навсего один лишь здравпункт. Я дал фельдшеру заранее телеграмму, чтобы он недельки на две взял из района переносной электрокардиограф. Дня через два он ответил мне, что электрокардиограф будет.
Так что я ехал в Васюки со знанием дела. Мало того, меня охватывала приятная гордость, ведь я как-никак не просто врач, а ассистент столичной кардиологической клиники. Если приложить мою условную номенклатурную единицу к васюковскому масштабу, то я для них есть самая что ни на есть интеллигентнейшая единица, созданная специально для зависти. Однако, откинув в сторону все фантазии по поводу своей личности, я радуюсь причудливой природе за окном. Ощущение такое, словно я заново знакомлюсь с этим осенним миром. Пассажиры то и дело передо мной меняются. Одни выходят, другие входят. Молчаливые, тихие, они в отличие от меня не глазеют в окно, а думают о чем-то своем. Молодой парень, сидящий напротив меня, сложив на брюшке пухленькие пальчики и прислонившись к стене, смачно посапывает. Рядом с ним старушка, видно его мать, смотрит на свои жиденькие туфли. Взгляд стеклянный, осторожный. Голова часто падает на грудь, и тогда кажется, что глаза ее могут выпасть и со звоном разбиться у моих ног. И словно это вот-вот произойдет, я поджимаю ноги под кресло.
За окном монотонно шумит ветер, и на переездах предостерегающе вторит ему пронзительный по остроте свисток машиниста. Позади остался Загорск, Александров. Минут через сорок будут Васюки. Сердце мое сжималось при виде огромных просторов. И прислоняясь щекой к стеклу, я всякий раз вздрагивал, если видел где-нибудь вдали или, наоборот, совсем близко маленькую заброшенную церквушку, к которой ветер неизвестно каким только образом прилепил семена диких трав. И вот уже как ни в чем не бывало кустятся вокруг колокольни у самого креста полынь и резеда, прорастая узорными корнями цемент и кирпич. А порой, глядишь, уже и крохотные деревца вокруг купола копошатся, обычно березки, реже осинки. Слабенькие они, так и кажется, вот-вот упадут. Ветер, поднимая пыль, несет и несет к ним землицу, и они, на удивление всем, живут. Неприятно видеть такое запустение церквушек на фоне изумрудно-хрустальной осенней поры. Даже словами не передать возникающей при виде всего этого грусти. Наши предки строили храмы, душу в них вкладывали. Надеясь остаться в памяти. А память разрушили.
Глядя на церквушки, повздыхаешь, посокрушаешься и тут же, поняв свое бессилие перед всем этим громадным варварским явлением, с сожалением вздохнешь.
Монотонно стучат колеса электрички, на поворотах и спусках шумно басят тормоза, и от их действия вагон дрожит. Печаль и уныние сменяются усталостью. Сегодня я рано встал. Затем на кафедре целый час оформлял документы. А когда сотрудники навязались меня проводить, я переживал, как бы не опоздать на электричку, ведь у васюковской платформы не каждая останавливается, да и до самих Васюков добираться от платформы целый час. Глаза незаметно слипаются, и я не вслушиваюсь в стук бегущих колес.
…До чего же мила осень. Вот вновь я вижу голубоватое небо с беленьким солнцем. На изгибе поезд замедляет ход. И опять громадный чудесный храм предстает перед моими глазами.
Неожиданно у ворот его появляется какой-то старик. Быстро сняв шапку и приставив ладошку ко лбу, он внимательно смотрит на состав. О чем он думает? Он в лаптях, за плечами плетеная котомка. Губы подергиваются, пушится на ветру седая борода, зыбя вокруг себя воздух.
Бедный ты мой предок. Все мимо тебя несутся. Нет до тебя никому дела. «Вот тебе и вольная!..» — вздыхает он, глядя на состав. Я близко вижу его сконфуженное лицо с блестящими, чувственными глазами. Горькая усмешка сковывает губы. И старинный славянский лик, полный веры, смотрит на меня.
— Почему у нас это случилось?.. — хочется спросить мне воздух, деревья, багрянцем алеющую дорогу, деревянную цаплю на станционной крыше. Но волнение перехватывает дыхание.
Постепенно старичок уменьшается. И от этого на душе становится еще тяжелее. Я прилип к окну, глаза скосил влево, смотрю туда, где он стоит. Я узнал его. Это мой прапрадед… Ветер приподнял у его ног листву, закружил над головой. И вот он уже, придерживая рукой белесую бороденку, кажется мне утонувшим в разноцветной осени. Чтобы не потерять его из виду, я вскакиваю с места. Он, заметив меня, учтиво кланяется.
Молящий взгляд старичка, уменьшаясь, дрожит. Он рядом, он передо мной. Низенький. С ладанкой на шее. Жар охватывает меня. Я собираюсь крикнуть ему: «Дедушка, это я!..» Но тут вдруг кто-то рядом со мной как крикнет:
— Трофимыч, вот если бы здесь был одеколон, можно было бы и сойти.
Я в испуге вздрагиваю. Видение улетучивается. Перед глазами поле, покрытая багрянцем дорога, рядом полуразрушенная церквушка и станционный домик с перевернутой деревянной цаплей на крыше, а старичка нет. И как ни силился я отыскать его взглядом, его, увы, нигде не было.
— Ты прав… — сказал второй голос. — Согреться сейчас в самый раз… — и вздохнул. — Эх, жаль, что здесь одеколон не продают…
Два огромных мужика с нахлобученными на глаза картузами и в огромных резиновых сапогах сидели рядом со мной. В руках у них были грибные корзины.
Длинноносый мужик, сидевший рядом, удивленно покосился на меня, а затем произнес:
— Ты чего это, парень, вспотел. Бабу, что ли, увидел?.. — и на пару с соседом заржал. — Вместо того чтобы за окно к ней прыгнуть, пеньком сидишь…
Они ржали в полную глотку. И радости их не было конца. Я вспыхнул. Хотелось накинуться на этих грибников с кулаками и доказать им, что я совсем не тот, за кого они меня принимают. Огромная сила от мужиков так и пыхала. «Им шею сломать ничего не стоит…» — И, чтобы скрыть волнение, прикрыл глаза ладонью. «Скорее бы Васюки… И мест, как назло, нет свободных, куда бы можно было пересесть…»
От обиды губы запрыгали. Но вдруг длинноносый дружески хлопнул меня по плечу.
— Ладно, парень, пошутили, и будет, — и добавил: — В дороге немного встряхнуться на грех. А то, чего доброго, станцию проспишь, время, сам знаешь, позднее… Тебе куда ехать?..
— В Васюки… — тихо ответил я, подозрительно оглядев его с ног до головы. Мне казалось, что он опять собирается что-нибудь отчебучить.
А он, удивленно посмотрев на меня, как хлопнет руками:
— Вот тебе раз… А про Васюки полчаса назад объявили, что электричка останавливаться не будет.
— Как так? — удивился я. — По расписанию, именно эта электричка должна останавливаться.
— Да начхать железной дороге на твое расписание… — продолжил он. — В Васюках платформа ремонтируется, поэтому всякая высадка исключена.
Я растерялся. Но он успокоил меня:
— Ничего страшного, сойдешь в Гребешках, это в пяти километрах от Васюков. Автобус непрерывно туда ходит.
Схватив чемоданчик и сумку с пакетами, я быстро кидаюсь к выходу. В это же время останавливается и электричка. Дружески помахав рукой мужикам, вовремя предупредившим меня, схожу на станции Гребешки. Здесь же быстро сажусь на первый попавшийся автобус и по пыльной дороге несусь в Васюки.
В вечерней темноте то слева, то справа вспыхивали огоньки в дальних домах. Изредка налетал мелкий дождик и, появившись, тут же исчезал. А темнота все прибывала и прибывала. Она проникала и в электрический свет, и в капли на оконном стекле. Она касалась моей щеки. Я чувствовал, как она обволакивала лоб и руки, которыми я упирался в пустое сиденье, находящееся передо мной. Темнота кружила над автобусом, бросая его куда-то в сторону. И, наверное, поэтому водитель спотыкался, путая дорожные колеи с непролазной грязью. Фары хотя и ловили дорогу, но освещали ее лишь метров на пять, не более. Последождевой туман, ползущий навстречу низом, был непробиваем.
— Сенька, не спеши… — сиповато наставляла водителя сухонькая старушка, сидевшая рядом с ним. — Попадемся коту в лапы, придется всю ночь куковать.
Водитель был парень молодой. Он, видно, только что пришел из армии, так как вместо рубашки на нем была гимнастерка. Дорога его раздражала. Резко крутя баранку то вправо, то влево и при этом свирепо сверкая глазами, он ругал депутата Матвеича, который по наказу избирателей должен был отвечать за эту дорогу, но отвечать, как видно, никогда не отвечал. На бабкины замечания он не обижался. Воспринимал все ее наставления как шутку.
Мало того, она его подбадривала. И он не падал духом. В улыбке обнажив крепкие белоснежные зубы и поправив на голове засаленную кепку с пластмассовым треснутым козырьком, он ей по-свойски отвечал:
— Слава Богу, бабуль, я дорогу не забыл.
— Там у поворота борона лежала… — перебивала его бабка. — Гляди, не пробей колесо…
— И это знаю, — смеялся Сенька.
Женщина, сидевшая рядом с бабкой, фыркнула:
— Ты что, бабуль, в помощники к нему подрядилась. Он все без тебя знает. Это его работа. Он не бесплатно везет, мы ему заплатили…
— Что вы мне все рот затыкаете… — вспыхивала бабка. — Я не с вами разговариваю, — и, пренебрежительно и сердито оглянувшись на всех, добавляла: — Он крестник мой… Когда заболел, я вместе с его матерью хлебную мякину ему жевала. Он тогда маленький был, в решете помещался.
И все после этих бабкиных слов как-то разом засмеялись. Смеялся и Сенька. И тогда тяжелая темнота с то и дело плывущим туманом была не так страшна.
На подъемах автобус буксовал. В салоне, начиная от бабки и кончая сиденьями, все тряслось, пахло гарью. От завываний и от моторной трескотни Сенька был как никогда жалок. Кепчонка падала на пол. И голова его с мокрыми волосами вздрагивала одновременно с холостыми толчками колес. Бабка, подняв кепку с пола, отряхивала ее от пыли и, нахмурив брови, держала ее до тех пор, пока Сенька не кончал буксовать.
— Без нашей помощи пробился… — подавая кепку, хвалила его старушка.
— Неужто дело свое не знаю… — горделиво отвечал Сенька, и вид его при этом был как никогда внушителен и серьезен.
Наконец с горем пополам мы въехали в Васюки. Я узнал это от бабки. Вскочив с места, она, глядя в окно, произнесла:
— Ничего не пойму, Васюки это или не Васюки?..
— Васюки… — успокоил водитель.
Заволновавшись, она начала быстро ощупывать две свои сумки. Когда поднесла их к выходу, я удивился. Они были забиты продуктами. В них был хлеб, колбаса, мясо и даже обсыпанные маком баранки, аккуратно сложенные в полиэтиленовый пакетик. Женщина помогла накинуть этот груз в сумках, соединенных между собой офицерским ремнем, бабке на плечо. И та, поблагодарив ее, помахала рукой Сеньке.
— Не забывай бабку… Вдруг потребуешься отвезти меня в больницу…
— Не волнуйся, отвезу… — засмеялся Сенька и, заглушив автобус, стал натягивать на себя куртку. Это был последний рейс. Автобус будет дожидаться утра на васюковской остановке. А утром, если дороги не развезет, Сенька повезет пассажиров на станцию. В день он успевает сделать четыре рейса. А в распутицу не больше двух. От Васюков в непогоду его тащит до более-менее порядочной дороги трактор или же «КрАЗ» с ведущим передком. И встречает его на обратном пути со станции тоже какой-нибудь тягач. Все это я узнал, покудова ехал, от пассажиров.
Выйдя из автобуса, спросил у Сеньки:
— Как мне пройти к здравпункту?..
— Третий дом слева… — ответил он. — Возле него свет всю ночь горит… — а затем вдруг, настороженно посмотрев на меня, спросил: — Извините, а вы кто такой?.
— Доктор… — ответил я.
— А-а-а… — протяжно произнес он. — А я думал, вы Матренин Васька…
— А кто это такой?.. — с улыбкой спросил я. Мне нравился Сенька своей откровенностью и простотой.
— Как кто? — удивленно произнес он. А затем, поняв, что я «чужак», добавил: — Это наш васюковский зэк. Он десять лет в лагерях отсидел, а к матери не является. Третий год никто не знает, где он находится. Поэтому, если появляется в наших краях новичок, мы поначалу думаем, что это ее Васька.
— Извините, но я, увы, не тот, за кого вы меня приняли… — с грустью произнес я.
Воспоминание о лагерях и о зэке показалось мне приметой плохой. Быстро отвернув ворот куртки, ибо дождик полил не в меру сильно, я побежал к указанному месту. Лужицы булькали под ногами. Один раз я чуть было не плюхнулся в глинистую канаву, наполненную бог весть чем. Две жалобно повизгивающие собаки пробежали навстречу. Я оглянулся, и они тут же исчезли в парящей темноте. Где-то недалеко играла гармошка. А почти рядом женский голос вдруг произнес: «Ты опять выпил…»
Темнота парила Я шел по тропинке рядом с домами, придерживаясь рукой за забор.
«Я же для твоей пользы… — взвизгнул мужской голос. — Я за эту бутылку столько силосу наворовал».
Женский голос перебил: «Сколько можно воровать… Каждый день воруешь, а денег нет».
Темнота разговаривала, дышала и двигалась точно живая. Маленькая копна сена на улице походила на мужика, спрятавшегося под тулупом. Как и она сама, двигались и шевелились два бревна на ней.
«Сычиха, вот матери напишу, тогда узнаешь…» — опять взвизгнул мужской голос.
А женский в ответ: «Я раньше красивая была, а с тобой рваная хожу…»
«Вот так Васюки!» — подумал я, но, вспомнив, что сегодня седьмое число, понял, это был день получки, в который любят расслабляться вольнолюбивые натуры.
Наконец я у указанного мне домика. Он низенький, но широк. Фонарь на столбе режет воздух на мелкие струйки и серебрит его. Огромная дверь с красным крестом посередине и с табличкой наверху «Сельский здравпункт» приоткрыта.
Смахнув стекающие со лба дождевые струйки, постучал в дверь. За дверью кто-то засуетился, затем свет вспыхнул поярче, и громовой голос произнес:
— Открыто, — и добавил: — Заходи немедля, а то скоро к попу бечь.
Толкнув дверь, зашел в здравпункт. Увидев меня, худенький мужчина, сидевший до этого за белоснежным столом и что-то писавший, выйдя из-за стола, произнес:
— Слава богу, наконец вы приехали…
Он крепко пожал мне руку и провел меня в соседнюю комнату, где помог раздеться. В комнате было тепло. Мало того, в ней все было готово к моей будущей профилактической работе. На двух маленьких столиках, покрытых белыми скатертями, разложен смотровой инструментарий: шпателя, фонендоскоп, тонометр. Здесь и два ящичка, один для рецептурные бланков, другой для справок. Заведовал здравпунктом фельдшер Петр Максимыч Скоба. Он обслуживал пять деревень. Медсестры у него не было, хотя она положена, и не одна, а две. Делать перевязки ему помогала санитарка. Ближние вызовы в распутицу он обслуживал пешком, летом на велосипеде, зимой на лыжах, а для дальних ему выделяли трактор «Беларусь». Максимыч оказался очень добрым и радушным человеком. И хотя здесь в глубинке он не скучал, работы, как я понял, было у него невпроворот, но поговорить с коллегой-медиком ему страсть как хотелось.
— Интеллигентиков у нас мало… — сказал он, ставя чайник. В основном работяги, народ простой, на осмотр, может быть, они к вам и придут, а вот лечиться не захотят Сейчас осенью у нас работы невпроворот.
Кроме батарей комнату обогревал электрический камин. Он был рядом со мной, и я быстро согрелся.
— Обсушились?.. — и Максимыч поставил на стол чайник со стаканами и банку с вареньем.
— Обсушился… — с улыбкой ответил я. После тепла настроение приподнялось, и я забыл про темноту и дождь.
— Интересная у вас фамилия… — сказал я Максимычу.
Крякнув, он разгладил усы. Они у него были пушистые и, выступая вперед, чуть нависали над губами.
— Я ведь сам родом отсюдова… — разливая чай, произнес он. — Отец мой и дед кузнецами были. Вот, видно, и подковали свой род такой фамилией.
Внешне Максимыч был очень деликатен и вежлив. Кроме всего, деревенским покоем веяло от него. Порой не на фельдшера он походил, а на старичка, который вместо одной жизни три прожил и столько же в силу своей мудрости проживет.
— Места у нас хорошие, грибные… — сказал он с сердечной простотой и, непринужденно посмотрев на меня, добавил: — С профосмотрами управитесь, и я покажу вам такие потайные грибные поляны.
Я жадно пил чай, еще более согреваясь. Родная больничная обстановка, отдающая белизной, радовала. Я был в безопасности.
Пусть и деревенская, но все же крыша над головой. Да и Петр Максимыч такой милый, прекрасный человек.
— Вы, наверное, и охотник? — спросил я.
— Нет, рыбак… — и, глотнув из своего стакана приостывшего чайку, поперхнулся. Он закашлялся, а затем, сбивчиво пробормотав: — Эх, что же это я, — быстро встал, подошел к окну. Поспешно раздвинув шторы, прислушался к шорохам. Затем повернулся ко мне лицом. — Я думал, это за мной, а это бензовоз проехал… По нашим дорогам одно мучение ходить… — и вновь, присев за стол, спросил: — Не курите?..
— Нет… — ответил я.
— Я тоже, неделю назад бросил… — улыбнулся он и, добавив чайку, несмело посмотрел на меня. — Какой толк от этих ваших медосмотров, если опять неурожай. Что ни день, то дожди, вся картошка в земле сгнила. А людям-то надо есть… Да и откуда здоровье, если кругом нехватка рук. Семижильный у нас народ, все трудится, трудится.
Я молча слушал его. Он же, заметив, что я не возражаю и не спорю, поначалу замялся, то и дело смотря на меня исподлобья, но затем, поняв, что я есть тот самый собеседник, который ему и нужен, продолжил:
— И зачем вы сюда каждый год приезжаете?.. — с иронией произнеся эту фразу, погрозил мне пальцем. — Знаю, вы свое удовольствие здесь справляете. Материал для кандидатских набираете, заодно деревенским видом душу услаждаете… Приедете в город к себе и с похвальбой всем будете рассказывать, как вы грибной суп ели. А как люди здесь мучаются, это вас не интересует. Вы приехали и уехали… А они здесь как были в грязи, так и остались. Какую вы пользу приносите своими приездами? Никакую… А если точнее выразиться, все эти осмотры баловство. Извините, что я так резко… Но мне жаль вас. Вы никогда не знали этого нашего мира и никогда не узнаете. Вам не понять, потому что вы не прочувствовали все это…
Я по-прежнему молчал, не зная, что и ответить фельдшеру. Страшно скорбное выражение его глаз поразило меня. Крепко зажав чайную ложечку в кулаке, он пренебрежительно и даже как-то глупо смотрел на меня уже не как на аспиранта, а на мальчика. Видно, своим чрезмерным молчанием я поставил себя в невыгодную ситуацию. «Минуту назад он был добр, а теперь разошелся…»
— Прежде чем отвлекать работяг, поинтересовались бы, что их волнует… — продолжил он. — Вторую неделю хлеб не везут… Если бы не Михайловна, то хоть сухари размачивай…
За окном шел дождь. И темнота была прежняя, густая и страшная.
— Не пойму, что вы хотите от меня?.. — растерянно произнес я. — Я не депутат, а врач. А во-вторых, не ради науки приехал к вам… Если будут выявлены больные, даю слово, мы обязательно подлечим их, чтобы не было впредь никакой запущенности… Вы же фельдшер, что мне вам объяснять.
А Максимыч, вытаращив на меня глаза, пуще прежнего как произнесет:
— Осенью и весной нам только Михайловна хлеб печет!..
«Вот так дела! — подумал я. — Тут, оказывается, голод, а меня хлеба просили взять. Выходит, не ко времени сюда попал».
Заметив, что я затосковал, Максимыч начал извиняться за бестактность. Машинально кивая, я не слушал его. Невыносимо тяжело вдруг стало. Хотелось сейчас же собраться и уехать обратно. Но за окном была ночь. И дождь лил как из ведра.
Подойдя к окну и приоткрыв форточку, он произнес:
— С завтрашнего дня к нам автобусы перестанут ходить.
— А как же к электричке людям добираться? — спросил я.
— Пехом… — ответил он.
— Двадцать километров по грязи? — удивился я.
— Не по грязи, а лесом… — поправил он. — Когда дороги раскисают, мы только лесом и ходим. Другого пути нет, — и добавил: — Это вам поначалу без привычки такой путь кажется дальним. А привыкнете, туда и обратно засветло можно вернуться. Хлеб у платформы тоже не всегда бывает. С каждым годом снабжение паршивеет. Неперспективные мы, вот и мучаемся…
Дождь шумел по крыше. И грозно ему вторя, ветер завывал в трубе. Мечтательность мою как рукой сняло. В той глуши я почувствовал себя одиноким.
— А где я жить буду? — спросил я Максимыча.
— Сегодня переночуешь у меня. А завтра отведу вас к Михайловне, так сказать, под ее крыло. У ней дом на две половины, в одной вы и будете жить…
И, вспомнив о попе с воспалением легких, Максимыч заторопился.
— Может, чем помочь? — предложил я свои услуги.
— Да нет, он не тяжелый… Живет рядом. Укол ему сделаю и вернусь…
Он постелил мне на широкой старинной кушетке, и, поблагодарив его, я тут же заснул.
Встал рано утром. На дворе лил дождь и шумел ветер, то и дело разгоняющий капли на оконном стекле. В соседней комнате Максимыч принимал больную. По разговору понял, что к нему пришла сторожиха. Ночью она подвернула ногу, и фельдшер, успокаивая ее, накладывал тугую повязку.
— А как же с обувкой быть?.. — то и дело бубнила старуха. — Нога ведь не влезет.
— А куда вам ходить?.. — спокойно говорил Максимыч. — Для передвижений по комнате дам вам костыль. На больную ногу старайтесь не наступать. Если будете все соблюдать, денька через три все наладится.
— А как же амбары? — не унималась старуха.
— Амбары подождут… Наших воров вы всех знаете. А чужие в распутицу не придут.
— Хорошо, — не унималась она, — а кто рабочие дни мне проставит?
Я посмотрел на нее из-за перегородки. Она сидела на табуретке, положив больную ногу на кушетку, и смотрела не на ногу, которую умело перевязывал фельдшер, а на его хладнокровное лицо.
— Я вам справку дам, а если потребуется, и бюллетень…
Наложив повязку, Максимыч тылом ладони сбил свою шапочку на затылок, присел на кушетку и посмотрел на бабку, которая в прежней растерянности смотрела на него.
— Ну чего?.. — улыбнулся он. — Дело сделано, — и добавил: — Хотите чаю?..
— Нет… — улыбнулась вдруг и старушка. — И больничный мне не нужен. Никогда не брала его и брать не буду… В крайнем случае, чтобы отлежаться, на работе с кем-нибудь перепрошусь. И костыль, зачем мне костыль… Я никогда не костыляла. В крайнем случае, найду какой-нибудь кол и буду на него опираться. С колом все же как-никак посолидней.
Она сняла с кушетки ногу и, опустив ее на пол, попыталась стать на нее.
— Боли нет, одна хромота… — и с помощью все того же Максимыча натянув на ногу старый, больших размеров кирзовый сапог, она, попрощавшись с ним, поковыляла к двери.
— А я думал, вы все утро проспали… — увидев меня, произнес Максимыч и, накинув плащ, сказал: — Я отведу вас сейчас к Михайловне, а примерно через часик заеду за вами, и мы отправимся на ферму.
Мы шли по грязи, и хотя дождик был реденьким, все равно промокли. Зонтик под порывами ветра мотало из стороны в сторону. Я держал его двумя руками, шагая за Максимычем, который не любил зонтов, да и не нужен он был ему: огромный капюшон брезентового плаща защищал его голову от дождевых струй. Вскоре мы пришли к большому деревянному дому. Толкнув калитку, Максимыч сказал:
— Жаль, Михайловны дома нет. Хлеб, наверное, разносит. Но ничего страшного, располагайтесь сами, — и ввел меня в домик, а сам ушел.
Ровно через час, как и обещал, он заехал за мной, и мы поехали на ферму.
В красном уголке я начал проводить осмотр доярок, скотников, учетчиков, одновременно делая соответствующие назначения. Но хотя и была осень, когда обостряются многие сердечные заболевания, в основном же ко мне почему-то обращались с простудными заболеваниями. Одних беспокоил насморк, других ангина, у многих болели мышцы. Заболевание, когда застывает мышца, называется миозитом. У скотников был миозит спины, у доярок миозит рук. Условия, в которых работали осматриваемые, не из лучших. Крыша на ферме была дырявой, она постоянно текла, и промокали не только коровы, но и люди, обслуживающие их. Многие окна были не застеклены, и холодный воздух вольготно гулял по помещениям.
Одна маленькая, то и дело кашляющая доярка сказала мне:
— Вы бы, доктор, лучше нам от легких какой-нибудь травки привезли бы. А то от моего кашля не только подруги, но и коровы оглохли.
— Я доктор по сердцу… — объяснил я ей.
А она засмеялась:
— Внешне мы, может быть, и вялые, но сердца у нас крепкие.
— Если сердце только начинает выходить из строя, оно может и не беспокоить… — попытался я ее поправить.
— Может быть… — равнодушно произнесла она и тихо ушла.
На осмотре тяжелых больных я не выявил. Два скотника оказались гипертониками, то есть с повышенным давлением, но лечиться категорически отказались.
— Вот отел закончится, и давление упадет… — сказали они, и тут же в красном уголке один из них, сухонький старичок, закурив, добавил: — Мой отец до ста лет с давлением жил. И ничего, к врачам не обращался.
— Разве может быть какой толк от таблеток… — улыбнулся второй. — От питья их нет никакого удовольствия. Вот когда после отела мы как следует отдыхать начнем, давление само понизится.
— Вы неправы, — попытался я возразить. — Сердцу не прикажешь. Спите ли вы, ходите, — оно работает.
Они с прежней снисходительностью смотрят на меня. Я им не нужен. И на профилактический осмотр пришли лишь потому, что их позвал Максимыч. Они слушаются фельдшера, а не меня.
Один из них, лысоватый, нервно дососав дымок из сигаретки, пренебрежительно посмотрел на меня и, кинув окурок в помойное ведро, спросил:
— Скажи, доктор, и долго мы еще в такой грязи жить будем? — и, не дожидаясь ответа, продолжил: — День и ночь, понимаешь ли ты, день и ночь… кружимся возле коров… А домой придешь — теснота, грязища и никаких удобств. Платят крохи, не на что даже робы порядочной купить… — на секунду замолкнув, криво усмехнулся, губы его задрожали, и, чтобы успокоить их, он прижал к ним ладонь, а затем в прежнем напряжении продолжил: — Лично я ничего, кроме этой фермы, не вижу.
— Разговорчики… — неожиданно одернул его Максимыч и встал из-за стола.
— Вот так вот всегда… — грустно произнес скотник и, игриво поклонившись нам, вышел вместе с товарищем.
— Не обращай внимания… — успокоил Максимыч. — Это лимитчики. Им булку с медом подавай, и все равно не угодишь.
— А откудова у вас лимита? — растерянно спросил я.
— Да все оттудова… — буркнул Максимыч. — С Севера приехали… После пяти лет временной прописки им дается участок для строительства дома. Вот, дожидаясь этого участка, они и мучаются. Заведующая фермой идет… — вдруг взволнованно произнес Максимыч. — Она во всем недостаток видит.
Дверь распахнулась настежь, и в комнату вошла высокая женщина с накрашенными губами. Лет ей под пятьдесят. Сухость тела и подтянутость фигуры молодили ее и придавали внешнюю бодрость. Сняв у порожка сапоги и одев на худенькие ноги тапки, она села напротив меня и, тяжко вздохнув, произнесла:
— Значит, доктор, осмотр устраиваешь… — а потом похлеще скотника как ляпнет: — А ты бы, вместо того чтобы королем сидеть, пошел бы на ферму и телят осмотрел. Третий день их слабит, и никто из баб не знает, какое лекарство подобрать. С каждым днем тают и привеса никакого… А раз привеса нет, то зарплата у всех упадет, — и, сняв с головы платок и расстегнув на груди кофту, как ни в чем не бывало спросила: — Небось телячьи болезни проходил?
— Нет, я кардиолог… — произнес я как можно вразумительней.
— Чего-о? — поморщилась она. — Кардиолог, это с чем его едят?
— Это доктор по сердцу… — объяснил я.
Она сосредоточенно несколько секунд смотрела на меня, а затем произнесла.
— А как же телята? Кто их смотреть будет? Сухой соломы давала, арбузных корок, а их все равно слабит Что же ты за доктор, если по телятам не понимаешь.
— С удовольствием посмотрел бы… — попытался успокоить заведующую. — Но, извините, к сожалению, я доктор не по телятам.
— Ну тогда прощай… — встав из-за стола, громко произнесла она и побледнела. — Не смотрелась я у тебя и смотреться не буду. А сердце свое я и без тебя знаю, плохое.
— Хватит вам, Марья Павловна… — попытался одернуть ее Максимыч. — Здесь медосмотр проводится, а вы шумите.
— Чего-о?.. — вытаращила она на него глаза. — Ты чью это линию занимаешь? Вы думаете, сердце у меня на самом деле плохое. Нет, оно здоровое.
И, повязав голову платком и застегнув ворот халата, сказала:
— Вот и весь медосмотр. Лучше бы не заходила… — И, рассеянно посмотрев на меня, ушла.
— Не баба, а солдафонка… — пробурчал Максимыч.
На душе было муторно. Вначале я думал, люди шутят со мной. Но затем понял, что все они говорят на полном серьезе, мало того, без всяких любезностей упрекают в никчемности проводимых мною мероприятий. В итоге получалось, что я в их глазах выгляжу шутом гороховым, с которым можно поступать как только им заблагорассудится.
— Как мне дальше быть? — спросил я Максимыча: — Может, прекратить осмотр.
— Да не обращай ты на них внимания… — успокоил он. — Если некоторые не хотят осматриваться, то и не надо. Большая часть людей относится к нашему делу с пониманием Меня они тоже, как только я сюда распределился, брали в оборот. А потом привыкли.
Я понимал, что все это его успокоение мало чем может помочь мне. Раньше думалось, что своим приездом я принесу людям пользу. А получалось, что я нарушил их покой. Аппарат для измерения давления и фонендоскоп лежали рядом, я трогал их рукой, поправлял, перекладывал с места на место, как и пустые листки-бланки «анализа заболеваемости».
— Надо было убедить их в необходимости осмотра, а затем уж проводить его, — сказал я Максимычу.
Посмотрев на меня с жалостью, он глуховато ответил:
— Разве уговоришь. Они идут к врачу, когда их припекет.
— Ну а если все же попробовать их переубедить… — не отступал я.
— Бесполезно… — вздохнул он и, посмотрев в коридор, произнес: — А вот и Золушка пришла. Эта у нас самая спокойная.
Я удивленно посмотрел на дверь. У порога стояла худенькая, маленькая девчушка восемнадцати лет. На ней был длинный, испачканный навозом халат. Резиновые сапоги были велики ей, и она шаркала ими по полу. Волосы на голове закрыты синей косынкой, углы которой бантиком чуть выше лба затянуты спереди.
— Золушка, ты будешь смотреться? — торопливо спросил ее Максимыч. — Давление мерить, слушаться.
— А он сурьезный? — небрежно кивнув в мою сторону, тихо спросила она, присаживаясь на стульчик.
— Очень хороший доктор, — успокоил ее Максимыч.
— Раз так, то прослушаюсь… — улыбнулась она и, кинув на меня внимательный взор, спросила: — Можно раздеваться?
— Да, да, раздевайтесь… — как-то неуверенно пролепетал я, а сам тихо спросил Максимыча. — Как ее имя?
Максимыч задумался, а потом вдруг спросил девушку:
— Золушка, тебя Соней, кажись, зовут?
— Да… — тихо ответила та, медленно стаскивая с себя халат. — Петрова Соня, по отчеству Парфеновна.
Я записал ее данные в бланк. Когда она разделась по пояс, я вздрогнул. Все тело ее было в синяках.
— Что это с вами? — спросил я.
— Кто тебя избил? — удивился и Максимыч.
Соня, удивленно посмотрев на нас, ответила:
— Никто меня не бил… — а затем добавила. — Это от теляток. Ты их кормишь. А они играючись тебя колошматят. Поначалу я пугалась синяков, а затем привыкла, и посмотрев на меня, улыбнулась: — Ну что же ты, доктор хороший. Я разделась, а ты не слушаешь…
— Все равно надо быть поосторожней… — сказал Максимыч девушке. — Тебе как-никак замуж выходить.
— Я покудова не собираюсь… — тихо ответила Соня. — И еще долго собираться не буду. У меня мамка парализованная, и отец нас бросил. Сестренка в пятый класс ходит что с нее возьмешь. Так что какой тут замуж, тут бы только жить.
В волнении слушал ее сердце. Оно билось нервно и часто. Губы ее вздрагивали, и, чуть наклонив голову, она изучающе смотрела на меня.
В растерянности стоял Максимыч. Кулаки раздували карманы его халата. Затаив дыхание, он почти не дышал.
Когда я прослушал ее сердце, она спросила:
— Ну как, поживет еще?
— Поживет, — успокоил я.
Давление у нее оказалось повышенным. Видно, она волновалась.
— А таблеточек мне никаких не надо? — одевшись, спросила она.
— Нет… — ответил я.
— Значит, выходит, зря я к вам приходила?
— Да почему же это зря… — сказал Максимыч. — Разве только за таблетками к доктору приходят. Проверяться тоже надо, заодно спросить, что тебя волнует.
— Да ничего меня не волнует, — спокойно произнесла она и, подойдя к двери, добавила: — Прощайте, — и тихо вышла.
Мне почему-то стало жаль девчушку, так запросто прозванную в поселке Золушкой. Надо было хотя бы что-нибудь ей назначить. Аскорбинку, например, или поливитамины.
— Золушкой ее потому прозвали… — сказал вдруг Максимыч, — что если ее отмыть, то она за генеральскую дочку сойдет. А если бы вы знали, как она прекрасно поет. Ее отец, бывало, пьяный бьет, а она и слезинки не прольет, только знай себе шепчет: «Папенька, что с тобой?»
Максимыч говорит волнуясь и торопясь. Я внимательно смотрю на него, и он продолжает:
— Она порой только к ферме приближается, а телята ее уже ревом встречают. Полюбилась она им.
— Куда она сейчас пошла?.. — спрашиваю я Максимыча.
Он конфузится, не понимая, что обозначает этот мой вопрос.
— Как куда… На ферму.
Я отталкиваю от себя бланки. Встав из-за стола, кидаюсь к выходу. За мной посапывая бежит Максимыч.
— Первая дверь налево… — говорит он. — Только надо бы сапоги надеть. Ваши ботинки не для навоза. Да и брюки испачкаете.
Какая-то бабка по приказу Максимыча выносит из маленькой каморки огромных размеров сапоги, и, быстро переобувшись, иду к Золушке.
Максимыч снимает засов с дубовой двери, и вот я уже в окружении телят, тыкающихся в мой халат розовыми носами. Телята, глядя на меня, ревут. Требуют пищи. Видно, в белом халате не только я захожу к ним, но и ветеринар. Я иду по навозной жиже вперед, где метрах в двадцати от меня поит из ведра лежачего теленка Золушка. Максимыч не стал заходить в помещение. Он стоит в дверном проеме, прикрыв ладошкой нос. Ферма старая и ветхая. Крыша во многих местах прохудилась. Стекол в окнах нет.
Удивленно смотрела на меня Золушка. А я стоял перед ней и слова не мог вымолвить. Яркий румянец покрыл ее щеки. В растерянности от моего появления она оставила ведро с водой на произвол судьбы. И теленок, перевернув его, принялся жадно лизать его. С крыши капала дождевая вода, и, чтобы совсем не промокнуть, я чуть отступил в сторону.
Глядя на нее, не замечал ни запахов, ни навозных гор, ни воя рассердившихся не на шутку телят. Простота девушки покорила меня.
— Вы приехали к нам на постоянно? — спросила вдруг она.
— Нет, через две недели уезжаю… — ответил я.
— Чудной вы… — улыбнулась она, с каким-то снисхождением смотря на меня. — Деньги здесь особые не заработаешь. Все бегут от нас, а вы приехали.
Вдруг ферма запарила.
— Горячую воду дали… — прокричал Максимыч. — Сейчас скотники начнут на тележки навоз собирать.
У меня была коробка поливитаминов в кармане. Быстро достав их, я протянул ей.
— Возьмите, они укрепляют тело…
— Спасибо… — она осторожно взяла их. А потом спросила: — Что это с вами случилось? — и усмехнулась. — Ваш халат невозможно будет отстирать, — и добавила: — Ради меня побеспокоились? Да?
Я кивнул.
— Тогда скажите, как вас зовут?
— Николай… — ответил я.
— Ну вот и познакомились… — улыбнулась она. — А теперь давайте я вас провожу. Вам надо по доскам идти, а вы пошли напрямую. Если бы чуточку влево взяли, то сапоги потеряли. И пришлось бы вас тогда скотникам на себе тащить…
Она вела меня под руку. От необузданного телячьего натиска я прижимался к ней. И она, видя мой испуг, смеясь успокаивала:
— Не бойтесь их. Они безобидные.
В скверном виде я предстал перед Максимычем. Халат мой, по краям искомканный и изжеванный, был испачкан навозом.
— Ну вот и на ферме побывали… — засмеялся он.
И, быстро сняв с меня халат, куда-то понес его.
— Не боязно здесь одной?.. — спросил я Соню.
Прислонившись к моему плечу, она засмеялась.
— Работа мне нравится, — а затем, вдруг смутившись, прошептала: — Я не ожидала, что вы ко мне зайдете.
Грязными, замусоленными кулачками вытерла глаза. Расторопно оглянувшись на свое хозяйство, поправила косынку.
— Видите, телята шпионят за нами… — улыбнулась она. Думают, что я не приду к ним… Я сейчас… — прокричала она ласково им и помахала рукой.
У противоположного входа два пожилых скотника, орудуя вилами, загружали телегу навозом.
— Спасибо вам… — и я протянул ей руку.
Она улыбнулась. Ее ладошка была теплой.
— Это вам спасибо… — тихо сказала она. — Ну мне пора, а то ребятки заждались.
Это телят она называла ласкательно ребятками. Соня, с трудом пробиравшаяся сквозь стадо телят, показалась мне такой маленькой, что мне захотелось кинуться вслед за ней, чтобы вытащить ее из этой бездны.
Дождик перестал. И сквозь проем крыши я увидел голубое небо. Солнце светило по-летнему ярко и тепло.
Я вновь почувствовал спертость воздуха фермы. Соня, удаляясь все дальше и дальше, походила на порхающую ласточку. Ласточкиных гнезд под сводами крыши было очень много. Они пустовали, ибо птицы давно улетели. Лишь одна Соня осталась. Фантастический образ птицы-Золушки вдруг подействовал на меня. Прислонившись к дверному проему, я смотрел, как она удалялась от меня. Она уводила за собой телят, тем самым облегчая работу скотников по уборке навоза. Подошел Максимыч.
— Доктор, вот ваши ботинки… — пробурчал он. — Переодевайтесь. На сегодня хватит, — и вздохнул. — Не думал я, что вы с первого взгляда влюбиться можете.
— Почему вы решили, что я влюбился? — удивленно посмотрел я на него.
А он опять за свое.
— Не знаю, конечно, как вы. Но я на вашем месте женился бы на ней. Из Золушки хорошая хозяйка бы вышла.
Я быстро переоделся. Максимыч, уже не обращая внимания, стоял и смотрел туда, где летала ласточка.
В красном уголке Максимыча дожидался высокий мужик в шляпе, он приехал за ним из соседней деревни, у его жены после родов поднялась температура.
Фельдшер вежливо поздоровался с ним и спросил:
— Давно температурит?
— Со вчерашнего дня… — сняв с головы шляпу, произнес тот и, тяжело задышав и прижав ладонь к щеке, добавил: — Ей врачи строго-настрого запрещали выходить на улицу, а она вышла.
Максимыч, сложив все необходимое в свой чемоданчик, тихо сказал мне:
— Извините, доктор, что покидаю вас. Завтра, как договорились, захожу к вам утром.
И ласково посмотрел на меня.
— Дорогу к Михайловне найдете?
— Конечно, найду… — уверенно произнес я.
Мне не хотелось задерживать фельдшера. Вызов был срочным. Выйдя на улицу, мужик нервным голосом то и дело остепенял не стоящую на одном месте лошадку.
— Ну а если вдруг заблукаете, — словно понимая меня, добавил сочувственно Максимыч, — то не стесняясь спросите любого, где тут, мол, женщина-пекарь живет. Вам мигом все объяснят.
Не без труда нашел я дом Михайловны, пришлось поблукать. А когда нашел, удивился. Михайловна стояла на крылечке своего дома. Оказывается, Максимыч ее уже предупредил, что я приду к ней сегодня ночевать.
Спустившись с крылечек, она открыла калитку. После дождика земля была сырой и скользкой.
— Осторожно ступайте… — предупредила она. — Лучше всего за забор придерживаться.
Оставив вещи в выделенной для меня комнате, я вошел в просторную комнату, куда пригласила меня Михайловна. И как только увидел ее, сразу же удивился. Михайловна была вся белая. Оказывается, впервые встретив ее на улице, я не обратил на это внимания.
— Не бойтесь, доктор, это я от муки такая… — И, подойдя к столу, который был завален свежеиспеченным хлебом, преподнесла мне огромный ломоть пахучего хлеба. — Это я сама испекла.
Я попробовал хлеб. Он был душист. И во рту таял. Я быстро съел его, и Михайловна дала мне еще.
— Не на угле, а на дровах печен… — похвалилась она.
Я спросил ее:
— Так вы и есть та самая мастерица, о которой мне говорили в Москве? — и добавил: — Если бы вы только знали, сколько мне хлеба от вас заказали привезти.
— Нарочно, что ли, доктор, придумываешь? — усмехнулась она.
— Нет, что вы… — воскликнул я. — Все так просили, даже пакетов мне надавали.
Усмехнувшись, Михайловна отвернулась, а затем, подойдя к большой, дышащей теплом русской печи, открыла заслонку, где в металлических промасленных формах румянились калачи. От печного жара руки ее и лицо побронзовели. Длинной металлической кочергой она подтянула к себе форму и, ловко забросив два калача в подол, сказала:
— Вы лучше крутельки мои попробуйте… Первый раз их пеку.
Она ловко потрясла калачи в подоле, видно, с той целью, чтобы они остыли, а затем вручила мне.
— Отведайте…
Калачи были сладкие. Мало того, в них были ярко-красные рябиновые ягоды.
— Рябинка не горькая, я специально в воде ее отмочила… — добавила Михайловна. — Немножко терпкая… Для калача это в самый раз, если чаем его запивать да в вареньице макать.
С благодарностью смотря на добрую женщину-пекарку, приютившую меня, я ел теплый калач. Аппетит мой не ослабевал, а, наоборот, разгорался.
За окном был вечер. Ветер, тихонько посвистывая в трубе, чуть шевелил жар в печи. Две огромные поленницы березовых дров были аккуратно уложены у печи. Огромный деревянный чан из-под теста стоял на широкой лавке. Рядом с ним два небольших фанерных ящика, заполненные баранками.
— Ну как, доктор, калачи?.. — спросила она, мучными пальцами поправляя платок.
— Здорово!.. — восторженно произнес я.
— Ну, спасибо вам…
И, радостно посмотрев на калачи, кочергой подтянула форму из печи на себя и, надев теплые брезентовые рукавицы, положила ее на широкий припечек. Затем, плотно закрыв зев печки металлическим листом, присела на лавку.
— Опять хлеб сегодня в магазин не привезли. Вот и пришлось мне повозиться.
И сняла с головы платок.
— Ну вот и развеселились… — улыбнулась она. — А то я думала, что вы дыму боитесь. У меня в доме редко кто долго бывает… От жары муторно многим становится. А я ничего, привыкла… Русская печь тепло держит долго. Хорошо мне с ней… Старше меня она, а хлебушек исправно выдает.
Она подливала мне из самовара чайку, и я пил его, не забывая про калачи. Воздух, пахнувший только что испеченным хлебом, приятно будоражил.
Матвеевна с улыбкой наблюдала, как я ел калачи.
— Цены нет… — громко шамкая, сказал я.
Тепло вкусно испеченного теста поднимало настроение.
— Этот калач, который вы едите, называется тертым… — сказала она и пояснила: — Прежде чем его вылепить, я тесто больше часа тру. Руки устанут, поясница заломит, но зато уж калач получается как огонь горяч и в еде легок. — И тут же как-то торопливо и настороженно Матвеевна посмотрела на чан с тестом. Нюхнув раз-другой воздух, сказала: — Порядочек, тесто покудова не занимается. Видно, показалось мне… — и продолжила: — Калач из отмятого и оттертого теста самым лучшим считается. Он во рту точно снежок тает, а если в чай или в молоко его окунешь, он крепость свою держит и никогда не рассыпается, так что есть его одно удовольствие… Я в молодости, бывало, за один раз по пять тертых калачей съедала. А вот обварной калач совсем другой, один или два съешь его, не более. Внешне он, если его на праздник какой-нибудь испечь, очень красив, животик у него, как у нашего поселкового попика, толстый и крутой, а ручки и губки как у девки негуленой, махонькие и упругие. Тесто, чтобы его получить, нужно делать крутым. Раньше в народе одним отварным калачом целый взвод солдат кормили. В чае он так быстро разбухает, что и в рот не влезает. В дальнюю дорогу его тоже брать нежелательно, чуть подчерствеет он, так тут же и рассыпается. Зато эти калачи почему-то туляки любят. Максимыч, например, сам родом из-под Тулы, так он может целый месяц ими питаться. А еще он любит простые калачи, так называемые смесной и крупитчатый. Смесной калач очень легко печется, смешал пшеничную и ржаную муку, два яичных белка добавил, и вот он готов, однодневным он еще зовется. А крупитчатый раньше только барыни и купчики ели. Его приготовляют из белой пшеничной муки тонкого помола и едят с молоком или с медом. Раньше, когда у нас с мукой были перебои, я пекла муромский калач, это тот же самый тертый, но только на отрубях. Он хоть и пахучим получается, но груб, раньше его косари и солдаты любили, он жажду утолял и желудок надолго сытым делал…
Вздохнув, Михайловна посмотрела на свои гладкие белые руки. Чуть шевельнула пальцами, и они нервно задрожали. Быстро прижала одну ладошку другой и сказала:
— Хлебная работа дело не барское. Чтобы тесто послушным стало, потрудиться надо и свое настроеньице ему передать. Или, как говорилось у нас на Руси: «Не терт, не мят, не будет калач» или «Хочешь есть калачи, не сиди на печи…» — Глянув на печь, она засмеялась. — А как чудно у нас, доктор, на праздники бывает. Калачи в охотку под музыку едятся. Откуснув калач, заиграет гармонист лихие страдания. А кто-нибудь из баб как запоет:
Я заплачу, зарыдаю, Отдай, мамка, с кем страдаю.Стол у меня в эти дни самый богатый. Чего я только людям по их просьбе не испеку: и узорных булочек, и ватрушек, и караваев, а у тертых калачей животики подрумяню, маком их обсыплю, в горячий малиновый сироп обмакну, и они засияют, словно живые… Приезжайте, доктор, к нам на Рождество, я вам такой колобок испеку, пальчики оближете.
Я обещаю Михайловне приехать. И она верит мне.
— Ой, люди бегут… — глянув в окошко, произнесла она и, поправив косынку на голове, отряхнулась.
Дверь ее не была заперта, и поэтому она легко открылась. В комнату поочередно стали заходить старухи и старики и прочий трудовой люд. И все они с благодарностью принимали из рук свежеиспеченный хлеб и пахучие узорные калачи.
— А это кто у тебя?.. — взяв хлеб и указывая на меня, спросил Михайловну высокий мужик.
Фуфайка его была вся засалена, а потрескавшиеся пальцы дрожали.
— Это доктор к нам приехал… — тихо ответила Матвеевна.
— А я думал, депутат… — вздохнул он и приметливым взором окинул меня. — И надолго вы к нам?
— На две недельки… — ответил я.
Переложив хлеб в сумочку, он сказал:
— Михайловна вас не обидит… — и попросил ее: — Ты ему пирожочков с тыквой, какие ты всем нам на май печешь, сваргань, а заодно бараночек порумянее. Завтра я муки три мешка привезу.
— Раз велено, испеку… — живо ответила Михайловна, передавая хлеб очередной женщине.
Вскоре народ, забрав почти весь хлеб, ушел, и мы с Матвеевной остались одни.
— Выходит, эта ваша печь весь поселок хлебом снабжает? — удивленно спросил я.
— Да… — тихо ответила она, присаживаясь рядом.
Руки ее, пахнущие хлебом и покрытые мукой, вздрогнули. Взяв кусочек калача со стола, она нежно куснула его.
— Я на пенсии. Делать мне нечего. Вот и пеку хлеб. Особенно в распутицу, когда из района хлеб не доходит. Там уже знают про меня и особо про свои доставки не переживают.
— И давно вы хлеб так печете?
— Да как на пенсию ушла, так и пеку…
— А когда распутица кончается, тоже хлеб печете?
— Пеку, но поменьше. Зато к празднику, чтобы людей обрадовать и настроеньице им придать, я какие-нибудь необыкновенные медовые булочки испеку или калачи-петушки с красным гребешком. В магазине такие никогда не купите. А у меня пожалуйста, их хоть пруд пруди. Мукой и дрожжами меня колхоз снабжает, ну а масло для противней сама покупаю. Хлеб печь мне страсть как нравится. Да и какие другие дела у меня могут быть, кроме пекарских. Сын в тюрьме, а я, чтобы вину с него снять, хлеб людям пеку. Почти всю жизнь прожила с этой печкой. Посмотрели бы вы в прошлый год, как она обветшала, но, слава Богу, все обошлось. Наши сельчане, только я попросила, сразу же ее отремонтировали. И теперь она залихватски пыхает. Тяга удивительная. Даже у двери слышно, как воздух шуршит. А дровяной жар так трещит, словно кто в ладони хлопает. Дрова какие я захочу, такие мне и подбирают. Вася-тракторист, который вами сегодня интересовался, на тележке их привозит и сам разгружает. На другой день скотники мне их переколют, в поленницы сложат, и печь, можно сказать, на весь год едой обеспечена.
Отхлебнув чайку, Михайловна глубоко вдохнула в себя воздух. Затем понимающе прищурила глаз. И, виновато взмахнув руками, произнесла:
— Эх, и что же это я сегодня разговорилась. Тесто кислинкой отдает, значит, подходит… — и предложила: — Пойдемте, я вам тесто покажу.
Недалеко от печи на четырех деревянных подставках стоит огромный деревянный чан, накрытый фанерной крышкой, поверх которой аккуратно уложено три одеяла. Михайловна живо их стаскивает. Я помогаю ей сдвинуть крышку. Только сняли ее, как пахучее тесто зафыркало и заворошилось. И через минуту стало пузыриться.
— Вовремя подоспела… — произнесла она и, закатив рукава халата до локтей, посыпала его мукой и начала ладно и ритмично похлопывать его ладошками. — Это я поглаживаю его… — сказала она. — А как запузырится, бить начну…
Точно завороженный стоял я у чана с ноздреватым тестом. Кисловатый запах приятно дурманил. Душа моя, до этого грустная и уставшая, вдруг ожила. Лицо у Михайловны разогрелось. Не обращая на меня внимания, она, медленно двигаясь вокруг чана, подбивала и отстукивала ладонями распаренно пухлившееся тесто. Руки ритмично и безостановочно плясали. И в такт им вздрагивали грудь и плечи.
— Ишь, тянется, точно баба на сносях… — улыбнулась она и пуще прежнего захлопала по тесту.
Я смотрел, как она лихо ребрила пахучее тесто, и мне казалось, что через несколько минут из-под ее рук появится не взбухший хлебный ком, а ребеночек, страстно и горячо приветствующий своими криками жизнь. А еще мне казалось, что Михайловна не просто похлопывает тесто, а кует его. Каждый шлепок-удар ее поставлен, он легок и нежен, не знающий промаха, строго предназначен определенной цели, — подбить, подбодрить тесто.
— Как пожелтеет, так и запузырится… — сказала Михайловна и заработала руками еще быстрее. Минут через пять тесто пожелтело, а затем начало точно брага пузыриться.
Прекратив похлопывания, она посыпала его мукой и вытерла вспотевшее и раскрасневшееся лицо полотенцем.
— И долго так будет бурлить? — спросил я.
— Пока не подойдет, — ответила, она. — В три часа ночи я встану и для страховки еще разик подобью. Ох как же чудно оно тогда закурчавится. Я никогда тесту зябнуть не даю. Только начинает подниматься, как я его тут же встречаю. Побеседую с ним, заодно кулачками потопчу, и, глядишь, к утру оно ложится в формы, как я только пожелаю. Любой узор вяжу, и он лежит себе и не распадается. Детишкам птичек и коней леплю, а людям постарше звездочки и обручальные колечки в паре. В подбивке весь секрет. Подбитое тесто не шалит и в жару не ломается, только знай себе розовеет Хлеб руки любит и тепло. Тесто никогда не поднимется, если в доме холодно. Чтобы тепло подольше сохранялось, я чан двумя теплыми одеялами накрываю. И в печи постоянно огонь поддерживаю, каменьям лежака остыть не даю. По воздуху чувствую, если печь начинает охолаживаться. Когда тесто замешиваю, дверь на замок закрываю, чтобы холодный воздух в чан не попал. Печь протапливаю до тех пор, покудова тепло стоймя начинает стоять. При тепле муку водой или молоком заливаешь, так она точно сахар растворяется и к пальцам не липнет, сама собирается и запах сохраняет Если мучную пахучесть при замешивании не растеряешь то хлеб, если и зачерствеет, все равно будет ароматным. Я ванилином, как некоторые бабы, не пользуюсь, хлеб должен сам за себя говорить. Когда его ножичком режешь, он всеми ноздрями пышет, солнечной пшеничкой пахнет да корочкой поджаренной хмельком обдает. Удачно испеченный хлеб под ножом не крошится. Если руку на него положишь, а потом отнимешь, он сам выпрямляется, да при этом воздух вдыхает. Думаете, хлеб съел, вытер губы, и все… Нет, хлеб живой, он, как и все живое, людей чувствует.
Помню, прошлым летом в соседней деревне бабы порешили в деревянном доме типа моего хлеб испечь… Для советов пригласили меня. Я пекарей, двух девок молоденьких, целую неделю уму-разуму учила, а у них то хлеб подгорит или так скомкается, что после выпечки не то что ножом, топором не расколешь. Непостоянные они оказались, в работе грубы, все куда-то спешат. В итоге ничего у них не вышло. Да и никогда не выйдет. Грубыми руками хлеб не делается. Если пекаря народ выбрал, то он должен быть один, а если люди меняться будут, то и хлеб будет невзрачным, его с радостью не съешь. На хлебозавод в районе меня тоже не раз приглашали, чтобы я секретами перед дирекцией поделилась. А я им всем сразу так и сказала, что, мол, у вас хлеб хорошим никогда не получится, потому что вы на своих заводских печах ради плана всю выпечку гуртом гоните. В заводских печах настоящий хлеб трудно испечь, потому что в них за настроением теста не уследишь. Самый душистый хлеб только в русской печи получается, в ней он всегда на виду, я чувствую и слежу за его характером.
Если дрожжей нет, на закваске из старого хлеба тесто завожу, и по подъему и по аромату каравай тот же самый получается. Если форм не хватает, на поду пеку, как раньше на Руси пекли, хлеб немного широким получается, зато корочка так красиво прожаривается, что целый день на нее смотришь и не налюбуешься, блестит точно алмазная и на зубах так аппетитно хрумкает, ну просто загляденье. Ну а чтобы хлеб ноздреватей был, яичного белка добавляю.
Я помог Михайловне накрыть чан фанерным листом и тремя одеялами. В душе завидовал ее мастерству. Мне тоже захотелось стать пекарем. Самое доброе и мирное дело на земле — печь хлеб. Необыкновенный русский хлеб с желтовато-коричневой пахучей корочкой, с веснушчатыми крапинками по бокам и маслеными пятнами по нижним краям. Русский хлеб сладок и золотист. Я держал в руках свежеиспеченный хлебный каравай, который только что мне дала Михайловна, и любовался им. Испеченный в русской печи, он как живой дышал, распространяя вокруг себя тепло. Руки впитывали в себя эту живучую теплынь. Я завернул хлеб в белое полотенце, которое подала мне.
— С хлебом не пропадете… — улыбнулась она и, открыв печь, кочергой стала пошевеливать горящие сиреневым светом березовые угольки. Ее загоревшие руки потемнели, открытый взгляд сосредоточился. Морща от жара нос, она равномерно расправляла в печи жар.
Печной зев был красив. Огненные блики бегали по его стенам, ярко освещая шероховатости и неровности. Сухая свежесть печи коснулась меня, и я задохнулся от волнения.
— Держитесь, доктор… — сказала Михайловна, озорно глядя на меня. — Жар печной поиграет и перестанет.
— Душно… — прошептал я.
— А хлебу, думаете, не душно… — улыбнулась она, опершись на кочергу.
За окном был вечер. И на темно-синем последождевом небе уже вспыхивали звезды. Торжественно и царственно стояла у печи Михайловна.
В сумрачном домашнем свете ее нежное лицо было полно доброты. Раскрасневшиеся руки чуть вздрагивали. В задумчивости смотря перед собой, она щурила полные какой-то своей потайной заботы глаза. Напротив окна в домах горел свет. А из печных труб курился дымок.
Я смотрел на эти светящиеся домики и думал, что многие люди, собравшись сейчас ужинать, разрезают свежеиспеченный хлеб Михайловны, ощущая его теплоту и аромат.
— А под Новый год, доктор, я всем людям решила из сдобного теста снежинок испечь, сладкой соломки и пирожков-ларчиков. Так что приезжайте на Новый год, у меня места в доме хватит. Можете с дамочкой. Я елочку в святом углу поставлю и Деда Мороза на улице слеплю.
— Постараюсь… — пообещал я.
— Ой, кажись, Соня… — вздрогнула вдруг Михайловна, посмотрев в окно. — В сапогах и без платка. Опять, наверное, замоталась. Даже на ночь теляток не может оставить.
Всмотревшись в дорогу за окном, я увидел ту самую Соню-Золушку, которую встретил на ферме. Проваливаясь в колеи, наполненные грязью и водой, она куда-то спешила.
— Никто не поймет в поселке, чему она счастлива… — сказала Михайловна.
— Почему она к вам не зашла? — спросил я.
— Она утром зайдет. А не зайдет, я к ней сама на ферму схожу. Мы с ней ладим. Когда я приболела, то она и печь топила, и тесто смотрела. Я научила ее хлеб печь…
Проводив взглядом Соню, Михайловна заглянула в печь и подбросила несколько березовых дров. Они вспыхнули, озарив печной зев белым светом.
— Когда совсем постарею, меня Соня сменит, — присев на скамейку, сказала она.
Опустив глаза на свои припухшие руки, вздохнула, пальцы ее потрогали теплый воздух, тряхнули с подола приставшую муку.
— Доктор, скажите, сколько я лет проживу? — шепотом вдруг спросила она. — Максимыч говорит, больше ста, а я не верю…
— Максимыч прав, — сказал я.
Улыбнувшись, она вздохнула.
— Ни к чему все это… Это я вас так, от нечего делать спросила…
Окно, как и прежде, синело, и поселковая дорога блестела огромными лужами. В них отражались звезды и небо. Перепрыгивая лужицы, пробежал по улице в огромном картузе худенький мальчик. На какое-то время вода в лужицах задрожала, сливая звезды друг с другом, а затем, успокоившись, вновь разделила их.
Дрова в печи догорали, и мягкий жар, пахнущий хлебом, румянил лоб и щеки. Лицо Михайловны сияло. В радости подошла она к чану с тестом. И, став на колени, прислонилась к нему.
— Слава Богу, от рук не отбилось, шуметь начало… — И перекрестилась, кротким, сильным взглядом обласкала стены дома.
Я вернулся в свою комнату с огромным караваем. Я был сыт и поэтому, завернув его в полотенце, положил на стол. Раздевшись и включив ночник, лег в постель. Пристройка, в которой я находился, вплотную примыкала к комнате, в которой Михайловна пекла хлеб. Перегородка была тонкой, у самой двери имелось оконце, которое если как следует протереть, то можно увидеть Михайловну.
В задумчивости лежал я в постели и рассматривал просторную комнату. Деревянный стол с тремя стульями посередине, комод у стены, на вешалке мужская одежда, на полу разнопарая обувь, тоже мужская. Наверное, в этой комнате жил ее сын. Он много курил. Недалеко от комода на полочке целый склад сигарет.
В правом углу икона с еле тлеющей лампадкой. Здесь же на стене, оклеенной светлыми обоями, красным карандашом написано: «Сынок, читай, «живые помощи», а рядом химическим карандашом строго каллиграфическим почерком выведено: «Мамань, здесь есть у одного пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» И чуть ниже приписочка: «Каюсь и не знаю, долго ли я буду на этой земле». Может, сын Михайловны все это написал, а может, какой-нибудь залетный постоялец.
В растерянности встаю с постели и смотрю перед собой. Дубовые половицы тускло поблескивают в вечернем свете. Ножки стола впились в них.
Начинаю ходить по комнате, и пламя лампадки боязливо вздрагивает. Трогаю пальцами стоящие на комоде и вазе сухие незабудки, и наголо остриженный парень в растрепанной рубашке горячечно смотрит на меня с фотографии. Это ее сын.
Кто-то медленно едет по улице на лошади. Слышен голос: «Врешь, не уйдешь…» — вслед за ним звучит музыка, мелодичная, с пронзительным солированием скрипки. Затем все исчезает.
…Скрипят под ногами половицы. И мне уже кажется, что я не по комнате разгуливаю, а по улице. Воздух влажный и чистый. Проваливаясь в грязные и глубокие ямки-лужицы, иду вперед.
— Что это?.. — вздрагиваю я, наклонившись у колодца над чуть наполненным водой ведром. В нем мое лицо, обрамленное по краям синевой. Я не верю, что его запросто можно держать в руках перед собой и даже трогать пальцем. Стекляшки-глаза и нос с двумя морщинками. Достаю из кармана спички и зажигаю огонь. Близко опустившись над плавающим в воде лицом, понимаю, что это лицо всего лишь копия моей формы, но не моего «я».
Спичка гаснет. Усмехнувшись, опускаю отражение своего лица в колодец. Пусть полежит до утра.
Оставив в колодце отражение своего лица, полной грудью вдыхаю свежий воздух и вновь иду по улице. Собаки, увидев меня, не лают, так как походка моя незлобива. Воробьи, взлетев с деревьев, растворяются в синеве.
«Где сейчас сын Михайловны? Может, хлеб мать его печет лишь для того, чтобы забыться?..»
Моей бесцеремонности нет конца. Взглянув на небо, замираю. «Неужели это привидение?..» Над головой в воздухе стройными рядами плывут телята, а позади них Соня. Подняв руку над головою, чуть было не коснулся ее.
— Доктор, что вы делаете здесь? — слышу ее голос.
— Я совершенно случайно здесь. Вышел на прогулку и увидел вас…
— Смотрите не заблудитесь…
Улыбаясь, она шагает по воздуху как по твердому снежному насту, не падая и не проваливаясь. Синий платочек у подбородка туго завязан, и ветерок приподнимает его концы. В ее руках палочка. Куда она гонит в столь поздний час свое стадо?
В растерянности отступая назад, чуть было не проваливаюсь в яму, заполненную водой. Вновь начинается дождик. Ладошкой защитив глаза от капель, не свожу глаз с Сони. Молчаливое стадо идет гуськом.
— Куда ты их гонишь? — кричу я.
Остановившись, она с любопытством смотрит на меня, а затем произносит:
— Вы ошиблись, я не Соня.
— А кто же?
— Ее душа…
Сонины глаза грустны и пусты. Я тупо смотрю на них. Мне не нужна ее душа, мне так хочется, чтобы она появилась сама.
— А чье это стадо? — растерянно спрашиваю я. Первый раз разговариваю с душой.
— Это тоже души… — тихо произносит она. — В коровнике очень сыро. И многие телята умирают…
Спрятавшись под каким-то навесом, смотрю на небо, принимая его. Звезды, луна и синева все так же пьянят. И воздух прозрачный хотя и наполнился влагой, все равно приятен.
Жадно стараюсь найти в небе следы Сониной души. Но ее нигде нет. Так ничего и не найдя, стираю ладонями с лица дождевые капли.
Ноги скользят по лужам. Я иду обратно домой. Пиджак промок. Брюки цепко обхватили бедра. Ломоть хлеба в кармане размок. Сняв с ног туфли, иду босиком. В доме Михайловны горит свет.
— Бедняга, ничего не видит, а идет… — слышу я голос из темноты.
Чьи-то глаза растерянно и испуганно смотрят на меня. Но мне почему-то все равно. Поза моя не из приятных. Собаки швыркают под ногами и что есть мочи лают, одновременно лакая дождевую воду. Достаю из кармана размокший хлеб и, не глядя, бросаю им. На какое-то время они утихают.
— Да, славно он проведет эту ночку… — вновь голос из темноты, а затем вдруг кто-то два раза свистнул и захлопал крыльями. Я смотрю в небо. Все небо шуршит. Из-за дождя в нем ничего нельзя увидать.
В приоткрытое окно я вижу, как в ярко освещенной комнате Михайловна раскладывает подошедшее тесто в формы.
— Не знаешь, куда он ушел? — произносит кто-то рядом со мной.
— Я здесь, я здесь… — кричу я и кидаюсь на звук. Но тут же, оступившись, падаю.
— Нет, это не доктор… Наверное, это вернулся к Михайловне сын.
…Кто-то что есть мочи стучит в окно. Быстро вскочив с постели и на ходу протирая сонные глаза, открываю настежь окно.
— Кто там? — жадно смотрю я по сторонам. Но рядом никого нет. Лишь легкий туман стелется по густой траве. Да изредка падают с крыши капли утихнувшего дождя. Предрассветная тишина так сильна, что кажется, ты находишься на дне огромной ямы.
— Где я? И что со мной? — в растерянности произношу я. И, осмотревшись, понимаю, что я в пристройке. Одежда на мне чистая. Грязных следов на полу тоже нет. Я быстро одеваюсь и выхожу на улицу. Запах свежеиспеченного хлеба ударяет в нос. Михайловна, раскочегарив печь, печет хлеб.
Туман ласкает пересохшую и прихваченную морозом травку. Солнца у горизонта нет, но небо уже светится. Начинается новый день.
Печная труба на крыше дома Михайловны дымит. Через приоткрытое окно слышу, как гремят хлебные формы.
Подойдя к дому, вздрагиваю. На крылечке сидит Соня и жадно ест хлеб. Увидев меня, конфузится, видно, не предполагала, что встретит меня.
— Здравствуйте… — тихо произносит она и, прижимая хлеб к груди, смотрит на меня.
Кивнув, я приветствую ее.
— Разрешите поблагодарить вас за медосмотр… — произносит она. Рядом с ней корзинка. Быстро достав из нее два яблока, протягивает их мне. — Вы таких не ели.
Я принимаю из ее рук яблоки.
— Сегодня Михайловна пирожки с яблоками испечет. Я очень люблю их…
Я рад, что встретил Соню.
— Кушайте яблоко…
Послушно кусаю яблоко.
Под ногами кружится туман. Капли с крыши падают на щеки, но я не замечаю их.
— Вам хорошо? — тихо спрашивает она.
— Хорошо…
Мои руки блестят от капель.
— Я к Михайловне забежала хлебушка попросить.
Соблазнительно красиво белеет над дорогой туман. Блеклые огромные лужи, окруженные коварными колдобинами, чуть парят. По узким тропинкам, протоптанным рядом с оградами, люди идут на работу.
— Доктор, а вы придете к нам сегодня?
Я не успеваю ответить. Из дома выходит Михайловна. Ее пальцы в тесте, фартук в муке.
— Доктор, вы очень рано проснулись.
И она приглашает в дом.
— А яблоко кто вам дал? — спрашивает она.
— Соня…
— А где она?..
— Соня… — я выбегаю из дома. Но порожки и двор пусты. Ее нигде нет. Одни лишь крошки хлеба.
— Соня… — кричу я. — Соня…
Михайловна стоит за спиной.
— Буквально минуту назад она была здесь… разговаривала со мной…
— Наверное, на ферму ушла… — вздыхает Михайловна.
Я вновь сижу в ее доме и ем свежеиспеченный хлеб. Разделенное на небольшие части тесто Михайловна ловко подбивает руками и, уложив на промасленный лист, отправляет в печь. В эмалированном баке мелко нарезанные яблоки. Видимо, она, как и говорила мне Соня, будет печь пирожки с яблоками. В булочки Михайловна добавляет мак, в калачи — изюм.
Вдруг на улице слышу шум. И тут же в комнату вбегает растерянный Максимыч. Он без шапки, руки дрожат.
— Доктор!.. — в волнении произносит он. — Скорее…
— Что случилось? — спрашиваю я.
— Ферма загорелась.
Я бежал впереди Максимыча. Он следом с трудом поспевал. У меня не было в кармане даже таблетки, но я знал, что иногда спасает людей сам факт появления врача. На самом деле все было не так. Максимыч был опытен в скоропомощных делах и в отличие от меня не растерялся и захватил с собой медицинскую сумку.
Когда мы прибыли на ферму, то ни о каком грамотном тушении пожара не могло быть и речи. Огонь заливали ведрами, в него кидали грязь, накрывали брезентом, сбивали одеждой. По дорогам, ведущим к ферме, трактора проходили с трудом, а пожарная машина, если бы ее даже и вызвали, и на метр не продвинулась. Конечно, ее можно было бы притащить на буксире. Но за то время, покуда ее волокли, от фермы не осталось бы и следа.
Полуживую Соню, спасшую почти всех телят, вытащили из-под рухнувшей крыши трактористы. Мы нашли ее лежащей на брезенте у бочки с водой. Доярка, стоящая перед ней на коленях, упрашивала ее выпить теплого молока. Соня не смотрела на нее. Мы делали с Максимычем все, что могли. Приехал с тележкой «Беларусь», на котором собрались было везти Соню в район.
И как только она силы нашла, чтобы прийти в себя. С благодарностью посмотрела на меня и прошептала:
— Я вас сегодня приглашала.
— Соня… — окликнул я ее.
— Маленький теленочек, которому я хлебушек всегда давала, меня за палец укусил.
И закрыла глаза.
— Соня… — крикнул я вновь.
Тупое оцепенение нашло не только на меня, но и на Максимыча, и на всех людей. Кто-то принес корзиночку, позабытую Соней на улице. В ней были яблоки и хлеб. Спасенные ее телята веселились у копны сена, разбивая ее.
Я пробыл в поселке неделю. А затем на тракторе поехал на станцию. Михайловна дала мне мешок хлеба.
— Приезжайте на следующий год… — просила она меня.
Я обещал приехать.
Лицо ее было грустным, но она храбрилась и махала мне рукой. Она долго шла за трактором, словно я был ей сыном. В кабине пахло хлебом. Тракторист, улыбаясь, кусал теплый калач.
Я смотрел сквозь стекло на поселок, на быстро идущую вслед за нами Михайловну, на мальчишек, одетых по-зимнему. Все было прежним. Пушистые облака серебрили небо. И солнечные лучи, проникая сквозь их прорези, красиво искрились. Мелкие капли на стекле дрожали долго и не падали.
ПЕРСОНАЛИЯ
— Ну что, «саврасый», вылечился?.. — тихо и очень нежно спросила бывшая воспитательница детсада, а в настоящее время поселковый инспектор и экстрасенс Маркина Мила лесника Кошкина Ивана, мужика крайне влюбчивого и странного. Ей нравилось называть его «саврасый». Да и он действительно порой походил на саврасого, особенно когда волновался. Лицо его покрывалось морщинками. Волосы, намокнув от пота, беспорядочно облепляли лоб и уши. А щетинка под носом хотя и намокала, но все равно оставалась бойкой, она дыбилась, то и дело вздрагивала и двигалась, особенно когда он глубоко дышал или, фыркая, надувал щеки.
Он ничего не сказал Миле, а лишь только поднял глаза и раскрыл от удивления рот. Руки ее только что нежнейшим образом обгладили его почти всего. Он был раздет по пояс. И сердце его, и душа, до этого, можно сказать, мертвые, вдруг так запрыгали, так запрыгали, словно он был не на Милкиной кожаной кушетке, а далеко на небесах, где нет ни окон, ни штор, ни исступленного воя ветра за стеклами, а где необыкновенная сладкая тишина и любое движение по отношению к человеку приносит радость и счастье и где руки, наверное, точно такие же, как у Милы.
В ее трепещущих руках столько нежности, что он готов тянуться за ними хоть куда и исполнять любое приказание.
— Нет, ты выше, чем полебиотик… — вдруг страстно прошептала Мила и, сняв с него сапоги и брюки, заставила его зажмурить глаза и стать спиной к окну, а лицом к ней. — Ты персоналия, да, да, персоналия…
— Что это?.. — наконец прошептал он впервые за время Милкиного сеанса.
— Не что, а кто… — поправила та его и, благоговейно вдруг прижавшись к нему, прошептала: — Персоналии это такие личности. Их даже молния убить не может, потому что они крайне влюбчивые…
Когда сеанс биополя закончился, Мила прошептала:
«Я вернусь. Я обязательно вернусь…» И в ту же минуту огонь в глазах ее погас. Зрачки потемнели. В центре их Иван увидел себя с полураскрытым ртом, согнутыми в локтях руками и поджатыми под себя ногами. А потом он вдруг увидел слезы на ее глазах. Она торопливо вытирала их, а они капали и капали.
Иван в испуге закричал:
— Мила, почему ты плачешь?
— Я не плачу, — улыбнулась она сквозь слезы. — Это просто таким путем выходят из меня остаточки биополя, — и, внимательно осмотрев кончики своих пальцев, прошептала: — Действительно, это так ужасно!
— Мила, но это ты ведь со мной разговаривала, скажи? — тупо и настойчиво уставился на нее Иван.
Он толком ничего не понимал, что с ним только что произошло.
— Нет, биополе, — и добавила: — Закрой глазки, котик, и поспи. Я сейчас градусник принесу.
Через несколько секунд она принесла градусник, встряхнула его и положила Ивану под мышку, поцеловав его перед этим и в щечку, и в лоб. Отчего Иван тут же расцвел.
— Ох, как же мне приятно!.. — прошептал он и с удовольствием задрожал.
— Ах боже мой, — посмотрела на часы Мила.
И, сняв перед Иваном халат, побежала в ванную принимать холодный душ. Только таким путем снимала она с себя остатки биополя. Так как они почти всегда, по ее мнению, прятались на ее теле.
Лежа на правом боку, Иван сквозь щелочку в спинке дивана с любопытством посматривал на Милу, которая, покрывая тело мыльной пеной, тут же ее смывала. Затем, запутавшись в своих мыслях, понял одно: чтобы раньше времени не совершить греха, нужно срочно закрыть глаза. И он закрыл их.
— Успокой мою душу, инспекторша Мила!.. — умиленно прошептал он и, черпнув языком воздух, чтобы его тут же выдохнуть, прислушался.
Все также урчала в ванной вода. И за окном метель скрипела петлями, то ли дверными, то ли оконными. Ароматный запах мыла и шампуня вдруг перебился долетевшим из кухни запахом поджаренного с луком сала. Он точно поросенок зачмокал. А затем стал жадно облизывать губы. Ведь он, как и все лесники, любил поесть. Особенно в гостях. И называл он все это не сотрапезничанием, а страпезничанием, то есть съесть предназначенного угощенья как можно больше, чтобы хозяин потом целую неделю хватался за голову, удивляясь невиданной человеческой прожорливости. Конечно, Ивану Милку объесть очень трудно. Только он порой возьмется за вилку, чтобы прицелиться к самому зажаристому куску сала — Милка тут как тут, не вилкой, ложкой замахнется и полсковородки как не бывало. И тогда казалось Ивану, что она сало не жует, а глотает кусками. И часто Иван от удивления ахал, узнавая, что Милка вдруг ни с того ни с сего съела за день целый окорок, который он достал ей по блату в знак уважения и который ему, да и не только ему, но и всей семье надо было бы грызть непрерывно целую неделю.
Слюнки вытекали из Иванова рта и падали на подбородок и на ворот рубахи. Он окончательно смирился с прежним своим влечением к Милке и лежал спокойно, полусонно, не выказывая никакой строптивости. Сковородка с жаренным на луке салом летала перед глазами и манила за собой своей длинной ручкой, точно указательным пальцем. И не нужна ему была в эти минуты ни Милка, ни ее снаряд-биополе. Она никуда от него не денется. Ведь он в ее доме будет ночевать. Так что главное для него сейчас «червячка заморить».
Благодаря этому вот свиному салу он и познакомился впервые с Милкой. Он, тогда еще только заступивший на должность лесника, жарил в лесу в котелке сало. От муторных аттестационных дел он устал и проголодался. Когда сало более-менее разогрелось, он наколол его тоненькой палочкой и поднес ко рту. Быстренько обдув со всех сторон, приготовился уже его съесть, да вдруг кто-то хвать из-за его спины кусок. Он оглянулся. И не поверил своим глазам. Красивая женщина стояла перед ним и улыбалась.
— Как вам пришло в голову взять и зажарить в котелке сало!.. — и засмеялась. — А вы знаете, очень вкусно!
Легкий румянец пылал на ее щеках. А в глазах и губах столько необузданности было, что Иван поначалу растерялся, ну а потом вдруг понял, что связала она его по рукам и ногам и, может, навсегда.
— Ну что вы так смотрите на меня? — засмеялась она опять. — Представьтесь, кто вы такой?
Он, лупая глазами, беззвучно шевелил губами. Она нагнулась и подняла помятый цветок, сбитый колесами его телеги.
Его телега со слесарным инструментом, стоящая рядом с ним, показалась ему почему-то вдруг игрушечной. Толкни ее пальцем, и она покатится. А перелетающие с цветка на цветок майские жуки — летающими бензопилами. Туфельки ее блестели, и светились капельки росы на пушке ее верхней губы.
— Вас, наверное, слепит солнце, — сказала она. — Ну хорошо, я сделаю тень. — И, подойдя к нему еще ближе, закрыла падающий на него до этого яркий солнечный луч, став от этого еще более красивой.
— Ну… — улыбнулась она.
До чего ж он казался сам себе в эти минуты маленьким-маленьким. Сердце тикало, точно часы, которым до максимума усилили ход шестеренок. Он не знал, что и ответить. Поначалу, правда, ему показалось, что все это почудилось. Но время шло, а красавица стояла перед ним.
И тогда она, присев рядом с ним, спросила:
— Вам жарко?
— Да… — ответил он тихо.
— Извините, это не я виновата… Это мое биополе. Поняли?..
Он промолчал. Потому что действительно, как только она села с ним рядом, ему показалось, что не он сало поджаривает, а сало его.
Затушив костер, она вывалила сало в зеленую траву, видно, для того, чтобы побыстрее остудить его. Не прошло и двух минут, как она тут же заглотнула абсолютно все куски шипящего сала. И тогда понял Иван, что никакая она не красавица, а самая что ни на есть настоящая выдумщица, помирающая с голодухи. С этим внезапно сложившимся о ней мнением он, понурив голову, вез ее на своей телеге до самого лесничества. Она смеялась всю дорогу, совала ему под нос цветок, звала к себе в гости. Как выяснилось, мужья у нее были, но она со всеми развелась. Детей не было, да она, видно, и не стремилась к ним. Ибо с теперешними мужиками каши не сваришь. Порой и полгода не проживешь, как приходится разводиться. Готовить они не могут, стирать тоже, убирают в комнате из-под палки. В магазин пошлешь, такое припрут…
— Тебя как зовут? — спросил ее Иван, когда они подъехали к переезду.
— Милка. А что?
— И имя вроде скромное. А уж прожорлива ты!
— Э-хе-хе, — засмеялась она.
— Хе-хе… Все хехюшечки тебе. А вот возьмись тебя прокормить, и не прокормишь. На следующий же день по миру пойдешь.
— Э-хе-хе, — смеялась она.
Иван, спрыгнув с телеги, внимательно посмотрел на нее и, вновь удивившись горячечному блеску ее глаз, сказал.
— Короче, слушай. Если хочешь вновь увидеть меня в следующий вторник, то приходи обязательно сытой, да в придачу с собой прихвати чего-нибудь пожрать. Сама ведь знаешь, от любви такой аппетит разгорается.
И Иван вдруг от того, что забрел в дебри-мысли, в удовольствии заржал. А она, наоборот, перестав смеяться, теперь стояла перед ним какая-то искренне-преданная.
— Неужели вы шуток не любите?
— Какие могут быть шутки, — заржал он пуще прежнего. — То, что человеку на целые сутки отпущено, тебе, можно сказать, и для глотка не хватает. Я ведь готовил в котелке на троих.
И тут вдруг глаза ее неестественно расширились, и пальчики в такт носу беспокойно завздрагивали. Черная сумочка на ее плече самопроизвольно раскрылась. И с необыкновенной быстротой она достала из нее красную корочку, и еще с необыкновеннейшей быстротой раскрыла ее перед Ивановым носом.
— Инспекторша Мила я! Вот кто я! — гаркнула она, а точнее, рявкнула, как рявкает командир на провинившегося солдата.
Иван прочел: «Старший инспектор, такая-то и такая-то…» Прочел и одеревенел, бедный. Пили, коли, руби его, а он и чувствовать не будет. Как же это он не унюхал? Как же он не распознал? Что перед ним птица-то была не низко летающая, а высокобреющая Перед ним не шут гороховый стоит, а инспектор. Это она поначалу перед ним шутом прикинулась, мол, сало котелками ест, то да се. А оказалось. С трудом он промычал в свое оправдание:
— Христа ради, если уж чем провинился, то простите. Думаете по молодости лет я бы такое сделал?
И вновь ему телега показалась какой-то игрушечной. А майские жуки — летающими бензопилами. И вновь красивой она показалась ему. Ни жив ни мертв он был, бедненький.
— Прошу вас, — сказал он и подал ей свою руку, чтобы помочь ей слезть с телеги. Она взглянула на него с недоумением.
— Прошу, прошу… — залепетал он. — Сегодня я весь и всецело в вашем распоряжении.
Она, застегнув на груди платье, вбежала за ним следом в избушку. Он усадил ее за стол, поставил чайник. Краем глаза взглянул на себя в зеркало — таких белых губ у него никогда не было. И тогда, ни минуты не раздумывая, забормотал:
— Да что мы, миленькие, по сравнению с вами, инспекторами. Червячки, козявки, махонькие пташечки. Тронь али ударь нас легонько, и вот уже нет нас. Ну а в тюрьму посадить с вашими способностями не только меня, но и любого другого труженика вам сущий пустяк. Потому что все мы в труде, и не до бумаг нам.
И, как-то уж очень нерешительно улыбнувшись, Иван достал из стола и выложил перед Милкой позапрошлогодние наряды, те наряды, которые не он заводил, а его предшественник, которого вот такой вот инспектор наподобие Милки и засадил.
— Вот здесь вся наша правда… История, так сказать. А своих нарядов у меня пока нет. Потому что работаю я без году неделя.
Он говорил, он лепетал, он унижался перед ней. А она сидела перед ним точно пава али жар-птица. Глаза ее хоть и светились, но выражали безнадежную пустоту.
— Что и говорить, все вы воры… — вместо ответа проговорила она лукаво и отодвинула от себя наряды.
— Я не вор. Я еще… Короче, я только заступил лесничить. Даже доски еще украсть не успел.
— Какой вы странный, — вспыхнула вдруг она. — Разве я про вас все это говорю. Воров без вас полно.
— Пейте чай, а то остынет, — вежливо предложил Иван.
Спина его все еще была мокрой от пота, но икры уже дрожали не так сильно.
А затем она обняла его. И они закружили по комнате точно пьяные. Вот так вот неожиданно и познакомился Иван с Милкой в дремучем сосновом лесу.
Откуда биополе у Милки взялось, трудно сказать. Да и она сама не знала. Вначале оно было у нее плохеньким, и, чтобы оно проявлялось, ей приходилось по часу пыжиться и щеки надувать. А затем вдруг наступил пик. Народ к ней, особенно мужики, так и повалил. Их притягивала не только красота, но и душевное отношение к ним, которое постоянно почти у всех мужиков в мыслях бродит.
— Милочка! Друг ты наш! — прибегали к ней часто два милиционера из третьего дивизиона дорожного надзора. — Очерствели мы…
— Что случилось? — тихо спрашивала она их и начинала пальцами теребить их кудри.
— Да вот позавчера взяли с одного гаврика по червонцу на брата. А он оказался родственником нашего начальника, — уставившись на нее и смутно понимая, что она делала с ними, отвечали ей милиционеры.
— Ну и что ж тут такого! Раз все берут, почему бы и вам не взять… — и Мила просила их закрыть глазки.
Они закрывали глаза. И действительно, на самом деле какая-то приятная теплота начинала обступать их со всех сторон.
— А все дело в том, Мила, что, узнав об этом, начальник нас может выгнать. И тогда мы на пенсию выйдем не с сорока пяти, а с шестидесяти.
— Ну зачем, зачем вам паниковать, — шептала она. — Я сейчас заряжу вас своим биополем, и у вас будет рай на душе. Вы все забудете… все, абсолютно все, то, что было с вами раньше, и то, что будет. — И гладила руками их головы вместе с ушами и шеей. И они от такого ее тепла и ласки расцветали и отдыхали. — И за что вы его оставили?.. — все также ласково продолжала шептать Мила.
— Да он датый был, — отвечали они хором. — Мы сами видели, как он выпил бутылку пива.
— Ну так вам и незачем больно волноваться. Ведь вы оказались самыми честными. Вы поступили по закону. И не грустить вам надо, а радоваться. А десятки, тьфу на них, ведь это не люди, бумажки, — и Мила разрешала им открыть глаза.
Прехорошенькая Мила с решительным носиком и с заманчивым пушком на верхней губе стояла перед ними и длинными руками разгоняла воздух над их головами.
— Что законно, то законно, — отвечали милиционеры ей. — Но все дело в том, что он доводится двоюродным братом нашему начальнику. Ну, а закона все же такого еще нету, чтобы со своих можно было брать.
— Но вы же не знали, свой он или не свой! — шептала она и отгоняла воздух от их голов так, словно он, этот воздух, состоял из целой стаи назойливых мух.
— Да, да… — признавались они и завороженно смотрели на Милку.
— Значит, все в норме, — вдруг неожиданно засмеялась она. — Все в норме! А еще вы, наверное, бы и не взяли копейку, если бы он сам не дал.
— Да, да… Совершенно верно, — и, захлопав в ладоши от нашедшей на них новой радости, они с еще большим восторгом восклицали: — Ну и Мила, ну и молодец! — и, отталкивая друг друга, лезли ее обнимать и целовать.
Она поддавалась им. Нерешительная, скромная улыбка начинала бегать по ее лицу. Трубкой выпячивая навстречу их поцелуям свои ярко-красные губы, она, находясь не в меньшем восторге, чем они, шептала:
— А ведь все это не я, а мое биополе, которое вдруг взяло и переселилось из меня в вас.
И, ощущая себя точно во сне, она так крутила в воздухе руками, что ей начинало казаться, будто она вместе с милиционерами летит, таинственно шевеля над землей пальчиками ног и рук.
Вот таким путем Милка всех биополем подзаряжала.
По выходным дням рано утром, когда поселок только просыпается, на окраине леса недалеко от железнодорожного полотна можно увидеть девочку Таню. Она живет недалеко от станции в деревянном доме. Ее мама домохозяйка. Папа лесник. Ничто в этой жизни не трогает Таню, а вот зимний лес влечет. Ну а еще она любит носить красную шапочку (красный цвет у нее самый любимый). Пальтишко на ней, простенькое, сшитое из папиного материала, поблескивает огромными медными пуговицами.
Очень долго стоит она на окраине леса и смотрит, а точнее, наблюдает за деревьями. Но эта «утренняя гостья» не только созерцает, но и, сложив на груди руки, читает стихи. И часто из ее уст можно услышать: «Лиза. Дрова. Летала бензопила».
Припорошены снегом ветви деревьев. Страсть как пахнет сосна. И блестит на солнце береза. Калина полунаклонилась. Сказочен контур и узор деревьев.
— Было бы окошко в моей комнатке, я бы вас пригласила… — ласково шепчет Таня елям и, подойдя к какому-нибудь деревцу, вдруг, прижавшись к стволу, произносит: — Лиза. Дрова. Летала бензопила.
— Ну что, «саврасый», вылечился? — тихо и очень нежно спросила Мила Кошкина Ивана и прижалась к его груди.
Иван вздрогнул, а потом вдруг не выдержал:
— Я до смерти люблю тебя… всю, всю… — и с жадностью стал целовать ее, а потом грубо потянул на себя ее платьице, и медная узорчатая пуговочка на ее спине шлепнулась на пол, а за нею и все остальное.
— Вот все вы такие, персоналии, — сказала она и попыталась освободиться из объятий Ивана.
Но Иван, без всякого труда легонько приподняв ее, точно узелок, торопливо, от волнения спотыкаясь, понес на новую кожаную кушетку, которую он заприметил еще в начале сеанса. Подзаряженный Милкиным биополем, Кошкин Иван был силен как никогда.
— Бесстыдник… — брыкалась она. — Бесстыдник.
А он знай повторял лишь одно:
— Я люблю тебя всю, всю…
И через полчаса кожаная кушетка рухнула. Белокурая Мила, став за это время еще белокурей, покорно смирившись со своею судьбою, с грустью смотрела, как Иван натягивал на ноги промасленные кирзовые сапоги. Оставаясь под влиянием Милкиного биополя, он благодарил Милку.
— С такой подзарядкой я до Курска за час дойду… — и хохотал. — Ну а насчет кушетки ты не трусь, я на этой недельке обязательно склею. Есть такой клей «Момент».
Мила тихая была и даже какая-то ручная. Это Ивана смутило. Когда он сел за стол, чтобы поесть щей, то спросил:
— Ты что, замуж решила за меня выходить?.. — и добавил: — Лично я согласен под таким вот воздействием твоего биополя жить и эту жизнь на земле и даже будущую там, на небе.
Мила, поправив на груди бархатный халат (она успела переодеться), хмыкнула:
— Я не против, и ты не против. Но не получится.
— Почему? — спросил Иван и, для приличия осторожно взяв ее за руку, стал нежно гладить.
— А потому, — вздохнула она. — Что такие персоналии, как ты, ну абсолютно все без остаточка биополе у меня отбирают.
Иван оробел. Ему стало неловко. Даже пусть он и персоналия, но без Милкиного биополя он не то что жить, но и существовать не сможет. Ведь благодаря ее подзарядке он несколько минут назад был так счастлив, так счастлив.
— Мила, а Мила… — прошептал он взволнованно. — Я не хочу быть персоналией, я хочу быть полебиотиком.
— Ну это ты сейчас, мой милый, так говоришь, — улыбнулась Мила. — А день-два пройдет, и тебе опять захочется персоналией побыть. Все вы, мужики, такие, вам бы только страсти подавай. А чтобы по-человечески дружить, в кино али на танцы ходить или вот хотя бы мечтать… Нет, сколько ни жди, не дождешься от вас этого. Ну ладно, ты молодой, а то ведь и старики туда же. Подзарядишь старичка-фронтовичка, так он и руки протягивает…
— Ты добрая, — прошептал Иван, и лицо его зарумянилось.
Он дышал шумно. Ему хотелось опять заорать на всю комнату и, вновь объяснившись Миле в любви, снести не только кушетку, но и весь дом, чтобы тем самым доказать, что он во сто крат сильнее любого представителя старого поколения.
— А-а… — с укоризной прошептала та и, встав из-за стола, пододвинула тарелку щей поближе к Ивану. — Ты ешь, а я тебе поиграю.
Она раскланялась перед ним и пошла к окну, где стояло ее старенькое пианино. Открыв крышку и усевшись за него, она подула на окоченевшие и посиневшие пальчики и, воскликнув:
— Ох, я же сейчас и подзаряжусь! — пошла тарабанить по клавишам как по барабану.
С появлением этой сумбурной музыки биополе, как показалось Ивану, тут же стало покидать его. Торопливо съел он щи. И, опустив плечи, уставился на Милу, изредка крякая от неимоверного шума.
— Аллюр три креста! Аллюр… Аллюр. Аллюр… — закричала Мила и с такой силой затарабанила по клавишам, что у Ивана задергались брови.
— Господи! Кузница не кузница… Молотобойцы не молотобойцы… — прошептал бедняга Иван и вдруг решил, что он дурак. Ибо как он только подзарядился от Милы биополем, то сразу же надо было убегать. Он ощупал грудь, голову. Нет не было в нем прежней энергии и силы.
Мила необыкновенно жадно смотрела на него, как цыганка, которой вот-вот должны заплатить. Неожиданно глаза ее засветились, а черный пушок над верхней губой покрылся потом.
«Почему она смотрит на меня так проницательно?» — в испуге подумал он. Ему захотелось выкрутиться из-под ее влияния. И он, чтобы не обидеть, ласково спросил ее:
— Скажите, а вы кто, композитор или инспектор?..
— А я и сама не знаю, — ответила она тихо и, слабо улыбнувшись, спросила: — А вам что, не приятно со мной?
— Нет, нет, приятно… — пробормотал он.
— А хотите эпизод с тишиной послушать? — неожиданно предложила она.
— Вот так музыка! Все выжала! — И Иван схватил полушубок, шапку и к двери. Но не тут-то было.
— Стой, — крикнула Мила и, бросив играть, подбежала к Ивану. — Плут ты этакий, Саврас Саврасыч, — и нежно обняла его. — Разве тебе не нравятся мои заряды. Эх ты, дурачочек. Ну неужели шуток не понимаешь. Люблю я тебя, понимаешь, люблю.
Эти слова достигли его души. Он растаял. Тут же у порога бросил полушубок, шапку и прижал Милу к себе.
— Пойдешь сегодня со мной? — спросила она.
— Куда?.. — спросил он.
— Как куда, гулять…
Мела пурга. Трещал мороз. А они шли к храму просто так, решив прогуляться. Впереди Иван с фонарем, а чуть позади с палкой Мила. Не смолкая гудел ветер.
— Ну и погодка! — кричал то и дело Иван, держа над головой фонарь.
— Интересная погодка, — засмеялась Мила, она без всякого труда своей двухметровой палкой, точно прутиком, протыкала залежавшийся снег.
— Интересная, интересная… — заворчал Иван и нахлобучил на глаза шапку. — Только ради тебя и иду.
— Ну, а еще мне кроме храма хочется посмотреть на мельницу, — поравнявшись с Иваном, воскликнула Мила. — В ней живет мельник, он такой выдумщик.
— С ума сошла, — вздохнул Иван. — Этот мельник только летом мельник, а зимой он портной, с утра до вечера сидит за шитьем.
— Ну и пусть, а я все равно хочу к нему.
— Что с тобой сделаешь, — вздохнул Иван, прикрывая от снега рукою фонарь. — Ладно, пойдем к нему.
— Вот будет здорово!.. — обрадовалась Мила. — Со мной кошелек. И мельник сошьет мне сарафан. Обязательно сошьет мне сарафан. Абсолютно все женщины, обладающие биополем, должны носить сарафан.
— Смешная ты… — улыбнулся Иван и, вдруг словно с чем столкнувшись, прошептал: — Смотри, кажется, храм.
Мила прижалась к нему. Да, действительно, метрах в трех от них был заброшенный, полузапорошенный и покрытый инеем храм. Дверей не было, окон тоже, и поэтому ветер в нем гулял как хотел. От купола к небу стрелой был устремлен строгий, без всяких узоров и росписей крест. Внизу купол покрыт льдом.
— Ну и мороз, душегубец проклятый. — И, крякнув, Иван потер рукавицами щеки. — Даже не стесняется, что рядом храм. Чем быстрее околеешь, тем больше будет рад… Ух-х…
И, пристегнув к ремню у пояса фонарь, посмотрел на Милу, которая уже входила, а точнее, вползала в храм, ибо такие сугробища были вокруг него, что они больше чем наполовину перекрывали пустые дверные проемы и глазницы окон.
— Мила, погоди, — кинулся он вслед за ней.
Сказочные полузаиндевелые росписи на стенах манили. В центре перед алтарем висела лампадка. Она была до того облеплена снегом, что походила на фигурный пряник, вылепленный из белого хлеба. Мила ожидала увидеть темноту, а увидела снег, стены, перекладины под куполом да каменистые выступы полуразрушенных перегородок, предназначавшихся для хора.
Как полоумный смотрел Иван на стены. Не наряды и не слегка полунаклоненные головы святых удивляли его, а их глаза. Эти лики со стен не просто смотрели на него, а впивались крепко и тяжело, трогательно и жутко, и во всем этом постоянно присутствовала с их стороны по отношению к нему какая-то усмешка, словно он уже давным-давно неземной и стоит сейчас не на земле, а на облаке, и судьба его и жизнь его уже кем-то предрешены, и вот сейчас, наверное, разверзнутся стены и выйдет сам Бог и, указав на него перстом, скажет: «Представляю, что бы ты еще на земле натворил, если бы тебя вечно жить оставить…» — и посмотрит на него, словно он не человек, а мелочь, ничего не значащая и в пространстве еле-еле обозначенная.
С шипением сыпался с купола на окна снег. И ветер кружил, как всегда, непонятно и загадочно.
— Как мне хочется сейчас убежать от самой себя, — прошептала Мила.
— Это не стены на тебя так действуют, а ночь, — попытался выправить ее настроение Иван.
Ему не хотелось смотреть на лики. Ох как бы он был рад, если бы их глаза залепил снег. Но, увы, он, как назло, был не влажен, а сух, и, ударяясь о стены, он тут же скользил, а затем осыпался вниз, точно речной песок.
— Нет, — с горечью усмехнулась она. — Это не ночь во всем виновата. А мы с тобой. Не так мы, видно, жили, понимаешь ли ты, не так мы жили, раз нам страшно находиться в храме… — И, прижавшись к нему, она вдруг прошептала: — Тише, тише… Слышишь. А потом попросила: — Погаси, пожалуйста, фонарь, кажется, кто-то сюда идет…
Он торопливо загасил фонарь. А потом с такой поспешностью оглянулся по сторонам, что чуть было не упал.
Но, увы, как ни всматривались они и ни вслушивались, никого так и не увидели Синева, величавая ночная синева, возвышалась перед ними, насколько только глаз мог видеть.
— Значит, ошиблась я… Значит, ложным было мое предчувствие… — И вдруг, подойдя к одной из росписей, Мила сняла варежки и теплыми ладошками начала убирать с картины иней.
И он тут же таял, и капельки тоненькими струйками бежали вниз и, не добежав до земли, на полпути замерзали.
— А может, мне привиделось. — Руки ее коченели от холода, а она все оттирала и оттирала от снега картину.
Голос ее был полон надежды и радости. Глаза — любви. И в эти минуты Иван мог поспорить с кем угодно, что милей ее он никого не видел. Он покорно стоял рядом с ней.
— Здесь хорошо, — улыбнулась она ему.
И он не знал, что и сказать. Ибо не мог осмыслить все происходящее. Ну а еще, стоило ему посмотреть в глаза святых, как ему становилось не по себе. За руку он потянул ее за собой, на ходу подхватив потухший фонарь.
— Да пусти ты меня, пусти, — вырывалась она.
И полы пальто ее трепыхались на ветру. Платок упал с головы. И длинные волосы, точно удивительно сказочные синие кружева, щегольски плясали и спорили с ветряными воздушными струями. Одна варежка выпала из кармана, и ветер, приподняв ее, выбросил в окно и там, в снежном просторе, вцепившись в нее, точно пес в сладкую кость, понес далеко-далеко.
Он оторопело пожал плечами, затем, пнув ногой снег, точно ком соломы, спросил:
— А сколько сегодня мороза обещали?
— Сорок. А что?
— Тело почему-то дрожит, — прошептал он.
Она кинулась к нему и начала торопливо растирать щеки, лоб и руки.
— Милый, успокойся, это выходят из тебя остатки биополя. Крепись, надо всего минут пять продержаться, и все пройдет.
И он держался, сжимался, кусал губы до крови, а биополе все не выходило и не выходило.
— И зачем, зачем мы только в такое позднее время пришли сюда…
Мила вдруг поднесла пальчик к губам:
— Тише, тише… Ты слышишь, кто-то дышит. Скорее бежим отсюда…
И их вновь потянуло домой. Да так, что они, позабыв фонарь, но зато взяв друг друга за руки, понеслись навстречу пурге, не чувствуя под собою ног.
Вскоре сугробы исчезли. И они пошагали по уплотненному снежному насту. Ярко-красные, голубые, зеленые и синие огни, точно огромная стая птиц, предстали перед их глазами. А потом они вдруг увидели полосатый шлагбаум и желтую будочку с тремя светящимися фонарями на крыше и огромного будочника в зеленом полушубке, обледеневшие полы которого до того были длинны, что они вместе с валенками утопали в невысоком снегу.
— Ты чего не спишь? — спросил Иван будочника.
— Боюсь замерзнуть… — прокричал тот и затопал и запрыгал точно ужаленный.
«Пи-пи-пи!» — пиликал под крышей будочки сигнальный динамик. Щелкали недалеко автоматические стрелки. И огромные светофоры пламенели ярко и властно. Ивану вспомнился свой фонарь. И ему жаль стало, что он оставил его в храме.
Мила посмотрела в сторону светящегося здания станции.
— Ой, Иван, да ты только посмотри, какая красота!
— Эй, посторонитесь, а то срежет… — прокричал будочник, поднимая желтый флажок.
И только они отпрыгнули от полотна, как огромный серо-зеленый состав, пыхтя, визжа и скрипя, пронесся рядом с ними. А когда он удалился, то осевший из-под его колес снежный поток так опушил их, что нельзя было разобрать, где у них нос, а где губы.
Уже время спать, а девочка Таня, любительница природы, натянув на голову мамин платок и надев теплые папины рукавицы, которые он носил еще в молодости, идет через переезд к далекому столбу, на котором, рассеивая синь, болтается фонарь. По пояс, а то и по плечи проваливается в сугробы. Над головой воет ветер, и свистит, и гудит пурга, переходя то в метель, то в ужасную, сумасшедшую круговерть, которая сжимает Таню крепкими объятиями. Иногда круговерть, хитро ласкаясь к Тане, торопливо пытается развязать ее платок и расстегнуть пальто. Но Таня крепко одной рукой прижимает к голове платок, а другой удерживает полы пальто. Мимо нее, как только прошла она станцию, пробежали какие-то страшно черные люди. Их бег торопливый и злой.
«Почему они черные?.. — подумала она. — И не просто черные, а чернолакированные, к ним даже снег не прилипает».
— Странно, очень странно… — сказала она сама себе, а потом вдруг решила: — Это небось солдаты на станции уголь допоздна разгружали, а теперь в казармы возвращаются…
Таня расслышала, как кто-то из пробежавших сказал:
— Не волнуйтесь, мы сейчас баньку сварганим. У нас такой пар, все женщины его любят.
На что женский голос ответил:
— Бог знает теперь на что похожа.
И опять первый голос:
— Простите, кто мог подумать… Ведь эта кочегарка образцовой считалась, и о ней не раз в районке писалось.
И женский голос:
— Писаку б этого голой задницей в снег.
Больше Таня ничего не расслышала. Метель так вьюжно и сильно подула, что она не успевала смаргивать с глаз снежинки. Черные осколки, похожие на разбитое сзади зеркало, как-то странно впереди полетели.
«Солдатики налегке были, вот они и взлетели… — подумала в испуге Таня. — Что же им теперь делать, ведь у них должна быть рация и они должны сообщить в штаб…» И Таня уже хотела закричать:
— Солдатики, милые, не рассыпайтесь. Я сейчас к вам на помощь приду…
Протерев рукавицами глаза, она приготовилась бежать вслед за летящими впереди осколками. Но вновь зловеще скрытна стала метель. Она подула тихо-тихо, наркотически-усыпляюще. Осмотрелась Таня. И улыбнулась. Черные фигурки были, как и прежде, стройненькими. Ровным дружным гуськом они целыми и невредимыми убегали в кромешную даль.
— Да разве кто солдатиков может победить… — улыбнулась она, и снег, и пурга, и колючие снежные вихри показались ей пустяком. Тяжелый холодный страх исчез, и, приободрившись, она, приговаривая: «Лиза. Пила. Летала бензопила!..» — приближалась к теперь уже близкому телеграфному столбу. Обычно редко висят на телеграфных столбах фонари, а на этом почему-то висел, может быть, потому, что этот столб был угловым, а может, его повесили лесники, ибо метрах в ста от него начинался лес, буйный, высокий, густой. Фонарь ими повешен, видимо, для того, чтобы в предновогоднюю неделю легче ловить воров, безжалостно вырубающих молоденькие сосенки и ели.
Таня подбежала к столбу и, дрожа всем телом, прижалась к нему. Неровно светил фонарь. Однако даже при таком прыгающем свете она все замечала. Ее лес, любимый, красивый, был перед глазами. «Лиза. Дрова. Летала бензопила!..» — зашептала она. «Добрый мой странник!.. Добрый мой человек!..» — и, сняв рукавичку с правой руки, она не один, а десять воздушных поцелуев послала своему другу-лесу.
«Я скучаю по тебе. — У телеграфного столба почти не было ветра, и она распустила платок на голове. — Если бы ты знал, как я долго сюда шла. Папа телевизор смотрит. Мама спит. Я ему сказала, что к учительнице схожу… А я к тебе пришла. Душу не с кем отвести. Вот я и пришла, — и протянула к деревьям руки. — Жаль, что ты не можешь разговаривать… — и тихо улыбнулась. — Ой, да это и неважно. Ведь мы понимаем друг друга без слов…» И ей показалось, что вековые высокие сосны и сказочные ели вместе с березами протянули навстречу ей свои ветви. Дух ее захватило. И она от радости подпрыгнула. «Лиза. Дрова. Летала бензопила!»
«Как можно такие прекрасные сосны и ели вдруг взять и изрубить на дрова. Деревья — те же люди. Милый, дорогой лес, об этом и обо всем другом я написала министру. И я дождусь ответа, обязательно дождусь. Пусть даже папа говорит, что, мол, министр письма не читает, а тем более письмо от школьницы, мол, кому оно нужно…»
Таня расходилась не на шутку. «Надо уничтожить бензопилы и топоры. И лесники не должны деревья рубить…» — и вновь, как и прежде, неотступные думы и чувства завладели девочкой. Ей вспомнилась школьница Лиза, которая во время войны носила партизанам, которые скрывались в этом лесу, хлеб и еду и благодаря которой партизаны опосля спаслись. А немцы, узнав, что их обманывала школьница, жившая с бабушкой рядом с комендатурой (они любили ее за то, что она хорошо пела немецкие песни), тут же ее и бабушку расстреляли. И партизаны их не могли спасти, потому что их было очень мало.
— Я к тебе завтра в это же время приду… — сказала тихо Таня, поправив платок на голове. — А то небось папа волнуется, маму разбудил, и они вдвоем сидят у окошка и ждут меня… — и, выдохнув воздух и посмотрев, как из него образовался пар, добавила: — Хорошо, что зима в этом году снежная. А то ведь без снега ты в любой момент можешь простыть. Со снегом ноги у тебя в тепле… — И ласково погрозила пальцем: — Смотри у меня, не балуй… И жди меня, Я обязательно приду…
Она прищуривала навстречу летящим снежинкам глаза, и тогда ей казалось, что лес с искренней тоской смотрит ей вослед.
— Я завтра приду… — приветливо прокричала она лесу. — Жди меня…
Вдруг откуда-то раздался звон колокольчика. Она вздрогнула. Мимо леса на белом коне проскакал всадник. Уздечка переливалась всеми цветами радуги. И двумя длинными струями вылетал пар из ноздрей.
— Это Федя-объездчик. Он по совместительству телеграммы развозит… — решила она. И ей показалось, что благодаря лесу и его красоте конь скакал как никогда легко.
«Лиза. Дрова. Летала бензопила!..» — в который раз произнесла она и помахала лесу рукой.
— Спокойной ночи, милый друг!.. — глаза ее сияли, и она была как никогда счастлива.
«А если министр приедет ко мне в гости, то я первым долгом приведу его к тебе. И он все поймет, все поймет…»
Девочка Таня бежала домой. И сугробистая дорога почему-то не казалась ей теперь сугробистой; ей, наоборот, теперь казалось, что по лучшей дороге она никогда и не ступала. Наверное, все это ей показалось, потому что вдруг неожиданно утихла пурга и вместо шума и завывания ветра явилась сказочная тишина.
Когда Мила не в силах была распространить свое биополе сразу на многих мужиков, ей на помощь приходил балкон. Выйдя на него вся разнаряженная, она в таинственной молчаливости вдруг замирала. Руки ее, несмотря на ветер и холод, были простерты вперед. Даже в самый трескучий мороз она могла находиться в одном лишь платье. Столько тепла излучало ее тело. При этом поражала всех ее чрезмерная молчаливость. Хотя все же основную погоду в таком сеансе делали ее глаза. Они посылали такое количество биозарядов, что мужики, до этого мрачные и грустные, начинали тут же улыбаться.
— Мила! Мила!.. — в восторге кричали они, подбрасывая в воздух шапки. — Побудь еще на балконе…
И парок от их дыхания, поднимаясь к балкону, на котором она стояла, сказочно окутывал всю ее фигуру Над головой ее висел розовый фонарь. Он ярко светил. Фонарь то и дело качается, и от этого, а точнее, от его розового света кажется, что Мила не стоит, а движется. Розовый свет перескакивает с ее волос на грудь, с груди на руки, с рук на лицо.
— Вот бы такую женщину в доме иметь! — воскликнет кто-нибудь и вздохнет. И застынут в томном взгляде глаза, и задвигаются мозольные пальцы туда-сюда, сюда-туда.
— Я бы ее так любил! Так любил!
— Я бы ее под ручку водил… — перебьет его второй и своим долгим вздохом еще более всколыхнет души у собравшегося люда.
На Миле бархатное цветастое платье. Оно необыкновенно идет ей. Обшитое снизу и сверху белыми кружевами, а на груди украшенное розами и тремя дорогими брошками, которые подарили ей лесники, оно говорило о том, что Мила дева сверхмодная. Если кто-нибудь приближался к балкону, Мила вся вздрагивала и, наклонив голову и деликатно сжав губки, протягивала навстречу руки. И такую необыкновенную приветливость выражала вся эта поза, что мужики, а иногда даже и женщины низко кланялись ей в пояс, а затем, в покорности замерев, не могли оторвать от нее глаз. Раньше всех к балкону прибегал Иван Кошкин. Стараясь замаскировать волнение, он чуть дыша произносил:
— Мила, я полюбил тебя!.. — и, изумляясь ее красоте, в смущении мял руки. — Мила, ты понимаешь меня лучше жены…
И Мила вздрагивала на его слова и как только могла протягивала сквозь решетки балкона свои белые руки.
— Мне не твое биополе нужно, мне ты сама нужна… — и, махнув на все рукой, он, найдя в Милкином сарае лестницу, ловко приставлял ее к балкону и, торопливо взобравшись на него, нежно целовал ее в губы.
Кошкин Иван в эти минуты не походил на себя. Он раскисал. Мужицкая сила покидала его. Все свое воспитание, которое он, бедняк-бедолага, по крупицам собирал всю жизнь, он вкладывал теперь в ласки к любимой даме.
— Прикажи что угодно!.. — страстно шептал он. — Я выполню все… — и торопливо растирал ей руки.
В ответ на его ласку она приветливо улыбалась. Глаза ее, обрамленные пушистыми ресницами, смотрели на него нежно-нежно.
— Стоит мне не побывать у тебя день или два, как начинаю сходить с ума…
Поправляя розы и кружева на ее груди, он не замечал ни снега, ни колючего острого ветра.
Розовый фонарь безостановочно болтается из стороны в сторону. Но ему все равно. Мила в соломенной шляпке, которая удивительно шла к ее пышным волосам, трогательно раскрасневшаяся, стояла перед ним.
— Где ты раньше была?.. — шепчет Иван, поправляя ей волосы. — Почему я не встретил тебя? Сделай милость, ответь. Ну почему, почему ты все время молчишь?..
И, вздохнув, а затем в блаженстве закатив кверху глаза, он, прижав ее к себе, кружил по балкону. В голове звучал вальс. Все в сказочно-розовом свете. И розово горят свечи. Лед на балконе тоже розовый. И брошки на ее груди тоже розовые. Страстная мечта, воображение, — все смешалось в его глазах.
— Покудова ты есть, покудова я жив… — страстно шепчет он и обнимает Милу все сильнее и сильнее.
Ему начхать на то, что упала в снег лестница и спрыгивать ему придется теперь в глубокий сугроб. Новая жизнь, несказанно прекрасная и добрая, была перед его глазами.
— Осатанел ты, что ли? — вырывалась из его объятий Мила. — Излучение биополя это одно дело, а любовь, ты уж, извини меня, другое… — и, вздрогнув, она, внимательно посмотрев на него, спрашивала: — У тебя что, на мне белый свет клином сошелся?..
— Да, да… — нервно произносил он и трясся. — А во-вторых, я имею полное право выбирать для любви ту женщину, которая мне нравится…
— Перезарядился, браток, ох как перезарядился… — глядя на Ивана, вздыхали мужики. — Это надо же, пальто ей за триста рэ принес.
Мила с улыбкой смотрела на Ивана и не сопротивлялась, когда он одевал на нее модное, по сельповской книжке купленное на станции пальто. Синим оно было в магазине, а когда одел на Милу, розовым стало.
— Глупая, разве можно в таком платье на морозном ветру стоять… — шептал Иван и наказывал, чтобы она до самой весны не расстегивала полы пальто.
И, укутав ее, спускался вниз. Отряхнув полы полушубка, с радостью смотрел на Милу.
— Ну как, красотушка, теперь тебе тепло… — и, кряхтя, улыбался: — То-то, вижу, вокруг тебя мороз хвост поджал. В отставку отбыл…
И как казалось ему, Мила с жадностью ловила его взгляд и так благодарила, так благодарила, что он смущался.
Невеселый и даже можно сказать грубоватый он был мужик. Но как он изменился за этот год после знакомства с Милой. Подобрел, на удивление людей, стал прост, хитрить перестал, а одеваться тоже стал мастерски; леснику, можно сказать, не до красоты, а он все равно, невзирая ни на что, носил белую рубашку и длинный, по самый пояс, галстук.
Рано утром к Ивану зашли близнецы Тит и Павел. Они работали на станции машинистами на маневровом. Тит тонкий. Павел толстый. Оба воевали, но войну вспоминать не любили и почти никогда о ней разговоров не заводили.
— Собирайся, Иван, пора… — сказали они.
Ивану собираться не надо, он и так собран, вот только не выспался. Облизнув губы, Иван зевнул, затем задумался… А потом сказал:
— Ну все, братцы, кажись, порядок.
— Что с тобой? — удивились близнецы и переглянулись. — Ты, случайно, не заболел?..
— Я говорю вам порядок, значит, порядок, — огрызнулся Иван.
— Что с тобой? — удивились те пуще прежнего.
— «Что с тобой, что с тобой…» — передразнил их Иван и, решительно встав со стула, еще решительнее произнес: — Я не могу жить без Милы.
Близнецы с нежностью и жалостью посмотрели на Ивана, но спорить не стали. И лишь кивками согласились с ним. Они были в толстых полушубках, подпоясанных широкими ремнями. В черных заячьих шапках и в длинных валенках с двойной подошвой.
Неподвижно, оцепенело стояли перед Иваном близнецы. Уж больно какой-то чудаковатый он сегодня. Взгляд возбужденный. То и дело сцеплял он перед собой руки и так вздыхал, будто что-то непоправимое с ним стряслось.
«Бу-бу-бу», — закипела в чайнике вода. Иван снял чайник с плиты и поставил его на пол. Подошел к шкафу, открыл дверцу и вздохнул:
— Жаль, талоны на сахар кончились… — Затем посмотрел на молчаливо стоящих близнецов и, точно вспомнив что-то, тут же изменившись весь, нервно произнес: — Только не хихикать, не надо хихикать… — и пригласил их к столу. — Чай хоть и без сахара, но советую попить.
И близнецы, сняв шапки, сели за стол. Тихими, светлыми взорами они молча поглядывали на заваренный кипяток в алюминиевых кружках и, задевая края их, дули на чай хотя и торопливо, но очень умело.
А затем вместе с Иваном пошли на работу по свежему снегу. Они наслаждались сиреневым восходом. И им нравилось, как потрескивали на морозе березы. Ветерок сносил снежинки с дороги, а они все равно приставали к валенкам, словно их давным-давно не видали.
Иван изредка зажмуривает от света глаза. Снег ослепительно ярко блестит и слепит.
Тит и Павел идут к станции решительно, без остановок. «До чего же снежинки беленькие!» — удивляется Иван, и снежинки уже кажутся не снежинками, а крохотными бумажными листочками, которые кто-то там рвет наверху и бросает на голову. Когда снег идет, на душе у Ивана радостно. Мертвой хваткой он ловит рукой на лету снежинки, и они тут же тают.
«А может, это не снежинки, а крохотные белые листья?..» — и улыбнулся. А затем ему захотелось прикоснуться к снежинкам губами и он прикоснулся. И в эту минуту ему не было стыдно, ибо когда целуешь свою мечту, забываешь обо всем на свете.
«Чудной парень Иван… — остановившись, подумали близнецы. — Совсем обалдел от Милы…»
И они крикнули приотставшему Ивану:
— Слушай, братец, если ты будешь так шагать, мы опоздаем на электричку…
— Братцы, я никогда не видел такой снег! — прокричал в ответ Иван и добавил: — Это, наверное, к счастью. Если снег густо валит, быть добру. Как красиво он парит, словно на невидимых ниточках висит!..
У переезда он нагнал близнецов. И, нагнав, чуть было не упал. Он споткнулся о крашеную горку щепочек, рядом с нею были рассыпаны разноцветные счетные палочки. Но больше всего Ивана удивила огромная кладка самодельных картонных дров. Дрова лежали прямо на проезжей части дороги. Они были белее снега. А формы их были до того естественны, что не остановиться перед ними ну просто нельзя. Недалеко от дров в снег воткнута палка с крестом наверху, и к кресту привязаны десятка два ниточек, на которых трепыхались клочки белоснежной бумаги.
— Это гениально!.. — прошептал Иван. — Я ведь только что думал о снежинках как о листочках бумаги. Особенно когда на ветру горько плачешь, снежинки действительно кажутся такими.
Иван оглянулся.
— Какой сегодня праздник? Рождество или день железнодорожника?
Под самодельным красным навесом, почти у самого переезда, играл оркестр. В нем кроме мужчин две женщины. Одна играла на кларнете, а другая, двухметрового роста, на фаготе.
Машины, трактора, прохожие останавливались перед горкой дров. И, подойдя к ним, все с удивлением рассматривали их.
— Это гениально!.. — то и дело шептал Иван.
— Ты где был?.. — кинулись к нему близнецы. — Мы тебя ищем, ищем…
— Смотрите… — сказал Иван. — Дрова!..
И близнецы, до этого бывшие грустными, улыбнулись.
— Давно таких дров не видели… — проговорили они и подошли поближе.
Солнце всходило. И никто не хотел потревожить или пошевельнуть дрова.
— Пусть лежат… — сказал какой-то громадный шофер с «КрАЗа».
— Пусть лежат… — сказали и тракторист, и бульдозерист.
И все они молча объехали дрова.
Играл оркестр, собирая вокруг себя слушателей. И всем очень нравилась фаготистка.
А недалеко от оркестра стояла маленькая девочка. Ветерок едва шевелил ее пряди волос. Разгоревшиеся глазки ее были полны нежной задумчивости.
«Лиза. Дрова. Летала бензопила!..» — торопливо шептала она. И кулачки ее и губы как никогда страстно сжимали воздух.
— Это что, в такую рань будут танцы?.. — спросил знакомого лесника Иван.
— Да нет, какие танцы… — пробурчал тот. — Министра ждут. Он должен мимо нашей станции проезжать.
— Какого министра?
— Откуда я знаю, старина…
ЛУЖОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Эта последняя полоска земли, на которой стояла крохотная русская деревушка, всегда манила его.
Поселок прижимал ее. И когда недалеко от строящихся высотных домов сгружали кирпич, избы поскрипывали, да и сама земля какой-то странный, больше похожий на предсмертный вздох шум издавала. Две избы деревни Лотошино уже заколочены, в третьей, самой маленькой, ставни которой расписаны русскими узорами, еще теплится жизнь; здесь часто бывает молодой вихрастый Андрей, слесарь поселкового завода. Он живет в трех километрах от деревни в заводском благоустроенном доме с женой Валей. Не для развлечения ходит Андрей в эту избу. В ней он появился на свет. Из нее пошел в мир. Была у Андрея мать Пелагея, да умерла прошлый год. Отчима у него тоже не было, мать не пожелала выходить второй раз замуж.
Без отцовской любви и внимания трудно жить парню. И как бы ни говорили многие мудрецы, мать не может заменить отца. Поэтому была у Андрея иногда, как и у всех безотцовцев, ущербленность души, а точнее, злость. Грешно, конечно, так рассуждать, но порой в горькие минуты полного одиночества ему хотелось, чтобы у всех его сверстников, как и у него, тоже не было бы отцов. А если случалось ему увидеть, как какой-нибудь отец, ласково разговаривая, вел сына за руку, он отворачивался. Целый день после этого в душе его было муторно и скучно. Не верилось, что отец погиб. Ему хотелось, чтобы он был жив. «Где-то же есть, наверное, на земле мой отец, — часто рассуждал он, — и может, даже знает, что я именно здесь, в его деревеньке, бываю. Может, и приедет когда сюда, а меня и избы уже здесь не будет. Не знает он, что я последненький жилец его деревеньки. И сообщить ему некуда. В городском поселке я растворюсь, и он меня не найдет».
Андрею хотелось в этой жизни увидеть отца. Хотя бы со стороны, незаметно, пусть даже на большом расстоянии. Как приятно и радостно ему будет, когда он узнает, что отец жив. Он побежит за ним и, догнав, бессловесно прижмется к груди, а затем чуть погодя скажет: «А ты знаешь, папка, мамка у нас умерла… Я с работы пришел, а она не дышит. Она всегда говорила, что адрес твой у нее был, да вот потеряла его…»
Затем возьмет отца за руку и, указав на три сохранившиеся избы, скажет: «Это наше Лотошино. Самый крайний дом с гнездом аиста наш. А рядом лужок, где я родился. Когда мать на работе была, я гулял на нем, в рожок играл и тебя, папка, вспоминал. В школе, бывало, злые люди спросят «А где ж твой отец?» А я отвечаю: «Мой папка жив и скоро к нам приедет».
Андрей, шмыгая носом от слез, торопливо ведет отца к дому.
— На лужку раньше было много птичек. А теперь нет, их газовщики распугали.
Скорей бы в дом ввести отца Андрею, и усадить за стол, и сесть напротив.
— Сиди, папа, спокойно, я тебе сейчас на рожке песенку сыграю.
После таких мыслей Андрей немного успокаивается. Ущербности не чувствуется. Он нежен и ласков в такие минуты как никогда.
Взяв с полки у божницы мамкин рожок, он, как в детстве, идет на лужок напротив дома и, сев на пенек, начинает играть. Играя, вспоминает мать, которая обычно любила сидеть рядом с ним на маленьком стульчике. В руках у нее ключи от дома. И, слушая, как играет сын, она медленно шевелила ими. Со стороны казалось, что сын кого-то зовет, а мать кого-то ждет. Играет, поет рожок, радуя все живое. Трава шевелится. Скрипят у дома настежь открытые ворота, и торжествующая колодезная стрела упирается в облако, над которым летают два голубя. На Андрейке кирзовые сапоги, латаные брюки, рубаха выпускная кожаным ремешком подпоясана. Ветер струйками волосы разгоняет по сторонам. Лицо и руки от волнения красны. Но пальцы знай себе лихо по дырочкам рожка бегают звуки точно капель вылавливают.
До последних дней жизни матери играл Андрей ей на рожке песенки. Радовали они ее и силу давали. Всю жизнь она прожила в Лотошино. Пока был при деревне совхоз, работала на ферме, а когда его расформировали, перешла в поселковую столовую. Андреевы дедушка и бабушка умерли, когда он был в армии. Они так же, как и мать, любили слушать Андрееву игру на рожке. И лишь только соседский дядя Леша, мытарь-одиночка, то и дело ворчал на Андрея: «И зачем тебе все это, рожок, лужок? Лучше делом заниматься. В крайнем случае, вмазать».
Но вечерами, когда ему в лучах закатного солнца приходилось увидеть играющего на лужке Андрея, он как-то весь замирал. Настороженно смотрел на собравшихся вокруг Андрея ребятишек. И на лице его при этом такая страшная усталость была, что так и хотелось его спросить. «Дядь Леш, что с тобой?..»
Один раз его Андрей спросил так. А он ему со скрипом в зубах ответил:
— В который раз мы по-новому жить собираемся. А ведь все равно умрем, не доживем… — И, взяв в руки лопату, добавил: — Я теперь смерти не боюсь… Вот видишь лопату, колодезник я теперь. Со строителями вместе колодцы копаю. Все нутро земли, можно сказать, до самой воды изучил. А раньше боялся. Как это, думал, меня свалят в яму и засыплют. А теперь не боюсь, потому что привык, при копанье освоился с грунтом.
— Опять вы о смерти… — вздыхал Андрей.
— А как же о смерти не говорить… — вспыхивал Лешка. — Если я маленький… И ничего, абсолютно ничего не значу. Меня всю жизнь вели, всю жизнь обещали, вот и довели, что я колодезником стал. Так и умру с руками мозольными, и похоронят меня где-нибудь в старом колодце. И никто не вспомнит. А если вспомнят, то скажут: был Лешка такой-рассякой, нелепая душа. Игрушкой был в руках других, как и все дураки. Понял…
— Ты не прав, — пытается его успокоить Андрей. — Ты не игрушка.
Лешка аккуратно выбрит, подтянут, коротко острижен. Он живет в поселке, но работает на стройке близ Лотошино. И приходит в свой заколоченный дом просто так, подышать свежим воздухом. Хмыкнув в ответ Андрею и откинув на затылок фуражку, он деловито осматривает руки, ноги, а затем произносит:
— Какой я человек? Скоро на пенсию, а денег не накопил. Да и счастья в жизни, как ни искал, не встретил. В молодости полюбил было Зиночку, а ее другой перехватил. Нет, ты не подумай, я не жалуюсь. Не это главное, главное — на душе пакостно, — и, хлопнув Андрея по плечу, вдруг настороженно спрашивал: — Скажи, и не надоело тебе сюда приходить?.. Скукота тут, ни одеколона, ни баб…
— Нет для меня места лучше, — вздыхал Андрей.
— Ха-ха… — смеялся Лешка и, сняв фуражку, бил ею по колену. — На той неделе мимо изб прямо через лужок мы будем теплотрассу прокладывать. По бокам два колодца велено выкопать.
— А мимо никак нельзя?.. — растерянно спрашивал Андрей. — Ведь как-никак это кусочек нашей земли. Давай сохраним.
— Да я бы рад был… — вздыхал Лешка. — Но ничего не могу поделать. Пешка я, а точнее, игрушка в руках других.
Когда Андрей видит Лешкино лицо близко, оно его пугает. Изможденное, высохшее, но с полными оптимизма глазками. Морщины на лбу и щеках резко очерчены. Тонкие губы упрямо сжаты. Редко он улыбается. Жизнью не дорожит. Курит и пьет, работает на износ, и со стороны кажется, что куда-то торопится. Один раз он спросил Андрея:
— Скажи, а тебя смерть привлекает?
— Нет… — ответил он.
— А почему ж она меня привлекает?.. — произнес, нахмурясь, Лешка и глубоко вздохнул. — Как же ведь без нее… — и, снисходительно улыбнувшись, сделался тихим.
С наслаждением, обычно не присущим ему, смотрел он на заколоченные избы. При этом, глубоко затягиваясь сигаретой, морщил лоб, снимал с головы кепку, затем вновь ее надевал. Нет, в эти минуты он не бесчувственным был, в глазах виделась душа, добрая, кроткая, так не соответствующая его внешности. Почему он боялся ее выказывать? Стоило Андрею заметить эту его внутреннюю истинность, как он тут же ершился.
— Ну чего ты уставился?.. — и, бросив в траву окурок, исподлобья смотрел на Андрея.
— Дядь Леш, вы сердечный, — пытался его успокоить Андрей.
— Кому это нужно? Кому?.. — вспыхивал он и, удивленно посмотрев на Андрея, добавлял: — Эх, ну и до чего же ты наивный… Надолго ли хватит тебя.
— Скажите честно, вы зачем сюда приходите? — осторожно спрашивал его Андрей.
— Как зачем? — наигранно смеялся Лешка. — Пикирнуть… так сказать, на свежем воздухе и близ своего родного крылечка. Ты, может, посмеешься надо мною, но мне выпивать здесь приятно. Ну, а еще я немножко влюблен в это место, пусть его даже изуродуют все, искорежат, а я все равно буду сюда приходить… Ведь любить не прикажешь, это должно быть внутри.
— Вот вы и беспокоитесь, а говорите, что нет… — воскликнул Андрей.
Он рад был Лешкиному откровению. Ему так хотелось, чтобы его хоть кто-нибудь поддержал. Пусть даже немножечко, чуть-чуть.
— Был и я когда-то огнем, да вот потух-замерз. Вчерась, например, скажу тебе честно, я плакал. Офицером хотел стать, а стал колодезником. Ну, а еще я здесь Зинку встретил. Вот так делишки. Ерунда какая-то. А может, я не умер, а еще живой. Всю ночь подушку слезами мочил. Тьфу, совсем нервишки ослабли.
Лицо у Лешки потемнело, глаза забегали. Жиденькие волосы из-под кепки растопырились. Тылом ладони он вытер потный лоб и с улыбкой посмотрел на небо, на траву, на стройную березку у скамейки. Он узнавал в этом окружающем его мире что-то свое, близкое, знакомое. Тайны не было в его глазах. Взгляд был открыт и добр. Трепетная любовь к родному краю вновь заколыхалась в нем, приподняв настроение и дух.
— Кому скажешь, не поверят… — вздохнул он. — Скажут, дурака валяет.
Хмыкнув, Лешка откинул на затылок кепку и, чуть качнувшись, самодовольно улыбнулся.
— Офицером хотел стать, а стал колодезником. Мать, если бы узнала, не простила. В детстве она вечно Бога молила, чтобы я не в грязи, а в форме был. Бедняжка, хорошо, не знает, что я живу бобылем… Вместо погон камень и глину долблю.
Лешка в каком-то негодовании торопливо пошарил в карманах. Прежней доброты на лице его уже не было. Конфузливость сменилась озлобленностью. Насупившись, он достал из кармана флакон одеколона и протянул его Андрею.
— Сделай одолжение.
— Нет, не могу… — ответил тот.
— Как хочешь… — и, вытерев губы, Лешка мигом осушил флакон. В том же кармане у него оказалась карамелька. Быстро отделив ее от обертки, забросил в рот и начал смачно сосать.
— Зачем вы это делаете? — спросил Андрей.
Ему жалко было, что Лешка себя травил. Однако на испорченность его он уже ничем не мог повлиять. Перед ним был другой человек. Хитрый, ничтожный и ни на что не способный.
— Ты меня не учи, что мне делать, — обиженно произнес Лешка и, икнув, присел на скамейку. Мозолистые руки его были все в ссадинах, а на тыле правой ладони красовался синяк. Прищурив глаза, он подул на него и, покачав головой, сказал:
— А выпил я для того, чтобы настроение не испортить. Я знаю, ты водку пьешь. Ты думал, я водку тебе поднесу, а оказалось, наоборот. Прости, водочка кусается, а одеколон, как видишь, нет… — он раскованно посмотрел на Андрея, растерянно стоявшего перед ним, и усмехнулся. — Я ничем не могу тебе помочь… Ангел ты мой, ангел… — И Лешка, обхватив голову, прищурил глаза. — Если бы ты знал, сколько я одеколона выпил. И если бы я знал, что судьба у меня так сложится, то лучше бы офицериком стал, как мамка велела. И Зинка меня невзлюбила, а за что? За что? Ведь я-то ее любил.
На Лешкины губы налазят слезы. Он слюнявится, морщинится от их солености, безалаберно сплевывая с губ слюну как попало. Андрей успокаивает его, а затем, взяв под руку, ведет в заколоченный дом, где запах березовых веников перемежается с запахом чуть подгнивающих половых досок.
— Ты сегодня печь не затапливай… — говорит Андрей.
— Ладно… — небрежно отвечает он ему и, упав на пол, начинает постепенно засыпать.
Несколько минут Андрей сидит на стульчике у его ног. А затем, успокоившись, что Лешка наконец-то заснул, уходит в свою избу. Здесь он, куря одну сигарету за другой, ходит из угла в угол, как затравленный зверь.
«Все определено. Они даже спрашивать не будут. Завтра же снесут три избы. И была деревенька, а потом ее не станет А чтобы приметить это место, Лешка два колодца выкопает, которые со временем тоже снесут».
Лучи летнего солнца, проникая сквозь оконные стекла, красиво переливались на полу, высвечивая каждый штрих и каждую черточку. Но Андрей был равнодушен ко всему этому. Ему жаль было избу, лужок, весь этот крохотный кусочек земли. Мало того, он не знал, как их спасти и сохранить. Он прекрасно понимал свое бессилие и бесполезность своих действий, направленных на спасение деревеньки. Но именно эта никчемность действий не успокаивала его, как обычно бывает в таких случаях, а, наоборот, возбуждала, заставляя искать выходы в безвыходной ситуации. Он понимал, что всякие эти его действия будут со стороны выглядеть смешными. Но, даже и это понимая, он не желал успокаиваться.
С грустью и тоскою приходил домой. Жена не одобряла его походы в Лотошино. Мало того, она не только не понимала его, но и не хотела понимать. Раньше, когда он только женился на ней, она была тихой, а тут вдруг стала злой. Сегодня только зашел в дом, а она прямо с порога:
— Выпил?
— Ну выпил… — тихо ответил он и добавил: — Стройка у меня из головы не выходит.
— Это что у тебя, работа туда ходить?.. — фыркнула Валька, когда он присел в кухне на стульчик. — Внушение тебе надо сделать, чтобы не ходил туда.
Андрей, оглядев ее, пожал плечами.
— Я не мальчик, чтобы мне внушения делать.
Валька, начавшая было резать хлеб, отложила нож в сторону.
— Теперь-то, конечно, ты не мальчик, а я не девочка, — обиженно произнесла она. — А насчет внушения скажу одно. Если хочешь, живи, а не хочешь — уходи.
Он удивленно посмотрел на нее.
— Валь, к чему это?.. Я ведь с работы пришел.
— Нет, ты не с работы пришел, — опять вспыхнула она. — Ты избу свою караулил…
— Ну и что тут такого?.. — произнес он, не понимая, чего от него хочет жена.
— И не стыдно тебе?
— Нет, не стыдно, — спокойно произнес он. И встал со стула. — Не понимаю, почему это мне должно быть стыдно? Чего стыдиться…
Она покраснела, а затем, выпучив глаза, прошептала:
— Ты, наверное, с ума сошел…
— Ну это ты уж слишком… — достав сигарету, стал нервно мять ее.
Валькины ноги, широко расставленные, вздрагивали, и ему казалось, что она вот-вот прыгнет на него.
— Зачем ты пьешь?.. — спросила она.
— Немного успокаивает… — ответил он и, прикурив сигарету, глубоко затянулся.
Он попытался улыбнуться ей, все же как-никак она жена и должна понимать, что не просто ему сейчас. Но она не приняла его улыбки. Кроме отчужденности суровостью и угрюмостью повеяло от нее. Подперев бока, с высокомерием посмотрела на него и сказала:
— Сделал одолжение, пришел. Видите ли, он переживает, а я нет. Судьба родной избы его мучает. — Валька торжественна фыркнула и, поправив волосы на голове, добавила: — Вы посмотрите на него, как он умаялся. Опять небось травили?..
— Да, пришлось немного с прорабом столкнуться…
— Ну и что он?..
— А он ничто, потому что молод еще… — спокойно ответил Андрей. — Ему прикажут сверху головы людям рубить, он их срубит. А прикажут родину загубить, он и ее загубит. Для него главное — отличиться. Короче, без понятий, без души, современный животный робот. Про таких Лешка говорит: сегодня они маршируют левой, а завтра — правой.
И он светлым, добрым взором посмотрел на жену. Ему показалось, что она уже начала понимать и принимать все его заботы. Но, увы, Валька по-прежнему была холодна. Чуть-чуть порой к ней дойдет что-то, а потом опять принимается за свое.
— Пойми, — вспыхнула она, — ну на что тебе эта развалина? Люди участки берут, дачи строят. А ты… Второй год живу с тобой, а уже вся измаялась, как был ты Ванькой, таким и останешься, мало того, и дети от тебя такие получатся. Следователь Аркашка до тебя за меня сватался. Знала бы раньше, что ты такой, за него бы пошла. Вместо того чтобы подрабатывать, ты избу отстаиваешь. Вот зараза муж попался. Надо же…
Андрей, сидя на кухне, молча слушает жену. Затем, когда она наговорится вволю, с волнением произносит:
— Я не против. Если хочешь, сейчас же к следователю и определяйся.
Валька уничтожающе смотрит на него. Круглолицая, с маленькими глазками, она, бесовато выгнувшись, показывает на живот.
— А вот это куда я дену?.. — И, обхватив лицо, начинает рыдать. — Ну и гад же… Ребенка засадил, а теперь я не нужна. Сволота, гад подколодный. Видите, он меня уже выпроваживает. Завтра к матери уеду. Заберу вещи и уеду.
Встав со стула, Андрей пытается успокоить жену:
— Ну будет тебе… Чего второпях не скажешь.
Валька, не слушая его, голосит во всю мощь, да так, чтобы слышали все соседи. Андрей берет ее за плечи:
— Дура, ну чего тебе надо?..
Вывернувшись, она в испуге отстраняется к стене.
— Никуда от тебя не пойду.
Матерно выругавшись, Андрей вздыхает:
— Черт ли бесит этих баб или дьявол, никогда не поймешь, что им надо. Пришел, пальцем не трогал, а она взяла и обиделась.
Закурив, подходит к окну.
«Ну какая тут может быть обида. Сказал как думал, вольному воля, не будешь ведь ее за подол держать, если захочет бежать».
— Дура, ох, дура… — продолжает выть Валька. — Следователя на дурака променяла.
В дверь стучат соседи.
— Эй, чего вы там?.. Валька, тебя что, он опять убивает?..
— Хуже… — визжит Валька. Губы и руки ее истерично подрагивают, слезы текут ручьями.
— Ну вот… — вздыхает Андрей. — Расскажи им теперь, а то они не знают.
— И расскажу, все, все расскажу… — набрасываясь на него, кричит Валька. — Пусть все, все люди про тебя, дурака этакого, узнают. Видите ли, ему не жена нужна, а изба. Дома неделями не бывает, днюет и ночует в ней… — И, поперхнувшись, сипло продолжила: — Это еще надо узнать, что ты там делаешь. Может, баб водишь. Узнаю, зарежу… И не парня тебе рожу, а девку… Паразит…
И Валька под дружные стуки соседей в дверь кинулась на Андрея с кулаками. Что есть силы ударила по голове и в грудь. Сердце его сжалось. Из глаз искры посыпались. Он оттолкнул ее к окну, затем хотел хлопнуть по щеке, но вспомнил, что через два месяца она должна родить.
— Гляди у меня… — строго произнес он и, опустив руки, немного успокоился. — Если лаяться не перестанешь, сам уйду. А избу не трожь, ты в ней не жила.
И, сняв с вешалки кепку, не оглянувшись на стонущую в истерике жену, открыл дверь. Соседи зашвырнулись в комнату точно занесенные ветром бумажки.
— Ты что же это с женой не живешь… — накинулся на него какой-то старик. — У тебя что, ума не хватает. Она сутками одна сидит, ревмя ревет, а ты вместо того чтобы прийти и успокоить, колотить начинаешь.
— Кто ее колотит, кто? — вспыхнул Андрей и с неприязнью посмотрел на него. — Ну и мастак же ты все валить на меня…
Вздохнув, хотел еще что-то сказать обозленному старику, но махнул рукой и, надвинув кепку почти на самый нос, начал торопливо спускаться по лестнице. Сердце щемило, в голове шумело и гудело. Чтобы успокоиться, решил выпить. Напрямик пройдя железнодорожное полотно, подошел к винному магазину, когда уже начал накрапывать дождь. Был вечер, и народ, в основном мужики, с мокрыми блестящими волосами толпились у прилавка. Водку продавали прямо на улице, из ниши, которая была сделана в боковой сельповской двери. Андрей видел, как мелькали в ней белые, похожие на детские руки продавщицы с модными перстеньками. Ритуал был обычным. Руки брали деньги, а отдавали водку, кому две бутылки, кому одну. Лица продавщицы не было видно, да оно и не нужно было в такой ситуации. Мужские лица, покрытые испариной и дождевыми каплями, смотрели на водку, как смотрит бык на самку.
«Дура Валька, ох и дура… — подумал Андрей, становясь в очередь. — Трезвого не захотела меня, а теперь вот возьму и напьюсь. И к ней не пойду. Пойду в избу, печь затоплю, сварю яиц».
Андрея высмотрел сосед по лестничной клетке, стоящий впереди.
— Иди сюда, — махнул он рукой.
Андрей, поблагодарив его, встал впереди него.
— Ты что, опять с женой полаялся?
— Да было немного… — ответил Андрей.
— А я вижу, вид у тебя, словно пес побитый. В самый раз только выпить… — И, улыбнувшись, он подтолкнул Андрея: — Давай, шевелись…
Андрей взял бутылку и отошел от прилавка. Хотел прямо тут же, за углом, немного выпить, но передумал. Мелкий дождь хлестал, щекотал губы и щеки, попадал за ворот, в глаза. Он рад был, что мок под дождем.
— Не грусти… — улыбаясь, сказал сосед. — Волшебник, который исцелит тебя, в бутылке… — И, попрощавшись, побежал по улице.
Доброе прощание соседа ободрило его.
Наступал вечер, и синеватое в центре летнее небо по краям начинало темнеть. Воздух был влажным, лужицы под ногами, растекаясь, пузырились. До закрытия магазина оставался час. Очередь, разрастаясь от вновь прибывающих мужиков, становилась все более оживленной. Дождь не пугал ее. Да и если бы по ней палили из ружья, она все равно бы не разошлась.
Поздоровавшись с Андреем, к самому прилавку подошел старец с длинной бородой и с палкой в руках.
— Дядя Добрый пришел! Дядя Добрый пришел! — загудела очередь.
Старец был желанный гость очереди, все его знали и уважали. Самые первые, дружно расступившись, пропустили его к прилавку. С молчаливой торопливостью он начал рыться в карманах, но никто не услышал ни звона монет, ни шороха купюр. И тогда, вывернув их, он, посмотрев на очередь, страдальчески произнес:
— Братцы, налейте инвалиду войны сто грамм. А я вам за это что-нибудь божественное спою.
На какую-то секунду-другую очередь замерла. И лишь слышно было, как продавщица прокричала:
— Вы что там, вымерли все?..
Не понимая ситуации, а может, наоборот, улавливая ее, старик обратился к ней:
— Доченька, налей сто грамм, а я тебе за это что-нибудь божественное спою.
И тут только Андрей увидел лицо продавщицы. Пухленькое, кругленькое, с вздернутым кверху носом и потными губами.
— Водка не вода… — огрызнулась она. — А помирать я не собираюсь, чтобы мне божественное петь.
Но тут кто-то закричал:
— Инвалид войны имеет право без очереди…
— Так это же Дядя Добрый, он всегда без денег… — захихикал другой.
— Ну что стоишь как каменный, отходи, тебе говорят… — закричала продавщица, замахнувшись на старика беленькой ручкой. На дожде ее перстеньки заблестели ярче обычного. — Надоел всем хуже редьки, без тебя и так все ясно, всем дорога на тот свет.
— Дочка, я не бутылку у тебя прошу, а сто грамм… — и старик, вывернув пустые карманы, поклонился ей.
Очередь зашумела, загудела.
— А что, братцы, — сказал кто-то, — соберем Дяде Доброму на бутылку, а он нам за это божественную песенку споет.
Может, кто-то из-за скудности денег и не согласен был на это предложение, но промолчал. Большинство проголосовало «за». И через минуту перед продавщицей предстала горка мелочи, собранная мужиками.
— Он просил сто грамм… — вспыхнула она. — А получается целая бутылка.
— Ничего, он крепкий, на ногах стоит… — засмеялись мужики и вручили старику бутылку. — Доволен, дед?
Старик, сняв кепку, поклонился всей очереди, а затем, сунув бутылку за пояс, сказал:
— Никогда не забуду, просил сто грамм, а дали целую поллитру.
— Да он же наркоман… — презрительно фыркнула продавщица. — Каждый день просит сто грамм.
Мужик, покупающий водку после деда, сказал ей:
— Зин, ну будет тебе… Пусть дед споет что-нибудь.
Зинка, коршуном высунувшись из ниши, со злостью крикнула ему:
— Ты гляди, дозаступаешься… Заступничек нашелся. Без очереди больше не дам, будете стоять у меня как миленькие…
— Ладно, заткнись… — спокойно огрызнулся мужик. — Он за народные деньги бутылку взял. Так что сиди и не высовывайся.
— Милицию вызову, тогда узнаете, — и, выругавшись, Зинка юркнула обратно.
Ни мужик, ни другие, стоявшие рядом с ним, не обратили внимания на эти ее слова. Все они, как и очередь под дождем, смотрели на старика, который, перекрестившись и раскланявшись, приготовился петь.
Лицо старика, покрытое дождевыми каплями, напряглось. Вытерев лоб, он прищурил глаза. В вечернем сумраке от них исходил необыкновенный свет, полный любви и ласки.
Именно за эти глаза прозвали старика Дядя Добрый.
— Дядя Добрый, хватит молчать, — ворчливо произнес мужик. — Народ просит. Канай, тебе говорят…
Старик даже ухом не повел. Словно к чему-то прислушиваясь, весь напрягся, а затем, чуть наклонив голову, видно для того, чтобы дождевые капли не застилали глаза, сложил на груди руки и хорошо поставленным голосом запел:
Боготечная звезда явися Твоя Богомати, Икона, всю страну Российскую обтекающая, Лучами чудес Твоих осиявающая Всех блуждающих по морю страстного жития, Мрак печалей и мглу всяких недуг и скорбей Прогоняющая и наставляющая на путь спасения С верою к Тебе притекающих и вопиющих к Богу.А затем он, не боясь, что дождь зальет глаза, гордо подняв голову к небу и сжав руки в кулаки, продолжил:
Радуйся, Русской земли утверждение. Радуйся, врагов одоление. Радуйся, от бед избавление. Радуйся, Заступнице всех сущих и скорбех и болезнех…Дождь шел, а старик все пел. Очередь, замерев, стояла неподвижно. Даже продавщица и та, вновь высунувшись из окна, в трогательной задумчивости смотрела на старика, который покорил своим пением не просто людей, а, можно сказать, пьяниц, абсолютно пропащих и ничего уже особо не значащих в этой жизни.
Андрея поразила людская послушность. Впервые он видел, чтобы люди могли внимательно слушать божественное пение в таких условиях и в таком не очень приличном месте.
Закончив пение, старик перекрестился, а затем, достав из-за пазухи нательный крест, поцеловал его.
— Молодец, старик! — захлопали в ладоши мужики. Глаза их сияли.
Продавщица исчезла в нише, и вскоре руки ее заработали как автомат, проделывающий операцию деньги — водка, деньги — водка.
Старика окружили. Каждый желал его угостить и поговорить о Боге и обо всем остальном на свете. Дядя Добрый с покорной ласковостью принимал угощения. И чувствовалось, что на своих ногах он сегодня домой не дойдет.
— Дедуль, а хор ты мог бы возглавить? — спрашивали мужики.
— Если получиться, то смог бы, — улыбался старик и, осушив стопку, добавлял: — Хотя, конечно, я больше по божественному разумею. Но ведь сами посудите, раньше ведь в России все с божественного начиналось.
— А вместо попа, дедуль, ты бы мог сослужить?
— Обижаете, ребятишки, конечно, мог бы. И за попа бы лямку потянул, и за дьякона. Только в церкви больно жарко мне. Да и по душе я, в основном, только Бога и люблю, а церковь нет.
Старик выпивал. Мужики наливали. И было всем весело и хорошо.
Эта встреча со стариком и его пение потрясли Андрея. Он, так жаждавший было после ссоры с женой напиться, вдруг изменил свое решение. Мало того, оно показалось ему никчемным и подлым. Пение старика неожиданно заставило вспомнить точно такое же пение матери у икон в праздничные и воскресные дни. А вместе с матерью и изба в его память вернулась. Утром был в ней, и вот опять потянуло.
«К Вальке идти, значит, снова скандалить. Так что пойду я в избу. Если холодно будет, печь протоплю, а если голодно — яичек сварю». И, еще раз посмотрев на добродушного старичка, спасшего его от очередной пьянки, пошагал в сторону деревни.
Дождь шел, но он не чувствовал его. Изба была перед глазами, и в ней поющая мать.
В окнах поселковых домов загорался свет, от которого веяло уютом и теплом. Но он был равнодушен к нему.
Выйдя на окраину поселка, остановился Посмотрел на освещенную узенькую улочку, по которой изредка проезжали автомашины. Ровные здания-коробочки стояли по обеим сторонам ее «Валька небось телевизор сейчас смотрит, — вздохнул он. — Соседей развлекла и успокоилась. Они, конечно, ей посочувствовали, а ей только этого и надо. Может, сходить и еще раз объясниться?» Постояв с минуту, он передумал возвращаться.
Андрей нащупал в левом боковом кармане куртки бутылку и ухмыльнулся: «Зачем я взял ее? Если только Лешку угостить». И еще раз взглянул на поселок, словно с ним прощался навсегда.
Вдали тучи опускались на самые крыши домов. Светился асфальт под дождем. И намокшие деревья пахли сыростью и землей. Чуть левее от дороги, рядом с овощным магазином, многоквартирный дом, где он с Валькой живет. Сейчас, в вечернем сумраке, и его дом, и рядом с ним стоящие походили на клетки, в которых обычно оставляют на ночь подопытных животных. Однообразием и тоской веяло от всех этих зданий. Они больше походили на серые коробки или на огромные кирпичи, которые в беспорядке разбросал на земле неизвестно кто, позабыв их убрать. Люди, точно муравьи, просверлили в них дырочки и теперь жили припеваючи. Но разве главное в жизни только крыша над головой. Андрей не мог себе даже представить, кто и когда загнал людей в эти дома-клеточки и ради чего. В некоторой степени выиграв в удобствах, они погребли в себе любовь к земле и природе. В комнате-каморке человек оказался подвешенным над землей. Он, точно юродивый без корней и без земли, стал ничтожеством. Он теперь никогда не сможет понять и осознать свою жизнь. Он коробочное существо, проворное, бойкое и полезное лишь для государства, но не для других.
Андрей понимал все это, но ничего не мог поделать. Эти дома-коробочки, выведенные на один манер в каком-то неведомом ему инкубаторе, размножались не по дням, а по часам и, точно саранча, поедали своим видом и бытом человеческую природу, красоту и душу.
— В этом доме мне холодно, — часто говорил он жене. — И неприютно. Словно я сюда за что-то заключен или против воли вселен.
Но Валька вместо того, чтобы понять и пожалеть его, отвечала:
— Деревенский ты, хуже бабы. Люди по десять лет в очереди на квартиру стоят. А тебе, вишь ли, вместо того чтобы в радости быть, белый свет не мил.
— Но как можно без места на земле жить, — возражал ей Андрей. — Надо, чтобы земля у человека рядом была. Чтобы руку протянул, и вот она, родная…
— Надоест тебе эта земля, — вспыхивала Валька. — Належишься.
— Да пойми, я не о том… — доказывал он. — Я о складе души, о святом единении человека с землей говорю. Мир чистый и сокровенный, и мы просто обязаны быть в нем. Так ведь поначалу и было задумано, и вишь, что получилось, доучились, называется.
— Ты мне Библию не пой, — сердилась Валька. — Я жила и буду жить как все, а ты как хочешь. Подумаешь, дома ему не нравятся. Так что ж, их все теперь разрушать. Умнее тебя есть люди, и им надо доверять.
— Пойми, я о душе говорю, о единении… — пытался он ей возразить.
— Души нет…
— Нет, душа, как и память, вещи святые, — доказывал ей Андрей.
— Кому она нужна, эта твоя избяная душа-память. Мне легче от нее не становится да и другим людям тоже… — продолжала Валька. — Духовность это деньги, есть они — ты жив, а кончатся — околеешь.
Не о чем было Андрею в таких случаях говорить с Валькой. Да и о чем говорить, если она его не понимает, а он ее.
Но даже при разности взглядов и при всем том плохом, что она сделала ему, он думал о ней, жалел ее.
«Неужели она меня никогда не поймет и не услышит», — и он во всю мощь вдохнул влажного воздуха, но легче ему не стало.
Открыв избу, зажег в ней свет и сел за стол. Комнаты были по-прежнему живыми и уютными. Он почти ничего не вывез из избы Все вещи в комнатах стояли так же, как и раньше. Стол, за которым он сидел, был старинный, дубовый. Рядом шесть табуреток и холщовые дорожки на всю комнату. Даже ухват давний-давний с узорчатой ручкой, затертой до блеска. Широкие старинные окна. Налево от входа стоит деревянная койка с розовым домотканым ковриком, на котором изображены проводы русской зимы. А над ковриком в двух рамках старинные семейные фотографии, и среди них ярче всего выделяются пожелтевшие фотки, которые отец присылал с фронта. Вот он в поле сидит, что-то записывая в блокноте, по бокам его на траве полулежат двое бойцов-товарищей. И хотя грустен и тосклив пейзаж, все они улыбаются фронтовому фотографу, удачно посадившему их перед камерой. В левой руке у отца мундштук с неприкуренной сигаретой. Этой же рукой он придерживает на правом колене несколько листков бумаги из блокнота, а правая рука с ручкой уже вольно лежит на них. Видимо, отец собрался написать письмо маме и ему, Андрею, поэтому он весел и радостен. Андрей наизусть помнит все надписи на обратной стороне фотографий. Нежен и домовит почерк отца. Он надеялся вернуться с войны живым, и, кроме Андрея с матерью, не было у него никого. На последней фотографии, присланной с фронта, торопливая надпись, видимо, в перерывах между боем сделанная карандашом. «На память своему дорогому семейству из Крыма 7 мая. Враг наступает, а мы деремся. Победим, глядишь, и вернемся. Рядом со мной бойцы Дьяченко Петр и Афонин Григорий. Берегите как зеницу ока. С горячим приветом к вам Русанов Максим Васильевич». Эти фотографии всегда у Андрея перед глазами, стоит ему только вспомнить об отце. Да он и помнит его только по этим фотографиям. Отец не закаменелый на них, а удивительно живой. Ему трудно, а он улыбается. Быть выше войны не каждому дано. Он не боялся смерти, он ободрял себя на победу. Только вот жаль, не встретил ее вместе со своими боевыми друзьями. Сердце сжимается у Андрея, когда он смотрит на мужественное, смелое лицо отца, полное русской сообразительности и доверчивости. Отец любил фотографироваться, сидя на земле, из шести фотографий он на пяти сидит на земле. Будто она ему не чужая, а его родная, лотошинская.
А на другой, самой большой фотографии и единственной в своем роде отец сфотографировался за месяц до отправки на фронт вместе с семьей. Андрею эта фотография нравится больше всех. Отец держит его на руках. Улыбающаяся счастливая мать стоит рядом. Их лица полны ласки. Тогда никто еще не знал, что через месяц начнется война. Часто, смотря на эту фотографию, мать рассказывала Андрейке о проводах отца на войну.
— Отец твой, сынок, горячий был — точно порох. Вперед всех побежал на фронт бить фашистских гадов. До сих пор помню его худенькое, обросшее реденькой щетинкой лицо. Тугой воротничок на рубашке, он всегда любил, чтобы туго было… Большие глаза, а в них наш домик с лужком и такая смешная маленькая курочка, вечно любившая на нашем крылечке сидеть. Попрощалась я с ним, он щетинкой меня царапнул. Я головой замотала. Он пытается вырваться, а я, наоборот, пытаюсь удержать его. Но мужик ведь, сам знаешь, всегда посильнее бабы. Убежал он, во весь рост пошагал со всеми, неписаный мой и твой красавец, сапоги на нем, как на офицере, блестят. Ну, а потом у самого поворота, за садом, где балочка была, вдруг приотстал от отряда, взял меня за руку и говорит:
— Маша милая, не убьют меня… — и добавляет: — Ведь каково нам, всего ведь только по восемнадцать годков. Жить да жить, — и, сбиваясь, целует меня напоследок. Я и дыхание-то его последнее помню, оно точь-в-точь что первый парок, когда чай разливаешь. — Нет, не убьют меня, Маша. Нет, не убьют… — кричит он мне. — Может, ранят, но чтобы насмерть — никогда. Ведь ты понимаешь, не должны, ведь Андрейка у нас маленький еще…
Я сорвала платок с головы и давай слезы размазывать по щекам.
— Только жди меня, Маша. Ты поняла. Жди-и-и…
А я вместо того, чтобы ответить ему позадористее и посолиднее, как отвечали все наши бабы, крикнула:
— Слушаюсь…
Вот так вот и пришлось мне послушание его всю жизнь выполнять.
После этих слов мать обычно плакала, искала таблетки от сердца и пила их по нескольку штук сразу.
Трудно и Андрейке было сдержать себя. В доме при матери он не плакал, но, выйдя на улицу, рыдал с надрывом, после чего становилось легче.
Рядом с отцовскими фотографиями висят цветные фотки, на которых Андрейка вместе с Валькой в день свадьбы расписывается в загсе. Он нежно держит жену за локоток, и та довольна и счастлива без ума. А на другой фотографии Андрей одевает ей кольцо и целует.
Пить не хотелось. Достав из кармана бутылку, кинул ее под стол. Вспомнился Дядя Добрый, распевающий божественное песнопение, и лицо его, одухотворенное и почтительно-святое, залитое дождевыми каплями.
«Как он просто и легко пел, — подумал он. — Есть же на свете люди».
И ему вдруг захотелось, чтобы сейчас, в эти горькие для него минуты, зашла в комнату его Валька, прежняя, добрая и веселая, какой она была в первые дни замужества. С улыбкой посмотрев на него, она, наверное, сказала бы:
— Прости, что я одета по-домашнему… — и, подойдя к нему, положила бы руки на плечи.
Он счастливо усмехнулся бы и, чуть убрав волосы, упавшие на ее лицо, поцеловал ее, а затем обнял, да так, чтобы ощутить на своей груди стук ее сердца.
— Разбойник ты мой, — улыбнулась бы она. — Ужасный разбойник!
Этим словом она когда-то любила его называть. И, прищурив глазки, подмигнула бы ему.
— Ну как я тебя сегодня разыграла? Здорово?
— Очень… — и он вновь обнял бы ее, а затем ему стало бы очень смешно. И ей тоже.
Затем, присев на кровать, они, понимая и принимая друг друга, стали бы вместе смеяться. Оказывается, Валька не злая, а, наоборот, понятливая и ласковая.
— Терпи меня… — смеется она. — Терпи…
Он хочет ей что-то сказать в ответ. Ведь он так рад, что они вновь вместе. Но именно от этого радостного волнения он не может вымолвить ни слова.
— Держись за меня… — смеется она. — Ты же знаешь, я не безразличная.
Окно приоткрыто, и слышно, как в темной листве стучит дождик. Что-то новое, манящее видит он в ее глазах, полных нежности и любви. И на душе вновь, как и прежде, легко и приятно.
— Ты не сердишься? — тихо спросила она.
— Нет, — улыбаясь, ответил он.
И ему вдруг показалось, что изба от ее присутствия вся засветилась. И не вечерний сумрак был в ней, а ясный день. Он отчетливо видел печь, расписную посуду на ней, иконы в углу, а чуть ниже, на маленьком столике, мамин чайник и самовар. Белый потолок сиял. А пол так сверкал, что по нему боязно было ступать.
«Неужели она все время будет такой?» — подумалось вдруг ему. Прежнего страха не было. Валька, его жена, была рядом.
— Пойду самовар поставлю… — сказала она. И, легонько встав, пошла к печи.
До чего же притягательна и заманчива была ее фигура. А розовенькое простенькое платьице, в которое она была одета, показалось ему самым лучшим и самым красивым. Вот она обернулась.
— Ты скучал по мне? — растерянно спросила она.
— Да…
— А ты знаешь, мне тоже здесь нравится, — сказала она и в каком-то смущении посмотрела на него.
«Пойми этих женщин…» — улыбнулся он. Ему казалось, что даже на таком расстоянии он слышит стук ее сердца. Как будто действительно они только встретились. Он не стал ничего придумывать. Он сказал ей то, что было у него на душе.
«А ты согласилась бы остаться здесь навсегда?»
За окном шумела листва. И вечерний воздух был приятен как никогда.
— Да… — ласково ответила она и добавила: — Я всегда буду с тобой.
Он в радости встрепенулся. Валя поняла его. От счастья он поднялся и кинулся к ней. Комната ярко освещалась электрической лампой, но он ничего не видел, кроме ее глаз. Наконец-то эти глаза поняли его мысли, чувства, душу.
Застенчиво улыбаясь, она смотрела на него. Губы полуоткрыты. Лицо счастливое. Сейчас он обнимет ее и прижмется к груди.
— Разбойничек мой… — смеется она. — Что с тобой? Неужели ты думал, что я не люблю тебя?
И хотя сердце его колотилось, но дышалось ему как никогда легко. В волнении он ударяется головой об печь, тут же, в испуге отшатнувшись и не замечая боли, осматривается. В неловкости Андрей обхватывает руками затылок. Комната по-прежнему пуста, в ней нет даже признаков того, что здесь была его жена. Тоска, чуть мучившая его до этого, вдруг охватывает душу. Радостные мысли, которым он начал было верить, оказались пустым видением. Как мог он до такого додуматься? Разве он не знал Вальку, ее характера и отношения к нему? В растерянности он подошел к окну и так раскрыл его, что земля и небо стали как никогда величавы, а он, наоборот, был смешон и жалок. Луна светила ярко. И листья деревьев серебрились.
Вокруг не было ни души. И некому было выразить ему сочувствия и сожаления. Он был одинок, и не просто одинок. В этот вечер ему показалось, что вся жизнь вдруг разом остановилась. Все нормальные люди в поселковых домах-коробочках живут, а он здесь словно заблудший мается. Он скучающе оглянулся, небрежно посмотрел на руки, на пустой стол.
«И некому поддержать, все жители умерли или выехали. Лешка-колодезник хоть и говорит правду, но пьяница, за стакан может продаться».
Ветер, залетев в окно, обрызгал Андрея дождевыми каплями. Он, вздрогнув, испуганно посмотрел в темноту. Деревья, калитка, забор и колодезный журавль показались ему очень большими и какими-то нереальными. Ночь наступила, и спрятаться от нее уже нельзя было.
Он торопливо выбежал из дому на улицу. Что происходило с ним, он не знал. Лужи поблескивали под ногами Он зажег спичку, и они зашевелились. Вначале нерешительно, а затем все смелее. Чьи это были глаза — дождя, земли или темноты, он так и не смог понять. Осторожно переступив через две лужицы, погасил спичку. Перед глазами стало еще темнее. Сняв туфли и носки, он закатал до колен брюки, захотелось постоять на траве босиком, словно в доказательство какой-то своей, только ему понятной правоты, ощутить влажность и мягкость земли. Несколько минут он так и стоял, и кровь его от этого вновь вся возбудилась. Этой радостью ему захотелось поделиться с темнотой, ветром и дождем. Но он вдруг вспомнил, что в соседнем заколоченном доме спит на полу Лешка. И он побежал к нему. Земля чавкала под ногами, он оступался и скользил по траве. Два раза упал, растянувшись во весь свой рост, один раз провалился в канаву, которую вырыли строители. Весь грязный и черный, точно негр, с блестящими лихорадочными глазами он предстал перед Лешкой. Став на колени, растолкал его. Тот, щуря глаза от яркого света, с обидой посмотрел на него.
— Дядь Леш, я босой, — в восторге прошептал Андрей. — Ты представляешь, босой. По земле ходил и стоял на ней, — и, взяв его за плечи, притянул к себе. Как здорово босиком стоять!
— Ты грязный… — испуганно вырывается от него Лешка и отползает в угол.
Андрей стоит перед ним на коленях. С одежды сочится и струится на пол грязная вода, делая под ним лужу. Руки его черны. В глазах исступленный восторг.
— Дядь Леш, снимите обувку, — шепчет он. — Я проведу вас по земле.
Хмель не покинул Лешку, но он хоть мало-мальски, пусть даже и инстинктивно, но соображает.
— Я не Иисус Христос, чтобы босиком ходить… — впивается он настороженным взглядом в Андрея. — За тобой что, гнались?
— Нет, за мной никто не гнался, — ответил Андрей. — Я просто босиком по земле прошел. Представляешь! Идет мелкий дождик, а ты босиком.
— Нет, ты чудом спасся… — немного успокаиваясь, бормочет Лешка. — Тебя охотники в темноте за кабана приняли, вот и загнали сюда, — и икнул. — Выпей касторки, и твое желание быть босым сразу пройдет. — Лешка удивленно посмотрел на Андрея. Руки и лицо его дрожали. А в красных глазах кроме скорби появился испуг.
— Ты чудом от белой горячки спасся… — внимательно посмотрев на Андрея, добавил: — Надо же, глупости какие в голову лезут. Нет, ты прав. Это я пьян, я одеколон пил, а ты нет. Так что выходит, мне босиком надо ходить, а пошел ты. Это надо же! Это надо же!.. — съеживаясь от света, прошептал он. — Выходит, я над белой горячкой, а не она надо мной. А во-вторых, я хоть и пью, но здоровее тебя.
Грязь текла по Андрееву лицу, но он не стирал ее. Лишь один раз прикоснулся к губам, когда Лешка упомянул о белой горячке, и то ненадолго. Лешка не понял его. Единственная его до этого надежда и опора, полностью еще и не протрезвевшая, но растревоженная им, с какой-то животной злостью смотрела на него и дико кричала.
— Андрюха, неужели ты пьян? Ответь, тебе говорят.
— Я трезв… — ответил Андрей.
Вначале ему показалось, что перед ним был не Лешка, а какой-то двойник. Но, всмотревшись повнимательнее, он понял, что это был сегодняшний, тот самый колодезник Лешка. И заколоченный дом тоже был его. Комната, абсолютно пустая, без мебели и даже без клочка бумаги — тоже его. Наклонив голову, Лешка озабоченно присвистнул. Затем, опершись руками об пол, исподлобья посмотрел на Андрея и крякнул:
— Можно что угодно было от тебя ожидать, но чтобы ты был бос, а я обут, в голове не укладывается… Ну, а после того как ты вывалялся в грязи, что ты дальше будешь делать? Опять босиком пойдешь?
— Да… — кивнул Андрей и встал с пола, собираясь уйти.
— Зачем тебе это? Зачем?.. — теперь Лешка стоял перед Андреем на коленях. Чувствовалось, что он протрезвел и все происходящее вокруг него воспринимал осознанно и здраво. — Что ты этим хочешь сказать? Любовь свою доказать к этому месту? Да я и так знаю, что ты Лотошино любишь. И не один ты его любишь, я тоже люблю. — И, поднявшись, он, пошатываясь, подбежал к Андрею. — А может, ты не существуешь и все это мне показалось. — Дотронувшись руками до Андреевых плеч, воскликнул: — Вот осел! Надо же до такого додуматься.
Удивленно смотрел он на Андрея. Тот был перед ним прежним — грязным и босым.
— Это невозможно! — вскричал вдруг Лешка. — Невозможно! Босиком по земле… — и, заплакав, добавил: — Я понял тебя, понял. Этим своим босохождением ты спасаешь себя.
Не в силах больше сдерживать себя, Лешка плакал точно мальчонка. Руки, плечи, голова его вздрагивали. И от этого вид его был жалким и тщедушным.
— Разве можно в наш век босиком пройти… — зарыдал он пуще прежнего. — Ради чего? И не ради мужества и гордости, а ради спасения души. Переуздать себя, как здорово слово это звучит. Эх, черт, но ради чего же все это и для чего? Видишь, я плачу. Я плачу…
— Я тоже плачу, стоит мне вспомнить мать, детство, отца на фотографии… — тихо произнес Андрей и вдруг насторожился. — Слышишь, слышишь, Лешка, ветерок шумит, — воскликнул Андрей. — Так это не ветерок, это брат твой дышит!
— Не может быть, — прокричал Лешка. — Мой брат на войне погиб.
— Нет, он не погиб, он живой, — тихо ответил Андрей.
— Блаженный ты!.. — прошептал в испуге Лешка. — Блаженный, как пить дать. Ишь ты, брата-сержанта моего вспомнил. Ты ведь его даже живым не видал. Когда он погиб, тебя не было на свете.
— Я на фотографии, которая в нашем доме висит, часто вижу его… — перебил его Андрей.
Лицо его было заостренным, глаза блестели, и вместо воды пот размывал грязь на щеках. Он не вытирал потеки. Он стоял и часто дышал.
— Так что же, по-твоему, выходит, это не ветер шумит, а брат-сержант мой дышит… — оторопело прошептал Лешка и, подбежав к заколоченному окну, прислушался. Воротом расстегнутой рубашки он вытер губы и улыбнулся. — Брат-сержант, брат-сержант, единственный ты мой! Ты не умер, ты жив.
В каком-то восторге он посмотрел на Андрея. И хотя тот был мало чем привлекателен, Лешка как никогда в жизни рад был его присутствию.
— Надо же, брат-сержант дышит! — воскликнул Лешка. — Ишь ты, точь-в-точь, — и торопливо снял с себя ботинки и носки, а брюки закатал до колен. — Я вместе с тобой пойду босиком, — сказал он восторженно и, взяв Андрея за руку, вышел с ним во двор.
— Вишь, как братик твой дышит… — радостно произнес Андрей.
— Знать, он не умер, он жив…
— И земля тоже дышит… — добавил Андрей. — Она не мертвая, она живая.
Они шли по мокрой траве, обняв друг друга за плечи. Ноги скользили, попадая в лужи и строительные колдобины. Дождь заливал глаза, хлестал по щекам и рукам, остужая пыл и страша темнотой. Но они ничего не замечали. Они в радости ходили по земле босиком.
Стройка кипела вовсю. Высоченные краны поднимали кирпич, и каменщики, лихо приняв его, дружно клали стены.
Всего неделю проработал Андрей на заводе. Он хотел было уволиться, но его уговорили остаться. А чтобы он успокоился, дали отпуск за свой счет. Но он, увы, не успокаивался. Наоборот, гнев и даже какое-то возмущение с каждым днем разгорались в нем.
Вечером пришел к нему прораб, злой и хмурый и немного сутулый. Андрей пригласил сесть его за стол. Но тот, удивленно посмотрев на мебель и вещи в комнате, сказал:
— Ты что же барахло не вывозишь? Послезавтра будем ломать, — и, осмотрев комнату, хмыкнул: — Значит, правду говорят люди, что ты по-серьезному надумал не уходить.
Прораб сел на стул и, не спрашивая разрешения у Андрея, закурил. Пальцы его, грязные и потрескавшиеся, хотя и держали цепко окурок, но дрожали. Андрей молча смотрел на него. Говорить не хотелось. Ему казалось, что перед ним был не человек, а животное, страшное, хитрое и полное ненависти к нему.
— Ты побрейся, — засмеялся прораб, в удовольствии щуря глаза, — а то снесем и неудобно как-то хоронить тебя будет… — И вдруг, тут же умолкнув, настороженно спросил Андрея: — Это что, бунт?
— Да, бунт!.. — промолвил он.
— Бунт против стройки, это, значит, и против нас? — Второпях прораб делал одну затяжку за другой. И от этого дым ходил по комнате колесом… Глаза его раскраснелись, но взгляд все равно был шныряющим и проворным.
— И против стройки, и против вас, и против всех остальных, — сказал Андрей.
Ему хотелось выругаться на это животное, называемое прорабом, но он сдержался. Хрустнул пальцами, затем сжал их в кулаки и напрягся точно зверь, готовящийся к прыжку. За последнее время он осунулся и постарел. Веки от недосыпа опухли — он спал плохо, так как боялся, что бульдозеры могли подогнать ночью. И хотя он пригрозил им, что в случае сноса избы ляжет под бульдозер, все равно понимал, что это не выход из положения, и поэтому дежурил как сторожевой пес.
— Сегодня мы свет от избы отключали… — опять ухмыльнулся прораб и настороженно посмотрел на Андрея.
Тот промолчал.
— Ты что, голодовку объявил? — спросил прораб.
— Да так, пустяки, — махнул тот рукой. — Вторая неделя поста началась, вот и приослаб.
Ему не хотелось говорить с прорабом, но и прогнать его не мог. Тот был намного сильнее, да и в моральном плане был хозяином положения.
— А я думал, ты голодаешь, — хитро усмехнулся прораб. — И уже кой-кому об этом сообщил.
«Зверь, настоящий зверь, — сверкнул глазами Андрей. — Видит, болею, мучаюсь, а он живого в мясорубку».
Прораб, загасив сигарету, кинул ее к печке и, расправив руками брюки на коленях, уже без злобы, но с сожалением сказал:
— Дядя Добрый вчерась сказал, что ты блаженный. И все поверили ему, а я вот нет.
— Зачем вы пришли ко мне? — раздраженно произнес Андрей. — Я не покину избу.
— Избу не покинешь, а землю покинешь, — усмехнулся тот. — А во-вторых, мы, может быть, и сносить тебя не будем. Подложим бикфордов шнур и после третьего предупреждения в присутствии свидетелей используем по назначению. Конечно, это я грубо говорю, но для профилактики вызовем милицию, и она тебя живехонького и целенького выволочет из избы. Сейчас менты с дубинками, к темени твоему раза два приложатся и мозги мигом выправят…
Прораб с любопытством посмотрел на Андрея. Со стороны казалось, что он разыгрывает его. Хотя на самом деле он и зол был, но жалел этого парня-блаженца.
— Делайте что угодно, а я не уйду, — и Андрей закричал: — Дядь Леш, дядь Леш! Выгони его, он опять пришел.
— Бесполезно, — остановил его прораб. — Лешки твоего больше нет.
— Как так? — в испуге спросил тот.
— А вот так, — ответил прораб. — Его вчерась в ЛТП на два года отправили.
— Не может быть, — и Андрей, подбежав к боковому окну, с напряжением посмотрел на Лешкин дом.
Он был прежним, низеньким, с заколоченными окнами. Только вот вместо висячего замка на дверном засове была накручена стальная проволока. Посмотрел Андрей на эту проволоку и вздрогнул. Да, все верно. Нет больше дядь Леши. Если бы он был, то дверь обязательно на висячий замок закрыл и на проволоке ее не оставил. Он хотя и пил, но хозяйственный был. Родительский дом свой любил. Все давным-давно побросали эти дома, считая их рухлядью, только он, как и Андрей, приходил сюда. А кто же колодцы копать будет? Кто будет песни петь и слушать дыхание брата-сержанта?
— Куда вы отправили его?.. — словно не веря услышанному, тревожно переспросил Андрей.
— В ЛТП, — ответил прораб.
— За что?
— Откуда я знаю, — буркнул тот. — Упекли, и все… — и тут же поправился: — Значит, есть за что. Мне не докладывали.
— Вот увидите, он все равно сбежит, — отойдя от окна, произнес Андрей и подозрительно посмотрел на прораба.
Страшен и неприятен он был ему. Хотелось плюнуть ему в лицо и выпроводить. Но не было сил. Слабость мучила. Чтобы не упасть, он прислонился к стене.
— Почему ты печешься о нем? — удивленно спросил прораб. — Зачем он тебе?..
— Он русский, мы вместе с ним слушали дыхание его брата-сержанта, — тихо ответил Андрей и, вытерев пот со лба, по-детски улыбнулся. — А еще он русские песни любил и Зойку, когда она одевала трико в обтяжку…
— Вздор, все это вздор!.. — крикнул прораб. — Русских нет, есть советские.
— Кто тебе это сказал?
— Все говорят, — и прораб покраснел.
— А ты сам кто? — настороженно спросил Андрей.
Прораб недоуменно пожал плечами, а затем ответил:
— По паспорту русский. Да и какое мне дело до этого. Живу, и ладно… — И, вновь достав сигару и сделав ковшиком ладони, начал прикуривать.
Руки его дрожали, а вместе с ним и пламя, и сигарета долго не прикуривалась. Сделав затяжку, он боязливо посмотрел на Андрея.
— Другой бы давно убежал отсюда, а ты вот сидишь. Снесем послезавтра избу, обязательно снесем, вместе с вещами ее порешим.
— А я не дам, — вспыхнул Андрей. — Я под бульдозер лягу. Прежде чем сносить, вы должны согласия моего спросить.
— Последние жители в счет не идут, — довольно произнес прораб. — Основная масса жителей покинула деревню, и ты должен был с ними.
За окном грохотали бульдозеры, скрежетали краны. Стройка была в полном разгаре.
«Он прав, я один, — подумал Андрей. — И ведь прекрасно знаю, что они снесут, обязательно снесут избу, а вот не ухожу. Вроде все осмыслил, сообразил, схватил — явный проигрыш, а вот стою у стены и не ухожу…»
Сердце стучало так быстро, что казалось, оно выпрыгнет на стол и улетит за окно.
И откудова только взялся этот прораб, ведь до этого было все хорошо, никто его не раздражал и не трогал.
Уже более недели не выходил он из избы. Сидел в ней сиднем, лишь изредка посматривал в окно, где шевелились краны и бульдозеры. Лужок перекопали, завалили плитами и трубами. А в самом центре строители, вырыв огромную яму, забили в нее двадцать железобетонных свай. Чадящие и дымящие «КрАЗы» и «МАЗы» сваливали жидкий цемент в эту страшную зубастую пасть. В сохранности была лишь небольшая часть лужка, та, которая примыкала к избе и где изредка, но летали еще бабочки и жучки. Но птицы, которые были умнее насекомых, сюда не садились, они пугались шума и грохота, а черный дым, вылетающий из кипящих смоляных котлов и долго кружащийся над травой, был для них страшнее охотничьих дробовиков. Стройка была радиофицирована, и каждое утро женский хрипловатый голос сообщал об успехах каменщика Кутяшова Ивана, который, возводя прекрасное светлое здание, клал кирпичи быстрее и лучше всех. На объекте, где он работал, висел огромный двадцатиметровый плакат, текст которого гласил: «Если не я, то кто же построит новый дом?» Вчера напротив Лешкиного дома, рядом с калиткой, свалили сто железобетонных плит. За все Это время пребывания в избе Андрей уже привык к этим незнакомым ему ранее строительным названиям. Он, заводской слесарь, теперь знал, чем отличается простой бетон от ячеистого и каких видов бывает керамзит. Разбирался он и в арматуре, особенно в прядевой, а работу башенного крана и команды стропальщиков выучил наизусть. Стройка с жадностью пожирала лужок и точно грозное, созданное только для заглатывания животное надвигалась на избу. А кутеныш этого животного, называемый прорабом, сидел сейчас в комнате Андрея и с гордым высокомерием смотрел на него. Андрей вопросительно уставился на него, не понимая, чего же тот хочет.
Прораб, положив ногу на ногу, поправил ворот рубахи и ухмыльнулся.
«Ему все равно, есть я или нет, — подумал Андрей. — На стройке надоело, вот он и пришел ко мне поразвлечься. И ответить грубостью нельзя, чуть что — вызовет милицию. Ведь без меня им намного легче избу снести, чем вместе со мной».
Лицо Андрея от волнения раскраснелось. Он был точно ребенок, которого поставили в угол.
— Смешон ты, — произнес прораб.
— О чем это вы? — настороженно спросил Андрей.
— Да о том, что твоего соседа я зря русским назвал.
— Он действительно русский, и нет здесь ничего плохого, — спокойно произнес Андрей и вдруг резко спросил его: — А вот ты-то так и не сказал, кто такой будешь.
— А я не знаю, кто я… — хитро улыбнулся прораб. — Вроде родом из простых.
— Из простых? — удивился Андрей. — Ты из простых?
— Да… — усмехнулся прораб.
— А на колени можешь стать перед бульдозером, когда избу мою будут сносить?
— Конечно, нет, — самоуверенно ответил тот. — Это я раньше был из простых, а теперь прораб. Меня рабочие слушаются. И в управлении я на хорошем счету. Если стройку задвину на шесть месяцев раньше, мне орден дадут.
— А зачем тебе он? — удивился Андрей.
— Как зачем? — усмехнулся прораб. — Орден это почет!
— Нет, ты не прораб и не… — и Андрей добавил: — Ты юнкер, самый что ни на есть настоящий юнкер. Тот самый, который по приказу сверху все что угодно может совершить. Лешка лучше тебя был, он этого сделать не мог, когда пьяный — другое дело. А ты ведь и трезвый можешь это! Страшно!
Прораб резко встал со стула, потом снова сел. Сравнение его с юнкером задело за живое. Он хотел накричать на Андрея, но передумал.
— Пойми, тебя-то ведь никто не трогает, — рассерженно произнес прораб. — Твоя изба мешает, а не ты.
— А я вам сказал, не трогайте ее…
— Почему?
— А потому, что эта изба для меня все, — и Андрей вспыхнул. — Понимаешь ли ты, все, все…
— Ишь ты какой патриот, — улыбнулся прораб. Настроение вновь вернулось к нему.
— А что здесь плохого?.. — спросил Андрей. — Это вы собираетесь лишить меня дома, а я вас не трогаю.
— Чудик, какой это дом?.. — улыбнулся прораб. — Это же погибающий, никому не нужный мир.
— Ты не прав, — сказал Андрей. — Что бы ни случилось со мной, я всегда буду помнить этот дом, а не этот ваш, — и он указал в окно, за которым шла стройка, — коробочный, с комнатками-камерами. Нет души там… А без души жить, извини…
— Ты так рассуждаешь, словно в этой избе вся Россия.
— Да, в ней вся Россия.
— Вот так вот и сходят с ума, — ухмыльнулся прораб. — Возомнят себя пупом земли и несут всякий вздор.
— Я еще раз тебя спрашиваю, кто ты такой?
— Юнкер, кто же еще, — засмеялся прораб.
— Это кто тебе сказал?
— Ты же только что и сказал.
— Нет, я ошибся, — вскрикнул Андрей. — Ты не юнкер, ты… — и закрыл лицо руками.
Прораб, в растерянности подбежав к Андрею, начал успокаивать его:
— Чудной, ну будет тебе, я пошутил… Русский я, говорю тебе, русский. Отец мой из Орловской губернии, мать из Саратовской. И пришел я сегодня к тебе, чтобы по-человечески поговорить, мирно все дело решить.
Андрей не слушал его. Страшное животное доконало его. Не было больше сил говорить и смотреть на него. Прораб в растерянности прошептал:
— Ну и дела… До этого меня юнкером обзывал, а теперь вдруг плачет. Не зря, видно, Дядя Добрый говорил, что ты на избе этой тронулся… — и, устремив острый взгляд на Андрея, вспыхнул: — По идее, этой избы уже нет. Решением исполкома она давным-давно снесена.
Произнеся все это, прораб удовлетворенно потер руками. Чувствовалось, что он уверен был в своих рассуждениях и считал себя абсолютно правым.
Солнце освещало пол комнаты, краешек печи и сапоги прораба. В косых лучах его бешено кружились пылинки.
Андрей все так же был озабочен. И в этом сказывалось не только его переживание, но и физическое истощение.
— Кто ты? — опять неожиданно спросил он прораба.
Тот, со злостью ударив кулаком по столу, прокричал:
— Опять заладил, кто я да что я.
— Открой дверь, — попросил Андрей.
— Зачем? — удивился тот.
— Открой дверь, прошу тебя, — повторил Андрей.
Прораб открыл дверь. И свежий летний ветерок занес в комнату свежесть и строительный грохот.
— Слышишь?
Прораб оглянулся. Лицо его побелело, а затем покрылось мелкими красными пятнами, это бывало с ним только в минуты испуга.
— Слышишь? — опять прошептал Андрей.
— Слышу грохот крана, стрельбу отбойного, визг лебедки, — удивленно произнес тот.
— Грохот это само собой, а вот совсем рядом с тобой, слышишь? Это Лешкин брат-сержант дышит, — прошептал Андрей и, перекрестившись, странно низко поклонился: — Он не умер, он жив…
Прораб в испуге закрыл лицо руками.
— Ты совсем очумел, — произнес он, — да как это можно в таком грохоте и шуме дыхание давно умершего человека услыхать?
Он еще раз постарался прислушаться, но ничего похожего на дыхание не услыхал. С печалью и снисхождением посмотрел на Андрея. А тот вдруг, сощурив глаза и весь сжавшись, как закричит:
— Кланяйся дыханию, пока жив, кланяйся!..
Андреево лицо, страшно сердобольное, было без злобы. Ясный и чистый свет исходил из глаз. Любое, даже незначительное движение лица было движением его души.
Под дуновением ветерка дверь приоткрылась еще более.
— Что же ты трусишь? Кланяйся… — повторил Андрей и жестом указал на пол, который переливался под лучами солнца.
«Он совсем потерял рассудок», — подумал в страхе прораб, отступая к выходу. Ветер монотонно охлаждал его затылок и спину, но, увы, легче не становилось… «Что же делать? — сердце бешено заколотилось, и в висках запульсировала раскаленная кровь. — Ведь, если не раскланяюсь, он, чего доброго, возьмет и кинется. Сумасшедшему ничего не докажешь».
Мысли прораба говорили одно, а душа, как и подобает в таких случаях, стояла на своем.
— Кому кланяться? — вспыхнул он. — Если нет никого. Ветру, что ли?
— Дыханию брата-сержанта поклонись, — все так же уверенно произнес Андрей и, став на колени, схватил его за руку. — Поклонись…
Взгляд Андрея, как и голос, был просительный, умоляющий. Ему хотелось, чтобы прораб понял его и, став на колени, поклонился одухотворенному дыханию.
— Товарищ начальник, — прошептал он, — поклонитесь. Вместе поклонимся. Ведь когда избу снесут, некому будет кланяться.
«А ведь он непростой, он шут, — подумал в страхе прораб. — Словом убедить меня не удалось, так теперь он чувствами достает». И, вспыхнув весь, резко освободил свой локоть от руки Андрея. Тот, пошатнувшись, побледнел и от этого стал как никогда смешон.
— Кланяйся ты, а я не буду, — задыхаясь, произнес прораб.
— Товарищ начальник, да ведь поклониться для вас сущий пустяк, — прошептал Андрей, прижимая руки к груди. — Всего разок, всего один разок.
Кровь ударила прорабу в голову. Однако это очередное волнение не сконфузило его. Бессмысленное поведение Андрея показалось ему вдруг каким-то несуразным и страшным. Мало того, он не чувствовал к нему жалости.
— Вот сюда, рядом со мной, на коленочки станьте и поклонитесь, — продолжил торопливо Андрей. — И о страхе не думайте, поклонитесь, и все пройдет. Вот сюда, ну… Что же вы, товарищ, стоите.
Ужас охватил прораба. Непонятный для него Андрей стал еще более ему непонятен. За окном был шум и грохот, но он не замечал его. Перед глазами стояло лицо Андрея, полное отчаяния.
— К чему вся эта чушь, к чему? — выходя из себя, прокричал прораб. — Зачем и для чего перед этим несуществующим дыханием ты пытаешься меня унизить? Хуже того, я чувствую с твоей стороны какую-то ужасную психологическую ловушку. Ты хочешь доказать, что я без рода и крови, что я делаю все неосознанно. И избу твою буду сносить неосознанно, и живу просто так, неосознанно. Это ты хочешь, видно, мне сказать? Да?.. Говори.
— Нет, ты не прав, — горько усмехнулся Андрей. — Я не собирался вас унизить… — И, в смущении разведя руками, добавил: — Я думал, вы дому моему поклонитесь. А вы… А впрочем, что же это я, — и, подавив волнение, насторожился и замер.
Прораб страдальчески посмотрел на него. Он вдруг понял, что Андрей все это время не притворялся. И это было не расчетом, а явью, невероятно вымученной и родной. Он понимал, что это дыхание было не какой-то там ничего не значащей случайностью, а Андреевым духом, родным домом. Стоит только исчезнуть ему, как тут же исчезнет вместе с ним для Андрея все и дом, и родина, и лужок, и он сам.
«Тогда выходит, что избу вообще нельзя сносить, — мелькнуло в голове прораба. Снести ее это все равно что убить его. Вот так дела. Из-за этой избы, чего доброго, и сам с ума спятишь…»
Прораб в испуге посмотрел на Андрея. «Избу снесем, остатки ее засыплем песком и глиной, а наутро его мертвым найдем. Ведь он кланяется дыханию не просто так. Во всем есть особый смысл. Если мы снесем избу, он покончит с собой. Образованнейший ход. Поэтому, чтобы обезопасить себя, надо ночью, когда он спит, милицию вызвать и вывести его из дома. А если он начнет выступать, уколами его приковать, чтобы он все, абсолютно все позабыл. Лешку милиция увезла, увезет она и его».
И возникшая было у прораба снисходительность к душевным страданиям Андрея вдруг сменилась внезапной жестокостью. Ему было жалко этого парня, и в то же время он ничего не мог поделать с приказом сверху. Не умирать же ему вместе с этой избой. В голове он отчетливо услыхал металлический звук. А может, это даже и не кровь стучала, а отбойный молоток, разбивающий неудачно положенную на перекрытия арматуру.
«И зачем я только зашел к нему», — подумал он. Ему хотелось как можно скорее выбраться из этой избы и что есть мочи понестись куда глаза глядят, только бы не видеть и не вспоминать ее. Однако убегать было неприлично. Хотелось непринужденно, как он в нее и вошел, покинуть избу Прораб считал себя воспитанным человеком. Интуиция подсказывала ему соблюсти хотя бы какую-нибудь формальность. Ради нее он, пересиливая себя, щеголевато поправил рубашку, а затем спокойно сказал:
— Ну ладно, браток, я пойду… — и добавил: — Спасибо тебе за просвещение. До сегодняшнего разговора с тобой я был совершенный нуль. Не знал, что люди еще могут так думать.
Андрей покраснел и сказал:
— Ты смеешься, — и затем, вдруг вздрогнув, посмотрел на прораба. — Товарищ начальник, не уходите, я вам три тысячи дам. Пусть изба еще месяц постоит. Снести ее вы всегда успеете. Возьмите три тысячи… — И, вскочив со стула, Андрей подбежал к шкафу у печи и, раскрыв его, стал торопливо рыться в каких-то коробках. Наконец достал одну, раскрыл ее, бросив крышку на пол.
— Эти деньги я для этого дела собрал, — в восхищении произнес он. — Три тысячи… Все что мог. За один месяц три тысячи…
— Тебе что этот месяц даст?.. — посмотрев на разноцветные купюры, удивленно спросил прораб.
— Дайте мне привыкнуть к расставанию, — прошептал Андрей. — Ну как бы вам точнее сказать, — он помолчал, затем добавил: — Мне надо подготовиться… Я думаю, одного месяца для этого хватит. Возьмите, ради Бога, товарищ начальник, возьмите.
Коробка в руках Андрея задрожала. А затем вдруг с не свойственной ему резкостью он вывалил деньги на стол. Красные, зеленые, желтые бумажки засветились под лучами солнца.
Прораб не знал, что и ответить Андрею. Этим непредсказуемым поступком он был окончательно ошарашен. Вся его гордость, пренебрежение и хитрость мигом исчезли. Предложенные ему деньги полностью обезоружили его. Вытерев пот с лица, он оглянулся. Дверь была открыта настежь, и выбежать из нее на улицу не составляло труда.
— Взять эти деньги и похоронить через месяц избу дело заманчивое, — прошептал он в растерянности, уже полностью не владея собой. Он произнес все эти слова просто так, машинально, чтобы выиграть время для координации действий.
— Не волнуйтесь, я никому об этом не скажу… — обрадованно произнес Андрей.
— Понимаю… — заторможенно произнес прораб.
Деньги все так же светились.
«Нет, нет, он не сумасшедший, — мелькнуло в его голове. — Он сильнее всех нас. Три тысячи отдает за месяц и ни капельки не жалеет».
— Договорились?… — тихо спросил Андрей. Лицо его было добрым.
— Надо подумать, — отступил прораб к двери.
— Что же тут думать, — спокойно произнес тот. — Берите деньги, они ваши… — И купюры захрустели в его руках.
С трудом прораб сдержался, чтобы не прокричать: «Нет, нет, я не продаюсь…» На какую-то долю секунды перехватило дыхание, и ему показалось, что он умирает. Затем его вдруг поразил какой-то торопливый шорох Это Андрей засовывал деньги в его карман. Вытолкнув их, он испуганно посмотрел на Андрея.
— Что это?
Деньги выброшены на пол, а шорох все равно лезет в голову, за шею, в карманы и рукава. Огромный, невыносимый шорох, от которого тело колется на части. Вокруг все мутнеет, и странный сумрак заволакивает комнату. Андреева лица не видно, вместо глаз две блестящие точки.
— Почему ты молчишь? — кричит прораб, он не может найти дверного проема.
— Успокойтесь, товарищ начальник, это дождь начался… — тихо произнес Андрей и попытался поднять с пола деньги, чтобы вновь их сунуть прорабу. А когда их поднял, то прораба уже не было. Разбив лоб и поранив руку, он все же нашел выход. Его торопливый след на земле, начинающийся от крылечка, разбивался дождевыми струями.
— Убежал?.. — растерянно произнес Андрей и сунул чуть намокшие деньги в карман. А шорох вокруг действительно был неимоверный. Дождь лил как из ведра, заливая дорожку и траву с неухоженными грядками. Вода доверху заполнила деревянную бочку, стоящую рядом с крылечком, а она все лилась и лилась с металлической крыши.
На стройке прекратили работу. Народ набился в вагончик-прорабскую, вокруг которого образовались огромные лужи. Дощатые настилы мостика полузатонули и покривились. Окна открыты, из них вовсю валит дым и доносится стук домино. Строители о чем-то с шумом спорят и ругаются. Вот один подошел к окну и, посмотрев в сторону шоссейной дороги, сказал:
— Из-за этого дождя опять выпить не успеем взять.
— Ничего страшного, — успокоил другой. — Если водки не достанется, возьмем одеколон.
— Твоими устами да мед пить… — рассмеялся первый и, посмотрев на Андрея, мокнущего на крыльце, сказал: — Прорабу повезло. Андрей небось опять ему на бутылку дал.
— Бутылка не поможет, — равнодушно сказал тот. — Если дождик не помешает, то завтра к вечеру избу и скорежим. Начальник треста не зря сегодня к Андрею прораба послал. Тот должен ему сообщить, а ты говоришь, бутылка.
— Но я ведь сам видел, как прораб выбежал… Зря ведь он не побежит.
— Мне все равно… — вздохнул второй. — Скажут послезавтра сносить, снесу послезавтра.
— Усыпить его надо, а то он, чего доброго, драться начнет. Вишь, под дождем стоит, мается.
— Да оставь ты его, не о чем, что ли, говорить… А то увидит тебя, приставать начнет. Надоел хуже редьки.
— Семья-то у него есть? — спросил строитель, отходя от окна.
— Жена, а детей еще нет.
— Ну тогда ясно. Делать ему нечего, вот он и дебоширит.
Дождь не утихал. Строители, смеясь, что-то кричали друг другу. И в этом шуме как никогда решителен и звонок был стук костяшек домино.
Дождь заливал Андрею голову, руки и грудь. Намокли и деньги, выглядывающие из кармана. Перед глазами вдали был вагончик-прорабская, фундамент будущего дома и два трубоукладчика. Там, где когда-то стоял Лешкин дом, два трактора-грейдера. С острыми блестящими ножами и почему-то бездверные. Они таинственно вздрагивали под струями дождя, словно не металлические были.
От Лешкиного дома ничего не осталось. Его сровняли с землей буквально за день. Непутевый тракторист с одного маха ударил в угол дома, и он рухнул и осел, выставив после проехавшего трактора огромную зияющую рану.
Андрей с напряжением всматривался в то место, где стоял когда-то Лешкин дом. Рядом с его забором лежит полусгоревшая солдатская шинель довоенного образца с приплюснутой пуговичкой и покоробленным сержантским погоном. Чуть поодаль валяется старая собачья будка с ржавой цепью, в которой давным-давно уже никто не живет. Дождь мочил ее жадно, с пристрастием, ощупывал своими невидимыми руками.
А вот и калитка, та самая, древняя и неповторимая, которую Андрей, можно сказать, спас, когда очумевший тракторист, разогнав трактор, мял забор направо и налево, оставляя под своими гусеницами бесформенные деревяшки. Эту спасенную Лешкину калитку Андрей помнил с самого детства. Он не раз, прикасаясь к ней, открывал ее, заходя в гости к соседу. Он прекрасно помнил рядом с ее петелькой похожий на звездочку сучок, вокруг которого были прелестные колечки и узорчатые трещинки. Сучок был добрый. Он хотя и выступал из доски, но никто никогда не цеплялся за него, не рвал одежды и не царапал рук. А у самой ручки на калитке есть глубокая трещина. Когда солнце с улицы освещало ее, то она вся наполнялась таинственным светом, издали напоминая неугасающую искорку, отколовшуюся от солнца. А как красиво и и нежно хлопала эта калитка. Чуть ветерок ее, бывало, тронет, и она, раскрывшись, тут же нежно приложится к своему красавцу столбику, которого, увы, теперь нет. Смотря на кое-как прислоненную к забору калитку, Андрей издали отыскал глазами на ней сучок и трещинку, и новую, ровно обтесанную досочку, которую Лешка прибил прошлый год.
У этой калитки он в детстве часто сидел с Лешкой и смотрел на лужок. Здесь он влюблялся, играл на рожке. Здесь Дядя Добрый, заходя к Лешке, пел божественные песни. Калитка осталась живой, но места ей, увы, нет на земле.
Вырвана с корнем и яблонька, на которую Лешка всегда вешал белье и мочалку. Корни ее порублены, ствол раздавлен, и никогда не удастся увидеть на ней яблок и услыхать таинственного шороха листвы.
Лешкин дом сносили ранним утром. Тракторист, бывший танкист, перед мощным ударом сжалился над кошкой с котятами, которая, еще толком ничего не понимая, сидела на перекошенном крылечке.
— Молочком надо вас угостить, — улыбнулся он и, посадив котят вместе с кошкой, у которой была перешиблена лапа, понес их в вагончик-прорабскую.
Там и живут они сейчас. И лишь по вечерам, когда все вокруг утихает, кошка, оставив под вагончиком котят, приходит к снесенному дому и, сев на большую глиняную кочку, подолгу сидит, словно не веря, что нет на земле больше дома ее бывшего хозяина.
— Ты посмотри, — сказал строитель, вновь подойдя к окну. — Дождь идет, а Андрей без зонта и без плаща стоит. О чем он думает?
— Прораба не видел?.. — спросил второй.
— Нет…
— Он, видно, его ждет.
— Мужик он, поэтому ему избу и жалко, — сказал второй и, закурив, начал струйкой выпускать дым в приоткрытое окно навстречу дождевым струям.
— Смотри, он, кажись, на нас смотрит, — воскликнул первый. — Надо же, увидел.
— Пусть смотрит, — сказал тот.
— Сейчас деньги начнет предлагать.
— Да на кой они нам, его деньги, возьмешь, — не отвяжешься.
— А что, если не снести ее, а перенести?
— Начальник треста предлагал, а он ни в какую. Требует, чтобы избу оставили именно здесь.
Дождь хлестал по крыше вагончика, изредка залетал в окно, обдавая строителей теплыми каплями и влагой, смешанной с запахом только что развороченной земли. Но вскоре он начал утихать, а затем и совсем перестал. А когда выглянуло солнышко, мужики обрадовались. Был шестой час вечера, и, чтобы в грязи не копаться, решили прекратить работу. Часть из них пошла домой, а часть — в магазин за водкой. Андрея забыли, словно его и не было вовсе.
Прораб, весь мокрый и грязный, шел по поселку наобум. Глупостью можно было назвать его желание. Он не хотел больше возвращаться на стройку. Люди, смотря на него, растерянно улыбались. Его окликали, но он никому не отвечал.
«Что стряслось с товарищем начальником? — шептали они удивленно друг другу. — Может, выпил, а может, на стройке что случилось».
Строители, увидев начальника, перегородили ему дорогу.
— Командир, мы тебя ищем.
А он на них в каком-то надрыве как закричит:
— Пошли вы все к черту!..
Те вначале испугались. Но затем схватили убегающего от них прораба за руки.
— Ты что лаешься, — обиженно закричали они. — Мы тебя целый час ждали, а ты не пришел.
— Да пошли вы, — обиженно произнес он.
— Совсем спятил, — удивились они. — Говори, что с тобой.
Поскользнувшись, прораб чуть было не упал в лужу. Но его поддержали и поставили на асфальт. Вытерев дождевые капли и пот с лица, он в испуге посмотрел на своих подчиненных, а затем произнес:
— Он унизил меня, понимаете вы это или нет. Не человеком меня считает, а продажным юнкером.
— Все ясно, — облегченно вздохнули строители. — Он тебя доконал.
И успокоили шефа:
— Завтра же кончаем лавочку. Утром вызываем милицию и сносим избу…
При этих последних словах прораб вскрикнул.
— Только учтите, я завтра не приду, — прошептал он. — Делайте все без меня.
— А ты нам и не нужен, — довольно произнесли те. — Можешь отдыхать до конца недели.
Прораб, побелев как полотно, отступил назад. Руки его затряслись, и судорога, чего раньше с ним никогда не было, скривила лицо.
— Да он и впрямь болен, — прошептали строители.
— Нет, я не болен, это вы больны, — вспыхнул он. — Завтра утром ему скажите, что прораб Анискин своей чести не продает. И юнкером никогда не был и не будет.
— Да нечего вам волноваться, вы ни в чем не виноваты, — начали успокаивать его. Кто-то достал из кармана бутылку. Прорабу налили стакан, заставили выпить.
— А если завтра милиция не поможет, мы приступом избу возьмем, — зашумели строители, обрадовавшись, что прораб пришел в себя.
— Он мне деньги предлагал, а я не взял, — сказал прораб и вздрогнул. Вздрогнули и замерли строители. Их всех точно током прошило.
Андрей, весь мокрый, с пачками денег в руках, приближался к ним. Бледное лицо исступленно. Воспаленные губы дрожат. Было мучение и страдание во всей его фигуре, но не было злобы. Многих изумили не деньги, которые они видели не раз, а его вид, полный какого-то надрыва. Вода стекала с него ручьями. Обувки на ногах не было, он был бос и полураздет.
— Стой, не подходи, — замахнулся на него пустой бутылкой один из строителей.
Но он не среагировал на этот душераздирающий крик. Как шел, так и продолжал идти.
— Не нужны нам твои деньги, — точно помешанный, закричал прораб. — Уходи…
Он не ожидал увидеть Андрея.
— Всего на недельку, прошу вас, — в отчаянии прошептал Андрей, показывая деньги, мокрые, слипшиеся, разбухшие.
Сжавшись весь, прораб обхватил руками лицо. Кто-то крикнул:
— Сейчас он начнет засовывать нам деньги.
— А-а! — в ужасе завизжало несколько человек.
Как ни кричал прораб и ни звал о помощи, но убежать далеко не смог. Андрей загнал его в один из подъездов дома.
Рано утром сонный прораб был найден под окнами первого этажа с тремя тысячами рублей за пазухой.
Утро было сырыми туманным. Но строителям туман нипочем. Они завели свою технику и приступили к работе. Прораба не было. И Андрей обрадовался этому. Значит, деньги подействовали. С уверенностью он вышел во двор и осмотрелся. Шум и грохот строительный был прежний. Два бездверных трактора тарахтели рядом. Один из трактористов, увидев Андрея, крикнул:
— Эй, друг, подойди на минутку.
Не закрывая калитки, Андрей подошел к нему.
— Ну как, все нормально? — спросил его тот.
Второй тракторист, увидев Андрея, молча кивнул ему.
— Не пойму, о чем ты говоришь, — вздохнул Андрей.
— Как не поймешь, — засмеялся тот. — Из избы тебя, говорю, покудова не вытряхают.
— А за что вытряхать, — ответил Андрей и, заметив в лицах трактористов настороженность, спросил: — А где прораб?
— Его сегодня не будет, он заболел, — произнес тракторист и вздрогнул. Посмотрел в сторону трубоукладчика. Кадык задергался. Грудь сжалась. И от этого его прокопченная роба стала свободной.
— Приехали, — хрипло произнес он и выпустил из рук потухшую сигарету.
— Не люблю я их, — сказал второй тракторист.
Андрей настороженно посмотрел на него. Но тот стыдливо отвел глаза. Взял неизвестно для чего рукавицы и залез в кабину.
— Закурить не найдется? — услышал Андрей за своей спиной.
Обернулся, чтобы ответить, что он не курит. И, обернувшись, понял, что за ним приехали. У калитки стоял милицейский «уазик» и три долговязых милиционера. В грохоте тракторов он не заметил подъехавшей милицейской машины. Тракторист протянул им пачку сигарет. Но они не притронулись к ней. Заезженным взглядом посмотрели на Андрея, словно раздумывая, с чего начать. Один из них, видно, самый старший, сержант, сунув руки в карманы, с обостренной заинтересованностью посмотрел на Андрея и сказал:
— Мы пришли за тобой.
— Зачем? — выдержав его давящий взгляд, спросил Андрей.
— Ничего страшного, — сказал он. — Просто начальник к себе вызывает. Вот бумага.
Андрей, даже не посмотрев на листок-повестку, отстранил от себя сержантову руку.
— Я вас помню, — сломленно произнес он. — Вы тот самый сержант, который за Лешкой приезжали. Только форма тогда у вас была старая, а сейчас новая…
Сержант нахмурился и произнес:
— Собирайся.
Андрей изучающе посмотрел на избу, затем на трактористов и милиционеров. И понял, что он один. Они смотрели на него с превосходством и с каким-то зверушечьим напрягом, готовые в любой момент наброситься, если он окажет сопротивление.
Влажный воздух вокруг был таинствен и нежен. Пахло глиною и отмытою дождем травой. Сквозь грохот и шум доносилось пение птиц. А в том месте, где когда-то был лужок, перламутровой россыпью переливался на солнце туман. Взбаламученно кружась, он серебряной пеной покрывал землю и птиц, летающих над ней.
Сержант взял за руку Андрея.
— Ну, чего стоишь?
Налетевший ветерок распушил волосы на Андреевой голове и не дал слезам выпасть из глаз. По-собачьи заискивающе-хитро смотрели на него трактористы. И с привычной властью на лицах, в ярко начищенных хромовых сапогах нерешительно мялись рядом два ефрейтора.
Андрей рукой поправил ворот рубахи и сказал:
— Товарищ сержант, отпусти меня избу посмотреть.
— А зачем ее смотреть, — засмеялся тот. — Тут и так все ясно.
— На минутку отпусти, — вновь попросил Андрей. — У меня там отцовы фотографии. Да и дверь закрыть надо, а то вдруг кто зайдет.
— Бог с ними, с этими твоими фотографиями, — произнес сержант. — Привезем из милиции тебя, тогда и зайдешь.
— Слово даю, я не убегу. Разрешите, пожалуйста, вы же Лешке, я помню, разрешали.
— Сказано, потом зайдешь, — строго произнес сержант. И повел-Андрея к «уазику».
— Отпусти его… — вдруг сказал один из ефрейторов. — Никуда он от нас не денется.
— Эх ты… — зло выругался сержант. — Не хватало, чтобы он при нас удавился в этой избе.
Он был уверен в себе. Так удачно захваченный Андрей придавал ему силы. Когда чуть отошли от трактористов, он достал наручники.
— Сержант, за что?.. — наконец-то поняв, в чем дело, испуганно закричал Андрей.
— Молчи, тебе говорят, — буркнул он.
— Не имеете права, — и оттолкнув его, Андрей побежал к избе.
Ефрейторы с трактористами кинулись за ним.
— Ни в коем случае не дайте ему забежать в избу, — заорал сержант.
Андрей, легко оттолкнув от себя одного из ефрейторов, попытавшегося его остановить, забежал в избу и, холодея всем телом, упал на пол. Словно восстанавливая в памяти детство, он с какой-то новой, необыкновенной радостью смотрел на родные стены избы, дышал ее по-особому пахучим воздухом, вслушивался в только ему понятные звуки и шорохи.
К удивлению всех, он, не оказав более сопротивления, с какой-то смущенной покорностью разрешил одеть на себя наручники. А когда его вновь вывели к машине, то зазывно мигавший туман над тем местом, где когда-то был лужок, показался ему материнским платком, которым мать укутывала его в непогоду, когда он был маленьким.
— М-а-м-к-а!… — указывая на туман, прошептал он. — Мамка!…
Прибойной волной расстилался над землею платок. Как и в далеком детстве, он пуще прежнего звал и манил Андрея к себе.
РАССТАВАНИЕ
Они не виделись целый год. И он предложил отметить ее день рождения как можно праздничнее. Когда они встретились, он так и сказал:
— Мне кажется, весь город смотрит на нас. Я так ожидал этого дня!
— Ерунда, — равнодушно произнесла она, принимая цветы. — Дата ведь не круглая.
— Пойми, это же твой день рождения, а не что-нибудь, — попытался он возразить и заботливо поправил воротник ее шубы.
— Ну это уж я лучше знаю, — улыбнулась она. Он попытался понять эту так не шедшую ее лицу улыбку, но так и не смог ее разгадать. Было в ней одновременно и что-то простенькое, и в то же время сложное. Затем, став серьезной, она произнесла:
— Вообще-то говоря, времени у меня мало.
Он потер рукой лоб и в растерянности закурил.
— Зайдем на минутку в кафе, — предложил он и добавил: — Я приглядел внизу площади нешумное и всегда открытое.
Она вновь посмотрела на него с улыбкой и сказала:
— Ну хорошо, веди, только ненадолго.
И радость вновь охватила его. И, приободренный ее согласием, он шагал рядом с ней, не чувствуя под ногами луж и размякшего снега.
Снежинки кружились в воздухе, и старинная улочка с церковью в центре казалась ему как никогда сказочной и красивой. Впереди горели огни и шумели машины.
Люди спешили навстречу, неся в руках стиральный порошок и вареную колбасу. Он хотел ей сказать о гражданской войне в Закавказье, о русских беженцах, толпы которых он встретил у Театра Советской Армии, но затем передумал. Не хотелось комкать этими событиями ее день рождения.
— А что в кафе есть? — неожиданно спросила она.
— Коньяк и водка, — ответил он и поспешно добавил: — Но ты не волнуйся, у меня с собой бутылка сухого…
— Ты все тот же, — неловко усмехнулась она, с напряжением всматриваясь в приближающиеся огни станции метро.
— С выпивкой кошмар какой-то, — начал он оправдываться. — Поначалу очередь не хотела меня пропускать. Но я все же прорвался. Говорят, скоро и ее по талонам давать будут, а там, может, грянет и подорожание.
Сказав это, он несколько минут молчал, дожидаясь, что же она скажет ему на это.
У подземного перехода она, поправив на голове свою новую лисью шапку, щурясь от снега, указала рукой вправо и воскликнула:
— Видишь?..
— Да, — произнес он. — Это белые колонны.
— Ну нет, что ты, — засмеялась она. — Это белые талоны, — и добавила: — А ты встречал в своей жизни человека-талона?
— Нет, — тихо ответил он.
— А я видела, и не один раз, — продолжила она и, прикоснувшись рукой к его груди, вновь засмеялась. — Сплошная чепуха какая-то… Надо же присниться такому. Он весь из картона, на спине бумажный мешок, глаза белые, как сахар, а на правой щеке штампик: «Уважаемый товарищ, приглашаю Вас приобрести в торговых точках нашего района школьные тетради…» Вместо волос у него на голове компостерные точки. И такое ощущение, словно он подвешен… А еще он то и дело гулит: «А у вас есть в паспорте прописка?..»
Он рад был тому, что она становилась прежней — веселой и любящей юмор. И он поддержал ее:
— Неужели на самом деле вместо денег будут талоны?
— И не просто талоны, — добавила она, — а на каждом будет волшебное клеймо: что пожелаешь, то и купишь.
— А кто это клеймо будет ставить? — спросил он.
— Дядя Добрый.
— Хорошо бы чемоданчик таких талонов приобрести, — улыбнулся он. — И я бы ходил по Москве как директор, без всяких забот. А то с мыслями о талонах, чего доброго, и умрешь.
— А я и вчера его видела! — вдруг вновь воскликнула она.
— Кого? — спросил он.
— Человека-талона… — засмеялась она. — У него костюм в клеточку… Я думала, что это на самом деле клеточка. А поближе подошла, то оказалось, что это талоны к его телу приклеены. Так сказать, униформа, чтобы его сразу могли узнать. Зато по лужам ему гулять нельзя. Поэтому он и подвешен.
На эскалаторе он нежно взял ее руки в свои и сказал:
— Тогда выходит, что стоит как следует дунуть ветру, и он развалится…
— Ну уж нет, — возразила она строго. — На его груди висит табличка, на которой написано, что он выходит гулять на улицу только в безветренную погоду.
И впервые они весело и звонко засмеялись, как и год назад.
Эскалатор плавно скользил. Впереди и сзади стояли люди, на шапках которых таяли и искрились снежинки. И он, не замечая их и не обращая внимания на шум и объявления диктора, зажмурил от счастья глаза. В груди его приятно пощипывало, и сердце билось, как прежде, влюбленно.
«Слава Богу, она неравнодушна ко мне, — подумал он. — И как хорошо, что шутливый разговор немножко сблизил нас, отстранив в сторону последнее свидание перед разлукой…»
Эскалатор с напряжением вздрагивает и шуршит точно кусок бересты. Он несется все дальше и дальше…
— Ку-ку, — толкнула она его в грудь.
Он открыл глаза.
— Проснись… — и погрозила ему пальчиком. — Смотри не упади.
Они быстро сошли с эскалатора, и он, взяв ее за руку, сказал:
— Извини, я вспомнил нашу последнюю встречу.
Она забавно скривила губки и, прижавшись к нему, снисходительно засмеялась. А затем вдруг посмотрела на него и сказала:
— Как жаль, что в метро не продают билетов. Мне так хотелось бы, чтобы ты сегодня на прощание подарил мне билет.
Шум проходящего поезда на какое-то время все заглушил: и его мысли, и стук его сердца.
Для него этот день был самым что ни на есть праздничным. Ведь первое свидание после разлуки выпало на день ее рождения, а что может быть для влюбленного мужчины прекраснее.
«Подумать только, я вновь вижу ее!»
Вагон раскачивался, то и дело звенел. И, посматривая в темноту окна, она чему-то улыбалась. Взгляд ее был нежный. Он с замиранием следил за ней. Ему так хотелось продлить эти счастливые для него секунды.
— Мне не верится, — сказал он вдруг ей на ухо.
— Что не верится? — спросила она, обведя его взглядом. И тут же ее розовые щеки и острый птичий носик наполнились глубоким мысленным трепетом.
— Что я вновь вижу тебя…
— Эхма, — широко улыбнулась она. — Житья от тебя нету.
И вскоре темнота за окном сменилась ярким электрическим светом. Вагон остановился перед двумя бледно-лиловыми колоннами, точно такими же, какие он видел перед входом в метро.
«Это хорошо, что такое совпадение, — решил он. — Можно надеяться, что прежняя ссора не повторится».
Но, следя за каждым ее движением, он переусердствовал и поэтому как-то неумело пропустил ее вперед и точно так же неумело взял сумку из ее рук.
«Чертовщина какая-то! Что же это я веду себя как остолоп».
И, выпрямив грудь и гордо подняв голову, постарался вновь предстать перед ней сильным, умным и красивым.
Однако, как бы то ни было, разница в возрасте сказывалась. Он был старше ее на девятнадцать лет. И прекрасно понимал, что она пользовалась этим своим превосходством над ним и могла в любой момент отвергнуть его любовь.
— А может, уедем в Переславль-Залесский, — сказал он. — Поохотимся и порыбачим. Постоим у ботика Петра Первого.
По дрогнувшим ее губам он понял, что она недовольна этим его предложением. С замиранием вдохнул он запах ее духов, пьянящий, шаловливый и полный какого-то особенного ожидания.
— Ты же знаешь, я зиму не люблю, — ответила она.
— А я, наоборот, помешан на ней точно малый, — покорно вздохнул он.
Они приближались к кафе. Он не беспокоился насчет мест в нем. Столик был заказан заранее. Правда, не было в кафе музыки, но что поделаешь, если вокруг такие события.
Асфальт был чистым, просторным и почти без луж. Падающие снежинки все так же трогали щеки и губы, садились на рукава пальто, где, соединяясь, походили на белые цветы. Ему захотелось вдруг поговорить с ней по душам, объясниться. Но, как назло, кафе уже было рядом.
На перекрестке была большая колдобина, заполненная водой со снегом.
— Можно, я тебя перенесу? — сказал он.
Она посмотрела ему в глаза и побледнела. Ее взгляд был настороженным. Он встрепенулся. Ощущение было таким, как будто в его руке был наполненный до краев бокал с вином. И вот он держит его теперь, боясь расплескать.
— Сумасшедший, — усмехнулась она и добавила: — Носят дам только на свадьбах, после того как наденут кольцо, — и, вздрогнув и обернувшись, она смело шагнула в воду, даже не придерживаясь за него.
— А помнишь, когда нас один раз у мельницы дождь застал… Дороги были склизкие. И был настоящий потоп. Я нес тебя тогда на руках, и ты все время говорила о реке забвения, называла меня помещиком. И просила, чтобы я купил остров, на котором был бы диковинный замок.
— Давно это было, — вздохнула она и, поглощенная какими-то своими мыслями, добавила: — Тогда ты мне нравился, а теперь в тебе меня что-то не устраивает. А что, не пойму, — и, взглянув на него с грустью, расстегнула ворот шубы. — Ой, мне что-то жарко. Пожалуй, ты прав, лучше не вспоминать.
Снежинки все так же кружились и таяли на ее и его щеках.
— Ты хоть иногда думала обо мне? — спросил он. И лицо его стало каким-то испуганно-мальчишеским. Он понял, что ему не удержать в руке бокал. И, чтобы не мучить себя напряжением, он опрокинул его и вылил вино на снег…
— Угадай?.. — засмеялась и, не дожидаясь от него ответа, легким взмахом руки оттолкнула от себя дуновение слабого, неожиданно возникшего ветерка и добавила: — Не сердись. Я оказалась совсем другая…
Она пренебрежительно усмехнулась. Затем немножко небрежно посмотрела на него и отряхнула заснеженные полы шубы.
— Раньше любила, а сейчас не знаю… — сказала она, превозмогая какую-то тоску.
Он опешил. Вино, которое он вылил на снег, алело, и его уже ни с чем нельзя было спутать. Нет, нет, в его душе не было ни страха, ни стыда. Огромная рана вновь зазияла в ней, и хорохориться ему уже было ни к чему.
На какой-то миг весь мир перед его глазами стал бестелесным и безликим. Даже не было звуков. Снег перестал падать на землю. Он завис в воздухе. Казалось, тронь его, и он зазвенит. Впереди стояла огромная машина без дверей. А может, просто кто-то пытался из нее выйти.
Ему боязно ступать на красноватый снег. Вино ни с чем не спутаешь. Тем более если это вино из бокала его любви…
Был миг, когда захотелось вдруг бросить ее и убежать. Но народу на улице не было ни души. А для этих целей нужна толпа и неразбериха, чтобы потом свалить на то, что потерялся, растерялся или что-то в этом роде.
Все так же подвешены в воздухе снежинки. И впереди вместо кафе какое-то очертание белизны. Пальцы одеревенели, и теперь кажется, что они созданы лишь для того, чтобы цапнуть кого-нибудь по морде. Драка с кем-нибудь тоже могла бы послужить поводом, чтобы покинуть ее. Но улица по-прежнему была пустынна.
В каком-то изумлении она смотрит на него и говорит:
— Ну что же ты стоишь? Открывай дверь…
— Это такая дыра, — пролепетал он, приходя в себя.
За спиной пронеслось несколько машин. Затем к нему подошел маленький мужичок в комбинезоне. С добродушнейшим видом сказал:
— Браток, разреши прикурить.
Он достал зажигалку и прикурил ему.
— Спасибо, — сказал тот и, поправив свой комбинезон, задымив сигареткой, побежал по улице, которая постепенно оживала, становясь суматошной и беспорядочной.
«Все против меня…» — подумал он к своему сожалению, уже всерьез не воспринимая ни ее саму, ни ее день рождения.
Его глаза наполнились слезами. И снежинки вновь запрыгали, закружились в воздухе и стали блуждать и теряться. Щеки его покрылись румянцем. Руки размякли. Она что-то сказала. Он, не слыша ее, тихо улыбнулся.
«Все, все, даже зернышка надежды нет. Одно название…»
Искренность исчезла. И он понял, что теперь начнется игра. Говорить то, что не нравится, и не говорить то, что нравится.
Напрягшись, взялся за дверную ручку.
— Видишь, какая я критикесса, — засмеялась она. — То о талонах говорила, а теперь вот изрекла, что ты разонравился.
— Надо же, до чего дверь туга, — пробормотал он, а про себя подумал: «Нет, я, кажется, все равно ее люблю…»
Они вновь встретились взглядами. Он поразил ее какой-то детской робостью. А она его спокойствием и хладнокровием. Стояла себе как ни в чем не бывало и глазами помаргивала. Точно он и есть тот самый подвешенный человек-талон, сломленный, побежденный и которому навсегда отказано в любви.
Он вытер глаза, и вновь, как и прежде, предоставив себя самому себе, зашел вместе с нею в кафе.
В зале на втором этаже, где заказан был столик и куда они медленно поднимались, было шумно. Грохот аплодисментов перебивался криками. Платья были желтые, синие и зеленые. А на шеях многих мужчин и женщин были красные шарфы. Вспомнив вино, он вздрогнул.
— Как здорово! — сказала она и добавила: — Мне ничего больше и не надо…
Стол в кафе был красный. Скатерть белая. Он заказал ей все, что было в меню. И когда принесли коньяк, быстро его разлил и сказал:
— Открывай ставни и зазывай всех в дом. Сегодня у тебя день рождения. Я поздравляю тебя!
Она поставила цветы в синюю вазу и, взяв стопку, тихо сказала:
— Я очень благодарна тебе, что ты решил меня встряхнуть.
— Да здравствует твой день рождения!
— Да чепуха это все, — засмеялась она. — Дата ведь не круглая.
— Тем лучше, — улыбнулся он.
Они чокнулись стопками. Он поцеловал ее в щечку, и они одновременно выпили.
Тело наполнилось истомой.
Когда они выпили снова, она сказала:
— Учти, я долго сегодня с тобой быть не могу. У меня послезавтра экзамен.
— Какой может быть экзамен, — сказал он. — Ведь у вас сейчас каникулы.
— Для кого каникулы, а для кого нет. Физику я завалила, вот и приходится ее пересдавать.
— А почему ты мне об этом не сказала, когда я тебе звонил?
— Не хотела расстраивать… — вздохнула она.
Надо было чем-то развлечь ее, развеселить. И он уж собрался сочинить историю о том, как он потерял свою записную книжку, в которой был ее телефон. Он был мастер на выдумки и в своих фантазиях мог добиться невероятных успехов.
И вот уже закружилось в его голове. «Книжку мне принес краснолицый толстый господин… Нет, нет, мне принес ее угольщик с длинной бородой, при этом сообщив, что нашел ее в угле, который привезли со станции стройбатовцы… Я сделал объявление в газете, я искал ее на птичьем рынке…»
И, приободрившись немного, он начал с улыбкой:
— Ты представляешь, буквально за неделю до твоего дня рождения я потерял записную книжку, где был твой телефон. Ведь ты прекрасно знаешь, я не могу запоминать номера телефонов.
— Вот видишь, ты какой, — усмехнулась она. — Единственный телефон, и тот не смог запомнить.
— Да, да, вот такой я, — улыбнулся он, а сам подумал: «Как глупо все это!»
Он посмотрел на нее исподлобья, словно решая, продолжить или же нет.
Встряхнув головой, она поправила свои пышные волосы и нервно произнесла:
— Теперь я, кажется, начинаю тебя понимать. Ты честолюбив. Ты любишь только самого себя. В тебе даже нет и крохи добродетели… Иногда я чувствую в тебе что-то очень хищное, нет, это даже не эгоизм, это что-то даже и пострашнее. — Затем она глубоко вздохнула и, тихонько засмеявшись, прошептала: — Не пойму, что это со мной происходит… Почему о тайнах вдруг заговорила? Порочная я, ох порочная!.. А может, от скуки все это душевной или неудовлетворенности… Нет, не пойму я себя. — И вдруг спросила его: — А может, я позабавиться с тобой решила?.. Говорила же я раньше тебе всякую чепуху, и ты не обижался, даже считал, что я, наоборот, умна и у меня хорошие манеры и взгляд на многие проблемы. Я трусиха, но почему-то только не с тобой, то, что я с другими не решаюсь говорить, с тобой говорю. Даже если ты сойдешь с ума, мне все равно будет приятно с тобой говорить… И учти, но это только в качестве шутки, в день рождения нужно говорить о стихах, а не о записных книжках. Извини, что я родила тебе такой комплимент, видно, опять от усталости… Экзамены, сессия, в голове какой-то кавардак. Ощущение такое, словно я перелезаю через забор и должна вот-вот упасть… О боже мой! Какая я дура…
Он замешкался. Все мысли как-то разом спутались в его голове. И ни о какой фантазии теперь не могло быть и речи.
И, словно чувствуя его состояние, она сказала:
— Ты ведь отличнейший стрелок, но почему не попал в цель, я не знаю…
— Нет, нет, я не шучу, — попытался он оправдаться. — Это все было со мной на самом деле. Я потерял твой телефон в больнице…
— Ты лежал в больнице? — удивилась она.
— Да…
— И что с тобой было?
— Да так, сердце прихватило…
— А почему мне не позвонил? — глаза ее расширились, и, вздохнув, она подобрала под себя ноги.
Он сидел нахмурясь и не смотрел на нее. На этот ее вопрос он как-то неестественно улыбнулся, но затем уже без всякого смущения откровенно произнес:
— Но мы же договорились с тобой прервать все связи до твоего дня рождения. Это было твое желание, и я не решился его нарушить.
— А зря, я так ждала, что ты первый позвонишь.
— Прости… — произнес он волнительно. — Я даже не предполагал этого. Оказывается, ты рассуждала намного иначе. Ты была благодушнее, чем я. Мне хотелось исполнить твое желание, а вышло… — И он, окончательно подавленный, сник.
— Мне не за что прощать тебя, — сердито произнесла она и посмотрела на часы. — Я бы позвонила тебе первая, но ты своего телефона мне так и не дал… Поэтому сейчас мне кажется, что, если бы ты потерял записную книжку с моим телефоном, я не особо бы переживала… Может, я и нехорошо сейчас говорю, но разговор у нас с тобой все же получается. Мы обязаны говорить друг другу правду.
После этих слов она как-то вся засуетилась. Ладонями прикрыла глаза. Затем опустила руки и прошептала:
— Наверное, я что-то не так сказала?..
— Нет, нет… — успокоил он ее. — Ты все сказала правильно.
Он был раздражен на себя. Он понял, что его фантазии и всякие выдумки ей больше никогда не потребуются. Мало того, они могут навредить и привести к ссоре.
Она с сочувствием посмотрела на него. И он точно так же посмотрел на нее.
— Не сердись… — произнесла она ласково.
— Наоборот, это ты меня извини…
— Давай помолчим.
— Давай… — и он в задумчивости посмотрел в окно.
За окном кафе мелькали огоньки. Это, наверное, по улицам все так же неслись автомобили.
Она разрезала на две половинки яблоко и, взяв одну из них, протянула ему.
— Не горюй, — сказала она и добавила: — Так нежно мне никогда не бывало…
По-детски невинно, но все же выдавая озабоченность, он взял половинку и, надкусив ее и налив себе полную стопку коньяку, тут же осушил ее.
— Извини, — поперхнувшись, произнес он. — Я всю ночь плохо спал. В ожидании рассвета позабыл обо всем на свете… — Затем, взглянув на опорожненную стопку, добавил: — Я, наверное, становлюсь пьяницей…
— Тебе не идет эта роль, — засмеялась она. — Просто из-за девятнадцати лет ты сошел с ума. Ты и раньше стеснялся меня, а сейчас тем более. Вместо того чтобы взять меня в жены, постоянно боялся, как бы нас кто-нибудь не увидел на улице. Прости, что я трезво с тобой говорю…
Она была прежней, стройной и легкой, влюбленной без памяти в кого-то другого, но только теперь уже не в него.
— Ты чем-то похож на того человека-талона, которого я часто вижу во сне. Словно он, а точнее, ты сейчас переселился сюда в кафе и подрядился меня постоянно отоваривать… А в остальном ты все тот же прежний, без перемен… — И, достав из сумочки сигаретку, с нежностью прикурила и внимательно посмотрела на него широко раскрытыми глазами. — Ну что, попался на удочку? — и ухмыльнулась. — Эх ты, да разве сахар и мыло это товар?..
Ей было весело. Уж чего, чего, а поострить она любила, только вот непонятно, отчего она острила — то ли от радости то ли от тоски.
Он не мог рассчитывать на чудо. И ни о какой ответной взаимности даже не могло быть и речи. Немного опьянев и от этого потеряв некоторую четкость в движениях, он натянуто улыбнулся и с такой вдруг настойчивостью посмотрел на нее, что она замерла.
— Попривыкла ты, значит, к иному, — прошептал он испуганно и, растерянно оглянувшись, так вдруг посмотрел на все вокруг, словно заблудился и не знал, где находится. Затем, помолчав, добавил: — А девятнадцать лет здесь ни при чем. Просто дверь закрыта… Я ведь сразу это заметил, когда при встрече ты вместо правой подала левую руку… И талоны здесь ни при чем… Да, я во многом похож на твоего человека-талона. Да, я на своем горбу познал тяжелый труд стояния в очередях. Чтобы создать новую семью, мне надо было все заново приобрести. Эти высокие черные ботинки я тоже купил на талоны… Знаю, они тебе не понравятся, вид у них допотопный, солдатский, а точнее, зэковский. И пусть я не красив в них, но мне удобно… Я не важная птица, поэтому и пользуюсь талонами. Даже близоруким стал из-за этих талонов. Однако, извини, к пустым душам я не отношусь. И медную табличку на меня вешать не надо. Да, я бродяга, я подлец, я сумасшедший — человек, рожденный тем самым дождливым вечером, когда я познакомился с тобой.
— Что за бред ты несешь? — вспыхнула она и испуганно отломила кусочек хлеба. — Ты вогнал меня в краску… Насчет человека-талона я пошутила, как помнишь, я раньше шутила насчет человека-этикетки. И возраст мой здесь ни при чем. Я не какая-нибудь воровка… Я старалась дать тебе счастье, а ты постоянно издевался надо мною. Каково мне? А, каково? Забыть меня на год, даже не предложив обвенчаться. У тебя на уме лишь только бытовые глупости. Мы могли жить в шалаше, сняли бы на крайний случай квартиру или уехали бы на Север. Я надеялась, что ты вот-вот сделаешь мне предложение, но ты не сделал его… Вот поэтому за все то время, что мы не встречались, стал ты для меня прохожим, ничего не значащим, как и все чужие в этом миру. — Закончив все это на уверенной интонации, она как-то легко и просто добавила: — Счастливый ты человек. У тебя прожита жизнь, а у меня еще впереди…
Он хотел вскипеть, накричать на нее, обозвать дурой. И даже обвинить ее в том, что она, вместо того чтобы по-настоящему полюбить его, всего-навсего подурачила его — очередного временного глупышку обожателя. Поверив ей как наивный мальчонка и без памяти влюбившись в нее, он проиграл битву.
— Почему ты молчишь? — спросила она нервно.
И глаза ее, до этого какие-то загадочные, стали вдруг злыми. Она прикоснулась салфеткой к губам, затем, положив ее на стол, обхватила руками голову.
«Зачем притащился я сюда? Зачем и ее сюда притащил?» — подумал он. И от этих никчемных и в данный момент ничего не значащих мыслей ему стало еще более не по себе.
Новые колечки на ее пальцах заблестели. Но и они его теперь не интересовали.
«Надо же, сам себе устроил посмешище, — подумал он. — Такое ощущение, словно я продавец и занимаюсь распродажей забытых вещей… А может, я продаю самого себя?..»
На какой-то миг его даже охватила злость. Захотелось вдруг громко, на весь зал предложить ей, чтобы она сняла чулки — и это, по его мнению, есть одно из лучших народных средств, чтобы успокоиться и прийти в себя. Но затем передумал.
Все с той же завидной невозмутимостью она продолжала смотреть на него.
— Ты пойдешь со мной?.. — спросила она. — Мне пора.
Подозвав официантку, он расплатился.
За окном кафе хотя изредка, но все так же то замирали, то вновь появлялись огоньки. Он посетовал на то, что так и не смог ей купить приличных духов.
Нервы сдавали, и, чтобы хоть как-то выправить положение, он в гардеробе, подавая ей шубу, тихо сказал:
— Извини, что-то странное происходит со мной… — и добавил: — Я думаю, все пройдет.
Оценив его великодушие, она, прищурив глаза, засмеялась:
— Надеюсь, ты не откажешься быть моим другом… Ты будешь звонить мне по вечерам и говорить спокойной ночи…
Он посмотрел на нее с жалостью. Красноречие его мигом куда-то исчезло. Он вдруг потерял все: и самообладание, и силу, и красоту. Понял, что любит ее пуще прежнего. Не поднимая глаз, вежливо, как в первый день знакомства, спросил ее:
— Мы увидимся с тобой еще раз?
— Все зависит от тебя, — улыбнулась она.
Лисья шапка в сумеречном свете очень шла ей. И руки ее были сказочно привлекательны. А губы манили к себе, как и прежде. Она прежняя, неповторимая и красивая стоит перед ним. Ему захотелось прямо здесь ее и обнять. Но она отстранила его.
— Я спешу… До свидания…
— Я провожу тебя… — испуганно вздрогнул он.
Музыка в кафе смолкла.
Она быстро поднималась по лестнице к выходу.
«Что это ей взбрело в голову?» — подумал он в растерянности и, несколько секунд постояв, пришлось пропустить перед собой ватагу опьяневших молодых офицеров, спешащих в гардероб, торопливо пошагал вслед за ней.
Выйдя на улицу, замер. Ее нигде не было. Он начал звать ее. Но никто не отзывался. Он начал останавливать одиноких прохожих и спрашивать их, не видели ли они случайно молодой женщины в искусственной шубе и новой лисьей шапке. Те, сочувствуя ему, отвечали «нет».
Наконец после двухчасовых поисков он вновь подошел к кафе и, не заходя в него, сел рядом с входом на снег.
Он вертел в руках шапку, смотрел на снег, на выходящих из кафе людей и шептал одну и ту же фразу:
— Как жаль, что я не смог с ней по-настоящему объясниться…
Смеркалось. И все так же шел снег. Только под ногами теперь были не лужи, а настоящий лед.
КОГДА ДРУГ УЕЗЖАЕТ
В пятницу Миша улетал в Читу. Не дожидаясь своих книг, он развозил стихи по стране. Он читал их с горячечным русским азартом, собирая толпы народа, он пел их в походах, вагонах, в солдатских блиндажах, он тайно шептал их другу, а если не было никого, он мысленно повторял их, и цельный слог освежал и бодрил его, вел за собой.
Билет был у него в кармане. И, встретившись с ним во вторник, я решил заранее проводить его. Миновав две улочки, пролегающие параллельно его дому, мы вышли на жаркий проспект. Толчея на нем была неимоверная. В основном люд был приезжим, из соседних областей. И почти всем нужна была школьная форма для ребенка, колбаса, конфеты в коробках, кофе, колготки, тетради, чай, самоклеящиеся обои, резина для авто и прочий дефицит. Люди точно помешанные, то и дело глазея на витрины и вывески, страшно неорганизованно кружились.
— Пожар не пожар… — вздохнул, глядя на все это, Мишка и, вытирая пот со лба, добавил: — Кошмар какой-то, не знаю, как тебе, но мне стыдно. Так можно всю жизнь проискать продукты и где-нибудь в поезде умереть, уткнув лицо в узелок с продуктами.
Он был чувствительный малый, на два года моложе меня. Высокий, лицом и фигурой всегда стремящийся вперед, он поражал всех настойчивостью. Он не любил лгать. Он не любил людей, в душе которых был мрак. Честность и правда были его идеалами.
— Мать честная!.. — воскликнул вдруг он. — Ты посмотри, опять Арон перегородил людской поток… — и ухватил меня за руку. — Айда к нему, сфотографируемся.
Посмотрев в ту сторону, куда он указал, я улыбнулся. Высокий бородатый парень со смоляными кучерявыми волосами, увешанный тремя фотоаппаратами производства «Япан», стоял у огромного автомобиля-броневика фирмы «Фиат» дореволюционного образца и предлагал иногородцам сфотографироваться на цветное фото фирмы «Кодак».
— Две фотки — червонец, на фоне железного коня… — кричала в мегафон его худенькая напарница в желтых шортах, сидящая на крохотном стульчике у стенда с фотообразцами. — Мало того, скорость гарантирована, через час фотографии будут у вас…
— О’кэй, то что надо… — сказал Миша.
И вот мы уже сидим на дощатом сиденье автомобиля-броневика, выкрашенного в красный цвет. Но не успели прижаться друг к другу, состряпав при этом улыбочку на лице, как сиденье под нами с неимоверным грохотом рухнуло, а затем рухнул и пол броневика, и мы в груде щепок и жестянок оказались сидящими на асфальте. Автомобиль-броневик был сделан не из железа, а из толстой грубой фанеры и листовой жести. Весь этот материал соединялся между собой тоненькими шурупами, внешне похожими на заклепки. Миша взорвался, подбежал к Арону и как закричит:
— Ты за что это меня опять дуришь? Дури приезжих, а меня не надо.
Фотограф начал извиняться и объяснять, что Миша коленом зацепил у руля какую-то потайную кнопку, предназначенную только для кинематографистов, вот автомобиль и рассыпался.
— Да чхал я на твои дрова… — закричал на него Миша. — Я чуть голову не расшиб, из-за твоего проклятого боевика броневика я мог вместо Читы в больницу попасть.
Народ мигом столпился вокруг нас. Почти все с улыбкой смотрели на рассыпавшийся автомобиль и на наши испуганные лица. Всем вдруг захотелось сфотографироваться, и за нашей спиной начала образовываться очередь. Неизвестно откуда прибежали два худеньких мальца, ловко орудуя отвертками, начали вновь собирать броневик.
— Ну и фирма… — продолжал орать на фотографа Миша. — За такую фирму не только по зубам, но и по ногам делают, чтобы шлендрать по проспекту не могли…
На подмогу к Арону прибежала девушка с мегафоном. Миша, остужая носовым платочком ссадину на лбу, заорал и на нее:
— Я твой мегафон на крышу дома кину, если будешь выступать. Поняла?!.. Прежде чем товар объявлять, надо, было по-людски все сделать, а вы…
— Вы хулиганите, я милицию вызову… — завизжала девушка.
А Миша в ответ:
— Зови хоть кэгэбэ… Но учти, если раздуешь метель, сама же пострадаешь. За такое фотографирование вам милиция первая же в рыло заедет.
От такой неожиданной атаки нервы у фотографа сдали и он, подойдя к Мише, тихо сказал:
— Разрешите я вас бесплатно сфотографирую…
— Вот это другой разговор… — обрадовался Миша и крикнул: — Расступись, народ…
Люди расступились. И Арон сфотографировал нас на фоне «вставной челюсти» — трех самых высоких домов. Так захотел Миша, ибо к броневику он не то что садиться, подходить боялся.
— Славный парень!.. — после фотографирования похлопал он фотографа. И вдруг спросил его: — Слушай, а не поехать ли тебе, малый, со мной в Читу.
— Не могу… — улыбнулся тот. — У меня план…
— Эх, тяжко мне с тобой… — вздохнул Мишка, и, когда мы чуть отошли от него, он вдруг, обернувшись, крикнул ему: — Смотри, не надорвись. Броневик…
Однако расстроенность и возбужденность его вскоре исчезли. Он выровнялся. И лишь перед самым входом в кафе не сдержался и сказал:
— В Чите я буду как вол вкалывать, а тут палец покажи и люди деньги без всяких отдадут. Один щелчок затвора, и вот готов тебе червонец. Вот как надо устраиваться… А ты.
Я, промолчав, ничего не сказал.
До открытия кафе оставалось пятнадцать минут, этого было достаточно, чтобы мы привели себя в порядок. Швейцар, худенький, остроносый малый, был строг, он не пустил нас даже, когда часы показали без пяти шесть.
— Выпить что есть? — спросил его Миша.
— Только шампанское и коньяк… — грустно ответил он.
— Да я не об этом… — усмехнулся Миша. — Я о соках.
Швейцар, достав сигаретку, хмыкнул:
— Этой воды у нас море, весь проспект можно утопить… — и засмеялся удачному своему сравнению. А затем, вдруг кинув выжидательный взгляд на часы, торопливо поправил на вороте дешевенький галстук-бабочку.
Народу в кафе было мало. Многие, забегая с проспекта в стекляшку-предбанник, как бы на ходу спрашивали:
— Сухенькое, водочка есть?..
И, узнав, что, кроме шампанского и коньяка, ничего нет, тут же исчезали. В эти последние минуты ожидания мы бесплодно, просто так смотрели сквозь толстенное витринное стекло на шумящий проспект. Люди все так же куда-то спешили, толкаясь друг с другом, по-бывалому держа в руках сумки с покупками и дотошно, по нескольку раз кряду прозыркивая магазинные витрины, одновременно на ходу примечая, что в руках несет встречный. Измотанные их лица были грустны, запавшие глаза осиротело блестели. Люди не замечали людей. Их интересовали только вещи.
— Вот бы их всех пригласить в кафе… — сказал Миша. — Да жаль, не поместятся…
Швейцар, видимо, услыхал его слова, поэтому тут же сказал:
— За них не беспокойся, они все помещаются. С восьми утра и до пяти вечера наше кафе и три соседних работают как столовая. Так что все наедаются…
— И почем кормежка? — спросил Миша.
— Обеды комплексные, по три рубля… — и швейцар, посмотрев на часы, открыл входную дверь. — Они все из тарелок выедают. А некоторые по два раза забегают. Очереди длинные, попробуй на жаре постой.
Миша молча кивнул. Мы зашли в открытую швейцаром дверь и быстренько поднялись на второй этаж, где находились залы. Нам требовалось два места. Но их дали не сразу. Все столики в кафе рассчитаны на четверых, а чтобы за стол село только двое, как нам хотелось, официантам невыгодно. Наконец нам выделили в глухом конце зала кривоватый столик, за которым старушка резала до этого салфетки, и пообещали, что мы сидеть будем за ним только вдвоем. Нам хотелось поговорить друг с другом, излить душу, я оставался в городе, а Миша уезжал на три месяца. Место оказалось удачным. Отсюда был виден весь зал и особенно вход. Какой-то бородатый мужчина уговаривал метрдотеля провести с собой молоденькую девочку, не достигшую шестнадцати лет. Наконец, с начальственной строгостью показав ей какое-то красное удостоверение-корочку, чем-то убедил ее и провел девочку. Они сели рядышком за столик и с жадностью закурили, дожидаясь, когда подойдет официант.
В зале было прохладно. На пустой сцене, где когда-то раньше располагался ансамбль, в центре стояли две огромные колонки, а по бокам установки светомузыки. Из колонок доносился тихий, еле слышимый рок, и светомузыка поочередно вспыхивала цветами радуги, хотя иногда она почему-то отдавала предпочтение синему цвету.
— Отличное кафе… — сказал Миша и, посмотрев меню, одобрительно мотнул головой. — Не зря называется «Северное сияние».
К нам подошел толстяк официант, на вид очень добрый. Поздоровавшись, спросил:
— Что пожелаете?..
— Два напитка, две рыбы… — сказал Миша и добавил: — Ну и еще чего-нибудь перекусить, короче, шеф, на твое усмотрение… Но, учти, сок принести в первую очередь.
— Есть… — удовлетворенно произнес тот и исчез. Минут через пять он принес нам два графина розового напитка, а затем на тележке прикатил и все остальное. Чтобы он больше нас не тревожил, мы тут же с ним расплатились. Напиток был вкусным. Он остужал наши тела.
Постепенно народ стал заполнять кафе, и лишние места отыскивались с трудом. Словно обрадовавшись заказам, загремел, зашумел погромче рок. Сидящие недалеко от нас две стройные девушки вышли из-за стола и пошли танцевать. Их коротенькие модные юбочки, сшитые из тонкой ткани в форме лепестков, и кофточки покроя нераспустившегося бутона просвечивали. Миша посмотрел на них и сказал:
— Общественное место, а они без нижнего белья… — и в волнении осушил бокал.
Стройность и грациозность девушек впечатляли. Модная одежда их привлекала. Ярко-желтая ткань юбок непонятно какого сорта как бы разбрызгивала вибрирующие блестки, и от этого просвечивающие бедра казались намного стройнее. При поворотах кофточки, тоже желтого цвета, обнажали спину, как на купальном костюме. Умело сшитые юбки и кофточки естественно и красиво обрисовывали контуры женских тел создавая приятную для мужского глаза ауру чувственности. Мало того, девушки понимали рок. Сразу же с азартом войдя в танец, они заплясали лихо и смело. Руки «стреляли воздух», то есть неожиданно и стремительно выбрасывались вперед, ноги делали ножницы, голова заторможенно пружинила, создавая движения замедленного маятника. Минут пять они входили в азарт, но затем, когда ритм усилился и в динамике в определенной заданности начали звучать барабан, саксофон и клавишные, девушки вдруг дико завизжали на все кафе: «Кантри-флай… кантри-флай!..» — и зафинтили так ногами, что у меня зарябило в глазах. Миша в прежнем волнении стер с губ слюну:
— Надо же, как девочки лихо давленьице сбрасывают… Фол-рок забильбашили! Заголились… пикировку животом начали… — и Миша, не сдержавшись, крикнул им: — Харда бэст лай клозет!..
— Лай, лай клозет!.. — завизжали девушки, признав его за своего.
И Мишка весело и лихо начал плясать вместе с ними, шумно сотрясая под собою декоративные, прикрытые линолеумом доски.
— Лай, лай клозет!.. — кричали в восторге девушки, закатывая глаза и страшно обрадованно бильбаша все вокруг себя.
Я знал, что обозначает слово «клозет», а вот «лай клозет» слышал впервые.
Наконец минут через двадцать они отбильбашились, то есть устали. Мишка, страшно вспотевший, подсел к ним и, переводя дух, спросил:
— Вы небось здешние?..
— Да… — улыбнулись они. — Только мы не в отпуске, а в университет приехали поступать, на факультет прикладной социологии, третий год прорываемся, и все никак…
— Да, трудноватый объект выбрали… — посочувствовал Мишка. — Я бы на вашем месте в историко-архивный или товаро-молочный рванул, там всегда добро.
Девушки, отпив из бокалов шампанского, а на столе было только оно, переглянулись, а затем, улыбнувшись, разоткровенничались:
— А мы в университет из Орла приезжаем не поступать, а отдыхать. В гостинице мест нет, а здесь всегда общагу дают и хорошо, и дешево. Документики для вида сдадим, первый экзамен на троечку свалим и живем себе под видом потерявших баллы с надеждой на вечернее поступить… Отпуск нам на работе на это дело всегда оплачивают… Так что отдыхать можно…
— А вдруг засекут?.. — в какой-то растерянности спросил Мишка, видно, он не ожидал такого.
— Не засекут… — спокойно произнесли девушки. — Мы в этом году, чтобы не «засветиться», последний раз в университет поступаем. На следующий год в другую фирму метнемся.
— А на работе разрешат каждый год уезжать?.. — не отступал Мишка. — Скажут, что же вы ездить ездите, а поступать не поступаете…
После шампанского девушки не в пример Мише закурили. Он им понравился чем-то, и они разговаривали с ним как со своим.
— А мы этой осенью уйдем на другую работу, туда, где нас не знают… — И, переглянувшись, засмеялись весело и звонко.
Миша как-то вдрызг растерялся. Орловские девушки, провинция, можно сказать, а в жизни ориентируются получше столичных дам. В горле у него пересохло. Надо было идти к своему столику, где его дожидался сок, но он почему-то медлил. Черненькая девушка с огромными штопорными клипсами под серебро понравилась ему. Миша был родом из народа, поэтому, переменив пластинку, спросил вдруг по-народному:
— Как у вас на Орловщине с продуктами?..
— Шаром покати… — грустно ответили они.
— Небось на работе заказы дают? — спросил он.
— Какие заказы… — усмехнулись они. — Мы девочки колесные, геологоразведкой занимаемся…
— Полевая кухня… — приободрился Мишка, ожидая, что вот-вот получится юмор и он развеселится вместе с ними.
— Ага, полевая кухня… — огрызнулись они. — Половина деревень неперспективных, во многих домах окна и двери заколочены, молодежи почти нет, а стариков раз-два и обчелся. Наверное, поэтому и в магазинах пусто, завоза нет…
— И чем же вы питаетесь? — не понял их он.
— Что бог даст… — вновь повеселели девушки — Колхозную картошку, ту, что посадили, с полей выкапываем и едим. А новая появится, новую точно так же с полей выкапываем. Плюс в пакетные супы зелени всякой натолкаем, вот так вот и живем…
— Жиденько… — вздохнул Мишка. Он надеялся, что выйдет шутка, а получилась грусть. «Когда же кончится эта жизнь?..» — подумал он и, как ни пытался морщить лоб, ответа на вопрос не смог найти.
— Ничего страшного… — пролепетали девушки. — Это даже лучше, когда еда бедная. Денег больше копится… У нас некоторые бабы по два раза на юг загорать ездят.
— Неужели своих мужиков у вас нет?.. — спросил Мишка и, чтобы выкарабкаться из грусти, подбросил девчонкам комплимент: — Вы такие девахи! Шик-модерн… За одну пляску в вас втюришься… Поймите правильно, говорю все это без трепа…
— Мужики у нас редкость… — и глазки у девушек приятно засияли.
Черненькая вновь понравилась Мише, и он томно вздохнул.
— Городские все нарасхват, а те, что в геологоразведке, женаты, работают вместе с бабами. Редко холостят, когда подвернется… — и черненькая, внимательно посмотрев на меня, спросила Мишку: — А что это твой друг один сидит, зови его сюда…
— Я в Читу улетаю, а он меня провожает… — объяснил Миша.
— А-а… — улыбнулась она и, приятно состроив мне глазки, с нежной обворожительностью пригубила шампанское. Чуть напряженные губы ее заблестели, затянувшись дымком, она поджала ноги и что-то шепнула на ухо своей подруге. После чего та таким обожгла меня взглядом, что небывалая дрожь пробежала по моей коже, и вместо бокала с напитком я сунул в рот вилку. Это, видимо, ее аура чувственности подействовала на меня. Миша, приподняв руку, хотел уже было подозвать меня к столику, и тогда близкое знакомство было бы неминуемым…
Но тут вдруг на все кафе вновь заиграл рок. Но не это помешало выйти мне из-за стола. Наш толстяк официант, неизвестно откуда появившийся, тактично отозвал Мишу от девушек и, подведя его ко мне, уважительно, словно он был наш старый друг, сказал:
— Насчет девочек не беспокойтесь, не подзалетите. Мало того, у них «спиральки»… А «хату» я вам за четвертак гарантирую. Деньги на бочку и вперед…
— Разберемся… — соглашающе кивнул ему Миша и, для начала сунув червонец, попросил, чтобы он принес девушкам шампанского.
Миша показался мне уже больно каким-то растерянным, раньше, когда он куда-нибудь далеко уезжал, он не был таким. Веселость была основной чертой его характера. А тут он вдруг как-то быстро сник.
— Что с тобой?.. — спросил я его.
— Кантри-флай!.. — прокричали девушки Мише. Он кивнул им, сделав радостное при этом лицо. Затем взглянул на часы и сказал: — Ты посиди покудова здесь, а я к Арону схожу за фотками, он их, наверное, уже сделал…
Девушки не выпускали его из поля зрения, и, чтобы они не волновались, Мишка открыл шампанское и, подойдя к сцене, угостил их прямо в танце. Они выпили с жадностью полные фужеры, а то, что осталось в бутылке, Мишка поставил на их стол, предупредительно крикнув:
— Девочки, вы танцуйте, а я за фотками схожу и вернусь, — и торопливо побежал к выходу.
Толстяк официант подошел ко мне и поинтересовался, кто мы и откуда. Он думал, что мы приехали с Севера. Но я объяснил, что мы местные, просто Миша поэт и едет читать стихи в Читу. Узнав все это, официант ко мне больше не подходил. Затем чуть попозже он подошел к столу, взял недопитую бутылку шампанского и, что-то сказав танцующим девушкам, повел их знакомить с двумя пожилыми мужчинами. Девушки вежливо поздоровались с ними и ушли, даже не посмотрев в мою сторону.
— Где они?.. — кинулся Миша ко мне, положив на стол две цветные фотки. Я объяснил, как все было. — Ну и гад… — выругался он на официанта. — Они же девки простые, они картошку с колхозных полей, чтобы с голоду не умереть, руками копают. А он ими торгует. Мразь, я сейчас убью его…
Я кинулся его успокаивать.
— Понимаешь ли ты… — чуть не плача, начал он. — Мне жалко их… Их надо спасать, а он их в яму толкает. Мало того, сегодня вечером он за «хату» и с них деньги будет изымать… — увидев вышедшего из кухни толстяка официанта, он кинулся к нему. — Где они? Сейчас же верни их. Иначе я тебя отфарширую… Ты у меня как пес залаешь. Хочешь, я тебе за это дело… прямо сейчас же здесь по роже дам.
Толстяк, покраснев, замешкался, виновато заморгал глазами. А затем, покосившись на метрдотеля, сказал:
— Делайте со мной что хотите, но я не виноват. Этих двоих пожилых я не знаю. Они приехали на машине, попросили девок. Вот я и позвал…
— А «хата» чья? — заорал на все кафе Мишка.
— Насчет «хаты» они со мной не договаривались. Это их трудности… — пробурчал он. Миша чувствовал, что официант что-то недоговаривает, но пытать его было бесполезно. Девушки ушли, а точнее, их ушли, и прошлое не вернешь.
— Да не волнуйся ты… — словно жалеючи его, произнес официант. — Завтра в это же время они опять припаркуются… Они в нашем кафе загвоздились.
— Да пойми, я не об этом… — сказал тихо Мишка, немного успокоясь. — Допустим, если бы твоя дочь вот так бы… Ты бы небось ей волосы вырвал. Короче, гад ты… без всякого стыда девками торгуешь…
Официант хотел увильнуть. Но Миша грубо остановил его.
— Бутылку шампанского верни на стол, и чтобы больше я тебя возле нашего столика не видел…
Буквально через несколько секунд официант вернул нам бутылку. Миша постарался не обратить на это внимания. Он смотрел на фотографии, которые сделал Арон, и качал головой.
— Когда слово не побеждает, побеждает кулак… — сказал он вдруг и что есть мочи грохнул кулаком об стол. — А еще себя фотохудожником называет, вместо «вставной челюсти» на фоне мешочников сфотографировал. А это что за нога — отрезанный ломоть… Видно, он не фотарь, а какая-то нечисть… — и, вздохнув, добавил: — Кто-то же там, наверху, за такие деньги разрешает ему народ хомутать. Без протекции он бы на этот проспект не выбежал.
Я в удивлении стал рассматривать фотографии. В кадр попало все, кроме «вставной челюсти», специально заказанной Мишей. За нашей спиной с сумками и узлами стояли притомленные очередники-иногородцы, собиравшиеся, видимо, сразу же после нас запечатлеться на цветном фото. Среди них больше всего выделялся какой-то великовозрастный южанин с картузом-аэродромом на кучерявой голове и в желтой фирменной майке, на левом плече у него лежало три пары белых женских сапог, как следует стянутых офицерским ремнем. Нижняя челюсть его была одутловатой, кроме этого, она так сильно удлиняла его лицо, что без всякого труда доставала груди. «Может, это и есть вставная челюсть?.. — подумал я. — Видимо, фотограф, неправильно поняв нас, произвел фотографирование на фоне южанина…»
Я поделился этой мыслью с Мишей, но он разозлился пуще прежнего:
— Деньги сдирать он знает как. А сфотографировать человека так, чтобы ему понравилось, не знает как. Я просил его. Я рукой указал на три высотных здания, дав тем самым понять, что именно на их фоне он должен нас клацнуть. А он даже небо в кадр не взял, не говоря уже о деревьях. Кругом асфальт и море человеческих рож… Знал бы, что он нас так сфотографирует, я бы ни в жизнь не пошел бы за фотографиями. Из-за него я, можно сказать, и девах упустил. Жаль их мне… Ох как жаль.
Мишка был прав. Фотографии были не из лучших. В правую часть кадра влезли две пары чьих-то ног, упиравшихся коленями в асфальт, видимо, это были ноги пришельцев-мастеров, торопливо собирающих броневик-автомобиль. Хотя мы с Мишей и попали в центр фотографии, но выглядели мы не представителями интеллигенции, а представителями аборигенов, в крайнем случае, пропагандистами асфальтового покрытия улиц, уж чего-чего, а асфальта на фотографии было предостаточно.
— А ты что же… — сделал я замечание Мишке, — когда брал товар, не видел, что берешь?
Он обеспокоенно приподнял глаза.
— Да как-то все мельком… — с обидой произнес он. — На бегу, можно сказать, сунул он их мне. Да и обратно я спешил, думал, вы тут меня заждались…
И, взяв в руки одну из фотографий, вдруг притих. Нет трагичнее минут, когда обижают поэта. Эти люди душой всегда открыты. И если камни по ним начинают кидать, становится очень горько.
— Как бы не сорвался я… — глотнув соку, произнес он. — А то и до Читы не доеду. Захолону душой, опущусь и тогда народу слова доброго не смогу сказать… — И, в беспокойстве отодвинув фотографии, опустил взгляд.
Грузно и понуро провисли его плечи. Волосы на голове взъерошились. Словно молитву какую-то шепча, он шевелил губами, смотря в отчаянной скорби на пол.
Уместно ли было его тревожить в эти минуты, я не знал. Ведь он все же как-никак был хозяин положения. Он уезжал, а я его провожал.
К нашему столику подошел лысенький, весь какой-то чистенький, в белых брюках и кожаной курточке, самоуверенный и чувствующий полнейшее превосходство над всеми метрдотель. Опершись руками о стол, он посмотрел поочередно на нас и спросил:
— Ребята, вы еще долго будете здесь сидеть?
Миша, подняв голову, насмешливо посмотрел на него. Я испугался, что он начнет ругать метрдотеля за низкую обслугу, а затем в силу своей прямоты и откровенности рубанет и про девочек.
— Миш… — остепеняюще шепнул я ему и взял его за руку.
— Я знаю… — тихо ответил он и отдернул руку. — Я все прекрасно знаю…
Метрдотель стоял в позе быка и дожидался ответа. И тогда Миша, не выдержав, ответил:
— Никто не знает, сколько мы здесь еще будем, ни ты, ни я. Наскучит — уйдем, не наскучит — останемся… Розовую воду и прочее мы пьем не бесплатно. Счет оплачен заранее.
— Это я прекрасно знаю… — произнес метрдотель и добавил: — Я просто беспокоюсь о людях, которые стоят у входа и у которых нет мест… — метрдотель нервно дернулся. — А вы сидите и дурака валяете, и неизвестно, сколько его вы еще валять будете. Сделали заказ на двадцатку и думаете сидеть до закрытия. У нас план… Мы боремся за звание образцовой обслуги. А вы, вместо того чтобы посочувствовать…
— Извините… — встав из-за стола, произнес ему грозно Мишка. — Но я не отвечаю за себя, и никто не может ответить за себя. А во-вторых, я еще раз говорю: мы оплатили свой счет.
Метрдотель, еще сильнее дернувшись, зло грызнул воздух, а потом вдруг на повышенном тоне произнес:
— Вы так обидели официанта, что он боится к вам подходить…
Эта фраза почему-то доставила Мише наслаждение. Он развязно улыбнулся. И, уже не обращая внимания на гудящее как муравейник кафе, а ведь всех людей, сидящих за столиками, можно условно было назвать свидетелями, крикнул:
— Ну-ка пшел отсюда вон… — а потом еще громче на весь зал: — С тобой все ясно… вы вместе с ним торгуете бабами. Ну что, быстро я вас разупаковал. Короче, разговор окончен. Жалобную книгу на стол быстро. Одна нога здесь, другая там…
Лицо у метрдотеля исказилось. Толстыми, пухлыми пальцами он сжимал салфетку в руках. Какое-то бессилие и страх появились в его глазах. Не ожидал он, видимо, от Мишки такого напора. Враг дрогнул, сразу понял Мишка. А раз дрогнул, значит, виновен.
— И не смотри на меня бараном и не извивайся… — строго и уже как-то назидательно продолжил он: — Если я сказал, что у вас сегодня головы полетят, значит, полетят. И бояться меня нечего. Это я еще не так, как некоторые. Культурненько с вами обхожусь. А другой бы выволок вас всех в туалет… и рожу бить начал…
Рок в зале шумел. Публика смеялась и плясала.
— Молодой человек, не забывайте, где вы находитесь… — вспыхнул метрдотель. — Вы имели право высказать мне все эти обвинения один на один, но не на глазах общественности.
Трудно сказать, к чему он мог прибегнуть по отношению к Мише, ибо волнение его охватило неимоверное. Была затронута честь его мундира, а заодно он был унижен и оскорблен.
Но Миша был непробиваем.
— Если вы сейчас же не принесете жалобную книгу… — прокричал он, — то я создам в кафе взрывоопасную ситуацию. Все люди, сидящие в зале, узнают, чем вы занимаетесь. Я сделаю из вас утопыша… Я утоплю вас в вашем же грехе. И в итоге получится, что не я вас утопил, а вы сами себя утопили… Вот тогда я посмотрю, как вы будете мне руку лизать.
Миша расходился не на шутку. Метрдотель не ожидал встречи с таким клиентом. Он швырнул салфетку на пол и в отчаянии прошептал:
— Это ваше поведеньице вы как прикажете понимать… Клеветой? Оскорблением? Я вам сказал и еще раз говорю, что вы грубо обошлись с официантом, и поэтому он боится подходить к вам. А теперь с той же самой подлейшей версией вы начинаете наступать и на меня. Вы грозитесь физической расправой надо мной.
— Прекратите орать… — взорвался Мишка. — Мне надоело вас слушать. Я как посетитель вашего кафе требую жалобную книгу. Быстренько и спокойненько принесите ее мне.
У метрдотеля опустились руки. Он не знал, что и сказать. Ощущение было таким, словно его через несколько секунд отдадут под суд. Он побагровел. С какой-то злостью вдруг посмотрел на меня, потом на Мишу. Затем, вытерев потную шею, сказал:
— Гольем решили взять. Нет уж, милахи, не выйдет. Сперва докажите, а потом уже охотьтесь. Жалобная книга не топор, я вам ее принесу… не волнуйтесь… И кричать не надо, слава богу, здесь не базар…
— Ну это вы уж слишком… — рванулся к нему Мишка.
Метрдотель, сжав руки в кулаки, тоже напрягся. Трудно сказать, чем бы вся эта перепалка кончилась. Неожиданно к метрдотелю подбежала двухметрового роста официантка с «выкошенной» залаченной поляной, то есть с коротенькой прической «золотой гребешок», и, в неимоверном страхе вытаращив глаза, прошептала:
— Хасана взяли! Третий столик слева. Двое в футболках обэхээсэсниками оказались…
— Хасана… — в каком-то смущении, все еще не веря официантке, пролепетал метрдотель и вздрогнул.
— Да-да, Хасана… На пятнадцать рублей он их наколол… — торопливо продолжала она: — Весь заказ контрольной закупкой объявили. Хасана из-за стола не выпускают. Акт составляют… Я случайно мимо шла, а они меня подозвали и за вами послали… — Лицо у официантки сиротливо натянулось, достав из белоснежного фартука сигаретку, она сунула ее в губы, но затем, вспомнив, что находится не в том месте, где можно курить, спрятала ее. — Что теперь будет, Владимир Бельбаич, даже не знаю…
Владимир Бельбаич, так, оказывается, звали нашего метрдотеля, закатив глаза, многозначительно клацнул языком. За несколько секунд ему надо было прийти в себя и попытаться найти выход из создавшейся ситуации. Наконец какая-то мыслишка осенила его, он, в удовлетворении передернув плечами, потер руками.
— Кто не рискует, тот не ворует… — хитро подмигнул он официантке и добавил: — Срочно объяви тревогу по всему кораблю. Используйте все связи, короче, бейте в набат. — И, уже не стесняясь нас, ущипнув ее за бок, произнес: — Постараемся вынырнуть. Нет того горя, которому нельзя было подсобить…
Официантка, всхлипнув, вытерла слезы и ушла. А метрдотель, взяв Мишин бокал с недопитым напитком, одним махом осушил его.
— Простите, ребятки! — и поклонился нам. — Я думаю, мы с вами мирно рассчитаемся. В обиде вы не останетесь. Если чем обидел, простите. Я бы еще минуток пять побыл с вами, но не могу. Лед тронулся, человек тонуть начал… Если не выручим, пойдем ко дну…
И, придав лицу солидность, он с необыкновенным спокойствием пошагал к Хасанову столу, где два молоденьких обэхээсэсника со знанием дела составляли акт.
— Ишь как запел… — присев за стол, усмехнулся Мишка. — Так увернулся, что и не прицепишься. Мужик башковитый… — И, налив себе сока, вдруг махнул рукой: — А ну их, этих торгашей, все они на один манер шиты. Совестью не сильны, зато взаимовыручка у них, слава богу, держись… В доску разобьются, а друга выручат. Вишь, словно по тревоге забегали. Сейчас они такой волной на обэхээсэсников попрут. Те и не рады будут, что связались…
Мишка говорил правду. Весь персонал кафе дружно зашевелился. Повара начали что-то говорить посудомойкам, а те в свою очередь официанткам. В белом халате из кухни вышел старик ветеран и, на ходу прикалывая на лацкан пиджака депутатский значок, пошагал к столу, где вязали Хасана.
Разлохматившаяся и возбужденная отрока молодежь неожиданно приутихла. Из динамиков полилась «Рябинушка».
— Это они перестраиваются… — заметил Мишка. — Психологическое, так сказать, воздействие оказывают…
Недалеко от нашего столика на черной тумбочке стояло два телефона. Раньше они почти молчали, а теперь возле них толпились сотрудники и кому-то по очереди звонили.
— А это они ускоряются… — усмехнулся Мишка. — Если не веришь, послушай, о чем они говорят. Могу поспорить с тобой, они свалят этих обэхээсэсников, и Хасан будет спасен…
Усмехнувшись Мише в ответ, я прислушался к телефонным разговорам. Голоса с жадностью менялись, а интонации нарастали.
На спасение Хасана было брошено все… Был предупрежден общепит, главк и какой-то главный метрдотель города, находящийся в подполье, но знающий тысячу секретов и имеющий столько же связей. Калькуляторше по телефону было наказано, чтобы к завтрашнему утру в объяснительной записке она указала, что, вместо того чтобы завысить стоимость мяса, она по ошибке занизила его. Машинистке, печатавшей меню, было рекомендовано с сегодняшнего дня подать на увольнение по состоянию здоровья, а в деловой записке, ибо она являлась и членом профбюро, текст которой должен был защищать Хасана, признаться в своих огрехах-опечатках, выразившихся в занижении цены на некоторые блюда. Неизвестно какими только путями и по каким каналам в одной из бань был отыскан отставной генерал, который раньше контролировал все обэхээсэс города; он велел всем не волноваться и дал рекомендацию следующего характера: раз у обэхээсэсников нет направления на проверку данного кафе, значит, они начали шустрить не на своем участке, а залезли на чужой, чего в управлении страсть как не любят, и поэтому Хасану надо постараться акт не подписывать, зато копию акта вытребовать или же хотя бы номер акта выудить, а ночью срочнейшим образом передать ему, он будет до двенадцати ночи не спать, ждать результата.
Двухметровая официантка с выкошенной прической, вовремя предупредившая метрдотеля, с превеликим трудом по известному лишь ей коду связалась в Сочи с отдыхающим высокопоставленным работником, продвигающимся по служебной лестнице не по дням, а по часам и посещающим кафе с самого детства, и поэтому потворствующим многим делишкам, совершающимся в нем. Секретарь пообещал сию же минуту передать все шефу и убедить того дать срочную телеграмму в вышестоящую инстанцию. В психдиспансере на Хасана уже выписывалась справка в том, что он уже три года стоит на учете как страдающий выраженным слабоумием и одновременно шизофренией. В тресте ресторанов и кафе параллельно печаталась справка, в которой указывалось, что Хасан официантом не является, а всего-навсего есть стажер, и то очень слабый, с которым работать еще и работать; он плохо знает русский язык, а то, что он подсчитывает, надо пересчитывать. Повара связались с финнами и югославами, и те к утру пообещали прислать бумаги, в которых доказывалось, что куры, поступившие в кафе в качестве спецзаказа, были ошибочно занижены в цене, на самом же деле их цены намного выше коммерческих. По телефону буквально пять минут назад нанятый адвокат рекомендовал Хасану обвинить обэхээсэсников в грубости и постараться спровоцировать их на скандал, а в объяснительной записке ему следует написать, что те его вывели из себя, заморочили голову, в результате чего он и ошибся.
Короче, получалось, что накрывался не Хасана обэхээсэсники. Просто Хасан в силу своей неопытности и простоты души взял расходы на себя и тем самым пожалел обэхээсэсников, ибо когда к следующему утру со строгой пунктуальностью будет учитана истинная цена всех блюд, окажется, что Хасан должен был взять по закону с них не пятнадцать рублей сверху, а двадцать пять.
— Ишь, как ельчат, когтятся… — усмехнулся Мишка. — Горе луковое в пирог завернуть хотят… — И, вздохнув, он поежился. — Не знаю, как тебе, но мне от всего этого муторно становится. Сопрели ведь гады, а им все неймется. Куда еще дальше идти? Некуда… Разве что стенка всех их ждет.
Мишка вздрогнул. В динамиках «Рябинушка» сменилась «Эх, дубинушка, ухнем…». Он с состраданием посмотрел на меня и сказал:
— Эх, сколько же еще на земле горя. Повадилось оно почему-то на русскую землю, горе это поросячье. Порой передохнуть от него нельзя, куда ни ступнешь, везде оно. Чуть промедлишь, так оно мигом тебя затянет и до конца смерти застрянешь ты в нем. Вроде внешне ты и живой, а внутри мертвец… — он молча соединил на столе свои руки, затем, преодолев внутреннее волнение, ободряюще улыбнулся. — Когда же все это кончится? Когда эти сатаны лопоухие с земли русской исчезнут? Ведь все, все, что могли, обтрясли они на нашей земле… Чего им еще надо? Чего?… Ведь и так из-за них мы уже на одной ноге стоим. Зажмуриться, ох как зажмуриться мне от горя хочется. Однако как ни крутится и ни вертится над нами эта мыслишка, а не полагается нам этого делать. Нельзя, ни в коем случае нельзя, чтобы и нас черт попутал… Хоть и на одной ноге стоим, а повоюем… В нашем положении воевать не трудно. Ведь мы с тобой никого не обкрадывали, никого не обманывали…
Миша говорил страстно, мужественно, как настоящий поэт. Окружающая нас до этого обстановка зала куда-то исчезла. Мы находились в невесомости. Зал был пустынен. В нем были только он и я. И, понимая друг друга, мы верили в победу.
СОФРИНСКИЙ ТАРАНТАС
Отец коня ему подводит,
И речь такую он ведет:
«Коня даю тебе лихого,
Он верный друг был у меня,
Он твоего отца родного
Носил в огонь и из огня.
Конь боевой всего дороже,
И ты, сынок, им дорожи.
И лучше сам ты ешь похуже,
Коня же в холе содержи!»
Песня донских казаковИздавна извоз составляет самый любимый промысел русского человека. Извоз можно даже назвать по преимуществу русским промыслом: в какую бы среду ни был поставлен православный переселенец и поселенец, он везде первым долгом поспешит обзавестись лошадью и сделаться извозчиком.
С. В. МаксимовВ дождь или в холод, в пургу иль в какую другую непогоду почти всегда в полдень Иван Алексеевич, раскрасневшийся и здоровущий, едет на своей маленькой лошадке в сельповский магазин за хлебом. Сельская больничка находится на окраине поселка рядом с густым леском, который защищает ее от бурь и ветров. Наверное, для этого, чтобы и сохранить эту благостную тишину, такую полезную и необходимую больному человеку, умные люди и построили эту дореволюционную одноэтажную, трехкорпусовую больничку недалеко от густых столетних дубов и елей. Дорога от больнички до поселка не ахти какая, летом или в предзимнее время проехать и пройти можно, но в распутицу или в ненастье по ней даже на тракторе не проползти. Грунт разом как-то раскисает, становится тонким и вязким. Засасывает ботинки и сапоги. Даже босиком не пройти, точно к магниту, прилипают пятки к раскисшему чернозему, и тогда наряду с усталостью ходьба сопровождается неимоверным чавканьем. В этих случаях лучше всего по обочине, которая в отличие от дороги не разбита, а, наоборот, переплетена густой травой. Уверенно и легко шагается по целине, по ней обычно и ездит в непогоду Иван Алексеевич. На телеге у самого передка сделан навесик, так называемая своеобразная «крыша». Вся почернела она от времени, местами на солнце выгорела, но крепка и от ливня и пурги дедову шею хоть немного, но защищает. Кнутом он не пользуется, ругательных слов не произносит, лошадка понимает его без слов. Потянет он вожжи на себя, она замрет, отпустит — поедет. А если приустала и хочет отдохнуть, так что же тут такого, пусть отдыхает, вместе с ней заодно отдохнет и Иван Алексеевич.
Если рассудить по-крупному, то дедова лошадка для больницы как святой дух, благодаря которому в больнице и чистое белье всегда есть, и пища, и вода, и свежие овощи. Дед хотя и чудаковат, но мастеровой. В лошадях разбирается, мало того, любит их и умеет жалеть. Казацкой крови, крепкозубый, любитель овчинных шуб, он разговаривает с лошадкой как с человеком. При этом любит ласково потрепать по шее, погладить гриву и спину.
— Ты что же это? — пристыдит он ее, бывало. — Репьи себе в гриву насобирала. В зеркало, что ли, не смотришься, — и начинает осторожно выбирать репьи из гривы.
А лошадка стоит себе да хрустит в зубах травой, переступая передними ногами и лихо отгоняя хвостом от спины оводов и мух. Она понимает деда, он ее. Когда он хвалит ее, щурит от удовольствия глаза, а когда ругает, понуро опустит голову и уныло смотрит на потрескавшиеся копыта.
— Что же ты не жалеешь себя, — иногда закричит на нее дед. — Я тебя на луг отвел пастись, а ты на болото пошла. В своем уме? Провалишься и утонешь и спастись не успеешь. А без тебя ведь больница пропадет. Новую подругу попробуй сейчас заведи. Днем с огнем не сыщешь, всех перебили и перерезали. А теперь спохватились, да поздно. Семя погублено, а для развода время нужно.
Иван Алексеевич человек обеспеченный. Жена богатая, прилично зарабатывают и дети. На его месте лежать бы на завалинке и в ус не дуть, так нет же, он пошел конюховать в конюшню, где всего-навсего одна лошадка. Одна эта лошадка и на весь район. Чудом от порезов сохранилась и уцелела. Санитарка-старушка в лесу ее припрятала, всю зиму тайком прикармливала. Домой ведь жеребеночка не возьмешь, сразу приметят. А частному лицу не велено было иметь лошадей в своем двору. И вот когда в больнице взвыли от перебоев в снабжении, санитарка предложила выход… И вот уже десятый год лошадка при больнице, и все рады ей и благодарны. А Иван Алексеевич так привык к лошадке, что порой, особенно конечно зимой, по два месяца дома не появляется. Днюет и ночует в конюшне рядом с лошадкой. Переживает, как бы не замерзла она, как бы не переела чего; больные и медперсонал чего ей только не несут. Им удовольствие, а лошадке, может быть, вред. Ох же и непонятливые они, и часто Ивану Алексеевичу приходится лаяться с ними.
Некоторым больным и врачам кажется смешной эта дедова любовь к лошадке. Однако большая часть людей не осуждает его симпатии к животному, а, наоборот, одобряет.
— Если бы не Иван Алексеевич с лошадкой, — говорят они, — то больничные службы все бы разом захандрили — то хлеба не было бы, то белья. А рентгенлаборанта кто бы на работу привозил? А больных в район на консультацию, а главврачиху на вызовы. Пока есть лошадка, не замечаем, а умрет, вот тогда и узнаем.
Усердию Ивана Алексеевича можно позавидовать. Раз в неделю он обязательно мыл лошадку, затем как заправский кавалерист драил ее щеткой, расчесывая шерсть на спине и боках, аккуратно ножницами подрезал хвост. Скашивал самую что ни на есть, лучшую траву. Ездил в совхоз и хотя с трудом, но добивался, чтобы ему выделяли три мешка овса. А по выходным, блаженно щуря глаза, любил наблюдать поутру, как лошадка, отдохнув, начинала резвиться и бегать по полю, точно молоденький жеребенок.
— Ишь ты, как изо всех сил старается! — говорил он какому-нибудь больному и, радостно хмыкнув, с удовольствием потирал ладони. — Надо же, как угораздило подпрыгнуть. Да ты погляди, брат, погляди, я ей гриву зачесал на левый бок, а она опять ее разлохматила. Вот разбойничает, вот разбойничает, — и вновь, простодушно рассмеявшись, спрашивал его: — Ну что же ты молчишь?.. Али в рот воды набрал.
— Ничего не скажешь, здорово прыгает, — улыбался тот и вздыхал. — Когда я маленький был, у нас в доме тоже кобылка была. Когда огородные работы заканчивались, отец разрешал на ней верхом прокатиться. А вечером галопом к реке, напоишь ее как следует, а потом купать начнешь. Она ноги в воде медленно-медленно переставляет и кожей, то и дело встряхиваясь, ржет весело-весело. Поводок на себя потянешь, а капель с губ точно серебро по воздуху разлетается. А как здорово лошади воду сосут, заливисто так, пьют аккуратно, даже слюну в нее не роняют. А как плавают на глубине, а как двигают при этом ноздрями. Зубы оскалят да по сторонам взор так и мечут. А если тревогу какую почувствуют или холодный ключ под ногами, то встревоженно, точно ребенок малый, закричат и тоскливо-тоскливо посмотрят на тебя. Успокоишь ее, тут же, конечно, по спине похлопаешь, поводья отпустишь, и, глядишь, вновь оживает она и плывет так отменно, что одна голова из воды торчит. Отец у меня одиночник был, всю жизнь на одной лошадке проездил…
Закончив говорить, больной искрящимся взглядом с уважением посмотрит на Ивана Алексеевича, словно он и есть его родной отец, который давным-давно умер. Помолчав, скажет ему:
— Спасибо, дед, что лошадку сохранил, — и, обняв его, вздохнет.
Российская лошадка. Лошадка-труженица. Всегда с несказанно ласковой любовью вспомнит ее русский человек и вздохнет. В этом вздохе никогда не бывает какого-то усложненного сверхзатаенного смысла, в нем одна лишь обида и горечь да знакомая нескладность души простого человека, всегда винящего только себя. Так вздыхают православно-повинно только на Руси. Так вздыхали русские люди, снимая с головы шапку в конце пятидесятых годов, когда по приказу областных и районных властителей проводился массовый забой лошадей под маркой ненужности их, в силу якобы неимоверного развития автомобильного транспорта. И что же получилось. Лошадей перебили, перерезали. А дороги не построили, да и нельзя их ведь везде построить, бездорожье было и будет, асфальтом всю землю не покроешь, а покроешь, то задохнешься от вредных битумно-смоляных испарений. Да ведь если и рассудить по-божески, то в грунтовой дороге, по краям покрытой бахромчатой травой, кустарником и огражденной дубами и соснами, пусть и не всегда ровной, пусть даже в распутицу и с непроходимыми колдобинами и изгибами, есть тоже своя прелесть. Эта дорога, как и вся земля, дышит и поутру парит. На нее всегда полюбовно садится роса, и дождевые капли шлепают по ее пыли, по-особому моя ее и успокаивая. Не теряясь в оврагах, а, наоборот, укрепляясь ими, грунтовая дорога, по которой раньше на Руси всегда скрипело тележное колесо или слышался плеский полюбовный копытный стук извозчичьей тройки, блестящей рекой несется к горизонту, где, встречаясь с зарей или закатом, заиграет вдруг перламутровой россыпью; как ягодку, садящееся солнце ее обхватит и поманит за собой, и тогда будешь идти и бежать по этой дороге и каждый шаг, и движение, и взгляд помнить.
Как и дорога, так и лошадка для русского человека — это особый дух, с которым он един, можно сказать, навсегда, и всякое уничтожение его есть великий грех. Ведь убивали лошадей, не только чтобы получить мясо, какое мясо с них и надолго ли его хватит, а убивали традиции, культуру, память, дух. Притом убивали непередаваемо жестоко. Рушили и уничтожали вековую кровную любовь русского человека к своей матери-лошадке. Как рушили и взрывали когда-то церкви, деревни, народные песни и музыку.
Хочется закрыть лицо руками, чтобы не смотреть на обезображенную болванчиками властителями, так называемыми лжепатриотами, которые родом-то неизвестно откуда и которые ради плана готовы продать и мать и отца. К ответу бы их. Но они, к сожалению, не отвечают. Тогда заставить бы их пройтись, как ходили когда-то калики, по деревенским дорогам, поселкам и селам, чтобы понять, как важна и как просто необходима для всякого русского сельского жителя лошадка. Никогда не заменит ее ни автомобиль, ни супервездеход. Это благородное трудолюбивое животное проедет и через лес, и через поле, спокойно переступит через ручей и пройдет сквозь заросли.
Не уничтожать надо было лошадку, а, наоборот, как можно разумнее использовать ее в нашей жизни. Уничтожив ее, мы разрушили быт и, можно даже сказать, культуру целого слоя сельского населения, при этом не дав взамен ничего. Так варварски может поступать только враг. И об оправдании таких дел не может быть и речи. Сейчас дорожная пыль прибита и утоптана широкими колесами автомобилей. Следов от лошадиных копыт на ней давно не видать, как не видно летом тележного следа, а зимой санного. Попробуй вырасти теперь лошадку и размножь ее, если руки отбили. Старики, может быть, и пожелали, да уж силы не те, а молодежь не заставишь, потому что всякое упоминание о лошади для них ассоциируется с отсталым патриархальным укладом, пережитками прошлого и даже дикостью.
Вот как, оказывается, можно запросто, одним махом лишить человека деревни, церквей и лошадки. Как никогда стерильной получается наша душа, на один, словно в ателье заказанный манер. Может, это выгодно кому-то. Ведь такой душой, лишенной внутренностей, легче всего управлять. Увы, властители не исчезают, а всего лишь навсего меняются.
Лошадка вернется в деревню. Не сразу, конечно, но вернется. И тогда засияет, наполнится счастьем улыбка русского человека.
Иван Алексеевич сам чинит старую сбрую для своей лошадки и мастерски, точно заправский портной-кожник, шьет новую. Две телеги и двое саней — это тоже его рук дело. А смотреть на него, когда он в минуты отдыха, присев недалеко от своей распряженной подопечной, наблюдает, как она ест свежее сено, — просто прелесть. Что-то привольное и доброе враз появляется в его взоре. Ласково щуря глаза, он приветливо раз-другой улыбнется, а затем прошепчет пару-тройку казацких слов.
Уши у него небольшие, лоб покатый, нос, как и у всех казаков, острый и с небольшой горбинкой, и, конечно, под ним усы, сидящие ладно на верхней губе, словно в седле. И при этом они, конечно, аккуратно расчесаны, а концы их браво завернуты кверху.
Лошадка в смущенной покорности миролюбиво, по-свойски посмотрит на хозяина и, отмахнув хвостом мух, удовлетворенно заржет, а затем захрумкает сеном, да так аппетитно, что и у самого появляется желание взять несколько травинок в рот. В этом кратковременном взоре лошадки столько нежной преданности и ласки проглядывает, что даже трудно себе и представить, кто другой еще так может смотреть на человека. Неожиданно привстав, Иван Алексеевич идет за водой. И, принеся ее, ставит перед лошадкой ведро.
— Ешь да припевай, — говорит он. — А то жара, не приведи Господи… Насухую, сама знаешь, есть никакой радости.
Лошадка, слушаясь его, пьет воду, затем ест сено, затем опять пьет.
Присев на колени, Иван Алексеевич говорит:
— А ну-ка давай, ноженьки твои погляжу…
Лошадка по очереди поднимает копыта. Иван Алексеевич внимательно рассматривает подковы и, удостоверившись, что они крепко сидят, говорит:
— Обувка покудова нормальная, так что еще побегаем… — И, встав, приносит ей свежую охапку сена.
Счастливый человек Иван Алексеевич. Счастлива и лошадка, что попала в руки к такому хозяину.
— Казак никогда коня не обидит, — часто говорит он больным, которые по вечерам собираются у конюшни. Летом в палатах находиться скучно, вот их и тянет на свежий воздух.
На голове Ивана Алексеевича казацкая фуражка с красным околышком, льняная рубаха навыпуск, подпоясанная тряпичным, узорно расшитым пояском.
Когда все больные накормлены и переодеты в новое белье, то можно и расслабиться, то есть песенку спеть. Песенки хоть и казацкие, но почти все про лошадей. Ох и ладно же Иван Алексеевич их поет. Тяжелые больные, которые не могут самостоятельно выбраться из палат, открывают все окна настежь и, замерев, слушают пение конюха. Иногда их приносят на носилках прямо к конюшне, что считается для них великой благодатью. Теперь они не только слушать, но и видеть могут певца. И хотя голос у него, как и у всех стариков, с хрипотцой, однако он по-особому еще звонок и крепок. В нем много торжественности и боевого задора. Да и владеет он им мастерски, такие переходы умеет делать, что и профессионалы позавидуют. Конечно, для храбрости духа Иван Алексеевич в таких случаях или сам выпьет, или же его «подкузьмят», то есть угостят.
Иногда ему перед началом пения какой-нибудь молодой скажет:
— А может, отец, на веранду пойдем, там все же как-никак почище…
— Песни везде, в любом месте можно петь, — с твердостью возразит он. — Была бы только песня…
Кашлянув в руку, он немного смущается и шепчет:
— Извините.
Быстро поправив ворот рубахи, снимает с головы фуражку и кладет ее рядом.
— Извольте, — восклицает он вдруг гордо и запевает:
Проходил по дороженьке казачий полк. За полком-то бежит душа-добрый конь. Он черкесское седельце на боку несет, А тесмяная уздечка на правом ухе висит. Шелковы поводьица ноги путают. За ним гонит млад донской казак, Он кричит-то своему коню верному: «Ты постой, погоди, душа-верный конь, Не покинь ты меня, одинокого, Без тебя не уйтить от чеченцев злых…»Кончив одну песню, он начинает другую. Он может петь до изнеможения, или, как говорится в народе, до посинения. И где только силы у него берутся.
— Хороший старик, ничего не скажешь, — говорят после больные.
Во время пения поражали всех не только слова песни, но и глаза Ивана Алексеевича. Они были ясные и очень живые. Взгляд их хотя и был решителен, но столько в нем было детской простоты и непосредственного очарования, что при виде всего этого дух захватывало. И сердце сразу же как-то по-особому дрогнет и сожмется в тоске по русскому народу, умевшему так мастерски петь. Все разом забудется, уйдет болезнь, печаль, горе. Бисеринкой вспыхнут в радости глаза. Заалеют щеки. Покроется испариной лоб. Кто-то не спеша, чтобы не потревожить певца, раз-другой перекрестится. И зашедшие в душу слова зазвенят, задрожат; прибойной волной очистят и выметут из души весь сор впустую прожитого времени, дав прорасти и зацвести зернышкам предков. Неповторимы и диковато-красивы казачьи песни. Точно заревой свет взбаламучивают они и пьянят.
Софринская сельская больница очень популярна в области. И хотя бедное в ней оборудование, да и медикаментов почти всегда не хватает, но все стремятся в нее попасть. Спросишь порой больного, ну почему ваш брат желает попасть только в Софринку, так сокращенно величают больницу. А он ответит:
— Там лошадка есть и старичок конюх, такой презабавный, — и, с почтением посмотрев на меня, добавит: — Он с руки разрешает ее кормить, а если пожелаешь, то и верхом можно прокатиться.
Полдень. Конец лета. Иван Алексеевич перегружен, везет из сельповского магазина огромный ящик с хлебом. Лошадка в гору упирается, но не подводит, шагает бойко.
Спрыгнув с телеги, старик на ходу вытирает потную лысую голову. От жары нос его немного облупился. Зато правый ус залихватски закручен на казачий манер.
Проголодавшиеся больные вышли из корпусов. Увидев лошадку, радостно заулыбались. Молоденький доктор, глядя на них, постоял несколько минут в раздумье, а затем сказал:
— Оказывается, и лошадка лечит.
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЬЯ
Он рисовал картины, затем продавал их. Деньги и отдавал жене, очень скромной и слабой женщине. И вое бы и дальше у него было хорошо, если бы вдруг в один из дней она не ушла.
Это произошло в жаркий день июня, когда он повез в Москву продавать картину, на которой синее небо было пристегнуто булавкой к земле. Нет, он не был ни модернистом, ни авангардистом. И эта картина не была характерна для его творчества. Он нарисовал ее просто так, как говорится, в охотку. Центром картины была булавка, благодаря которой небо было пристегнуто к земле, наполненной людьми. Чуть выше булавки в небе, словно чайка над водой, летала белокурая женщина с красным лицом. Жена сразу же обратила на нее внимание. И в один из вечеров, когда художник при свете электрических ламп дорисовывал картину, она подошла к мольберту и, указав на женщину, сказала:
— Это что еще за дурочка?..
— Это не дурочка, это мираж… — растерянно ответил он.
— А в сущности мне все равно… — усмехнулась она и опустила руки в карманы халата. — Мираж ли это, ангел. — Затем, вздохнув, спокойно добавила: — Занялся бы ты лучше гимнастикой… — и, не дожидаясь ответа и не обращая на него внимания, отвернулась к окну.
— Это женщина моего детства… — попытался он возразить.
В каком-то разочаровании она повернулась к нему и, окинув его взором, полным обиды, произнесла:
— Как был ты олухом, так им и остался… Ну а еще ты не живешь, а играешь. Боже, как мне тяжко с тобой.
Зная, что в такие минуты она может заплакать, он грубо, по-мужски оборвал ее:
— В таком случае извини.
И, отложив в сторону кисть, закурил. Голова его закружилась. И, чтоб успокоить себя, он сел в кресло.
Нервно сняв с себя белый халат, она вышла из комнаты. Стало тихо. И только тут он понял по оставшейся в комнате ее медицинской сумочке, что жена пришла из поликлиники.
— Она не поняла меня… — усмехнулся он.
И ему вдруг вновь захотелось вернуться в свое детство, вспомнить мать, которая жила теперь от него далеко-далеко, и родную деревню, где солнце светит целый день и где люди поздно засыпают и рано встают.
Слышно было, как на кухне жена деловито копошилась, звенела тарелками и ложками. Он представил черную пахучую пенку. И ее полные губы, прикасающиеся к краешку чашечки, переполненной кофе.
«Неужели она не поняла, — вздохнул он, — что летающая женщина это есть она сама?»
Сигарета в руке догорала. С горечью усмехнувшись, он вновь вернулся в детство. Люди на картине были из его деревни. Они смотрели на него с радостью, ибо были очень довольны, что он их всех вернул к жизни. Дед Лешка, сторож колхозного сада, улыбается. А вот Коля-киномеханик, окончивший впоследствии мореходку и ставший капитаном, наоборот, серьезен. Рядом с ним стоит он сам в коротких штанишках и латаной рубашке, с восхищением смотрящий на соседского долговязого Ваську, который впервые сказал ему, что небо подпирается телеграфными столбами, а луна есть фонарь, который бог вывешивает над землей почти каждую ночь. Чуть левее стоит Маша, которую он любил. Рядом с ней председатель сельсовета Михайло Михайлович. Как всегда, от волнения раскрасневшийся и с оттопыренными ушами. Он никогда никого за свою жизнь так и не обидел, хотя иногда случалось, что для приличия и покрикивал.
Правее деревеньки дорога. На ней стоит толпа ребятишек уже забытых по именам, но зато очень хорошо запомнившихся ему по лицам. Все они его, Кольку-художника, дожидаются, чтобы он раскрасил крылья диким голубям, которых те наловили. Рядом с ними в теплом свитере на земле сидит его родной дедушка по матери, Максим. Его нет. Он погиб на войне. Вещей тоже не осталось. Все износилось другими. Зато остались его фотографии с фронта, на которых он весел и с изумительной русской улыбкой. И лишь на одной, самой желтой фотографии глаза его полны слез, хотя и на ней он все так же браво улыбается. За спиной его серое поле и березка, на которой всего лишь один лист.
Художник смотрит на знакомых ему людей, и на душе его светлеет.
Окно давным-давно открыл ветер. Бегая по комнате, он приподнимает листы ватмана, сушит руки и губы. Вскоре темнеет, и он незаметно засыпает в кресле. По дому носится аромат кофе.
В полночь жена входит в комнату мужа. Удивленно смотрит на него.
— Надо же, весь дом выстудил… — и, плотно закрыв окно, уходит.
В понедельник утром, когда он повез свою картину продавать, она, забрав все вещи, ушла.
Вечером, открыв дверь квартиры, он ахнул. Все комнаты были пусты.
— Даже не предупредила… — прошептал он.
Она уходила каждый год. Погуляет, побродит с месяц и вновь возвращается. Теперь же она ушла с вещами.
Так и не поняв, зачем она все это сделала, он, сняв галстук и рубашку, пошел в ванную, где, открыв на всю мощь кран с холодной водой, подставил под колкую, пронзительно шипящую струю голову. На некоторое время пришел в себя. Вытерев тело насухо, сел в кресло, как сидел он в нем когда-то перед ее уходом. Свет в комнате не включил. И со стороны казалось, что сумрак какими-то длинными руками касается его, а он не боится его, как обычно боятся люди, на которых нашло горе, а, наоборот, сливается с ним и даже тянется к нему и радуется.
«И как это я раньше не заметил, что она собирается…» Сделал усилие выбросить все из головы. Но, увы, так и не смог забыть разговор с ней.
Кран в ванной оставил открытым. И вода шумела и клокотала.
Просидев в кресле ночь, утром пошел в поликлинику. О случившемся в их доме медики еще ничего не знали, и поэтому, когда он зашел в регистратуру, чтобы по телефону вызвать ее, все вежливо поздоровались с ним. Он попросил ее спуститься к нему со второго этажа, где шел прием.
Знакомые больные приветливо здоровались с ним, на ходу спрашивая, как его здоровье, семья, дом, жена. И он отвечал им, что у него все нормально.
Ему захотелось открыть окно в холле. И он открыл его.
«Если бы окна на белом свете не открывались, люди задохнулись бы…» И, как в детстве, прикоснулся пальцами к губам. Ему хотелось мысленно приостановить жизнь и вернуться в то прошедшее время, которое он изобразил на картине. Но к нему вдруг подошла маленькая медсестра в бело-розовых туфельках и с солидностью сказала:
— Сейчас она спустится.
Он удивленно посмотрел на нее и спросил:
— А где она?..
— Не заходите к ней… — буркнула медсестра. — Я же сказала вам, она скоро спустится…
И не успел он рот закрыть, как она исчезла.
А затем стал замечать, что все как-то подозрительно стали поглядывать на него. Седая уборщица, воровато оглянувшись, вдруг громко сказала глуховатому старику, дожидавшемуся анализов:
— Что же это он стоит и к жене не идет?
— О ком ты?.. — удивленно спросил ее старик.
Уборщица указала на художника, а затем добавила:
— Совестно спросить…
Больше он ничего не расслышал.
По коридору шла жена. Гордая, смелая, с решительным взглядом, с новым, незнакомым ему лаком на ногтях. Он обрадовался этому ее приближению. Постарался собрать волю в комок и сказать:
— Здравствуй, милая!..
Но она, не ответив на его приветствие, сунула руки в карманы и, обдав его запахом камфоры, который он страсть как не любил, сказала:
— Ты зачем сюда пришел… Тебя, дурака, и так вся поликлиника знает.
Вид его был жалок. В эти минуты он был неприятен ей как никогда. Мало того, как ему показалось, больные в холле и сотрудники из регистратуры ловили каждый его взгляд, вздох и жест.
Он с трудом выдерживал на себе пристальные взгляды. Чтобы хоть немного успокоиться, достал сигарету и начал мять и крутить ее пальцами. А она, как назло, не мялась и была тверда, как винтовочный патрон, который он носил когда-то в детстве на шнурке.
Между ними была пропасть. Он сразу это понял.
— Извини… — прошептал он. — Я, наверное, неправ.
Старался смотреть на нее как можно спокойнее. В ожидании крохотной взаимности затаил дыхание. Весь коридор, как назло, был забит людьми, которые смотрели на них. Из кабинета напротив вышел худощавый доктор с кисточкой-усами. В его руках был пульверизатор, видимо, он собирался кого-то оросить лекарством. Но, увидев художника, скособочился и замер. Ощущение было таким, что вот-вот должна разорваться мина, от которой никому не спастись. «Какой-то конец света… — мелькнуло в его голове. — Чего доброго, в таком страхе и ухо сам себе отрежешь…»
Жена стояла не двигаясь. Ее глаза точно дула двустволки надменно целились в него.
Вся его фигура, как показалось вдруг ему, была вырезана из белой фанеры, а, чтобы она не падала, ноги были прибиты к полу.
Выпустив из рук сигарету, он вытер пот со лба.
— Где ты живешь?.. — спросил он.
Поправив прическу, она со злостью покосилась на него тем самым убив в нем всякую надежду на примирение. Поняв это, он сказал:
— Давай выйдем. Мне поговорить с тобой надо.
Доктор, не выпуская из рук пульверизатор, включил свет. И все задвигалось, запрыгало.
Он с трудом поднял веки, пот заливал глаза.
— Всего на минутку… прошу тебя.
— Все кончено… — спокойно сказала она.
Почти для всех холл был светлым, ярким. А для него он был черным и страшным…
— Выйдем… — попросил он вновь.
— Все кончено… — в прежнем пылу сказала она.
Больные внимательно вслушивались в ее слова. Она была ближе к ним, чем он. Многих из них лечила, перевязывала, делала уколы. А доктору с пульверизатором покупала тройной одеколон. Всегда находчивая в самых что ни на есть критических ситуациях, она и тут не упала лицом в грязь!
— А на развод я сама подам… — гордо произнесла она.
Она уходила от него в радости. Он не существовал больше для нее. Халат упруго обтягивал ее зад. Пушистые локоны рассыпались по плечам. А стройные ножки, хотя и выдавали торопливость, были как никогда совершенны и привлекательны. Все смотрели ей вслед. Все завидовали ее свободе и независимости. И лишь доктор, точно проснувшись, с усмешкой произнес:
— И зачем она все это выдумала? — и сконфузился.
Находиться в поликлинике художнику было бессмысленно, и он, стараясь ни на кого не смотреть, выбежал из здания. Все разом, в один миг кончилось. Была жена, и нет ее. Он шел по улице не оборачиваясь. Хотелось расплакаться, рассказать первому встречному об обиде и потере. У мостика он остановился и оторопело посмотрел на урчащие по дороге грузовики и легковушки. Пыль кружилась вместе с больничной листвою и долго не падала. Все спешили проскочить открытый переезд, всем было не до него.
«Что же это я… — рассердился он вдруг на себя. — Хуже бабы…»
Но это откровение не приободрило его, а, наоборот, еще более огорчило. Как и всякие впечатлительные натуры, он не мог представить своей дальнейшей жизни.
Он шел наугад. Ему не хотелось останавливаться.
И лишь когда дорога сменилась парком, он немного пришел в себя. Здесь было тихо. Утренний воздух освежал прохладой и шелестел листвой.
В раздумье он прислонился к бетонной колонне, не зная, как ему дальше быть.
Затем присел и, посмотрев на пожухлую траву, от которой исходил горько-кислый запах, усмехнулся:
— Вот счетец-то она и предъявила…
Поправив галстук на шее, вытер пот с лица и, тихонько подняв голову, настороженно осмотрелся.
Он был бледен и неподвижен. Худые скулы и впадины на щеках еще более обозначились на его лице. Сорвав травяной стебелек, сунул его в рот и с изумлением посмотрел на пальцы, в которые въелась краска.
— Даже и разговаривать не хочет. — И, усмехнувшись, махнул рукой. — После такого не мешало бы и выпить. Напиться до горячки и попетушиться. Чтобы как следует подкорка встряхнулась. А то приучают к проточной воде, от которой одна неразбериха. — Разорвав травинку, он вздохнул с печалью и посмотрел в сторону аллеи. — Вот только жаль, я так и не смог написать ее портрет. А впрочем, черт с ним… Лучше забыть ее. Ведь она уже не та… Небось опять к главврачу поликлиники убежала.
Он вытер пот с лица. На некоторое время кашлем заглушив досаду и боль в груди, приподнял голову. Небо, полное величавой приветливости, было по-прежнему синим. И какая-то холодная, серебристая влага исходила от него. Листва, полная веселого блеска, шелестела и переливалась на солнце. Листья на стоявшем перед ним дереве показались ему знакомыми. И он вспомнил, что точно такие же листья видел на деревьях в больничном дворе, когда разговаривал с ней.
— Пьяный я, что ли?.. — нахмурился. Уж очень сильное впечатление производили листья на него. Зеленый цвет их не успокаивал, как прежде, а, наоборот, возбуждал. — Бог милостивый! — прошептал он и по привычке сложил три пальца правой руки вместе. — Даже по размерам смахивают. Сродственники… Как же так? — и тихая тревога охватила его.
Листья, увеличиваясь в размерах, начинали закрывать небо, воздух и все на свете.
Почувствовав озноб в теле, закрыл глаза, затем вновь открыл.
— Разрешилось, — прошептал он. Озноб утихал, и лишь только в кончиках пальцев покалывало.
Он остановил взгляд на заплатке рядом с коленом и поджал ноги. Взгляд его был странен. Он не шел к его исхудавшему лицу. В нем кроме удивления были детская снисходительность и смущение.
«Пустяки… — подумал он о листве и, крутнув пуговицу на рубашке, попытался улыбнуться. — Заболели глаза, вот и показалось…»
Он попытался восстановить прежний ход мыслей. Захотелось вспомнить, о чем он думал раньше, ибо только внутреннее душевное откровение могло привести к выходу. Он вновь сконцентрировал внимание на себе. Уверенность хотя и смутная, но все же была; он должен прогнать воображение и рассуждать только тем моментом, который ему принадлежал.
— Мне надо самоопределиться, — сказал он. И, сказав это, замер. Листья опять лезли в голову, они стремились завладеть его мозгами, телом и душою. Закрыв ладонями глаза, он понял, что опоздал. Они были уже в крови, ритмично двигаясь то вверх, то вниз… Его кожа покрылась зелеными пятнами.
«В кандалы его, в кандалы» — зашумела листва над головой.
Не было сил подняться. Он запутался в листьях, как путается в сетях рыба. Он засыпан был ими с ног до головы. А они все прибывали и прибывали.
Вдруг подул ветерок. А потом раздался над головой голос:
— Это надо же, как мужик из-за бабы убивается!
Приподняв голову, он прислушался, осмотрелся. Рядом никого не было. Лишь ветер все так же не утихал. Он освежал, разнося по округе пьянящую сырость и запах русской летней поры. Где-то вдали, проникнутые светом и теплотой, копошились облака. Скорее всего они предвещали не дождь и не грозу, а вечер.
— Поди теперь кому докажи… — усмехнулся он.
Затем, помолчав, произнес:
— Как глупо все вышло. Ощущение такое, словно меня, совершившего ужасный проступок, выставили из поликлиники. Притом фамильярно, с позором, на глазах у всех. Почему я устыдился ее? Почему не сказал, что думал? Шесть человек присутствовало при нашей беседе. Один малый улыбался во весь рот. Главврач выглядывал из-за двери. Он небось от радости чуть дураком не стал.
Лицо его стало красным. Прикрыв глаза, вдруг представил перед собой главврача, низенького, пухленького, с толстым носом и маленькими ушами.
Застав его в своей квартире с женой, он сказал:
— Вы разнаряжены сегодня, как жених, — и спросил: — Что бы это значило?
Главный врач, улыбнувшись, развел руками:
— Завтра Первое мая, и, как назло, все в поликлинике заболели. Вот я пришел к вашей супруге попросить ее, чтобы она вышла подежурить.
— Он поэт, он романтик, ему все равно, — без всякого смущения фыркнула она.
Он заметил ее необыкновенную бледность лица, неловкое дрожание рук и торопливость. Видимо, ей так хотелось убежать с главврачом. Он оставил их в квартире, а сам долго ходил по улице, пока не надоело. А когда возвращался домой, в подъезде встретилась ему старушка с чайником в руке и с сигареткой во рту. Он вежливо пропустил ее, а она вдруг, поравнявшись с ним, жалостливо произнесла: «Не один ты грешный…»
Он удивленно пожал плечами. А она спросила: «У вас случайно нет пятачка?» Он отдал ей всю мелочь и, вместо того чтобы подняться в квартиру, вновь ушел на улицу.
Посмотрев в сторону шоссе, он вздрогнул. На аллее парка появились люди. Встревоженный опасением быть застигнутым знакомыми, он встал. Чуть левее в кустах послышался шорох, затем голоса.
— Говорят, неформалы провоцируют гражданскую войну.
— Мне страшно…
— Мне тоже…
— Иногда шум грузовиков мне кажется шумом танков, которые вот-вот начнут стрелять.
— А у меня появилось предчувствие, что-то обязательно будет, и при этом очень скоро, может быть, и завтра.
— Жаль, конечно, что на все вопросы правительство так и не смогло ответить.
— Карточная система, денежная реформа, а затем и на водку могут прибавить.
Он обернулся. Две старушки, одна высокая, другая маленькая, опираясь на черные палочки, медленно шагали к памятнику Ленина. Листья то скрывали их, то, наоборот, открывали. И от этого со стороны казалось, что в их руках были не палочки, а револьверы.
— Сейчас не время заводить друзей, — вновь донеслось до него.
— Да, да, это верно, лучше уйти с дороги.
— Анархо-синдикалисты могут победить монархистов, а демократы это те же бюрократы…
Они медленно приближались к памятнику. И белые панамы на их головах с кудрями волос на затылке показались ему касками.
Чем-то вдруг пугающим и неприятным, повеяло от этой встречи. Чтобы успокоить себя и унять раздражение, он шутливо произнес:
— Чего доброго, искромсают револьверами памятник. Все и вся предвещают грандиозный скандал, и они тоже… О супержизни нет даже и речи. К черту револьверы… Поздно. Эх, жаль, выпить с собой не взял. — И, с наигранным безразличием хмыкнув, вдруг ощутил бесплодность своих рассуждений.
Люди по аллее парка приближались к нему. Чтобы не усложнять для себя ситуацию, он с грустью посмотрел на листья и, перепрыгнув через низенькую ограду парка, стал торопливо спускаться к озеру.
Воздух над озером был прозрачным. И здесь он вдруг забыл о ссоре с ней. Перед глазами была та самая картина, которую он несколько дней назад написал. Небо пристегнуто булавкой к земле, наполненной его знакомыми. А чуть выше булавки, в небо, словно чайка над водой, летит белокурая женщина.
— Так можно прослыть знаменитостью, — улыбнулся он и, обхватив руками голову, воскликнул: — Потрясающая, потрясающая картина.
И вновь в его душу ворвался свежий ветер. Он ожил, он задышал смело и легко.
Он не чувствовал себя больше виновным в случившемся.
Перед глазами был его родной мир.
Он шел по берегу озера и махал летающей женщине рукой.
— Я не старомодный испанец, — закричал он восторженно. — Я художник и в этой жизни что-нибудь да значу!
Воздух был влажный, приятный. И ему показалось, что он приподнялся над землей и устремился к летящей белокурой женщине, с улыбкой смотрящей на него.
— Прости, пожалуйста, — прошептал он ей.
Нет, нет, это уже была не его жена. В растерянности он попытался вспомнить, что же это за женщина. И наконец вспомнил, это была Маша, та самая недотрога, с которой он танцевал на выпускном вечере.
— Все пропало, я уезжаю, — сказал он ей тогда.
Она приостановилась в танце. Глаза наполнились безумием. Но все же, справившись с волнением, она с детской веселостью сказала:
— А я, наоборот, остаюсь…
Он, только он, был во всем виноват. Он тогда, кажется, рассеянно улыбнулся, не зная, что ей и сказать. А она вдруг, наоборот, засмеялась.
— Я ждать не могу. Не переживу…
Музыка заиграла сильнее. Кто-то крикнул: «Да здравствует выпускной бал!» Она щелкнула каблучками. И в танце, уже не задумываясь ни о чем, он поспешно прижал ее к себе. Сердце забилось. И он с трепетной нежностью ощутил ее яблочный холодок щеки.
— Что ты делаешь? — уперлась она ему в грудь.
А он уже, никого не стесняясь, поцеловал ее в губы. К его счастью, кто-то в зале выключил свет. Он, удерживая ее, прошептал:
— Да не бойся ты.
— А я и не боюсь, — усмехнулась она и для приличия как бы сердясь добавила: — А сердце у тебя заходилось. Слышишь?..
— Я приеду зимой, — быстрым шепотом произнес он. — Пожалуйста… — и прижал к себе.
— Поздно будет, — засмеялась она.
— Нет, нет, Машенька, ошибаешься, — торопливо начал он. — Я хочу тебе сказать, что я без памяти…
Но она тут же вежливо перебила его:
— А чего тут объяснять. Я ведь ни в чем не виновата… — и спрятала свое лицо на его груди.
А тут, как назло, свет включили. Она, вздрогнув, дико отпрянула от его груди. Стремительно-страшно блеснули ее глаза. Медленный танец кончился. Музыка заиграла неожиданно быстро. Она прикоснулась руками к раскрасневшимся щекам. Затем подняла голову и спросила:
— Значит, не останешься?
Он удивленно на нее посмотрел.
— Ну что же ты молчишь?
Усатый трубач на эстраде, перейдя на низкие тона, возвестил о том, что вновь начинается блюз.
Переведя дыхание, он взял ее за плечи.
— Можно, я провожу тебя?
— Ах да, все понимаю, — вздохнула она.
Он знал ее с детства. Он любил ее. А вот остаться с нею почему-то боялся. Но, даже невзирая на его отказ, она была рада, что он ее провожал. Они шли по мокрому школьному саду, который сказочно плыл в вечернем последождевом тумане. Бал продолжался… А вместе с ними и танец…
Он на всю жизнь запомнил взмах ее тонкой руки и шепот:
— Сними с меня туфли…
Туман был неземным. Он манил в свой сумрак. Холмы за садом были темно-голубыми. Луна еле светила.
А затем она сказала:
— Это, наверное, все пустое… — и, задержав обнаженные руки на его шее, посмотрела в его глаза.
Как хотелось ему сейчас вернуть этот день. Если бы знал он тогда, что у него не сложится жизнь, то он никогда бы не уехал от Машеньки.
Он обещал приехать зимой, но так и не приехал.
— Как жаль… — прошептал он и понял, что весь этот его мечтательный полет к белокурой женщине, похожей на Машеньку, не ко времени.
— Она теперь другая, ведь как-никак прошло двенадцать лет.
Остановившись, он оглянулся. Затем посмотрел на руки, которые были в краске, и улыбнулся.
— И мыла талонного не хватит, чтобы отмыться. Лгун, вот кто я… Она просила обвенчаться, а я… — и, запрокинув голову назад, посмотрел на небо, в котором кружились чайки и игриво переливалась заоблачная высь. Чуть-чуть размытые облака пузырились и с какой-то опаской неслись на север.
— Такие облака булавкой не пристегнешь… — вздохнул он.
Озеро было тихим и спокойным. Водная гладь лишь изредка чуть-чуть подрагивала. Недалеко у берега, рядом с бакеном, стояла лодка, в которой трое рыбаков мирно беседовали.
У горизонта был виден медленно уплывающий пароход. На лодочной станции рядом с одиноким причалом, который был окутан синеватою мглой, играла шаловливая музыка. Трое парней, стоя по колени в воде, выпутывали из сетей мелкую рыбешку и бросали ее на берег, которую мальчик тут же отправлял в ведро.
«В бродяжничество, что ли, вдариться… — подумал он. — Для начала порыбачить, а затем уйти в океан…»
Беспокойная тоска вновь охватила его.
У бакена рыбаки чокнулись и, выпив вино, запели песню.
У причала неожиданно появился нищий в грязных лохмотьях. Он по-хозяйски залез в лодку и начал считать монеты.
Подул легкий ветерок, и все вокруг заколыхалось и заблагоухало. Водная гладь покрылась рябью и засияла, заблестела в какой-то только ей понятной природной истоме. Вслед за этим появился многоликий, шелестящий шум.
Прелестные чайки с криками закружились над водою. Солнце золотило их клювы и крылья. Золотые отблески появились на прибрежных волнах, которые, увлажнив песок, оставляли на нем пену.
— Унесет лодку, я тебе… — донеслось с бакена.
А у причала нищий доказывал мальчику:
— Я в Евангелии читал, да и дед мой говорил, что Русь никому не достанется…
Затем вдруг вновь стало тихо. Водная гладь превратилась в зеркало. Чайки, чуть покружив над нею, улетели на берег.
«Даже денег не взял», — вспомнил вдруг он.
Прикоснувшись рукой к крестику на груди, он робко вздохнул. В страдающем взгляде были грусть и возрастающая опасность. Он вгляделся в горизонт и прошептал:
— Не исключено, что Бог все-таки есть… — и, как-то странно усмехнувшись, будто соболезнуя самому себе, добавил: — Только он никогда ничего не узнает.
Ветер подул изо всей силы. Чайки, с криками оторвавшись от берега, закружились над водой.
— Православный я, православный! — закричал рыбакам нищий. — А раз православный, поэтому мне и хорошо.
Черный мотобот, гудя во всю мощь, прошел рядом с берегом и скрылся в заливе.
Небо сердито нахмурилось, и высокий усатый рыбак, посмотрев на тучи, сказал:
— Если дождик начнется, не успеем самогонки взять.
На что другой возразил:
— Была бы рыбалка, а отрава найдется… — и засмеялся: — Опять, видно, без закуски придется пить.
— А на кой она, закуска, — сказал рыбак. — Ненавижу закуски. Душа ноет, нету мочи…
— Ну будет, будет тебе… — успокоил его тот и, тревожно посмотрев на взвивающиеся пенистые волны, добавил: — Еще не выпил, а уже забузил, хромой дьявол…
Все засмеялись. Чайки закружились над сетями.
— Кри-э! Кри-э! — звонко закричали они.
Художник медленно пошел по берегу в сторону деревни, которая была далеко за горизонтом. Подойдя к самой воде, зачерпнул ее ладошкой и намочил ею лоб и лицо.
— Ну вот, — прошептал он. — Это, кажись, то самое место, на котором я прошлый год церковку рисовал.
Впереди, чуть левее от берега, два бородатых старика рыбака, один большой, другой маленький, под навесом варили уху. Маленький, лицо которого было отекшим от выпивки, пробовал ложкой ее на вкус. Он с наслаждением дул на жидкость и, радостно улыбаясь, чмокал губами.
Запах дыма перебивался запахом рыбы.
Небо нахмурилось еще более. И купола церкви, которая стояла на горке, обозначились еще четче.
С робостью художник посмотрел на храм и перекрестился. И в эту же минуту в его душе появилась горькая обида на самого себя, что вот он, оказывается, какой подлец, вспомнил о храме и о вере лишь в трудную минуту. Руки его задрожали. Он с любовью посмотрел на купола храма, которые владычествовали над округою, и облегченно вздохнул. «Господи мой!» — подумал он, а затем прошептал:
— Почему столько лет нет стекол в храме?
Лицо его побледнело, и он точно в потемках как-то неестественно прикоснулся рукой к груди и глубоко вздохнул:
— Я все погубил… Я во всем виноват.
И тут же в каком-то исступлении стал перед храмом на колени.
— Господи, прости!
Дыхание спирало. Не было сил вымолвить слово. Наклонив голову к земле, он заплакал.
Маленький старик, выплеснув уху из ложки, ласково посмотрел на художника и добродушно произнес:
— Пьяный человек… — и сказал высокому, седая борода которого красиво развевалась на ветру: — Николай, налей водки и отнеси ему… А то, вишь, мается.
Тот молча налил полстакана и, подойдя к художнику, легонько коснулся его плеча.
— Браток, посмотри на меня.
Художник, вздрогнув, приподнял голову. Перед ним стоял бородатый старик с большими глазами и в рубашке навыпуск.
— Это твой голос? — спросил испуганно художник.
— Мой, — тихо ответил старик и перекрестился. — Сохрани тебя Бог! Если несчастье какое… На-кась, выпей.
Художник вытер лицо и осторожно взял из его рук стакан.
— Не миновать, — прошептал он и выпил до дна.
— Ну вот, казнил свое горе, — улыбнулся старик, а про себя подумал: «Удивительно маются русские люди…»
— Богатому везде хорошо, — произнес в ответ художник и, приподнявшись с земли, благодарственно поклонился. — Спасибо, отец! — Слабо улыбнувшись, махнул рукой. — Раньше никогда Бога не вспоминал, а тут вдруг взял и вспомнил.
Старик, не слушая его, торопливо шел к навесу, где варилась уха и где дожидался его товарищ.
— Что же это он? — растерянно прошептал художник. — Угостить угостил, а выслушать не захотел… — И крикнул ему: — Отец, скажи, далеко до деревни?
Старик, остановившись, оглянулся и, указав в сторону косогора рукой, сказал:
— Там за горкой начинается тропа, по ней и иди… — и вновь пошагал к навесу. Но затем остановился, бросив стакан на землю, посмотрел на художника, в каком-то испуге уставившегося на него.
Осиротелое судно болталось на якоре недалеко от берега. Рыбаки, вытащив сети на берег, подсчитывали улов. Нищий в лодке, то и дело подмигивая мальчонке, играл на гармошке. И хотя дождь уже помаленьку накрапывал, однако никто не знал, когда он пойдет по-настоящему.
— Это не ты ли случайно сегодня тюки грузил? — спросил старик подошедшего к нему художника.
— Нет, нет, — ответил тот.
— А в какую тогда деревню идешь?
— В Скворцы… — прошептал художник. Тело его заныло. И ему захотелось упасть на теплую землю под навесом и полежать на ней.
— Вот те Христос! — пролепетал старик и, перекрестившись, тихо проговорил товарищу: — Скворцы ведь в прошлом году снесли, водохранилище теперь там.
Художник, не слушая их, прилег на теплую землю. Перед его глазами были щербатые доски навеса, прогнувшиеся брусы и паутинки, в которых застряли дождевые капли. Воздух шевелился под навесом. Запах дымка сменялся преддождевой свежестью и кислинкой от недавно разделанной рыбы. Тепло земли разливалось по его телу легкой, веселой дрожью.
Старики с недоумением посмотрели на художника, вольготно расположившегося под навесом. Маленький взял ковш и, налив полную миску ухи, поставил ее на стол.
Высокий старик с тоской почесал затылок и, подойдя к художнику, спросил его глухим голосом:
— Сынок, а зачем тебе Скворцы?
— Там родина моя… — с кроткой улыбкой произнес художник.
— Небось и родители там? — вновь спросил старик.
— Нет, родителей давно нет, — вздохнул тот. — Но зато остались знакомые.
От вновь нахлынувших воспоминаний лицо художника мгновенно преобразилось. Он с замираньем вздохнул, улыбнулся, вытер ладонью слезы.
— То есть выходит, ты возвращаешься…
— Выходит, так… — улыбнулся художник и, достав из-за пазухи пожелтевшую фотографию, протянул старику: — Вот мы все здесь, так сказать, из детства…
Старик взял в руки фотографию и, прищурив глаза, начал внимательно ее рассматривать. Второй старик, налив себе стопку водки, медленно выпил ее, а затем, удивленно посмотрев на фотографию, робко произнес:
— Вот она, старая-то Русь, не то что сейчас! — и, закурив, вышел из-под навеса. Затем обернулся в сторону художника и, горько усмехнувшись, спросил его: — А если нет твоих Скворцов, что будешь делать?
Художник вздрогнул. Лицо его от неожиданности охватившего волнения исказилось. Встав, он зло посмотрел на старика.
— Что это значит?..
— Ах ты, господи! — одернул его высокий. — Выпил и мелешь черт знает что…
— Да ну вас… — с обидой произнес маленький. Он хотел еще что-то добавить, но высокий оборвал его.
— Ты лучше скажи, готова уха?
— А как же, я уже ее разлил… — и, поперхнувшись дымком, закашлял. — Ну зелье, Бог знает, для кого выпускают…
Редкие дождевые капли изредка падали с неба. Ветерок все так же поднимал волны на озере. К рыбакам подбежала собака. Один из рыбаков кинул ей рыбешку, и она, схватив ее, стала жадно есть.
Нищий, бросив играть, крикнул мальчонке, стоящему в воде:
— Наши русские села холодные и голодные, а свой газ иностранцам отдаем…
На что в ответ мальчонка сказал:
— А у нас с маманькой дров целый сарай…
Нищий вздохнул и, выставив из лодки костыли, вновь заиграл, то и дело встряхивая головой и передергивая плечами в такт музыке.
Костыли упали в воду. Ветер поднимал волны и гнал их к берегу. Белые чайки, покачиваясь, сидели на борту катера и подозрительно смотрели то на рыбаков, которые о чем-то спорили, то на прибрежные деревья, листва которых блестела и переливалась.
На какой-то миг солнце из-за туч выглянуло. И художник, увидев его, приободрился. Оно было точь-в-точь как и на его картине. А затем он услышал голоса из далекого детства… А затем перед глазами появились Машенька, Васька, Михайло Михайлович и все остальные такие далекие, но в то же время и близкие.
Отодвинув чашку с ухой, он встал из-за стола.
— Сынок, ты куда? — спросил старик.
Но художник, ничего не отвечая, торопливо шагал по берегу навстречу ветру и усилившемуся дождю.
— Это сердце его торопит, — воскликнул маленький. — Деревни нет, а дух ведь все равно остался.
— Откуда дух, — протяжно произнес высокий и, покосившись на катер, болтавшийся на волнах, махнул рукой: — Если бы дух был, то чайки бы рыбу не клевали.
Затем дрожащей рукой прикурил сигарету и, продолжая с напряжением вглядываться в уходящего художника, сказал: — А ведь я думал, он пьян.
Дождь позвякивал по крыше навеса. Рыбаки, забравшись на катер, смеясь, начали заводить его.
Вспыхнули желтые огоньки бакенов, напоминая о том, что скоро наступит вечер. Нищий, кое-как с помощью мальчонки выйдя из лодки, сел на пустой чемодан и, крича в сторону катера: «Во-во! Опять без меня!..» — тихо заиграл вальс.





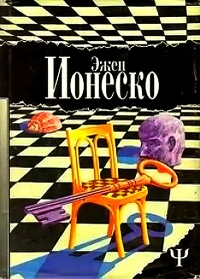





Комментарии к книге «Софринский тарантас», Александр Петрович Брежнев
Всего 0 комментариев