Беппе Фенольо Страстная суббота
Повесть
Перевод с итальянского С. Токаревича
I
На кухонном столе стояла бутылочка с лекарством, которым отец натирался каждый вечер, приходя из мастерской, тарелка со следами оливкового масла, солонка… Этторе перевел взгляд на мать.
Она готовила на газовой плите, он смотрел на ее расплывшуюся фигуру, плоские ступни; когда она нагибалась, из-под юбки у нее, чуть выше колен, виднелись круглые резиновые подвязки.
Этторе любил ее.
Он сделал последнюю затяжку и швырнул окурок, целясь в кучу опилок на полу у плиты. Но промахнулся: окурок упал ближе, около ноги матери. Она наклонилась, бросила взгляд на сигарету и тут же опять принялась за стряпню.
— Ты что разглядывала? — спросил он с угрозой в голосе.
— Мне просто хотелось посмотреть, что около меня упало. — Она старалась говорить как можно равнодушней.
— Я отлично знаю эту твою манеру смотреть. Потуши его! — заорал он.
Нахмурившись, женщина взглянула на сына, потом опустила глаза и наступила на окурок.
— Потушила, — сказала она. И добавила: — Тебе вредно так много курить.
Этторе вскипел:
— Скареда! Не о моем здоровье ты печешься, а о своих деньгах. Да наживи я куреньем чахотку, ты не станешь расстраиваться! Ты денег на сигареты жалеешь… сквалыга!
Она опустила голову и ничего не ответила, только вздохнула так, что видно было, как грудь ее поднялась и опустилась.
Теперь он ждал, чтобы мать заговорила, но та молчала, а он, некрасиво выпятив нижнюю губу, следил за тем, как она с нарочитой тщательностью чистила картофелину, и накалялся все больше и больше: ему казалось, что своим молчанием мать берет над ним верх.
Он встал со стула и принялся расхаживать по кухне. Каждый раз, оказываясь у матери за спиной, он останавливался, ощущая сильнейшее желание задеть ее, может, даже толкнуть… Этого он не сделал, но в очередной раз остановившись позади нее, тронул ее за плечо и сказал:
— Знаешь, оставь ты меня лучше в покое.
— Я тебе ничего плохого не сказала. Ну что я такого сказала?
— Важно, что у тебя на уме. Что тебе приходит в голову каждый раз, когда ты видишь, что я закуриваю, а? Я знаю, тебе хочется стукнуть меня молотком! По-твоему, курить может только тот, кто зарабатывает на табак.
— Никогда я этого не говорила.
— Но ты это думаешь. Сознайся, что думаешь. — Он рванулся к ней с поднятыми кулаками. — Сознайся!
Мать уронила картофелину и повернулась к нему с ножом в руке.
— Отойди!
Он остановился. Мать сказала:
— Не подходи. Ты меня больше не испугаешь. Прошло то время, когда я тебя боялась.
Этторе рассмеялся.
— Да мне достаточно дотронуться до твоего подбородка пальцем, чтобы ты испугалась. Смотри, я как-нибудь это сделаю!
Она отстранила его совсем молодым движением и, проскользнув между ним и плитой, кинулась к двери.
— Карло! Карло! — позвала она.
Но сын обогнал ее и встал в дверях. Потом, набрав побольше воздуха и орудуя плечами, оттеснил ее к плите.
— Не выйдет, на этот раз тебе не удастся наябедничать отцу и, как тогда, довести его до того, что он чуть меня не избил и не проклял. — Он изобразил, как она пронзительным голосом звала отца. — Ничего у тебя не выйдет. Сначала должны объясниться мы с тобой, сначала разберемся сами, как мать с сыном. — Он рассмеялся.
Мать опять принялась за недочищенный картофель.
— Так что ты против меня имеешь?
— Ничего.
— Лгунья! Что ты имеешь против меня?
— Я твоя мать. И не могу ничего иметь против тебя. — Она обернулась и адвокатским жестом протянула руки ладонями вверх, показывая, что в них ничего нет.
Этторе в бешенстве затряс головой и, зажмурившись, прокричал:
— Что ты имеешь против меня-я-я!!
— То, что ты не работаешь! — крикнула она в ответ и спряталась в угол, за плиту.
Но он не тронулся с места, только еще раз тряхнул головой и выдавил долгое: «А-а-а!»
— То, что тебе двадцать два года и ты не работаешь, — повторила она.
— Так ты злишься на меня за то, что я не работаю и не приношу тебе этих мерзких денег. Ничего не зарабатываю, а ем, пью, курю, по воскресеньям хожу на танцы, а по понедельникам покупаю спортивную газету. Злишься, что я, не работая, хочу иметь все то, что другие зарабатывают своим горбом. Только это ты и знаешь, ты ни о чем другом слышать не хочешь, хотя то, другое, и есть главное, и есть правда, только она тебе невыгодна. Я в этой жизни не нахожу себе места, и ты это понимаешь, но думать об этом не хочешь. А я не нахожу себе места потому, что прошел войну. Запомни же раз навсегда, что я воевал и что война меня изменила, что она меня начисто отучила от этой жизни. Я еще тогда знал, что не сумею снова к ней привыкнуть, и теперь я целыми днями ничего не делаю именно потому, что стараюсь вернуть себе прежнюю привычку; только этим я и занят. Вот что ты должна и что ты не желаешь понять. Но я заставлю тебя понять это! — И он снова протянул к ней руку.
Она сказала:
— Зато я понимаю и своими глазами вижу, что ты не желаешь работать. Почему ты бросил работу на стройке?
— Хорошую работу мне там дали! Ты знаешь, почему я ее бросил, я тебе говорил, однажды я выложил это прямо тебе в лицо, вот как сейчас. Потому что это была работа не по мне, ты же видела, что меня там заставляли делать.
Выпятив губу, она отрицательно покачала головой.
— Видела, видела! — закричал он. — Ты приходила шпионить за мной, подглядывать, вправду ли я работаю или, может, пошел купаться на речку.
— Это тебе приснилось.
— Лгунья, мерзкая лгунья! — продолжал кричать он, и мать снова опустила голову. — Меня заставляли возить раствор из бетономешалки, целый день я бегал взад и вперед с тачкой, как проклятый. В партизанах я командовал двадцатью бойцами, и такая работа не по мне. Отец меня понял, и когда я ему все объяснил, он ничего не сказал, потому что он мужчина и…
— Твой отец дурак, несчастный дурак!
— Не смей называть дураком моего отца!
— Я могу говорить о твоем отце что угодно, называть его как пожелаю, только я одна! Твой отец дурак, он слеп, и ты его водишь за нос как хочешь, потому он никогда с тобой и не ссорится. Мы ругаемся с тобой, потому что я-то не дура, меня ты не проведешь, я знаю, что ты хочешь сказать, еще прежде, чем ты откроешь рот, вот почему мы ссоримся с тобой! — Она, казалось, опьянела от самодовольства и, уперев руки в бока, чуть не приплясывала.
Этторе сказал:
— Ты хитрая, ты умней его, этим ты его переплюнула, но я предпочитаю отца, хоть ты и называешь его дураком. Я отдаю предпочтение отцу, я люблю его больше, чем тебя, и если бы встал вопрос, кого из вас двоих оставить умирать, я, не задумываясь ни минуты, оставил бы тебя!
Тут Этторе и его мать оба страшно побледнели и замолчали.
Потом Этторе кинулся к матери, обнял ее за плечи и спрятал лицо в ее седых волосах, а она отталкивала его, упираясь в него руками и коленями, и кричала:
— Оставь меня, не тронь, уйди, чтобы я никогда тебя не видела.
Она разрыдалась, обливая слезами его голую шею, все еще отбиваясь, а он все крепче прижимал ее к себе так, что оба чуть не упали. Рывком восстановив равновесие, Этторе крикнул:
— Лучше не отбивайся, а то я могу сделать тебе больно, перестань, я все равно тебя не отпущу, хочу обнимать тебя и все, стой спокойно!
Она Наконец затихла, но все еще плакала, волосы ее пропахли керосином, а одежда — кухней.
— И почему только меня не убили? — спросил он. — Столько в меня стреляли — ив грудь и в спину — и все-таки не убили!
Она замотала головой.
— Не говори так, Этторе, лучше начни работать, берись за любую работу, не будь слепым, верь мне и не кричи, когда я тебе говорю, что мы уже почти на улице. Твоему отцу одному воза не вытянуть, а я только веду хозяйство, да и печень у меня больная. Если ты не начнешь работать, у нас не только не будет хлеба, жилья и одежды, но и мира в семье, так мы все озлобимся.
— Предоставь это мне, мать, я что-нибудь придумаю и стану приносить в дом деньги, клянусь тебе.
— Только не откладывай, Этторе, начинай понемногу нам помогать, дай небольшую передышку, хотя бы продай оружие, которое ты принес с войны.
Упершись лбом в ее лоб, он покачал головой.
— Я уже пробовал, предлагал оружейнику с Главной улицы, да он не берет — говорит, слишком велико, не ходовое.
— Что же делать?
— Придумаем. Ты прости меня, мама.
— Ладно.
— Нет, скажи как следует!
— Ну, прощаю.
— И смотри ничего не рассказывай отцу — пусть после работы отдохнет спокойно.
Когда, спустившись вниз, он проходил мимо мастерской отца, тот стоял к нему спиной — видны были только его могучие плечи, такие же как у Этторе. Отец полировал мебель, и из мастерской неслись запахи краски и спирта.
— Помочь тебе? — спросил Этторе.
Отец, повернувшись вполоборота, лишь покачал головой и сказал вслед Этторе;
— Только не запаздывай к ужину — я хочу пораньше поесть и тут же лечь спать.
Этторе пошел по направлению к гостинице «Национале», где можно было посмотреть, как на большом дворе играют в лапту. Ему нравилась эта игра и то, что здесь всегда было много зрителей и любителей держать пари, старых и молодых зевак, — находясь среди них, Этторе уже не чувствовал за собой такой большой вины.
Однако сегодня, подходя к гостинице, он не услышал ни мерных ударов мяча о стенку, ни возгласов и топота возбужденных зрителей.
Заглянув в ворота, он увидел пустую игровую площадку, посредине которой какая-то женщина стирала белье. Неподалеку, на перевернутом вверх дном ушате, сидел мальчик.
Все еще не веря своим глазам, Этторе подошел к площадке. Мальчик уплетал булку, заедая ее конфетой.
— Сегодня не играют, — сообщил он Этторе.
— Вижу, — ответил тот с таким мрачным видом, как будто ему нанесли смертельное оскорбление.
На улицу он вышел в прескверном настроении: ему казалось, что его предали. Он решил пойти посмотреть, как идет прокладка канализации за государственный счет. Его улица как раз выходила к самой длинной траншее.
На площади Тренто и Триеста он увидел кучи земли, снующих туда и сюда рабочих, машины и дорожные знаки, предупреждающие о начале работ и о том, что проезд закрыт. Подойдя ближе, он почувствовал сильный запах свежевскопанной земли, дождевых червей и гниющих цветов — так обычно пахло на кладбище, когда он приходил туда второго ноября, в День поминовения усопших.
Он взобрался на кучу вырытой земли и заглянул в траншею. Она была глубокая, с хорошо отделанными стенками. О том, что в ней работают люди, напоминали лишь верхушки соломенных шляп.
Под одной из шляп Этторе узнал своего школьного товарища, которого все называли Марселем, потому что он с детства мечтал уехать во Францию, но это ему никак не удавалось.
Перескакивая с кучи на кучу, Этторе подошел к приятелю. Марсель работал в траншее и был одет как американский солдат.
— Эй, Марсель! Ты все еще здесь, а не во Франции?
— Не говори мне о Франции, — ответил Марсель и склонился над лопатой, явно не желая разговаривать на эту тему. Однако немного погодя он выпрямился и сказал — Весной я чуть туда не попал. Да, видишь ли, мой напарник набрался как следует, пока ждал меня в остерии в Вентимилье, и разболтал, что мы с ним пробираемся во францию, под носом у наших пограничников. А я в это время пошел к врачу вырвать зуб: не хотелось мне оказаться во Франции с больным зубом. А когда я вернулся в остерию, там меня уже поджидали жандармы. Они нас пинками затолкали в поезд, и мы прикатили сюда. — Тут Марсель с остервенением схватил лопату. — Но ничего, полгода перебьюсь, весной опять попробую. Только на этот раз пойду через горы, не побережьем. И, уж конечно, один.
Неожиданно Этторе сказал:
— Не забудь сообщить мне, Марсель, когда соберешься во Францию. Может, и я махну с тобой.
Но Марсель покачал головой.
— Чего ты боишься? Что я удружу тебе, как тот твой приятель?
Марсель вновь покачал головой и ответил:
— Ты для этого не подходишь. Ты, Этторе, не болеешь Францией, как я. Видишь ли, тот приятель был пьяницей и болтуном, но Франция засела у него в башке, так же как и у меня. Потому я в конце концов и простил его. Он и напился-то от радости, что оказался так близко от Франции.
— А что ты станешь делать в этой Франции? — спросил Этторе, немного помолчав.
— То же. что и здесь, — кирка да лопата. Но жить во Франции для меня — лучшее, что только может быть на свете.
Марсель заметил кривую усмешку Этторе и добавил:
— Во Франции ведь можно не только киркой да лопатой орудовать. Там есть Иностранный легион. Если здесь, в Италии, ты не найдешь ничего лучшего, можно поехать туда и поступить в Иностранный легион.
К ним приближался мастер, наблюдавший за работой. Марсель принялся копать, а Этторе стал смотреть, как он работает. Мастер прошел между траншеей и Этторе, поглядел на сгорбленную спину Марселя и удалился, ничего не сказав.
Этторе некоторое время смотрел ему вслед, а потом заметил:
— Этих сукиных детей ты встретишь и во Франции тоже.
Марсель улыбнулся.
— Во Франции мне все будут милы, даже они.
Этторе покачал головой и повернулся, чтобы уйти.
— Чао, Марсель, да смотри не надрывайся.
— Эй, Этторе, — крикнул вслед ему Марсель, — та к. предупредить тебя, когда соберусь во Францию?
Не оборачиваясь, Этторе лишь покачал головой.
II
— Что, отец уже дома? — спросил Этторе на следующий день вечером. Проходя мимо мастерской, он заметил, что она заперта.
— Он пошел недалеко по одному делу, — ответила мать. «Она уже тогда знала обо всем», — думал позднее Этторе.
— Ты что приготовила?
— Молочный суп.
— Хорошо. — Этторе подошел к буфету. Там лежали две красивые, пестрые коробки с ампулами, обернутыми в целлофан, как заграничные сигареты.
Мать повернулась к нему и сказала:
— Погляди на обратной стороне, сколько они стоят. Может, ты считаешь, что не надо тратиться на лечение? Что же, мне ждать, пока совсем сгниет печень?
Он вспылил.
— Конечно, надо лечиться! Кто в таком деле думает о деньгах? Знаешь, чем ты меня всегда злишь и выводишь из себя? Тем, что без конца говоришь о вещах, о которых лучше молчать. Ненавижу эту твою манеру, злость во мне так и закипает!
Она отвернулась к плите. Он провел рукой по краю стола.
— Накрыть на стол?
— Я сама.
Этторе сунул руки в карманы и посторонился, пропуская мать к столу.
— Куда тебя колют?
— В руку.
Этторе хотел спросить, больно ли это, но раздумал.
Минут через десять после того как стол был накрыт, вернулся отец. Этторе сразу услышал его шаги на лестнице, и они показались ему более легкими, чем обычно, — возможно, он даже шагал через ступеньку.
В дверях отец появился с улыбкой на губах. Этторе вынул руки из карманов и с удивлением уставился на его вдруг помолодевшее лицо. Ему показалось, что отец сделал какой-то знак матери, стоявшей в углу у плиты.
— Ты что, получил хороший заказ? — спросил он.
— Речь идет о тебе, — ответил отец, — а для меня это больше, чем хороший заказ. Давайте сядем за стол и поговорим.
За столом Этторе узнал, что ему нашлась работа на шоколадной фабрике и что за это он должен быть благодарен кавалеру Ансальди. Мать тут же сказала:
— Так что здоровайся повежливее с кавалером Ансальди, если встретишь его на улице.
Этторе вздрогнул, как ужаленный, и уже готов был крикнуть: «Ах, значит, ты знала? Так почему же ты мне ничего не сказала? Хотела приготовить приятный сюрприз?» — но подумал, что мать могла ответить, что еще ничего не было известно наверняка, и этим оправдаться. К тому же отец все говорил, не давая ему вставить слова.
— Имей в виду, что тебя берут не простым рабочим, я сказал кавалеру, что ты хоть и не много учился, но парень не глупый, а он ответил, что и сам это знает. Тебе поручат писать накладные — такие бумаги для отправки товара по железной дороге. Это будет твоя работа, твоя должность. И не сидячая, заметь: тебе часто придется ходить на товарную станцию.
Этторе молчал; он чувствовал, что мать уже минут пять смотрит ему в спину, и, как в зеркале, видел перед собой ее крепко сжатые, в ожидании его ответа, губы.
— Подходит тебе? — спросил отец.
— Должно подходить, — тоном командира ответила за него мать.
Каждый мускул в лице Этторе напрягся, налившись гневом, но он молчал. Отец видел это и сказал матери:
— Не говори с ним таким тоном. И вообще лучше помолчи. Дай поговорить нам, мужчинам.
— Уж вы мужчины!
Здесь взорвался и отец:
— А что ты имеешь против нас? Спрячь свой нос в кастрюлю и не высовывай его оттуда. Если хочешь знать, я только на этом условии на тебе и женился.
Она подошла к столу, опустив глаза, но упрямо поджав губы.
— Ешь, Карло, ешь, — спокойно сказала она мужу, ставя перед ним миску с молочным супом.
Он стал крошить в миску хлеб, потом обратился к Этторе:
— Надень свой лучший костюм, ты идешь не рабочим, для которого чем хуже одежда, тем лучше. И побрейся с вечера.
— Разве завтра утром у меня не будет времени?
— Брейся когда хочешь, я просто подумал, что завтра тебе надо будет как следует подготовиться.
— Подготовиться к чему? — спросил Этторе, не отрывая глаз от миски.
— К тому, чтобы идти на работу.
Мать вмешалась:
— Этторе еще не сказал, пойдет он работать или нет.
Отец поднял голову и посмотрел на жену и на сына.
— Конечно, пойду, — поторопился ответить Этторе.
— С чего это тебе пришло в голову? — громко спросил отец у матери.
Этторе не стал крошить хлеб в молоко, поспешно взял миску в руки и начал пить, заслонив миской лицо, чтобы выиграть время и обдумать положение. Однако в голову ему не приходило ничего, что могло бы противостоять этой силе из слов и фактов, которая неумолимо толкала его на работу. Никогда, даже на войне, его не заставали настолько врасплох.
Кончив есть, он спросил:
— А что я понимаю в накладных?
— Тебя научат, это нетрудно. Говорят, что уже к обеду ты поймешь что к чему. Рядом с тобой посадят одного служащего, славного парня.
— Кого это?
— Я не знаю.
Пережевывая корку, Этторе резко спросил мать:
— Ты что на меня уставилась?
— Уже и посмотреть на тебя нельзя?
— Нельзя.
— Я смотрела не на тебя, а на блюдо на столе.
— Дай мне фрукты, если есть.
— Не можешь подождать, пока отец кончит обедать? Хочешь заставить его нестись вскачь, чтобы поспеть к фруктам вместе с тобой?
— Почему он обязательно должен есть фрукты вместе со мной? — взорвался Этторе. — Что случится, если я буду есть фрукты, а он только еще первое?
— Дай ему фрукты, — сказал отец.
Через некоторое время Этторе встал и направился к двери.
— Я ухожу, — бросил он.
Отец попросил:
— Возвращайся пораньше, не забывай, что завтра утром тебе на работу. И вообще лучше бы тебе вечерок отдохнуть. Я на твоем месте никуда не ходил бы.
— Я пошел, — повторил Этторе.
— Пригладь волосы, — заметила мать.
Он пожал плечами, но все-таки подошел к зеркалу, чтобы причесаться. В зеркале отразились плотно сжатые губы и желваки на скулах — Этторе испугался, что от злости у него лопнет какая-нибудь жила.
— Возвращайся пораньше, — напомнил отец, когда он уже выходил из кухни.
В тот вечер за городом, возле холма, у него было свиданье с девушкой, восемнадцатилетней Вандой. Он пришел на условленное место и стал ждать.
Ванда немного опоздала и, взглянув на его лицо, сразу стала оправдываться:
— Не сердись на меня, Этторе, мне пришлось сделать большой крюк, чтобы не встретиться с братьями.
Лицо Этторе оставалось хмурым, и она взяла его за подбородок, стараясь повернуть так, чтобы на него упал лунный свет. Он высвободился и спросил:
— Сколько у тебя времени?
— Два часа. Сестра будет ждать меня к одиннадцати около кино.
— Тогда скорее, — сказал Этторе и первым пошел по тропинке вверх.
Так он шел некоторое время, слыша позади себя ее покорные шаги. Потом остановился, отступил в сторону и сказал:
— Иди вперед ты.
Она быстро проскользнула вперед, очень довольная, потому что знала: он всегда возбуждался, когда шел позади нее, не отрывая взгляда от проворных движений ее ног под колышущейся из стороны в сторону юбкой.
Но на этот раз Этторе не глядел на ее ноги. Он смотрел на огни расстилавшегося внизу города, на приземистое здание шоколадной фабрики и думал уже о возвращении.
Наконец он нагнал девушку и обнял, стиснув с такою силой, что она покачнулась, — чуть пополам не переломил. Она сказала, обдавая дыханием его щеку и ухо:
— Что с тобой, Этторе? Ты так ринулся за мной, что напугал меня.
— Напугал? Я?
— За городом, ночью… Мне стало страшно: вдруг это не ты. Но ведь это ты, да? — Она прижалась к нему, и он обнял ее так крепко, что у нее перехватило дыхание.
Высвободившись, девушка сказала:
— Скорей, мне некогда, бежим! — И побежала вперед, юбка у нее задралась выше колен.
Он бежал за ней уговаривая:
— Не беги так, задохнешься, и надо будет ждать, пока ты отдохнешь.
Она замотала головой и продолжала бежать; для девушки она бежала очень быстро, и он видел, как она на бегу расстегивает платье.
— Подожди, — крикнул он, в несколько прыжков настиг ее, остановил, схватив за плечи, и стал застегивать платье. — Я люблю смотреть, как ты раздеваешься. Не хочу, чтобы это было на ходу.
Они пришли на свое место на склоне холма, где стоял небольшой домик, на нижнем этаже которого в непогоду укрывались люди и скот, а на верхнем — открытом с двух сторон — был сеновал. Они нашли этот дом летом, когда разразилась гроза и им негде было укрыться.
По решетке окна на первом этаже Ванда первой вскарабкалась на сеновал. Она знала, что Этторе нравится глядеть снизу, как она занимается акробатикой. Но ступив на сеновал, она закричала:
— Ой, эти проклятые крестьяне забрали отсюда все сено!
— Ничего, там еще, наверное, осталось, — сказал он, поднимаясь следом за ней.
Он стал на колени и принялся сгребать остатки сена, чтобы соорудить ложе, а сам через плечо смотрел, как она раздевается. Белье промелькнуло в полутьме, в лунном свете фосфоресцировали очертания нагого тела.
Этторе протянул к ней руки, ее ослабевшее тело упало на них, и он прижал ее к себе.
— О милый, у тебя же одни кости да кожа!
— Ты, видно, еще не поняла, как тебе нравятся эти кости да кожа, — отвечал он, счастливый и злой, переворачивая ее.
Ноги девушки взметнулись в воздухе, как руки утопающего, и застыли двумя арками.
Ее крик прозвучал в тишине, царившей на холме, так громко, что он испугался:
— Ах я потаскушка, я потас…
Он прикрыл ей рот ладонью, но она отвернула голову в сторону и, утопая в сене, продолжала кричать:
— Да, да, я потаскушка, но мне все равно, это так прекрасно, это слишком хорошо… Несчастные девушки, которые этого не делают. Я — потас…
Этторе поймал ее губы своими и сквозь зубы сказал:
— Ты не потаскушка! Потому что ты моя потаскушка. Только моя, поняла?.. — Он вытянулся рядом с ней.
Где-то невдалеке в кустах крикнула сова, и Ванда невольно вздрогнула. Он провел рукой вдоль ее тела, как бы снимая эту судорогу.
Попросил достать сигарету из кармана брюк. Она нащупала пачку и подала ему.
— И спички.
Пошарив вокруг, она протянула спички. Этторе закурил, но не сразу погасил спичку.
— Туши, не смей на меня глядеть!
Он потушил и, перевернувшись, лег щекою на ее расслабленное бедро.
Лежа так, он сквозь беловатое облачко дыма смотрел на тропинку, которой они шли сюда и по которой теперь им предстояло возвращаться, на городские огни и на звезды. Потом произнес:
— С завтрашнего дня у меня будет хозяин. — И почувствовал, как она приподнимается, опершись руками о сено. — Отец нашел мне место на шоколадной фабрике. Завтра я начинаю работать.
— Это хорошо, Этторе, — сказала она тихо и осторожно.
Он резко повернул голову, надавив подбородком на ее мягкое бедро.
Ванда продолжала:
— Рано или поздно надо же начинать.
— Но почему? — закричал он.
— Почему? Потому что все когда-нибудь начинают работать.
— Не все, ты отлично знаешь, что не все.
— Ну, почти все.
— А почему я должен быть одним из них?
— Не знаю, но ты один из них; таким уж ты родился. Может быть, ты нашел способ не быть таким, как «почти все»? — По тому, как он снова уткнулся подбородком в ее бедро, она поняла, что он такого способа не нашел. — Тогда как же быть?
— Почему бы мне еще не подождать?
— Ах, Этторе, ведь тебе уже двадцать два года, — сказала она очень грустно и добавила: — Может, ты вообще не собираешься работать?
— Так ведь работать надо под чьим-то началом! — крикнул он.
— Ну и что же?
— Ты говоришь так, потому что это не касается тебя.
— Я работаю.
— Где ты работаешь?
— Дома.
— Это, по-твоему, работа?
— Да, работа. Готовить, стирать, гладить, шить, мыть и чистить все вокруг — от пола до ботинок и посуды, носить воду, дрова… Знаешь, у нас с матерью к вечеру спины болят почище, чем у рабочих!
— Но над тобой нет хозяина.
— Я прислуга у отца и братьев. Ты даже не представляешь себе, как они мной помыкают.
Этторе швырнул сигарету и рывком сел рядом с девушкой.
— Значит, и ты хочешь, чтобы я стал таким же, как все прочие.
— Ничего другого тебе не остается. Ты такой, как и все.
— Ах, вот как ты меня любишь!
— Я люблю тебя, но знаю, что ты такой же, как все.
— Ты еще увидишь! Ты — первая.
— Что ты задумал?
— Еще не знаю, но только ты увидишь.
Ванда прижалась к нему грудью и сказала:
— Делай что хочешь, Этторе, делай что угодно, только не оставляй меня. Будь всегда со мной.
Но он не слушал ее.
— Ты хочешь, чтобы я завтра шел на работу? Да? Говори.
Она смотрела прямо перед собой.
— Я ничего не говорю, но если ты пойдешь, то уже с завтрашнего дня мы сможем на что-то надеяться. Или ты хочешь, чтобы мы всю жизнь виделись раз в неделю, встречались, как скотина, где придется, под чужой крышей?
Он опустил голову.
Тогда она протянула обнаженную руку и, прижав его голову к груди, сказала:
— Не грусти, милый, не надо. Мне так тяжело, будто я в чем-то виновата. — Потом произнесла совсем другим тоном: — Скажи, Этторе, ты думал только об этом, когда мы занимались любовью?
— Конечно, я думал об этом. И тогда, и сейчас.
— О! — жалобно простонала она, и рука ее упала.
— Ты что?
— Значит, я тебе ни к чему, — в ее голосе дрожали слезы, — если я не могу заставить тебя забыть неприятности, даже когда отдаю тебе все, что могу.
Он крепко обнял ее, повалил навзничь и, застонав от нежности, стал целовать в глаза, повторяя:
— Не огорчайся, не клевещи на себя… Ты даешь мне слишком много… Я сказал тебе неправду, ни о чем другом в тот момент я не думал.
III
Выйдя на площадь, носившую прежде имя короля, он увидел инвалида Баракку, сидевшего в тележке, запряженной парой собак. Вместе с инвалидом он пересек площадь.
— Никогда не встречал тебя в такой ранний час, — заметил Баракка.
Этторе нагнулся, приласкал рыжую собаку и, выпрямившись, не сразу ответил:
— Я иду на работу.
Несколько удивленный, Баракка спросил, куда именно.
— На шоколадную фабрику.
— Рад за тебя, это хорошая фирма.
Этторе не хотелось разговаривать о своей будущей работе, и потому он спросил инвалида, куда тот направляется.
Баракка торопился на станцию к поезду. При виде собак приезжие обычно умиляются и довольно щедро оделяют инвалида. Со станции он заставляет собак трусить к сберегательной кассе и устраивается близ выхода из нее, под портиком. И там ему подают неплохо — люди, только что получившие деньги, обычно не проходят мимо, ничего не дав.
«Баракка разработал хорошую систему, — думал Этторе, расставшись с ним, — он извлекает выгоду из своих култышек и живет не так уж плохо, многие хотели бы столько зарабатывать. Но Баракка это заслужил потому, что в один прекрасный день сумел решиться жить подаянием. Весь город знал, что он был отличным рабочим и что с ним случилось несчастье, но никто не ожидал, что он станет нищенствовать, что он покажется на улице в тележке, которую тащат две собаки, с пачкой разноцветных билетиков „судьбы“ в руках. Это был трудный день и для него, и для тех, кто знал его раньше, а потом и он, и все окружающие с этим свыклись, и с тех пор он живет совсем неплохо. Я тоже могу изменить свою жизнь, нужно только сделать так, чтобы люди привыкли к тому, на что я решусь. Но сначала я должен сам решиться, да поскорее, иначе я рискую привыкнуть к работе под началом других».
Этторе шел по узенькой улочке и думал только о том, что каждый шаг приближает его к месту работы. Он вспомнил отца, которого оставил четверть часа назад на пороге мастерской. Отец растрогался, увидев, что сын идет на работу, глаза у него стали как у охотничьей собаки. Он протянул руку, и Этторе пожал ее, но при этом смотрел на него, будто не узнавая. Он думал: «Ты мой отец? А почему ты не миллионер? Почему я не родился сыном миллионера?» Человек, стоявший перед ним, причинил ему зло, сделав сыном бедняка, а это все равно как если бы он родился рахитиком, у которого голова больше, чем тело.
Потом он подумал о человеке, который через какие-нибудь четверть часа будет сидеть рядом с ним и учить писать накладные.
— А, черт! — выругался он вслух.
По дороге в какой-то мастерской он увидел рабочего, снимавшего кожух с токарного станка, и лицо этого человека не было ни печальным, ни слишком усталым, ни угрюмым. Потом мимо него на грузовике проехали рабочие электрической компании. Своей голубой формой с медными значками на беретах и тем, как они чинно сидели по бортам машины, эти рабочие напоминали военных. И они тоже не показались ему ни печальными, ни усталыми, ни угрюмыми — наоборот: выглядели даже гордыми. Этторе лишь покачал головой.
Наконец, он оказался перед шоколадной фабрикой.
Здесь уже было около ста рабочих и работниц, и в какую бы сторону они ни смотрели, казалось, их взгляд как магнитом притягивали широкие металлические ворота фабрики. Этторе не подошел к ним. Наоборот, отошел подальше, к общественной уборной, и оттуда глядел на стоявших группами рабочих и на закрытые ворота. С того места, где он стоял, был виден длинный фабричный гудок, укрепленный на высотной площадке, и ему казалось, что воздух уже содрогается в ожидании резкого и протяжного звука.
Подошли и служащие — восемь, девять, десять, одиннадцать. Не смешиваясь с рабочими, стоявшими на дороге, они топтались на тротуаре. Он спрятался за уборной и наблюдал за ними сквозь металлическую решетку. «Я должен стать двенадцатым, — сказал он себе и тут же отчаянно замотал головой, — нет, нет, меня не затянут в этот колодец. Я никогда не буду вашим, чьим угодно, только не вашим. Мы слишком разные люди. Женщины, которые любят меня, не полюбят вас, и наоборот. У меня будет другая судьба, не похожая на вашу; не скажу — хуже она будет или лучше, но другая. Вы легко идете на жертвы, которые для меня слишком велики, невыносимы, а я совершенно хладнокровно могу делать такие вещи, при одной мысли о которых у вас волосы встанут дыбом. Я не могу быть одним из вас».
Там стояли люди, которые каждый день замыкались в четырех стенах на лучшие восемь часов суток, на то время, когда в кафе, на спортивной площадке и на рынках происходят интереснейшие встречи, когда с поездов сходят таинственные незнакомки, когда летом манит к себе река, а зимой — заснеженные холмы. Вот они — несчастные люди, которые никогда ничего не видят сами и судят обо всем по рассказам других, люди, которые должны просить разрешения уйти с работы, даже если у них умирает отец или рожает жена. Лишь по вечерам они вырываются из этих четырех стен, унося с собой горсть монет в конце месяца и каждый вечер — щепотку пепла, оставшуюся от того, что было днем их жизни.
Он еще раз упрямо мотнул головой и решил как можно скорее наладить связь с Бьянко.
Гудок загудел — немного тише, чем он ожидал; открылись ворота, которые проглотили сначала женщин, потом мужчин, бросавших не-докуренные сигареты, прежде чем ступить на заводскую территорию, или спешивших глубокими, судорожными затяжками докурить их.
Последними вошли служащие. Прежде чем они скрылись за воротами, Этторе попытался угадать, кто из них должен был учить его писать накладные.
Не будет он его учить ни сегодня, ни когда-либо на этом свете. «Дорогой мой, — говорил он всем им и никому в частности, — у тебя свой опыт в жизни, у меня свой. Ты мог бы научить меня оформлять товар для поставки, но и я мог бы научить тебя кое-чему. Каждый сообразно своему опыту. Я научился владеть оружием, приводить людей в трепет одним взглядом, научился стоять неумолимо, как статуя, перед людьми, ползающими на коленях, со сложенными в мольбе руками. Каждый сообразно своему опыту».
Появился огромного роста сторож в черном халате. Он посмотрел вдоль заводских стен направо и налево и, вернувшись на территорию фабрики, закрыл за собой ворота.
Этторе вышел из-за своего укрытия, до него донеслось жужжанье фабричных моторов. Он повернулся и направился к «Коммерческому кафе», над которым, как он знал, жил теперь Бьянко.
По пути он вспомнил, как в последний раз встретился с Бьянко наедине — на людях они встречались чуть ли не ежедневно. Было это во время карнавала, в подвальчике братьев Норсе. Эти братья, ничем не брезгуя, порядком нажились на войне и теперь открыли нечто вроде дансинга, где по воскресеньям и другим праздничным дням городская молодежь оставляла почти все свои деньги.
Оркестр, как обычно, исполнял американские песенки, а Бьянко с тремя приезжими девицами восседал за лучшим столиком и заказывал одну бутылку шампанского за другой. Этторе знал, откуда у Бьянко такие деньги, — может, знал об этом и кто другой, но наверняка не с такой точностью, как он.
На войне Бьянко был героем и однажды устроил немцам такое, что не только в Италии, но даже в России и Польше мало кому удавалось.
Этторе заметил, что Бьянко был сильно пьян, но останавливаться не собирался, а три осоловевшие девицы, сидевшие с ним, лишь беззвучно открывали и закрывали рог, как рыбы, вытащенные из воды.
Этторе находился у стойки бара. В руках у него был стакан какой-то американской мерзости, а в груди закипала злость и росло неудержимое желание швырнуть стакан об пол, и если бы после этого один из братьев Норсе осмелился ему что-либо сказать, он развернулся бы и дал ему между глаз. Но при всем том он ни на минуту не упускал из виду Бьянко. И потому заметил, как тот смахнул на пол стакан, а потом так стукнул кулаком по столу, что разом спугнул всех трех девиц. Этторе сжал губы и уставился на дно своего стакана. Когда он поднял глаза, в зале все было по-прежнему, оркестр играл как ни в чем не бывало, а Бьянко сидел с открытым ртом, опустив голову на грудь.
Потом Бьянко посмотрел на него косящими от опьянения глазами и сделал знак, чтобы он подошел и сел за его столик. Этторе направился к нему со стаканом: не хотел, чтобы окружающие подумали, будто он собирается пить за чужой счет.
Оторвавшись от стойки, он почувствовал, что походка у него совсем нетвердая, а в голове туман.
Бестолково размахивая руками, Бьянко спросил:
— Видел, как я заставил исчезнуть этих трех приезжих шлюх?
Этторе ничего не ответил. Он понимал, что эти три девицы не заслуживают ни малейшего уважения, но и поведения Бьянко не одобрял.
— Знаешь, — продолжал Бьянко, — я пришел к выводу, что женщины ни на что не годны, около них только пачкаешься. По мне, нет ничего лучше, чище и вернее, чем настоящая мужская дружба, больше нам ничего не осталось на этом свете.
Здесь Этторе охватила какая-то сладкая истома, в груди потеплело, и, не выпуская из рук стакана, он сказал медленно и четко, словно актер:
— «Любовь мужчины к женщине то прибывает, то убывает, как луна, а любовь мужчины к мужчине, брата к брату незыблема, как звезды, и вечна, как слово божье».
Это была вступительная надпись к американскому фильму, который Этторе незадолго до того видел. Она произвела на него такое впечатление, что он ее запомнил и знал наизусть. Фраза, продекламированная им Бьянко, долго еще звучала в его ушах, может быть, потому, что, пока он говорил, оркестр заиграл красивую медленную мелодию.
Бьянко округлил глаза.
— Повтори-ка еще раз, — попросил он, но, не дослушав, продолжал: — Ты, Этторе, молодец, ты настоящий парень. Решительный, смелый и даже интеллигентный. — Тут Бьянко рыгнул. — Извини… Слушай, я загребаю немалые деньги своими делами, я даю хорошо заработать Пальмо, который постоянно при мне, и тем, кого беру временно. Хочешь, дам подработать и тебе? Пальмо делает свое дело, но ведь он просто буйвол. А ты парень культурный. Нет, я обязательно хочу взять тебя в дело… Мы поладим: иди ко мне.
Но Этторе смотрел на дно своего стакана и отрицательно качал головой.
Бьянко отодвинул в сторону все, что стояло перед ним на столике, и, облокотившись на него, уставился на Этторе.
Из оркестра донеслась первая волна какого-то очень сентиментального мотива, и зал залил голубой, как в публичном доме, свет.
Бьянко осмотрелся.
— Вот хорошо, так мне удобней говорить о своих делах, — сказал он и принялся приводить различные примеры, а Этторе ерзал на стуле, потому что Бьянко только казалось, что он говорит вполголоса, тогда как на самом деле все сидевшие вокруг могли его слышать, и в особенности танцевавшие с закрытыми глазами пары, которые иногда останавливались возле их столика, покачиваясь в такт музыке.
Этторе толкнул Бьянко локтем, чтобы тот говорил потише, но Бьянко обернулся и, изо всех сил отпихнув ближайшего из танцующих, процедил сквозь зубы:
— Иди обмирать в другое место!
Танцор открыл глаза и, узнав Бьянко, поспешно отошел вместе с партнершей.
Когда слоу-фокс кончился и в зале вновь зажегся яркий свет, Бьянко и не подумал прерывать рассказ о своих делах, а Этторе уголком глаз следил за патрулем карабинеров, появившимся в подвальчике.
Он решил прекратить этот разговор:
— Ладно, Бьянко, не к чему тебе распространяться, я и так все знаю о твоих делах. — И поскольку Бьянко недоверчиво поднял брови, он привел в качестве примера одну его крупную махинацию с машинами.
Бьянко сжал губы, видимо немного отрезвев от неожиданности, и откинулся на стуле.
— Но ты можешь быть спокоен, — заметил Этторе и протянул ему руку.
Бьянко воззрился на нее с изумлением, затем почтительно пожал и спросил:
— Значит, ты согласен работать со мной и участвовать в деле?
Этторе покачал головой.
— Я подал руку, только чтобы тебя успокоить, понял?
Бьянко понял, но ему не хотелось мириться с этим, лицо у него стало печальным. Этторе поднялся, чтобы потанцевать, Бьянко остановил его и сказал:
— Если ты когда-нибудь решишь работать со мной, можешь сказать мне об этом в любое время, хоть в три часа ночи. И подумай о моем предложении всерьез, я делаю его не спьяну, запомни это. Знай также, что очень редко можно увидеть меня в таком состоянии. — И он стал настойчиво совать Этторе только начатую пачку сигарет «Филип Моррис».
Обо всем этом вспоминал Этторе в то утро (еще не было девяти), направляясь в «Коммерческое кафе». Думал он и о Пальмо. «Что ж, у Бьянко будет отныне два постоянных помощника, только Пальмо будет стоять на ступеньку ниже меня».
Он вошел в «Коммерческое кафе». Пол был посыпан опилками, но, судя по всему, никто не собирался его подметать. Несмотря на поздний час, уборка еще не начиналась. Этторе не увидел ни одного официанта. «Коммерческое кафе» не принадлежало к числу заведений, куда приезжающие с первым утренним поездом заходят выпить чашку шоколаду.
За кассой сидела хозяйка. Старая мегера считала деньги, не вынимая рук из ящика кассы. Подняв голову и увидев Этторе, она резким движением захлопнула ящик и тут же напомнила:
— За вами еще с рождества пять тысяч с мелочью.
Этторе почувствовал сильное желание ее придушить, однако улыбнулся и ответил:
— Эти деньги от вас не уйдут, я как раз начинаю работать. Отдам с небольшими процентами. Можно подняться наверх к Бьянко?
Он прошел через зал с двумя биллиардами. Здесь, судя по количеству окурков на полу, играли всю ночь. Поднялся по лестнице и услышал за стенкой девичий голос, напевавший «Bésame mucho»[1]. Остановился перед дверью и постучал. Пение тут же прекратилось, он окликнул: «Леа?» — и стал ждать у двери.
Дверь приоткрылась, и в щель просунулась полная обнаженная рука. Этторе схватил ее и вытащил в коридор растрепанную девицу в голубой сорочке. Леа не успела охнуть, как он поцеловал ее и запустил руку за пазуху. Лифчика на ней не было. В отместку Леа укусила его в губу. Потом спросила:
— Не зайдешь?
— Нет, у меня дело.
— А вот это мое дело, — сказала Леа и поцеловала его сама, раздвинув ему зубы кончиком змеиного языка.
Пытаясь высвободиться, Этторе промычал:
— У меня дела с Бьянко.
Она оторвалась от него и понимающе присвистнула.
— Молчи, дуреха! Кстати, можно пройти к нему через твою комнату? Ведь они у вас смежные.
— Ничего подобного, — отвечала Леа. — Если ваш большой начальник пожелает меня видеть, он должен пройти по коридору, как все прочие.
Он подошел к двери Бьянко и толкнул ее прежде, чем постучал. Дверь открылась, и Этторе подумал, что Бьянко уж слишком беспечен. Этторе вошел, стараясь производить побольше шума, но Бьянко и не думал просыпаться. Тогда Этторе присел на единственный в номере стул. На спинке стула висел шикарный костюм Бьянко из шотландской шерсти, и, чтобы не смять его, Этторе сел на самый краешек. Наконец Бьянко проснулся и, взглянув на Этторе, пожевал губами.
Этторе заговорил — как ни странно, голос его звучал неуверенно.
— Я пришел, чтобы договориться с тобой. Прости за ранний час, но ты сказал, что я могу это сделать когда угодно.
— Молодец, — сказал Бьянко в подушку, — молодец. — И больше не произнес ни слова.
«Теперь он заставит меня поплясать за то, что я сразу не принял его предложения», — подумал Этторе.
— Если, конечно, ты не передумал, — сказал он. Ему вдруг стало так страшно, что мурашки забегали по спине. Он боялся, как бы Бьянко не сказал, что уже подыскал себе другого, ведь дел у него, наверное, прибавилось и понадобились люди.
Бьянко повернулся, сел в постели и закурил сигарету.
— Я не передумал, — сказал он. — Видишь теперь, что я не спьяну тогда болтал? Сколько времени прошло с тех пор?
Этторе сосчитал и ответил:
— Семь месяцев.
— Солидную сумму ты потерял за эти семь месяцев.
— Знаю, — с трудом выдавил из себя Этторе.
— Что-то ты нервничаешь.
Целуй меня крепче (исп.).
— Да потому, что мне надо немедленно начинать работать.
— У меня начнешь сегодня же вечером.
— Спасибо, Бьянко. А что за работенка?
Бьянко сделал две затяжки, одну за другой, и ответил:
— Сегодня вечером пойдем к одному типу, который был фашистом…
— Все ясно.
— Ты схватываешь на лету.
— Тебе это не нравится?
— Наоборот, нравится. Пальмо все нужно объяснять дважды.
— Но Пальмо — идиот.
— Однако человек верный.
— Но идиот.
— Что ж, каждой организации необходим один идиот.
— Рано или поздно Пальмо тебя выдаст.
— Пальмо? Нет собаки преданней его.
— Он сделает это не нарочно, просто рано или поздно совершит такую глупость, которая выдаст тебя с потрохами.
Следя за дымком от сигареты, Бьянко с сомнением покачал головой, потом спросил:
— Так что же ты понял?
— Что сегодня мы пойдем к нему и отберем у него немного денег в обмен на прощение его фашистского прошлого.
— Да, но мы простим его в рассрочку, понял?
— Понял. Сколько нас будет?
— Четверо.
— Ты, я и Пальмо. Кто четвертый?
— Брат Костантино, моего человека, который разбился на мотоцикле. Семья нуждается, и он просил дать ему немного подработать. Сегодня он будет нашим шофером.
— А я кем сегодня буду?
— Если старика убедит то, что я ему скажу, то тебе ничего не надо будет делать. Если же нет, то я отойду в сторонку, а ты покажешь ему свой пистолет. Только покажешь. Я мог бы поручить это Пальмо, но лучше сделай ты. Так ты докажешь Пальмо, что хочешь и умеешь работать, и ему нечего будет возразить, когда я поставлю тебя над ним. Идет?
— Идет. Сколько?
— Об этом не беспокойся. Сумму назначаю всегда я. Знай только, что я сам не работаю по дешевке и других не заставляю.
— Хорошо, но мне надо двадцать тысяч сегодня же вечером.
— Зачем?
— Заткнуть глотку матери, моей матери.
— При чем тут твоя мать?
— Я должен доказать ей, что начал с тобой работать.
Рука Бьянко с сигаретой замерла на полдороге ко рту, и Этторе поторопился прибавить:
— Не беспокойся, я скажу ей, что нанялся возить груз в Геную на твоей машине.
— Вечером я дам тебе двадцать тысяч лир.
Этторе встал. Он не испытывал радости, но чувствовал себя спокойно, будто работал у Бьянко уже давным-давно.
Бьянко спустил ноги с кровати и спросил:
— Любопытства ради: откуда ты еще зимой знал о моих делах?
— Мне рассказал Костантино.
Бьянко поднял голову, с губ его готово было сорваться ругательство.
— Костантино был моим другом, — опередил его Этторе.
— Сукин… сукин… — начал было Бьянко.
— Костантино умер.
— Его счастье!
— Можешь доверять мне, как Костантино, теперь, когда он мертв, — сказал Этторе. — Какие будут распоряжения на сегодня?
— Приходи сюда, в кафе, к часу. Сыграем в биллиард и обо всем переговорим.
Этторе вышел от Бьянко около десяти. До обеденного перерыва на шоколадной фабрике оставалось еще два часа. Он мог бы провести их с Леа — не столько для удовольствия, сколько для того, чтобы не болтаться у всех на виду, в комнате Леа его никто бы не нашел — ни отец, ни кто-либо с фабрики, знающий о его назначении. Но денег у него в кармане было совсем мало, а Леа не предоставляла кредита — дружба дружбой, а работа работой. Поэтому он пошел в бар и, спускаясь по лестнице, приметил двух крестьян, входивших в биллиардную.
Официант принес шары, крестьяне сняли пиджаки, заткнули кончики галстуков за пуговицы рубашек, но остались в шляпах и выбирали кии, как выбирают оружие для дуэли. И все это не произнося ни слова, не глядя друг на друга, только морщась от дыма зажатых в зубах сигарет. Ставка у них была десять тысяч лир за партию в тридцать шесть очков. Этторе откладывал очки на счетах, а крестьяне угостили его аперитивом и сигаретами. Раз или два поспорили из-за очков, потому что Этторе был рассеян: он старался представить себе, как выглядит старый фашист и как он будет выглядеть сегодня вечером.
Проигравший партию тут же расплачивался. Вытаскивая бумажник, он отворачивался к стене, чтобы партнер не мог увидеть его содержимое. Но Этторе заметил, что бумажники у обоих туго набиты.
К полудню тот, который показался Этторе более симпатичным, проиграл тридцать тысяч лир.
Наступил полдень. Этторе пошел домой, и за обедом ему даже не пришлось рассказывать отцу басни, потому что тот ни о чем его не спросил. Этторе понял, что отец станет расспрашивать его вечером, после того как он отработает весь день и у него будет более полное впечатление.
Кончив обедать, он сразу встал и собрался уходить.
— Уже бежишь? — спросила его мать.
— Замолчи, — прикрикнул отец. — Теперь, когда он работает, может делать все, что хочет.
В кафе оба биллиарда оказались заняты, и Бьянко с Этторе сели играть в карты.
Немного погодя Бьянко сказал:
— В девять в гараже, у заставы. Не опаздывай: старик ложится рано, а я хочу застать его еще на ногах. — Потом он спросил — Что будешь делать до вечера?
— Ждать, чтобы наступил вечер.
— Мы с Пальмо едем на машине за город.
Внезапно Этторе почувствовал зависть, очень этому удивился и даже огорчился.
— Но мы едем не по делу, — объяснил Бьянко, — если бы по делу, я и тебя взял бы.
— Что сегодня в кино? — спросил Этторе.
— «Адский вызов».
— Что это такое?
— Вестерн. Я видел афишу.
— Ну, так я пойду на этот адский вызов, — заключил Этторе.
Он дождался в кафе, когда открылось кино, и пошел. Вопреки ожиданию, фильм ему понравился настолько, что он охотно посмотрел его и второй раз.
Как он и предполагал, когда он вышел из кино, было уже около шести, и он медленно пошел по направлению к дому.
Отец уже поджидал его около своей мастерской. Он улыбнулся, как только сын появился из-за угла, и хранил эту улыбку до тех пор, пока тот не подошел к нему вплотную.
— Ну, как, Этторе?
— Что?
— Как тебе работалось?
Этторе пристально посмотрел на отца, тяжело вздохнул и сказал:
— Слушай, отец, я эту работу выполняю и буду выполнять, но она мне не нравится и никогда не понравится. — Повернулся и пошел к дому.
Дома он прежде всего спросил мать, скоро ли будет ужин. Она ответила, что скоро, потому что отцу в восемь часов надо быть на собрании ремесленников.
Мать ничего не спросила о его работе, хотя ее явно терзало любопытство. Но ей не хватало смелости, она не знала, в каком тоне вести разговор, и боялась, что сын вспыхнет как спичка — такое нервное и напряженное было у него лицо.
Отец за ужином не сказал ни слова, сидел, опустив глаза, будто стыдясь чего-то.
Поужинав, он ушел было в свою комнату, но немного погодя вернулся и направился к входной двери.
— Я пошел, — сказал он жене.
Она посмотрела на него, и во взгляде ее сверкнуло негодование. Возвысив голос, она спросила:
— Почему ты не переоделся? Хотя бы кепку оставил да взял шляпу — ведь идешь на собрание. Будешь там выглядеть самым последним из оборванцев!
— А я и есть оборванец, — невозмутимо ответил отец и вышел.
Мать с силой захлопнула за ним дверь и, повернувшись, обратилась к Этторе:
— Видал? Опустился, не следит за собой. Ты заметил, как у него брюки сзади висят?
Глядя в окно над кухонной раковиной, Этторе ответил:
— Оставь его в покое, пусть делает, что хочет, пусть проживет, сколько ему еще осталось, по своему разумению. Мне очень хотелось бы одного: чтобы отец мог прожить свои последние годы так, как он жил, когда был молод, когда ему было столько лет, сколько мне сейчас; чтобы он перестал быть твоим мужем и моим отцом, вроде закончил бы службу, отнявшую у него тридцать лет жизни, чтобы он жил в эти последние годы так, будто он один и свободен. Ты понимаешь, чего мне хотелось бы?
Мать обернулась к нему. Глаза ее были прищурены, губы крепко сжаты. Тогда Этторе сказал:
— Ты всего только женщина.
Он закурил сигарету. Мать стала собирать грязную посуду, потом открыла кран.
Этторе все еще не мог решиться. Он чувствовал себя так же, как в тех случаях, когда ему хотелось пойти развлечься, а он не осмеливался попросить денег.
Должно быть, именно это мать и подумала, потому что, обернувшись, вдруг спросила:
— Уж не собираешься ли ты попросить денег? Работать ты начал только сегодня и денег домой еще не приносил.
Тогда Этторе потушил сигарету и медленно произнес:
— Я не ходил сегодня на работу.
Мать резко обернулась, мокрая рука ее была прижата к сердцу.
— Так я и знала! — крикнула она. — Я знала, но это уж слишком! Ты ненормальный, Этторе, ты обманщик и предатель! Видеть, что твои отец и мать умирают от жажды, и не дать им ни капли воды!
— Тихо! — крикнул он, вскакивая на ноги. — Я сегодня же начинаю работать. С Бьянко. Нагрузим машину и поведем ее в Геную. Ага, сразу стала глядеть по-другому! Вернусь завтра и дам тебе столько денег, сколько на шоколадной фабрике не заработал бы и за месяц. Ты довольна?
Мать сразу не ответила, она пошла к раковине и закрыла кран. Потом вернулась и спросила:
— Что за работа? Хорошая?
— А что ты называешь хорошей?
— Хорошую работу. Это постоянная работа? Или после этой поездки в Геную ты опять будешь сидеть сложа руки? Имей в виду: я не хочу видеть, как ты бездельничаешь, это сводит меня с ума.
— Это постоянная работа. Мы будем возить грузы в Тоскану, в Рим, а может, и дальше, до самой Сицилии. Мне надо будет купить кожаную шоферскую куртку.
— Я куплю тебе подержанную, — поспешила сказать мать.
— Нет, знаешь, пусть лучше мне ее купит Бьянко. Теперь это его забота.
— Ты когда с ним договорился?
— Сегодня. Утром, вместо того чтобы идти на фабрику, я отправился туда, где сейчас живет Бьянко. Он звал меня к себе несколько месяцев назад. Я потерял большие деньги из-за того, что не согласился сразу.
Ей было очень жаль потерянных денег, на лице ее даже проступили морщины от досады. Она спросила, повысив голос:
— Почему же ты сразу не согласился?
— Потому что Бьянко такой же хозяин, как все прочие. А мне тогда вообще не хотелось иметь никакого хозяина. Теперь я понял, что поначалу нужно поработать «на дядю». Я выбрал Бьянко потому, что с ним можно скорее добиться независимости. С деньгами у меня теперь будет порядок. За год я заработаю столько, что смогу уйти от Бьянко и начать работать на самого себя. Не знаю еще, что я стану делать, но пока буду у Бьянко, придумаю. А тебе я куплю все, что ты захочешь, — табачную или продуктовую лавку, что угодно. Такую лавку, где тебе надо будет только сидеть да считать деньги. Это ты умеешь делать неплохо, а?
Она молча смотрела на него, глаза у нее горели, грудь вздымалась, потом спросила:
— Как же ты заработаешь столько денег?
— Уж такая это работа.
— Какая такая?
— Мы будем провозить грузы без проверки.
— Это опасно? — Она не испугалась, она просто хотела знать.
— Нет, не опасно. Пойманному грозит штраф, но не тюрьма, а штрафы платит Бьянко.
— Выходит, это не опасно.
— Да, можешь не молиться за меня, когда я буду в отъезде.
— О, я уже больше не молюсь за тебя.
Этторе рассмеялся и сказал:
— А сейчас отпусти меня, чтобы я в первый же раз не опоздал.
— Когда же ты вернешься из Генуи?
— Завтра к полудню.
Мать подумала и сказала:
— Возьми с собой несколько газет и укутай ими как следует живот. В дороге будет холодно.
— Ты так говоришь потому, что никогда не ездила в кабине грузовика. Я пойду соберусь.
Она сказала ему вслед:
— Постой-ка, не захлопывай дверь. Возвращайся и привези мне денег, у меня больше нет сил ждать.
— Считай, что они у тебя в кармане. Отцу скажи обо всем сама.
— Скажу. Только он-то будет недоволен. Ты его не послушался.
— Не в первый раз я его не послушался.
— Но ему хотелось, чтобы хоть напоследок ты поступил, как он хочет. В общем, ладно, я ему скажу, иди.
— Мне очень жаль, но увидишь: под конец и он будет доволен. Уж я позабочусь, чтобы он прожил как следует свои последние годы.
Этторе пошел в комнату и с шумом открыл ящик, в котором лежала расческа, а потом тихонько закрыл его. На цыпочках подошел к кровати и вытащил из-под матраса пистолет. Осмотрел его, сунул за пазуху и отправился на работу.
IV
(Говорит Этторе)
Я надел отцовскую шляпу и, когда втягивал ноздрями воздух, чувствовал запах его волос. Но я не привык ее носить и потому каждую минуту то снимал, то надевал ее, то поправлял. От пистолета я тоже отвык, он мне немного мешал. Это был большой пистолет, он оттянул мне внутренний карман пиджака и болтался где-то под мышкой.
Пришел Бьянко. Направляясь в гараж и проходя мимо меня, он молча протянул руку. Я пожал ее и ощутил в своей пачку денег. Отвернувшись к стене, я сунул их во внутренний карман, а пистолет переложил в наружный и придерживал его рукой.
Затем появился этот кретин Пальмо и уставился на меня. Но каким бы идиотом он ни был, он не мог не понять, что я стою здесь не зря. Пальмо отвернулся и со злым лицом направился к Бьянко. Они о чем-то заговорили, стоя у гаража, — говорили, конечно, обо мне, Я смотрел на них и думал: «Кое-кто недоволен, не хочет, чтобы я тут работал — так было бы, между прочим, и на шоколадной фабрике, — но здесь я готов вытащить из кармана пистолет и успокоить недовольного».
Говорил в основном Пальмо, но под конец Бьянко отвесил ему здоровенный удар кулаком в ключицу и вошел в гараж, а Пальмо так и остался стоять, согнувшись от боли.
Потом он выпрямился и, растирая плечо, медленно направился ко мне.
Я незаметно занял позицию поустойчивее и, пока Пальмо приближался, мысленно говорил ему: «Если ты идешь, чтобы отыграться за полученный удар, то ты и вправду идиот, ты не понимаешь, что этим можешь только схлопотать еще один».
Но Пальмо остановился на таком расстоянии, что я, не сходя с места, не мог бы его достать, и сказал:
— Ты выбрал неплохой момент для начала работы. И здорово провел Бьянко. Интересно знать, что ты ему наговорил? Ты хитрец и давно уже сидишь у меня в печенке. Мне пришлось начинать с серьезных дел, а ты примазываешься, когда нам предстоит такое пустяковое дельце, что просто смех берет. Да еще хочешь при этом урезать мою долю.
— Хватит на всех, — отвечал я сквозь зубы, — должно хватить. А если ты такая свинья, что не хочешь поделиться, то смотри, как бы тебе всего не потерять.
Я подошел к нему ближе, я был взбешен, но хладнокровен и знал, что в такие минуты на мое лицо стоит поглядеть: каждый мускул на нем играет, как пять пальцев руки. Пальмо не двинулся с места, только часто-часто заморгал. Тогда я продолжал:
— А что до серьезных дел, то думаю, в них скоро не будет нехватки. И мне очень интересно поглядеть, как при этом ты наложишь в штаны, вот только вонь будет уж очень мерзкая: ведь это будет твоя вонь. Ты помнишь бой под Вальдивиллой? Разве это не было серьезным делом? И помнишь, как тогда ты наложил полные штаны?
Даже в темноте было видно, как покраснел Пальмо.
— Тебя не было под Вальдивиллой! — крикнул он. — Ты меня не видел в партизанах!
— Тебя видел тот, кто мне об этом сказал.
— Кто тебе сказал? Тот, кто это сказал, — подлый обманщик!
— Этому человеку я верю больше, когда он рассказывает байки, чем тебе, когда ты говоришь правду. Так вот, я надеюсь, что будут и серьезные дела.
— Для чего они тебе нужны?
— Для денег, идиот!
— О, черт, не смей называть меня идиотом! Ты меня не знаешь и не смеешь так называть!
— Даже в темноте видно, что ты идиот.
Пальмо заметался, как собака на цепи, но этой цепью был его страх.
— Только попробуй еще раз меня обозвать!
Я засмеялся.
— Идиот ты, Пальмо, — повторил я. И смотрел на тень у него под правым глазом, куда я двину его кулаком.
Но Пальмо не шевельнулся. Только поморщился и сказал: «Перестань называть меня идиотом», стараясь тоном дать мне понять, что он не побежден, а просто ему это надоело.
Я снова засмеялся.
Выглянул из гаража Бьянко и щелкнул пальцами, подзывая нас. Надо было отправляться на работу.
Брат Костантино был совсем мальчишкой, но серьезен и молчалив, как взрослый, и одет, как настоящий таксист. Он поспешил открыть дверцы, чтобы мы могли сесть в машину.
Пока мы ехали по городу, а потом по равнине, я совсем не думал о предстоящем. Я все еще был поглощен стычкой с Пальмо, сидевшим впереди меня, рядом с шофером. Стоило мне взглянуть на его по-крестьянски широкий и плоский затылок, как во мне опять закипала злоба и появлялось желание что есть силы стукнуть по нему, чтобы раз навсегда успокоить парня.
В обзорное зеркальце я видел лицо брата Костантино, и мне казалось, что щеки его как бы припудрены серой пылью, но, может, это была просто тень от шоферского козырька. Мог ли он знать, на какое дело нас везет? Мне было жаль этого паренька; я всегда жалею тех, кто занимается не своим делом, а в тот вечер брат Костантино, хоть у него и есть шоферские права, занимался не своим ремеслом. Бедный парень был вовсе не таким, как его брат.
Когда мы стали подниматься в гору, Бьянко повернулся ко мне и протянул американскую сигарету:
— Для начала закурим.
В этом не было, в сущности, ничего особенного, но я заметил, как Пальмо сразу насторожился, и понял, что он умирает от ревности, и мне ужасно захотелось посмеяться над его переживаниями. Я пустил струю дыма ему в затылок и как можно четче произнес:
— А ты знаешь, Бьянко, что Пальмо на тебя зол?
Мне опять стало смешно, когда я увидел, как встревожился Пальмо, как он обернулся к нам, ухватившись за спинку сиденья и при этом толкнув шофера.
— Ты правда на меня злишься? — спросил его Бьянко, а Пальмо так и застыл с открытым, как у настоящего идиота, ртом и хоть шевелил языком, но не мог выдавить из себя ни слова.
Я пояснил:
— Он злится, так как считает, что, взяв меня, ты сделал большую глупость.
Бьянко же сказал Пальмо:
— А мы с ним считаем, что ты идиот.
И на этот раз Пальмо не сумел ничего ответить, он не знал, куда деваться от стыда, и, отвернувшись, стал глядеть в окно, а я понял, что он побит мною раз и навсегда.
— Вот это и есть вилла, где живет наш тип, — сообщил Бьянко, когда машина сделала резкий поворот.
Я высунулся в окно, чтобы поглядеть на виллу. В ночной тьме белая вилла, окруженная парком, казалась призрачной; светилось только одно окно в левой ее части. Я спросил Бьянко, что за человек этот фашист.
— Сам увидишь, — ответил он.
Но мне этого было мало.
— Я же спрашиваю, чтобы знать, как вести себя в деле.
— Да чего там, дело легче легкого, — ответил Бьянко и повторил: — Сам увидишь. Но вообще-то он произведет на тебя впечатление.
— Почему? Он гигант?
Бьянко беззвучно рассмеялся.
— Да нет, лицо. Оно произведет на тебя впечатление. У него так называемая базедова болезнь — попросту говоря: зоб.
— Что же он, урод?
— Да, если бы у меня жена была беременна, я не разрешил бы ей на него смотреть.
Мы приехали. Брату Костантино было приказано ехать дальше, до места, где можно развернуть машину, а потом с выключенным мотором спуститься и ждать нас на дороге, чуть пониже виллы.
Мы втроем направились к большой железной калитке. Будучи уверен, что она заперта, я стал приглядываться, где бы перелезть через ограду, но вдруг увидел, как калитка подалась от легкого толчка Бьянко.
Мы пошли по дорожке, усыпанной гравием, который страшно скрипел под ногами, но Бьянко, казалось, не обращал на это ни малейшего внимания, и тогда я решил, что здесь он действует наверняка.
Я даже ожидал, что Бьянко постучит в дверь виллы, но он этого не сделал, а только явно старался произвести побольше шума, топая по каменным ступеням лестницы. Я внимательно смотрел на черный ствол одного из деревьев на аллее, мой обостренный слух, заменявший мне сейчас все остальные органы чувств, улавливал малейший звук: я слышал шум, производимый Бьянко, слабый рокот нашей машины, разворачивавшейся на холме, тишину за дверью виллы.
Затем дверь медленно отворилась, но кто ее открыл, мы узнали, лишь войдя внутрь. Бьянко шел первым, за ним я, за мной Пальмо. Мы очутились в слабо освещенном коридоре и вдохнули особый, приторный запах богатого дома.
Я взглянул направо и увидел того, кто нам открыл. Это была пожилая, высокая и худая женщина, вся в черном, с очень строгим лицом, похожая на мою школьную учительницу.
— Ты все приготовила? — спросил у нее Бьянко.
Было очень странно слышать, что он говорит «ты» женщине такого типа. Она указала пальцем на дверь в конце коридора и сказала Бьянко:
— Я буду там, приготовлю ему отвар ромашки.
Мы прошли дальше по коридору и, открыв какую-то дверь, увидели письменный стол, за которым сидел, освещенный ярким светом настольной лампы, старик в темных очках.
— Мария, — позвал он.
Я не снял шляпу, подумав, что в решительный момент, с пистолетом в одной руке и со шляпой в другой, буду очень смешон, а потому лишь слегка сдвинул ее на затылок.
Старик снял очки, и Бьянко тут же заговорил, но я его совсем не слушал, невольно сосредоточив все внимание на лице старика, которое теперь, без очков, можно было рассмотреть во всех подробностях.
Ничто, если не считать трупов на войне, так не завораживало мой взгляд.
Лицом он походил на жабу, только, конечно, бывают жабы покрасивей; но страшнее всего были глаза… Эти глаза, похожие на два биллиардных шара, казалось, готовы были вот-вот выскочить из-под надбровных дуг, выступавших двумя мясистыми буграми, так что тому, кто его любил, наверное, всякий раз хотелось броситься к нему с протянутыми руками, чтобы удержать эти страшные шары в глазницах. Кроме того, над каждым глазом у него еще нависали куски живого, белесого, местами кроваво-красного мяса.
Между тем Бьянко все говорил, а старик еще не вымолвил ни слова — только мелко тряс головой и улыбался жуткой, застывшей улыбкой: он как бы умолял нас не причинять ему зла и не отбирать у него ни чентезимо. Он помирал со страха — я видел это по его улыбке, по нервной дрожи в руках, лежавших на столе и судорожно сжимавших очки.
Очнулся я, когда услышал цифру, названную Бьянко, — миллион лир, но заметил, что Пальмо это нисколько не взволновало: напротив, он все так же спокойно и сосредоточенно обкусывал себе ногти.
Тогда я опять уставился на лицо старика, который должен был дать миллион нам и нашим женам на забавы и развлечения, чтобы мы могли продолжать жить, раз мы не погибли на войне.
А он все улыбался и тряс головой.
Я даже не сразу почувствовал толчок, которым меня наградил Бьянко под прикрытием стола, но тут же в руке у меня оказался пистолет, который я и направил прямо на голову старика.
Старик заглянул в дуло моего пистолета, потом попытался поднять свои жуткие глаза, чтобы заглянуть в мои, но тут руки его соскользнули со стола, а голова глухо, как чугунный шар, стукнулась о край столешницы и замерла, упершись подбородком в грудь.
Я опустил пистолет и посмотрел на двух своих дружков. Пальмо вынул пальцы изо рта, а Бьянко скомандовал: «Пистолет — в карман», что я и сделал.
— Он притворяется, хочет отвязаться от нас, — сказал Пальмо, — ты сам говорил, что он продувная бестия, — обратился он к Бьянко.
— Мария! — позвал Бьянко.
Женщина пришла. Она хорошо знала старика, и, когда сказала, что он мертв, нам стало ясно, что ошибки тут быть не может.
Мы все трое попятились от стола; женщина, увидев это, тоже поспешила отойти подальше, она вся подобралась и шла очень прямо, словно старик мог ударить ее ножом в спину.
В коридоре часы пробили десять, и мы в молчании выслушали все десять ударов.
— Это не мы… — сказал Пальмо женщине, нам и самому себе.
— Молчи! — крикнул Бьянко и поднял руку, будто хотел его ударить. Потом обратился к женщине: — Надо было сказать, что он тут слабоват. — Он ткнул себя пальцем в сердце.
Она молитвенно сложила руки и, стараясь не смотреть в сторону старика, прошептала:
— Он был такой больной. И вовсе не злой… Добрый он был.
— Ну, если добрый, так он сейчас уже в раю, — заметил Бьянко.
— Он так мне доверял, — сказала женщина каким-то детски-тонким голосом.
— Еще бы, почему же ему было тебе не доверять? — сказал Бьянко. Он подошел к ней и стал говорить что-то вполголоса.
Я считал, что имею право знать, о чем шепчутся те двое; я все равно с головой влез в это дело, значит, мне нужно быть в курсе всего. Я подошел поближе и услышал, как женщина сказала:
— Ради бога, ничего не ломайте. Я знаю, как открыть.
А Бьянко:
— Он взял эти деньги из банка на днях?
Она ответила, что нет, и по лицу Бьянко я понял, что все у нас идет как нельзя лучше.
Мы поднялись на второй этаж; Бьянко не велел зажигать света, и Пальмо чиркал спичку за спичкой, а обгоревшие совал себе в карман. Мы нашли, что надо, и снесли вниз.
В коридоре, при свете, я увидел, что Пальмо прижимает к груди пять пачек тысячных бумажек. Мы было направились к выходу, но тут женщина протянула руку к Бьянко.
Он понял и сказал:
— Разделим потом, не спеша. К тому же их надо еще пересчитать.
Женщина возразила:
— Я знаю, сколько их здесь, если дело только за этим.
Тогда Бьянко обернулся к Пальмо, взял у него одну из пяти пачек и вроде как бы с усмешкой показал ее женщине.
— Этого достаточно, — согласилась она.
— Еще бы! — сказал Бьянко и отдал ей пачку.
Она прижала пачку к груди и сказала:
— Вы-то уходите, а я остаюсь тут с ним одна.
— Через полчаса позвонишь в больницу, — ответил ей Бьянко. — Ты была там и готовила ему ромашку, а когда принесла ее, застала его в таком виде.
Женщина сказала, что она все так и сделает, а Бьянко заметил, что ничего трудного в этом нет. Потом спросил:
— Куда ты денешься после похорон?
— Уеду отсюда, поселюсь в Т.
— И хорошо сделаешь. Наследники должны будут дать тебе выходное пособие.
— Я надеюсь.
— Это твое, право.
Мы вышли. По дороге Пальмо уронил одну из пачек, которые прижимал к груди.
— Ах, дьявол! — тихонько выругался он, пытаясь подобрать пачку-.
Бьянко поднял ее и, водрузив на место, процедил:
— Идиот!
Машина была развернута носом под уклон, около нее стоял брат Костантино. Бьянко прошел вперед и быстро сел в машину рядом с шофером — видимо, для того, чтобы заслонить Пальмо с его ношей. Я сел рядом с Пальмо, державшим теперь пачки на коленях.
— Чтобы через десять минут мы были в городе, — приказал Бьянко.
Городские огни быстро приближались. Я старался поймать лицо Бьянко в обзорном зеркальце, но видел только Пальмо, который все время косился на меня, придерживая пачки обеими руками.
— Куда? — спросил шофер.
— Остановись у входа во двор «Коммерческого кафе».
Мы остановились там, где велел Бьянко. Вышли. Отблески неоновой вывески на углу кафе переливались на черной эмали нашей машины.
Бьянко. велел Пальмо задержаться в машине, сам обернулся ко мне и спросил:
— Ты не такой недоверчивый, как та женщина?
— Нет, конечно. Когда тебе будет угодно, — ответил я и распрощался.
Бьянко и Пальмо зашли во двор кафе.
Я спросил брата Костантино:
— Слушай, ты сегодня куда-нибудь поедешь? Тебе еще понадобится кожаная куртка?
— Сегодня нет. Я ставлю машину в гараж.
— Тогда одолжи мне куртку, я верну ее завтра после обеда.
* * *
С курткой на плече, он стоял и смотрел вслед отъезжавшей машине. Потом двинулся в путь, но, сделав несколько шагов, остановился; ноги поневоле несли его домой. Теперь он шел и все время думал о том, когда и куда надо сворачивать.
Ощущение опасности не оставляло его, и ему приходилось делать над собой усилие, чтобы не оборачиваться. Он обогнал стайку глупо хихикавших девушек; одна из них что-то рассказывала и все время повторяла: «А он… а он…» Навстречу ему шла группа мужчин, и он смотрел на них как на приближавшихся врагов. Однако, поравнявшись с ним, они лишь посторонились и уступили ему дорогу.
«Со мной ничего не должно случиться; даже если ко мне привяжется какой-нибудь пьяница, я и пальцем не пошевелю. У меня пистолет, двадцать тысячных бумажек и чужая куртка. Лучше всего пойти в какую-нибудь гостиницу, запереться в номере и проспать до одиннадцати утра».
Но он не сделал этого. Так же как на войне в минуты опасности, в эту ночь он чувствовал себя сильнее и увереннее, когда над головой у него было открытое небо. Он не станет нигде запираться, а пойдет к Ванде. Посвистит под ее окном, в переулке, она #проснется, выглянет, и волосы у нее упадут на глаза. Она побудет с ним. Ванда его любит, он уверен в любви Ванды больше, чем в том, что у него в кармане лежат двадцать тысяч лир.
Пока он шел к Ванде, перед глазами его маячило лицо старика. Это было лицо иное, чем при жизни, совсем нормальное, как будто неожиданная смерть мгновенно стерла черты уродства, которые годами накладывала болезнь.
«Он так и будет у меня перед глазами всю неделю, — подумал Этторе. — Лица людей, умерших по-другому, я забывал довольно быстро».
Вот и переулок Ванды. Его освещал один только фонарь, как раз на высоте Вандиного окна, и ходить тут надо было очень осторожно, потому что мостовая была усеяна отбросами, выкинутыми из окон; к тому же сюда приходили облегчиться все пьяницы из ближайших трактиров.
Ему показалось, когда он подходил, что окно Ванды освещено, но это был лишь отблеск фонаря. Он стал под окном. Комната Ванды была на втором этаже, как раз над шорной мастерской отца, окно выходило на узенький балкончик с чугунными перилами.
Он подумал: «Она станет меня расспрашивать. Надо будет как-нибудь отвлечь ее». И негромко свистнул. Немного погодя — опять.
Ванда зажгла свет, потом погасила. Ему показалось, что он слышит, как звякнули пружины ее кровати.
Он увидел ее за стеклом. Лицо ее было обращено в глубь комнаты, потом она открыла окно и, отбрасывая упавшие на глаза волосы, сказала:
— Ты с ума сошел — разве можно свистеть! Отец услышит. Что это у тебя под мышкой?
— Не устраивай мне допроса, — огрызнулся он. И тут же добавил: — Это кожаная куртка, шоферская. Ты спала уже?
Но она снова спросила:
— Ты работаешь на грузовике?
— Да, с Бьянко.
— С каких пор?
— Со вчерашнего дня.
— Я не знала, что ты умеешь водить машину.
— На войне научился.
Она подумала с минуту, потом заметила:
— Так, значит, ты не пошел на шоколадную фабрику…
— Хватит!
Откинув голову, она вздохнула и спросила:
— Ты зачем пришел?
— Тебе неприятно?
— Приятно, как и тебе. Зачем пришел?
— Повидать тебя.
— Ты меня любишь?
— Не говори глупостей.
— Тогда я ухожу. — Она обиделась. — Спокойной ночи.
— Останься.
— Мне холодно.
— Да ведь совсем тепло.
— Я же в одной рубашке.
Немного смягчившись, Этторе попросил:
— Побудь еще немного со мной.
— Зачем?
— Так. Выйди на балкон. Я хочу видеть тебя всю.
— Там будет еще холоднее.
— Нет! Я хочу видеть тебя всю.
Она покачала головой и не двинулась с места. У него стало злое лицо.
— Выйди на балкон!
— Не злись!
— Делай, что тебе говорят!
Ванда вышла на балкон и облокотилась на перила.
— Выпрямись.
Она послушалась. Теперь он видел ее всю, заключенную, словно в футляр, в узкую длинную ночную сорочку из легкой материи. Но ему не было смешно; он знал, что нелепое облачение скрывает нечто, для него очень значительное.
Переступив с ноги на ногу, Этторе потребовал:
— Покажись.
— Что?
— Приподними.
Она отрицательно покачала головой.
Он пришел в ярость. Больше всего его выводили из себя как раз те, кто его любил, — мать, а теперь Ванда. Даже Пальмо не вызывал в нем такого бешенства. Он почувствовал, как у него руку сводит от желания выхватить пистолет. Он готов был пригрозить ей оружием.
Увидев его лицо, Ванда слегка приподняла рубашку и, глядя вниз, немного обнажила тесно сжатые ноги.
— Еще.
Она послушалась, но уже смотрела не вниз, не на него, не на свои ноги, а куда-то вверх.
— Зачем это? — спросила она.
— Затем, что ты мне нравишься, слишком нравишься. Я бы жизнь за тебя отдал. И мне страшно тебя потерять.
Она перегнулась через перила:
— Ну, меня ты не потеряешь, никогда не потеряешь. Если только сам, по своей воле, от меня не уйдешь.
— Знаю, знаю. Именно поэтому я и боюсь.
— Почему, Этторе?
— Да так. Просто мне надо остерегаться, чтобы со мной ничего не случилось.
— Когда? В чем дело?
— А? Ну, на машине, в пути.
Она подумала и спросила:
— Хочешь, чтобы я за тебя молилась?
— Разве ты умеешь молиться?
— Нет, никогда не умела и не верила в это.
— Вот и я тоже не верю. Мне только надо быть осторожным, все зависит от меня самого.
— Береги себя, Этторе, прошу тебя.
Теперь он мог уйти.
— Иди к себе, — сказал он.
Она покачала головой и стала посылать ему воздушные поцелуи.
— Холодно, — сказал он.
— Нет.
— Ну чего тебе еще надо?
— Поговори со мной.
— Мне что-то больше не говорится. Мне хочется только одного. И ты знаешь чего. А тебе?
— Милый…
— Иди в комнату, ни к чему так мучить друг друга. Я ведь не могу и пальцем до тебя дотронуться. Иди же.
Но она все не уходила. Теперь она указывала на него и, обращаясь ко всему переулку, повторяла:
— Посмотрите на моего мужа. Это мой муж!
Они пробыли вместе еще минут десять. Она смотрела на. него, а он смотрел себе под ноги и думал, думал о старике, о том, была ли у него когда-нибудь такая женщина.
Наконец, встрепенувшись, он сказал:
— Увидимся в воскресенье.
— Чем ты занят на неделе?
— Все время в поездках. Буду возить груз в Лигурию, может, даже в Тоскану. Ну ладно, возвращайся в комнату.
— Сначала иди ты. Я посмотрю тебе вслед.
Этторе пошел в гостиницу «Национале». Деньги у него были, и он мог проспать там до одиннадцати. Потом он пойдет домой и заткнет матери рот.
В нем появилась уверенность, что на вилле все сошло гладко; чутье не могло его обмануть.
V
Действительно, все обошлось благополучно, от установления факта смерти и до похорон; Этторе получил от Бьянко восемьдесят тысяч лир. Эти первые деньги он спрятал дома, под тюфяком, на месте пистолета, но уже подумывал о том, куда пристроить те, которые заработает на крупных делах. Уплатив ему, Бьянко сказал, что теперь будут дела посерьезнее, и велел быть наготове.
Этторе был готов. Он купил себе кожаную куртку и, застегнувшись на все пуговицы, явился к матери; он сказал, что ему предстоит работа недели на две, поездки в Венето и Тоскану, и что дома его теперь почти не увидят.
Днем он отсыпался в «Коммерческом кафе», в номере, который освободила Леа, а по ночам работал с Бьянко.
У них были действительно серьезные дела, но по-настоящему он это ощущал потом, в номере гостиницы, когда, пробудившись от недолгого сна, закуривал сигарету и, следя глазами за пятном света, необъяснимым образом проникавшим в комнату сквозь занавешенные окна, перебирал в памяти недавние события. Тогда по спине у него пробегал холодок, точно такой же, как бывало в бессонные ночи в партизанском отряде после тяжелых боев. Но в деле он себя чувствовал спокойно и уверенно, и пока все шло гладко. Бьянко был великолепен. Этторе, Пальмо и другие, которых он привлекал, когда дело требовало этого, шли за Бьянко, как пехота за танком.
Самое крупное дело было в ночь с субботы на воскресенье, когда они вывезли все весы-автоматы со склада на улице Кавура. Даже на глаз было видно, что, здесь пахло миллионами. Потом Бьянко отослал Этторе спать, а сам вместе с Пальмо отвез на грузовике весы-автоматы в другой город. От злости и охвативших его подозрений Этторе не мог уснуть и, лежа в постели, выкурил целую пачку сигарет. Однако после обеда, когда он, наконец, заснул, Бьянко приехал и, разбудив его, выложил прямо на одеяло полмиллиона лир.
— Не говори ничего Пальмо, — предупредил он, — ему я дал всего триста тысяч.
— Если б ты дал ему даже миллион, мне это безразлично, — ответил Этторе, — потому что я доволен, а когда я доволен, то мне до других дела нет. Таким я был и в школе, когда речь шла об отметках.
За полтора месяца Этторе получил миллион лир, и этой суммой, по его расчетам, он мог по крайней мере на три месяца заткнуть рот матери и расплатиться со всеми долгами. Деньги он держал в стенном шкафу в номере над «Коммерческим кафе», но настал день, когда он решил, что там им не место.
Идея разделить деньги на четыре вклада, по числу банков, имевшихся в городе, не пришлась ему по вкусу, а спросить Бьянко, где тот держит свои капиталы, он не решился. Поэтому однажды вечером Этторе отправился к Дзеку.
Это был старый банкир, еврей, который в 1920 году объявил себя банкротом. Этторе решил довериться ему. Он надеялся, что сумеет так себя поставить, что старик согласится иметь с ним дело.
В тот вечер, когда Этторе пришел в первый раз, Дзеку сильно испугался. Он встал со стула, и его дряхлое тело согнулось в дугу.
— Я знаю, что вы даете деньги в рост, — начал Этторе.
— Да, но только очень маленькие ссуды, — поспешил уточнить старик, — у меня самого почти нет денег, я могу ссужать ими разве только бродячих торговцев. Все деньги я потратил, чтобы спасти свою жизнь во время войны.
— А вклады вы не берете?
— Беру, но даю очень скромные проценты.
— Мне не надо никаких процентов, важно только, чтобы вы мне сберегли деньги.
Старик опустился на стул.
— Что ж, это можно. Какая у вас сумма?
— Миллион.
— Приносите.
Этторе принес деньги в два приема. Когда еврей спрятал их, Этторе предупредил его:
— Если со мной что-нибудь случится, не вздумайте под шумок присвоить их. Не пытайтесь проделать ту же штуку, что вы, по слухам, проделали в двадцатом году. Я написал одну бумагу…
— Я сам напишу тебе бумагу, — прервал его старик, — расписку. — Он взял в руки перо.
— Расписка — это клочок бумаги, который кладут в бумажник, — ответил Этторе, — а бумажник всегда при мне. Если случится что-нибудь со мной, то же случится и с распиской. Однако вы мне её дайте. Но предупреждаю: свою бумагу я вручил верному человеку, так что, если со мной что случится и вы попробуете схитрить, этот человек не станет себя вести, как те люди в двадцатом году, а не задумываясь, прострелит вам голову. Имейте в виду, этот человек будет пострашнее немцев.
Лицо старого еврея сморщилось, и он уронил перо.
Этторе заглянул ему в глаза и тихо сказал:
— Не шутите с теми, кто, как я, сражался с немцами. Между прочим, также и за вас.
Старик послушно кивнул, его пальцы все никак не могли удержать перо.
— Я уже стар… — сказал он.
Этторе добавил:
— И еще. Если вас не станет, — а у вас, я знаю, никого нет, — что будет с моими деньгами?
Старик улыбнулся:
— Я еще, кажется, не умираю… Ведь не на десять же лет ты отдаешь мне деньги?
Этторе, уходя, думал о бумаге, про которую говорил Дзеку и которой у него не было, он не знал, кому бы ее доверить, но теперь он чувствовал, что за старика может быть спокоен.
Их крупная игра была прервана смертью матери Бьянко. Она умерла в тот день, когда Этторе отнес банкиру еще триста тысяч лир.
Этторе ожидал похорон с волнением, но держался в стороне. Не так, как Пальмо, который провел ночь у одра покойной, договаривался с бюро похоронных процессий, заказывал гроб и даже менял деньги, чтобы раздать мелочь беднякам, которые провожали покойную до самых ворот кладбища. Этторе решил проверить на похоронах, какой репутацией пользуется в городе Бьянко. На похороны пришло много высокопоставленных и богатых горожан — коммунальные советники, врачи, нотариусы, учителя; пришли со знаменем представители Союза ветеранов войны. Глядя на всех этих людей, окружавших катафалк, Этторе подумал: «Порядок!» Увидел также и своего отца в парадном костюме и в новой шляпе и повторил про себя еще раз: «Порядок!»
По случаю траура Бьянко не выходил из дома, и Этторе переселился на это время к себе.
В воскресенье, после похорон, он надел костюм из шотландской шерсти, подаренный ему Бьянко, и красный галстук, который он купил в субботу вечером.
Когда он вошел в кухню, мать сидела у окна и глядела на крыши соседних домов.
— Ты не выходишь из дому по воскресеньям? — спросил он.
Она покачала головой.
— Отдыхаешь?
— Отдыхают мои руки и ноги, но не голова.
— А что делает твоя голова?
— Думает.
— О чем, мать?
Она многозначительно вздернула подбородок, давая понять, что у нее целый воз тем для размышления.
Он встал за ее спиной и сказал:
— Я знаю, чем ты занимаешься. Ждешь, пока все уйдут из дома, а потом закрываешься на замок и принимаешься пересчитывать денежки, которые я принес тебе за последнее время.
— Да там и считать-то нечего, — ответила она.
— Что?! — вскричал он.
— Ну ладно. Но я не считаю. И так знаю, сколько их.
— Ну, хватает тебе теперь? Ты довольна?
— Хватает, и я довольна, потому что ты выполняешь свой мужской долг, да все боюсь, что это скоро кончится…
— Не кончится, пусть только у Бьянко пройдут тяжелые дни, и он опять начнет гонять свои грузовики.
Потом Этторе спросил, куда пошел отец.
— Не знаю.
— Может, в остерию?
— Твой отец не ходит в остерию, как другие. Он, видно, пошел на мост, рекой любоваться.
— Ну, как он?
— Со здоровьем неплохо, но в голове у него что-то неладно, нужно следить за каждым его шагом, прямо как за ребенком. Теперь вот вбил себе в башку, что ему нужна собака. Хочет держать собаку, какую угодно дворняжку; говорит, нужно ему, чтобы какая-нибудь добрая душа была ему предана, хотя бы собака.
Что-то кольнуло Этторе в сердце. Он сказал:
— Будет у него собака, если он так хочет. Я найду и приведу.
— Мне не нужно грязи в доме.
— Но отец хочет собаку.
— Я с ним поговорю, и у него эта блажь пройдет.
— Ничего ты ему не скажешь и возьмешь собаку, — твердо сказал Этторе.
Она вздохнула и спросила:
— Куда ты сейчас? В кафе?
— Так, пройтись.
Мать сказала:
— С Вандой пойдешь?
— Тебе, я вижу, все известно.
— Ты же знаешь, что меня тебе не обмануть.
— Что ты имеешь против Ванды?
— Ничего. Только несчастная она, что тебя полюбила. Бедная девочка, несчастная. И я, твоя мать, ей это скажу. Несчастная она, что тебя любит. Скажу ей, как только встречу.
— Ах, так она несчастная, что меня любит? Потому что ты, будь ты девушкой, не пошла бы за меня? Да?
— Никогда! — отвечала она, качая головой и грозя ему пальцем.
Он расхохотался и обнял ее за плечи, а она все грозила ему пальцем, тогда он, дурачась, стал гладить ей шею и целовать волосы.
— Так говоришь, не пошла бы? За такого-то мужчину?! Еще как пошла бы, вцепилась бы прямо! Только сама бы ты была свеженькой девчонкой, а не старой каргой, как сейчас.
Он снова наклонился, чтобы поцеловать ей волосы, но она уклонилась, и поцелуй пришелся ей в шею. Она поежилась, потом выпрямилась и тихо произнесла:
— Знал бы ты, как далеко все это уходит с годами!
Немного помолчав, Этторе сказал:
— Ну, я оставляю тебя считать деньги.
Она пожала плечами, а он, уходя, подумал: «Господи, как все хорошо складывается!»
Сначала он решил заглянуть на спортивную площадку. Он шел и думал о Ванде, которая в этот час у себя дома готовилась к встрече с ним. Сколько он ни старался, никак не мог вспомнить, когда это началось, когда он полюбил ее, так же как он не мог бы сказать, откуда берут свое начало корни деревьев на аллее, по которой он шел. Перебирая в памяти события, он невольно останавливался на одном октябрьском вечере в дансинге братьев Норсе, через полгода после окончания войны.
Ванда танцевала блюз «Симфония» с Джорджо, сыном местного богатея, владеющего тремя мельницами, а Этторе наблюдал за ними, опершись о стойку бара. К этому времени он уже трижды обладал Вандой — дважды на берегу реки и один раз на холме. Теперь эти двое танцевали, тесно прижавшись друг к другу, щека к щеке, подбородок Ванды — на плече партнера, при этом видно было, как тело Ванды принимало импульсы, которые ей посылало тело Джорджо, и как ей передавалась его дрожь; глаза Ванды затуманились. Когда танец кончился, Джорджо, отступив на шаг и по-офицерски щелкнув каблуками, наклонился и поцеловал Ванду в голое плечо, у шеи. Ванда улыбнулась.
«Мерзкая шлюха!» — выругался про себя Этторе и пошел приглашать ее на следующий танец. Но танцующие потребовали, чтобы оркестр бисировал; снова заиграли тот же блюз, и Этторе не знал, куда деваться от злости. Чтобы не стоять столбом на краю площадки, не зная, что делать с руками, он вернулся к стойке и заказал еще стакан вина.
Блюз «Симфония» тянулся бесконечно долго, людям нравилось его танцевать, а оркестрантам играть. И Ванда продолжала все так же прижиматься к Джорджо, а под конец он опять поцеловал ее в плечо.
Перед следующим танцем Этторе подошел к Ванде и, как только раздалась музыка, повел ее, танцуя, в угол зала к свободному столику.
— Садись! — приказал он ей. — Ты грязная шлюха!
Она не ответила, лишь незаметно огляделась вокруг, не слышал ли кто.
— Ты грязная шлюха. Что, обиделась? Не понимаешь, почему я это говорю?
— Джорджо… — тихо произнесла она.
— Что у тебя с Джорджо? Уже было что-нибудь?
— Ничего. Ты должен знать, что у меня ничего ни с кем не было никогда.
— А после того?
— Ничего ни с кем.
— Однако Джорджо уже близок к цели, — сказал он. — Очень близок, а?
Ванда открыла было рот, чтобы ответить, но промолчала и стала поводить плечами в такт музыке.
— Перестань или я сейчас схвачу тебя за горло!
Она перестала даже дышать.
— Ты кто? Женщина или сука? Сука. Почему ты переметнулась к Джорджо?
Тогда она ответила:
— Ты не хочешь, чтобы я была твоей навсегда, ведь так? Я думала об этом и решила тебя бросить, прежде чем ты бросишь меня. Ты свое уже получил.
— Почему ты начала со мной первым?
— Ты мне нравился и сейчас нравишься, ты мужчина моего типа. И я отдала тебе то, что тебе причиталось.
Он схватил ее руку и изо всей силы прижал к столу — он видел по дрожащим уголкам губ, что она едва удерживает крик. Потом сказал:
— Я не позволю тебе этого; пока я жив, ты не будешь сукой. Того, что мне причитается, я еще не получил. Это никогда не кончится. Когда ты умрешь, тогда кончится. И мне не надо жениться на тебе, чтобы удержать.
— Нет, — сказала она.
Этторе еще сильнее сжал ей руку, рот у Ванды медленно раскрылся, и из него вырвалось очень долгое и совсем тихое «а-а-а!», как вздох.
— Ты будешь со мной, и нас будет только двое на всем свете. Ты будешь со мной — не важно, по любви или из страха: я могу заставить тебя испытать и то и другое. Будешь со мной и не раскаешься.
Она тихо напомнила:
— Руку, Этторе.
Он слегка приподнял ладонь, но руки ее не выпустил.
— Ты меня любишь? — спросила она.
— Пока ты мне нравишься, только нравишься, я не стану тебе врать. Но если ты останешься со мной, ты не пожалеешь.
Ванда чуть улыбнулась и ответила:
— А под конец окажусь с пустыми руками… — Ее переполняли грусть, нежность и желание жертвовать собою.
У него язык присох к гортани, и, с трудом им ворочая, хриплым голосом он ответил:
— Я — это не пустые руки.
Тогда она сказала:
— Хорошо, давай станцуем этот слоу.
* * *
Этторе вошел во двор, где играли в лапту, посмотреть на решающий удар. Вскоре игра кончилась, и державшие пари стали рассчитываться. Он поискал глазами Пальмо и вскоре нашел его. Тот, вытащив большую пачку тысячных бумажек, отсчитывал их человеку, стоявшему перед ним с протянутой рукой. Этторе пришел в ярость и мысленно обозвал его идиотом — только идиот способен держать напоказ такие деньги. Пусть лезет добровольно в петлю, если ему нравится, но с ним связаны другие люди, это не игра в бирюльки.
Этторе подошел к Пальмо, чтобы узнать о Бьянко:
— Ты, значит, ставил на красных?
— Сегодня у меня несчастливый день, — ответил Пальмо.
— Сколько ты проиграл?
— Пятнадцать тысяч, — ответил Пальмо равнодушно, — плевать мне на проигрыш. Тем более что я их быстро верну. Ты тоже можешь ставить и проигрывать, если тебе хочется.
Этторе отвел его в сторону.
Пойдем за колонну. Что задумал Бьянко?
Пальмо на него не смотрел, он не сводил глаз с площадки, где игроки готовились к новой партии.
— Ты знаешь кого-нибудь, кто разбирается в кокаине?
Этторе сразу же подумал о химике Фараоне, но лишь спросил:
— А что, будет дело с кокаином?
— Ты знаешь кого-нибудь, кто разбирается в кокаине? — повторил Пальмо.
— Об этом я скажу только Бьянко. Иди ставь по новой и проигрывай, идиот. Уже начинают.
Этторе вышел со двора и направился к месту встречи с Вандой. Она была уже там, он увидел ее издали, на ней было все то же платье, что и десять предыдущих воскресений, и он засопел от досады, готовый наброситься на нее за это. Но тут же подумал: «Это подло. Злиться на женщину лишь потому, что у нее мало платьев, — подло. Теперь, когда я разбогател, я мог бы дать ей денег, чтобы она оделась с головы до ног. Но лучше пока не рисковать — пусть все идет, как идет».
Когда он подошел к Ванде, она сказала ему:
— Ты красивый, Этторе. Я смотрела на тебя издали.
Он взял ее под руку и повел по улице, все время ощущая близость ее тела.
Она молчала, потом сказала, не поднимая глаз:
— Может, лучше тебе пойти на спортивную площадку или в кафе, чем гулять со Мной? Там тебе будет веселее.
— Почему ты так говоришь?
— Сегодня у нас ничего не выйдет: я нездорова.
Этторе слегка отстранился.
— Я так и знала, — сказала Ванда. — Иди куда тебе хочется, оставь меня здесь, я одна вернусь, не беспокойся.
Теперь Этторе сжимал ей руку еще сильнее прежнего.
— Ничего, — сказал он. — Думаешь, я не могу побыть с тобой, не притрагиваясь к тебе? Я люблю тебя, вбей себе это в голову. И мне приятно просто глядеть на тебя.
— Ты работаешь всю неделю, и в воскресенье тебе надо развлечься.
Он уже закипал, и Ванда от страха сбилась с шага.
— Я до того в тебя влюблена, что пугаюсь из-за малейшего пустяка.
— Я люблю тебя, — сказал он громко. — Иди и не заставляй меня больше повторять, что я тебя люблю.
Всю дорогу к реке Ванда чувствовала себя счастливой. Когда сквозь деревья замелькала вода, Этторе стал серьезным и спросил Ванду, помнит ли она, когда они были здесь в последний раз.
— Весной, — с готовностью ответила она. — Разве ты не помнишь?
— Нет.
— Правда?
— Я же сказал: нет.
— Ты разве не помнишь, как мы пришли сюда в субботу вечером и устроились на самом краю обрыва, чуть двинешься посильнее — и свалишься в воду. Не знаю, что тебе пришло в голову, только ты сказал: «Пусть все души утопленников видят нашу любовь». Я испугалась и убежала, а ты догнал меня и… побил.
Он посмотрел на воду и сказал:
— Помню. Я ненормальный. Но в этом виновата ты и еще что-то, что живет в твоем теле.
Они стали выбирать место на берегу реки, чтобы усесться. Он опустился рядом с ней и ощутил, как его пробирает дрожь, словно ее нездоровье передавалось и ему.
Он стал смотреть на воду — чувствовалось, какая она студеная.
— Посмотри, пожалуйста, на меня, — попросила Ванда, — ты глядишь только на реку.
Этторе взглянул, и руки у него сами собой пришли в движение; чтобы как-то занять их, он полез в карман за сигаретами и спичками.
Она тронула его за локоть.
— Не кури. Можешь меня поцеловать.
— Поцеловать, — повторил он. — Что такое поцелуй для людей, которые зашли уже так далеко, как мы?
Ванда опустила голову.
— Не обижайся. Пойми меня правильно. Я хочу тебя, целоваться мне очень приятно, но уже мало.
Все же он поцеловал ее, хотя теперь она этого и не хотела. Они целовались, и Этторе уже не думал о сигарете.
Потом попросил:
— Позволь мне…
Она покачала головой.
— Я хочу приласкать тебя немного, где можно.
— Нет.
Он замолчал, а у нее на глазах блеснули слезы.
Этторе перевел взгляд с реки на поля и увидел, что их заволакивает туман.
Ванда тоже следила за продвижением туманной пелены. Она застегнула воротничок жакета и сказала:
— Наступают холода.
Он кивнул:
— Плохо нам будет зимой.
Она спросила:
— Что же нам делать, милый? Кругом грязь, и снег скоро выпадет.
Он не ответил.
— Будешь водить меня в гостиницу?
Он сделал отрицательный жест.
— И мне это не нравится, — сказала она. — Но как же быть? Зима такая длинная, я не смогу столько ждать, не смогу! — В отчаянии она уцепилась за его рукав.
— Не надо, — процедил он сквозь зубы, — успокойся, я страдаю не меньше тебя, но я же сдерживаюсь.
Помолчав немного, он сказал:
— Знаешь, надо положить этому конец.
Она испуганно взглянула на него.
— Поженимся, — пояснил Этторе, — и у нас будет своя кровать.
— Кровать, — подхватила она взволнованно, — широкая-широкая и низкая-низкая.
— Кровать, — сказал он со злобой.
Она посмотрела на воду и спросила:
— Когда ты на мне женишься, Этторе?
— Дай прикинуть. — И он стал думать о своей необычной работе и о деньгах, лежавших у Дзеку.
Она ждала, наконец не выдержала:
— Ну?!
— Мы поженимся будущей осенью. Как ты думаешь, неплохо сыграть свадьбу осенью?
VI
— Твой химик придет? — спросил Бьянко.
— Придет, но он ровно ничего не знает, — ответил Этторе, — он думает, что мы поедем в Т. Мне повезло, я застал его в кафе, он ждал попутную машину в Т. Он поймет, в чем дело, только на развилке, когда мы свернем не налево, а направо.
Бьянко положил в машину портфель, туго набитый деньгами.
— Он не поднимет шума? Мне это ни к чему.
— Да нет, он и не пикнет, будет молчать как миленький и сделает все, что ему велят: он ведь совсем спился.
Бьянко спросил:
— Неужели нельзя было найти никого, кроме этого вшивого алкоголика?
— Фараон, конечно, вшивый алкоголик, ты прав, но никто здесь так не разбирается в химии, как он. Многие фармацевты, у которых водятся денежки, дорого дали бы, чтобы знать столько, сколько он.
В ожидании Фараона они сели в машину: Этторе — за руль, Пальмо — рядом с ним, а сзади — Бьянко, оставивший место для Фараона. Пришел химик, и пока он без конца благодарил Бьянко, Этторе смотрел на его старенький коричневый плащ и думал, что в горах Фараону придется лязгать зубами.
Машина тронулась. Они мчались по равнине на большой скорости по направлению к Альпам.
Немного погодя Бьянко спросил Фараона:
— Зачем ты едешь в Т.?
— Дело невеселое. Еду в последний раз повидать сестру.
— Что с ней?
— Диабет ее губит. Но она сама во многом виновата, вовремя не лечилась, хотя и могла — ведь она не то, что я: у нее и семья есть, и деньги. Не лечилась, и дело дошло до того, что у нее открылись язвы. Ну, да вы люди молодые, и рассказы об этих болезнях не для вас. Разрешите еще раз поблагодарить за то, что вы взяли меня с собой.
Этторе вопросительно посмотрел в обзорное зеркальце, Бьянко поднял брови и глазами указал на дорогу.
На перекрестке в Б. Этторе нажал на акселератор и свернул направо.
Фараон, внимательно следивший за машиной, потому что был встревожен быстрой ездой, приподнялся с сиденья, положил руку на плечо Этторе и сказал:
— Подожди, Этторе, ты ошибся на повороте.
— Откуда ты знаешь дорогу?
— Знаю, сворачивать надо было влево.
Этторе стряхнул с плеча руку Фараона и ответил:
— Не мешай вести машину.
— Оставь его, — сказал Бьянко и, в свою очередь положив руку на плечо Фараону, заставил его откинуться на спинку сиденья.
Фараон совсем съежился в своем углу.
— Куда же мы едем, ребята?
Ему ответил Пальмо:
— В одно хорошее местечко, не в Т.
Тогда Фараон спросил:
— Что вы со мной делаете, ребята?
Никто ему не ответил, и он от испуга невольно повысил голос:
— Куда вы меня везете, что вы против меня имеете? Что вам нужно от такого несчастного человека, как я? Я вам ничего плохого не сделал, политикой никогда не занимался, ничьим шпионом не был, а во время войны сердцем всегда был с вами. Этторе… ведь это ты мне сказал о поездке…
— Успокойся, — ответил Этторе, — и послушай Бьянко.
Фараон робко повернулся к Бьянко, и тот объяснил:
— Ты поедешь с нами на французскую границу, Мне нужно, чтобы ты определил, хороший или плохой товар, за которым мы сейчас едем.
— Но я не могу. У меня сестра при смерти.
— За один сегодняшний день ты заработаешь десять тысяч лир.
Фараон покачал головой.
— Не могу. Сестра.
Бьянко спросил:
— Почему она обязательно должна скончаться именно сегодня? Ты сможешь попрощаться с нею и завтра — ведь мы нынче же вечером будем дома. Я готов дать тебе даже пятнадцать тысяч только за то, чтобы ты взглянул на товар и сказал, хорош он или плох.
— А что это такое? — спросил Фараон.
— Кокаин.
— А!
— Это верно, что ты в нем хорошо разбираешься?
— В общем, да. А что это за дело?
— Чистое.
— Контрабанда?
— Конечно.
Закончив разговор, они откинулись на спинку сиденья. У Фараона было грустное лицо, но по его глазам, отражавшимся в зеркале, Этторе понял, что на него теперь вполне можно положиться.
Они остановились перекусить в Ч. Д., откуда, казалось, рукой подать до Альп.
Окна зала, где они сидели, выходили на водохранилище местной гидростанции. Фараон, словно зачарованный, не отводил глаз от гладкой, темно-зеленой, как бутылочное стекло, поверхности воды в глубине котлована.
Когда его позвали за стол, он, не оборачиваясь, покачал головой и ответил:
— Я не голоден. Я никогда не бываю голоден.
Тогда Бьянко спросил:
— А пить будешь?
Фараон обернулся и сказал, что выпил бы коньяку.
Остальным принесли мясо и яйца, но Бьянко от мяса отказался.
— Что с тобой, Бьянко?
— С тех пор как умерла моя мать, я не могу есть мясо.
— Почему? — спросил Пальмо.
— Идиот, — ответил ему Этторе.
Вскоре они поехали дальше. Этторе еще некоторое время вел машину, потом передал руль Пальмо.
— В чем дело, Этторе? — спросил Бьянко.
— Я плохо спал ночью. Мне снились кошмары.
— Какие?
— Мне приснились немцы. Я ходил по какой-то огромной казарме, причем в одном белье. Потом оказался на казарменном дворе, и здесь передо мной вдруг вырос немец. На ремне у него был автомат, — и он готовился выстрелить в меня, но у меня в руке был пистолет, и я его опередил. Только пистолет выстрелил вхолостую — раздался звук, будто кто бутылку откупорил, — и оружие выпало у меня из рук. Я почувствовал, что умираю. А немец стал хохотать, сгибаясь вдвое, чтобы не лопнуть от смеха, и мне удалось проскользнуть мимо него. Тут. он перестал смеяться и бросился вверх по лестнице за мной. Под конец мне пришлось выпрыгнуть с верхнего этажа казармы на улицу. Потом я проснулся и почувствовал себя отвратительно. Так я больше и не заснул.
— Ты и сейчас не в форме?
— Будь спокоен, — ответил Этторе.
Когда показалась большая плотина, Бьянко сказал:
— Почти приехали. — И немного погодя, ткнув пальцем в сторону ветрового стекла, добавил: — Франция.
— Где? — спросил Пальмо.
— Вон за той горой.
Этторе припомнился Марсель. С тех пор он его не видел — может, ему, наконец, удалось перейти французскую границу и он живет теперь, где-то там, за горами. Он посмотрел в сторону Франции, и с губ у него сорвался пренебрежительный звук. Словно он подумал о женщине, которая для него ровно ничего не значит, тогда как его друг влюблен в нее по уши.
Они ехали по дороге, огибавшей большое искусственное озеро. Дорога не была огорожена, от нее до стальной глади воды было метров пять.
Фараон попросил Пальмо:
— Пожалуйста, веди машину ближе к середине дороги. Эта вода меня пугает.
Там, где озеро кончалось, справа от питающего его источника, среди самого настоящего природного парка из эрратических валунов, стояла, притулившись. к остроконечной скале, вполне современная гостиница. Рядом была сложенная из грубого камня запертая часовня.
Они остановили машину около часовни.
Бьянко велел Пальмо развернуться носом к долине.
— Мне холодно, — пожаловался Фараон, сжимая посиневшие руки.
— А вот мы с тобой зайдем сейчас в гостиницу и посмотрим, нет ли там чего-нибудь горячего, — сказал Бьянко.
И они с Фараоном ушли.
Пальмо развернул машину и стал разглядывать часовню. На ее боковой стене были солнечные часы.
— Что там написано?
Там было написано:
En regardan l'heure
Pense à ta mort et tiens-toi prêt.[2]
— Это по-французски, — сказал Этторе.
— Ты не знаешь, что это значит?
— Я? Нет.
Пальмо отвернулся и начал рассматривать горы. Ему, казалось, было не по себе.
— Зачем Бьянко пошел с этим типом в гостиницу?
— Выпить.
— А мы с тобой?
— Ждем французов.
Было тихо, слышался только шум воды. Потом они увидели человека верхом на муле, поднимавшегося по рыжему склону горы. Человек этот, приставив руку ко рту, кричал: «Пьер! Пьер!».
— Кого он зовет? — спросил Пальмо.
Этторе пожал плечами.
Французы заставили себя ждать целых полчаса. Потом они показались из-за остроконечной скалы и стали пробираться среди валунов. Их было трое: двое — в одежде горцев, третий — в синем городском костюме.
Этторе и Пальмо, стоявшие около машины, выпрямились и смотрели на приближавшихся французов.
Когда те подошли ближе, стало видно, что у горожанина были раскосые китайские глаза, отвратительная, как будто налитая гноем, физиономия и длинные черные щедро набриллиантиненные волосы.
Этторе прищелкнул пальцами и сказал Пальмо:
— Спорим, что тот тип — итальянец?
— Мне тоже кажется, что он из наших, — ответил Пальмо. — Кто бы он мог быть?
— Посредник, наверно.
— Не нравится он мне, — заметил Пальмо. — Он, знаешь, из тех щеголей, у которых из кармашка всегда торчит расческа.
— Спорим, что в заднем кармане брюк у него есть еще и пистолет.
Двое французов были светловолосые и голубоглазые и показались Этторе больше похожими на немцев.
Все трое пошли в гостиницу, но на пороге горожанин обернулся и поглядел на Этторе и. Пальмо.
Тогда Этторе вынул из машины портфель с деньгами, велел Пальмо идти за собой и на ходу переложил пистолет так, чтобы в нужный момент его было удобно выхватить.
В ресторане гостиницы был только один старый официант, который стоял, облокотившись на стойку бара, и глядел в сторону круглого стола. Этторе слегка толкнул Пальмо в бок, тот отошел и встал между баром и круглым столом, возле которого стояли Бьянко и химик с одной стороны и трое приезжих — с другой.
Один из французов поставил на стол рюкзак и, не снимая рук с пряжек, смотрел на Бьянко. Тот обернулся к Этторе и приказал:
— Покажи им, что там есть!
Этторе открыл портфель и наклонил его в сторону французов. Горожанин потянулся через стол к портфелю, и глаза у него стали совсем как щелочки. Выпрямившись, он сказал французу, державшему рюкзак:
— Bien, ça suffit. Débouclez.[3]
Этторе повернулся и встал между химиком и горожанином.
Француз отстегнул пряжки и вытащил из рюкзака металлическую коробку, в каких обычно держат теннисные мячи. Фараон шумно вздохнул, француз поставил коробку посреди стола и, показав большой палец, заявил:
— Un kilo. De toute premiére qualité.
Горожанин открыл коробку и, протягивая ее Бьянко, перевел:
— Килограмм. Высшего качества.
Бьянко мельком взглянул на порошок и сказал Фараону:
— Посмотри ты.
Химик облизнул кончик указательного пальца, сунул его в порошок, вынул, высунул язык и положил на него палец. Все затаили дыхание. Химик пошлепал губами, улыбнулся и обратился к французам:
— Pas cocaïne[4].
Повернулся к Бьянко и, продолжая улыбаться, повторил:
— Это не кокаин. Это терпингидрат.
«Как спокоен, смел и сведущ этот Фараон», — думал Этторе, не сводя глаз с рук горожанина.
Оба француза густо покраснели. Они беззвучно пошевелили губами и повернулись к горожанину. Тот сказал:
— Произошла ошибка, синьоры. Извините. Жак спутал. Сегодня нам предстоит еще одна сделка с другими клиентами, прошу прощения. Vous vous êtes trompé, Jacques. Les autres tout de suite.[5] Прошу нас извинить.
У него вдруг начал дергаться правый глаз.
Жак вытащил другую коробку, горожанин ее открыл и тут же протянул Фараону.
Химик попробовал порошок и сказал французам:
— Oui, ça va, ça va[6].— Потом утвердительно кивнул Бьянко.
Тогда Бьянко сказал горожанину:
— Пусть вытащат все коробки, но чтобы они были с кокаином. Если настоящий товар, я покупаю.
Была вынута еще одна коробка. Фараон ее также проверил и снова кивнул Бьянко.
Тогда Этторе выхватил пистолет и ткнул дулом в живот горожанину. Бьянко взял на прицел двух французов, а Пальмо отошел от бара и, ощупав сзади всех троих, отобрал у них пистолеты.
— Ты свинья, — сказал Этторе горожанину, — мы тебе покажем, как охмурять своих.
Бьянко крикнул Фараону:
— Смелее, сейчас не время дрожать от страха. Давай- скорее, тебе нечего бояться. Бери коробки, да не спутай — подделку возьму я.
Потом, обратившись к Этторе и Пальмо, распорядился:
— Отведите их в машину, мне еще надо поговорить с официантом.
Этторе и Пальмо вытолкали всех троих, подгоняя в спину пистолетами. У Пальмо было по пистолету в каждой руке. Все пятеро подошли к машине.
Фараон тоже вышел, но остановился на лестнице и заглянул в открытую дверь гостиницы. Двумя руками он держал рюкзак, свисавший ему до колен.
Пальмо повернул горожанина лицом к часовне и, указав пистолетом на надпись под часами, спросил:
— Ты знаешь французский, скажи, что там написано.
Горожанин прочел, и лицо его стало пепельно-серым.
В этот момент Бьянко вышел из гостиницы и побежал к машине, подталкивая впереди себя Фараона, заставляя его тоже бежать.
Пальмо сел за руль, Фараон с рюкзаком на коленях рядом с ним, а тех троих пихнули на заднее сиденье. Бьянко и Этторе присели на корточки, упершись спинами в переднее сиденье и помахивая пистолетами перед носом трех пленников.
Бьянко оставил открытой дверцу в сторону озера и крикнул Пальмо:
— Давай быстрее!
Резким рывком Пальмо тронул машину.
— Руки на затылок! — приказал Этторе горожанину.
Тот послушался, и тогда Этторе навел пистолет на французов. У них руки были опущены, но, взглянув на горожанина, Они тотчас последовали его примеру.
— Веди машину по самому краю, Пальмо, — приказал Бьянко.
Потом взял коробку с поддельным кокаином и швырнул ее в озеро..
— Прыгай, сволочь! — скомандовал он горожанину.
Весь посерев и стараясь не глядеть в сторону озера, тот взмолился:
— Вели остановить машину. Мы сойдем и ни разу не обернемся. Клянусь тебе!
— Прыгай, сволочь!
— Так мне же тогда конец!
— Конец тебе будет, если ты не прыгнешь! Мне просто жаль пачкать обивку машины.
С переднего сиденья Фараон крикнул:
— Не убивайте их или приканчивайте и меня тоже!
— Молчать! — цыкнул на него Бьянко и повторил свой приказ горожанину..
Горожанин привстал и, согнувшись, стал протискиваться к дверце. Он спотыкался о колени двоих французов, которые, упираясь спинами в сиденья, старались приподняться, чтобы его пропустить. Когда он оказался в дверном проеме, Бьянко толкнул его в спину дулом пистолета. Горожанин вывалился наружу, в машину ворвался только его испуганный крик, резкий и короткий, похожий на крик сокола.
Затем Этторе приказал французам:
— Alez!
Оба француза выпрыгнули из машины без звука, один за другим.
Тогда Этторе закрыл дверцу. Он и Бьянко уселись поудобнее на заднем сиденье вместо тех троих, убрали пистолеты и, отдышавшись, полезли в карман за сигаретами.
Бьянко сказал:
— Они уже теперь на берегу.
— Знаешь, — Бьянко, это первое наше с тобой серьезное дело, которое напомнило мне войну, — сказал Этторе.
Фараон обернулся и посмотрел на них. Растрепанные седые волосы падали ему на глаза, полные слез.
Бьянко сказал ему:
— Вот не думал, что ты такой, Фараон.
Фараон ответил ему бессмысленной улыбкой.
VII
— Ты что натворил? — в упор спросила его. мать в тот январский полдень, не дав ему времени закрыть за собой дверь.
Голос ее звучал не слишком грозно, но от неожиданности он вздрогнул так, будто его спрашивал полицейский или судья.
— А что? — спросил он настороженно.
— Приходила к нам эта девушка, Ванда.
— А!.. Зачем?
— Во что, бы то ни стало хотела тебя видеть, спрашивала, где тебя найти, а я теперь редко знаю, куда ты ходишь. Она так нервничала, что ни минуты не могла стоять на месте. Сказала, что пойдет домой, пообедает, а потом опять будет тебя искать. Что вы с ней наделали, с этой Вандой? Какую-нибудь глупость?
— Никогда мы ничего плохого не делали, — ответил он, но тут же вздрогнул, словно от пощечины.
Его ожгло воспоминание об одной ноябрьской ночи, когда он шел по направлению к окружной дороге, где его ждал. грузовик Бьянко, чтобы отвезти на текстильную фабрику в М., а Ванда вышла ему навстречу из-за угла и повела за руку через линию железной дороги, туда, где начинались поля.
— Ты что, — сказал он, — видишь, кругом снег.
— Ничего, ты подстелить свою куртку, — отвечала она, — и не заставляй себя тащить, Этторе, давай скорее, я удрала из дому, и у меня считанные минуты.
Он полез было за бумажником, но тут же опустил руку, вспомнив, что там не было того, что нужно.
— У меня нет… Я не знал… — пробормотал он.
— Ничего, только будь осторожен.
— Я не могу быть осторожен… как ты говоришь.
Но она продолжала тащить его, заставив пройти несколько шагов до края поля, покрытого снежной пеленой.
Со временем это выветрилось у него из головы, а теперь все, что было в ту ночь, ударило его, словно пощечина.
— Ничего плохого мы не делали, — повторил он, — просто не знаю, что с ней стряслось. Рехнулась она, что ли? Давай, мать, поедим спокойно. После обеда я ее разыщу и узнаю, в своем ли она уме.
Пообедав, он вышел из дома и, несмотря на холод, прошел из конца в конец две улицы, сам толком не зная, почему идет именно этой дорогой. Внезапно на углу Заводской улицы он увидел Ванду, стоявшую на самом ветру и дрожавшую так, что это было видно издалёка.
— Этторе сначала остановился, издали глядя на нее, потом медленно подошел. В глазах у девушки он увидел только страх. И прежде чем он успел открыть рот, она сказала:
— Я беременна… от тебя, Этторе.
— Что ты говоришь, бог мой, — произнес он еле слышно.
Невольно он уставился на ее живот и даже отступил на шаг, пытаясь рассмотреть получше, с трудом удерживаясь, чтобы не расстегнуть на ней пальто, мешавшее ему видеть.
В его взгляде Ванда тоже уловила испуг, и тогда в ее глазах отразился еще больший страх. Этторе смотрел на нее в ужасе, как будто он зажег в глубине ее тела бикфордов шнур и теперь с секунды на секунду ожидал взрыва.
— Что ты скажешь? — еле выговорила она дрожащими губами.
— Ты уверена? — спросил он глухо.
— Доктор так сказал.
Он откашлялся.
— Ты уже была у доктора?
— У меня началась рвота…
Сморщившись от отвращения, Этторе в отчаянии хлопнул себя по бедру и крикнул:
— Зачем ты мне об этом говоришь?!
— Этторе! — воскликнула девушка.
Немного погодя он спросил:
— А что твои?
— Они ничего не знают. Месяца два я еще могу от них скрывать, но не больше. За эти два месяца я должна найти в себе силы утопиться.
— А я на что? — спросил он, не глядя на Ванду.
Она тоже не смотрела на него и в ответ только пожала плечами.
Было очень холодно, с реки и полей дул ледяной ветер.
Он обнял ее за плечи, по-прежнему не глядя в глаза. Оба, по очереди, испускали тяжелые вздохи, как будто нарочно затеяли такую игру.
— Что же мне делать? — спросила она.
— А?
— Что мне делать?
Он не ответил. Она подождала, потом спросила:
— Ты как считаешь?
Он не мог раскрыть рта. Наконец выдавил из себя:
— Это тебе надо решать.
— Я сделаю все, что ты хочешь. Только скажи.
— Я не знаю, что сказать.
— Ну, говори же, Этторе.
— Не знаю, что и сказать…
Тогда она крикнула, чтобы он не подличал.
У Этторе словно темная пелена стояла перед глазами. Наступая на Ванду грудью, он подталкивал ее к дому, пока она не прижалась спиной к стене. При этом он не мог произнести ни слова.
Упершись руками ему в грудь, Ванда умоляла:
— Говори, Этторе, ты же мужчина. Считай, что ты мой хозяин, и решай, что со мной делать. Ведь если бы у тебя испортился мотор, ты бы принял какое-нибудь решение. Скажи, и я тебя послушаюсь. Я сделаю, как ты скажешь.
Он все не отвечал, и тогда она совсем тихо спросила:
— Хочешь, поговорю с каким-нибудь врачом? Только, знаешь, операция стоит очень дорого…
Едва он собрался с духом и выдавил из себя: «Деньги у меня есть, сколько надо», как увидел ужас в ее глазах. Этторе почувствовал комок в горле. Он обнял ее обеими руками и сказал в пушистые волосы:
— Думаешь, я хочу, чтобы ты себя сгубила?
Она попыталась отстраниться, посмотреть ему в глаза, но он лишь крепче прижал ее к себе:
— Стой так: тебе будет теплее.
Ее слезы стекали ему за ворот, и ощущение этой теплой, мгновенно остывавшей влаги как-то ужасно расслабляло его.
— Мне хочется ребеночка! — выдохнула она, наконец, куда-то ему в шею.
— У тебя и будет ребенок. Я тебе его дал… Он твой… будет у тебя ребенок, — говорил он, уткнувшись ей в плечо и не решаясь открыть глаза и увидеть свет.
Она отодвинулась, но не сняла рук с его груди и смотрела на него, беззвучно шевеля губами. И тогда Этторе почувствовал, как внутри у него теплеет. Он распрямился навстречу резкому ветру с реки и теперь боялся только, чтобы это тепло не исчезло и вместо него опять не появился леденящий холод.
— Ну вот мы и договорились, а теперь иди домой. Ты совсем как ледышка.
Она опять испуганно прильнула к нему всем телом и спросила:
— Что мне дома делать?
Он мягко отстранил ее и поднял ей голову, чтобы она посмотрела ему в глаза, теперь они были ясные и твердые, такие же, как «на работе» с Бьянко. Но он хотел только заставить ее слушаться.
Глядя ей в глаза, он сказал:
— Дома ты расскажешь обо всем отцу, матери, братьям…
— Нет, — слабо вскрикнула она.
— Ты им скажешь, ты должна сказать еще днем, потому что вечером я приду к вам.
— Ты с ума сошел, Этторе! Они тебя изобьют, изобьют до смерти!
Но он настаивал:
— Скажешь! Поклянись, что скажешь все!
Она молчала, у нее стучали зубы.
— Сейчас я уйду, — сказал он, — но мне надо быть уверенным, что когда пробьет четыре, они уже будут знать все. Поклянись, что скажешь!
У нее все так же стучали зубы.
— Ты должна сказать. Сказать, а потом стерпеть все, что они тебе за это сделают. Думай о том, что вечером я приду и дам слово жениться на тебе. Думай о вечере, соберись с силами и скажи. Тебе будет трудно только четыре часа, а потом приду я и все самое трудное возьму на себя. Я это сделаю сегодня вечером и буду делать всю жизнь.
Тогда она опустила голову и пообещала:
— Еще не знаю как, но я скажу…
— До четырех.
Он заглянул ей в глаза и продолжал:
— Ты боишься. Боишься до смерти. Боишься, а я не хочу, чтобы ты боялась. Я хочу, чтобы ты им это сказала смело. Покажи, как ты скажешь. Ну, покажи!
Она стала тихонько плакать.
— Пошли! — позвал он и потянул ее за собой. — Пойдем вместе к тебе, и я им все скажу.
Она вырвалась и быстро стала на прежнее место.
— Они изобьют тебя до смерти. Убьют!
Он подошел и опять обнял ее.
— Не убьют. Изобьют до полусмерти, но не убьют. И я не позволю им тебя запугивать!
Тогда Ванда повторила:
— Хорошо. Я скажу. Когда услышишь, что бьет четыре, считай, что они уже все знают.
— Может, тебе нужны деньги?
— Я не смею…
— Ванда, ради бога, не своди меня с ума этими глупостями!
— Тогда дай мне тысячу или полторы. Я куплю эластичный пояс.
Этторе дал ей деньги, и она, пятясь, стала потихоньку отходить от него. Он остался стоять на прежнем, месте и, не спуская с нее глаз, через каждые три ее шага повторял:
— Скажи им все. И не бойся. А ты боишься. Боишься.
Потом подбежал к ней, обнял.
— Ты боишься. Я не хочу, чтобы ты боялась. Ты — моя жена, и я хочу, чтобы ты никогда никого не боялась. А, черт, я сам чуть не реву. Я готов поубивать всех твоих из-за того, что ты их боишься!
Она взволнованно проговорила:
— Я им скажу. Боюсь ужасно, но все равно я довольна. Для отца и матери главное, что ты станешь моим мужем, и я так счастлива, что, конечно, должна немного за это поплатиться.
Он повторил:
— Скажи им. Я приду в восемь. Вы поужинаете к восьми?
Она кивнула.
Они никак не могли разнять руки, сжимая их до боли. Наконец рывком разъединились и пошли в разные стороны.
Этторе бродил по городу и ждал, когда пробьет четыре, а перед глазами у него все время маячили кулаки шорника и двух его сыновей. Он уговаривал себя думать только о Ванде и о том, что ей придется вытерпеть, прежде чем появится он и возьмет всю тяжесть вины на себя, но никак не мог отвязаться от мысли об ожидающих его кулаках.
Когда, наконец, пробило четыре, он оказался в биллиардной «Коммерческого кафе». Вынув изо рта сигарету, он смотрел отрешенным взглядом куда-то поверх людей. Потом подумал, что шорник и его сыновья, взбешенные и жаждущие мести, могут бросить работу и начать искать его по всему городу. Плохо будет, если они найдут его сейчас: он еще не готов к этой встрече. Но будет готов к восьми.
Оставалось еще четыре часа. Этторе пошел к реке и просидел, погруженный в свои мысли на берегу, пока не стемнело.
К своему дому он подходил, как во время войны к незнакомому населенному пункту, когда неизвестно, кто тебя там встретит — свои или враги. Осторожно, из-за угла, бросил взгляд на мастерскую отца— она была уже закрыта; потом поднялся по лестнице и прошел по коридору, прислушиваясь, нет ли в доме кого-нибудь, кроме отца и матери.
Он вошел в кухню и увидел накрытый стол. Отец, ожидая, пока мать подаст ужин, гладил собаку.
— Видал ее? — сразу же спросила мать, стоявшая у плиты.
— Нет, — ответил Этторе. Он еще не был готов к разговору, он все им расскажет минут через двадцать, через полчаса, ему, как и Ванде, нужно сделать это. Он поговорит с родителями после ужина. А то никто и есть не станет.
И после ужина, когда мать собиралась убирать со стола, Этторе. начал разговор. Он увидел, как при первых же его словах мать, стала безмолвно опускаться на стул. Он говорил медленно, запинаясь, будто слова застревали у него в горле. Совсем как у тех троих, которым пришлось, прыгать в горное озеро.
Отец сидел, опустив глаза, и, казалось, внимательно рассматривал крошки хлеба около своей тарелки.
А мать принялась кричать:
— Ты рехнулся, рехнулся! Скотина! Негодяй!
И кричала, пока отец не стукнул кулаком по столу и не гаркнул;
— Перестань орать, ведьма! Хочешь, чтобы весь дом знал о наших веселых делах?!
— Ну говори ты, — не унималась мать, — скажи, какую подлости он сделал, скажи ему!
Но отец ничего больше не сказал.
Тогда мать, вся дрожа, опустила глаза в тарелку и тихо проговорила:
— Ты мог бы вспомнить о нас, стариках, прежде чем надумал делать детей…
— Ничего я не «надумал»! — закричал Этторе. — Для меня это был удар, несчастье! Понятно тебе? А ты говоришь «надумал»! — И он продолжал уже более спокойно: — Это ничего не меняет. Когда мы с Вандой поженимся и у меня будет своя семья, я буду относиться к вам по-прежнему.
Но мать покачала головой. Она горько улыбнулась и сказала:
— Когда рядом появляются новые люди, стариков быстро забывают. Сам увидишь: с новой семьей у тебя будет столько забот и хлопот, что некогда будет и подумать о родителях. И настанет день, когда ты решишь, что лучше всего поместить их в богадельню.
— Перестань! — заорал Этторе. — Не смей говорить о богадельне, ты сама знаешь, что это неправда, я лучше подохну, чем допущу, чтобы вы пошли в богадельню! — Он вскочил со стула и уже готов был крикнуть ей в лицо: «Да у меня три миллиона, три миллиона, знаешь, что это такое — три миллиона?» — но вместо этого прикусил губу и упал на стул.
У отца налилось кровью лицо, и он тоже начал кричать:
— А меня ты уже совсем ни во что не ставишь? Я заботился о тебе, когда твоего сына еще не было на свете, позабочусь и тогда, когда он будет далеко от нас. Я еще, кажется, мужчина и до сих пор обеспечивал тебя всем, чем полагается!
Собака бросилась наутек, забилась в самый дальний угол, за плиту, и, преданно глядя оттуда на хозяев, дружелюбно помахивала хвостом, как бы прося их больше не пугать ее.
Мать все еще качала головой и так же горестно улыбалась, но теперь помалкивала.
Тогда Этторе встал.
— Ты куда? — спросил отец.
— К ней домой. Меня ждут к восьми.
Отец часто заморгал, испугавшись за сына, но промолчал — только поежился на стуле, отчего тот жалобно скрипнул.
Этторе взглянул на мать, она теперь стояла отвернувшись, плечи и склоненная голова были неподвижны.
Он пошел в свою комнату.
С минуту прислушивался, не говорят ли между собою отец и мать, но те молчали. Взглянув на тюфяк, под которым прятал свой пистолет, он подумал, что никогда еще с окончания войны ему так не было нужно оружие, и все же на этот раз он не мог взять его с собой.
Этторе подошел к зеркалу, причесал волосы и, посмотрев на свое лицо, подумал о том, каким оно станет через полчаса или час. «Я — мужчина!» — сказал он себе, отходя от зеркала.
Он вернулся на кухню и остановился посредине. Мать стояла все в той же позе — видимо, даже не шевельнулась. Отец поглаживал собаку, которая положила передние лапы ему на колени, но взгляд у него при этом был отсутствующий. Когда вошел Этторе, он перевел глаза на его ноги.
Этторе вздохнул, сделал шаг-другой к выходу, и тогда отец отстранил собаку, поднялся и потянулся за пиджаком, висевшим на спинке стула.
— Я тоже пойду.
— Никуда ты не пойдешь! — громко сказал Этторе.
Отец взялся за кепку.
Этторе продолжал:
— Я не хочу, чтобы ты шел. Я — мужчина, отвечать мне, и я хочу все уладить сам, как положено мужчине.
— Я пойду тоже, не хочу, чтобы они с тобой что-нибудь сделали.
— Ничего они со мной не сделают.
— У них в доме трое мужчин, и все трое здоровые как быки. Я пойду с тобой — ведь я тебе отец.
Этторе отступил от двери.
— Если ты пойдешь, я останусь дома.
Тогда мать, словно проснувшись, подняла голову.
— Пусть и отец идет, не давайте им мучить эту бедную, несчастную девочку, — напутствовала она их, в то время как отец, взяв сына за плечо, подталкивал его к двери.
Они вышли на улицу вместе, и отец все не снимал руки с его плеча. Этторе думал: «Я должен прийти туда один, от отца я сейчас избавлюсь. Хорош я буду, если приду к ним с папочкой! Никогда в жизни я не смогу больше почувствовать себя мужчиной!»
Отец шел в ногу с ним, они шагали, по-солдатски топая по камням и по льду.
Наконец, Этторе сказал:
— Смотри, какой холодище, тебе лучше вернуться домой.
Отец молчал, но ни на шаг не отставал от сына.
На углу Вандиного дома Этторе остановился. Стал перед отцом и сказал:
— Пришли. Теперь ты иди в кафе «Джорис». Возьми чего-нибудь горячего и жди меня. Я потом за тобой зайду.
— Я пойду с тобой.
— Оставь меня одного, дай мне сделать все, как положено мужчине.
— Я пойду тоже, я не хочу, чтобы они тебя искалечили, ведь их трое против тебя одного. А ты мне как-никак сын!
— Тогда я не пойду. Лучше обману Ванду. Пойми же, отец, я хочу выглядеть мужчиной. Разве ты растил меня не для того, чтобы я стал мужчиной? Они увидят, что я пришел один, увидят, что я не струсил, и поймут, что я, в общем-то, не хотел делать подлости. Понимаешь? Ты согласен со мной? Иди и жди меня в кафе «Джорис».
Отец подумал и ответил:
— Иди один. Я буду ждать тебя здесь, не двинусь с места. Но дай мне знать, если они набросятся на тебя втроем. Ну, иди и будь мужчиной!
Этторе прошел по темному коридору и потом оглянулся — посмотреть, где отец. Тот стоял в проеме двери, ведущей в коридор, и фигура его резко выделялась на фоне снега, освещенного уличным фонарем.
К двери шорника Этторе подошел — сам того не замечая — на цыпочках, бесшумно.
Дверь была закрыта неплотно, из щели проникал луч желтого света, — достаточно толкнуть ее, и она откроется. Глубоко вздохнув, Этторе переступил порог.
В кухне было тепло и светло. Около плиты, в задумчивой позе, сложив руки на животе, одиноко сидела мать Ванды. Он не сразу ее увидел, с интересом разглядывая дом, где жила Ванда. Осмотрел стены, даже потолок и только после этого заметил старуху. Она уже увидела его и, когда он на нее взглянул, слабым голосом позвала: «Эмилио!» Затем поспешно, чуть не бегом, бросилась к двери в комнату и исчезла за ней.
«Ванда сказала», — подумал он. Подошел к входной двери, запер ее на ключ и вернулся на середину кухни.
Он не знал, куда девать руки. Наверху послышался слабый шум — наверное, скрипнули половицы; он подумал, что это ходит Ванда, запертая в своей комнате, и уже был готов тихонько ее окликнуть.
Но в этот момент вошел отец девушки, за ним два ее брата, а позади всех — мать. Все трое мужчин были в длинных кожаных фартуках, как того требовало их ремесло.
Этторе пожелал доброго вечера старику и сказал: «Чао, Терезио, чао, Франческо!» — парням.
Никто ему не ответил. Парни прислонились к стене и стояли, опустив могучие руки.
Старик шел прямо на Этторе. Тот заставил себя не глядеть на его руки; смотреть ему в глаза он не мог и потому смотрел на губы, но понять ничего не сумел: они были до половины прикрыты нависшими седыми усами.
Когда старик был на расстоянии шага от него, он взглянул ему в глаза и потому увидел только взметнувшуюся слева черную тень от большой руки, ударившей его по лицу. На какую-то долю секунды раньше, чем эта рука опустилась на его щеку, он успел закрыть глаза; раздалась пощечина, и черноту в его глазах сменил желтый свет. Он покачнулся, как ванька-встанька, но на ногах удержался. И первой же его мыслью было: «Я не упал!». Щека у него пылала, но он не поднял руки.
Старик отступил на два шага и теперь смотрел на него молча, как все остальные. Было очень тихо, по крайней мере так казалось Этторе, потому что в ушах у него стоял звон.
Но вот мать Ванды прижала к груди обе руки и начала причитать на одной ноте:
— Бедная наша Ванда, бедная наша Ванда, бедная наша Ванда, бедная наша…
— Ванда, кажется, не умерла, чтобы по ней причитать! — прервал ее Этторе.
Младший из братьев, Франческо, зарычал, бросился на Этторе с кулаками. Тот не уклонился, но Франческо все равно промахнулся, и его кулак только слегка задел Этторе по скуле и скользнул по плечу. Франческо взревел еще яростней и, развернувшись, ударил Этторе в правый бок. Этторе раскрыл рот, чтобы крикнуть, но у него перехватило дыхание.
Во входную дверь кто-то постучал. Этторе услышал стук, сделал усилие и, глотнув воздуха, сказал:
— Не открывайте, это мой отец!
Никто на кухне не шевельнулся, и отец начал стучать еще сильнее.
— Все в порядке! — крикнул тогда ему Этторе. — Мы разговариваем. Иди в кафе и жди меня!
Он сказал это громко, и отец перестал стучать.
В этот момент в кухню вошла младшая сестра Ванды, Терезио крикнул, чтобы она убиралась, а мать добавила:
— Уйди, бесстыдница, вместо того чтобы быть все время с сестрой, ты оставляла их одних.
— Я не думала, что они делают что-нибудь плохое! — всхлипнула девушка.
Тут лицо Терезио покрылось красными пятнами, он решительно шагнул к Этторе, смерил его взглядом с головы до ног и изо всей силы ударил кулаком в лицо. Тот отлетел назад, ударился спиной об угол стола и упал. Поднялся на ноги, втянул в себя воздух сквозь зубы и сказал:
— Вы, конечно, в своем праве, но теперь — хватит. Давайте поговорим. Я пришел дать вам слово, что беру за себя Ванду. Вам я сообщаю это сейчас, а ей сказал еще в ноябре. Значит, дело только за вашим согласием. Потом вы дадите мне уйти.
Как бы подсказывая отцу, что делать дальше, Терезио сказал:
— Меньше всего на свете мы хотели бы принять в свою семью такого типа, как ты.
Отец подхватил:
— Мы мечтали совсем о другом муже для Ванды, считали, что она заслуживает не такого, как ты. Но все мы в ней ошиблись. И теперь нам остается только примириться с тобой, какой ты ни есть. Пусть Ванда выходит за того, кого заслужила…
Мать сказала:
— Теперь Ванда не может выйти ни за кого другого. Появись какой ни на есть хороший парень, я сама укажу ему от ворот поворот.
— Когда ты женишься? — спросил старик.
— Будущей осенью.
Мать в испуге прикрыла рот ладонью.
— Но к осени… ребеночек… Ванда уже принесет его в подоле.
— Ты женишься гораздо раньше, — заявил старик.
— Еще в этом месяце! — подтвердил Терезио.
Этторе отрицательно покачал головой. Терезио выругался и выставил вперед кулак.
— Почему? — спросил старик.
— Раньше осени я не могу жениться, нет у меня такой возможности. Но если вам зазорно держать Ванду в своем доме — только скажите! Я хоть сейчас отведу ее домой к своей матери. Будет жить у нас, но до осени не станет моей женой… Говорите теперь вы!
Франческо вдруг принялся испускать вопли и рыдать. Согнувшись вдвое и засунув пальцы в рот, он раскачивался из стороны в сторону, всхлипывал и причитал:
— Не хочу, чтобы Ванда от нас уходила, чтобы она нас оставила, плевать нам на людей!.. Мы набьем морду каждому, кто скажет о ней плохое, только не надо, чтобы моя сестренка уходила от нас!
Так же внезапно он умолк и стоял теперь с открытым ртом; пальцы у него были мокрые от слюны, волосы упали на глаза, теперь он был похож на слабоумного. Старший брат подошел и похлопал его своей ручищей по спине.
— Можно мне ее видеть? — спросил после паузы Этторе.
— Нет! — крикнул старик.
— Вы избили ее, поэтому не хотите мне ее показывать? — Этторе немного шепелявил из-за того, что один из передних зубов у него качался.
Франческо опять начал кричать и плакать.
— Не-е-т! Мы не били ее, ничего ей не сделали… Мы пальцем ее не тронули… у нас вся кровь от сердца отхлынула, когда она нам сказала…
Он снова вскрикнул, но тут мать подбежала к нему и, прижав его голову к своей груди, заставила замолчать.
Старик сказал:
— Не думай, будто теперь, когда нам пришлось принять такое решение, ты сможешь приходить к нам, когда вздумается. Ванду ты будешь видеть раз в неделю, по воскресеньям, здесь, в моем доме, в присутствии матери и не больше часа.
— Не согласен, — твердо ответил Этторе, — я так не могу, я слишком привык к Ванде.
— Ты не имеешь права так говорить! — закричал старик. — Женишься, тогда я тебе ничего не скажу. Но раз ты сам отложил свадьбу до осени, то до осени нет у тебя никаких на нее прав!
Этторе опустил голову.
Отец ждал его около дома. Он поспешил навстречу сыну, чтобы взглянуть на его лицо, прежде чем тот выйдет из круга света от уличного фонаря.
Этторе беззвучно засмеялся и, не останавливаясь, потащил за собой отца подальше от света.
— Отец!
— Ну?
— Считай, что Ванда — твоя невестка!
VIII
В воскресенье Этторе вместе с Бьянко и Пальмо пришлось ехать в Вальдивиллу, где открывали мемориальный обелиск партизанам, павшим в бою у этого селения.
Если бы он смог провести время с Вандой, он, конечно, не потратил бы так воскресный день, но Ванда была под надзором родичей, и утро в городе не сулило ему ничего интересного. Правда, светило солнце, но в горах солнце еще прекраснее, к тому же везли на автобусе бесплатно.
Однако в дороге Этторе пожалел, что поехал: он очень страдал от тряски, да к тому же ему пришлось слушать болтовню Пальмо, который громко излагал присутствующим подробности сражения у Вальдивиллы и обещал на месте повторить все снова и точно указать, где именно погиб каждый партизан.
Когда они вышли из машины, в ушах у Этторе шумело, но благодаря горному воздуху это ощущение скоро прошло, и он с удовольствием выкурил сигарету. Этторе огляделся вокруг, но возвращение на места боев не произвело на него никакого впечатления. Если бы он сделал над собой усилие, он мог бы представить себе на гребне одного из холмов человека в странной форме, с автоматом под мышкой, очень похожего на него самого, но все же это был кто-то другой, а Этторе сейчас мало интересовали другие.
Он посмотрел на Бьянко и Пальмо. Видно было, что этих двоих встреча на холмах с прошлым не оставила равнодушными, они, как дети, перебегали с места на место, показывали на что-то пальцами, глаза у них сделались узкими и блестящими, и Этторе мог прочесть в них твердую уверенность в том, что тогда были счастливые времена и что судьба будет несправедлива, если не предоставит им возможность еще раз пережить нечто подобное. Этторе поразило это различие между ним и двумя его товарищами, и он недоумевал, как это они не изменились с тех пор, тогда как сам он настолько изменился, что не мог себя узнать. Сначала он сказал себе: это, наверное, потому, что они не были настоящими партизанами, не отдавали себя борьбе беззаветно и полностью, до последней капли, но это никак не подходило к Бьянко; и тогда, передумав, он решил: причина в том, что после войны в их жизни не было такого человека, случая или события, которые поставили бы на прошлом крест. У него же была Ванда.
Между тем Пальмо восстанавливал картину боя перед Бьянко и многими другими, присоединившимися к ним.
— В тот проклятый день мы шли этой самой дорогой, — рассказывал он, усиленно помогая себе жестами, — шли, чтобы устроить засаду республиканцам[7], а на деле они устроили ее нам, да-да, первые залпы дали они, вон из-за того поворота. Я вместе с двумя партизанами шел впереди нашей колонны. Этих двоих пулеметы скосили сразу, а я каким-то чудом остался невредим, спрыгнул с дороги и спрятался здесь, рядом, под этим вот откосом, там было что-то вроде водостока. Водосток-то, наверно, остался, сейчас я вам его покажу. — И Пальмо отправился на поиски водосточной канавы, а за ним Бьянко и все остальные.
Этторе пошел по направлению к гребню холма. Там, скорее всего, и был установлен обелиск, потому что наверху собралась толпа, как бывает при больших уличных авариях. Ему интересно было посмотреть на это сооружение, он слышал разговоры о нем, но не представлял себе, как оно выглядит. Дойдя до гребня, он сразу его увидел. Это было нечто вроде огромного придорожного столба, установленного как раз на краю шоссе и испещренного черными надписями, — только обозначены там были не километры и не название ближайшего населенного пункта, а имена погибших и дата сражения. Этторе знал, что убитые похоронены в другом месте, и все же у него было такое ощущение, будто они замурованы в этом гигантском подобии придорожного столба, и потому он внимательно, не отрывая глаз, смотрел на него. Смотрел и говорил про себя: «Как же вы ошиблись, ребята. Я ненавижу себя, я готов изо всей силы трахнуть себя по башке, как только подумаю, что и я столько раз рисковал совершить ту же ошибку». Его вдруг охватила дрожь — ощущение смертельной опасности было настолько реальным, что страх как бы перевоплотился в агонию, а под ногами, казалось, вдруг разверзлась земля, чтобы поглотить его труп.
Когда он пришел в себя, он услышал голос, несшийся с вершины холма. Выступал представитель Комитета освобождения. «Я не верю ничему из того, что эти люди говорят в таких случаях, и я вовсе не хочу его слушать. Есть только один человек, которого я хочу слушать, — это я сам. И есть только один урок, которого я не должен забывать. Я презираю себя за то, что, хорошо его усвоив однажды, теперь опять о нем забыл. Не угодить на тот свет. Ни за что. Не угодить на тот свет и не попасть в тюрьму».
Он спустился с холма туда, где не слышно было голоса представителя Комитета; ему теперь больше всего хотелось поскорее вернуться в город, там он сделал бы кое-что очень важное — правда, не сейчас, не сразу, но уже одно возвращение в город успокоило бы его.
Он осуществил задуманное несколько дней спустя. На улице уже появились первые продавцы мороженого, а они, трое, все сидели, запершись в биллиардной «Коммерческого кафе».
Этторе смотрел на Бьянко и видел его глубоко запавшие блестящие глаза и подернутое желтизной лицо. Пальмо гонял по биллиардному полю шары. Держа кий одной рукой, он пытался толкнуть сразу два шара так, чтобы они, ударившись о борта, один за другим упали в лузу. Бьянко велел ему кончать эту возню и подойти к нему.
— Сначала у нас будет дельце на автостраде, а потом устроим соревнование по боксу, — сказал Бьянко.
— В устройстве соревнования, — заявил Этторе, — я готов принять участие. Могу внести пятьдесят тысяч лир.
Бьянко посмотрел ему в лицо.
— Имей в виду, кто не выйдет на автостраду, тот не допускается к соревнованию.
Тогда Этторе, внимательно рассматривая складку на брюках, сделал жест, означающий «аминь!».
Бьянко подошел к нему поближе и спросил, почему он не хочет выходить на автостраду.
— Ты боишься?
— Боишься? — повторил Пальмо.
Этторе покачал головой:
— Я получил предупреждение.
Он увидел, что Пальмо ничего не понял. Тот спросил, нахмурившись, думая, что здесь и вправду замешаны какие-то люди.
— Какое предупреждение?
— Внутри у меня прозвенел звонок, — ответил Этторе, но Пальмо по-прежнему явно не понимал, в чем дело.
Тогда Этторе, повернувшись к нему всем корпусом, спросил:
— Когда ты держишь пари на спортплощадке и выигрываешь, с тобой не бывает, что какой-то внутренний голос вдруг советует тебе прекратить игру?
Пальмо ответил, что с ним такого не бывает.
— Потому ты всегда и проигрываешь.
— Послушай, — сказал Бьянко, и Этторе повернулся к нему. — Итак, ты отказываешься?
— Да. Я не могу иначе, понимаешь?
— Отказываешься от работы на автостраде или вообще?
— От всего, что в этом роде.
— Значит, вообще от всего.
— Тебе лучше знать, Бьянко.
— Я почти точно знаю, сколько ты сумел отложить. И скажу, что тебе мало нужно.
Этторе открыл было рот, чтобы ответить, но Бьянко отошел от него со словами:
— Хватит, не будем тратить слов, ты со мной не венчан и, если хочешь уйти, — уходи. — Он принялся расхаживать между двумя биллиардными столами. — Такого, как ты, я всегда найду.
Этторе улыбнулся.
— Конечно, ты найдешь такого, как я, и очень скоро, так что тебе даже не придется откладывать дело на автостраде.
Он смотрел на Бьянко, который расхаживал перед ним взад и вперед, и видел, что лицо его с каждым разом становится все мрачнее, и Этторе подумал: «Он не знает, куда сунуться, чтобы найти такого, как я». Теперь он нисколько не удивился бы, если бы Бьянко перестал быть Бьянко, изменил бы своей обычной непреклонности и начал уговаривать его, как будто он, Этторе, был капризной девицей, а Бьянко— терпеливым влюбленным. Но и в этом случае Бьянко ничего бы не добился. Этторе был спокоен: он сам никогда не думал, что в подобный момент сможет вести себя так уверенно, он чувствовал себя вдвое сильнее Бьянко: ему, например, — было- просто смешно видеть, как тот ломает себе голову, стараясь разгадать причину выхода Этторе из игры. Бьянко никак не мог бы догадаться, что всё дело в Ванде, в ней самой и в ребенке, которого она ждет, и когда Этторе думал об этом, ему уже хотелось не смеяться, а наоборот, стиснуть зубы от сладостной боли, от того, что он чувствовал, как сердце его сжимает, словно мячик, крохотная детская ручонка.
Пальмо, выпятив нижнюю губу, бросал на Этторе косые взгляды и явно злился на него за то, что тот ставит Бьянко в затруднительное положение.
Бьянко уселся на борт биллиарда и спросил:
— А что ты станешь делать после того, как уйдешь от меня?
— Сейчас я ищу, — ответил Этторе, — ищу, что мне подойдет или хотя бы не будет претить, но что-то такое, чем я смогу заниматься постоянно.
— Так ты еще ничего не нашел?
— Нет.
— Тогда почему бы тебе не остаться у меня, пока ты будешь подбирать работу?
Этторе сделал отрицательный жест.
— А чем ты будешь заниматься, пока ищешь? Ничем? И вместо того чтобы ничего не делать, не можешь еще немного поработать со мной?
— Я буду водить грузовики, — отвечал Этторе, — железные дороги до сих пор разбиты, и быть шофером — все еще хорошая профессия. У тебя, Бьянко, есть грузовики на приколе, из трофейных. Прошу тебя, дай мне один напрокат.
Бьянко подумал, потом сказал:
— Ну что ж, ты человек, которому можно доверить грузовик.
— Значит, дашь?
— Будешь платить сто тысяч лир в месяц.
— Это не по-дружески.
— А ты, Этторе, все еще мне друг?
— Конечно, я тебе друг, и ты по-дружески будешь брать с меня шестьдесят тысяч лир в месяц.
Бьянко опять немного подумал; и Этторе понимал, что он думает не о цене, а о чем-то другом. Потом Бьянко сказал:
— Ну ладно, забирай «СПА», который стоит в гараже около казармы. Он, правда, без резины, но большего я для тебя сделать не могу.
Покончив с делом, Этторе хлопнул себя по бедру и хотел подняться, но Бьянко остановил его:
— Один станешь работать?
Этторе ответил, что рассчитывает договориться с братом Костантино. Бьянко явно хотел еще что-то добавить и немного погодя действительно сказал:
— И ты думаешь, что среди наших торговцев и промышленников найдется много людей, которые доверят груз такому человеку, как ты? Они, знаешь ли, обращаются со своим добром не так, как я с грузовиком.
Бьянко еще не кончил говорить, а Этторе уже набрал в грудь воздуха для ответа. Он понял его с полуслова и с трудом дождался, пока тот кончит, так ему не терпелось ответить.
— Это интересная мысль, — сказал он, — а теперь послушай, что думаю об этом я. Важно, чтобы мне в первый раз доверили груз, и я добьюсь, чтобы мне его дали, я даже готов поговорить с тем, кто мне его должен дать, так, как мы говорили с тем стариком на его вилле, помнишь? Мне дадут груз, я уеду, они, возможно, поставят на своем добре крест, а я вопреки всему вернусь как ни в чем не бывало, в полном порядке; я в лепешку расшибусь, но сделаю все, как полагается. И тогда мне доверят вторую партию, и все опять будет, как надо, и они мне станут доверять, как другим шоферам. — Он встал и добавил — Будь добр, Бьянко, предупреди в гараже людей, чтобы я не свалился им как снег на голову. А теперь пошли в бар, я угощаю вас вермутом.
Они подошли к стойке, но Пальмо, шедший позади, сказал:
— Я не буду пить вермут.
— А что ты будешь пить?
— Ничего.
Но Бьянко подождал, пока Пальмо подойдет ближе, и сказал ему:
— Будешь пить, так же как мы.
Пальмо отодвинулся, словно опасаясь, что Бьянко схватит его за руку, но потом сам подошел к нему и сказал:
— Раз это говоришь ты, я выпью, но хочу добавить в него капельку горького. Иначе я не могу принять вермут от человека, который так. обошелся с нами.
Этторе ничего ему не ответил и обратился к бармену:
— Три. вермута. Все три — чистых.
И подождал, что скажет Пальмо.
— В один добавь каплю горького, — сказал бармену Пальмо.
Этторе скрипнул зубами и схватил Пальмо за рубаху у пояса, ниже прилавка, чтобы не видел бармен.
— Чистых — все три, — повторил он.
Чтобы не смотреть друг другу в глаза, они стали разглядывать вермут на свет. Потом молча выпили.
На улице Этторе успокоился. Правда, после разговора с Бьянко у него осталось ощущение какой-то неопределенности, он чувствовал, что не сказал всего, что собирался, или сказал не так, как нужно, но он сделает все, чтобы доказать Бьянко, насколько это серьезно. Беспокоило его и то, что Бьянко, как он ни был зол, не отказал ему в прокате грузовика. Он понимал, что Бьянко сделал это для того, чтобы не выпустить окончательно Этторе из своих сетей: в один прекрасный день Бьянко для его дел понадобится этот грузовик и, понятно, вместе с шофером. «В тот день я скажу ему „нет“, скажу, пусть забирает свой грузовик. И потом, надеюсь, к тому дню я найду для себя что-нибудь подходящее». И он пошел в гараж, находившийся около казармы.
Два дня он проверял и ремонтировал грузовик, потом испытывал его, гоняя вокруг города. Был он в хорошем настроении и, если думал о своей недавней жизни, то лишь с большим отвращением, оно рождалось у него не в мозгу, не в душе, а где-то в глубине тела — в желудке и во рту — и было похоже на тошноту. Подобное же ощущение вызывал в нем пучок дневного света, просачивавшийся сквозь шторы в затененном номере «Коммерческого кафе», где он отдыхал. Пучок света — и только. Но тошнота была очень сильной.
Брат Костантино ездить с ним не согласился — он уже работал вторым шофером на одном из больших автопоездов шоколадной фабрики. Этторе пошел для переговоров к нему домой, и тот отвечал, стоя на пороге и ни разу не взглянув ему в глаза. Этторе вспомнил о поездке на виллу старого фашиста. Тогда парень, видимо, кое-что понял, и его, наверное, тоже частенько мучила тошнота, поднимавшаяся откуда-то изнутри.
Выяснив, что брат Костантино уже занят, Этторе никак не мог решить, к кому ему теперь обратиться. У него было много приятелей, научившихся водить машину так же, как и он, на войне, но среди них не было ни одного, на которого он мог бы положиться, все они с удовольствием предложили бы свои услуги Бьянко, если бы узнали, что Этторе порвал с ним.
Однажды он осматривал в гараже свой грузовик и, как обычно, размышлял о своих делах, потом забрался в кабину, захлопнул дверцу и задумался, положив руки на руль, держа потухшую сигарету во рту. Он заметил Пальмо, только когда тот оказался возле кабины. Вынув изо рта сигарету, Этторе молча смотрел на него сверху. Пальмо обернулся, поднял глаза на окно кабины и увидел Этторе.
— А, ты здесь! — он открыл дверцу и уселся рядом.
— В чем дело? — спросил Этторе.
Пальмо не ответил, он казался подавленным.
— Что с тобой?
Тогда он попросил:
— Этторе, возьми меня на грузовик в напарники.
— Это Бьянко распорядился? Или он дал тебе отставку?
— Ему самому дали отставку. Врачи, — ответил Пальмо. — Отправили его в горы. — И он ткнул себя пальцем в грудь.
Этторе открыл рот: у него перехватило дыхание, как от резкой боли.
— Сегодня утром он уехал, и я остался один, — добавил Пальмо.
Этторе лишь сокрушенно качал головой и не произносил ни слова.
— Ну, чего ты? Он же не умер… — заметил Пальмо.
— Не в этом дело, — ответил Этторе, — я просто не могу себе представить, чтобы такой человек, как Бьянко, заболел туберкулезом.
— Этим его наградила война. А что ты думаешь, может, и мы с тобой чахоточные!
Они немного помолчали. Потом Пальмо сказал:
— Так берешь меня?
Этторе следовало отказать ему, он знал, что так и сделает, но у него не выходил из головы Бьянко с этой проклятой чахоткой, и поэтому он не ответил Пальмо сразу «нет», а только спросил:
— С чего это ты захотел со мной работать? Ты же всегда меня терпеть не мог.
— Неправда.
— Брехло, — тихо промолвил Этторе.
Пальмо промолчал. Этторе добавил:
— Никуда ты не годишься, Пальмо.
— Зато ты хорош, Этторе. Только, чтобы понять это, тебя сначала нужно вымочить в оливковом масле, а потом попробовать.
Они говорили спокойно, не повышая голоса, не глядя друг на друга, уставившись сквозь ветровое стекло на серую стену гаража.
Потом Пальмо сказал:
— Возьми меня, Этторе, я остался один.
— Не подходишь ты мне, Пальмо, и грузовик ты водить не умеешь. А мне нужен человек, которому я мог бы доверить баранку, когда у меня слипаются глаза.
— Я у тебя научусь, вот увидишь, быстро научусь. Возьми меня, Этторе, ведь ты умнее меня и хотя бы поэтому должен мне помочь.
Этторе резким движением взялся за рычаг.
— Держись, даю задний ход.
— Куда мы поедем?
— Обкатывать машину.
Этторе выехал из гаража и вывел машину на окружную дорогу. Они мчались на полной скорости. Этторе спросил:
— Понравится тебе, если тебя вышвырнут из машины на таком ходу?
Пальмо посмотрел в окошко, потом на Этторе и сказал:
— Если ты меня не берешь, притормози и я сойду сам.
— Я выкину тебя из грузовика в тот самый момент, когда ты вздумаешь заговорить со мной не о работе.
— Как это понять?
— Если тебе придет в голову вспоминать дела, которыми мы занимались у Бьянко…
— А!
— Ну?
— Если ты не хочешь, я не стану говорить об этом.
— Не хочу! — крикнул Этторе.
— Ладно. Хозяин теперь ты, а я — твой работник.
Немного погодя Пальмо опять заговорил:
— Забыл тебе сказать. Бьянко велел, чтобы деньги за грузовик ты послал ему в санаторий.
— В каком он санатории?
— Не знаю, он тебе оттуда напишет.
Деньги за прокат машины Этторе надо было взять у Дзеку. В один из последующих дней он отправился за ними, но так и не дошел до старика: ему казалось, что он сам себя обкрадывает. На обратном пути, проходя мимо «Коммерческого кафе», он увидел в окно, что там играют на биллиарде те двое крестьян, для которых он вел запись очков в тот день, когда удрал от ворот шоколадной фабрики. Он зашел в биллиардную и заказал у бармена первый попавшийся напиток, потом стал потягивать его понемногу, чтобы не выпить раньше, чем те двое кончат партию и проигравший не вытащит бумажник и не начнет расплачиваться. Он глядел на них поверх бокала, время от времени бросая взгляд на дверь в биллиардную.
Он поставил пустой бокал на прилавок, лишь когда партия была сыграна и на свет божий появился бумажник. Этторе увидел, что он туго набит тысячными бумажками: проигравший, чтобы не показать его партнеру, отвернулся как раз в сторону Этторе.
Тогда Этторе пошел прямо в гараж и торопливо сказал Мывшему грузовик Пальмо:
— Иди домой, возьми пистолет и платок — прикрыть лицо. Через час встречаемся здесь.
У Пальмо сверкнули глаза — Этторе вспылил было, но сдержался: он еще успеет развеять его надежды. Зайдя домой, он сказал матери, что у него очень разболелся живот, поэтому он вернулся, и та обещала напоить его на ночь лауданиумом. Он пробормотал Что-то в ответ, пошел в свою комнату и вернулся с шарфом на шее и пистолетом в кармане.
Вместе с Пальмо они вышли за городскую черту; Этторе было страшно, и он молчал, чтобы Пальмо по голосу не догадался о его состоянии. Пальмо хотел остановиться сразу же за мостом через дорогу, но Этторе побоялся и, разозлившись, протащил его еще добрый километр.
Темнело, в городе зажглись огни. Они остановились у обочины и закурили.
— Ты уверен, что они пойдут именно этой дорогой?
— Не задавай мне вопросов.
— Господи помилуй, Бьянко ведь разрешал спрашивать.
— Я слышал, как они болтали, ясно? Они говорили на диалекте этих мест.
Вскоре появились и те двое: они шагали в ногу и о чем-то дружески беседовали, сильно жестикулируя. Этторе внимательно, огляделся, поднял шарф до самых глаз и выскочил на середину шоссе с пистолетом в руках. Крестьянам не оставалось ничего другого, как. достать бумажники.
— Бросайте их на землю.
Пальмо подобрал бумажники, вернулся к обочине, сунул пистолет под мышку и, выпотрошив бумажники, бросил их на кучу гравия.
— А теперь начинайте драку, — приказал Этторе. — Ну! Действуйте кулаками!
Те переглянулись, но не пошевелились, и тогда, направив на них пистолет, Этторе повторил:
— Деритесь!
Они сделали вид, что дерутся.
— Деритесь по-настоящему! — прикрикнул на них Этторе.
Крестьяне всерьез принялись за дело, один из них споткнулся и упал. Тогда Этторе и Пальмо спрыгнули с обочины на поле и кинулись в темноту. Двое на дороге принялись истошно вопить, Этторе бежал, ему было страшно, и на каждом шагу сердце подступало к горлу. Они остановились за заброшенной шелкопрядильней. Глаза Пальмо блестели в темноте, и Этторе хотелось ударить по ним кулаком. Язык с трудом повиновался ему, но он постарался сказать как можно тверже:
— Давай сюда деньги! Я заплачу за грузовик. Если хочешь оставаться со мной, брось свой пистолет сюда, в траву, это было в первый и последний раз, только чтобы заплатить за машину. Не вздумай когда-нибудь напомнить мне, об этом.
* * *
(Вспоминает Пальмо)
Этторе вел машину и посматривал то на дорогу, то на море. Я повернул голову поглядеть на корабль в море и услышал, как Этторе что-то напевает про себя.
— Что ты поешь? — спросил я: надоело мне ехать молча.
Но он только пожал плечами. Песня была печальная, а ему было весело, это видно было по глазам.
— Тебе весело?
Он кивнул.
— Знаешь, почему я веселый? Потому, что я конченый человек. Я как шар, попавший в лузу.
— По-моему, это плохо, — сказал я.
Но он покачал головой.
Мы ехали порожняком из Тосканы, после того как доставили в Л. С. груз шампанского. Хороший груз. И на этот раз, как обычно, когда нам выпадал ценный груз, я ему говорил, что хорошо бы остановиться в Генуе и продать товар одному из тех типов, которые вечно толкутся на площади Карикаменто, да положить вырученные денежки себе в карман. А о хозяине этого товара я бы уж позаботился, этому заводчику не трудно было бы заткнуть рот — ведь во время войны он продавал шампанское немцам.
На этот раз я ему все это сказал, когда мы поднялись на гребень горы и оттуда стало видно море. Но он рассмеялся мне прямо в лицо. Сначала, когда я затевал такие разговоры, он, бывало, оборачивался и глядел на меня испуганно и зло, будто я подталкиваю его к краю глубокой пропасти, а он лишь чудом удерживается. Я в таких случаях внимательно следил за его руками, лежавшими на баранке, опасался, как бы он не съездил меня по морде.
Но теперь он только смеялся мне в лицо, и я поэтому больше не боялся вести такие разговоры, но надежды на успех у меня становилось все меньше и меньше. Я делал это не только из-за денег: мне хотелось жить по-старому, чтобы Этторе стад главарем вместо Бьянко, хотя я не дал бы и одного мизинца Бьянко за всего Этторе как главаря.
Мы проезжали мимо дансинга на террасе над морем, и я говорю:
— Давай остановимся здесь ненадолго, не будем выходить из машины, только послушаем музыку и посмотрим, как танцуют женщины.
Но он не остановился. Он всегда торопился вернуться, поставить машину в гараж и бежать в тот переулок, где в окне ждала его девушка. Он думал, что я ничего не знаю о нем и об этой его Ванде.
Зато он остановился около бензоколонки — там, где дорога расширяется, а прибрежные скалы отступают, и я удивился, потому что мы заправились в Л. С. А он снял руку с баранки, облокотился на окошечко и стал внимательно разглядывать эту бензоколонку.
Немного погодя спрашивает:
— Нравится?
— Что? — говорю.
— Бензоколонка.
Я присмотрелся: она и вправду была красивая, похожая на небольшую современную виллу, я так ему и сказал.
Он все смотрел на нее, тогда я и говорю:
— Да ведь ты видел их тысячи, этих бензоколонок.
— Но ни разу такую, как эта.
Он открыл дверцу, спрыгнул, пересек дорогу и направился к колонке. Навстречу ему вышел человек в голубом комбинезоне со множеством «молний»; Этторе завел с ним разговор, а я видел, что чем больше он говорил, тем чаще этот человек оглядывался на свою колонку и смотрел так, будто видел ее в первый раз.
Я тоже вылез из кабины и подошел к ним. Человек в комбинезоне говорил Этторе:
— Посмотрели бы вы на нее вечером, когда горят все неоновые надписи.
Этторе кивал головой, будто сам все больше в чем-то убеждался, потом вытянул шею, точно хотел заглянуть за угол колонки.
— Сзади мойка для машин, — сказал человек в комбинезоне, и они отправились вокруг колонки, а я ждал, когда они вернутся.
Этторе громко вздохнул и спросил:
— Сколько же может стоить такая колонка со всем оборудованием и с неоном?
Человек поднял большой и указательный пальцы, а остальные сжал в кулак. Больше Этторе ничего не спрашивал, мы вернулись в машину, но с места не тронулись. Вместо этого Этторе достал из кармашка на дверце машины карандаш, бумагу и принялся что-то чертить. Я старался заглянуть ему через плечо, а он все время отталкивал меня. Но я все равно рассмотрел, что он рисует бензоколонку, потом насосы, а над ними пишет крупными буквами: «ГАЗОЛИН. БЕНЗИН. МАСЛО».
Наконец мы тронулись, он вел машину, как всегда, молча, а я ощущал какое-то беспокойство, сам не знаю отчего.
Я спросил:
— Собираешься поставить бензоколонку?
— Да, — отвечает он сухо.
— У тебя есть два миллиона?
— Я никогда не сорил тысячными билетами на спортплощадке.
— А где ты ее поставишь?
— Там, у нас. Сначала изучу как следует новую дорогу, по которой ходят грузовики, и тогда сразу куплю участок. Предупреждаю тебя, Пальмо: как только у меня будет бензоколонка, я брошу этот грузовик и ты ищи себе другую работу.
— А к себе ты меня не возьмешь?
Он отрицательно покачал головой.
— Нет. Я возьму отца. Заставлю его продать мастерскую — пусть моет машины.
Я провел рукой по лицу и стал думать. Наконец, как будто придумал:
— Этторе, а если устроить при бензоколонке кафе или бар, как делают американцы, видел в кино?
Он тут же отказался:
— Нет, мне никогда не нравилось кормить и поить людей. Особенно кормить.
— Так этим бы занялся я.
— Не хочу я кухонного чада на своей бензоколонке, — ответил он решительно.
И в третий раз я почувствовал себя, как тогда, когда кончилась война, и потом, когда Бьянко пришлось ехать в санаторий.
IX
Отношения Этторе с семьей Ванды с каждым воскресеньем улучшались, так что однажды, еще до наступления осени, его даже пригласили к обеду. Пока женщины накрывали на стол, Этторе вел разговор с мужчинами, и воспоминание об их кулаках не вызывало в нем прежнего негодования — ему даже казалось, что его отношения с Вандой не представлялись им больше непотребными.
Когда мужчин пригласили к столу, Ванда уже сидела за ним. Мать и сестра заранее привели и усадили ее, словно какого-нибудь инвалида, которому в присутствии нормальных людей лучше прятать нижнюю часть туловища под столом. Она похорошела, лицо у нее стало очень нежным, хотя немного припухло.
Еда была хорошая, но тяжелая, зимняя, а не летняя. Этторе прожевывал каждый кусок в три раза медленнее, чем обычно, все время пил газированную воду и вскоре почувствовал, как холодный пот выступил у него на висках. Правда, ему то и дело задавали вопросы, и это в какой-то мере служило объяснением того, что все блюда он заканчивал последним.
— Вчера я был у Порта П., — сказал Терезио, — и видел твою бензоколонку. Ты здорово гонишь, стены поднялись уже на добрый метр. Вчера там за каменщиками присматривал твой отец.
— Да, потому что я ездил с грузом в С.
— Сколько ты берешь отсюда до С.? — с живым интересом осведомился Франческо.
— Триста лир за центнер груза.
Наконец заговорила Ванда, и только тогда он обратил на нее внимание, — до этого казалось, будто ее и не было. Теперь, когда они впервые взглянули друг на друга и стали разговаривать, родные внимательно наблюдали за ними, словно надеясь понять, как случилось, что их Ванда полюбила Этторе, а он ее.
— Ты все еще работаешь на грузовике? — спросила она очень строго, будто стараясь показать своим, что она ровня ему и он ей не господин.
Ее тон задел его. Он опустил глаза, чтобы скрыть злой огонек, появившийся в них, и ответил:
— Заканчиваю.
Тогда она сказала:
— У меня всегда темнеет в глазах, как подумаю, что ты где-то мчишься по дороге на грузовике. — Но это она сказала уже другим, своим обычным тоном.
— Я бросаю эту работу. Завтра везу груз в последний раз и — конец! — И он потянулся за бутылкой с газировкой.
— Куда ты в этот раз едешь? — спросил Франческо.
— Везу бочки со спиртом на фабрику вермута в Ч.
Отец Ванды ел и пил очень шумно, особенно вино, которое он смаковал, долго причмокивая. Этторе к этому не привык, как остальные, на него это производило неприятное впечатление. А старик к тому же поперхнулся куском и сплюнул на пол, чуть отвернувшись от стола, а потом растер плевок ногой. Этторе невольно поморщился и взглянул на Ванду. Она как будто ждала этого взгляда и, не мигая, смотрела на него, и Этторе показалось, что глаза ее, ставшие меньше от слегка пополневших щек, похожи на глаза отцовской собаки, когда та однажды, испуганная резким движением отца, забилась в угол и подняла вверх лапы, обнажив брюхо.
Этторе опустил глаза, ему неожиданно пришла в голову новая мысль: он спрашивал себя, много ли отцовской крови течет в жилах Ванды, что скрыто в ней самой и что стоит за ней, за женщиной, которая должна стать его женой и которая родит ему детей, одарив их таинственной, отвратительной ему кровью чужих людей. Его сын, сейчас спрятанный под столом, был вторым звеном цепи, первым звеном которой был не только Этторе… «Хочу, чтобы сын все унаследовал от меня, иначе я не признаю его, возненавижу. Он все должен унаследовать от меня». А вслух он сказал Вандиной сестре:
— Будь добра, Маргерита, налей мне еще немного воды.
Отец Ванды шумно отхлебнул вина из стакана и обратился к Этторе:
— Бензоколонка встанет тебе наверняка в кругленькую сумму…
Этторе не дал ему закончить и, перехватив инициативу, обратился как бы ко всей Вандиной семье:
— Знаю, но этот расход должен обернуться доходом. Правда, как подумаю, сколько денег мне пришлось взять в долг — страх берет, но в итоге я на этом выиграю. Если дело у меня пойдет как следует, фирма, у которой я беру бензин, перекупит у меня колонку за хорошую цену, а меня оставит при ней.
Довольный тем, как у него складываются дела, и уверенный в успехе, он открыто посмотрел в лицо старику. Тот сказал:
— Да, конечно, если все пойдет так, как ты говоришь, — ты обеспечен на всю жизнь.
Он и все остальные были тоже очень довольны тем, что за Ванду можно не беспокоиться. И все же он спросил:
— А этот парень, который сейчас работает с тобой, которого вы зовете Пальмо?
— После завтрашней поездки он больше не будет со мной работать. Я его уже предупредил.
Казалось, и этим все остались довольны, Этторе же неожиданно для себя почувствовал прилив симпатии к Пальмо.
Подали следующее блюдо, и он опять не мог угнаться за всеми, хотя жевал изо всех сил: у него будто стоял ком в горле, мешавший ему глотать. В это время за спиной у него оказалась мать Ванды, намеревавшаяся положить ему на тарелку еще кусок мяса.
— Не надо! — чуть не закричал он.
— Тебе не нравится это мясо? Если нравится, возьми еще. Теперь, когда ты уже стал для нас своим, нечего стесняться. — И она подцепила вилкой большой кусок.
Он почувствовал, как его бросило в жар, а на висках выступил холодный пот. Если бы она все-таки положила ему еще мяса, он выругался бы вслух и оттолкнул старуху вместе с ее жарким.
Но тут вмешался Терезио:
— Мама, не заставляйте людей есть насильно! Ведь он не ребенок и, если говорит, что не хочет, значит, сыт. Я знаю, каково оно бывает, когда заставляют есть через силу.
С огорченным видом мать отошла, унося с собой злополучное блюдо, а Этторе посмотрел на Терезио помутившимся взглядом, с трудом удерживая тошноту. От злости, от страстного желания оказаться дома с отцом и, матерью, сидеть за одним столом с ними слезы подступили к его глазам. Подумать только, что через месяц-другой ему придется покинуть своих родителей и жить с Вандой. Теперь эта мысль приводила его в бешенство; его охватило почти такое же отчаяние, какое он испытал на войне, когда ему показалось, что он попал в окружение. Как же случилось, что теперь он должен жениться на Ванде? Когда и как это началось, каким образом очутился он в этом доме, среди чужих ему людей? «Жить двадцать, тридцать, сорок лет с женщиной, которая сидит передо мной! Можно сдохнуть при одной мысли об этом, это же просто тюрьма, по сравнению с которой возможность вечером поиграть в биллиард или перекинуться двумя словами с кем-нибудь, хотя бы с Пальмо, — уже настоящая свобода, и если бы мне сказали сейчас, что я лишусь ее, я пошел бы и утопился».
И физически и морально он чувствовал себя отвратительно, ему хотелось пить, хотелось уйти отсюда. Наконец, все встали из-за стола, и Ванда тоже, и он увидел ее живот — огромный, просто невероятный, в прошлое воскресенье он почему-то не казался ему таким большим.
— Этторе! — позвала Ванда низким протяжным голосом.
В это время он вдруг почувствовал, что у него ослаб шнурок на ботинке, приподнял штанину и очень обрадовался, обнаружив распустившийся узел, потому что мог нагнуться и не смотреть на Ванду. Она же, наоборот, внимательно разглядывала полоску его тела между поднятой штаниной и носком, пальцы, завязывавшие шнурок, и потом снова позвала.
Этторе распрямился и ничего ей не ответил; он боялся, что она сейчас закинет ему руки на плечи, он не мог сказать ей этого вслух и потому сказал взглядом. Она поняла, отстранилась от него, дала ему пройти.
Он уходил в полном смятении, но ничего с собой не мог поделать: не было у него ни желания, ни возможности ее утешить; ей предстояло вынести эту боль да еще в таком положении, но с нее довольно и того, что он вернется, вернется, к сожалению, ей надо только подождать, а сколько — этого он и сам пока не знает.
На улице стояла жара, но он почему-то ощущал приятную прохладу, и ему хотелось бежать, как мальчишке, однако в желудке была тяжесть, а ноги ослабели. Он шел, сам не зная куда, счастливый уже тем, что он один, и может идти куда хочет, и никто не попадается ему навстречу — наверное, все отправились на реку, он бы тоже пошел купаться, но было уже поздно, а ему еще нужно бежать домой за плавками, да и опасно купаться, когда ты гак наелся и напился, — может и удар хватить.
И он решил пойти на открытую танцевальную площадку, которую держали все те же братья Норсе: у этих братьев была здесь монополия на танцы. Народу пока было очень мало, большинство танцоров еще на реке, они придут, когда солнце начнет садиться, но оркестр играл уже в полном составе, хотя танцевала всего одна пара. На минуту он остановился у входа, в нем было — он это знал — что-то от немецкой овчарки, он принадлежал именно к такому типу мужчин, и, может быть, на площадке сейчас находилась женщина, понимающая в этом толк, достаточно было одной женщины, которая сказала бы себе: «Это то, что надо. Наконец-то появился настоящий мужчина». Ему просто необходима была новая женщина.
«Хочу танцевать, хочу танцевать допоздна, сколько времени я уже не танцевал? Жизнь проходит, черт возьми, а я не танцую. Не пропущу ни одного танца».
Но оркестр начал новый ритм, который показался Этторе слишком быстрым. Он пошел в бар выпить прохладительного и подождать медленной мелодии.
Из бара он увидел девушку, про которую все мужчины и многие женщины знали, что она ведет в Турине легкую жизнь. Это была красивая девушка, и говорили, что она загребает немалые деньги, но только в Турине, здесь же, в родных местах, она не работала и держалась недотрогой. Она была неизмеримо лучше одета и причесана, чем все местные женщины, присутствующие и отсутствующие, танцевала несравненно лучше их и при этом прижималась к партнеру так, как ни- ® кто из них не умел и не осмеливался.
При первых же звуках медленного фокстрота он подошел к ней. Она волновала его, у него тряслись колени, он не помнил, чтобы так было когда-нибудь даже с Вандой, даже в самом начале; ритм передавался ему через ее тело еще прежде, чем доходил до его ушей; за весь танец он не сумел сказать ей ни одного слова, весь уйдя в это занятие, потому что танцевать с ней ему казалось труднее, чем все, что он до сих пор делал в жизни. Он пригласил ее и на следующий танец, но это был проклятый быстрый фокстрот, который только увеличил его волнение; трудно было начать разговор под такую сумасшедшую музыку, а он должен был поговорить, должен был добиться победы над этой девушкой, чтобы доказать самому себе, что он еще не конченый человек, каким почувствовал себя в доме Ванды. Он танцевал и думал: ко всем ли она прижимается так, как сейчас к нему, ему было очень важно это знать: от жары и от волнения он вспотел и поэтому чувствовал себя очень неловко, его немного утешало то, что у девушки на лице тоже выступили капли пота.
Наконец он сказал ей на ухо:
— Сколько стоит такая женщина, как ты?
Она отняла свою щеку от его щеки и очень холодно посмотрела ему в глаза.
— Сколько ты стоишь?
Холодный взгляд и молчание; девушка продолжала танцевать все так же безупречно, в то время как Этторе сбился с такта.
— Скажи, не стесняйся, я все равно не стану тебе платить. Считаю, что такого мужчину, как я, ты должна хотеть бесплатно.
Как раз в этот момент музыка смолкла, и она бросила его посреди танцевальной площадки.
Он не обратил на это внимания: следующий танец он все равно будет танцевать с ней. Этторе не глядел больше на девушку, он стоял к ней спиной и дышал редко, и глубоко. С первым же тактом нового танца он резко повернулся, как боксер в своем углу при звуке гонга, но когда подошел к девушке, она ему отказала. Этторе был вне себя от злости, он готов был вытащить ее за волосы на середину площадки и обозвать при всех шлюхой, но вместо этого вдруг весь обмяк, и плечи у него опустились, как будто под бременем старческого бессилия или сознания собственного уродства. Сделав неопределенный жест рукой — какой именно, он потом никак не мог припомнить, — Этторе отошел от нее настолько ошеломленный случившимся, что налетел на группу любителей танцев, возвращавшихся с купанья. Один из них подошел к той девушке, и она стала с ним танцевать. Тогда Этторе тоже подхватил какую-то девицу, но, танцуя, все время следил за тем, не рассказывает ли та девушка своему партнеру про него, чтобы посмеяться и унизить. Он это сразу бы заметил, потому что парень стал бы искать его глазами; Этторе ничего бы ему не сделал, не стал бы с ним связываться, хотя наверняка справился бы с ним, — он просто ушел бы с танцев. Но ничего этого не случилось, и он танцевал допоздна с кем придется.
Потом он отправился домой, хотя ему не хотелось идти туда. Он шел ссутулившись, будто совершил подлость, которая всем уже известна, из-за которой он уже никогда не сможет чувствовать себя самим собой; луна была пугающе близкой, огромной и желтой, и медные дверные ручки зловеще поблескивали в ее лучах.
Дома мать спросила его, будет ли он ужинать. Сделав отрицательный жест, он торопливо прошел мимо, не глядя на нее, чтобы не поддаться искушению и не сказать спокойным, ласковым голосом: «Ты могла бы и не торопиться производить меня на свет».
Она сказала ему вслед:
— Видно, в доме Ванды с тобой обошлись неплохо. Чем тебя там кормили?
Он ничего не ответил, прошел в свою комнату, бросился на кровать и, лежа, стал раздеваться — раздевался он медленно и с трудом, но был не в силах подняться.
К счастью, он почти тут же заснул. Однако скоро проснулся. До рассвета было еще далеко, но полночь уже прошла, значит, это проклятое воскресенье кануло в вечность; было очень тихо, лунный свет заливал почти полкомнаты. Этторе подвинул голову на подушке, чтобы спрятаться от луны, и закурил. Перед глазами у него маячило лицо Ванды, но какое-то зыбкое и расплывчатое, как будто отраженное в воде, по которой идут круги, может, потому, что, желая прогнать мысли о Ванде, он все время ворочался с боку на бок.
Утром он пошел на товарную станцию грузить бочки со спиртом, которые надо было везти в Ч. на фабрику вермута; грузовик должен был пригнать Пальмо. По дороге ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не свернуть в переулок, где жила Ванда, и не пройти мимо ее дома, — не для того, чтобы зайти к ней (все равно он не мог бы там задержаться сколько ему хотелось), а только чтобы взглянуть на стены дома и подумать, что она за этими стенами и будет там сегодня вечером. Он, конечно, мог просто представить себе дом Ванды и саму Ванду, но ему этого было мало. «Хорошо бы, сейчас уже наступил вечер», — подумал он и чиркнул спичкой о стену: у него не хватало терпения дойти до табачного киоска, и по утрам он брал с собой кухонные спички.
Этторе шел на станцию, а перед его глазами была дорога в Ч. со всеми ее поворотами и перегонами, и он мысленно видел лица фабричных рабочих, которые разгружали его машину прошлый раз, видел, как возвращается домой.
«Сегодня вечером я все улажу, я постараюсь уладить это как можно скорее, — ведь она такая добрая, моя Ванда, и она не станет делать из мухи слона, как я. Я быстро все улажу и пробуду с ней весь вечер, пока меня не выгонят ее родители».
Проснувшись сегодня, он сразу вспомнил все, что было в воскресенье, будто между вечером и утром пролетело всего одно мгновенье; он стал думать о том, сколько Ванда перенесла, и сколько раз плакала из-за него, и сколько ей еще предстоит страдать и плакать, прежде чем он умрет, а он умрет раньше нее, и не потому, что он старше, а потому, что это будет справедливо. И он надеялся, что Ванда не винила себя за вчерашнее, а винила только его, одного его, что она облегчила сердце, ненавидя и ругая его. Сегодня вечером, когда он придет к ней, ему бы хотелось, чтоб она сказала: «Если бы ты знал, как я вчера тебя ненавидела и проклинала…» Для него это было бы признанием в вечной любви и даже больше. Сегодня вечером они просто посмеются над всей этой историей, ему уже и сейчас смешно.
Когда он пришел на товарный двор, Пальмо с грузовиком еще не было, Этторе подошел к вагону с бочками и стал осматривать пломбы.
Проходивший мимо молодой железнодорожник остановился и стал наблюдать за тем, что делает Этторе.
— Можно снять пломбы? — спросил его Этторе.
— Снимай, если оформил накладные. А что там?
— Бочки со спиртом.
— Небось дорогая штука?
— Еще какая!
— Эх, продать бы эти бочки! — воскликнул железнодорожник и от этой соблазнительной мысли даже прикусил себе кончик большого пальца. Потом он ушел.
Этторе подобрал с земли камень и стал перебивать им бечевку, на которой висела пломба; одновременно он прислушивался к гудкам машин, проходивших за стеной, которая окружала двор, надеясь услышать клаксон своего грузовика.
Он повернул голову и увидел, что его грузовик уже въезжает во двор, различил сквозь ветровое стекло широкую улыбку Пальмо, как бы говорившую: «Смотри, как я хорошо веду грузовик!» Взмахом руки Этторе показал ему, что надо развернуть машину и поставить ее рядом с вагоном.
Потом он отвернулся и опять принялся сбивать пломбы, как вдруг позади услышал шум приближающегося грузовика.
Его сильно толкнуло в спину, в удивленные глаза хлынул красный цвет вагона, он почувствовал, как его грудная клетка трещит, будто придавленная тяжестью плетеная корзина. Движущийся кузов грузовика заставил его несколько раз перекрутиться вдоль вагона, а потом он застыл, пригвожденный к нему, читая выпученными глазами надпись на противоположной стене: «Товарный склад», ноги его не касались больше земли и стали холодными и тяжелыми, будто они не из плоти и крови, а из камня.
Он не видел, как Пальмо высунулся из окошка кабины, — рот его был раскрыт в крике, волосы упали на глаза. Пальмо дал задний ход, и его опять потащило вдоль вагона до прежнего места, и он опять видел красную стенку, и его грудная клетка опять хрустнула, но уже не так громко. Затем кузов машины отодвинулся, и Этторе мешком свалился на землю.
Его перенесли в здание склада, железнодорожники накрыли его брезентом, и буквы «Ж. Д.» пришлись ему как раз на лицо.
Один из железнодорожников сказал:
— Этот несчастный думал, что не заденет его, он недавно водит грузовик и еще не знает как следует его размеров.
В это время вбежала Ванда.
Из-за огромного живота она не могла к нему наклониться и поэтому смотрела сверху, как будто издалека, и тогда один из рабочих решил открыть ему лицо, но он не успел этого сделать, потому что Ван-да вдруг опрометью кинулась со склада, с неожиданной силой растолкав железнодорожников, собравшихся у входа. Она искала Пальмо и сначала услышала, а потом уже увидела его. Он лежал ничком на куче мелкого угля, ноги у него дергались, он что-то мычал, будто рот у него был забит этим углем; уже больше получаса он лежал так.
— Пальмо!
Он перестал дергаться и медленно приподнял голову, лицо у него было совсем черное, и слезы прочертили на нем белые дорожки; черными были и губы. Пальмо взглянул на нее, опять сунул лицо в уголь и опять замычал.
— Пальмо! — крикнула она, но он не поднял головы.
Тогда она схватила его за плечи, чтобы перевернуть, но ей это не удавалось, она начала рвать на нем волосы, колотить в спину, он все не оборачивался; тогда она вонзила ему ногти во вздувшиеся на шее жилы.
Пальмо вскрикнул от боли и перевернулся.
— Убей меня! — промычал он.
— Он еще говорил?
— Говорил… Убей меня!
— Повтори все, что он сказал. Но знай, если ты убавишь или прибавишь хоть одно слово, бог разразит тебя на месте!
— Он сказал: «Ты идиот, Пальмо! Мне приходится умирать из-за такого идиота, как ты».
И Пальмо убежал, чтобы не видеть и не слышать, как она будет убиваться теперь, когда мужа ее не стало.
Последсловие
Горькая и мужественная повесть Беппе Фенольо прочитана, и нам остается сказать несколько слов о трудной судьбе автора, который скончался молодым, и этой книги, которая вышла в свет через много лет после его смерти, через восемнадцать лет после того, как была написана.
Впрочем, почти столько же лет прошло, прежде чем итальянский читатель смог узнать и по достоинству оценить интересный роман Фенольо «Партизан Джонни» и другие оставшиеся неизданными при жизни произведения этого своеобразного и талантливого писателя. Своевременной публикации этих книг помешали советы крупного писателя Элио Витторини, который в те годы редактировал серию «Жетонов», включавшую в себя почти все произведения молодых писателей послевоенной Италии.
Элио Витторини обладал заслуженным и почти непререкаемым авторитетом. Но именно он посоветовал Фенольо отказаться от издания романа «Партизан Джонни», а также публикуемой нами повести «Страстная суббота» и сделать несколько рассказов из отдельных фрагментов этих книг.
Беппе Фенольо, служивший после войны письмоводителем винодельческой фирмы в своем городке Альба, безропотно последовал этому совету Витторини. Причины такого суждения Витторини понять трудно.
Впрочем, остается лишь радоваться тому, что издательство «Эйнауди», для которого Беппе Фенольо в свое время переделал романы в коротенькие рассказы, через много лет сочло возможным изменить свое отношение к творчеству писателя, напечатав все, что осталось после него.
Беппе Фенольо — знатоку английской поэзии — не было и двадцати лет, когда он бросил свои литературные занятия, раздобыл автомат и ушел в горы к партизанам— воевать с гитлеровцами и фашистскими карателями.
Война подступила почти к самому дому, к небольшому городку Альба на севере Италии, где борьба против фашистов велась в условиях особо суровых, отличалась особой ожесточенностью.
В повести «Двадцать три дня города Альба» Беппе Фенольо точно и правдиво изобразил один из весьма примечательных эпизодов партизанской войны — освобождение города Альба (1944) небольшим соединением антифашистов, которые двадцать три дня сумели продержаться здесь, окруженные намного превосходившими силами карателей, а затем снова ушли в горы. Сюжетная канва романа «Партизан Джонни» связана с этим эпизодом.
В отличие от многих начинавших вместе с ним писателей-неореалистсв, Беппе Фенольо далек от идеализированного изображения Сопротивления. Партизанское движение в Италии было социально неоднородным. Рядом с прошедшими суровую школу политической борьбы антифашистами — рабочими и интеллигентами в партизанских отрядах бывали и анархисты, и просто люди, оказавшиеся на распутье, смутно осознававшие цели борьбы.
Но и этими, даже «не лучшими, а худшими из партизан двигало стремление к освобождению человека, и они были в тысячи раз лучше вас», — пишет, обращаясь к буржуазным хулителям Сопротивления, И. Кальвино в предисловии к своему роману «Тропой паучьих гнезд». Книги Фенольо не беллетризованная хроника антифашистской войны, его реализм глубоко психологичен, созданным им характерам присуща художественная достоверность, далекая от какой-либо упрощенности.
Для Фенольо, как и для лучших итальянских писателей его поколения, партизанская борьба, годы Сопротивления стали основой жизненного и художественного опыта, определившего важнейшие черты того направления в искусстве, которое принято называть итальянским неореализмом. Влияние этого направления было весьма ощутимо в Италии вплоть до первой половины пятидесятых годов. По крайней мере, применительно к литературе мы назвали бы это направление искусством опоэтизированного факта или искусством лирической документальности. В недолгие годы своего расцвета оно удивляло яркостью красок, горячим и молодым стремлением сказать правду, и только правду, о своем времени, о своей стране, как бы впервые увиденной после того, как рассеялась черная пелена напыщенной фашистской лжи и риторики.
В плане стилистическом — а начинавшие тогда писать двадцатилетние авторы-неореалисты придавали стилистической выразительности своих произведений немалое значение — на них серьезно повлияла американская реалистическая проза тридцатых и начала сороковых годов, в чем нетрудно убедиться при внимательном чтении и этой повести. (Все тот же скупой диалог, все тот же разговор как бы ни о чем, когда на самом деле говорится самое главное.) Но тут следует сказать, что среди писателей-неореалистов, как правило пренебрегавших психологической углубленностью, Фенольо выделялся неодномерностью своих персонажей, слиянием личностных и социальных мотивов, скупой емкостью своей художественной манеры.
Сегодня в Италии стало модой, чуть ли не признаком хорошего литературного тона, полное отрицание всего созданного за недолгие годы писателями-неореалистами. В этом кратком послесловии вряд ли уместно анализировать причины столь категоричных и не слишком справедливых отрицаний.
Беппе Фенольо, при всем своеобразии своего дарования, был писателем-неореа-листом, принадлежал к этому литературному течению, не имевшему своего манифеста и не ограниченному строгими рамками группы. Принадлежность Фенольо к итальянскому неореализму засвидетельствована большинством исследователей его творчества.
Это о Беппе Фенольо известный итальянский писатель Итало Кальвино после посмертной публикации его книг сказал: «Он был самым одиноким среди нас и написал роман, о котором все мы мечтали, написал его, когда никто этого не ждал… Теперь существует та книга, которую наше поколение хотело создать, теперь наша работа получила завершенность и смысл. Лишь теперь, благодаря Фенольо, мы можем сказать, что совершили то, что должны были совершить. Лишь теперь мы уверены, что действительно прожили свои годы».
Повесть Фенольо может на первый взгляд показаться одной из многих написанных на Западе книг о «потерянном поколении», книг о молодых людях, которые не могут найти себя, не могут найти себе место в жизни в первые месяцы и годы послевоенной жизни.
Думается, если бы речь шла только об этом, повесть вряд ли вызвала бы сегодня столь живой интерес.
Повесть Фенольо глубже и современней. Партизаны, вместе с которыми воевал его герой Этторе, дрались не только за то, чтоб изгнать из своей страны нацистов. Само Сопротивление было не только национальным, но и глубоко социальным движением. Партизанские годы были не только школой лишений и жертв, они стали обретенной в бою свободой.
Все должно измениться после победы, прежние хозяева должны уйти вместе с фашизмом, ими порожденным, — вот ради чего дралась в горах итальянская молодежь, вот о чем мечтала она, не зная, что пути истории сложней, извилистей, трудней, чем ей тогда казалось. Вышло по-иному. После недолгого испуга прежние хозяева жизни вновь вернулись к своим доходным занятиям.
Герой повести Этторе в своем городе увидел, что его ждут дни, от которых в руках остается лишь «щепотка пепла». Решительно и твердо сказал он хозяевам этой жизни: «Я вашим не стану» — и решил продолжать свою войну, на этот раз в одиночку, на этот раз без товарищей, на этот раз вне движения истории, — войну за себя и за любимую им женщину. Цели его просты и человечны — любовь и независимость. Он хочет любить и быть любимым, сохранить себя, свою самостоятельность, не дать себя раздавить, как нужда и безысходность раздавили его отца, отравили жадностью мать.
Но именно эти простые и человечные цели оказываются недостижимыми, и Этторе, увидев и поняв это, провозглашает свое неприятие мира, в котором они недостижимы. «Мне нет места в этой жизни», — думает Этторе. И он решается на свой одинокий, трагический бунт, отваживается на него, стоя у ворот маленькой фабрики, куда отец пристроил его конторщиком. Один за другим проходят в ворота рабочие, потом настает черед служащих. Прошло восемь, десять, одиннадцать — ему, Этторе, остается войти вслед за ними и научиться несложному искусству выписывать накладные.
«Я должен стать двенадцатым», — сказал он себе и тут же отчаянно замотал головой. И вот решение: «Нет, нет, меня не затянут в этот колодец. Я никогда не буду вашим, чьим угодно, только не вашим. Мы слишком разные люди. Женщины, которые любят меня, не полюбят вас, и наоборот. У меня будет другая судьба, не похожая на вашу, не скажу, хуже она будет или лучше, но другая. Вы легко идете на жертвы, которые для меня слишком велики, невыносимы, а я совершенно хладнокровно могу делать такие вещи, при одной мысли о которых у вас волосы встанут дыбом. Я не могу быть одним из вас».
Неприятие существующего общественного устройства, нежелание «стать двенадцатым», не приводит, однако, Этторе к тем, кто в Италии тех и нынешних дней борется за то, чтобы счастье каждого стало счастьем всех. Этторе избирает свой путь — ложный и гибельный. Он связывает свою судьбу с бандитами, которые, вначале прикрываясь красивыми фразами, а потом уже без всякой маскировки пытаются разбогатеть ценой шантажа и насилия.
Пусть объектами шантажа и насилия становятся ненавистные Этторе спекулянты и бывшие фашисты, Этторе ни на миг не оправдывает ни себя, ни своих товарищей, не создает себе ни малейших иллюзий насчет того, что нынешние его дела будто бы есть продолжение той справедливой войны, на которой он совсем недавно сражался.
Но иллюзорность мечтаний о призрачной независимости (купить на скопленные деньги бензоколонку и жить независимо, честным трудом) очевидна — отсюда неизбежный крах всех устремлений героя.
Автору глубоко чуждо столь милое анархистам всех мастей любование разбоем. (Такой культ разбойника-революционера в свое время проповедовал Бакунин — он далеко не чужд и мелкобуржуазному революционаризму наших дней.) Менее всего Фенольо стремится оправдать своего героя, изображать его деяния как некую смелую борьбу против общества.
Но создает он характер, выписанный четко, многогранный и живой. Пожалуй, самые удачные страницы посвящены нежной и чистой любви Этторе к Ванде, которая ждет от него ребенка. Осенью они должны пожениться, с осени они будут счастливы, к осени будет и та бензоколонка, при помощи которой Этторе хочет спастись от порабощения, «от работы для других».
Но «счастливого конца» не будет. Этторе гибнет, и смерть его представляется нам глубоко символичной. Он вступил на путь без исхода, и нелепая смерть раздавила его мечту о любви и свободе.
«Повтори все, что он сказал», — требует Ванда от его невольного убийцы. И тот в испуге повторяет последние слова Этторе: «Мне приходится умирать из-за такого идиота, как ты».
Беппе Фенольо рассказал нам историю раздавленной молодой жизни, и рассказ его стал значительным художественным свидетельством об Италии первых послевоенных лет.
Г. Брейтбурд
Примечания
1
Целуй меня крепче (исп.)
(обратно)2
Глядя на часы,
Думай о смерти и будь к ней готов (франц.).
(обратно)3
Ладно, этого достаточно. Расстегивайте (франц.).
(обратно)4
Это не кокаин (франц.).
(обратно)5
Вы ошиблись, Жак. Сейчас же давайте другую (франц.).
(обратно)6
Да, это пойдет, пойдет (франц.).
(обратно)7
Немецкие оккупанты в 1943–1944 гг. пытались реставрировать власть свергнутого Муссолини под вывеской «Итальянской социальной республики». Поэтому фашистские войска тех лет в просторечии назывались «республиканцами»
(обратно)
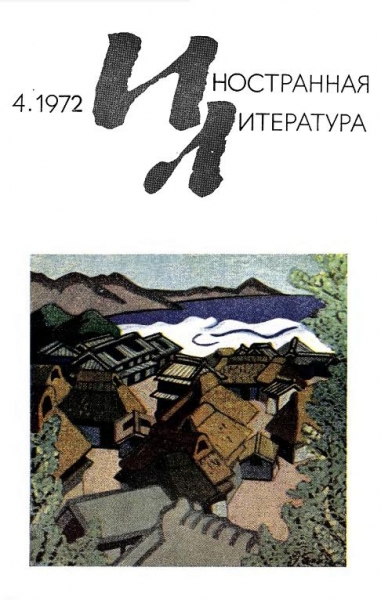



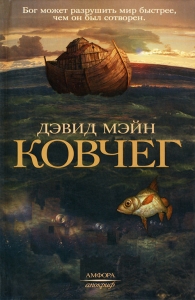

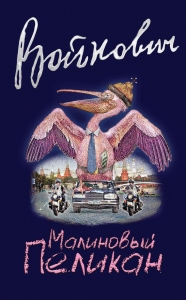



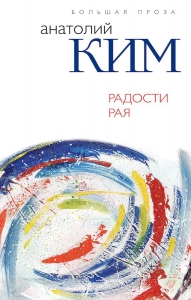
Комментарии к книге «Страстная суббота», Беппе Фенольо
Всего 0 комментариев