Russian Disneyland повесть Алексей А. Шепелёв
– Куда вы меня тащите? —
обратился Леонид Морозов к своим конвоирам.
– Щас узнаешь.
Из этого же самого произведения.© Алексей А. Шепелёв, 2015
© Алексей Шепелёв, дизайн обложки, 2015
© Александр Фролов, дизайн обложки, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Короткое предисловие автора
Не так давно я обнаружил свою раннюю (1994) повесть – или, если угодно, дневник – о проделках компании школьников. Называется «Российский Диснейленд» (1 и 2 – о двух частях) – то есть о том, как волею какого-то дурацкого и/или несчастного случая школа превратилась в плацдарм для подростково-сельско-шутовских, маргинально-несколько-даже-оригинальных развлечений. Это своего рода зачаток эстетики и идей нашего «радикально-радикального» объединения «Общество Зрелища» (обр. в 1997 г.), провозгласившего «искусство дебилизма», а также концепцию «явлений» (восприятия явлений жизни как фактов искусства и наоборот) и «антикатарсиса», и очень напоминает мою повесть «Настоящая любовь/Грязная морковь» (1997, 2001), в которой тоже обыгрывается оригинальный юношеский текст того же 1994 года. Многие герои те же самые, то есть, как ни странно, ткётся то же метатекстовое, метароманное даже полотно («Толокняное толокно толчёт жук…» – Стихи из сборника «ОЗ» «Быдломантия», самиздат, 1999). Но есть и отличия.
Приводится по оригиналу с минимальными литературными потерями и приобретениями.
Самовитый и хамоватый опус сельского подростка, старательно перепечатанный взрослым насонасосорустом (по-вашему: постпостмодернистом). Сплошной протонеадекват и самолюбование зарождающейся мегаломании (по-видимому, обусловленной изоляцией от «большого мира») с претенциозным эпическим подзаголовком «О становлении российского фермерства».
Длинное предисловие автора о рукописи, найденной в стене (во сне), и немного о себе
Скажу сразу, что вступление сие к повести сильно перегружено не только обилием малоизвестных фактов из жизни автора, но и всеразличными излияниями и отступлениями, что сделано намеренно и главным образом для того, чтобы как-то компенсировать простоватость изложения собственно повести. Посему нелюбопытным советуем и не читать.
…Бабушкин дом мне снится во сне. И я опять иду к ней и – о чудо! – она жива! Я говорю с ней, не могу наговориться – перемывать всем кости! – и мы сидим на крыльце, вечереет, холодает, кружатся мошки, жужжат комары, пахнет росой с муравы, помоями из кленовых посадок сбоку дома, полынью, лебедой, землёй, малиной, перезревшими огурцами и укропом, астрами, и ещё цветами зарницы, цветки которой распускаются только к ночи… Пригоняют коров, соседи загоняют скотину, прибирают подопревшее сено, пахнет тоже свежими коровьими продуктами – молоком, помётом, мочой и вазелином… подростки направляются в клуб… жарится картошка – ей тоже пахнет, и есть уж охота… а после и чай с малиной, с колотым сахаром-рафинадом… А пока «клюём» семечки… Точно, лучше этого ничего в жизни нет. Полная гармония мира, не далёкого, «бесконечного» и чуждого, а лежащего вот здесь – в двух шагах, прямо перед тобой, в поле зрения; а все мировые проблемы и конфликты, их суетливые, глупые и жестокие люди и далёкие чужие города и богатства – всё это только в телевизоре, то есть понарошку; цивилизация, индустриализация и индустрия, работа и прочая бессмысленная и обессмыслевающая пое… нь – всего этого нет; это для вас, допустим (а теперь и для меня!), едой является то, что взято не понять откуда, сдобрено не понять чем, тонко нарезано и примотано полиэтиленовой плёнкой к пенопластовой ванночке, и доступно после десяти часов пертурбаций в метро, в пробках, на работе и т. д.1, а в то время пропитанием для меня было то, что урождалось, зарождалось от посеянного и политого тобой самим семечка и созревало на этой чёрной, живой, раскалённой-сухой-покалывающей-пятки днём и холодной-влажной-притягивающей-спину ночью чудо-земле прямо здесь же, у крыльца, огороженной от всего остального посеревшими шаткими кольями оградки да зарослями малины и глухой крапивы. Идеализированно немного, не взыскательно и не изысканно, но всё же.
Идеал, который во сне? Уж не думал, что я буду так мыслить. Но вернувшись (только года через четыре после её смерти я смог сделать это) в наш домик, я увидел то, что и ожидал: разобранная оградка, заросли американки, развалившееся, специально разбитое крыльцо, забитые окна (а потом доски с них оторваны), сбитый с петель замок, провалившиеся полы, вонючие ватные настилы в пятнах и разводах на пружинных кроватях, грязь и мусор, осыпавшаяся штукатурка, отставшие обои, паутина, жуки и пауки, запах табака и похотливого смрада – на стенах порнокартиночки, под кроватью – использованные презервативы… Мне тогда было плохо, и негде было укрыться. Я тогда лёг на кровать и захотел умереть – ну может быть, не совсем, но почти уже. Я решил не есть и не пить воды. Естественно, то, что я увидел, меня в моём намерении укрепило…
…Все знают, что я родился в деревне. От этого выпала мне достаточно трудная судьбина, ведь я всё больше понимаю (лет с четырёх-пяти), что всё-таки больше я писатель, а не фермер (хотя работа в огороде мне очень по душе), а если характеризовать меня как человека, то одна из основных моих черт (если уж быть честным и отбросить всю шелуху благородных оправданий) – аристократизм.2 С другой стороны, закатанный асфальтом, заставленный бетонными параллелепипедами город мне совсем невыносим, особенно сама его цивилизация, подход ко всему. Зато засчёт этого коренного противоречия я стал, как понимают теперь многие, и как понимаю сам, очень своеобразным автором, и как могут подтвердить немногие, кто хорошо знает меня лично, очень своеобразной, практически идеальной и при этом же во многом абсолютно несносной личностью.
Когда Андрей Урицкий в рецензии на мою книжку, включающую роман «Echo» с пятью рассказами, в качестве некого вывода написал про завершающий издание рассказ «Черти на трассе», что именно в этом тексте – по выражению критика, самом странном! – автору удалось достичь «единства игры и серьёза, пафоса и имитации пафоса, абсурда и реализма», т. е. явно посчитав сей текст последним из написанного, я конечно, позволил себе и усмехнуться. Дело в том, что названный рассказ вообще первый из того, что мною написано про людей – раньше, с семи лет и до шестнадцати, я писал исключительно про котов. «Мява с Мурзиком друзья и решили сделать луки», – вот первое, что я создал (по-моему, в 1985 или в 86-м), а героическое сие повествование (в полторы страницы и несколько простых предложений крупным, но уже небрежным почерком) называлось «Робины Гуды».
Коты у меня (вернее, два главных героя – котята) жили в своём особом мультяшно-мифическом мире – в кошачей стране, в Королевстве (почему-то, а не царстве) кота-короля Янция с названьем кратким Русь Котов. С ними ещё иногда участвовал только один человек, по странности легко вхожий в сказочную реальность – Шофёр, прототипом которого (как и с первых лет жизни в ежедневных играх «В кота и шофера») стал мой младший брат. Они и Русь от врагов защищали, и в космос летали, и в Китае и в Японии бились с ниндзями и т. д. Детских книжек я не читал, а бежал после уроков к «бабане» – своей любимой бабушке (так я почему-то звал её, а за мной и все родные, – хотя она вовсе не Анна, а Елизавета; а бабушка по матери, жившая не с нами, как раз баб-Аня, но мы звали её баб-Нюра), в крошечный домик в десяти шагах от ненавистной «барды» (так уничижительно я именовал школу, и видно, есть за что), ел сваренную в кожухе, покрошенную ломтиками картошку с подсолнечным маслом и чесноком (горячую или уже холодную – одинаково вкусно!) или её же жареную на свином топлёном сале (другой еды почти никогда не было, разве что щи, притомлённые в печке-плите, и воспринималось это как само собой разумеющееся), пил чай и усаживался на огроменный сундук, поставив ноги на табурет, и, расшторив окошко, разложив на коленях свои «причиндалы», принимался писать очередную историю… Если кто-то приближался к дому – шёл к нам – я сразу забрасывал «писанину» за сундук. В сельской местности нет такой профессии – «писатель», зато в литературе понимают все. (С самого раннего-то детства я рисовал (сначала котов и ежей, потом богатырей, потом… приседающую на корточках Яночку… но это уж потом…), но рисунки прятать от посторонних трудней; посему пришлось перейти на письмо – если кто зашёл, быстро захлопнул тетрадку, и всё.) Поэтому читателей (а вернее, слушателей) и критиков у меня за всё десятилетие было только два: бабушка и брат.
Однако, несмотря на все трудности моего развития (в пятнадцать-шестнадцать лет я ещё реставрировал и воссоздавал из пластилина котов, в которых мы играли с братцем с младых ногтей, и писал всё про них же!!), жизнь не стояла на месте: лет уже с двенадцати появился такой персонаж, как некто Эллблер Киссер, внешне срисованный с вокалиста группы «Модерн токинг» Томаса Андерса (а по темпераменту и статусу скорее с Элвиса), но соответственно, тоже кот, имевший титул не кого-то там, дворника, учителя или журналюги, а ни много ни мало «король музыки»! И конечно, вскоре он начал вести себя, как сейчас выражаются, неадекватно («звезда» как-никак – хотя тогда такими понятиями в широком вещании тоже никто ещё не разбрасывался!) – в основном, конечно, стал поддавать. У него завёлся друг-алкаш Кондрай – в честь местного грустно-прикольного одноименного прототипа, вскоре после появления двойника почившего в бозе от той же страсти. К четырнадцати-пятнадцати моим годам питие сделалось их основным введением (пили они почему-то исключительно бражку и барду – собственно, не путать со школой! – целый сериал историй вышел под ироническим заголовком «Сладкая барда») и главной темой моего юношеского творчества. А вскоре началось и в жизни…3
Приложение (ко 2-му Предисловию автора)
Только что вот обнаружил план анонсируемого произведения (клянусь, подлинный!) – двойной листок тетради с заголовком «Разработка «Рос. Диснейленда» – уж даже не ожидал, что тогда составлял планы! И что особенно поражает: по стилю он весьма похож на планы Достоевского!! (Которого, естественно, я вообще тогда не читал.) Не поленюсь – приведу его полностью, чтоб потом и самому вместе с вами сравнить замысел с воплощением.
И ещё одна ремарка, навеянная обнаружением этого документа: работать с собственными старыми текстами и архивами весьма увлекательно – наверное, так другие работают с чужими.
Итак…
КУН (Никулин или КУН – так звался главный герой в первой редакции. В настоящем тексте – Ган, Леонид Морозов. Курсивом современные пояснения.)
События заставл. его опускаться. Он деградирует (пьёт, курит). Кульминация барделей4 (штуки 3 описать), неотделим от Ях (и), Перекусов и т. п. (Знакомые всё герои-то!)
Мать заставляет его переосмыслить взгляд на жизнь. Резко бросает пить. (Одна из ключевых фраз упомянутого в предисловии – теперь послесловии! – написанного начала юношеского романа, произносимая героем дядей Генрихом (Геной): «Резко бросать нельзя!..» – хе-хе!) Требует. Распустившиеся Якхи начинают в пьяной ярости бить его, тут прибегают посторонние (которых развелось слишком много во время кульминации) и избивают и Ях (у) и М-зу (Мирзу, Мурзу, Змея) (опис. так: подбежали: – Куна содят! А эти его друзья! След. глава нач. так: КУН проснулся – всё болит – на нём Яха, тут же М-за и т. п.) КУН (постепенно?) разгоняет бардель.
Весна. Сев. Серж (мой братец, как и в «Наст. любви») у Сажечки. Сажечка упохабливает Белохлебова. (Фермеры-компаньоны и родственники, а на деле первый батрак второго.) Саж. на первом плане, все его лучшие кач-ва, идеализация, контрастность с Белохл. Суперидеализация (очень положительный) и тёплая ирония в его изображении. Раза 2 появл. Б (е) л (о) х. (лебов) как «фашист» (забрал зерно из элеватора и т. д.) и хапуга (ворует из полевого стана аккумулятор). Включены истории из прошл. (ого) о Сажечке (гонял мать, о его отце – «такой же!», тюрьма, драки), «недавние» эпизоды (спал на земле и примёрз, «Я почти что хозяин!») и т. д. Несмотря на это он на высоте. (Чифирит.) Первоначально Белохл. «сделал из Саж. (ечки) человека», принуждение. Теперь Саж. держится сам. Он добрый, но топорный по сравнению с Белохлебовым-лисой.
Подвиг труда Серёги. Сажечка не заплатил С (ержу) за работу уже на его поле. Его фраза: «Я скажу, его иссодят». Блх. заступается. Разочарование Серёги. Хочет стать как Блхл., крахобором-ворюгой. Краткое сближение с Блх. И размолвка, ссора. Белохл. обвиняет С. в воровстве. С. знает имя вора, но не предаёт почти друга. «Падла». (?) => Решает действ. сам, полагаясь на родственников, видит в Куне брата, личность. (? Препятствие выхода из колхоза. Собирает из стар. запчастей трактор.) Одна из главн. идей – чел-ку уже по св. природе нужна какая-н. зав- (исимос) ть – от чего-то (алк., нарк., курен., бытовых привычек, распорядка, работы) или кого-то. Некуда деть руки, некуда деть себя, держать себя в руках – и буквально, и в др. смысле. Ган пытается сознат-но создать себе завис-ть (и), которые лучше тех, что спонтанно мог. (ут) быть на их месте. Или использ. подручные – н-р, пьянство. Неск-ко другая – Стокгольмск. синдром, когда заложники «привыкают» и испыт. (ывают) симпатию к террористам.
Контраст Ган – Гонилой (отриц. герой 1-й части и «Наст. любви»). Профиль, Фестиваль (герой «Чертей на трассе» и «Наст. любви» под именем Жека), Бай-май (его брат), Боцман (тоже герой «Наст. любви»), Карлик; Шлёпин (тоже, кажется, упоминается в «Н. л.» под именем Петрова) (наступает беляк), Фома (знаменитый «Фома-полутруп» из той же повести!), Суслик (также эпизодически появляется в «Н. л.»), Царёк, Владик. Прогрессивные: Буржик и Шывырочек (деград. и душевная лучшесть).
Апогей. Бардели, состоящие из внешних героев. Предельный верх пьянства. Спали с откр. глазами, беляки («мотоцикл» и др.). Поездки в др. сёла с путешеств. (иями) ползком. Лазанье в школьн. погреб за картошкой, как у д. Васяни. «А сейчас мы вас иссодим…». Сожжение кота и Бегемота. (??! – вот это наверно любопытно!) (скачки по навозу). Приезд в упившуюся деревню (уехал пред. (седатель)). Ездили за брашкой на тракторе и снесли школьн. сарай.
Поездка на фургоне в др. деревню (с собой взяли Бадора (шантажируемого учениками учителя, см. ниже) для прислуги), рисовались (до этого места зачёркнуто), ехали за свиньями на дальн. ферму, прихватил председатель, обожрался вместе со всеми и с шофёром своим Дионисием Ивановичем; купание в 3 часа (ночи) и барахт. (ание) в воде. Как с гуся вода.
Короче, как говорит один мой молодой знакомый, вечный скептик и вещный технократ, богато, замысел многообещающий, посмотрим теперь, что из него произросло.
3
Г-н Белохлебов, первый наш фермер, решил прибрать к рукам соседнюю с нашим селом деревушку Моршановка, бывшую бригаду колхоза, со всеми потрохами: землю, сельхозтехнику, людей (собирал их заявления о вступлении в фермерскую ассоциацию, сулил баснословные зарплаты). Учитель математики по прозвищу Бадор5 выступил на уроках и в учительской, представляя Белохлебова в обличьи кулака и тирана. Дочка фермера, пятикурсница-практикантка, учителка пения, рассказала об этом отцу.
Техника стояла у Белохлебова на задах. Под открытым небом. Тринадцатилетний Серёжка Морозов шёл к своему товарищу-однокласснику – он часто к нему ходил, по пути останавливаясь поговорить с фермером, или тот просил что-нибудь помочь.
Редкие снежинки плавно падали на землю. Как только они до конца спускались и прилеплялись к своим собратьям – тоже только что упавшим и какое-то мгновенье покрывавшим проржавевшее железо тракторов, прицепов, промокшие дрова, стог «сгоревшего» за зиму – и ещё так же медленно тлевшего и сейчас, где-то там, внутри… – сена, воду, снег, лёд и грязную чёрную землю, то ещё мгновение-другое существовали – да и то уже почитай за счёт того, что другие уже садились на них, и на самом деле наверно это были уже не они сами, а они, другие… Вот так и братец Лёня говорит, что какой-то философ заявил, что существует вид, а не индивид (это что-то из учебника «биология» с дурацкими, интересными только нашим девкам картинками), и люди мрут как мушки без толку, не осознавая, а мой Ган с ним типа не согласен, и всё втирает исподволь, что его-то личность самая из всех фильдепёрстовая, что такие люди раз в сто, если не в тысячу лет родятся! И он вообще круче и умней всех зараз – начнём с того, что по крайней мере у нас в ***ивке!.. Ну, ежели вот не считать дядь Лёню… А можть и Сажечку! Что-й-то он их сам-то через каждое слово теребит и всё выспрашивает, что да как!.. Снежинки вот все уникальные, а толку? Пойду-ка посмотрю.
Белохлебов со своим помощником родственником Александром Подхватилиным, именуемым по-родственному не иначе как Сажечкой, кружились около трактора. Серёга направился к ним. Ещё издали он услышал, что Белохлебов ругается. «На Сажечку!» – подумал Морозов. Однако эпитеты явно тому не подходили:
Чёрный! Муджахед шаршавый! Развели грузинов всяких!
Фермер кричал довольно громко и что немаловажно – прямо под ухо Сажечке, который продувал какую-то трубку.
Здорово, фермер, – обратился Белохлебов к подошедшему Серёге и опять за своё: – …пахабный! чёрнищий! Вишь докатился: представлял меня – меня! Сука-сволочь.
Ну он же самый продвинутый учитель – ему можно, – по ответу подростка было видно, что он догадался, о ком и о чём идёт речь. Улыбка его говорила о настоящей, как бы уже взрослой иронии.
И опасная тварь, – загадочно прибавил Белохлебов и, в очередной раз удивляясь Серёге, подмигнул ему, нагнулся к самому уху помощника и начал перечислять старые эпитеты.
Сажечка даже улез под трактор, но Белохлебов, держась за раму, тоже весь изогнулся к нему, опять к самому его уху, и принялся громким басистым голосом орать:
– Серёжка, будешь фермером! Будешь, обязательно будешь. Бу-дишь!..
Наконец Сажечка не выдержал:
Чего ты взялся?!
Чаво?! – паясничал Белохлебов, – что ты сказал-то? Я либо ослышался, а? – А теперь наоборот пристально-театрально взглянул на Сержа.
Сажечка не отвечал, только улез ещё глубже в агрегат и принялся там усердно возиться и кряхтеть.
Смотри сюда, когда с тобой разговаривают! – почти по-военному скомандовал Белохлебов, бывший прапор, «сундук», как пятнадцать лет его называли по месту службы, – а патрубок отпусти, хватит им стучеть по раме – я-то знаю, что ты специально!
Александр Васильевич Подхватилин, человек уж о второй жене и четырёх ребятишках, но росту исключительно невысокого и весь довольно-таки щуплый, как бы ссохшийся, с подчёркнутой покорностью вылез, отпустил патрубок на землю, сбрюзжил свое круглое красно-загорелое маленькое литцо, примечательное чрезвычайными горизонтальными морщинами на небольшом в принципе лбе, надутыми и вечно обветренными, как у какого-то там Филипка, губёнками и вечно недовольным общим своим выражением, начал что-то мяться и шептать невыразимое исключительно для воздуха.
Так. Я наверно, бишь, ослышался, да? – сильно переигрывая, повторил свой вопрос начальник.
Ослышался… – как-то прошептал, почти пропищал Сажечка, сдавливая челюсти и незаметно скрежеща зубами.
Два фермера, как сами они себя именовали промеж себя, отошли.
Я ведь тоже в курсе, – признался Белохлебов.
У Гана моего идеи всё одни и те же: он просто посоветовал тянуть.
Да и мне то же самое! Хотя за такое преступление – всё же надо в ментуру…
В это мгновенье они оба вновь почувствовали, как и в другие многие разы, что каким-то образом действительно сейчас равны и откровенно на «ты», что непонятно, кто играет во взрослого, а кто в подростка.
Ментура подождёт. Шантаж, конечно, дядь Лёнь, сам понимаешь, дело гнилое…
Правда, Серёжка, правда-истина! А клевета?! Я его, чёрного, затяну! Ты только, Серёж, начни, мне-то несподручно… А потом я как подключусь – он у меня враз побелеет!
Или покраснеет, как Сажечка.
Ага-ага, Серж, как Сажечка! Хуже.
С тем и расстались.
4
«So I began a new life», значилось в записке, напечатанной Ганом на Белохлебовском компьютере – единственном в селе, которым руководить (слово бабушки) мог только один человек – он, Леонид Морозов! – и направленной по почте Бадору. Учитель, хоть в своё время вроде и учил английский, мало понял…
Уже все забыли про бардели в вагончике фермеров (тогда они были ещё арендаторы, а бабушкина родственница, тоже бабка, звала их «да эти… реакторы»!), да и дискотек давно не было по причине того, что на 23 февраля вся мужская половина «учавствовала» (как писали потом девочки за мальчиков в объяснительных) в конкурсе «А ну-ка, парни!», и притом (это главное) все педагоги, глядя на них, только и думали: лишь бы не упали. И притом – это тоже немаловажно – уже известный нам ученик Губов кидался драться на директора (чего никогда не бывало, даже от таких кадров!).
Леонид Морозов опять провёл пару параллельных прямых, зная, что по нешкольной геометрии (может быть, не такой бестолковой, тошно-муторной и абсолютно бесполезной, ну или где хотя бы все задачи сходятся с ответами в конце!..) они всё равно легко пересекутся «чуть дальше» и, как он выразился, «объединил в систему два события». Чистейшая, по его же выражению, панк-математика:
1. Шантаж Бадорника.
2. Надо проводить дискотеки.
Перенеся из первого уравнения г-на Бадорника, он получил:
{Надо их проводить за счёт оного.
5
Серёжка уже дважды посылал учителю письма с просьбой выделить пять тысяч «на общие нужды». Ни на что в них не намекалось, если не считать подписи: «Свидетель. Число такое-то, д. Моршановка».
По компьютеру понятно, от кого послания, поэтому сначала отправляли с почты в ***вке или в районе. Потом всё же перешли к более решительным шагам – тем паче, что до своей-то почты буквально шагов десять по грязищи.
Ган же послал ему письмо с заверением, что денег никто впредь требовать не будет, и что некое «другое письмо» отправлено «на хранение» кому-то «кому надо», и «в случае чего» будет незамедлительно переправлено «куда надо». «Большая просьба (Мы думаем, Вы догадываетесь, от кого) провести сегодня в школе дискотеку».
Старший Морозов был большим любителем вывешивать объявления.
Все знали, что санкции директора нет, но всё равно пришли. Бадорник, раздобыв где-то ключи от школы, как ни в чём не бывало открыл двери, настроил аппаратуру… Все были, как произносит бабаня, очень ради. Соскучились! Вроде бы и начали во всю прыть, однако пляска что-то не шла…
Ган призвал единственно пьяного однокашника Яху (знакомого нам того ещё атитектора6) и убедил его набраться наглости подойти к Бадору и послать его – учителя! – за самогоном.
Педагог долго мялся и отнекивался, едва не теряя вслед за Яшкой дар русской речи (он отлично говорил, да и выглядел вполне по-нашему, только имя имел несуразное), и искоса поглядывая на Гана, сидящего чуть поодаль, тоже стреляющего глазами, но вроде как создающего вид, что он тут ни при чём. Никак не мог поверить, что его самый талантливый, можно сказать, любимый ученик докатился до такого. Но деваться некуда: бабушка рассказывает, что в тюрьме мешок резиновый есть… Вскоре Бадорник отправился по заданному адресу (думается, у него тоже была хорошая бабушка).
Два литра мутного счастья. Потом ещё пробежка до дому (благо живёт недалече) – и «от себя» литровка ликёру плюс закусь. Ладно ещё б Морозов или Белохлебов, или даже Серж, а прислуживать всей этой шантрапе уж совсем унизительно!..
Все барахтались навеселе. Один наблевал. Ган даже попытался извиниться за своего товарища. Бадорник по привычке хотел распорядиться, но подскочил более красноречивый Серёжка с более живописно пьяным Губовым и тоном колхозного председателя или Белохлебова сказал: «Ну не мне же убирать! Иль можть ему?».
6
Серёжка был действительный работник колхоза, правда, сам не знал, в какой должности. То им того, то им сего. Частенько всех вытаскивает из сугробов на машине или на тракторе, бесплатно консультирует по любым техническим вопросам, подгоняет какую-нибудь шайбу, прокладку, скобку… Все пьют, а он пока нет – вот и доставляй всех кто на рогах по домам – вместе с транспортными средствами. И им польза, и ему любимая практика.
Собрание было в субботу. Серёжка как колхозник присутствовал. Три председателя – вдумайтесь: три! – присутствовали на местах. Каждый из них претендовал на место председателя одного нашего бедного – но кое-что ещё пока осталось – колхоза. Г-н Белохлебов просто хотел получить бригаду (пока). С района было самое начальство и десять омоновцев с резиновыми дубинками. В школу набились человек триста. Скооперировались по группам поддержки – по сотне на кандидата. Активисты в драбодан, оченно многие просто припивши, науськанные, короче, навзводе. Возникла давка и заминка, и районное начальство объявило, что собрание не состоится «по причине отсутствия кворума». Начальство уехало, забрав ОМОН и «всю власть».
Началось троевластие, то есть безвластие. Один председатель провозгласил, что он начинает собрание «как положено». Те, кто были против него, матерясь, ушли. Никакого русского бунта – скотину ведь убрать надо до «Просто Марии»! Остались сподручники, коим были обещаны разные вещи, активисты, коим намекнули на водку, да пенсионеры, коим лишь бы поглазеть – может, у них телевизоры изломались… а точнее, своих-то у многих и нет…
Началась, как говорит бабаня, кукольная игра. Его величество выбрали на пост, причём единогласно. Причём г-н Белохлебов снимал на камеру, а Ган ему помогал.
7
В понедельник директор выступал на очередной линейке:
«Как же вам не стыдно? К школе подойти нельзя! Вчера… то есть в субботу, тут происходило собрание, много людей стояло у школы… Все председатели, с района начальство… А тут такие вещи валяются на каждом углу – даже мне стало стыдно за вас!..»
Ученики только смеялись (почти вслух) и не испытывали ни малейших угрызений совести. Под словами «такие вещи», если вы не поняли, скрывались не презервативы, как в городе, и даже не блевотина, как это заведено по обычаю, а ещё кое-что более существенное…
Однако директор, как ему казалось, повода для смеха не подавал: «Я решил вас наказать: больше дискотек не будет до конца года, а при повторе подобных обстоятельств может даже и выпускного…»
На это заявление ученики отреагировали весьма своеобразно.
8
2 марта 199… годаБелохлебов опять крыл Сажечку.
– Куда ты дел проводки?!
– К-какие проводки? – как-то без выражения недоумевал помощник, грязными ссохлыми ручонками перебирая болты в коробке.
– Смотрите, какое спокойствие! Ты издеваешься?! Куды ты их дел?!
– Кого? Не знаю никаких проводов.
Подошёл Серёжка.
– Чё ты, дядь Лёнь, его теребишь опять?
– Да вот этот вот l’esprit profond сдябрил провода от аккумулятора и не признаётся.
– А что это «профонд»?
– Профан по-нашему, – подмигнул Белохлебов и укатался.
– А ты что, дядь Лёнь, французский знаешь?
– Да всего помаленьку. Приходится вот, Серёж, и не такое изучать… – неудачно соврал Белохлебов. А догадливый Серж подумал: теперь «Пуаро» на кассетах купил. Десять кассет такой хренотени – это только по его деньгам!.. Хотя, как оказалось после, тут он всё же ошибся: Ган сказал, что сериал английский.
Сажечка по обыкновению зарылся (на этот раз в болты) и как бы для создания фона беседы фермеров как кот проурчал: «Заколебал ты своим профаном».
Белохлебов подмигнул Серёжке и нагнулся, как в тот раз, к Сажечке.
– Так, давай проводки!
Сажечка даже вздрогнул, а Белохлебов опять рассмеялся – видно было, что занятие сие доставляет ему удовольствие.
– Какие проводки? – прошептал коленопреклонённый на сырой земле и неказистой промасленной тряпке работник.
– Красный и зелёный. Соединяли генератор и аккумулятор!
Да не видал я их!
– А я знаю: ты взял!
– Я не брал.
Поражаясь выдержке своего подчинённого, главный фермер опять захихикал и наклонился теперь к Серёжке: «Кхи-кхи, я знаю, что это не он – но уж больно чудно…» Затем вернулся к Сажечке и принялся наянно настаивать на своём, упоминая даже про какую-то бомбу, которую «себе на уме» помощник якобы тайно конструирует, и наконец Сажечка не выдержал:
– Ладно, щас принесу!
– Давно бы так.
Предмет насмешек ушёл, даже почти не оставляя следов по свежему пушистому снежку.
– Что там у вас нового в школе? – поинтересовался фермер, щурясь, смахивая снежинки с ресниц и сдувая их с носа.
– Да ничего.
– Как ничего?!
– А! – как будто только что вспомнил «второй фермер», – Кенарь дискотеки отменил. А у моего соседа – и твоего соседа – Драбадора, хрипого деда, корова вот подохла…
– Ну и!.. – не терпелось фермеру.
– Докладываю, – рапортовал Серёга, сначала пародируя директора, а потом совсем забывшись от веселья пересказать такую небывальщину. – Учащиеся взяли вечером кишки и приволокли к порогу учебного заведения. Началось подбрасывание их кверху. Кончилось оно тем, что кишечник повис на трубке для крепления флага, как раз заслонив надпись «***ивская средняя»! Когда было собрание, снять ещё не успели, и Кенарю от начальства высказали: вы что, мол, тут развели. Он принёс стул, встал на него, тянулся-тянулся – все мужики удохли – так и не достал… Потом призвал курж… ого. Бадор, этот хоть и побольше, тоже не достал, пока Кенарь не принёс швабру, сам залез, а когда сбивал – велел тому ловить. Ну он и поймал! Все в покат лежали. Бегом побежал кишечник относить, а потом домой поскакал костюм менять!
– Кхе-хи-кхи-хе! Кижечник! – искренне увеселялся Белохлебов, – жалко я не видал!
– Короче, дядь Лёнь, дискотек больше не будет, – грустновато подытожил рассказ школьник, как бы ожидая реакции старшего.
«Не будет»! Надо будет – навозу наплунжерим, не то что кижечник!
«Как-то абстрактно», – подумал Серёга.
Вернулся Сажечка с проводками – как провинившийся Хрюша из передачи «Спокойной ночи».
– На…
Белохлебов едва сдерживался от смеха.
– Я так и знал, что ты взял!
– Это мои…
Оттолкнув от себя Сажечку «как кобеля», Белохлебов отвёл Сержа в сторону для некоей конфиденции.
9
7 мартаПод конец официального мероприятия – как всегда убогих, но зато крайне благопристойных посиделок с чаем – в школу стал подтягиваться совсем не тот контингент, и уже в соответствующем настрое. Многие говорили даже о том, что вычитали в объявлении на клубе, что будет бесплатная дискотека с бесплатной (особо подчёркиваю!!) выпивкой и закуской. Организатором мероприятия выступает, конечно, ни в коем разе не администрация школы, не какое-нибудь Районо, и даже не благочестивые наши фермеры-благодетели (ради ухода от налогов окашивающие края дороги в богадельню7, и считающие, что это достаточная индульгенция если не «на долгие года», то «на сезон» уж точно), а вполне уже себе известная фирма «Российский Диснейленд».
Ган стоял на входе – как будто просто так, а сам как бы принимал гостей. Каждый, даже из самых матёрых, подходил его оздоровать и что-нибудь спросить. Родители и учителя сталкивались с недоумением (их чуть ли не выпроваживали) и – с встречным потоком…
Минут через двадцать он, в первый раз в жизни покуривая в школьном коридоре (сигарету своего любимого «Лаки Страйка»), прошествовал в центр его – словно директор перед линейкой, даже изображая Кенареву приземисто-осанистую походку и украшающую оную несуразную отмашку ручкой – и, картинно затормозив и прищёлкнув пальцами, провозгласил: «Маэстро, музыку!»
Возникло превратившееся в рефлекс «Но-но!..» – завсегдашняя «первая песня с первой стороны». (Техно-ураганы группы «2 Unlimited» – конечно, не так романтично, как «Модерн токинг», зато драйв и позитив – для барахтаний-то самый насос!). Все пустились в танец: невольно вытеснив виновниц торжества, на манер какого-то обдолбанного боксёра из боевика водя в воздухе кулаками, выпятив грудь, расставив ноги и попеременно в такт музыке их выставляя, напружинившись или вихаясь всем корпусом, неизменно соблюдая ритуальный круг…
Сделав «Двойной беспределъ», публика запыханно замерла, видимо, подумав о главном, тут Ган махнул Бадору – потекла медленная композиция «Ю-96», и далее, как и ожидалось по логике веществ, последовал властный приказ: «По стопке!» и их раздача.
Учитель, тоже видно недавно вкусивший знаменитый роман «Мастер и Маргарита», решил, что «не так уж это и зазорно», и принялся за своё несуразное дело не без энтузиазма и артистизма. Притаив, словно свечи, огни светомузыки, он, в своём блестящем («блистючем», как прозвали ученики младших классов или, по версии старших, «бляцком») костюмчике – что твой Амаяк Акопян, только без чалмы! – Бадорник показался из учительской с огромным подносом в руках. Слегка пританцовывая (или это только показалось от мелькания огоньков), он обносил всех присутствующих, пытаясь не споткнуться, раскланиваясь, кивая, как китайский болванчик, и вежливо предлагая водочку и бутербродики-канапе, которые полушкольники наши почему-то сразу назвали кашпо.
Да и известно почему: года три назад приехав, сам он привёз в деревню много давно позабытого нами энтузиазма: вёл кружки плетнения всего из всего… в том числе особливо много оного (тоже плетенья с энтузиазмом) и спортивного даже азарту от супружницы своей – с непропорционально толстой задней частью ея повадившейся вести шейпинг, а заодно и научить всех вести себя в обществе – и даже – смешно и страшно сказать – на дискотеке (всё это под эгидой «Этики и психологии семейной жизни»). Первые полгода плели все поголовно, даже Губов с Сибабой чуть не на шейпинг приходили устраиваться! (а оба Морозовых были на особом счету как таланты). Но вскоре однако вот у ребят же оказались иные увлечения…
Первая партия – 25 стопок под 45 бутеров – разошлись мгновенно. По своему плану он хотел было на этом и завершить (ну, то есть первый этап, «после первой песни»), но даже самые мелкие и приличные при свете дня ученики напомнили своему «странному-иностранному» учителю (хотя он давно обрусел) любимую русскую застольную приговорочку. Пришлось сразу вытащить и поднос №2, и №3, и даже №4 и 5!
Когда Бадор по указке Сержа толкнул заснувшего на подоконнике г-на Губова (облагорожено прозывающегося Губов-Шлёпин, а в простонародье просто Шлёпа) и вместо всего своего «особо вежливого» сказал ему (несомненно, из гуманных побуждений: чтоб человек понял с пьяных глаз) простецкое деревенское: «Будишь?», тот взревел и зафутболил ногой по подносу.
Сие, конечно, стало последней чашей и каплей преткновения. Бадор даже выключил музыку, «всё бросил» и, сильно хлопнув дверью учительской, скрылся – собираться домой. Туда же следом вошли братья и ещё несколько людей из их братии. Ган демонстративно набрал номер – не длинный, не короткий, а так, средний…
– Аллё, милиция?
– Так точно, – отвечал на другом конце провода уставший голос Белохлебова (в деревне расстояния короткие, поэтому из трубки слышно и посторонним), – дежурный, лейтенант Петров, слушает…
– Да вот у нас тут один человек преступление совершил…
– Так. Фамилия, где, когда… Откуда вы звоните? Назовите адрес!
Поймав злой взгляд учителя, Ган положил трубку, деловито-вальяжно закуривая.
В следующий момент тот рванулся к ученику, но его быстро прихватили заранее специально для того приглашённые рослые товарищи.
– По черепу, что ли, сыграть?.. – задумчиво произносит Морозов, постукивая пластиковым мослом по зелёному наглядному черепу на подставке. Странно осознавать, подумал он (мысленно почему-то представляя, что это говорит ему Серж, а он слушает, поражается и смеётся), что у тебя тоже такой есть… У Яхи, Швырочка и Сажечки – маленькие черепки, и когда их найдут археологи, будут говорить, что ещё и в наше время жили неандертальцы, а то и питекантропы (если скелеты Папаши и Шлёпы!), а у Кенаря черепная коробочка уж какой-то неправильной, или как ему самому кажется, особо правильной, основательной такой формы, как голова у Винни-Пуха из советского мультфильма!.. а у Бадорника – с усами! Кхе-хе!..
Видно было, что он сам поражается своей психологической проницательности, наслаждается поражением противника.
– Давай мы лучче ему по печени сыграем! И по почкам! – с готовностью выступают наёмники, заламывая руки учителю.
Серж смеётся, тоже довольный, даже больше всех, а Бадор проклинает себя, причитая себе под нос, потом берёт очередной поднос, потом ещё…
10 (бывш. 11)
Короче, своего любимого Пуаро Бадорник так и не посмотрел.
Да и что говорить.
А на другой день всё повторилось. Известно ведь издревле: повторение – мать (нужное подчеркнуть несколько раз!):
– обирания,
– обдирания,
– обжигания,
– обжимания,
– обмирания.
Это всё конечно да, но особенно-то, конечно же, обжирания!
Правда угощение было уже поскромней – бедный учитель (а где вы видели богатого, щедрого учителя, и чтоб он не ныл об своей зарплате да и не списывал на сей счёт добрую часть своей вредоносной профдеятельности, а может вернее даже – бездействия!..) уж что называется «вынес из дома последнее»: палку сухой колбасы и многолитровую банку квашеной капусты. Первое всем знакомо не меньше, чем второе, как будто ещё более родное, но вожделенно и дома имеется, наверно, только у преда8, второго преда, Кенаря да Белохлебова… да вот ещё почему-то у Бадора!..
Публика-то, честно говоря, подобралась, как говорят ея бабушки, нескобежливая, а вот Морозов старшой-то ещё прям с детства, как выражаются мамы, имел столь чуждые своим среде и происхождению аристократические замашки, и в первую очередь в еде. А Серж имел, как мы знаем уже, затеи. Короче, за неимением яств, Бадорнику постоянно пеняли: мол, скатерть вся обляпанная, надо бы новую… И он несколько раз вынужден был летать до дому, пока не принёс их оттудова целую пачку тряпок, чуть ли не штор своих и простыней – и так застилал стол 11 раз («Если же и к одиннадцатому часу ты опоздал…» – на бегу повторял он про себя что-то из случайно услышанной по ТВ Пасхальной службы), пока уж трапезничающим не стало всё равно!..
Наш Яха, достигший шестнадцалетия врождённый атитектор, обкушался настолько, что ужо что называется не барахтал себя – или как он сам переиначивает данный общеизвестный морозовский термин: «Ни магу парахаться!». То есть ему очень хотелось танцевать, но он весь уже пообмяк и не мог управлять собой, а токмо вяло шатался и болтался, едва держась на ногах. Повторим, что весь вид его выражал энтузиазм выразить себя в высоком полёте искусства танца – это вам не плетение, целлюлитом, он как прочие, прости господи, не страдает, а всё туда же – показать и выразить себя – посему и приземлился вскоре на копчик. Хорошо, что не на самый его кончик, да и благо анестезия.
(Но дальше-то, ей-ей, будут у нас пируэты и приземленья пожёстче!)
Серёжка указал на него г-ну местному секьюрити и половому как на вопиющее упущение.
– Не понял я! Гля: на полу валяется – а вы всё курите! – неожиданно выпалил Серж, имитируя знакомую интонацию Белохлебова.
Бадор как бы застыл, не зная что предпринять.
– Человек непьющий, хочет улучшить свои ощущения! Давай, барахтай его! – прибавил ученик.
– Извините?..
– Парахаться!!! – заорали все, кто мог, удыхая, в том числе и кое-кое-как поддакнул с полу и «виновник торжества» Яхо. Он только валтузился и вякал-икал – как-то даже жалко было на него смотреть.
– Поднимай, во-во, и давай управляй им, а я тебе буду подсказывать, суфлировать, – входил в азарт Серж.
– Вафлировать!.. – отозвался намного более крепким вокалом тряпичный, и кукловоду ещё повезло, что сразу после подъёма рывком и пары резковатых движений его подопечного вырвало, за счёт чего и произошло не менее рывковое переключение темы.
Музыка играла. Часть гостей сидела за столами, часть барахталась, но увидев содеянное, многие завякали – кто по правде, кто для пародии, причём последние явно перестарались… Всё это, конечно же, было уже явным намёком тому, кто тоже так же должен был их обслужить, – он уж стоял полусогнутый и с закаченными глазами с ведром и утиркой над изгваздавшимся, матерящимся и отплёвывавшим колбасно-капустные хлопья Яшкой…
– Будешь парахаться? – спросил Серж у Яхи. Тот мотнул вперёд кудрявой головёнкой с потухшими глазками и совсем обмяк.
– Давай его. Пусть вихается как положено, – приказал и Морозов.
– А этих кто обтирать будет – я, что ли? – раззадорившись, наперебой озадачивал его и младший.
Под конец вечера Бадорник принуждён был обходить всех по кругу, улыбаясь и раскланиваясь и проговаривая: «Извините, не желаете стошниться?..» Отвечали ему не очень вежливо, все харкали в ведро, явно стараясь самой харкотиной попасть ему на лицо, а особенно конкретно – в усы.
А что поделаешь: говорят, в каталажке мешок резиновый есть. Бабушка рассказывала: довелось ей как-то в городе побывать в участке, и тут заходит такой краснорылый детина и, запыхавшись и дыша чесночищем да перегарищем, спрашивает у минцанера: «Начинать?!» Улыбается: щас, мол, женщина уйдёт, и начинать. А тот уж томится как бы, мнётся весь, потирая кулаки: щас, щас начну!.. А что это у вас, она говорит, я спрашиваю. А он грит: щас в мяшок резинвый посодим, шоб не видал, хто бьёт, и давай. За стакан, сказывают, нанимаются. Времени с той поры прошло немало, но кто его знает…
Вот так вот оно.
11
Расходиться, конечно, никто уж и не помышлял, а вот по нужде пойти на улицу кто-то ещё сподобился. И из-за прославленного своими метонимически с ним сопоставленными делами угла школы был увиден на фоне кроваво-красного и чёрного горизонта зловещий силуэтик директора (распознан, как вы понимаете, по характерной походочке с отмашечкой).
– Ребзо, атас! Кенарь!
Директор в споре фермеров и председателей играл и нашим и вашим: он не мог понять, кто из них победит, и что победит вообще (почему бы из района не сказали ясно, как раньше, что делать?!), и внутреннее убеждение его было одно: побольше основательности – так всё начальство делает, а что поделаешь… – а уж что ты при этом поддерживаешь, капитализм или социализм, не столь уж и важно.
Официант, собиравший уж посуду, ажник уронил её и что-то расколол об свою полукапустную банку-бутыль.
– Бей посуду – я плачу! – воскликнул Морозов, сделав вид, что оттолкнулся ластами, как в каком бассейне, от чахнущего, как Кощей над златом, Сора, и полетел назад вместе со стулом. Тут же Шлёпа, тоже сидевший-дремавший недалеко с погасшим окурком в грязных ручищах, очнулся, подъехал на своём стуле и в натуре пихнул пяткой под зад неуклюжего педагога, так что тот куртыхнулся вбок, проронив последнее.
Все, кто ещё отчего-то и почему-то пребывал не совсем на полу, вмиг очутились на нём, в буквальном смысле слова укатываясь.
Бадор вскочил с горлом бутылки в руке, озверев, бросаясь на Шлёпина… Но тот знай себе неспешно оттолкнулся и с горохотом кувырнулся на тяжеленном стуле, сильно саданувшись головой об плинтус и хряснув хребтиной, издав даже неподдельное «уй-яа!».
Бадор, опомнившись, застыл, вытаращив глаза, нервно поглаживая усики.
– Клим Самгин, б… ть! Давай самогон, гандон! А то щас «и начистила ему ейной мордой»! – как ни странно с литературным наездом подкатил ибупрофен наш атитектор – и двоечник! – кудрявый Яшка: отплёвываясь и трепыхаясь, угрожая белым скелетищем от рыбы (вынутым из только что разбитой двухлитровой колбы, откуда спирт когда-когда ещё выпили, такова легенда – и Яхе, и Морозовым отцы рассказывали) – тем самым пресловутым экспонатом, который Сор когда-то взялся починить (домой спереть – смеялись ученики, и косные учтиля тоже засомневались и «не дали санкции», так и остался он на окне в учительской, кем-то засунутый вместо цветка в едва не единственное уцелевшее кашпо!).
Гану оченно пондравилось; из других, кажется, тоже кто-то понял.
Призвал своего сотоварища и одноклассника Мурзу (Мирзу, Змия) и велел сопроводить учителя и сектанта в нелёгком деле непускания Кенаря.
– Давай, Витёк, мочи и поскакали! – нахлобучил тот учителю хрущачино от зелёного свекольного змия. – Я из Хасывьюрта – и ты из Хасывьюрта.
– Я не из Хасавюрта, я только там был. И у нас пьют только виноградное вино и коньяк хороший; я не пью вообще…
– Рая!!! Запарил!! – заорал, прыская слюной, что твой доктор Ливси из мультика про остров сокровищ, маленький зубастый Мирза. – Свекольное вино – белое, полу… сладкое, с сахаром ещёща… хгм-ха!… Теперь вы!
Пока тот отфыркивался в усы, энтот ещё успел (походочка у Кенара-то основательная!) выскочить с порога школы и сорвать с клёна палку, на которую – «прям перед носом начальства!!» – школьные двери чудесные и закрылись как сами собой изнутри.
Как только директор начал произносить текст и что есть мочи стучать и дёргать, а учитель, пуская слюни в усы (иль ему обплевали всё же?..), кое-как удерживающий двери за счёт корявой тонкой кленовой палочки и даже упирающийся время от времени ногами, пьяно-утробно ворчать: «Болше нъ мъгу», Змий наш, раскуривавший самокрутку из самосада и какого-то школьного объявления, стал дохнуть уж и до нехорошего – что называется «в слюни», с задыханиями и жёсткими спазмами.
– Кто тут? Это вы, Александра Петровна? (уборщица). Выходите сейчас же! – то есть откройте! Я видел: свет горел! Откройте! – кто там держит дверь?!..
В периодически возникающую щель Мирза ещё успел выбросить окурок, угодивший Кенарю в лоб. Ну это ещё чё – чрез мгновенье ветка перехруснулась, и Бадорник угодил в тот же лоб своими усами, и оба они покатились кубарем; а потом ещё не раз взвозились на обледенелом пороге, пытаясь с него одновременно встать и в то же время удушить друг друга да не дать то же сделать один другому.
Успев над схваткой проглотить и прокашлять ещё одну козью ножку, Мирза пошарил в полутьме раздевалки и нашарил там своими несуразно несоразмерными глазищами какой-то завалялый пояс от чьего-то пальтишка.
– А ну, Витёк, Рая!! – кликнул он учтилей.
По-видимому, хмель и усталость возымели своё действие над человеком: отупевший Бадор держал директора за кисти рук, не допуская его схватиться за ручку двери, и что-то фурычел.
– Ну, Рая, пхни его, Витька!
Воспользовавшись паузой отвлечённого учеником вниманья, Бадорник быстро как-то перехватился, а потом обеими руками толкнул директора в грудь.
– Быстренько! – скомандовал Мурза, закашлявшись, как чахоточный.
«Мы фигачим каждый день…» – напевал он, набивая трясущимися руками очередную самокрутку – с собой для этих целей у него носилась баночка из-под гуталина.
Первый парень на весь край, На меня все бабки в лай — А-а-а, ну и няхай!..«Сектор газа» – самопальная музыка, идущая не откуда-то оттуда, издалека, а от простых воронежских (соседских) пацанов, у которых просто есть время, инструменты и нормальный магнитофон для записи, а напеть-то это может каждый!9.
И от себя что-то вроде баю-бай:
Рая, Рай!..
Вскоре директору надоело слушать и дёргать, а может быть, он вымок уж не только от валяния (тоже весь извалтузился!), но и от дождя со снегом.
Главное, чтоб милицию не вызвали (хотя из района ехать ради какой-то школы…), подумал Мирза и запел опять (если это заунывно-гнусавое завывание «под «Сектор» можно назвать пением) – что-то про потусторонние часы, которые пробили не сколько-то там раз, а прям сорок кряду, и мутантскую, видимо, кукушку, которая «гаркнула в трубу», да что-то социальное – про «наш тамбовский рупь».
12
Уже в полночь Леонид Морозов, успокоив гостей вновь посланным за сэмогоном гонцом, взял себе стакан и два мандарина (откуда они?!), ключ и ушёл в биологический кабинет, пообещав публике и спонтанно образовавшемуся распорядителю Мурзе, что через сорок минут придёт поужинать с ними и плясать.
Зашёл в класс, сел на парту, стакан поставил подле себя.
Всегда что-то делаешь, хочешь добиться чего-то, высокого, недосягаемого… Но иногда бывают моменты, когда возвращаешься на землю, понимаешь, что ты неудачник, и все твои действия ничтожны, мечты несбыточны, желания – грязь и пошлость.
Леонид Морозов понимал, что он не классический «первый парень на деревне» или «на весь край», как в той разухабистой песенке, но считал себя всегда, да и ставил частенько, выше других – уже давно принял на себя роль некоего предводителя всей бражки, хотя и как бы негласного и неофициального, почти что теневого, а как бы получалось – идейного вдохновителя, подстрекателя и зачинателя всех не имевших практического смысла и пользы дел.
Морозов был выбит из колеи, что за последнее время с ним случалось довольно часто. Вроде бы всё о’кей, ты на высоте – в этом мире, среди этих людей. А что эти люди? Они тебе не ровня… хотя перед Богом все равны…
Лёг на спину на парте, замер, рассматривая едва уловимые, расплывчато-инфузорчатые тени от хлопьев снега, которые транслировались светом от не так уж близкого фонаря у магазина из высокого окна.
Почему именно я должен ворочать этими грязными делишками? Шантаж, унижение личности… пьянство, наконец! Почему бы мне как каждому из «гостей» не прийти на готовое, поесть-попить, побарахтаться и обахвалиться в своё удовольствие?! Нет, господа-товарищи, я такой человек! типа чудика из рассказа Шукшина. Что, мне нечем заняться?! Я ж как-никак талант, творческая личность! Читай книжки, смотри фильмы («Самые громкие преступления ХХ века»!), рисуй, пиши стихи и прозу!.. А он – знай себе! То этот бардяный колхоз (хотя сейчас и к нему не подхожу), то своё хоз-во (нэвозъ!), то теперь вот фермеры… Это, конечно, дело нужное, без этого нельзя: деньги-то надо зарабатывать. Хотя, в бордэль, год на видак не заработаю… вместе с Сержем! А естся одна картошка… Да пьётся стаканище вонючищий – ужо тридцать третий раз!..
Ган привстал, потянулся к соседней парте, взялся за стакан, и, соотнесясь со своим полувидимым отражением в стекле, опрокинул его. Проморщился, отплевался, выделив одну дольку, закусил. Ещё – луна…
…Я человек-оригинал, хотя хвалить вроде себя и нельзя, но кто ещё похвалит… Опохабить – это у нас завсегда. Замнут, раздавят, и сам сгорбатишься – не успев и разогнуться как следует!.. Мой прадед пахал, дед пахал (передок у трактора подымал, хвалясь пьяною силой своей!), отец пашет, и я начинаю, втягиваюсь, как говорят…
Да мне уже третий месяц шестнадцать, а я к девчонке ближе чем на два метра ни разу не подходил! Даже танцевать пригласить не могу – даже Яночку! Глупой, они того и ждут! А может и нет; я же зачмырился (хоть бы и в своих глазах) и вид-то у меня наверное ещё тот… извиняйте… Профан-недоучка. Профан и дуб, как есть. Дуб-жёлудь!
Кто-то, тихо открыв и закрыв дверку, вошёл. Морозов очнулся как ото сна и приподнялся, мотая головой. Кристина. Чуть пригляделась.
– Что ты тут лежишь-то, Лёнь? Пойдём танцевать.
Ган вновь завалился. «И откуда тут бабы-то взялись – их же не было вроде?.. Да и поздно уже… И дверь я вроде бы запирал – неужели забыл?!» – неслось у него в мутной голове, свисавшей с парты, и видевшей картинку Кристинки вверх ногами – как когда-то ещё в старом клубе пьяный киномеханик «широкого профиля» (получивший за это извечную кличку Профиль) пьянищий заряжал бобины киноплёнки, забыв предварительно перемотать… и, на минуту бросив семечки, ему из зала орала в окошко завклуб: «Палыч, кверх ногами!»
Девушка принялась причёсываться перед стеклом шкафа и оправлять мини-юбочку – наверное, для Лёньки. Всё с расчётом – ничего, ведь смотрит. И поправит, и ногу подымет… Но Леонид никак не проявлял своего внимания – «ему не до этого» – ему всегда не до этого!.. А ведь симпотная девчонка! Просто не может он с ними…
– О, какие красивые рыбки! – подошла она к еле-мутно мерцающему аквариуму. – Похожа я на рыбку?
– Пошла ты в ба-арду!.. – протянул Ган безразлично, откинувшись– обмякнув совсем.
Пошла.
А он после встал, включил свет и хотел было выключить опять и насладится её образом, но запереть класс не получалось (замок прокручивался), да и не было уж настроения, было совсем противно, совсем уж совсем…
Он достал из широкого кармана своей любимой камуфляжной ветровки блокнот, который почти всегда носил с собой. Уже почти три года назад начал писать роман, и с тех пор… короче, много всего утекло… Читать свои произведения для него всегда было занятием неоднозначным, неприятным и разочаровывающим, но когда-то это надо делать – к тому же другим путём на вдохновенье в наше время и не выйдешь…
Кто и что может вдохновить?!.. Бардели эти, Бадорник, Мирза, Яха, Кристина?!.. Яночка…
13-epentheticum10
(Рхфкбр лхбыыикъ, эту главку в 2007-м посвящаю тебе!)
Russian Ninja
План
Описание места действия.
Действие романа (первое). О характере Леонида.
Критика обывателей и некоторых критиков. Второе действие – следствие первого.
Гл. I.
«Садись, очень хорошо, – одобрила учительница, – к доске пойдёт…»
Звонок прозвенел на три минуты раньше. Тщетно литераторша А. П. призывала записать домашнее задание. Дверь чуть ли не была выбита, все девять (!) учеников вылетели из класса.
Леонид со своим товарищем Мирзой зашагал по коридору родной школы. Да уж, тут не так, как в городе – во всей школе 120 человек! Но тем не менее, жизнь кипит: все куда-то спешат, девочки несут пробирки с какой-то синей жидкостью, торопятся учителя с пачками книг и плакатами под мышкой, резвится малышня, ребята играют в пинг-понг, двое содят Кукса…
– Смотрел вчера по телеку фильм? – спросил Мирза, еле поспевая за Леонидом: он был намного ниже друга.
– А, смотрел. Как они там дрались!
– Да, нам бы щас так! Он ему на!.. А тот саблей как полоснул! Не, а такой, в чёрном, ка-а-ак дал! Кия!! А он…
Мирза прервал изложение краткого содержания фильма: у дверей класса, куда они шли, стояли Трое.
Это была шайка. Все из 11-го класса, на два года постарше Леонида и его одноклассника. Это Жека Тургенев по прозвищу Брюс, переклиненный от пития Шлёпа и «полууголовник», как называли его учителя за какие-то недоказанные органами проделки, Лёха, по кличке Лёха Красный или Папаша. Короче, все проворные ребята, ходят «качаться» на тренажёрах. Брюсу наверно больше подошла бы кличка Арнольд: мускулы так и рвут майку. (Хотя мочится он с быстротой Брюса, а у Арнольда-то – один вид!) А у тех двоих – у обоих абсолютно ошалелый взгляд: один алкоголик, другой садист; что они делают в школе, а тем паче, в 11-м классе, для всех загадка…
Но вернёмся к нашим событиям.
– Э-эй! Чё ты замолк-то?! «Как он его кия!» А ну, ходи сюда! Ты, ты, иди, иди. Думали, сегодня увильнёте?!
Мирза остановился, стал отступать назад. Брюс пустился за ним, схватил за шиворот и бросил на дверь класса. Пролетев метра два, ученик распахнул своим телом дверь и приземлился уже в кабинете истории рядом с изумлёнными учителями.
«Ты чего врываешься-то с такого разгона?! Аж упал, бедный! Всё, завтра родителей!»
А Брюс занялся Леонидом.
Удар был силён, но Леонид попытался блокировать его рукой. Тут вмешались ещё двое. Пару ударов ногой «с вертужка» низкорослого, но прыгучего Шлёпы Леонид блокировал ногами (да, он неплохо ими работал!), но сзади неожиданно обрушился удар Папаши – видимо, тоже ногой – по шейным позвонкам, и он упал, едва не отключившись совсем. Потащили подальше в крыло коридора. Леонид сопротивлялся, заехал Жеке в морду. Тот дважды ударил его в живот, и по почкам сзади; в пинки долбили Красный и Шлёпа.
Прозвенел звонок. Весь помятый, Леонид пришёл в исторический кабинет. По истории он получил «четыре»: настроение, мягко говоря, уже не то, чтобы получать пятёрки! И такая побардень – каждый день!..
Пункт 1. Обычно пинчиют вполсилы, щадящее, как им кажется, играючи, но именно эти трое, пропивая последние мозги и совесть, в последнее время (раз уж последний год) не контролируют себя вообще.
Пункт 2. Леонид Морозов – незаурядная личность, умный, принципиальный и в то же время весёлый человек. Учится отлично, но отнюдь не отличник-очкарик, каких изображают в детских фильмах. Он самолюбив, малость грубоват. К сожалению, не имеет такой мускулатуры, как у Брюса.
Пункт 3. Начало неплохое. Конечно, учеников в классе можно было б и прибавить, ведь не всё же должно точно соответствовать действительности.
В пункте 2 сказано, что герой умён, незауряден, очень хорошо учится, а в гл. I он увлечённо беседует с «дубовым» Мирзой на таком же языке о какой-то, извините, побардени… Это свидетельствует о его, извините, дубовости. «Как они там махались!» – это мог сказать не отличник, а какой-нибудь хулиган вроде Брюса и его парней.
Друг Леонида меньше его ростом, его бьют, а Леонид стоит. Ждёт, когда очередь дойдёт до него. Последние слова «И такая дребедень – каждый день!» ясно дают понять, что описанное повторяется чуть не ежедневно, а Леонид, личность, терпит… Да кто ему не даёт посещать спортзал и «качаться», как это делает Брюс и его компания?!
Гл. II.
Учитель географии объяснял урок, что-то про размещение каких-то ресурсов по территории России. Леонид его слушал, но не слышал. Не сказать, чтобы ему было интересно, но и не сказать, что неинтересно совсем, и географию он, хоть и не сильно, но любил.
Он ничего не слышал потому, что смотрел на одну девчонку, Яну. Она училась с ним в одном классе, всегда была рядом… Лёне она понравилась, как нравятся девочки, ещё во 2-м классе. Сначала чувство было взаимным, а потом… Девочка повзрослела. Многие из вас знают, что за этим следует: на неё обратили внимание другие, ребята постарше, вроде Брюса – хорошо, что Брюс её брат… И она тоже обратила внимание на других…
Но Леонид не сдавался. Он не был настойчив, не приставал, как некоторые, не хвастался, не кокетничал – просто созерцал её красоту.
Яна Тургенева родилась в год Змеи, на год старше Леонида, значит, в школу пошла на год позже него… И она красива, но красота её не классическая: стройная фигура, чуть-чуть побольше, пообъёмней бёдра, но это не придаёт её фигуре дисгармонии, а напротив только украшает. Короткие тёмно-русые волосы, собранные в пучок сзади, прекрасная чёлка, нависающая над глазами, не яркие, но выразительные по своей форме губы, как будто специально предназначенные для сладкого поцелуя, прямой, может, даже чуть с горбинкой нос, не портящий общего впечатления, карие глаза, в которых печаль, страсть, любовь, вольнолюбие и апатия – апатия к жизни.
«Апатия» – вот те раз! – не сдержался от критики вполголоса нынешний Морозов. Хотя что-то такое есть… «Авария – дочь мента», апатия – спутник отличника (им задолбал!). С горбинкой! – ты про другое бы написал!.. Разглядел «горбинку» какую-то, а подумают: уродина прямо! Глаза карие – это да: те, у кого не голубые, не серые и не непонятного мутно-коричневатого цвета, всегда какое-то непонятное, опасливое ощущение вызывают!.. Что-то такое тёмно-загадочное, запретное в ей есть…
Между тем урок подходил к концу, и учитель географии спросил Лёню, какие факторы влияют на размещение объектов чёрной металлургии.
Леонид, конечно же, не ожидал вопроса. Впечатление было такое, что его разбудили после сладкого и продолжительного сна. Он встал, весь класс обратил свои взоры к нему.
«Слушаю вас», – обратился учитель к ученику.
Молчание. Янка тихонько хихикнула, все зашевелились.
Напряжение снял громкий школьный звонок.
«Ладно. Поговорим об этом на следующем уроке. Запишите домашнее задание!»
Леонид пошёл в раздевалку, впереди него гордо шествовала она… Он любил её? Не любил? Она ему нравилась? Who knows. Он сам не знал. Всегда уравновешенный, думающий о себе, о своих проблемах, об учёбе, о назначении жизни и месте в ней человека, он, сам не зная почему, всё время думал о ней.
– Лёнь, сегодня мы с тобой убираем в классе. Ты не забыл? – обратилась к нему Яна, положив свой пакет с книгами в шкаф в раздевалке (до этого директора раздевалки были общими).
– Нет, конечно. Подожди, я сейчас приду.
Новый директор ввёл новое правило: ученики убирают классы (поднимают стулья на парты, подметают, моют доску, поливают цветы). За каждым классом закреплён один кабинет – одноклассники Леонида поочерёдно убирали 7-й кабинет.
Леонид, как уже говорилось, не страдал особым благородством и вежливостью. И когда его очередь дежурства совпадала с дежурством другой какой-нибудь девчонки, он на её приглашение отвечал: «Делать мне нечего!» И, хлопнув дверью, сматывался домой.
Но с Яной он, естественно, не мог так поступить. При её виде у него подкашивались ноги и отнимался язык – какой уж тут хлопок дверью!
Леонид поднимал стулья, Яна подметала щёткой. Возлюбленная Леонида наклонилась, чтобы поднять бумажку – в узком проходе между партами; Леонид как раз проходил боком через этот проход… На мгновенье он нечаянно прикоснулся к ней – казалось, всем телом, всей душой – и особенно одной частью тела, почувствовал ее тепло, а она – его.
Пункт 2.
Леонид Морозов – человек разума, а не чувств. Любил ли он Яночку Тургеневу? Эту big fifteen. (Уже!!! – а ему ещё 13, скоро 14!). Сам не знает. Он не знает, что такое любовь. Он постоянно думает о ней, старается быть рядом. Он не может признаться ей в любви или даже пригласить на танец. Что он скажет ей? Что полночи не спит – мечтает о ней, полночи спит и видит её во сне? Что его пламенное сердце пронзила её стрела, что делает то, чего не хочет его разум?! Мать Леонида называет его эгоистом, и он, когда пишет: «Яна, Я тебЯ люблю!», думает, способен ли он по-настоящему любить её.
Пункт 3.
Во второй главе автор противоречит сам себе. Например, противоположные по смыслу предложения «Леонид не сдавался» и «Он не был настойчив». Мы также наблюдаем бездействие так называемого отличника на уроке и его «ответ». Если он ежедневно смотрит на девочек и «набирает в рот воды», то как же он может быть отличником и личностью? Пункт 2 гл.2. гласит, что Леонид человек разума, почему же тогда он не может выкинуть её из своего сердца и разума? Он же отлично знает, что она сестра Брюса, поэтому все его усилия напрасны. А если хочешь чего добиться, не будь таким пассивным!
Кроме того, одна сцена гл. 2 вообще имеет мало какое отношение к литературе!
Пункт 4.
Село, где имел честь проживать наш герой Л. Морозов, находилось в Центрально-чернозёмном регионе. Село было маленькое, всего около 700 (?) жителей. Люди тут проживали в основном (как вы уже убедились!) недружелюбные, необразованные, недалёкие и даже нетрудолюбивые. Конечно, имелся полуразвалившийся-полурастащенный колхоз и построенная им лет 30 назад уже знакомая нам школа. Но главной достопримечательностью села был новый клуб (или, как числился в бумагах, Дом культуры) – единственное двухэтажное здание в селе.
Гл. III.
В воскресный день можно пройти по всей «центральной площади» села и не увидеть ни одного человека (!). Золотой диск солнца сеет вокруг свои лучи; лишь изредка пушистое дырявое облако закрывает его собой; но всё равно через это облако, словно через решето, сыплются на землю сияющие зёрна, дающие жизнь всему живому на земле. Особенно опрятно в этот солнечный день смотрятся белые кирпичные стены СДК – с балконом и большим стеклянным фасадом.
Однако всё хорошо и безоблачно днём. Ночью тут начинается своя, совсем иная жизнь.
Гигантские тени закрывают собой бледно-жёлтую луну, и под ними гаснут даже звёзды – золотые диски солнц, находящихся за миллиарды световых лет от бренной Земли.
Какие законы действуют тут? Закон джунглей? Один за всех, все за одного? каждый за себя? все против всех?
Дискотека – вещь хорошая. Это знает каждый, кто хоть раз был молодым. Если спросить у вас, что такое дискотека, вы ответите, что, мол, это танцы. На самом же деле это мероприятие, участники которого не только танцуют, но и параллельно, вне зоны общей видимости, употребляют спиртные напитки, курят, «зажимают», трахают, иногда даже насильно, девушек, дерутся или попросту избивают кого-нибудь…
Тогда-то ещё «внимание на других» было совсем пустячным, но теперь уж совсем созрела, стала заметной – быстро и небрежно всех сельских девушек разбирают по рукам; кто никому не достался, поступил как-то не так или легко достался – так и идут по рукам – если заступиться некому (приличным родителям, старшим братьям-сёстрам, иногда учителям). Над Яной так и кружились «стервятники» – этот процесс виден невооружённым взглядом, но у неё братаны крутые на всю округу. А потом в таких случаях кто-нибудь стал несильно-иронично приговаривать следующее: у Янки в Васильевке Мареев есть (он же Лапа, такой же «держатель шишки» близкой, но не соседней деревни, лет на пять её старше!), милый женишок, видели, как обжимались.
Леонид быстро шагал по улице родного села; вокруг было темно; он спешил на дискотеку; за неимением друзей он всегда ходил туда один.
Мероприятие уже началось, в окнах зала играли разноцветные блики, воздух и стёкла сотрясала музыка. Быстрые широкие шаги приближались к Дому культуры. Поздоровавшись за руку с дюжиной падцанов, стоявших на пороге, Леонид вошёл.
Картина была приятна глазу. В полумраке, в поочерёдном мерцании разноцветных огней, в каком-то ярком оранжевом свете, который то загорался, то быстро потухал, в оглушительном воспроизведении музыки плавали молодые люди.
Представители мужского пола танцевали, ритмично переставляя ноги под удары барабанов, отдельные экземпляры, разгоряченные самогоном, раскраснелись, поскидывали с себя свитера и спортивные костюмы, оставшись в одних майках – невозможно описать, как они выплясывали и прыгали!..
Ну, а девочки? Девчоночки… Как они танцуют! Мини-юбочки, разноцветные лосины, плотно облегающие их самые красивые части тела, повторяя все изгибы, все округлости… Девочки в модных мини-юбках, в леггинсах, в джинсах, накрашенные, размалёванные girls… Что бы там ни говорили (а я читал «Отцы и дети» – пытался!), как они хороши, современные девушки! Конечно, краситься надо поменьше, но это уже не мой вопрос.
Яна танцует прекрасно. Жаль только, что с другим… Леонид любовался ею, и сердце его сжималось. Он стоял, как зачарованный, и ему было всё равно, мерно ли пел свои гимны Цой или поддавал жару некто «Кар-мэн».
– Ой, кого я вижу – шаршавый! – это был Папаша Красный, это были Трое. Жека Тургенев с Красным подхватили Леонида под руки и поволокли поговорить.
– Куда вы меня тащите? – обратился Леонид Морозов к своим конвоирам.
– Щас узнаешь.
Процессия вышла из дома культуры и зашла за его же угол, где было темно от зарослей американки, где находились кучи щебня, битого стекла, всякий мусор и импровизированные уборные.
– Ты не бойся, – вежливо предупредил Брюс, – мы тебя бить не будем, только раза два об угол долбанём.
Леонид, как это ни странно, почему-то хихикнул.
И начали избивать. Леонид сначала начал сопротивляться, но потом его кто-то толкнул на кучу камней и битого стекла. Трое расположились треугольником вокруг Леонида и ударами не давали ему встать.
«Бой» шёл без правил – не до какой ни «до первой крови» – когда бьют не по лицу, а по корпусу, крови нет. Когда содят не по лицу (по туловищу, в том числе отбивают почки, лодыжки, предплечья и другие части тела), это ещё не конец света, но поверьте мне на слово, ощущение не из приятных!
После окончания процедуры Брюс презрительно процедил:
– Слушай, пацак несчастный, мне что-то сказали, что ты возле моей Яночки ошиваешься. Ещё раз увижу – ты меня знаешь. Понял?!
Ночь была тихая; только беззвучно дул холодный ветер-бродяга, которому, должно быть, как и нашим героям, не спалось этой осенней ночью. Из клуба низкими волнами вибрации доносились звуки музыки, кровь стучала в ушах, Трое никак не могли отдышаться.
– Ты понял, рыдван?
– Паштет, я не понъл! Ты понъл?!
– Понял-нет??!!!
– Понял…
Пункт 3.
– Пойдём, всё уже там спрятано, – пригласил некто Яха своих товарищей-одноклассников Мурзу и Морозова.
Они зашли за знакомый угол ДК. Низкорослый ученик, лентяй и лоботряс Мирза, он же тихоня и трудяга, полез в заросли сорной травы и извлёк оттуда припрятанную ещё днём «чтоб не запалили дома» бутылку самогона.
– Наливай мне, – приказал Леонид.
Пропустив сто граммов и закусив маленьким яблоком, Леонид отправился опять на дискач. Как же он танцевал! Нет, как же он плясал – или как это можно назвать ещё!.. с горя человек пляшет так, что его сердце бьётся с частотой 50 герц!
А со ста граммов дешёвого напитка Леонид не запьянел, и вообще он никогда не пил и не любил пить».
14
Перечитав начало, Леонид понял, что продолжить рассказ было решительно нечем. С тех пор особо ничего и не изменилось. Троица, правда, уже благополучно побросала школу (один Губов второй год ещё колеблется!..), и сейчас с удовольствием вон участвует в барделях, и содить уж, конечно, не содят, и издеваться им теперь уж никак не с руки, но особой теплоты от подобных типов ожидать не приходится… Но определённый укол вдохновения – неотделимый от всегдашней своей «оборотной стороны», изнанки-подкладки, побочного эффекта, и как бы контр-анестезии, порождающей невыносимо-нудящий зуд, побуждающий, дабы забыться, к действию письма – то есть укола задетого своим бездействием самолюбия, ущемлённого беспомощностью и тщетой тщеславия, – всё закольцовано – он уже почувствовал… Решил сделать ход конём: написать не прозу, а стихи – не на какую-то тему, а просто «передать своё эмоциональное состояние». Так-то проще…
Одна ночь
(одинокая поэтическая ассоциация)
Это дольше, чем плавится воск сотен свечей Это больше, чем сделал род земных палачей Это ярче, чем свет миллионов слепящих солнца лучей Зла маскарад, игра огня и крови В одну из тёмных чёрных ночей Красное солнце зависло над градом Звездопадом калёных лучей Гладь лазури покрылась кровью ада Пронзённая сотней мечей…Блин, «лучей» и «лучей», и «мечей»! «Слепящего солнца» может лучей-то? «Гладь лазури»… «Лазурная гладь»… «Гладь-лазурь», наверное, всё же понеобычней… Факен ведь! – как начнёшь анализировать и перебирать варианты, думать о рифмах этих несуразных (в рот бы ему компас, кто их придумал – как моряку-указателю на Острове сокровищ!), так и вообще сбиваешься, и всё куда-то уходит, разваливается! – лучше уж гнать, как есть – может, потом проверю… Как там?..
Свет, исчезая, тьму порождает Тьма есть оружие зла Солнце навеки нас покидает Звезда, что гниение жглаНеплохо прям. Можть и сразу, ещё в первом куплете, «багряное солнце», а не «красное»? – «красное» уже как-то заезжено, обыденно… да и «багряное» заезжено… – в стихах. Да и вообще что такое «багряное» лично не знаю. Да а лазурь-то что за сухофрукт?! В жизни не слышал в жизни таких словес! Ну ладно.
Показалась, засветила луна, высокая, ярко-белёсая. Стакан выделяет рубчатую тень. Надо его наполнить! До половины, конечно. И он не полуполный, не полупустой, а самый полулучший (полулунный!), самый простой – ready for a dance! for a romance! Come on, everybody dance now! Come on!
Что-то я уже пьян немного, чё-то ору!.. Впрочем, там не слышно: там свой музон и гвалт. А здесь какая-то непонятная тишина – когда смотришь в окно: на тихий снег, падающий дождём, на еле ползущие по стеклу капли и закрепляющиеся узоры, на небо, льющую свет луну и летящие по ветру облака… когда лежишь в темноте один… Как будто всё остальное тебя и не касается, как будто ты смотришь на всё со стороны, как кино, а не участвуешь… Щас бы только Яночку – чтобы она тоже лежала со мной и наслаждалась, отдыхала, думала, недоумевала…
От такой тишины, безмятежности и гармонии почему-то ещё больше хочется выпить… Да и Яна!.. Ну, давай, за неё!
…И сама, допустим, школа эта… странно всё как-то: бабушка рассказывала Морозову, как она строилась, потом в ней учился отец, учились почти все учителя, все родители, или все, кто старше на 5, 10, 15, 20 лет… И представлялось почему-то, как, придя на кладбище с бабаней помыть оградку дедушкиной могилы, рассматривал на крестах и памятниках фотографии односельчан и слушал её комментарии: короткие, ёмкие, отчасти иронично-едкие истории жизни, достойные, как ему показалось, чуть ли не чеховского пера. И многие были как раз как на подбор учителями, завхозами и уборщицами в этой школе! Сколько она ещё простоит, облупленная, построенная колхозом в честь 45-летия Советской власти?.. Колхоз рухнул, власть тоже, и всё вокруг тоже понемногу даёт крен и трещины… А он сочиняет стихи!
Ночь прозрачна и свежа Для зелёных дисков-глаз Хочется им есть с ножа Мясо каждого из нас!
Всё горит, и пляшут тени – Лужи крови на траве Хороводы привидений В черноте и синеве…
Вспомнилось, как учитель по прозвищу Рыдван хмыкнул и высказал как раз то, о чём Леонид часто думал, но никому не говорил: «А тут, прикинь, парта такая вся разрисованная, старая, ободранная стоит с табличкой: „Здесь сидел Леонид Морозов“!..»! Иногда представлялась предыстория: как будто он после какой-то очередной своей спорной фразы на уроке литературы не сдержался и добавил совсем уничтожающе-окончательный или совсем уж поражающе нелепый аргумент: «А вы вообще, вся ваша школьная лит-ра, по сравнению со мной есть только нечто временное, бренное-дрянное. Например, вот на этой парте…» Ведь мы живём в век, думает он (а может и говорит), когда оценки в категоричной форме – а тем более себя – даются только детьми, подростками да ещё учителями! И он говорит это учительнице не потому, что не уважает её, А. П., и её мнение, а наоборот, как нечто интимное, сказанное именно для неё одной. И это же как будто снится во сне… Только где это мог услышать Рыдван?!
Чернота и гладь болота Закипела Извергая свет и гадость Слыша зов, сова запела Предвкушая пира сладость А в лесу лежит луна Потонув в болоте Крови напилась она На своей работе…
Всё кроваво Лес горит, и кто-то стонет Ветер взвыл, огонь не спит Он зверьё из чащи гонит…
Возле огненной жары Электричества шары В темноте души поэтов На горе круги – пляски чёрных силуэтов!..
Тоже мне сломенно-золотой-бревёнчатый Есенин туев, тёмно-пещерно-кровавый Гумилёв с фамилией на «лёв» и с рифмой «зёв», мельхиоровый ты наш, фильдепёрстовый, Манденьштамп! Кто так литератора? Не поверите: тот же, кажется, Яха или Сибаба! И не по остроумию – просто читать плохо умеют. На каждом написано: «Коновод»!.. «Купание красного коня», рассказ Бианки «Сомята», Паустовского – «Ёж»!..
Пахнет плесенью и гарью мяса Плач ребёнка, волчий вой Расплодилась ночи раса И зовёт нас за собой…
Слышишь шёпот в тишине Сквозь биение часов? Это он зовёт: «Иди ко мне!» Запирайся на засов!
Спиртное, невыразимая тишина, стихи и одновременное погружение в мысли…
И не заметил!..
Знаю и помню, как она движется, двигается… не только как она смеётся, вздыхает, зевает, но и как дышит, чихает, сморкается… одёргивает блузку, подтягивает штаны… представляю, как она писает…
Каким-то другим зрением вижу, как она входит – именно она! – плавно, но и чуть шаркая, подходит, почти подкрадывается ко мне сзади и закрывает мне глаза ладонями: известный жест «Угадай кто!».
Гаснут костры, клубится туман Чёрным распятием угли…
Чувствую лёгкое прикосновение её мягких влажных пальцев. Помню, как они выглядят: вытянутые и чуть смуглые, с заострёнными ноготками, какими-то бесцветными, с белыми точками на них… помню и всю их историю – и оперативную, мало кому заметную: как краснеют ладошки от перемены температуры или эмоции, и что она с ними делает – тихо-незаметно ломает, хрустит суставами, суёт в рот кончики, – и длинную, которую зафиксировать вообще никому не придёт в голову, которую не помнит даже её мать: какие руки у неё были всё это время (ведь наблюдаю со второго класса!), как они изменялись, как она грызла ногти, чесала их и ими, как была бородавка на правой, и на левой – коричневатый йодово-засохше-кровяной бинт, а потом беловатый шрамчик…
В чащу лесную ползёт караван Загар настроений смуглых…
Помню её всю: фигуру, мимику, жесты в разных ситуациях, глаза, губы, язык, зубы, открытые участки кожи, рубечик от трусов, а чуть выше рубец от штанов… В сущности, я видел её всю, всё её тело исключая только четыре небольшие окружности вокруг четырёх точек, скрытые тремя треугольниками… ну, или четырмя…
Как змеи сползаются тени в болото В фосфоре раны лизать На них стрелы света открыли охоту Ночью всё начнётся опять! Небо порвав, сквозь гнойную рану Звери и люди – кто уцелел
Нет, в купальнике он её никогда не видел, видел только, да и то всего раз, мелькнувшие из-под относительно короткой юбки ляжки (итого 60% кожи) – кожа на них показалась гусиной, даже какой-то грубоватой, но, может быть, только показалось.
В мучениях страшных рождает оно Возводят кривое распятье Капли крови брызжут фонтаном Они не боятся этих стрел – На белое-белое полотно Боятся проклятья.
Я узнаю её тепло, её запах…
Взвилось пламя выше неба Выжгло всё до черноты Силам тьмы поджарив хлеба Все ослепли как кроты!
О Яночка! – это она! Сама пришла ко мне, я кладу свои ладони на её, как бы обнимаю их, чуть дрожащие, тёплые, с колечками-недельками…
Ещё час, а может дольше Дотянуть бы до утра Сотни их, а может больше? Петушиное ура!??Было это или не было, непонятно. Ему казалось, что его надежды, желания и фантазии настоль сильны, что скоро воплотятся просто сами по себе. Потом говорили даже некоторые, что она сидела у него на коленях, а он кормил её виноградом и апельсинами.
15
Среда, 9 марта, 8:12С тяжёлым сердцем Бадор открывал дверь школы, мучительно вспоминая недавние события. Всё было как во сне… И как же ему не хотелось идти на работу – в первый раз наверное за всё время! – хотелось куда-нибудь уйти, скрыться – куда-нибудь далеко-далеко, где никого нет, нет этого стыда, этой мерзости, а только сияет жаркое солнце над ярко-зелёными холмами, мирно пасутся овцы, пахнет мандаринами, гранатами и свежим хлебом…
Некоторые ученики, здоровавшиеся с ним, не скрывали улыбки до ушей, а товарищ Губов даже громко и нагло засмеялся при виде потемневшего лицом и душой педагога.
Зашёл в учительскую. Комок в горле.
– Зд-равствуйте…
Директор отвернулся к окну.
Набиравшие какие-то карты и пособия двое учеников, переглянулись и чуть не сгыгыкнули. Показалось, что учителя тоже.
Он всё мялся, пытаясь приладить на рычаг вешалки свою промокшую ондатровую шапку. Плащ уж он не знал, снимать или нет. Да и шапка-то никак ещё…
Все куда-то отворачивались, отводили глаза, стеснённо лыбились. Директор вообще уткнулся в окно и так прямо и не отрывался, что было совсем невыносимо, поскольку всё равно всё должен разрешить он…
Наконец, секунд только через девять, вдоволь насмотревшись в окно и настучавшись карандашом по столу, Кенарь выдавил из себя:
– С-ор ***вич, пройдёмте в кабинет. Нам надо поговорить.
Бадорник покорно пошёл за директором. Учителя опять переглянулись и как бы отмерли: опять заверещали о вчерашних сериалах, запогоняли учеников с картами и засобирались на уроки.
Директор пропустил учителя, вошёл сам и запер дверь.
Бадор стоял как провинившийся ученик – правда наверно, как оный лет так с пяток-десяток назад – сейчас как правило стоят навеселе, и смотрят туповато-наглым взглядом прямо на тебя – «как ни в чём не бывало» – или в потолок. А он смотрел вниз, в пол. Директор сел в своё кресло, однако коллегу сесть не пригласил. По обыкновению перекинул лист настольного календаря и что-то написал.
– Итак, как вы объясните своё поведение вечером седьмого марта?
Бедный учитель совсем упулился в пол. Ему было пришло на ум сказать «Никак», как обычно на такие вопросы отвечают ученики: «Где вы были?» – «Нигде», «С кем вы были?» – «Ни с кем», «Когда вы туда пошли?» – «Никогда» – но, слава богу, он сдержался…
– Кто разрешил устраивать дискотеку?
Если бы мог, Бадор покраснел бы.
– Где вы взяли ключи?
– Ну… у…
– Где?!
– У технички спросили… домой сбегали…
– Объясните мне, что за самоуправство. Молчите? Ну и молчите. – Директор почему-то сам решил, что никакого ответа не будет. – Объясните в письменном виде. Я вам тоже в письменном.
Педагог только шмыгнул носом – как уж совсем плохой нашкодивший ученичок.
– Вы были пьяны? Нет, вы были! Чуете, чем дело пахнет. Одним выговором… гм-гм… перегаром! – не отделаешься. Смотрите, я не шучу. И вот это вам тоже, – довольный своим каламбуром, Кенарь почти швырнул по столу своему подчинённому листок с цифрами материального ущерба школы за последние два дня, а сам опять отвернулся смотреть в окно (то самое).
В списке значились: четыре стула (расшибли), стол для настольного тенниса (на нём стояли и барахтались, в результате чего отвалились ножки), мусорное ведро (смято, как выразились поутру второклассники, в плюшку), а так же «экспонат рыба (вписать название)».
16
10 мартаСерёга направлялся к собратьям-фермерам. Он давно не видел Белохлебова: тот вроде ездил в Москву себе за джипом.
С задов, со двора Белохлебова было слышно издалека.
«Вечно он ругается, – подумал Серж, – а как всё же складно и занятно у него получается!»
– Ой, пахабный, пахабный!.. – с интонацией бабки причитал фермер.
– Здорово, дядь Лёнь, привёз джип?
– Здорово, Серёжка! Ой, что приключилось! Иди, Саш, домой… Кролика там моего покорми. Да подольше! Ну, то есть это… побольше. Кроличек мой бедный маленький… не растёт ни манды… И всё из-за тебя. Иди, иди!..
Сажечка смухордился, сгорбатился и молчком, хотя и нехотя, как-то боком пошёл во двор. Отошёл немного и прижук11 за техникой, слушая.
– Ой, Серёжка, приехал я в Москву за джипом… да с радости прям в уматень и насандёхался… Приезжаем с Сажечкой в магазин… А уж это… того… мне так плясать прям и охота… гулять, в общем, обмывать. Ну, в смысле чего тянуть-то до вечера – не кажный же день джипы японские покупаешь!.. А этому, суке-падле, я пить специально не позволял – мало ли что… И вижу: какой-то подходит, вроде нашего Бадорника, только не с носом, а жёлтоватый, маленький, чуть поболе Сажечки, наверное (два фермера оба сильно хмыкнули), и это… узкоглазый – типа японец. (Ага, знаю я вас таких японцев!) Выбирайте, говорит. Ну, вроде как по-нашему баит, а как бы и не по-нашему – и не могу понять, понятно или нет! Сюсюкает, кивает, кланяется чуть не до неприличия. А мне-то плясать охота, бутылка уж в «Камазе» лежит початая, уж прям думаю-представляю: щас прям до ближайшей обочины, до какого-нибудь мотеля там… мотыля этого ихнего… гармонь в руки, Сажечку, и давай наяривать – а х… рли, плохо живём, что ль?!
Ну ладно, купить-то надо – кое-как себя в руки взять… Начну, думаю, с самого маленького – вдруг денег не хватит. Ну, сколько, спрашиваю. Ить-ди-сять миль-ляо-нив! Не, ты представь! Спасибо Сажечка-профан трезвый, меня удержал, а то б я этого крококота японского прям там и придушил! Потом отошёл немного, отдышался, подзываю опять и говорю: чё, деньги прям тут отдавать, и забирать откуда – прям отсюда? Отсюдя. Я уж за руль прям наловчился. А япошка и говорит: этот не трожьте, это типа для мод’ели, а забирайте, вон тот, второй из стеклянного коридора. И всё равно, говорит, его протягивать надо, прокачивать, проверить комплектацию, сервис… Так что пока что вы не сможете уехать – посидите немного, подождите, попейте чайку – у нас, кивает-подзывает, по типу для гостей, дешёвая цайная царемонька… Я вам щас покажу церемонь! Меня прям, Серёжка, зло взяло! За свои деньги уж и ни выпить, ни закусить! Я, говорю, полжизни на этот джипарь ишачил, а вы мне чай какой-то бесцветный, не отварившийся, в какой-то солонке, куда и сто грамм не влезет, с помазком каким-то для бритья – за полторы тыщи! Ан он лопочет: мол, кункуренция, специальные услуги для вас… Они сбежались, желтоватые, и лопочут: сяке. Я говорю: чё саке, водки себе! Ну, и стали угощать: стопарики маленькие, маходочка какая-то, из которой подливают… Этот-то не пил – вернее, я ему не велел… И, Серёжка, что твоё самогон, только подогретый, как только что со змеевика, не особо вонючий и прям слабый совсем!..
Короче, я в разнос, весь в чувствах… в патриотических, можно сказать… Ну и прям в дуплет; Сажечка дуб… Приехали вчера утром, разгрузили, стали спьяну заводить – не заводится. Посмотрели по приборам: бензин есть, масло есть, аккумулятор, генератор – всё есть… Капот открыли – нету!
– Кого? Чего, дядь Лёнь?!
– Ничего! Мотора нету! Опрофанили! Всучили какой для рекламы стоял!
Для пущего трагикомического эффекту Белохлебов попытался даже изобразить, что плачет.
– Я, Серёжк, короче – беру двухстволку, дубинку, поел, похмелился, Сажечку покормил, кролика… И тут же поехали обратно. Я еду, Сажечка спит; потом наоборот. Приехали всё равно поздно. На магазине: «Закрыто». Я раз – дверь заперта, а там кто-то есть. Я постучел. Подошёл какой-то профан в желтоватой такой форме. Я ему через стекло: мол, открой, машину-то поменять. А он: шиш с два! Я ему два ствола и показал. Он типа: щас тогда. И боком-боком убёг (как вот Сажечка, кхе-кхи!..). Приходит, значит, ещё с другим, и смотрю: открыли. Я говорю: где японец такой вот? Нету! Как нэту, в рот мне напасть?! А чай с кем пили, чачу-то эту?! У меня ажник две палки ихних обструганных с собой остались в кармане! А он: «До свидания» и всё тут. Я его саданул прям прикладом в мырду, а второго – дубинкой Сажечка в ло… в лодыжку только достал (опять оба хмыкнули от смеха), ну а я потом сразу прям в лоб… и дальше пошли искать по всем коридорам, а после и на другой этаж поднялись… Тама, сука, сидел, тама! Я его взял за челюсть и ружьё приставил. Он тут взмолился: «Исинитя, я потёмь сямя узналя, чтё ви экспонятю на мод’ели взяли». Я те таких дам «на мод’елях»! Он пятнадцать лимонов из кармана вытащил – и пять ещё из кармана! Смекаешь, Серж, а?! Я пятёру себе в карман положил, а пятнадцать эти оставил, зато взял другой джип, предварительно его весь оглядев. Только выхожу – менты. Я назад. Чё ж делать, думаю. Взял Сажечку, голову ему тряпкой обмотал – типа это японец ихний – ну, как бы заложник. И так под стволом его и вывел. А сам думаю: щас подмогу вызовут, план «Перехват» и поминай как звали. А пуще того – ехать надо, а чтоб тронуться, ружьё-то никак не перехватить… А ментов-то всего двое, на одной машине… И тут этот куркуль полуяпонский взял и швырнул им деньги – причём мои!
– Пять лимонов?!
– Да нет! Там мешок лежал с десятками – сам он набирал их.
– Кто, дядь Лёнь, японец?
– Ды Сажечка, кто! Лет пять набирал в машинах округ лобовухи лепить. Тыща штук! Рассыпались на асфальте – менты подумали наверно, что крупняк из магазина, и давай на коленях елозить – собирать! И так и оторвались от нас, а мы от них, а вот деньги-то жаль-жаль… мои ведь кровные…
– Да почему ж твои-то?! – высунулся из-за тележки Александр-свет Подхватилин, который, судя по всему, уж давно слушал.
– Потому что я тебе плачу, конократу, а ты ни хрена не делаишь!
«То пятьдесят, а то уж двадцать стало!.. Да и вообще… Вот горазд же дядь Лёня заливать! – усмехнулся про себя Серёга, – а мешки кому ворочать у него есть».
– Нет там никакого кролика! Какой был, полгода назад уж потушили с картошкой – когда бухали-то три дня, Бугор приезжал за жаткой!..
Белохлебов посмотрел на своего подручного с таким выражением, будто тот самовольно вдруг взял и запротиворечил всем законам физики, причём установленным, видимо, ни кем иным, а им самим самолично, прапором и старшим фермером, дядь Лёней Белохлебовым. Сержу было даже очень интересно, продолжится ли этот цирк далее и чем он закончится.
– Так ты что, ослиный ты сучок, хочешь сказать, что всё это время ты его не видел и не кормил?!! – вполне даже натурально обрушился на него Белохлебов.
– Хватит представляться. Ты уж совсем, что ль, – тихо молвил Сажечка, – делов вон по горло…
– Ты что там курлычешь? Я тебе покажу горло! «Oт сука-то-тварь, а!
– Ты мне лучше кролика покажи, – еле слышно произнёс супостат, и Серж чуть не заржал.
– Махонький такой, вислоухий, коричневатый, с желтоватым таким… – чуть не застонал раскуражившийся Белохлебов, начав тереть глаза и, видимо, даже пытаясь расплакаться.
– У тебе все чё-то желтоватые… – ещё тише, но уже претендуя на остроумие, вставил Сажечка, и Серега уж быстро отвернулся и как мог бесшумно отплюнул смешок в ладонь.
– Коряжник! Красный, б… ть, карлик! – взорвался Белохлебов и пустился, схватив какой-то патрубок, за помощником.
– Серёжк, Серёж, ну скажи ему! Ну пойдём во двор посмотрим! – вещал на бегу Сажечка, только припрыгивая по железкам, лужам и доскам, а Серёга уже в открытую удыхал над очередной фермерской клоунадой.
17
Просмеявшись над импровизированным выступлением дуэта Белохлебов – Сажечка, Серж спросил у фермера трактор – продолжить обкатку (дюжина часов ещё осталась) да доехать до Бадору передать ему распоряжение Гана о новой дискотеке.
– Какого ещё Гана?! – недоумевал выскочивший в трусах и запахивающий на ходу халат учитель (наверно, оторванный от дюжей супружницы-энтузиастки или из душа, который есть только у него).
– Простого! Да передал съездить в город закупить продуктишек. Вот и список. Объявление щас повесим тоже. Поторапливайтесь, а то гости придут, а там шаром покати!
– А… а… м-меня дэ-дэд… дэректор ругал!.. – заикаясь и запинаясь, дрожа босиком на пороге терраски, прокричал Бадор, пытаясь сдержать дверь, в которую за ним стремительно лезло кашпо-макраме с пожухшим от мороза лимонником, а из-за него – жена.
– А я вам что! – равнодушно отмахнулся юный ученик, газанув в луже, так что во все стороны повалил дым, полетели грязные брызги, льдинки и ошмётки грязи.
– Чиво? Не поняль я!.. – орал учитель с порога.
– Дорогу, говорю, в следующий раз подготовь, а то не подъехать. – Подшутил Серёга и хотел уж было трогать, как запнулся взглядом о знакомый, интригующий в некотором роде (об чём ещё расскажем), предмет. – Очищалку я, пожалуй, в школу отволоку – а то гости дорогие придут, а сапоги-то обчистить только по очереди. – Передав и заявив всё, что было нужно, Серж развернулся, выбросил трос, спрыгнул сам, зацепил крюком бадорникову только недавно поставленную, только по морозу вкопанную учениками очищалку12, запрыгнул обратно, тронулся, помахал ручкой и, легко выдрав из земли трофей, поволок его прочь.
18
11 мартаНа фасаде лучшего в селе здания – Дома культуры, а не магазина, канторы или свинокомплекса, как у прочих – красовался прямоугольник неровно оторванной, какой-то чуть не обёрточной бумажки, где корявыми буквами тушью сообщалось, что фильм такой-то (6-й категории качества плёнки) начнётся в 20.30 и цена билета 200 руб. Что само по себе событие неординарное, поскольку в новом клубе всю зиму фильмы не демонстрировались из-за холода в кинозале, сбоев кинорассылки, да если честно, ещё из-за регулярной профнепригодности уже упомянутого бессменного Профиля, и означало сие, что начало дай бог в десять, и если денег нет, можно и не платить – главное прийти, да лучше с самогоном иль с семечками.
Вот где обретаются истинные ценители синематографа! Когда в зале около нуля и почти столько же зрителей. Или когда на «Джентльменов удачи» местные джентельмены едут на тракторах и комбайнах прямо с жатвы и ржут до слёз, а куда пуще народу (собираются из соседних деревень) над практически любой лентой с пометкой «Пр-во Индия. 2-х сер.» медитируют круче, чем над показываемым тоже в клубе живым йогом, ходящим по стёклам и глотающим ножи, и плачут, и потом пересказывают… Или когда Профиль с полупьяну написал: «Кинг-Конг в английском парке» и собралось народу зело – только неделю назад с грандиозным успехом прошла вторая часть про власатую мегаобезьяну, и вот те на – сразу третья часть – «В английском парке»!!! Когда только снимать успевают!.. Оказалось – всего-то навсего «Канкан…»!.. – а что это такое? думаете, кто-нибудь знал?! А, например, в названье другой кинокартины входило словосочетание «Банда лесбиянок», и все друг у друга переспрашивали, и ответ был один и тот же: ну это типа обезьянок, Профиль наверно опять перепутал!..
Рядом с рукотворной киноафишей теснилось и наше скромное объявление – в виде плаката почти метр на метр.
«ДАМЫ И ГОСПОДА! ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
12 МАРТА В 20.00 ЧАС.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
НОВЫЙ ЦЕНТР ФИРМЫ «РОССИЙСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД» В СР. ШК.!
СТАРЫЕ И НОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ!
РАБОТАЮТ БАР, РЕСТОРАН, ДИСКОТЕКА
(ПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БЛЮД, НАПИТКОВ И МУЗЫКИ!)
(ЭТО ЕСЛИ ВАС НЕТ В НАШЕМ СПИСКЕ!)
ЛИЧНО И БЕСПЛАТНО ПРИГЛАШАЮТСЯ:
В списке значились, кроме прочих, Белохлебов с Сажечкой,
а также Яна (1-Й СТОЛ)
ОСТАЛЬНЫЕ – 2-Й И 3-Й СТОЛЫ
ВНИМАНИЕ: РАБОТНИКИ ШКОЛЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!
РАСПОРЯДИТЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ (В СТИЛЕ «Я ТВОЙ СЛУГА,
Я ТВОЙ РАБОТНИК») – С-ОР ***ВИЧ (БАДОР)»
Директора по прочтении сего чуть удар не хватил. Он стоял в луже воды и не мог тронуться с места, словно примёрз. «Что за наглость! Не верю своим глазам! Не может же такого быть!» – повторял он про себя словно какое-то заклинание.
Он сам имел слабость обратиться к вверенной ему пастве с письменным словом – таким же категоричным, таким же широким и мелочным, но куда более скромным: отпечатанном заглавными буквами на машинке чуть не на осьмушке листа, приклеенной к двери десятью каплями бумажного клея.
Пока он повторял и пытался стронуться с места, подъехал автобус, из него вылез довольно уставшего и озабоченного вида учитель математики с огромной сумкой на горбу, из которой торчала колбаса и которая (сумка, а можть и колбаса) прям при первых его шагах начала сильно позвякивать.
«В морозном-то воздухе… – подумал мельком директор, – и кабы и вправду не примёрзнуть…»
Завидев босса, учитель сделал вид, что не заметил его и очень затрусил, непристойно гремя содержанием сумы, по направлению к дому. Кенарь всё же стронулся (хоть и не сразу) и припустил за ним.
– Стойте! Стойте, кому говорю!
Бадорник прибавил ходу, но сумка тормозила его – а то бы он пустился бегом.
– Постойте! Мне нужно с вами поговорить!
Но не тут-то было – тот лишь ещё припустил, спотыкаясь и подпрыгивая впотьмах на замерзших кочках с несуразно огроменной челноковской сумкой на горбу. Кенарь, решив про себя несколько раскрепоститься от рамок приличия, наконец побежал, тоже резво и сбивчиво припрыгивая по лужам и застывшим гребням грязи, и совсем не сбивчиво, а прямо-таки с регулярностью метронома отмахивая (словно помогая и регламентируя ход) себе ручкой.
Настигнутый учитель наверно почувствовал себя как мыш, только что пойманный котом. Директор тоже уж чуть было не заурчал как обрадованный добычей котище.
– Я просил вас остановиться!
Бадорник перекладывал тяжеленную поклажу из руки в руку и топтался в грязи. Видно было, что промедление ему ни к чему, и остановился он уж по крайней нужде – когда начальник забежал ему наперёд.
– Я вас не заметил… Простите, очень спешу, – вынужден был он выдавить из себя, отворачиваясь, переминаясь и порываясь обойти досадную помеху и попросту свалить.
«Ну и дела! Это уж совсем! Ладно ученики – учителя уж распустились!»
– Гм, – сверхдотошный директор, не зазря прозванный Кенарем (кенаром), любивший доматываться по самому малому пустяку и разводить всеразличные административные обсуждения-осуждения (трели), при столь крупном инциденте не знал даже с чего начать. – Как вам… как прикажете понимать… ваше объявление?!
– К-какое об-бъявление?
Директора даже всего затрясло, и он не находил слов.
– Значит так. Короче говоря, вы – в школу завтра вечером ни ногой! Я скажу уборщицам, чтобы ключи не давали. Не дай бог… Я это дело так не оставлю, вы меня поняли?
Бадор что-то пробурчал в усы, и всё-таки более-менее удачно миновав препятствие, за время разговора существенно забрав вправо – к оградке сельсовета (с новыми очищалками!..), как ни в чём не бывало вновь похромал по тьме и бездорожью своей дорогой.
19
12 мартаВ этот долгожданный и торжественный день не сказать, что с утра, но уже с обеда над школой развевался российский триколорный флаг – да плюс ещё с зелёной лентой с надписью трафаретом: «RUSSIAN DISNEYLAND».
Ровно без пяти восемь вечера двери заведения широко распахнулись и приветливый официант Бадор в своём лучшем кремовом костюме, с какой-то несуразной пластмассовой розочкой в кармашке (от венка, что ли?), очень похожий за счёт всего этого на Амаяка Акопяна, слегка кланяясь, запустил внутрь Гана, Серёжку, Швырка и ещё нескольких особо ставоранных13 и настырных гостей.
Внутри по бокам дверей, возле раздевалок, стояли господа Губов-Шлёпин и Папаша-Красный, не сильно пьяные, но явно поддатые и очень явно в надежде ещё, и что самое интересное, тоже обряженные – в какую-то не понять откуда у них взявшуюся застиранную до неприличия солдатскую форму, с ещё более несуразными розанчиками в петлицах и с ещё куда более несуразными серьезными выражениями на их грубоватых и видавших многие «и не такие» виды лицах. Единственное, что было вполне органичным, ожидаемым и оправданным всеми законами жанра, так это то, что в руках они сжимали резиновые шланги от топливных насосов (с железными гайками на концах) и использовать их, судя по лицам и наряду, намеревались явно не по назначению.
Школьный коридор преобразился: в центре его был устроен «стол №1» – всё честь по чести – с предписанной инструкцией Морозова ложей для почётных гостей и с развешанными поблизости на стенах портретами тех же многогрешных персон.
Портреты, правда, были выполнены от руки со своих же фото и – на что уж попенял Леонид – из-за поспешности весьма небрежно. Он специально заказал рисунки, а не фото: во-первых, конечно, так задание было более трудоёмким, а во-вторых, так сказать, просвещение в массы. Помимо плетения С-ор ещё увлекался рисованием с фотографи (е) й, на создание сей продукции за мзду завёл на селе монополию, но рисованные портреты почему-то не пользовались спросом, хоть даже их и выжги на доске – все почему-то просили лучше сделать им «романтику, и чтобы один-в-один»: копия какой-то зековской поделки, где неоромантический герой обнимает несуразно грудастую подругу с ещё паче несуразной при такой комплекции узкой талией, утянутой широким ремнём (что вредно уж, наверно, по медицинским показателям), сверху светит месяц, а вокруг понатыкана всяческая атрибутика привольной жизти: легковая машина, какая-то «шаха», пистолет, нож, бутылка со стаканом, и сердечко со стрелой – большего нельзя и желать.
Этот вопрос Морозов-старший курировал лично, и всё держалось в тайне – дабы ни в коем разе не допустить проникновения заветных орнаментально-монументальных мотивов в образы наших былинных героев.
Большинство персонажей, как ни старался художник придать им вменяемый, неокарикатуренный облик, выглядели, прямо скажем, так же как в жизни, и даже ещё приличней. Себя Ган очень скромно из пантеона исключил, поскольку портрет ему не понравился. Не то чтобы он отделял себя от всех (наоборот, он чувствовал свою причастность к этому месту и времени, к этим «действующим лицам» – «здесь всё моё, и я отсюда родом» – хотя какую-то странную, как и ту же, например, непонятную симпатию к Яхе, который в младших классах его мучил), скорее, выделял (для примера: даже здороваясь за руку, на подсознательном, чуть не биологическом уровне Леонид чувствовал некую чужеродность своей правильно-пропорциональной тонкокостной длиннопалой светлой кисти в здоровой, красной, неуклюже-толстоватой, мозолистой и грязной лапище какого-нибудь Папаши или вечно потной лапе Яхи, на которой, когда как-то привёл случай её рассмотреть вблизи, вместо привычного сетчатого безумия были увидены три коротких, прямых, почти пунктирных линии – «И это всё!», и чувствовал, что они тоже чувствуют…). Серж и Белохлебов были похожи своей напусконой серьёзностью, Мирза зубаст, чёрно-бело красен и старательно – хоть и на рисунке! – веснушчат, глазаст, Сажечка, Яха, Шлёпин и Папаша тоже красны, некоторые веснушчаты, глаза навыкате, Яха необычайно серьёзен, от чего в его физиономии проступило нечто от баранчика, Суся блистал своей знаменитой «железной губой», а Швырочек, он и есть Шывырочек…
Ложа же представляла собой два сдвинутых дивана из учительской, задрапированных какими-то узорно-красивыми и, видно, довольно дорогими покрывалами-коврами. На полу между диваном и столом располагался ещё более хороший ковёр – как бы настоящей восточной расцветки и выделки – мечта каждого мало-мальски зажиточного обывателя времён застоя – нетрудно было догадаться, что Бадор решился принести его в жертву своему возвышенному служению. Были здесь и плетенья на стенах (раньше, два года назад, они были на каждом окне и каждом промежутке между окнами, но год назад, при вошедшем в силу Кенаре, внезапно исчезли). Стол также был сервирован интересной посудой; ножи, вилки и бокалы, которые сразу кинулся проверять Морозов, были разложены и расставлены идеально по правилам журнала, по коему супружница-энтузиастка преподаёт домоводство (!); только бутылки, чтоб не бегать, стояли по-простому прямо на столе – пять бутылок красного вина, три бутылки водки, и даже плоско-пузатая бутылка ликёра «Амаретто», вокруг традиционные нарезки из колбасы и сыра, порезанные тоже фрукты, пирожные и конфеты – чтоб такого понакупить, надо полгорода исколесить! (или полгода!).
В углу у сцены притулились и два стола простых, уставленных обычными стакашками и кружками, а также подобие буфета или бара – парта, в и на коей составлены бутыли-баклажки мутноватой жидкости, не исключено, что бражки. Ещё были тут, конечно, трёхлитровые банки с огурцами и помидорами, несколько буханок хлеба и какие-то консервы – в общем, жить можно, и даже вполне себе с беспечностью бабочки-бражника.
В восемь часов Морозовы услышали рычание «Камаза» у школы. Ган, а за ним и все поспешили на порог приветствовать почётного гостя.
Видно, немного потрудившись, гости въехали на машине на бетонный школьный порог. Главный сошёл прямо как по трапу.
– «В порт, горящий, как расплавленное лето, – декламировал Леонид практически единственное стихотворение, которое он выучил наизусть за всё своё обучение в школе, – разворачиваясь, входил „Товарищ Теодор Нетте“. Это он, я узнаю его…» – Никто, само собой, ничего не понял, и он тихо прибавил: – Дядь Лёнь, митинг-то несанкционированный, не надо бы привлекать внимание.
– Не надоть, так не надоть, – покачал, однако, и повертел головой фермер, – Са-а-ашк!
Из кабины высунулась детская ссохшаяся башка Сажечки.
– Отгонишь машину домой, а сам обратно сюда. И по-пырому!
Привычный к расторопности Сажечка, страдалец, который уж было почти слез с доступной далеко не каждому высоты камазовской кабины, устремившись к стоявшему при дверях гостеприимному С-ору – с каким-то хлебцем, солонкой, длиннющим рушником из какой-то школьной занавески и налитыми всклянь, приветливо подрагивающими (от ветра наверно) стопариками – замер на месте, как-то дёргаясь вперёд-назад, как бы прокручиваясь вхолостую, как при сбое программы, потом плюнул и полез назад, запнулся и – всё же опять вниз!..
– Oh please, pardon me, my dears-bears!.. – залепетал Морозов картинно, изображая какие-то приличествующие случаю великосветские манеры и словеса, и не забывая юродствовать, эгоистично-одиноко доставляя эстетическое удовольствие себе самому. – That is my boy; he does not makes problem to you! Hey, couch, kalech, can you can drive this… machine?
– Й-а… – чем-то будто подавился хлебосольный учитель, увидев, что худосочный помощник всё же слез полностью, – я… Ай донт кноу…
– Come on rapidly! And put off this kulich!
Учитель затрясся совсем внятно, сделал шаг вперёд, потом вроде назад, потом опять зачем-то вперёд… и конечно же, поскользнулся, и загремел по бетону порога подносом, стеклом, хлебом, костюмом и своими костьми. И по-над ним – смехом иностранных гостей.
– Чё это он, глянь-ка, вырабатывает?.. – недоумевал фермер, пожимая плечами, ежась от попавшей за шиворот капли, упавшей с крыши.
– Мой шофёр вызвался отогнать машину, – перевёл Леонид Морозов Белохлебову, – а вы уж заходите, пожалте…
– Шофёр?! – загоготал фермер, всё по-своему щурясь, – Sacha l’esprit profound! Зер гут, оченно с вас любезно. Ну, шнель же, швайн!
Морозов по-французски не понимал, и подозревал, что и Белохлебов не понимает, а только выучил откуда-то пару фраз, и, так сказать, эпатирует ими к месту и не к месту непросвещённый наш ротозявый народ, добавляя уж неуместные расхожие немецкие, но был рад, что игра продолжается.
Меж тем, пока все курили на пороге, Бадор приближался к машине, согбенно и трясясь, и, как любезно комментировал Белохлебов, «поджав хвост – гля, как щенок, карлик-то породы такой, японской-то тоже, чешуа-чешуа называется (Ган и Серёжка удохли) – к полцентнеровому кобелю!»
– О, пока мы беседовали, Сашка куда-то убёг, – сказал фермер с прищуром-подмигиванием, что братья, хорошо знавшие нрав дяди Лёни, расценили как признак очередного затеянного уже акта атитекторства.
Учитель нехотя полез по лестнице «Камаза». Как только он открыл дверь, растворяемую ещё и ветром, отчего он вообще как-то полуповис над пустотой, и толкнувшись ногами, как «лягущачими лапками» (Белохлебов опять), сделал финальный рывок наверх, в кабину – оттуда ему в пачку треснула «боксёрская перчатка» – промасленная ватная рукавица, коей орудовал Сажечка, незаметно для большинства публики забравшийся обратно в машину через вторую дверь и притаившийся до поры, лёжа на сиденье.
Все снова ржали, тут было народу уже все, кто был.
Пока учитель вставал и разминался, как на грех покряхтывая и ворча что-то в усы, Сажечка вновь начал слезать с высоты…
Только спустя с четверть часа все успокоились (ещё долго грязно-чёрная личина «фокусника», причём как она сама, так и данное Белохлебовым ея обладателю наименование «Робинзон Куржо», надрывали животы и слезили глаза), и степенно стали заходить в школу.
– А ты-то, Сашк, что слез?! – вдруг резко обернулся к непутёвому подчинённому главный фермер, простовато, как бы и не наигранно удивившись.
Сажечка, доселе крепившийся – давясь и сдерживаясь, закатывая глаза и затыкая себе рот кулаком – боясь вскоре сам стать посмешищем, «не позволял себе угорать наперёд», – вдруг зачал как-то кхякать и всхлипывать, всё громче и громче, всё дебильней… – пока вообще не зашёлся до того, что скрючившись повалился у раздевалки на пол, рыдая и сотрясаясь – и по-видимому, только выдыхая и совсем ничего не вдыхая, отчего сильно краснея – и приговаривая что-то наподобие: «Ишь, кур-куль, ча-во за-ахотел! Ма-ашшину ему… Тоже мне шофер! Ишь лезет!.. ак-кхя-гхя!», являлся в таком виде минут десять, без преувеличения.
Ему никто даже не стал ни помогать, ни смеяться над ним.
Потом он встал и шибко поскакал исполнять. Обернулся буквально за то же время, вернувшись с бравым рапортом: «Белохлебов скажет – в колодец прыгну!», который, кстати, выпивая в течение праздничного вечера, повторял очень навязчиво, с каждым стаканом всё с более тягостными интонациями.
20
Гостей пришло много, многих и не позывали…
Леонид ждал Яну – с нетерпением и некоторой внутренней боязнью, что придёт, и надо будет что-то делать, когда как в другом случае можно просто отдохнутьв кругу профанов. Но она не пришла.
Кудрявый белоголовый пацан невысокого росту, с маленькой головой, востреньким веснушчатым носом, на кончике красным и облупленным, с маленькими же зыркающими, и весьма уловимо горящими злобным огоньком атитекторства красными глазками, вкатился, чуть вихляясь, в здание. Леонид нетерпеливо шагнул ему навстречу. Кудрявый (он же и веснушчатый) подал однокласснику большую красную-горячую и вдобавок потную пятерню. Это не кто иной, как сам Яха, теперь известный всем по повести «Настоящая любовь», а тогда только Сержу и бабушке по поэме «Яха, атитектор» того же автора. За ним, неловко-боязливо продираясь сквозь толпу лбов, столпившихся в вестибюле, зашёл Мирза – ещё один одноклассник-сотоварищ, росточком ниже Морозова, и даже ниже Яхи. И тоже подошёл, показав в улыбке ряд широких, безвременно не желтеющих, а белеющих каким-то налётом зубов, морщины рассеялись по плоскому, тоже слегка веснушчатому лицу. Глаза большущие, опухшие, немного навыкате, но слава богу, не как у Папаши, но какие-то больные, кажется, даже гноючие по краям.
– Витек, Рая, закурить не найдётся, Витьки, с фильтром? – начал он, понтуясь, выказывая тяжко щёлкающую, взятую на вечер – наверно, пока отец спит пьяный – металлическую зажигалку.
– Не только закурить, – улыбается Леонид, – прошу на балкон! – и широким жестом (хоть и репетированным у зеркала, но всё же отчего-то внутренне выходящим не так сильно уж широким, честно говоря) приглашает гостей.
– Ну, ты даёшь, валет! «Сынок, это море…» – «Иде?!», – декламируя дежурные строчки из дурацких анекдотов, Мирза не может понять и поверить, что лучшие места приготовлены именно для них, к какому-либо вниманию вообще непривычных. – Куда, Рая, Раиса, тормоз, мазафачка?!.
Яха, Сажечка и Папаша уже восседали за почётным столом, но не мощно и основательно, а как-то на прилепках, и спешно, как будто вот-вот у них всё отберут, хряпали водочку, выразительно морщились, занюхивали и закусывали. Тут любивший пофантазировать Леонид Морозов осознал, что все его сценарии и затеи и планы мало чего стоят. Вот они сидят, жрут, даже не чокаясь, не радуясь и мало что осознавая, и не нужна им ни приветственная речь, ни «аттракционы», ни само ибупрофенство-атитекторство… Они даже не подзывают его: мол, Лёньк, Ган, давай, прибухни с нами!.. Хотя… дух сей всё же русской натуре присущ и возникает тут и там сам собою… Главное – начать…
Подозвал Бадорника, чтоб тот включил микрофон. Встал и, волнуясь и покачиваясь, обратился к залу, на ходу понимая, что собрались тут абсолютно все – как в любой выходной в клубе, и по хрену зачем и за чей счёт, «платить» никто ни за что не собирается, а «аттракционы» и «конкурсы» на одних пьяных сегрегатах, если их не будут урегулировать и скрашивать визгливые умильные учтиля и их не совсем ещё перезревшие доченьки (именно этих двух категорий здесь почему-то и не присутствовало; а где же девочечки-то наши – в клубе?!. здесь почему-то только обтёршиеся уже, состоявшиеся, всем известные мадамы…), невозможны как таковые. Все не слушали, перебивали, выкрикивали непотребщину и самопровозглашённые тосты не по теме, а Папаша сидел красный, безо всякого преувеличения, как рак, выкатив остекленевшие глаза, словно неживой, а где только что бывший в наличии Шлёпа вообще непонятно – не факт, что не валяется в луже на углу или под кустом в оградке, замерзая, блюя, барахтаясь в прямом смысле слова, пытаясь (или уже не пытаясь) встать…
Морозов внутренне дрогнул, болезненно, до резей в глазах обиделся (ведь хотел для всех, хотел для Яночки, чтобы Яночке, с Яночкой…), но сделал над собой усилие и, притянув микрофон прямо ко рту, громко провозгласил, всё же закончив эффектно и усмешливо-пафосно: «Так выпьем же, друзья мои, односельчане! Да здравствует праздник! Праздник жизни! Ебись – всё – конём!!!»
Тут вместо заготовленной мрачноватой фонограммы «Агаты Кристи» «Поиграем в декаданс…» позвучали слова прямо в тему:
Сегодня хуже, чем вчера — Всё задом наперёд…– и Ган и его друганы поняли, что рванула следующая песня, дробно-ритмичная «Ни там, ни тут». И тотчас же они, не сговариваясь и не мешкая, наученные затеями своего негласного предводителя, вскочили из-за стола и давай выделывать, рьяно-пьяно подпевая истеричному:
Я пацелую провода — И не ударит меня ток!.. Заводит молния меня — Как жаль, что я её не смог!..Естественно, что «смог» звучало как какой-то «мох», и тогда в начале удачно пелось «не ударит меня Бог». Но всё это было в сознании одного человека…
Тут пустились в пляс и многие другие, даже от кого не ожидали. Появились Яхин отец Левон и хромой-одноногий Костыль, люди уж совсем в годах и вплотную жрущие, и начали отплясывать что-то навроде цыганочки, дробно отстукивая – три пятки галош на валенках, один железный набалдашник и один какой-то резиновый! – и конечно, общёлкивая себя ладонями, и припевая на куплеты, которые тоже русско-надрывно орали их неразумные дети и «дети»
(Зимою будет веселей — Нас пустят в рай! Зимою будет холодней — И пускай!!!),хорошо ложившиеся на ритм самые непристойные частушки, и конечно, присвистывали:
На х… нитки не мотай — Это не катушка! В ж… у тоже не давай — Это не игрушка!Потом по волеизъявлению Змия запустили «Сепультуру», и все, как и предполагал Морозов, сразу застопорились, растерялись, приосанились, да и поосели обратно за столы…
Тут Морозов жестом убрал музыку и вновь обратился к народу. Он провозгласил Яху и Мирзу своими помощниками-распорядителями, и вверил в их красные потные и желтоватые маленькие с обгрызенными грязными ногтями руки весь вечер, а именно: управление-понукание одним С-ором. (Серёга что-то всё приватно обговаривал с Белохлебовым, очень увлечённый, мало в чём участвуя.) А сам он захотел выйти обойти вокруг школы – помочиться на угол, посмотреть, где Шлёпа, горят ли окна у бабани, и главное – нет ли поблизости Яночки, не раздаётся ли в весеннем невыносимом воздухе её звонкий звёздный смех… может быть, добежать, не одеваясь, доскользить по бугристому насту, даже до клуба…
Прошлого нет – оно прошло прощало обещало навещало ночью хорошо настоящее по насту возбуждённо будущего непринуждённо – пока стоит – прошло по-над пропастью – куда и листопад – прошедшего по шершавому настру по настилу чёрной смежной глины белоснежной в заклиневших калошах как лыжах оставляя-ляя лепетный след идёт ещё…Настенька! Настоящая Яна моя наяву! ау!
21
Мирза нашёл Бадора моющим посуду в кабинете биологии, оборудованном под кухню.
– Э, Витё-ок! где «Сепултура»?! Нэво-о-о! Джассик фомако! – проорал он что-то нечленораздельное басовитым шёпотом, вытрескав свои большие глазауси и выказывая металлистскую «козу».
Бадорник вздрогнул от неожиданности и уронил тарелки, одна разбилась. Он обернулся: это был всего лишь его ученик Мирза, маленький, неказистый и тихий…
– Тормоз, Рая! Убирай теперь! «И-де-э?!» В ми-а-нде!
…но пьяный правда в дуплет.
– Оставь свои словечки и убирайся отсюда! – С-ор никогда не думал, что сможет когда-нибудь сказать что-то подобное пришедшему в шестой класс мальчику, земляку из Махачкалы, всегда такому скромному и незаметному, подверженному издевательствам Яхи и всеобщим насмешкам из-за своего имени и выговора.
– Что ты, Рая?!! – на чистейшем русском взвизгнул Мирза, брызгая слюной, вытрескав зенки и краснея, и как-то выступая всей грудью вперёд.
– Уж чего-чего, от кого-от кого, а уж такого я от тебя, Мирзоев, не ожидал… – пробормотал Бадор почти про себя. – Совсем наглость потеряли… совесть… – И стал было подбирать тарелки.
– Рая, Ган сказал тобой управлять! Давай, щён, по-пырому за сигаретами мне сгоняй! Брось эту побардень-то!
Бадор медленно распрямился. Было видно, что ему неудобно подчиняться приказам пьяного молокососа, тем более, уж совсем отношения к делу не имеющего, и он медлил.
– Рая, б… ть! – рванул его Мирза за брюки, – давай, пошёл! Придёшь – бабка выйдет, ей скажешь: на шкафу, на верхей полке!.. Все сигары растащили, Витьки… – Ослабил хватку и вокал и вяло побрёл куда-то…
Делать нечего – накинул плащ и в путь.
Между тем Яха, уже набравшийся, наверное, больше всех, сильно шатался, но всё ещё топтался на ногах в общем кругу – его все будто поддерживали, а на самом деле швыряли по кругу. Он часто падал, собирая углы, посуду и аппаратуру. И вот в тот самый момент, когда учитель проходил мимо, устремившись по порученью распорядителя, Яху кто-то киданул прямо на него и он с ним столкнулся, но тот успел его кое-как подхватить.
– О, этъ ты, курж… пищий?!. – как раз в паузе между песнями прозвучали до бычачьей интонации развязно-пьяные слова Яхи, и все удохли. – Дер-жи мен-ня, – икнул он, расслабившись в объятьях старшего, – вишь: па-да-ю!.. – С-ор что-то проурчал и попытался высвободиться, прилаживая Яху к стене.
– Бар… ба-ард… Бадор! – сползал он по стенке, ускользая из рук учителя, как-то весь слюнявясь и втягивая в свой носик мерзкую, явно зелёную даже в темноте, будто детскую, соплю, которую наконец-то высморкал, приложившись, в ворот учительского плаща.
– Вы-петь!.. – провозгласил он черезгубонепереплюйски, и повалился на бок, пытаясь увлечь за собой и своего в буквальном смысле ухажёра.
Бадор же, не будь дурак, сбросил его, и быстро устремился к выходу.
Когда поднимали Яху, тут случился и Серж, и тот пожаловался на плохое обращение и отказ предоставить пойло. И как только Бадорник с облегчением шагнул за порог, его как раз за сопливый ворот схватила рука Папаши.
– Куда этъ ты чалишь?! А ну!
Он со всей дури рванул его обратно, и оторвав ручищу и часть воротника, обнаружил на них сопли.
– А ну! Ща те об усы вытеру! – и попытался сделать это; С-ор чуть не заплакал.
– Иди за самогоном сходи, не понял, что ль!
…Кое-как он выбрался из Папашиных лапищ, и потрусил, показав свои три тыщи и собрав ещё две с подвернувшегося местного населения, к знаменитому дому и семейству Ивана Фрола – про которых в деревне лаконично говорят «они гонют». Но прямо на углу столкнулся с Мирзой.
– Так, Рая! И куда это мы суда?!
– П-пап-паша сказал: за самогоном…
– Какой Паша, Витёк, Рая, ёк-накорёк?!
– …За самогоном… за самогоном… – механически урчал он, как-то дёргаясь и перебирая ногами на месте, удерживаемый держащимся за его карман карликом Мирзой, уже ничего не осознавая, и почему-то ещё в голове само собой думалось и повторялось: сейчас ещё спросит: «За каким самогоном?!»
– За каким самогоном?!
– Но Яха…
– Мне по фигу, что Яхо, Раиса ты редиса, Горбач ты, мой дядя дорогой!
Учитель попытался объяснить, что сейчас «слётает», как у нас говорят, сначала за тем, а потом так же быстро и исправно, за другим, но Мурза не особо ему внял, и обвиснув на плащике, полуповелел сопровождать себя обратно в школу – не бросать же…
При входе, отягощённом множеством препятствий и пертурбаций, из мигающей полутьмы вроде бы выплывал Яха, приближавшийся к ним, дабы не упасть, по стенке…
…Через дюжину мучительнейших для учителя минут они с ним и встретились…
– Сх… ск… – заикался Яха, пытаясь преобразовать рвотные позывы в слова. – Сх-хадил?!
– М-меня не пускают…
– Х-то-о?!! – с внезапно откуда-то взявшейся силой и дурью взревел Яха, и, оторвавшись от стены, как от магнита, рванулся на них. «Ну всё…» – подумал Бадорник, но напрасно: словно притянутый более сильным магнитом, он дал немного вбок – в притолоку двери – сразлёту врезался башкой – так и шею можно сломать!
С-ор непроизвольно кинулся его подбирать, да так усердно, что даже вмиг освободился от Мирзы.
…Освободившись из-под них обоих, мирно сплетавшихся на грязном полу на входе в школу, он поспешил исполнять их волю, решив сначала – по порядку поступления заказа и в силу обоих оных равнозначности – отправиться, хоть и не ближний свет, за сигаретами.
22
Меж тем один из так называемых аттракционов всё же нашёл своё по-пьяному корявое воплощение. Распоряжался тут уже Серёга14.
Затея сия, как помнится, возникла ещё давно и как бы сама собою – всего-то надо было разбежаться в дальнем, редко посещаемом учителями крыле коридора, и, подпрыгнув, приложиться по стенке пинком – кто выше вдарит. Естественно, во-первых, что достижения отмечались мелом, а в лучших случаях сразу намазанной им подошвой; во-вторых, что личный рекорд принадлежал даже не «каратистам» Жеке или Шлёпе, а длинногачему Сусе (звательно-ласкательное от Суслик), и в-третьих, что абсолютные рекорды достигались почему-то негласно допускаемыми парными выступлениями, и, что уж и совсем естественно, самый абсолютный из них был установлен тем же Сусликом, у… авшим в подобии прыжка пинчища мелкому и прыткому Швырочку, резво заподпрыгнувшему на стенку в свою скромную, но оттого не менее важную очередь. (Здесь, конечно, надо сказать, не избежать неких неестественных последствий, и все сразу начинают говорить о каком-то «опущении кишечника», но это же, однако, в так называемом «лучшем случае» – ведь можно промахнуться и зарядить своему напарнику куда угодно!.. По словам знатоков, удар сей называется вкочерыжить, потому что боль от него пронизывает всю область простаты (вообще от задней точки до переднего конца) и служит, по их профанским заверениям, добрым средством к её профилактике – а скорее, конечно, наоборот.) Как вы поняли, всё дело в синхронности…
Теперь эта потаённая экстремальная забава была перенесена в самый что ни на есть центральный коридор – самое основное место, где проходят линейки, физкультзарядки и уроки физ-ры, а иногда и так называемые «Весёлые старты», максимум изобретательности и жертвенности на коих – прыжки в мешках или какая-нибудь чехарда. Почти все почему-то, хотя им и было предварительно всё разъяснено и именно это-то и запрещено, пытались впечатать ботинком или калошей в портреты гостей, а особым шиком считалось, конечно, «достать до свово патрета»!..
После нескольких хаотичных одиночных попыток (кстати, первым всё же прыганул сам Морозов, установив, кстати, довольно хорошую за всю историю со– (или ис-?) -стязаний среднюю планку, в этот раз никем не взятую – да-да, скорее всего, по причине пьянства; кстати, он был довольно лёгок и прыгуч всегда – никогда такими вещами не гребовал), Серж стал подначивать публику, дабы она подначила разбиться на пары многим уже известных атлетов.
И короче, начались «Весёлые старты» (или страсти). Весь какой-то огрубевший, закостеневший от выпивки, непомерно красный с красными остекленевшими, будто искусственными – но всё же живо выражавшими дурачее мертвящее выражение – глазами Папаша схватил мёртвой хваткой ничего не подозревавшего лыбящегося, скалящегося и раечкающего Мирзу. Вскоре его насильно разогнали (держа-таща за руки), причём не боком, а как-то прям в лобовую в стенку, и громыхающий кирзачами, негнущийся и одухотворённый только фантазией что-твой-Железный-Дровосек-Папаша, громогласно оттопав вслед за ним три шажища, шарахнул бедному прям под копчик.
Естественно, что попытка не была результативной, и всеми сразу же было решено её повторить. После почти что десятиминутных оваций корчащегося на полу Мирзу уж было опять подымали и потащили, но вступились Ган и Серж…
А тут как раз подоспел пойманный сердобольными сотоварищами-односельчанами Шывырочек, уже почти избегнувший очередного титула… но всё же, эх… словленный ими на выходе в раздевалке!.. Само его наименование, судя по рукоплесканиям и руконаложениям публики, даёт ему большие преимущества…
Но тут случилось непредвиденное. Раздалось Белохлебовское «Са-ашк!», и хоть и пьяный, но достаточно быстро сообразивший помощник, уже тоже утекавший и почти миновавший сей чаши, был настигнут, сбит с ног и схвачен, – и откуда-то из тёмной чащи раздевалки послышалось весёлое простонародное «Сдябрили15!»…
Потом были довольно продолжительные консультации тренера-новатора со спортсменом – как пить дать будущим рекордсменом. Со стороны слышалось: «Не буду!» – «Будишь!» – «А эсли ему с двух сторон всадить» – «Да он ссохший, лёгкий, точняк».
Надо ли уточнять, что после всего сего со всем уже наверное смирившийся Сажечка был отпущен Белохлебовым – откуда-то из затемнённого угла – и выскочив, шарахаясь из стороны в сторону, как аглицкий иль польский кролик от русских борзых, чудом как-то вильнул от тяжелейшего удара Папаши, – фу, увильнул!.. – а потом – чисто случайно! – проскочил как-то вроде прям под чудовищно задранной в дурачем пируэте ножищей Суси и рванул на выход, и даже был таков. «Эх-хе, – вздыхал атитектор главный фермер, – такой дуэт расстроился!..»
И наконец, под гром аплодисментов, под романтическую музыку («Ты морячка, я моряк…») в свете прожектора (кто-то управляет за С-ора) на лёд пола вышла знаменитая пара – двукратные чемпионы правого крыла коридора и априори нынешние фавориты. Швырочек ёрзал в объятиях партнёра и вырывался, как заяц в «Ну погоди!», а Суся, двухметровая обдуплеченная дядильня с «железной губой», как Волк, кланялся, пожёвывая в вставных стальных зубах цыгарку.
Наконец, разогнавшись – в обнимку и полузадом – полукругом по залу, они одновременно – один за другим – въехали по касательной к заветной доске почёта и, ещё более синхронизированно выполнив некое подобие «пистолетика», – у первого переходящего в «тулупчик», а у второго в пинчекрен, – засандалили его ему. Попал кроссовком ему, а он своим ему на портрете в лоб. Такая вот кода па-де-дё. Все были очень довольны (а Ган, видимо, всё же почему-то и не очень), и даже сами чемпионы, получившие в качестве приза отдельно припасённый литровый кубок водки «Rasputin», разделить тяжесть которого, впрочем, тут же нашлось много желающих (большинство из которых тут же получили от Суси наградного пинка).
23
«Посидим мы вечерком, / Нам поможет интерком!..» – бурчал-напевал себе под нос Бадорник какую-то ахинею, поспешая трусцой, полусгорбившись, полускользя по хрустким корявым ледышкам.
А между тем друзья-оппоненты Яха и Мирза опять всё возились на полу у раздевалки. Стоя на четвереньках, они то обнимались, то бодались, взаимно назывались братьями, друганами и корешами, горячо клялись в любви и уважении, даже до того, что готовы отдать друг за друга жизнь, но конкретно в этом случае «конкретно уступить» никак не могли. При этом, естественно, не обращалось никакого внимания на то что, гонец уже удалился, и что давно приблизился Швырок, который уж было хотел уж в очередной раз даже слинять домой, но по дороге был встречен Яхиной матрей, направлявшейся с кипятильником в руках в школу на поиски своих Левона да Яхи, которую заверил, что сам, быстренько вернувшись-обернувшись, тотчас же их найдёт и полностью возвернёт в лоно семьи безо всяких электронагревательно-нравоучительных приборов. Благо, она задержалась со своей родственницей, которую ученики звали «мама Чоли», в школьной столовке.
– Лёньк, хватит полозить, вставай!.. – хватал и тянул он ручонками Яху то за руку, то за кудри, – щас мать придёт с кипитильником!..
– Яп-понский ты крокодил!.. – изредка отвечал Яха, как бы переключившись на Швырочка, но если очень прислушаться, то он, скорее всего, вторил своему Левону, который тоже лежал, приткнувшись, у двери учительской и изредка произносил сам для себя то же самое ругательство – получалась своего рода перекличка поколений.
В этот момент раздался стук в дверь и послышались какие-то словеса, и Мирза несмотря на то, что был поглощён участием в диспуте, распознал, кто их произнёс. Директор!
Он отбрыкнулся от брательника и как мог расторопно кинулся к двери задвигать засов (недавно вбили несколько гвоздей на 150, загнули так, что держат брусок под ручкой). Оказалось, что, конечно же, он был не закрыт, просто Кенарь в первый раз дёрнул дверь несильно, сам подумав, что она заперта. Тут же он кинулся искать Сержа или Гана. (А Яха, как ни странно, продолжал и спор, и перекличку, изредка приговаривая про крокодила и что «с-снач-чала зы с-магоным, а патом…»)
Когда сказали Леониду, он сразу принял решение, но довольно необычное и жёсткое. Выключить свет, Кенаря запустить, накинуть ему на голову мешок, связать, кинуть его в кабинет биологии (единственный, от коего на руках были ключи), заперев, а завтра С-ор его выпустит. Большие мешки от картошки, как знал Морозов, находились в мастерской, где недавно только на уроке «домоводства» девочки их зашивали, там же было можно отмотать сколько угодно верёвки или проволоки. Был послан еле ходячий Швырочек. Сегрегата Папашу будили всем миром, лауреату Сусе почти полчаса объясняли. Но как ни странно, Кенарь не ушёл, и всё получилось…
Уязвлённый отсутствием Яны и вообще безнадёжностью в отношениях с ней, Морозов вспомнил и решил припомнить директору один недавний случай. Правда, честно сказать, он и сам его понял не до конца, и присутствовал на инциденте не с самого начала (был послан – как раз прямо из столовой – таскать из магазина банки с томатной пастой), но из-за своей природной проницательности, кажется, догадался. Во время линейки, уже под конец её, когда все вопросы с присущей ему педантичностью Кенарь уже обговорил, он вдруг назвал фамилию Яны и с присущей ему и всем административным деятелям косноязычностью, используя какие-то мерзкие недоговорки типа «а есть ещё и такие…» или «я думал, что ученица, которая является твёрдым хорошистом, твёрдо себе должна представлять…» и «не даром ведь её брат…», поведал недавнюю историю на дискотеке, суть коей, как с трудом (и ужасом!) понял Морозов, сводилась к тому, что тов. директор повстречал Янку где-то в коридоре в объятьях чувака из Васильевки. Или «не совсем уж совсем так…» (очевидно, не совсем в объятьях) – «во всяком случае, мне так показалось…» Лёнечка был шокирован не меньше всех остальных, но по-другому, из-за другого, и рационально твердил себе: «Ну и что ж такого-то?!» Яночка ему нравилась за то, что пресловутое учительско-обывательское «благоразумие» ей было чуждо, и она как-то даже неосознанно пыталась бороться против него, пусть по-своему, примитивно и спонтанно, но всё же…
«А на той-то неделе тоже наша Яна общалась, но все мы видели, с кем, и тоже все мы его знаем… Значит, получается – да, Яна? – кто хочешь подходи, только надо быть крутым…» – так и стоял в ушах «контрольный». И он услышал, как в рядах старых кто-то негромко брякнул: «Пьяная баба м… де не хозяйка», и показалось, что услышал это и директор, и что на мгновенье краем губ улыбнулся… И он увидел, как помутнели-увлажнились её красивые карие глаза, как сверкнули знакомой по взгляду её братца яростью, как кровь прилила – красиво, будто румянец – к её лицу, и она стала вдруг слегка красновато-пышущей и растрёпанной, как после длинной пробежки на физ-ре (или другой «нагрузки») и своим почти ещё детским, наиграно-подростковым, но уже по-женски красивым, томно-грудным голосом произнесла над всеми: «Нет! Неправда!» И она заплакала, закрыла ладонями лицо и убежала в класс. А потом ещё сидела на уроке, превратившемся в некое обсуждение, тоже закрывалась и тихо плакала, утираясь тыльной стороной ладони (он даже хотел проявить смелость – и по-рыцарски, по-рей-баттлеровски предложить ей свой платок, но он был какой-то уж совсем маленький и детско-непрезентабельный) и изредка страшновато сверкая глазами и проговаривая: «Нет, неправда». Классуха и «весь класс» её как бы поддержали, но всё это было тоже всё равно как-то по-школьному мерзко, а сама Яночка под конец уж утешилась жеванием жевачки, а тут ещё с поддержкой и с завсегдашней фамильярностью «Можно у вас посидеть?» пришли два товарища-старшеклассника, уселись на заднюю парту и оттуда громко вещали: «Ничё, Янух, не реви, всё будет ничтяк», а негромко перебрасывались ещё некоторыми рассуждениями: «Ну чё, уж пора начинать… Не на этой дискотеке, так на другой – или Олег, или Лапа опять приедет… А чё, все порются, и Яночке пора уж тусить… а то уж совсем… Все, а она типа не как все. Вон мелкие, страшные, ноги как спички, а того… а Янка сочная вся, нормальная – особенно поп-па!.. у!.. Правда братан, говорят, сказал, что кто Янку тронет, того прирежу. Я х… ю с нево, но он же сделает!.. Но Лапе-то или даже Олегу похрен наверно, тем боле, что она и сама токо к ним и липнет – тоже ведь нашла к кому! Ух, я б её!.. Ну ничё, подождём…»
24
Учитель математики, бормоча уже «Сучка, заморыш вонючий, убью!..», немного запалившись, остановился у дома Мирзы, как бы всё ещё определяя, тот ли это дом или нет. Обычно видел его, как здесь говорят, «с того планта» – то бишь того посёлка, с той улицы на том берегу речки – то есть, проще говоря, если смотреть от школы, прямо с её порога, то на перпендикуляре к нему прям и увидишь вдали этот домик – весь светло-беловатый и маленький на фоне тёмных других, стоящий немного особняком на некоем пригорке, без деревьев и кустов вокруг и почитай вовсе без оградки, потому что она давно развалилась и большую часть её уже поистопили в печке. Однако чтобы попасть туда, надо либо сева, либо справа обогнуть полукруг, а вернее – полуромб…
С-ор, с его почитай что профессиональным интересом к зодчеству, отметил, что белым дом казался из-за того, что половину его составляли сени, сделанные, можно сказать, из дерева, а на самом деле что называется кой из чего, обитые дранкой и обмазанные, но вроде бы по-нормальному не оштукатуренные, а прямо почти как у него на родине, то есть и раствор-то этот не на цементе или извести, а на коровьем помёте и глине, и, уже судя по тому, как он осыпался, и эти компоненты экономились, а в основном в нём солома да песок. Кирпичная же часть дома была также оштукатурена (в отличие от соседних домов, да и вообще, наверно, всех домов деревни), но тоже вся облупилась, осыпалась, обнажая более ранние слои, уже штукатурку на извёстке, но с сильным преобладанием песка, оправданным, как вы поняли, не какой-то особой технологией, но только послевоенной нищетой; торчащие кое-где крупные, старого производства, тёмно-красные кирпичи (а не новомодные белые, как казалось издали) были нейтрализованы сверху тем же раствором, рассыпавшимся-растёкшимся из пазов между ними (или из неуклюжих бабьих попыток частичной раставрации штукатурки), из-за чего издалека всё и выглядело светлым. Во многих местах кирпичи были выщерблены очень сильно, а кроме того, были две трещины во всю стену, и даже напрашивались мысли, как домик еще стоит…
От ветра качалась антенна, сделанная из трубок от раскладушки и какой-то палки-коряги, и закреплённая несколькими слабыми проволочными растяжками сбоку крыши. Весь домик, казалось, содрогался с каждым порывом, и казалось, что даже голубоватое мерцающее сияние телеэкрана и пробивающийся через крайнее оконце с одинарным стеклом вокал Листьева (да, ещё не Якубовича! – 2008) на мгновение гаснут и прерываются, как ещё в недалёкое время поздней у нас электрификации и само электричество… Впрочем, подумал учитель, это наверное проводка и шалит, а не антенна (а на самом деле особенно хреновы провода, идущие от деревянного столба у дома к изоляторам, вкрученным вверху у крыши), и осторожно, даже боясь разбить, постучал в однойное, как тут говорят, стекло – сначала показалось: треснутое, а на самом деле составное из фрагментов.
После коротких вопросов и ответов в сенцах появился свет, и его пригласили войти – объяснить и показать, где конкретно, потому как «так ведь никак не найти: рано ведь внучеку курить-то… хоть все и знають, что курить…» Полы под тяжестью человека сразу заскрипели, и когда бабка захлопнула дверь, весь дом опять будто заходил ходуном, и сразу ударил в нос этот непонятный и неприятный запах, который тут у всех в сенях, а у некоторых и в домах. Что-то такое застарелое, залежалое – все эти изначально полусгнившие доски, находящийся тут же за занавеской ларь с зерном (которое тоже ведь гниёт, к тому же мыши со всеми их продуктами жизнедеятельности), всякая столетняя утварь, засохшие, то замерзающие, то оттаивающие остатки съестного, запасы, и к тому же ещё и помойное ведро, и, как показалось С-ору, самый обязательный компонент – непременный запах клеёнки, которой обязательно застелен стол, а то и два, да ещё какие-нибудь полки, а то и обиты стены.
«Зато на двери подкова, – отметил опять про себя С-ор, – и не какая-нибудь декоративная, а самая настоящая – большая, ржавая, старая наверно».
Бабка зажгла свет и тут на бурчание «чёрного» сообщила, что «матря-то опять на работе на сутках, а сам-то, едва проспавшись, опять венчается (т. е. по-нашему, „является“, пьянствует) где-й-то». Гость стоял в пороге, тяжело дыша и отфыркиваясь от неприятного запаха, а теперь ещё от липшей прямо в усы и нос плисовой шторки, так и источающей из себя пыль и мелкие ошмётки паутины, тоже все в пыли и сами почти в неё превратившиеся.
В центре композиции – а точнее, посередь единственной комнаты – сиял буквально-таки старого образца деревянный диван, обитый несуразно оранжевым дерматином (или клеёнкой), наполовину облупившимся, изрезанным и сплошь прожжённым сигаретами. Рядом с ним, и так же, как и он, как тоже отметил вошедший, «на единственной изящной вещи» – национальном ковре, правда очень грязном и примятом, всём усыпанном пеплом и даже горелыми спичками и окурками (так и кольнуло в сердце: «А этот даже и получше моего!..») стояли три предмета для курения, напомнившие когда-то более привычный восточный кальян – собственно пепельница, сделанная, кажется, из алюминиевого держателя автомобильного зеркала, грязная восточная пиала с зеленоватым орнаментом и консервная банка с обработанными краями, в одной лежали крупные бычки, а в другой уже вышелушенное их содержимое – можно повторно набить и покурить. Это было понятно даже и ему, никогда табака в рот не бравшему. Напротив дивана у стены – телевизор, чёрно-белый, не маленький, но с таким тусменным изображением, что смотреть его можно только при выключенном свете – тем более, что посредине комнаты, прямо над диваном, ярко мерцала лампочка без абажура, на изогнутом буквой S проводе и вся засиженная мухами, в 60 ватт, если точно, – а мерцала потому, что мгновениями почти гасла, а чуть более длинными мгновениями, секунд до пяти, становилась как бы слабее, ватт до сорока, а то, чего греха таить, и всех двадцати, – и стоял он даже не на развалившейся тумбочке, как вы подумали, а на старинном табурете, неуклюжем, как бы увеличенном вдвое, не раз (как школьные стулья) крашеном краской, в облупившихся местах всём в точках от жуков-короедов. «Это дефект ещё самого материала. И это конец 20-го века!..» – подумалось С-ору. Рядом плоскогубцы – переключать каналы – «своего рода remote control!».
Впрочем, была тут и пресловутая тумбочка, а на ней и в ней – детали современности – магнитофон с расковырянной кассетной декой и сами кассеты, расставленные аккуратно и хаотично разбросанные, осеняющие пространство чёрно-фломастерными печатно-крупными надписями на бело-тетрадошных корешках: «ЛАСКОВЫЙ МАЙ/ЛАСКОВЫЙ БЫК», «ПЕТЛЮРА/НЭНСИ», «СЕПУЛЬТУРА/КАР-МЭН», «ДР. АЛБАН/ИНОСТРАНЩИНА»…
Ну что ещё? Покосившийся стол с клеёнкой и выщербленными треснутыми чашками, иконы-фотографии над ним, под ними – фото полуголых баб из журналов, оклеенные по бокам таковыми же объектами, но уже от жувачек (из всех трёх видов фоток глянцевые только последние. —2008), шифоньер на ножках и кирпичах с разъевшимся и забрызганным зеркалом, крашеный той же краской, что и пол с табуретом, ещё один тубарет, железная кровать – заправленная, с навешанными на грядушки выходными вещами, ещё две кровати за занавеской (торчат) – одна «полутороспальная» черепаховая, другая, как видно, самодельная деревянная, на них – пузатые подушки и горы белья и шмотья, уже самого повседневного. Слева от входа – чулан – крохотная, тоже как бы отгороженная занавесками комнатка, служащая кухней, а заодно истопной, а заодно и туалетом (только по-маленькому, когда уж совсем холодно, и не охота выходить на улицу – тоже пахнет помоями), а раз в неделю (а то и в две) – ванной (из сеней заносится оцинкованное корыто) и прачечной (оно же) … Вообще сама-то комната (т. е. все «комнаты», весь дом) весьма, так сказать, небольшая; стены побелены извёсткой, все осыпавшиеся и, кажется, буквально на глазах осыпающиеся, так и источающие в воздух эту свою сыпуху, а ещё, конечно, и копоть, и пыль с паутиной… Три крохотных низеньких окошка – уже двойные, занавешенные, с торчащими сквозь вышитые, а больше «выбитые» белые занавески лапами-коряжниками от цветка-дурака (алоэ) и пропечатывающимися на тех же занавесках ржавыми пятнами от железнобаночных кадок. И ещё дрова лежат в чулане у плиты и калоши стоят вот здесь, в пороге под ногами… И прямо сказать, холодновато и здесь, пахнет, кроме прочего, гарью и выгоревшим безвоздушьем (это как бы тут, вблизи) и одновременно (как бы там, в глубине комнаты, кажется, вверху у потолка) – затхлостью, сыростью и плесенью. Кроме того, невыносимо резкий запах от всех этих гадостей, связанных с курением. То есть, можно сказать, всё как несколько десятилетий назад…
Деревенские избы, размышлял пришлец, какого-то там века, ну наверно, 19-го, когда их показывают как музей, выглядят куда привлекательней. Всё аккуратно, досчато-бревёнчато, половички, занавески, утварь (у, тварь!) … печка, чугуны-ухваты, тяжёлые железные утюги… лучина… копоть, конечно – топили, говорят, чуть не по-чёрному… солому стелили (или летом траву) на пол и на настилы, где спали – всё это, конечно, не сравнить с нашим непередаваемым уютом и колоритом, но всё же не такое безобразие, как вот это!..
Бадор, один из первых в селе получивший квартиру современного типа (типа коттеджа), невольно подумал, как хорошо живётся ему самому: большие комнаты, отопительная система, ванная, туалет, большие открывающиеся окна, мебель наконец, телевидеоаппаратура, новенький японский музыкальный центр, цветомузыка… компьютер скоро куплю… просторная кухня, красиво отделанная им самим рейками, шкафы-купе, всякие полки со множеством самодельной же утвари… холодильник, тостер, миксер… аквариум наконец, самодельная подсветка, цветомузыка та же… все эти красивые поделки – вешалки из лакированных коряг, резные доски-мешалки, десятки кашпо, салфеток, бабочек и держателей для расчёсок, лаков и т. д. из макраме… скульптуры из песчаника, ракушек и прочей морской невидали – так поражающие гостей – нерадивых, мало чего видавших в жизни селян…
Братья Морозовы, помнится, как только он приехал несколько лет назад, тоже напросились через других школьников к нему в гости и тоже были весьма поражены. И поражал их в том числе тот же контраст: сами они жили тоже в старом доме, но более-менее отремонтированном, и всё же получше – как-то почище, поцивильней – чем семейства Мирзы, а тем паче Яхи или там какого-нибудь Папаши… Лошадники: лошади почитай прямо в сенях, сено-солома, вонища-навозище, и зимой, и летом, зимой холодище от постоянного хождения по неиссякающим надобностям скотины, летом духотища всё равно, плюс из-за названной ходьбы – мухота, весной и осенью – страшенная грязища – всё, в основном, можно сказать, из-за того же… хозяйство!.. И алкаши: постоянно затёрта брага в большом бачке или фляге, в двух, а то и в трёх бачках или флягах, стоит воняет – и старшие, и сами младшие Яха или Папаша постоянно ныряют в неё с кружкой, – потом выгоняется – запах сивухи и соблазн только усиливаются… и постоянные возлияния (у Яхи только отца Левона, у Папаши – ещё и матери), постоянные «гости», пьяные скандалы, а то и драки…
У них же, Морозовых, только у бабушки была такая же скромная обстановка – конечно, исключая такую уж грязь, тесноту и всю эту мерзостную убожественность, которую продуцирует разжирание (да ещё в не меньшей степени и курение!), и они привыкли к ней, но всё же не могли представить себе жизнь без некоторых удобств родительского дома – таких, как цветной телевизор, чистая, мягкая постель, мягкая мебель, тепло и ванна… – впрочем, последняя у них только-только появилась, и хотя воду в неё надо греть уже не кипятильником в ведре, а титаном, но всё равно очень долго и воды мало, а туалет и по сей день на улице… Но и тут даже сохранилось кое-что от веками заведённых традиций: как правило на месяц холодною зимой берётся в дом только что отеленный телок (телёнок), а весь апрель завсегда гостят шумные и вонючие цыплята… да и самогон иногда гонится – без него, как универсальной валюты или смазки, ни один сельхозпроизводственный процесс не стоит и начинать…
Белохлебов же жил на несколько домов: в одном, тоже у бабки, всё тоже было примерно так же по-старинному, но тут он только, можно сказать, ел и спал, в другом доме (соседнем) у него устроено что-то типа склада – тут целые горы, тюки и сундуки со всем чем ни на есть – так сказать, припасы на жизнь будущую («У! у тебя, дядь Лёнь, как у фараона!» – смеются по этому поводу братья), и одна отделанная комнатка, где тусовалась (ночевать всё же брезговала – почти каждый день уезжала домой в город!) дочка, а третий, огромный и чуть ли не трёхэтажный, он потихоньку строил в самом центре села.
25
Дальше пошла полнейшая бардель, которую, впрочем, многие и ожидали. Какой-то дуралей, вместо того чтобы выключить свет в раздевалке, вырубил рубильник, и с необычайным дурачим воодушевлением все бросились туда…
Кенаря, не церемонясь, швыряли и даже пинали, кое-как заволокли в кабинет биологии. Была целая толпа, и не успел Ган взмолиться: «Падцаны, харэ, ну харэ же!..» – как на фоне этих невнятных призывов к порядку ни с того ни с сего, безо всякого плана и провокации начался собственно погром. Брали и кидали – кому что под силу – парты и стулья – а все они и они с железными ножками!..
Это было что-то неописуемое: почти в полной темноте, в замкнутом пространстве класса, почти что над самим лежащим в центре комнаты закукленным в мешок директором… как от автоматных очередей в американских боевиках непрерывно и с грохотом летело стекло и прочие внутренности шкафов со спиртовыми препаратами, и особенно эффектно – два довольно больших аквариума – кстати, любимое детище С-ора. Причём бросали, не взирая друг на друга – ведь надо было чуть разбежаться, чтобы запустить стул или кидануть парту – а успел ты отбежать обратно или нет – уже твои проблемы. А уж на Кенаря и подавно никто внимания не обращал. Тем более, что он стоял в дверях и тоже вещал что-то невнятное типа гановского «харэ»…
(Сам же он, хвативший адреналина и впечатлений инициатор, едва завидев его, и поняв, что вместо оного ополоумевшие пьянищие бугаи – ну конечно же! – заграбастали полозившего в коридоре Яху, а кроме того, судя по очутившемуся здесь директору, наверно ещё и выломали дверь класса, быстро ретировался – побыстрей к бабане, описать весь небывалый кавардак.
Сначала начинаешь, думал он на бегу, вроде всё нормально, ясно и прикольно, потом сам ужасаешься, думаешь «Зачем всё?» и «Как такое вообще…», и хочется, чтобы всё было сном, а потом всё настолько разгоняется само собой, всё вокруг кружится и мельтешит, и появляется второе дыхание, как будто какая-то сила наполняет тебя и ведёт сама, и тут даёшь по полной, как и все – куда вывезет! – а успокаиваешься только когда всё кончилось и надо писать. Впрочем, только садишься за стол – нападает то же волнение, сдавленное где-то внутри, как пружина, – как будто всё опять повторяется. И повторяется – но уже в миниатюре…)
Сажечка же, который был, что твой цирковой карлик, водружён главным фермером сотоварищи прямо на главный стол в коридоре и плясавший было под аккомпанемент Белохлебовского баяна, припевая что-то непотребно-патриотическое и прихлёбывая из горла, а чуть позже, когда все смылись, всё боялся слезть: ему, как с похмелья иль по обкурке, чудилось, что стол под ним настолько высоченный, что слезть с него самостоятельно никак не представляется возможным! – наконец-то кое-как, аки переевший престарелый кошара или же молоденький неумелый котик, чуть не на когтях спустился с его краю по скатерти, стащив, конечно же, её за собой…
Через минуту-другую он уже самоотверженно, словно зазомбированный солдат будущего, бегал под ударами «стихии», между нагромождений стульев и парт, спасая рыбу… Вектор «спасения» ему, судя по всему, задала сковородка, которую он неизвестно где и почему захватил – он сидел на корточках, а потом прямо-таки ползал в осколках аквариума, разгребал и загребал их руками, стараясь выбрать крупных красных меченосцев и их «сосельдей по несчастью» гуппёшек.
«Буду жарить – буду!..» – причитал он.
Когда набрал почти полную сковороду (конечно, не преминув при сем изрезать все свои сухонькие, промасленные до костей ручки, из коих, однако, супротив ожидания от их и его сухости, обильно текла кровища!), невзначай столкнулся – в коридоре уже – с директором. Тот ему что-то говорил, но он не понимал и всё как загипнотизированный, то повышая голос и отрывисто, то переходя на причитания полушёпотом, сообщал: «Буду жарить, буду! Буду всё равно… Бу-ду!! Буду жарить, жарить буду!.. Рыбы нажарю… пожарить рыбки… рыбоньки поднажарить, эх… Ну, пожарить, да, да… Буду!!» При этом юрод ещё как-то щерился, причмокивал, посасывая зубы, неприлично ковырялся во рту окровавленной рукой и вроде бы даже кое-что жевал.
Когда уж совсем обезумевший от увиденного (да и от последних событий вообще!) Кенарь тоже как-то так машинально или гипнотически притянул к себе его вторую конечность, явно что-то сжимающую и скрывающую у пояса или за спиной, – чтоб убедиться, что «он, каналья, гад, хрустает сырую рыбу пополам со стеклом и лыбится!», то увидел в ней порядком обгрызенное восковое яблоко.
26
13 мартаЧасов в одиннадцать утра Серж направился к Белохлебову. Во дворе фермера не оказалось, и Серёжка решил зайти к нему домой, поскольку его распирало кое-что тому поведать. Дверь была открыта, бабка видно ушла к соседке. Из «избы» (главной большой комнаты) доносился храп, в отдалении напоминающий «умело аранжированный синтез звуков живой и неживой механики» или, иными словами, «когда стоишь у окна с прасятами с тачкой, а Ган выкидывает от них навоз, а рядом тарахтит трактор».
Белохлебов, завернувшись не сказать уж что в рогожу, но в суперстарообрядное изветшавшее покрывальце, что называется дрых без задних ног на старом раскладном диване. Рядом на полу возлежали баян, двустволка и пустая бутылка от польской водки «Распутин».
«Так, понятно», – с улыбкой от всё более разгорающегося внутреннего предвкушения одобрил Серёжка, ещё раз огляделся (никого!), наклонился прямо к самому уху фермера и что есть мочи заорал: «Пад-ём!»
– А?! Что?! Ка-а-ак-пчхи?!. Фу, это ты, что ль, Серёжк?
– Нет, не я! Сорок пять секунд, дядь Лёнь!
– Ох, Серёжа, как же мы вчера забардели!.. – завздыхал Белохлебов, почёсывая спину. Всё хорошо понимающему Серёге видно было, что у главного фермера, когда он уж было встал с постели, от одного слова о вчерашнем потемнело в глазах, и он осел опять, как бы ослеплённый. И ещё потрясывало. – Ох, приятственно было, весело!.. Я в гармонь содил, плясали, барахтались все, все!.. А потом, апосля школы-то, ещё дома у меня – выпивали, веселились все, все!
«Кто все? Знаем мы вас, товарищ прапорщик: как пить дать один сидел, жрал, орал песни – бабке спать не давал!» – усмехнулся про себя догадливый Серж.
– Как жъ я это люблю! – Продолжал изливать похмельный восторг души вчерашний гуляка. – Я вот вишь… да что там я – кажный серьёзный деловой человек! – как там у вас в школе говорится? – «Какой же русский?..» – хоть и из ума сшитый, а всё равно ка-ак возьмёт да и…
– Да, дядь Лёнь, не говори… – мягко согласился юный вестник, подставляя своё плечо для опоры старшему, и всё с тем же внутренним чувством как бы между делом добавил: – и не только ты…
– Как?! – встрепенулся Белохлебов, остолбенев – вот-вот опадёт обратно…
– Так. Сажечка уехал к Генурки.
От простого этого предложения, как уже и было понятно, фермер свалился назад, на спину, и даже засучил ногами.
– Кагда??!!! – вопил он. – На чём?!
– С утра, дядь Лёнь. На МТЗ своём… твоём.
– Крыса седая чахлая! Убью ведь обоих! – Фермер как-то перекатнулся на спине и приземлился на пол – почти на корточки. Схватил ружьё, попрыгал к сейфу, где был ещё и пистолет.
Напяливал форму с отпоротыми знаками отличия, похожую на извечное облаченье Фиделя Кастро, спотыкаясь и путаясь в штанинах и рукавах, на ходу отдавая распоряжения Серёжке и пришедшей бабке.
27-epentheticum
Написать у Морозова мало что получилось: было уж совсем поздно, да и в голове гудело от самогона, бардака и шума. Одна отрада – рассказать бабушке, послушать её рассказы (правда в последнее время стал замечать, что она всё, что он взахлёб живописует, как байки воспринимает, как будто он на ходу сочиняет – хотя может быть у неё такое восприятие – ведь и её истории из жизни уж больно колоритны-характерны…). Но она заснула, захрапела…
Тогда другая отрада – образ Яны, его созерцание, анализ, пересоздание…
…И сейчас, спустя пятнадцать лет, иногда просыпаюсь, чувствуя тот же самый образ, таящий где-то внутри глаз, таящийся где-то глубоко в этом визуально-предментальном пространстве, он же почти автоматически (почти, потому что иногда, видно, даже и с моим собственным усилием!..) всплывает, мерцая – насколько может мерцать ткань – впрочем, натянутая очень хорошими выпуклостями – живыми! – доступными в пределах вытянутой руки! – а на самом деле, конечно, абсолютно трансцендентно недоступными! – ярко-синяя, похожая вроде на тот невыносимо энергетичный синий цвет, что называют индиго – эта же деталь, этот же образ, всплывает и теперь при всяком воспроизведении в мыслях понятия «эротизм», «эротическое».
Некоторые уже догадались, может быть, что так сбивчиво и туманно я завёл речь что называется всё о том же – всего лишь об Яночкиных спортивных штанах, синих с бело-чёрными полосками-лампасами, – появившимися на ней чуть ли не в день ее пятнадцатилетия, и которые и свели меня с ума. Конечно, насколько можно свести четырнадцатилетнего. Иногда мне кажется и представляется, что вот если б я сегодняшний работал, допустим, в школе (или даже что называется попал в прошлое чрез нехорошо названную теперича «червоточина» или по-компьютерному «портал» складку времени или на худой конец его машину), то увидев Яночку на расстоянии вытянутой руки и ощутив на расстоянии её тепла, теперешний я, набравший критическую массу чувственного опыта – всё же как-то познавший до болезненной ломоты в членах все номинации вожделенного (разочаровывающего) секса, сошёл бы с ума в более буквальном смысле и/или отважился даже на то, что так часто делают в…
С другой же стороны, конечно, мозг всё-таки тоже взрослеет и набирает в другом смысле критическую массу, это затрудняет непосредственное восприятие реальности, но делает его более культурным, и посему что подростку не даёт спать, окультуренному утончённому дядечке может даже не дать спать по другой причине – отвращения. Но я пока стараюсь не отказываться от более глубинного слоя своей культуры и, что твой Набоков бабочек (тоже своего рода аристократ, г-н и м-р, таинственный своей благопристойностью), пытаюсь наловить сих неуловимых образов, и даже тоже попытаться привести их к некоей целостности, подобной не «гербарию» из сухих бабочек и жуков, а его же (слоя, наверно) гибкой до такой степени, что может в некотором роде считаться живой, системе художественной реальности. Главное, чтоб тянувшись за морошкой, как Пушкин, не угодить в болотную топь.
Лолиту можно по-разному представить. Но и у Кубрика, и во втором фильме это взрослые актрисы, взрослые режиссёры, и взрослая публика. Гумберту в идеале самому должно быть четырнадцать (да и его создателю), тогда всё совпадает, плоские картинки вдруг непонятным образом преображаются, становятся выпуклыми, оживают…
У Марии Шараповой помимо множества запечатлённых тенисно-стильных upskirt’ов есть теперь такая фотка, где она стоит в упруго-устойчивом, спортивном тоже таком нагибе, настойчиво выставив-выпятив нам свою скромную спортивную стать в обычных тренировочных штанах и через них даже просвечивают нам те самые пресловутые трусы-слипы с окантовочкой. Просто отпад! Идеал медитации – и для модели, и для зрителя. И никакие купальники, стринги и нагло обнажённые дабл-дырки здесь и рядом не являлись! Только у Янины, естественно, попа всё же немного побольше и куда повыпуклее, будто в 3D…
Моя ЯНА. Смугловатая кожа её спины, торчащие трусы…
Нельзя сказать, что «вся её поза дышит сладострастием», но кое-что, некое осознание, в ней уже проснулось, и когда она наклоняется, чтобы поднять ручку, или как будто бы неспециально нависает, облокотившись на парту, зачем-то прямо совсем сильно, как бы прямо над ней, устремившись, как и все, рассмотреть результаты контрольной – конечно, она кожей осознаёт и чувствует, что все мужские взгляды (в основном, к счастью, единственно мой, иногда плюс ещё Рыдваньера или С-ора) устремлены на неё, на ее привлекательно созданный зад в этих спортивных штанишках… И это категорически не то, что сейчас: кардинально заниженная талия, сползающие при наклоне или приседании джинсы – неприлично торчит весь лоскуток минитрусиков, либо комично торчит копчик, неуклюже торчат половинки, а стрингов не видно… О индиго! О проступающие в натяжении рубцы самых сексуальных в мире совковетско-детских белых трусеров!
Ходить в коротеньких майках и блузках, выгодно оголяющих торс с пупком, тогда ещё было не принято, миниюбки тоже вызывали удивления и нарекания – самым писком моды и пределом эротики были лосины – они в основном были розово-блестящего или голубого цветов; о платьицах и комбинезончиках-шортиках в деревне вообще никто не помышлял; коричнево-чёрные юбки от девчачьей школьной формы носились только по особо будничным случаям; а спортивные штаны и были самой что ни на есть повседневной одёжкой – причём и девочек, и мальчиков. Причём для первых при хорошей фигуре особым шиком считались штанишки в обтяжечку, а у меня, например, были шикарные пришароваренные чистосинтетические штанцы со спортивными полосочками и клиньями-вставками опять же алого, как пионерский галстук, и голубого цветов. Джинсы-варёнки (так называемые «Мальвины») давали по сравнению со спортивными трико не в пример более скудное представление о женской анатомии. Полуголые и почти полностью голые женские телеса в повседневной рекламе по ТВ не мелькали, каналов «после шестой кнопки» с их так называемыми эротическими фильмами (убогие постановки с несносными америкосными мордами, их улыбами, переговорами и позами) не было, не было кабеля, DVD, компов, мобильников и интернета. Самой откровенной передачей, как говорили, была аэробика, да ещё редкие в эфире фигурное катание и теннис, но, честно говоря, никогда не лежала душа моя к спорту… – только к спортивным штанам!
28-ep
Классе во втором я отчётливо понял, что необходимо что называется «дружить с девочкой», выбрав по своему и всеобщему максимализму «самую красивую из них» (читай: самую красивую из класса – без вариантов), а для этого надо «обращать внимание», какового действия существует уже два варианта: «плохой» – «дёргать за косички» и «хороший» – «давай, я понесу твой портфель». То есть, в отличие от анонимной и чисто «плотской» сексуальности дошкольного детства, сплошная романтика, идеализация или как там её – признак всё той же нашей культуры.
Я был стеснительным и выбрал второй. Но из-за этого же неотступного и, если можно так сказать, бурного стеснения я все золотые годки провёл только в фантазиях, как я, в очередной раз подгадав так, чтобы при походе домой увязаться за Яночкой, скажу ей это «Давай я…» По-моему, я однажды всё же решился и сделал это – один раз. Кое-как, конечно.
Впрочем, как-то я вполне себе легко – наверно потому что сие на этот раз не было запланировано – достиг дого же самого, повадившись «провожать» нашу молодую и красивую училку. Мне было восемь лет, ей двадцать три… И я ей сказал: «Давайте, я понесу ваш портфель». И она, покраснев, дала. И вскоре уже «начали поговаривать». Сначала меня вызвала на разговор мама и объяснила, что сие всё «неприлично» и «чтобы я больше не липнул к Е. В.», а когда и это не помогло (ведь я, как истинный джентльмен, не мог ей «сразу сказать» и всё прекратить по своему произволу), подобную беседу провёл уже директор. (А Яночку я тогда, судя по всему, избегал!.. Впрочем, она тоже быстро нашла мне замену.)
Объект же моего внимания, Янка, казалось мне и тогда, не испытывала особого стеснения: ходила при всех со мною домой (хотя прочие так не делали), кроме того, без свидетелей (что говорит уже о чём-то?) подарила мне фото какой-то собаки – кокер-спаниеля, вырезанное, кажется, из журнала «Юный натуралист». Так для ча ж мене собачка-то энта?! – именно так вы и спросите. (Тем более, что я всегда любил котов и богатырей, и вседа широко пропагандировал это – даже в школе – выбором темы рисунка или доклада или довольно вольной её интерпретацией: например, нетрудно предположить, что когда тема была «Зима» или «Родное село», пейзаж служил у меня только обрамлением исторических или фелиологических сюжетов!..) Однако согласно тому же поверью, важен не подарок второклассницы, а её внимание…
Почитай же всю раннюю юность (Ююю! – лечу как на тройке! а на самом деле на велике) я провёл в другой фантазии: я предлагаю Яночке её подвезти – чтобы она села на рамку. (Товарищ Губов растлил меня, поведав, как он подвозил подобным способом свою пышную одноклассницу: она была в непривычной близости, и он разогнался настолько, что когда «как бы нечайно» начал щупать ея за «наливные буфера», ничего не могла сделать – «оставалось только кайфовать»!) Как ни странно, я и это воспроизвёл – естественно, тоже один раз, и безо всяких там «буферов», поскольку они меня не интересовали, а больше другое – волосы, там, шея… Однако, Губову-то хорошо – он атлетист. А я был довольно тщедушным, а Яночка весила, наверное, чуть ли не в два раза больше меня! Но я ее всё равно домчал, по возможности ровно дыша и незаметно обоняя, почти до дому («почти» потому, что «братан Жека может увидеть»).
…Я помню эти майские дни, пронизанные не обычным, всеобще-заштатным (и довольно дурацким, как, кажется, казалось мне даже и тогда) пиететом по поводу весны, а чем-то странным и таким личным, чего сейчас уже почти нет… Каждый год, я помню, 25 мая, в день последнего звонка, у учеников младших классов занятий не было, и я с удовольствием отправлялся прямо с утра (по привычке просыпаться встав рано) в свой сад, где как раз в эту пору неожиданно вырастал и расцветал целый мир. Появлялась рослая трава, в которой заметно преобладали одуванчики – они были уже в пике: во весь рост, в расцвете, в самом цвете и в самом соку – и всё это буквально (можно вольно или невольно проверить); на косогоре за садом – сирень – эти старые, полуповаленные коряжники, которые мы каждый год жжём и вырубаем – расцвели! – и ещё ниже, совсем у речки – черёмуха, неповторимая, дарящая мимолётную эйфорию, почти безумие, ощущение, как будто всё происходит не здесь – а в тоже время здесь и сейчас! – но всё какое-то иное, новое, обещающее – как будто нет и не было (и не будет!) никакой школы, никаких долгих серых дней с жёсткостульным пристальным сидением и монотонной изматывающей говорильней, никакого пространства прямых углов, коричневых досок и осыпающегося с них мела, геометрических фигур в шкафах и портретов на стенах, никаких осени и зимы… Ветра не было, сильно пекло солнце, ветви с листочками уже немного скрывали тебя от посторонних взглядов, летали бабочки, пчёлы, стрекозы16, всё кишело жизнью, всё пахло и благоухало: яблони, вишня, слива, кружовник, малина. Ещё почти вчера, неделю назад, небольшие, но зато новые, свежие, ещё какие-то ручные, почти детско-игрушечные лопухи, колючки, крапива, простая и глухая, чистотел, кашки – теперь всё в настоящую величину – как будно у всех них – разнотравия – тоже именно сегодня последний звонок, и они, вырастая тут и там, «вступают во взрослую жизнь»… Под сливами и вишнями – обильная вездесущая крипива, перья чеснока, самого по себе выросшего – обоих этих растений и заставляли всю вёсну нарывать по полному утрамбованному ведру цыплятам и поросятам – кстати, в случае чего, отговорка, если кто застигнет: мол, не просто созерцаю или «гуляю» (что само по себе в деревне не принято и нет самого слова в этом значении), а за делом – траву рву, а так – свобода!..
Да и весна, как мне кажется, была тогда другой не только субъективно, но и объективно: не такая ранняя, не скороспелая-спидозная, радиоактивно-гипертрофированная – с четырёхдневным цветением одуванчиков и лопухами в мае как в августе – как будто сбой в матрице, и июнь-июль как-то куда-то проскочили, – а постепенная, настоящая, с мягким теплом и уютом. Тихо вдыхаешь горячий, горячительный воздух и каждое мгновенье бессознательно осознаёшь – и даёшься диву! – что на улице ещё более уютно (и тепло!), чем дома… Главное в ней было – предвкушение и обещание лета, такого долгого и безбрежного – не то, что сейчас! – то есть, повторюсь, свободы. Свободы от школы, ежедневной обузы, мучений и распорядка. Всегда чувствовалось, что уже в первые по-настоящему тёплые дни конца апреля всё это даёт сбой, начинает понемногу отступать: девочки упрашивают учителя выйти «на природу» – и так чуть не каждый урок – вместо опостылевших классов, заёрзанных до жирного блеска на крашеной поверхности, изрисованных и искорябанных стульев и парт – сидение на солнцепёке, на зелёном ковре с жёлтыми махровыми помпушками одуванов. Субботники, перебирание картошки в школе и дома, её посадка, «походы» – «экскурсии», походы в больницу – на прививки с никому не понятными заклинательными названиями «манту» и «бэцэжэ»…
Вот и вспоминается мне один из таких походов в нашу сельскую амбулаторию, находящуюся на другом берегу реки, ещё дальше за домом Мирзы, а ещё проще говоря, рядом с домом Яночки… Почему-то с уроков отпускали не всех, а парами – нас, как «тех, кто хорошо учится», отпустили вдвоём с Яной. И мы шли по земляной насыпи моста, по накатанной колее… или её обочине, изрытых осами… или уже их страшными сородичами (?) … так, что постоянно наступали на холмики вокруг их бесконечных норок и боялись наступить на них самих, и невольно созерцали всё это великолепие вокруг… Мутную тишину, стоящую – словно вяло опускающуюся с едва уловимым кружением в прозрачном, почти призрачном солнечном пространстве, будто тополиный пух или медленный снег, – над застоявшейся зелёной плёнкой ряски на речке… Наступающую на дорогу и речку растительность, свежую чешую от заколотой гарпуном рыбы, уже сухую, но всё ещё свеже и остро пахнущую рыбой… иной жизнью, сыростью, ряской и тиной… раздавленные улитки… какие-то признаки-остатки от застреленной из ружья щуки… Уже не помню… Честно говоря, всё это помню крайне смутно, будто бы во сне…
А потом оказалось, что нам почему-то надо ехать в райцентр, чтобы нам сделали прививки там. Или это были какие-то повторные прививки… Или какая-то дополнительная медкомиссия… Для самых умных наверно – задолбавших уже «отличников» и «хорошистов» (а вернее, уже именно вторых – ненавижу это слово!) … О, вспомнил! – так это ж была какая-то олимпиада районного масштаба. И вроде мы поехали вдвоём с Янкой, причём на уазике-батоне, бывшем в распоряжении нашего сельского врача. (Кстати, соплеменника С-ора, к которому бабаня, когда уж болела, заговариваясь, всё обращалась «Илья Ираклич», и мне сквозь слёзы было довольно потешно: так звали врача, который полвека назад спас ей жизнь. Тяжёлое осложнение после аборта, кажется, заражение крови, то есть верная смерть (на селе, где и сейчас-то акромя сего уазика и двух методов лечения ото всего: анальгина и димедрола, а в самом крайнем случае – их вместе – особо ничего и нет, и где в ту пору после родов на поля выгоняли на второй день). Но как раз была её сестра из Москвы, с которой и отправили двадцатипятилетнюю будущую мою бабушку – у мужа сестры, какого-то второстепенного актёра, было знакомство в научном медицинском институте. И вот Илья Ираклич её спас – и мне даже думается, что Бог специально дал её, мою бабаню, для меня!.. А Яночку, видимо, специально не дал. Ну да я понимаю…) Однако в воспоминаньях «пылкой фантастичной натуры» всё почти едино – и сон, и явь, и быль, и небыль…
И вот мы едем. С ней вдвоём! Вернее, с нами ещё двое попутчиков: девочка и мальчик, класса изо второготретьего, тоже отличники на олимпиаду – словно сами мы несколько лет назад, ещё не «хорошисты», ещё не знающие укола сладострастия, а токмо всякие прививки, не знающие томления плоти и всяких там связанных с этим понятий и историй. Но опыта у нас ещё нет, мы ещё свежи, как одуванчики. Хотя, кажется, все мысли об одном. Я чувствую её напряжение – как два магнита в разных руках – то отталкивание, то притяжение. Уверен: она тоже думает о том же, чувствует всё это, сочная моя Яночка с раздавшимся тазом, потолстевшими ляжками, наливными буф… большим, выпирающим холмом и натягивающим штаны треугольником, упругими ягодицами и нестерпимыми между ними ямочками… складочками… Пахнущая чем-то – как весна… Когда шли, я всё пытался отстать, чтобы подсмотреть всё это, посмотреть на ее задницу всё в тех же штанцах, а она, как бы не понимая, понукала меня!..
29
Не переставая причитать-ругаться, бывший прапор напяливал форму а-ля Фидель, спотыкаясь и путаясь в штанинах и рукавах, на ходу отдавая распоряжения Серёжке и пришедшей бабке.
– Иди, Серёжа, заводи «Камаз», я сейчас.
Через несколько минут Белохлебов, забежав «на склад», и, видно, порывшись в своих двух стоявших в ряд холодильниках, явился с полметровой красной рыбой, полметровой булкой, двумя поллитровыми баночками пива и совсем маленькой, четвертьлитровой бутылочкой водочечки.
– Жми, Серж, к Генурки. Я пока поем… Хочешь пива?
Глава фермерского хозяйства, одной рукой держась за ручку в кабине, чтобы не стукнуться на колдобинах и поворотах, а другой судорожно попеременно хватаясь за яства: отламывая булку, отвинчивая водочку, раздирая рыбу, откупоривая пиво – так что выходило почитай что одновременно, помимо всего этого, произносил ещё некий спич:
– Вот, Серёжка, я с похмелья, а ем! Тьфу-тьфу, как бы не сглазить! – Он эффектным жестом поднёс к носу зажатый кончиками двух пальцев отщипнутый кончик багета, жадно-глубоко занюхал его и тут же стремительно жадно-губоко затянулся из бутылочки, зажмурившись и сморщив лоб, но без брезгливости, и чрез миг он вновь занюхал булкой, и сделал такой вид, как будто ничего и не произошло, меж тем как бутылка опустела ровно наполовину, а сам он весь равномерно как-то порозовел или покраснел. И как ни в чём не был продолжал разглагольствовать:
– Другие вот не могут. А я – ем! Порода! Наша сибирская фамелия – Белохлебов. А знаешь, что означает? Не принято у нас было, деды сказывали, чёрный хлеб вообще употреблять – даже распоследнему крестьянину – ситный подавай, благородный белый!.. Никогда не похмеляйся утром. Не советую. Супчика нужно, чайку с сахаром, или просто вот острых таких продуктов вкусных поесть… Хоть… ой!.. и не лезет – через силу! Всегда себя будешь хорошо чувствовать, как я. Один раз правда было мне хреновато… ох, и грубо! – трясло – ну просто как кобеля, мутило, тошнило, башка раскалывалась, окаряживало прям всего, как парализованного – я не то что есть, срать даже не мог!.. Чтоб хоть чуть-чуточку полегчало, готов был не то что водки иль самогона, а хоть денатурата любого, хоть антифриза, хоть отравы для жуков выжрать! И мысль-то – не поверишь, Серёж! – была всё одна, как у наркомана – иль у Сажечки, кхе-кхе, кочетых ему в ж… у! – выжарить! Стерпел всё равно – всю жизнь хорошо! Давай, Серёж, побыстрей, жми, не жалей!.. Ну, в общем… – Фермер опрокинул в рот бутылочку и на этот раз не токмо виртуально, но и действительно закусил – той же булочкой.
«То к нему придёшь, он чаи гоняет, а то уж вот…» – думал Серж.
Пока они едут, следует уточнить, кто такой Генурки. «У него все на призывах» – говорила бабушка про таких людей, как Белохлебов (кстати, надо уточнить про сибиряка, кажется, брешет дядь Лёня) – всем всегда обязательно дающих прозвища. И два основных его создания – что «Сажечка», что «Генурки» были вроде и уменьшительными и даже ласкательными именами, но звучали в произношении фермера весьма неоднозначно. Геннадий Коновалов, тридцать два года, женат, двое детей, тракторист-машинист третьего класса, живёт в соседнем сельце Холмы. Был, как и Сажечка, помощником Белохлебова, но уж побольше полугода назад тот вышиб его за пьянство. Однако он всё же изредка прирабатывал в Белохлебовском хозяйстве, соглашась на самую чёрную работу на самых выгодных для фермерского хозяйства условиях, чем в основном и жил, а также другим редким колымом, но ему что называется хватало, потому как жена с детьми уехала от него в город. А Сажечка наш, в свою очередь, стал нащупывать в таком положении звёзд и светил своего рода плацдарм для исправления невыносимости своего. В последнюю их, двух помощников, встречу он и был застигнут Белохлебовым стоящим на коленях подле возлежащего на одре из дров – как на древнем погребальном костре – Коновалова и произносящего: «Гена, ты одна для меня путеводная звезда… Ты – самая моя звезда!.. Я всё сделаю – главное, чтобы ты жил!..». Надо ли говорить, что он тут же получил от руководителя (которому, как вы поняли, приведённые слова настолько запали в душу, что он их запомнил дословно и потом не раз цитировал не помнящему и не понимающему, как он мог такое изречь, Сажечке, а то и разыгрывал сценку перед Сержем, заставляя воздыхателя вставать на колени куда-нибудь в лужу) увесистого пинчища, а гуру – дрыном по башке. «Я эту секту искореню! Вот увидишь, Серёжка, узришь!» – чуть ли не поклялся тогда Белохлебов.
Серж с мастерством и проворством заправского взрослого водилы, а то и гонщика «Париж-Дакар», рулил по бездорожью; Белохлебов, колыхаясь и напутствуя, быстро и жадно поглощал закуску, с удовольствием прихлёбывая пивом.
– Может будешь, Серёжк, рыбу? Глянь какая.
– Спасибо, дядь Лёнь, я поел же с утра.
– А то давай я порулю… Побыстрей, побыстрей, Серёжа мой… давай…
«Как бы его совсем не развезло», – подумал было Серж. А потом подумал: «Да уж, жди! – в него полфляги влезет – хоть бы хны!».
30
Дом Коновалова был деревянный (что значит: другая деревня!) и порядком развалившийся и располагался на отшибе, на бугре, заросшем американкой, полынью и репейником, теперь являвших собой сухой бадорник. У дома стоял Сажечкин трактор, весь в грязи, как перекрашенный или вообще сделанный из земли. Дверь трактора, как и дверь дома, была открыта, а сам он стоял буквально въехав в то, что когда-то было крыльцом. Остался один столбик и кое-как держащаяся на нём покосившаяся крыша, перила и пол частично отсутствовали, а частью присутствовали под колёсами трактора.
Фермера вылезли из машины и поспешили в избу. В сенях, конечно, был жуткий беспорядок, хлам и грязь, выразительно пахло дрожжами, сивухой и блевотиной. «Карты-картишки, всё с вами ясно!..» – пропел Белохлебов, несколько замешкавшись перед избяной дверью, словно предвкушая. Серёга тоже предвкушал уже представление в стиле «Дядь Лёнь, прости!» и даже невольно представлял, как вечером будет пересказывать брату и бабушке.
И вот зашли: на полу валялся Генурки, свернувшись в клубочек, или как рапортует Белохлебов, «в согнутом состоянни», на его ногах в промасленных оборваных штанах и чудо-носках, дырявых до степени условности самого своего наименования, лежала маленькая дурная голова Сажечки, ноги же последнего были в сапожищах, облепленных засохшей грязью.
Полы и даже стены были истисованы17 грязными сапогами. Полураздолбанный Генуркин кассетник стоял под столом, включенный в сеть, и щёлкал забытой на перемотке кассетой. В чулане Серёга обнаружил самогонный аппарат в действии.
Белохлебов обошёл спящих и, неспешно приноравливаясь и представления ради сделав ложную разбежку, с выкриком «Одиннадцатиметровый! Двенадцатичасовой!» выписал Генурки по откляченному месту классического пенчера. «Не хуже вчерашнего», – отметил про себя Серж.
Генурки дёрнулся и замямлил во сне. Белохлебов схватил Сажечку, приподнял и тряхонул его. Весь красный и опухший, тот открыл глаза, пустовато таращась, видимо, пытаясь понять, кто он, где и кто перед ним.
– Лёнька… – голос его звучал издалека.
– Я те, сука, дам Лёнька!
Фермер швырнул помощника в чулан – так, что он загремел там в какую-то посуду. Принялся трясти второго.
– Генурки! Вставай, мой золотой!
Веки разлепились, глаза были ещё более красные, взгляд был ещё более нездешний и равнодушный.
Белохлебов, улыбаясь, бережно приподнял голову младшего помощника, приблизил к себе.
– Это ты, Ген?
– Вя…
– Ты, – констатировал Белохлебов, а потом, театрально сменив тон, будто бы с великим сожалением спросил: – Нажрался?
Совсем неожиданным было то, что Генурки в этот момент как-то вырвался, вскочил и, сильно ударив кулаком себя в грудь, заорал:
– Нажрался!!!
– Нет, какая наглость! – Начальник таким же способом отправил в чулан и Генурки. – Герой мне нашёлся! Марат Казей! Олег Кошевой! Повесть о Зое и Шуре! Как будто его фашисты допрашивают, фетишисты, а он: я! Щенок пузатый! Крыса чахлая! Я за тобой прибасать не буду!
– Давай прибаснём!..18 – эхом отозвался из чулана Сажечка.
Белохлебов отщёлкнул кнопку магнитофона, выдернул его из розетки и бережно убрал на место.
Когда он заглянул в чулан, то прямо обомлел: на вёдрах и бачках полулежали оба помощника с полными стаканами в руках! Более того, не обращая никакого внимания на хозяина, они чокнулись и, трясясь, морщась и обливаясь, протянули прямо у него на глазах по целому губастому стаканищу первача!!
Белохлебов нашёл выключатель и включил свет в чулане, но он не загорелся, показал пистолет, снял его с предохранителя… Знакомый звук всё же привлёк рассеянное внимание пьяных. Они сразу вскочили (как им казалось), а на смом деле не сразу: довольно ещё покуртыхались, пытаясь устоять на расслабленных ногах, но всё же встали, порядком напуганные, и когда им уступили дорогу, вышли на свет божий.
Белохлебов схватил Генурки в охапку и, приставив пистолет, поволок из избы. Поставил к стенке, отошёл, целясь. Видно было, что герою всё равно – ему и так так плохо (или вместе с тем и хорошо), что наверно всё одно… Только хотел выстрелить, как тот упал – прямо как был плашмя, прям лицом в грязищу. Тут фермер попросил третьего помощника, «неофициального, но самого вменяемого», принёсти из сеней бутылку с олифой, старую и всю в пыли, уж давно замеченную его прапорским хозяйственым глазом: как-то он уж выспрашивал у Сержа: «Гля, олифу-то наверно надо забрать?..», на что получил ответ: «Да накой она тебе, дядь Лёнь? – она уж столетняя!» (а про себя: мелочен как Кенарь!), и, видно, напрасно: теперь и сгодилась! Повесил её на проволоке за край крыши, а Генурки поставил-прислонил так, что бутылка оказалась как раз над его головой. Отошёл.
– Прощай, друг Генурки… – тихо молвил Белохлебов.
На сей раз, когда опохмелка, видно, достигла души, жертва грохнулась на колени – опять в самую жижу.
– Дядь Лёнь, прости!!
– Нажрался?!!
– Нажрался… – теперь голос Коновалова звучал тихо и жалобно.
– Он тебя споил? – строго спросил фермер, продолжая экзекуцию, так сказать, инквизицию.
– Вместе, дядь Лёнь, ей-богу, вместе.
– Самогон пили?
– Да, дядь Лёнь, самогончик. Только стопка набежит – мы её хлоп!
– Значит, набежит? Сами гоним, сами пьём, и хлоп, да?.. Вот и я вас хлоп! Прощай, Генурки!..
Произнеся это, Белохлебов выстрелил в бутылку.
Генурки весь передёрнулся, как будто пуля попала в него, и вновь упал плашмя. Весь был забрызган олифой, которая ему самому показалась кровью.
Белохлебов стоял над ним, не то поразившись и глубоко задумавшись, не то закатившись, что и не продыхнуть, от смеха.
Серёжка что-то кричал ему. Фермер очнулся.
– Сажечка убёг!
Сажечка уже завёл трактор и сидел внутри, врубил сдуру девятую – трактор прыгнул и заглох. Снова завёл и врубил восьмую, резко отпустив сцепление, – трактор прыгнул и поскакал.
Белохлебов запрыгнул в «Камаз».
– Серёж, залезай!
И они тоже рванули с места.
31
Сажечка выписывал кренделя по паханому полю – земля была как кисель – Белохлебов летел за ним. Начались гонки в стиле «Кэмел-трофи»: крутые виражи, заносы, пробуксовка, дым, струями летящая грязь… в кабине – тряска, пот и пар, накал эмоций…
Как ни странно, Сажечка, который пару раз чуть не перевернулся, всё же как-то умудрялся сохранять равновесие и дистанцию. А вот охмелившийся Белохлебов, закладывая очередной резкий поворот, чтоб в который уже раз «пойти наперерез», вдруг зарулил так, что грузовик едва-едва не упал на бок. Тут уж и Серж, несколько раз уже неплохо треснувшийся лбом об «дверной косяк», воспользовшись паузой – машина была парализована, сильно наклонившись на бок, так что водитель, получалось, теперь держался за баранку только потому, что скатился, чуть не вышебленный вовсе, вниз к помощнику – сказал несколько слов главному фермеру (в том числе, и как вырулить, чтоб не упасть совсем), а потом и вовсе пересел на водительское место.
Белохлебов же, опять и снова как ни в чём не бывало, достал из-за сиденья двустволку, патроны, зарядил и со словами «Ты в профиль, Серёжк, как бы наперерез!..» приладился в ветровое окно.
Началась пальба!.. Сажечка был уже у края поля, и его носило из стороны в сторону максимально сильно – несмотря на это (и на увещевания Сержа: «Дядь Лёнь, поверху-то уж не стреляй – убьёшь ещё!») бывший прапор, выкрикивая между выстрелами и виражами: «Убью! А ты думаешь – ать!!! – я что хочу?! Покалечу! Ты, падла, у меня полгода будешь лежать… На-ка!!! Работать будешь – лёжа – похрен! – в инвалидной коляске… в гипсе и с гирей – бесплатно будешь – от-так!!! – вкалывать, тварьё алкашовское!».
Выйдя на дорогу, а с неё на луг, трактор быстро оторвался, погнал по холмам вниз, в лощину к речке, пока не скрылся из виду (Белохлебов ругался ещё пуще, одновременно умолял и заклинал гнать побыстрее и, конечно же, наперерез и в то же время ещё и местами пытался вырвать руль!), а потом по пойме поехал обратно.
Так, сделав небольшой крюк и некоторого рода даже обманный манёвр, он вскоре явился по пойме опять ко двору Генурки – и тоже «как бы с понтом как ни в чём не бывало».
Однако действительно (или по крайней мере, так показалось Сажечке, который потом всё и рассказывал) в состоянии «как ни в чём не был» пребывал «друг Генурки» – он полулежал в чулане на тех же бачках и «выжидая, как набежит, выжирал самогонище».
Сажечка же, надо сказать, с молодости был благой19: имел нрав крутой и даже злопамятный. Хотя сам это Серж «не застал» – никогда не видел. Одно из первых ярких воспоминаний детства, по словам брата Лёни, был сидящий на корточках с обрезом, перемотанным синей изолентой, Сажечка и окровавленная физиономия соседа дедка Пимча (отчество Пименович), его руки и одежда в крови… Выстрелы… Бабушка расказывала потом, как Сажечка туразил20 за дедом (вроде играли в карты по пьяни и что-то не поделили), караулил обидчика у их дома и всё же выстрелил прямо на улице около домов прямо в него – «Я Лёньку-то еле только успела убрать! Батюшки, сердце так и ёкнуло! Кричу: что ж ты, изувер, делаешь?! – дети ж тут играют! А он – сидит у оградки – глаза налитые: „Убью!“ и „Убью!“, и всё тут!» – как-то чиркнуло и рассекло кожу на лбу. Потом приехала из района милиция, и ушлый наш Сажечка ещё отстреливался, бегая от них огородами… Потом года полтора и отсидел за свою – уже неоднократную – дурь.
Теперь он приказал сотоварищу: «Садись в трактор – отвлекай! А я пока домой напрямки (наперерез, через речку – если по льду или вброд довольно близко) за обрезом сбегаю! Убью, падло! Отомщу за всё! Всю кровь мою высосал, собака, фашист, рундук еврейский!» – опрокинул полстаканища и правда погнал!
– Санькя, не надыть можть… Там жа ж и Серёжка-то!.. с ним в кабинке…
– А нех… й фашисту пригузничать! Порешу всех! Не будешь – и тебя! Гони!
И погнали. Генурки был пьян в раздуду, но всё равно при помощи товарища влез в трактор и даже тронулся. Сажечка, возбуждённый до такой степени, что его всего трясло от злости и он мог ещё проявлять, будто трезвый, чудеса резвости, пустился, как в молодости, бегом на зада, потом в низа – наперерез.
Генурки, который кое-как ехал незнамо куда, на полнейшем автопилоте, вместо того, чтоб отвлекать, буквально пошёл в лобовую… Когда на краю пашни «Камаз» дал по тормозам, открылась дверь и выпрыгнул Белохлебов с ружьём, тут же открылась и дверь МТЗ и во взбудораженную почву свалился Генурки. Он было даже побёг по пахоте, но уже через дюжину шагов на его ноги, и так нетвёрдые, тут же налипли «лапти» – по несколько кило земли на каждую – и он упал.
Слёзно умоляя: «Дядь Лёнь, прости! Не стреляйте, пожалуйста! Я за вас!», он буквально полз на коленях по пашне обратно, пока не уткнулся лбом в дуло ружья, а руками всё пытался обнять Белохлебовские сапоги, грязный, как чёрт…
– Ты-ык, сука… – процедил Белохлебов.
– Дядь Лёнь, прости! Я всё раскажу! Всё отработаю!
И вскоре они уже втроём мчались наперерез бежавшему наперерез.
Искомый объект был настигнут в тот миг, когда он переправлялся вброд. По приказу главного Серёжка врубился на «Камазе» в речушку. Сажечка, в шоке, в волне брызг, отпрыгнул в сторону – прямо в воду! До этого он шёл только «по яйцы», а теперь окунулся прямо и «с головкой»!
Под ружейным дулом и несусветным матом Белохлебова его помощник всё же выбрался на тот берег. Тогда тут же из машины был вытолкнут Геннадий Коновалов, который наподобие охотничей собаки, по-собачьи резво по-собачьи переплыл ручеёк, и опять ползя на коленях, схватил за сапог уже Сажечку.
– Что ж, Санькь, такая уж жызня у нас собачия… – как бы извиняясь приговаривал он, извиваясь по куге и грязи. Сажечка, в отяжелевшей от воды одёже, тоже упал, что-то барахтался, и так и не встал.
– Держать! – выкрикивал Белохлебов. Серж смеялся и, потешаясь, несильно вторил: «Взять! Ату его!»
Только через полчаса юный водитель смог вырулить на другой берег.
Когда главный фермер ступил на твёрдую почву, он начал уже вторую за сегодняшний день экзекуцию.
– Не бойсь, не бойсь, держи – тебя не буду! – провогласил он и начал мутыскать оклемавшегося уже поморника, а под конец даже содить в пинки, всё нравоучения ради причитая и всё же довольно часто как бы невзначай попадая и по второму.
Вскоре устал.
– Пусть тут и остаются, – сказал он. – Давай, командир, шей домой.
И они уехали.
32
Белохлебов ещё настоял, чтобы они поехали в соседнюю деревню, чтобы забрать там с мукомольни пару мешков дроблёнки для «бабкиной» скотины. «Куда ж ты, сука хапаешь-то всё? – вспомнились Серёге слова бабушки своей, – бабке уж восемьдесят лет, а всё заставляешь за скотиной прибасать! Она так-то жизню-то иё не видала с малолетства! А теперь ещё и тебя обрабатывать!»
Серж покорно повернул на большую дорогу, хотя и совсем неблизко, и чего доброго, тут могут даже попасться менты (и сильно уже проголодался!), по пути выразил хозяину беспокойство за судьбу оставленных у реки фермеров, да даже и фермерства вообще.
– Ничего, – зевнул Белохлебов, – а помнишь, Серёг, в том году-то этот кадр (Сажечка) тоже тут нажрался и даже уснул в дуплет у речки – ажник поутру ноги в лёд примёрзли! – и как с гуся вода – сапоги скинул и домой! Лапы попарил с горчицей, недельку поковылял – и хоть бы хны!
– Спроси у гуся: не озябли ль лапы! – чтобы хоть что-то ответить, процитировал школьник ту же свою бабушку, а сам думал о своём. Намаявшись за день до невозможности, он уже как бы спал, доверившись непонятному пресловутому автопилоту, а перед его внутренним взором сами собою показывались и проносились похожие на сны или воспоминания картины, наполненные неким предчувствием, но не тревожным, а навевающим какое-то странное умиротворение.
Он вдруг представил, как они вот едут, и подъезжают уже к улице своих домов, мягко сминая жирную чёрную массу грязи – как будто пластилин, навоз или глина… или перина… – поедая колёсами тонкий белый слой нападавшего снежка – почему-то кажется, что едут по простыне, и она от колёс пропитывается, как ткань кровью, вязким чёрным соком – как будто чёрно-белый фильм… – немного буксуют, и у дороги у сада видят тёмный силуэт брата… «О, Ган тарантасит!..» – произносит младший Морозов, а сам думает: видно из сада только идёт домой. Ежедневный ритуал: после уборки скотины – и до ухода с портфелем и сумкой с банкой молока на ночёвку к бабане – а сначала, конечно, в клуб – незаметно (так всё никак его и не настигну – некогда, блин!) исчезает на часок в темноте сада. Там он берёт какие-то палки – срывает с деревьев прутья и сам с собой фехтует ими, подбрасывает – да так увлечённо!.. и главное – как-то прям быстро-замысловато, как будто кунг-фу изучал! И хреначит их друг об друга, пока все не попереломает – типа пока один какой-нибудь Брюс, нинзя или Александр Невский не ухайдокал целый отряд! Потом отец ему как-то говорит: «Зачем ты разбрасываешь палки?! Я только соберу – на другой день опять всё в палках!» И он ничего и не ответил. Я-то знаю!.. А откуда ж я-то знаю?.. Видел как-то… Так когда? Не помню чё-то – совсем, наверне, маленький был… С кех пор, как говорит бабушка, хреначит! Чуваку уж трахаться пора, а он… Впрочем, мне тоже…
– Во-во! Я знаю, чем это кончится!.. – фоном, как радио, вещает Белохлебов.
Вдруг представляется почему-то, как Гану представляется эта картина. Он стоит у сада и думает, представляет всё это, а сам как бы ещё уже думает, как бы это ещё в своёй писанине описать… Что лежит Сажечка на том самом сегодняшнем бугорке, на кочках, растянувшись на бережке – дрыхнет, промоклый и грязнищий, а ноги в воде… Лежит как на перине, только чёрной, вокруг темь и ни души, и снег ложится на него, равномерно покрывая (как это, саван, что ли?) – уже не тает, как на мёртвом. И постепенно ласты его в сапожищах уже во льду… И стоит над ним высоко сияющий белый круг, а от него столбом прямо в речку бьёт острый столб света… Чё-то я со столбом переборщил… Ну, может, не бьёт, а давит, как там этот говорил… Остап Б’ендер. (И всё же я умный – почти как Ган!) Блестяще-белый, как лезвие… да и вообще весь лунный свет острый… (А всё же вот как я могу написать, думает Ган.) А в этот миг у него в доме, в нескольких сотнях метров отсюда – если бы встать, чуть подняться на буйдан21, свет даже можно увидеть – зажглись окна. Жена их зашторивает, устало вздыхает (уборка скотины закончена без мужа), включает детям и себе телевизор, думает… (Ну ты, брательник, загнул – просто телепат какой-то! И о чём она думает?!) Ну во-первых, о кастрюле на плите – остыли щи или разогревать… Ладно, отвлёк – вернёмся к Сажечке. Никому он не нужен, Сажечка (размышляет Ган дальше), и ему никто не нужен, и так он может в любой миг, допустим, вот сейчас, запросто сгинуть и пропасть, и сам знает это, а всё равно как бы сознательно жрёт и бедокурит, не взирая ни на что и ни на кого – даже на Белохлебова!
Пока это всё мельтешело в воображеньи Серёжки, они и правда выруливали уже на свой плант. И всё так и было, только фары вот не учёл – темень уже спустилась глаз коли – а вот и фигура Леонида, только уже с ранцем через плечо и сумкой…
Надо ли говорить, что пострадавшие не сильно раскаялись. Доползли до дому Генурки и продолжили свой отступнический банкет. А немного за полночь была и третья экзекуция.
33
16 марта. 8:03Леонид Морозов не любил посещать, как он говорил, одно заведение. С самых младших классов, каждодневно просыпаясь из утра, недовольно восклицал: «Опять в барду!» – для него хождение в школу было тяжелейшей повинностью. Он всегда приходил на пару-тройку минут позже звонка на урок, хотя идти от дома бабани ему было ближе всех. Особенно его раздражала зарядка, введённая директором, к которой надо было приходить ещё на пятнадцать минут раньше.
К своему удивлению и даже некоторой гордости (как бы «за проделанную работу»), на сей раз он шёл туда даже с интересом, чуть не бежал, чувствуя себя инициатором и хозяином. «Что-то явно из всего этого выкристаллизовывается…» – думал он.
Переобувшись на мерзкой сырой тряпке у порога («Надо С-ору сказать – пусть нормальное что-нибудь положит, фак!») и сняв куртку в раздевалке, он швырнул сумку с учебниками на подоконник и отправился прямиком в учительскую.
Тихо постучал, заглянул и, учтиво поздоровавшись и извинившись, попросил С-ора выйти.
Директор, сидевший на недавно купленном здоровом и мягком диване, весь закраснелся и заметался по нему.
Морозов посмотрел учителю прямо в усы и скомандовал: «Let’s go! Они уж небось заждались!»
На двери предпоследнего в левом крыле класса (№7) кроме таблички «Кабинет истории» висела ещё одна: «НЕ ВХОДИТЬ!» и как бы невзначай рядом отирался верзила Губов с кастетом и явно не в духе.
Леонид пристально посмотрел на охранника, а потом ещё пристальнее на учителя. Тот помялся, побурчал и вытащил из кармана тысячу. Зубы товарища Губова немного погромыхивали, да и всего его заметно подконокрачивало; Бадор что-то сердито проурчал в усы, а Ган: «Да, да. Жрёть». Он воспроизвёл свои взгляды ещё раз, и Бадор нехотя добавил ещё такую же бумажку. Губов выхватил деньги и резво устремился по знакомому всем адресту.
– В кибинет принесть? – уточнил он.
– А как же. Только смотри не выжри!
– Ды уж невмоготу…
Наконец-то учитель открыл замок кабинета, и они вошли.
В центре стоял стол из сдвинутых парт. На нём живописно располагались остатки вчерашнего «ужина». На полу у окна стоял школьный музыкальный центр, вокруг него были разбросаны – а частью и распотрошены-раскрошены кассеты; и тут же в таком же состоянии – сигаретные бычки. У стены стояли две кровати, заправленные чистой и какой-то даже атласной постелью. Кроме того: Яха в одних трусах спал у кровати, ноги его, все грязнищие и угловато-костявые, находились на постели; Мирза, свернувшись на полу на подушке, дрых на полу, как котёнок; малой Шывырочек, закатавшись в покрывало, лежал под столом – короче, вся шаражка…
Вся эта «панорама» напомнила Морозову недавнюю сцену у Генурки, обрисованную Сержем, как он её себе представлял – почти как дежавю…
На столе стоял грязный сапог, на столе и около него валялись несколько бутылок, банок и стаканов, еда была вся раскрошена и набросана вперемешку с осколками посуды и передавленными маринованными помидорами и вишнями из компота, пятна которого напоминали кровь. Яхины пожитки, видимо, специально были разбросаны повсюду: не только на полу, но и закинуты на шкафы, а второй сапог залез в кашпо (!) с традесканцией! И конечно же, классная доска была украшена соответствующей надписью и уделана смородничным вареньем с влепленными в него бычками, теперь уже подсохшим и являющим миру своеобразное художество наших школьников, по коему наглядно можно увидеть «то, что у них внутри» или «то, что хотел сказать автор».
– Рота, подъём! Вставай, друг Яхин! – поприветствовал присутствующих лёжа Морозов, кивнув ассистенту, чтобы тот подымал Яху.
Яха зашевелился и задёргал ногой. Швырочек уныло посмотрел из-под парты.
– А тебе, шершавый, между прочим, сегодня в школу идти – у тебя контрольная по математике! Вот и твой классный руководитель, прошу.
С-ор смухордился.
– Бъ-лять… – осёкся Швырочек, – сёдня первым математика!
– Решили домашнюю задачу? – «нашёлся» Бадорник, не найдя что сказать, и как бы решив подыграть.
– Ага, бля, решил, – сказал Мурза, и перевернувшись (и опять так же свернувшись) на другой бок, – вчера до трёх часов решали!..
Двенадцатилетний Швырочек, позыркав похмельно-пустоватым виновато-вороватым взглядом по присутствующим, всё-таки выполоз из-под парты и начал искать школьные принадлежности, и даже весьма жалобным голоском пытаясь что-то спросить у присутствующих лёжа.
– Пенал не забудь, Витёк! – сказал, не меняя позы, Мирза, и все заржали – даже С-ор.
В дверь постучали.
– Хто-о та-а-ам-м-фр?.. – не вполне членораздельно проорал Яха, всё ещё находящийся на границе миров сна и яви.
– С-ор ***вич, вы тут? Откройте. Я посмотрю, что у вас за ремонт! —естественно, это был директор.
– Да мы… не могу… Это сюрприз… Мы тут с… Сашей совещаемся, с какой стороны вмонтировать диапроектор…
– С каким ещё Сашей? Откройте сейчас же!
В это время Яха встал, пошёл за штанами и, подскользнувшись на вишне, бражнулся. При этом он выругался нецензурщиной, а также схватил бутылку и запустил в стену.
– Это что там у вас?! Сейчас же открывайте!
– Это… экспонат упал.
Яха даже кхякать не мог по-атитекторски: видно, хреновато ему с будунища. Надувшись, выкатив красные глазки, уставившись, как баран на новые ворота, на Бадора, шатаясь, вихляясь и прыгая, он нервозно напяливал штаны, причём задом наперёд.
– Какой, к чёрту, экспонат?! Мы сейчас выломаем дверь!
Кенарь постучал ещё минуты три и ушёл: дали звонок на зарядку.
34
16 марта. 8:20Морозов тоже пошёл. А учителю сказал: «А вы куда? День велик. Надеюсь, вы всё поняли». С-ор понял и покорно полез за сапогом.
Пока он лез, динамики, вывешенные почти в каждом классе (самое новейшее техническое новшество от нашего Кенаря, реализованное, конечно же, Бадорником и Рыдваном), зачали извергать зловещие, никак не приличествующие моменту звуки «Раз, два, три…».
– Витёк, Рая, выруби ты эту побардень! – вскричал Мирза. – «Металлику» давай! «Иде?!»
Приказание исполнил Швырочек, воткнув свой любимый медляк из «Роксет», а у громкоговорителя, вещающего утреннюю зарядку, оторвал провода.
Бедный грузин С-ор достал сапог и принялся одевать Яху, который брыкался и дарил всем нечленораздельные выкрики, средь коих относительно ятными были лишь «Ды уди ты!..», а также матерные слова и обидные прозвища.
Вдруг в дверь начали бить так, что посыпалась штукатурка.
– Хто?!
– Я! – отозвался, не переставая содить, Губов.
С-ору пришлось открыть и даже, всячески опасаясь быть встреченным Кенарем, шибко сбегать в коридор к крану помыть стаканы.
Как ни странно, г-н Губов в точности выполнил поручение Гана. И теперь он, весь дрожа – наверно, от волнения – тянул свою опохмелочную дозу, и когда выпил, оно сразу прекратилось. Шывырочек, который уже стоял при нём наготове (по команде «А ну, шаршавый, к ногтю, дай-кась!..» – чуть склонив голову, тоже немного потрясываясь, зажимая себе нос и отворачиваясь-морщась), быстренько дал собой занюхать – для этого он употреблялся Губовым постоянно, и имел даже кой-какие проценты. Тот же поданной тем же ассистентом метровой линейкой отковырнул с пола резанку какой-то вчерашней колбасы и, ловко поддев её, подбросил вверх, после чего довольно точно словил губастым ртом и, пару раз жевнув, проглотил. Малой зааплодировал, но получил не награду, а по лбу линейкой. Желая продемонстрировать, как быстро избавился от вибрации в членах, Шлёпин кивнул помощнику, чтобы тот поставил налитый стакан на край линейки, а наш артист на вытянутой руке преподнёс его Яхе. Фокус, однако, не удался: Яха-то был ещё не охмеленный! Он уронил свою дозу, за что тоже получил по кудрям.
После смеха и напутствий взявшись за второй стакан, Яха, поднося ко рту, долго морщился и стонал, а потом набрал самогону полный рот и вроде бы поперхнувшись – бьюсь об заклад, что нарочно – отфыркнул его в лицо С-ору!
Все стали удыхать ещё пуще и под шумок похмеляться. Охмелился своими «пристяжными процентами» даже немного поломавшийся («При учителе неудобно…» – «Ды ладно. Он щас сам с нами выжрет. На, Куржо!») Шывырочек.
После этого обслуживающему персоналу была дана ещё парочка заданий: «Принеси ведро воды, чтобы мы могли умыться!» и «Собери чё-нть закусить!».
35
16 марта. 8:45, 9:35Леонид Морозов сидел на занятиях в соседнем с кабинетом №7 классе, смотрел в окно, за которым ярко сияло весеннее солнце, и по подоконнику барабанила весёлая – или наоборот невесёлая, унылая, как и всё в школе – капель… Прозрачные, блестящие, искрящиеся капли то и дело лениво – тем не менее, ускоряясь! – пролетают свой видимый путь, эффектно – но невидимо – разбиваясь… впрочем, почему невидимо – брызги так и окропляют стекло, нижнее, в которое он и смотрит, сияют, радуются… и ползут вниз… Он поймал себя на том, что не может теперь впасть в то тупое, но уютное забытье, в которое иногда впадал раньше, отбывая бесконечные часы «барды» – те из них, когда удавалось просто сидеть и слушать – никто не спрашивал и не устраивал безобразий – когда, допустим, не было Яхи, не было Яны… и ничто, кроме спокойного созерцания своих мыслей и бурчания лектора не беспокоило…
Но он не любил такую погоду. Он любил, когда пасмурно: плавные мелкие снежинки или хлопья в марте и ноябре – вот это поистине вдохновляет – и просто на какое-то невыразимо томительное ощущение себя и природы, и потом, конечно, и на писание. А если хочешь драйва – выходи в самую стихию – в метель или ливень с грозой!..
Он почему-то вспоминал, как всё это началось, почему-то в мельчайших деталях сами собой «вспоминались» рассказы Сержа о его визитах к фермерам, но как бы уже прошедшие словесную обработку (в самом деле, уже прошедшие), оформившиеся в более-менее внятные строчки, которые теперь может прочесть и понять каждый, но одновременно с этим и такие личные, «одинокие», «свои», что, конечно, обусловлено тем, что теперь происходит некий обратный процесс: они как бы проецируются обратно – как кадры киноплёнки, когда-то снятые с действительности, и он видит всё это в образах, как настоящее – обработанная реальность, даже не свои впечатления, оживают и смотрятся как свои собственные и настоящие.
Серж, Белохлебов, Сажечка, запорошенная снежком техника на задах… Падают капли, или скорей снежинки, которые сразу, растворяясь на земле, превращаются в капли… растворились совсем – плавные капли-удары – то там, то там, в каком-то неведомом плавно-неприрывном порядке – как будто кто-то на компутере зашаривает, подумал Леонид, и явно не просто текст, а как пить дать тоже проходит «Соло на клавиатуре»…
Учитель говорит что-то про то, что «Человек пишется с большой буквы», и Леониду представляется, как некоторые буквы, рассыпанные по земле и всему вокруг – чёрно-белая картинка из множества семенящих-меняющихся капелек-букв (потом это будет уже «Матрица»! – 2008), – вдруг преображаются и сами собой, автоматически вырастают, как в программе «Ворд» – и все имена – не только Яна – даже С-ор, Папаша и Сажечка! – перерастают в заглавно-буквенное написание…
Вот немного и получилась прежняя медитация… Но сейчас всё равно всё внутри заполнено каким-то волнением, заботой, предвкушением…
Морозов же младший тоже размышлял, и по сути, о том же, ну, уж точно о тех же… И ещё о брате. Ган мой остроумен в доску, думалось ему, токмо остроумие своё он проявляет только со мной. Чтоб он вёл себя по своей сути, с ним нужно постоянно близко вожжаться. Вот бы его это остроумие да на публику! И теперь он, наверное, и хочет расширить свои таланты.
И Серж невольно улыбнулся: вспомнил один пример леонидовского остроумия, ещё давнишний, когда всех этих импровизированных «беспредельных» гулянок не было и в проекте (хотя он, кажется, и тогда уж фантазировал об опохаблении Кенаря и учтелей!). Был какой-то открытый урок, где присутствовали и мы, мелкие, и старые – Папаша, там, Брюс, Шлёпин, Суся. Кенарь нёс что-то про Африку, про её природу: «А вот, говорит, пеликан, всё такое, и он в свой мешок под клювом может набрать десять литров воды!» А Ган на это негромко так, как бы между делом: «На нём до Тамбова можно доехать и обратно!..» Все так и ушли в покат, и весь урок потом ржали, что бы кто ни начал говорить!..
Сидя уже на втором уроке, который «по причине сбивки в расписании из-за отсутствия 7-го кабинета» проводился тут же, Леонид Морозов услышал, как и все прочие, знакомые звуки…
Учитель физики, устами Яхи прозванный за свой большой рост Рыдваньером, как раз пытался получить от класса формулу количества теплоты. Леонид уже тогда задумывался (а иногда и высказывался – благо, что сей молодой учитель видел в нём интересного собеседника и человека – может быть, не с такой уж большой и каллиграфически-прописной буквы, как в литературе, но с физически твёрдой, плотной и ровной печатной «ч» – и в глазах Морозова сам являлся именно таковым), что само, допустим, это словосочетание «формула количества теплоты» звучит для уха ученика как тарабарщина или, скажем, магическое заклинание, не обозначающее в реальном мире ничего жизненно-реального, и единственная причина существования которого – непонятно кем заведённая традиция – «так надо». То же Морозов говорил и о других знаниях, упакованных в определения, формулы и графики (особенно, конечно, по алгебре и геометрии), которыми с утра до вечера пичкают учеников, которые по окончании заведения дай бог умели бы читать (медленно, со сбивками, почти по складам), написать с десятком ошибок заявление и без ошибки – свою фамилию, и считать купюры, изредка прибегая к калькулятору – то есть, как минимум лет пять обучения отходят С-орову Котофей-Иванычу под его пушистый хвост. Преподаватель, естественно, не разделял точки зрения ученика: доказывал, расшифровывал формулы, рассказывал о достижениях науки, а особенно техники. «Представь: скоро телефоны будут без проводов – можешь куда угодно идти, ехать и говорить! В телевизоре будет не три программы, а… двадцать три, а может и все сто!» – в общем, весь источал так присущую всем учителям веру в прогресс – в постоянное увеличение зарплаты, повышение квалификации, присылку новых учебников и пособий…
– Старую? – устало-уныло переспросил Морозов («Всё равно, никто больше не вспомнит!..»), – Q = cm (дельта) t, где с…
Учитель должен растолковывать, исподволь думалось ученику, внушать, почти что как гипнотизёр. Уж не надо, может, приговаривать к каждому слову на манер Кашпировского «Я даю установку», но можно же внятно интонировать, выделять главное и после него сильно сказать: «Так, запомнили». И повторять и растолковывать, пока хоть один ученик отвечает, что он не понял (особенно если в классе их меньше десятка, как в сельской местности!). А то что получается: задача учителя – только кое-как прогнать текст из учебника – как правило, крайне невразумительно, бегло, блёкло и вяло, что называется вподряд и без разбору, а то и почти уж нечленораздельно, а после добавить: «Кто не понял, прочтёте дома по учебнику»…
– А скажи-ка, Лёнь, лучше, что там у вас за ремонт? – вдруг перебил учитель, улыбаясь.
Надо сказать, что звуки были явно не строительно-ремонтными, а несколько иными: музон, топот да присвист, пьяные возгласы типа «Опа!» да «Оба!» и звон посуды.
– Сейчас наверно полы мостят и обивают релином, – установил Морозов, едва сдерживая улыбку.
…Причём это же должен сделать на следующий день (или урок) и любой ученик: пересказать тот же текст из того же учебника! Разница лишь в том, что учтиля получают за это зарплату (и если уж теперь не статус, то уж точно своё неоправданное высокомерие!)! Да какой-нибудь Белохлебов-прапор куда лучше объясняет! Чуть не Сажечка! Или я… А уж о Папаше и говорить-то нечего!..
Наверно всё же улыбнулся, но старался этому противодействовать, и стараясь, аж как-то больно растянул мышцы на лице.
– Да? Я так и подумал. Садись.
Физик тоже улыбнулся – свободно и широко: он всегда так улыбался, с завидным постоянством, а распаляясь-забываясь, ещё и прыскал слюной, как иногда Мирза или всегда как их общий прототип доктор Ливси.
…Тем паче, что сами школьные сведения, которые нам внушаются, почти что все настолько упрощены, искажены и так «интересно» подобраны, что вполне можно сказать, что они попросту не соответствуют действительности. Не соответствуют современной научной картине мира – принесите видному учёному – а лучше выдающемуся! – учебник по его дисциплине и спросите, что он думает – он только рассмеётся!.. Когда смотришь на портреты учёных (или литераторов), висящие на стене в классе, то само уж по себе это вызывает какую-то тоску: кажется, что они такие же скучные, занудные люди, как учителя и их предметы – как бы не так!
Леонид знал, что Рыдваньер тоже немного не чужд профанации, и в каком-то отношении тоже почитай его кореш. Он ведь едва не ровесник Кенаря, а выглядит в отличие от него, напустившего на себя солидность лишних лет двадцати (!), совсем по-свойски, почти как мальчишка. Сразу вспомнились две презабавных истории с его участием.
36-ep
Пару лет назад, когда окончивший вуз Рыдваньер только приехал и поселился с молодой жинкой в домике на отшибе, он сразу привлёк внимание всей честной компании, тогда, впрочем, только нарождающейся. Атитекторством тогда верховодил Яха, но начали себя проявлять и братья Морозовы, были тут, конечно, и их приезжий сосед Перекус, и скромный Мирза с совсем малолетним всепронырливым Шывырочком.
По традиции в ночь пред Рождеством воровали сани. Молодёжь, группами и так же в санях, выждав время почти до полуночи, разъезжала, озорничая и выпивая, по селу, выглядывая во дворах сани. Их надо было вытащить, подтащить ко своим и, держа за оглобли, увезти на центральную площадь села, где из этих саней, специально водружая их друг на друга, сооружали огромную кучу, которую поутру обокраденные коневоды приходили разбирать. Это, конечно, была своего рода соревновательная игра. Ведь в основном владельцами данного вида транспорта были уже довольно пожилые дедки, традиции хорошо знающие, а поэтому заносящие в эту ночь сани в пристройки и чуть не в сени, привязывающие их проволокой и цепями, а иногда даже сторожащие с ружьём, а то и с целым экипажем в засаде, который тут же мчится наперехват. Короче, экстрим дай дороги.
Но, видно, поскольку ночь-то всё-таки непростая, и якобы резвится нечисть, то всё из года в год идёт кувырком. Во-первых, всегда начинается сильная метель, так что ничего не видать, не хочется выходить на улицу, а хочется спать, особенно выпимши. Во-вторых, хозяева саней, то как-то закружившись в хлопотах, то выпив, то из-за метели, а чаще и всё вместе, как назло именно в этот день обо всём забывают, а пришедшие сторожить, чтоб не стырили и помочь изловить проказников, стопка за стопку быстро спиваются и тоже напрочь забывают, чего ради весь сыр-бор. Очухиваются они только тогда, когда выйдя по нужде, кто-то не разведёт руками, и охая и матерясь, не забежит мгновенно обратно, голося: «Ох, черти, украли! Упёрли сани-то!» Или когда Яха, по особой своей дерзости, ещё не пошлёт какого-нибудь Швырочка стукнуть в окно или не швырнёт в оное куском льда.
И тут тот же Яха решил себе и своим компаньонам ещё более усложнить задачку: предложил свозить сани в кучу не перед клубом, как обычно, а перед домом нового учителя! Мотивировал он только тем, что тот «дурачий, может и выскочить!» Все были не против, и Серж даже предложил свезти туда же и все уже сваленные у клуба сани!
Это было, скажу я вам, нечто. Крутые виражи, лихорадочное мельтешенье всего в снегу и во тьме, скрип полозьев, страх, опасность и наслажденье, крики, ругань, погони, паденья, Яхина кобыла в мыле, дёргающе-виляющие оглобли в руках… гвозди и раны от них, азарт и жар, хмель не от вина, пот и тряска, вода на себе от талого снега, от проруби в реке, куда чуть не провалились… приходится ведь жарить напрямик, наперерез, напролом – через самые непроходимые препятствия: сугробы, узкие проулки, пахоту, сады, буераки и речку…
А уж сколько так называемого адреналина добавил своей некой «дурачестью» и настырностью сам Рыдваньер, невозможно сказать!
Чтобы «объект» осознал, что его обеспокоили, Яха предложил бросать огроменными ледышками ему в железный гараж… И вскоре он осознал и каждый раз выскакивал с какой-то палкой в руках, и мчался как спринтер (один раз было чуть не поймал подскользнувшегося Мирзу!), но всё же не мог настигнуть… грозился кулаком, орал фамилии и просто «Убью!»… Пытался отвозить сани прочь от своего дома… но их всё равно опять подтаскивали прямо к порогу… Короче, занимался всю ночь!
К счастью, ему кто-то пояснил, что, мол, обычай такой, не обижайся, и никаких последствий сие озорство не имело.
Второй случай уж был куда более зазорным, поскольку совместно с Яхою тут уж выказал свою фантазию и Ган. В результате скучной дождливо-слякотной безклубной осенней ночью они решили устроить некое подобие Ночи Саней – подёргать во всех учреждениях и у частных лиц все очищалки и стащить их всё туда же – к порогу уважаемого «прикольного» учителя Рыдваньера.
Усилий пришлось приложить немерено! Гараж уже был окрашен, и в нём была машина, поэтому содить по нему кирпичами было особенно болезненно. Кроме того, жена была на последних месяцах беременности, а времени уж собачья полночь, да ещё орали «Рыдван, выходи!» – надо ли говорить, что учитель был особенно зол. Когда он включал свет и выскакивал, сердце так и уходило в пятки, все начинали дохнуть… тут-то оное сердце и те пятки и пригождались – только сверкали, лишь бы по грязи, кочкам и лужам не упасть! Убегали от его дома врассыпную кто куда: кто на свет далёкого фонаря – до клуба и даже дальше оного, кто под бугор к речке и за неё, кто прямо в совсем в темень – через дорогу с непроходимыми колеями, в пахоту, грязищу и кочерыжки, на колхозное поле… Как ни странно, он никого не смог настигнуть, и всё повторилось раз до шести!..
На седьмой уже и очищалок не осталось на примете поблизости, и Серж предложил сходить за таковой на дальняк – к больнице. Поход был долгим, там взяли и бутылочку сэма, больших усилий стоило и выкорчевать здоровенную тройную (треугольной формы) особь и тащить её через всю деревню…
И вот у соседнего с учительским заброшенного дома, преодолевая буквально последние два десятка метров и внезапно настигшее всех опьянение, из последних сил тащил в основном Ган (другие уж чуть совсем не бросили), а сам ещё, побуждая разбредающихся, возбуждённо-громко комментировал и хвастался:
– Прикинь, Рыдван щас опять выскочит – а тут та-акая ощича…
И вдруг – в углу между стеной дома и забором кто-то стоит, вжавшись!
– О, да это Губов! Чё это ты тут… – только и успел прибавить Ган, как фигура отделилась и оказалось, что это…
– Ребя, Рыдван!!! – закричали все и кинулись врассыпную.
Ган от неожиданности успел лишь отпустить очищалку и отскочить на пару шагов. Мгновенно подскочил педагог, схватил за куртку, и удивлённо заорав «Морозов?!!», залепил тому в ухо оплеуху – ох, и сильно! Потом вторую, попав в челюсть, – пока тот, спохватившись, не отпрыгнул в сторону.
Изо всех каких-то кустов, по всей ночной, совсем не похожей на день, окрестности доносилось неподдельное удыхание. Тихо удыхал и сам Морозов. Рыдваньер озадаченно почесал репу (представляем: отличник и человек, почти кореш – тащит очищалки!), плюнул и пошёл домой…
Только придя домой, к бабане, Морозов вспомнил, что завтра первым уроком ОБЖ, предмет, который теперь разграничили для мальчиков и девочек, и поскольку Яха и Мирза уж месяца как два бросают школу, он будет сидеть с учителем один, тет-а-тет в маленьком классе за партой, которая впритык с его учительским столом. А ведёт, как вы догадались…
37
Вдруг дверь класса распахнулась – всунулся Хлебов, а пониже – маленькая красноватенькая башка Сажечки.
– Брательник не тут? – громко обратился фермер напрямую к Морозову.
Леонид успел только очнуться и удивлённо пожать плечами. Белохлебовская физиономия тоже была красная, а ещё и опухшая.
– А зачем он Вам? – как бы отвечая за ученика, угодливо вмешался учитель.
– Да так, поговорить. Сидел я, это, Лёнь, дома и вдруг скучно стало. Думаю, зайду к Сержу, погутарим… Послал этого… А потом вспомнил: так он же в школе!
Учитель хмыкнул, Морозов тоже. Ученицы загалдели.
– Ну, думаю, тогда и до школы доеду на «Татре» – покажу машину, а то он и не видал!.. И там, думаю, интересно щас – всё какое-то развлеченье, пока делать-то нечего… Где… ну, это… как иё?
Учитель улыбнулся и кивнул на одну из стен, из-за которой недавно доносились звуки бардели.
Морозов внутренне торжествовал: «всё уже идёт само собой».
Серж был быстро снят с урока. Бадорника, дабы не привлекать внимание Кенги (Кенга – новый вариант прозвища директора!), решили не трогать; Мирзы тоже не было: он для чего-то был вызван домой; поэтому решили просто поговорить, посидеть по-простому, без гановских формальностей и изысков, как и без него самого. Закурили…
– Я вот что, Серёжа мой, с будунища-то подумал: видно, конец света-то скоро уже…
– Беляк скоро, а не конец света! Преда утвердили, да надолго ли? – половину народа, кто против, поувольнял, половина сами поувольнялись – жруть, а работать некому! – вклинился Сажечка, который формально вроде как числился за непьющего.
– У тебя уже наступил! И кажную неделю будет – забыл, как жрал? – Белохлебов не преминул намекнуть на то, что это он, как он выражается, сдерживает Сажечку, что «закодировал его своим внушением».
– Сам-то на умняках давно?! Непитущий ты наш, святой прям! Вчерась токо жрал! – не унимался помощник, желая, наверно, раздуть конфликт, чтобы потом как-нибудь свести его к пьянке и полученным стрессом её и оправдать.
– Брысь, гультепа! – отмахнулся главный, сам что-то высматривая – показалось даже, что зыркает, нет ли выпивки на столе… или под столом…
Серёга очнулся, теперь до него дошло, о чём «зачал гутарить» экс-прапор. «И вправду, как бы он это… не того…» – усомнился ученик и сам же себе мысленно возразил, что «если уж в такую хитрую-хищную лису белочка вселится, то уж и точно тогда всё кверх дном!..»
– Тебе ли, дядь Лёнь, об этом проповедовать?.. Это впору Гану моему, Куржо или там священнику какому-нибудь…
– Тебе ли не знать?!! – орал что-то своё Яха, а сам уже еле сидел…
– Ну вы, наверно, наливайте, – как бы между делом бросил Белохлебов короткую аккуратную реплику «в сторону», вынув откуда-то у себя из-под полы плоскую бутылочку коньяку, а дальше продолжал уже театральным тоном: – Ой, Серёжка, боюсь я!.. Ей-ей, как Ган-то твой тогда подшутил, и запасы-то могут не понадобиться! У меня тогда от книжки какой-то валялись две страницы – я у бабки, что ли, схватил её – думаю: всё равно слепая, как она говорит, не видит не кляпа! – печку на улице разжигать, где дроблёнку запариваю… Ну а тут прочитал – и книга какая-то, как бабка называет, божественная – ну, церковная… И у Лёньки потом спросил, как это всё можно понять. Но он, конечно, ничего особо путного не изложил, только вот типа пошутил, да так какую-то галиматью про коней каких-то красных… с огненными гривами!.. да звездопады!..
– Застращал прям, – едва слышно отозвался Сажечка, отворачиваясь-изготовляясь, наконец-то решившись «под такие разговоры» принять от более юного ассистента маленькую стопочку. А сам думал: «Галиматью завели, как бабки беззубые, слушать противно. Хотя Ган-то уж скажет как скажет – всегда такой рассудительный, вежливый – не то что этот полкан тявчет».
– Звёздочку! Звёздочку свою!.. – как эхом отозвался и невменяемый уже Яха.
– Молодой он ещё, короче. А я вот и призадумался…
Фермер столкнулся взглядом с пьяными глазками Шывырочка, старательно разливавшего «всем поровну». До Сажечки, казалось, ему нет никакого дела.
– Ну ты ж, дядь Лёнь, говорил, что всё развивается: наука и техника, фермерство…
– Ды не знаю, Серёжка… – Фермер опорожнил стаканище, а Шывырочек по привычке придвинулся-нагнулся к выпивающему, но Белохлебов не понял, чего от него хотят (на мгновенье даже мелькнула мысль: не к ширинке ли?! тьфу же!..), отодвинулся-отвернулся, затем выпростал и протянул ему пару купюр и тихо-отрывисто сказал: «Токъ не патошного». Сажечка и Серж было засмеялись, но фермер напустил на себя ужасно серьёзный вид и, прокашлявшись, громко продолжал: – Не знаю, Серёжа… И с похмелья так иногда тяжко-то бывает, а всё равно, как бы наиболее всё ясно становится – о жизни, о жизни всей, Серёжа… Да смотри вон, что вообще деется: в магазинах ни хрена нету вообще, курева нет! – «Родопи» варёные да «Прима» по карточкам! Ничего вообще не производится – скоро вообще все товары закончатся! Заводы стоят, Союз развалили, весь распродали, что твой колхоз!.. И все колхозы опять же. Лётку вон нашу, где я служил, всю растащили – ни кола не осталось!..
– Ды ты поди и тырил, – тихо произнёс Сажечка, – холодильник-то не оттуда приволок?
Белохлебов удостоил сотрудника презрительным взглядом, но явно решил ему потрафить (а потом, может, по обыкновению и подшутить), обвёл взглядом «потухших», сидевших с закрытыми глазами Яху и Шлёпу, пустые стаканы на неприлично грязном столе… и вновь продолжал…
– Там ведь понимаешь, Серёжа, закачёно всё было на века! Миллионы денег, тонны железа, арматуры, аппаратуры, бетона, асфальта, техники!.. И кругом повсеместно такое! Если нападут – чем отражать?! Ведь и стояло всё веками – и заводы, и все объекты, и колхозы – а теперь враз всё порушилось! И вся провизия (и выпивка тоже нерусская… Сходи, Саш, из машины «Распутинку» принеси – польскую!), вся еда, продукция, вся куда-то делась! И кто будет выращивать её – охламоны вот такие?
Он кинул ключи помощнику, но Похватилин умудрился не поймать их.
– Тьфу! – смачно плюнул Белохлебов, закуривая плохо тянущиеся «Родопи», предлагая пачку Серёжке и Шывырочку. Обычно он не курит…
– И вообще всё какое-то уж не такое… Видаки у всех – фильмы любые, порнография везде продаётся – к чему это приведёт? В той же школе вы уж что называется (прозвенел звонок) в отказ пошли – в наше время такого не бывало…
– В отрицалово попёрли! – Сажечка возвернулся, довольный.
За ним показался и Морозов-старший, совсем в тему напевавший «Со мач траболь ин зе ворльд».
Узрев вновь вошедших к нему, Белохлебов не поленился повторить свою проповедь и для них. Причём, начиная обобщение, сбился на очередной проступок своего «любимого родственничка и профонда».
– Уж прикинь, Серёж, сучка-то вот эта опять к Генуркам летал. Ночью, хороняка хромая, выждал, как все уляжутся, завёл трактор – причём К-700 ведь! – и поскакал! Выжрал у него, но смекнул – всё ж я-то не зря его настращал! – что ежели завтрева на работу не явится, капец им обоим… И типа, не сильно, глаза налил и поехал обратно – авось, думает дубок-то, к утру доеду… (Вот каков ведь человек-от бессовестный, а!..) И как раз по пути решил заправиться – «всё равно утром заправляться, а то Лёнькя скажет заправляться, а я скажу: уж заправился, поперёд тебе!» – а там у меня, ты знаешь, в посадках бочка стоит с соляркой… И хорошо хоть по колхозному полю… – залил, сука, все 600 литров и давай колесить – круги нарезать! Нет, по полю! Всё поле прикатал – живого места нету! Как нечистая его кружила! А искатал-то – 500 литров! Это надо всю ночь кружить непрерывно и плюс день до обеда! Всё пожёг! Я приехал: стоит, дрыхнет – как так и надо!
В предвкушении принятия спиртного помощник с поразительным равнодушием выслушал и про себя, и всё прочее, но под конец белохлебовских излияний его рудиментарное и угнетённое классово-историческое сознание, сжимавшееся как пружина, всё же не выдержало:
– Ты уж как бабка старая – причитаешь! Там было-то литров сто, а сжёг полтинник от силы. И видак пока у тебе одного!.. ну, от силы человек у восьми. А компьютор точно уж у одного, как у барина! А эсли б колхозы-то не разваливать да Лётку не растаскивать – чё и тебе б досталось?! Всё чё получче выгадываешь, сквалыжничаешь, хапаешь!.. Уж вся ваша порода известна: и батяня такой тоже деловой был, а уж деда, всем уж известный, до того уж додельный, мелочный – кажную щепку, провылъку какую-нибудь на дороге подымал, отковыривал – домой тащил! А где он теперь?! Горб токо нажил, а в дело не пустил!..
– Молчи, щенок пузатый! – отмахнулся Белохлебов от помощника-правдоруба, как от надоедливой мухи или и впрямь как от треплющего за штанину маленького щеночка, толкнул стул с ним ногой, и тот брыкнулся на спину – благо, что на спинку.
– Как там сказано-то было, Леонид? – обратился он теперь к Морозову.
А Леонид, надо сказать, слушая, сочинял уж в уме некий текст – вроде «начало нового романа о фермерах»:
«У всего человеческого зла и пороков есть второе название: деньги; и у всего людского добра и приятностей жизни сей тоже есть другое название – деньги. Они, мои любимые и хрустящие (нет, лучше зачеркнуть!), появились давно, и это было крупнейшим шагом в развитии общества, как, скажем, изобретение колеса. Они, портреты царей, президентов и вождей, кругляки-таблетки, растворяющиеся с аспириновым шипеньем только в царской водке, или даже раковины и шкуры, по идее суть средство, а не цель, то есть мерило труда, сотворённого тобой добра или зла. Теперь же – впрочем, как и тогда, и протогда, и пропротогда – они явились целью жизни каждого человека, скинув эту «жисть» в пропасть беспозвоночного существования. И вся теперешняя человеческая жизнь представляет из себя игру в урывание денег. Кто как может. Некоторые хоть играют в эту игру как бы нехотя: мол, вот работаю я, мне платят деньги – не могу же я их не брать или выкидывать прочь – жить-то надо! Другие уж прямо говорят, что «бабки» – вещь необходимая, в хозяйстве завсегда пригодится, и вследствие этого стараются побольше играть, иногда – краплёной колодой. Третьи, а может тридцать третьи, берут доллар, вешают его на грудь, на гвоздь в красном углу (уже даже не «Чёрный квадрат»!) и гордятся им и молятся на него; и оное доставляет им удовольствие; причём, чем больше долларов, тем больше удовольствия… и тогда они тебя, честный гражданин… из двух первых категорий… проиграют в рулетку… – как Герасим Му-му!.. или как Сажечка Жулечку!..
…А вот к какой категории относятся все граждане фермера во главе с дядей Лёней Белохлебовым, вопрос туманно-спорный, однако… однако…»
– И последние станут первыми, – напомнил сочинитель, вдруг осознав, что, возможно, всё, что он пытался сейчас изложить, есть лишь косноязычное подведение к тому, что он только что сказал.
– Во-во! – поддакнул с полу Подхватилин, чья обида была сразу же пересилена тем, что он, волею судьбы оказавшись на полу, кое-что тут обрёл, а именно: бутылку с остатками самогона, граммов до пятидесяти.
– И что?! – Видимо, не понял фермер. – И что там дальше?
– Те, кто выставляет себя благочестивыми, то бишь приличными и бескорыстными, на самом сами молятся золотому тялку!
– Какому ещё, в рот, телку?!
– Я видел, видел! – катался, насмехаясь, по полу Сажечка, тоже ничего не понимавший, – смотрю: а он, кхя-кхя, огляделся, что никого, мол, нет, и прям перед тялком своим на колени бух! И давай яму… (Тут оратора стали несколько перебивать удары пинком, но он всё равно продолжал, а укатывался – и в прямом, и в переносном смысле – всё пуще.) …ему кланяться… а… акх-ха… А он-то… мбёкает, слюнявится… а он – всё… ахк-ххя… всё… кланится… а!!!
38
Дальше, естественно, пошло ещё дальше.
Сажечка, осознав новый плацдарм для своей страсти, стал наведываться в школу не только в свободное от занятий фермерством время (не знаем, как у фермеров, а у колхозников такового не бывает), но и в рабочее. Дважды бывал тут даже Генурки, и однажды Белохлебов их накрыл. Это было уже что называется публично, и директор обратился уже в сельсовет и в милицию…
Уже в тот день, 16 марта, пьяненький Сажечка, не вняв предупреждениям Сержа (заради гостей оставившего занятия), выбег по нужде («Ды я ментом – нихто и не заметит!..») во время урока. Как раз шла физкультура – построенным по росту шестиклассникам дана была команда «Бегом марш!», и они по обычаю шеренгой начали кружиться по коридору… Малорослый чудо-фермер как раз пристрял последним и для чего-то, не отставая – хоть и был в раздуду – и от души по хлопку подпрыгивая, нарезал три круга! А когда он всё же попытался отделиться и выскочить из строя по направлению к раздевалке, то был принят училкой за Подхватилина-младшего, и она долго орала ему вослед (в том числе пугая отцом с его ремнём с именитой уже бляхою-подковой, что Сажечке показалось совсем нестрашным, потому как уже давно покойным, «а ремень-то вот он, у меня на штанах!..»); а потом, когда он, средь бела дня обдул угол школы, после чего так же зажмурившись и не обращая внимания на окрики и команды и смех детворы, вернулся, и пробежав полкруга, нырнул в крыло коридора, пошла жаловаться директору…
Яха же в этот день, ведя параллельный разговор со Шлёпой – а на самом деле такое подозрение, что с самим собой! – помимо прочего ещё и провозгласил: «…И кобылу свою приведу сюда, Звёздочку!! Сбрую всю привлаку и вилы… Отсюда буду на работу ездить!..»
Друг наш Яхин был уже никакущий, и затем своим чередом началось такое, что сие заявление, конечно, мало кто запомнил… Кроме Морозова! Он после сказал брату, чтоб тот ненавязчиво напоминал об этом атитектору и «внушил Яшке, что почему бы и нет?» И некоторые ничего особо странного не увидели в том, что вскоре у порога школы всё было в навозе, а потом и у одного из окон выросла целая куча… А когда уж – несмотря на все старания С-ора! – свежие куски конепродуктов стали валяться по коридору, а из седьмого кабинета вонять конезаводом, а вечером и поутру, поговаривали, у школы – а что самое страшное: и прямо в ней! – стал видеться призрачный силуэт всадника – кому без головы, кому с копьём или трезубцем, кому одинокого купальщика, мальчика-коновода…
Всё это, как вы догадались, объяснялось вполне себе прозаично. Яха, который бросил ученье, чтобы работыть, обрёл в стенах школы свой новый кров, свою идеальную жизнь и счастье. Когда пару раз Ган заметил его в школе в конской одежде (то есть той, в которой он занимался единственным приемлемым в его представлении трудом – возжанием с лошадьми: их кормёжкой, снаряжением, объездкой и прочим обучением, ездой на них «по делам и просто», а в основном, конечно, чисткой от них навоза, «а акромя того и от бардяных тялков» – и сие, конечно, равно дома и на работе), старом грязно-засаленном шмотье-рванье, заправленном в кирзачи и кожаные рукавицы, в кепке с козырьком на глаза, что делало кудрявого егозу-подхалима выглядящим совсем по-цыгански, лихо-залихватски (наверно, потому, что это были ещё первые годы такой деятельности – в противовес, например, его бате Левону, от того же давно-давным усохшего, сгорбившегося и потускневшего), спецодежда сия настолько сильно воняла и даже пачкала пол и мебель, что даже попытался немного попенять ему, что «может уж не стоит уж совсем…», а Бадору передал через Сержа, чтоб «лучше следил за санитарным состоянием здания».
Понятное дело, что Яха, который, как известно, был необычайно горазд на подобные штуки, своего не упустил. Он ныл Сержу, что «Левон мой Тер– Петросян не даёт житья… да и матря заколебла уже…» – мы забыли упомянуть о сопутствующей современному колхозному коневодству страсти… Которая рудиментарно проявляется даже у фермеров-идивидуалистов, занимающихся земледелием… А если вдуматься, может, это и есть сама суть профессии – ведь человек, как и по Фрейду, занимается самообманом-самообменом: думает, что жру, потому что работаю, дескать, работа такая, а на самом деле наоборот – это только способ ежедневного пьянства. Да что Фрейд! – на русских он, говорят, не действует – два каких-нибудь коневода, скотника или сторожа, едва оставшись наедине, сразу понимают друг друга с полуслова: «Ну что?» – говорит один, а второй уж знает, об чём речь, как будто всё предыдущее, вся их профдеятельность была только ширмой для людей и начальства, с отговорками для жены, прелюдией к тому, что необходимо начать в любой свободный момент. И не секрет, что работе как таковой сие не мешает, а подчас даже и помогает…
В общем-то, вскоре наш Яха ввёл кобылку в класс и собственноручно отгородил ей своего рода угол, выставил нижнее стекло окна, чтоб выбрасывать навоз. Привёз также, как и обещался, свой рабочий инструмент: вилы с особенной самодельной ручкой, обмотанной в нужных местах изолентой и вырезанными на ней инициалами владельца и ещё словом «КАР-МЕН». И как и полагается, несмотря на очередную бардель до трёх утра каждое утро в шесть часов утра «как штык» выезжал на ней на работу, а вечером опять…
Правда вскоре он стал опаздывать, и даже прям сильно. Костерил на чём свет стоит Бадора, заставлял его будить без пятнадцати шесть, не взирая на свои утренние протесты, а утром ещё пуще ругался, брыкался и даже и до рукоприкладства… потом тужил и опять строго наказывал будить…
А матря же его приходила в школу – отчего-то прямиком к Сержу, который переадресовал её к учителю математики, причём на дом. Как потом передавали, оному было высказано всё «за Яшку мово!», и «устроили тут шалман!», и конечно, «усы повыдеру!», а потом даже смахнула с тумбочки знаменитую троичную скульптуру, в которой природа, по мнению автора (С-ора) запечатлела в своих замысловатых коряжниках три стадии развития человека – только почему-то без высшей, и посему уж больно напоминающую процесс превращения её Яхи в Левона и далее в расчудесного японского крокодила, а в коридоре ещё и оборвала – «шоб неповадно была!» – оба кашпо!..
И вот раз, когда Яха, просыпаясь, подумал, что Куржо пришёл его будить, в дверь «конюшни №7» сильно и настойчиво стучали – выпучив шальные ягнячьи, налитые кровью глаза выкрикнул: «Ёксель-моксель, птеродоктиль!» и зачем-то сразу натянул штаны – но впопыхах и спросонья задом наперёд – так, что ширинка была на заднице (на самом деле, как вы видели, надевать их таким макаром ему было уже не в первой, и они уже растянулись, промаслились и изгваздались в говне настолько, что не было уже решительно никакой разницы), подскочил на шатких ножках к двери и вскоре, приговаривая про птеродактиля и крокодила и сполупьяну не обращая внимания на голоса снаружи, попытался открыть её торчащим изнутри ключом… Но никакого ключа не было… И тут он понял, что Бадор должен открыть его оттуда, и вообще разбудить и одеть, и вообще… и…
В дверь ударили так, что посыпалась штукатурка, а в пол ударила струя мочи от Звёздочки – так и полетели брызги…
Это и была милиция из района.
***
Через полчаса делегация уже ломилась в дом к учителю математики, и вскоре даже вломилась… Каково же было удивление, когда оказалось, что он сбежал: вместе с женой, всеми своими пожитками и поделками – исчезла даже новая очищалка, которую он три дня тому себе вкопал!
Делать нечего, в федеральный розыск уж за какую-то мелочёвку подавать не стали, потом некоторые даже его видели – живёт себе в другом селе. Морозовых потеребили немного, но они-то причём, а Белохлебов, человек в районе известный, и хоть и жадный, но кое-куда всё же вхожий, сразу всё замял: говорят, что менты приезжали потом бардеть в той же школе: гармонь, шашлыки, водочка, самогон, всё такое…
39-ep
И вот мы вместе! Нас грузят в уазик… Или, пардон, скорее всё же в москвич-пирожок мужа нашей училки по русскому. Эта будочка-пирожок вообще-то не предназначалась для перевозки людей, но мы, конечно, частенько в ней ездили в район. Такая поездка называлась «ездить в бункере», потому что будочка железная и там внутри абсолютная темень – может, только крошечная дырочка у пола, да над ней ещё узкая щёлка от дверей – душно и жарко. Там было два сиденья по разным сторонам с полметровым прогалом между ними, на который обычно клали доску, чтоб сел третий пассажир; одно сиденье было сделано из сиденья автомобиля или, лучше предположить, вынуто из коляски мотоцикла, и потому довольно большое и мягкое, второе – просто из досок или ящика. Но самое главное, всё это можно было определить только на ощупь, потому что темно… (Хотя, по идее, я должен же был видеть интерьер «салона» при свете, когда садились, а вообще-то и раньше – но отчего-то убей не помню.)
Итак, Яночка заняла, конечно, лучшее место, детишки уселись на второе, тоже относительно неплохое, а я по своей стеснительности приловчился на доску, как питушок на шест, сгорбившись, упираясь башкой в какую-то железяку. И мы поехали – было невыносимо. Физически-то ладно, а внутренне прямо совсем. Лох и трус, твердил я себе, даже не мог… И ещё невыносимо тяготило меня, что у меня с собой был плеер – предел тогдашних моих мечтаний, почти воплощённая мечта. Почти потому, что это была китайская фуфлыжная штамповка с красненьким обтекаемым корпусом. И ещё потому, что когда я скопил на него бабушкины подарочные деньги, и наконец-то купил, братец Серж стал активно ныть, и настолько, пупок сопливый, сильно, что ему тоже купили точно такой же. Но он, как водится, сразу свой изломал. После чего стал ныть опять, и ещё пуще (несмотря на свою чуть не с пелёнок проявившуюся самостоятельность, в таких случаях он предпочитал методы прямо-таки младенческие, впрочем, бывшие наиболее эффективными). Тогда знакомый нам Рыдваньер подсказал, как приделать к сохранившемуся моему плееру ещё и Серёжкины наушники, чтоб слушать вдвоём. Дома это мешало, но не очень, в школу я чудо техники не брал, а тут решился – вроде поездка, олимпиада, Яна, и я «типа крутой пацан», – а вот и никак!..
Двое наушников – это абсурд. И хоть и шумно и темно, всё равно заметят, что я включил, заскрипит механизм, польётся музыка, последуют вопросы… может, просьбы!.. И скорее даже – от второклассников-хорошистов – вот обида будет! Ведь вообще-то я и взял его «на всякий случай» – чтобы самому предложить ей послушать. Но мы ехали всё дальше, времени было всё меньше, молчание всё суше, стук сердца всё чаще… Наверно, уже полпути!..
Я решил сделать ладно уж не на пятёрку, так хотя бы «на тройбан», и всё же просто включил его, а потом последовали вопросы. Я дал пацану одни наушники, потом вторые девчонке. Тут Яна спросила сама, и я долго впотьмах изымал, передавал, искал где что (хоть дома часто пользовался им во тьме перед сном, а вернее, перед тем, что ему предшествовало -воображаемым путешествием с Яночкой…), как включить…
Вдруг она, бывшая такой равнодушной и далёкой (даже в ночных фантазиях она была отстранённо-холодна и слегка высокомерна, что возбуждало ещё больше!..), – вдруг она оттаяла и сама предложила мне сесть на её место, а она – о, грёзы, моя мечта!! – ко мне на коленочки, «и будем слушать вместе»!
Бессознательная потребность (хотя во многом и на основе сознательного стереотипа-слогана «надо расслабиться» и предлагаемых способов как это сделать) откинуться в кресле или развалиться на кровати, выключить свет и заткнуть уши музыкой, и желательно, чтобы при этом кто-то ещё «орально стимулировал»… А для меня лучше всего этого было особое состояние покоя, когда ты одновременно ещё находишься в движении – едешь на машине или лучше на поезде. Движение довольно размеренное, мерно и мирно стучат колёса, жизнь имеет однозначно направленный вектор – к пункту назначения, спешить некуда и нельзя, и выбора почти что и нет. Разве что сесть или лечь, попить или не попить чаю… Впрочем, и совокупляются в поездах довольно часто – даже в сортире…
Сначала, когда она села собственно на колени всем весом, я уже через минуту жёстко отяготился и был уж не рад и сильно на себя злился. Меня и тогда выводили из себя все эти послабления себе, и я решился взять себя в руки – и взять в руки её. И я решительно и хватко взял её за мягкие тёплые бока и притянул к себе, подвинув ее попу ближе к себе – с коленей на ляжки и таз. Лился Ace Of Base, стучала и прыгала дорога, стучало сердце, сердца, я впервые – если не считать той поездки на велике – почти обнимал её, легко, но крепко, вдыхал её ближний запах…
Эх, я ещё не задумывался тогда, что вполне возможно уже тогда у неё в глазах стояли и распускались-разрастались, как всепожирающая махровая приторная желтизна одуванчиков, порнокартинки от «любезно» показанных ей «продвинутым» Гонилым (за компанию с её сестрёнкой, его подружкой, и неизменным Мирзой) видеофильмов. А в ушах, быть может, уже стояло полуосознанное, расслабленно-нетерпеливое, вырывающееся наружу, прорывающее пелену школьной серости-скромности, как остро пришедшая весна, как моя животная природа и сверхчеловеческое неосознание-нео-сознание её и мои штаны, такое неестесвенно естественное оно: «Come on, fuck my ass, please! Stick it in my fucken dirty shithole!»
Внутри меня всё замирало и сжималось, впереди твёрдое с напором, с жёстким натяжеием ткани утыкалось ей в промежность – туда, куда устремлялись все мои взгляды – реальные дневные и виртуальные ночные, все стремления и мыслеобразы, все виртуальные интимно-глубокие проникновения!.. Вскоре я почувствовал (и она!), что он не просто уже тикает, мерно, а потом толчками, а прямо-таки бьётся, устремляясь «навстречу своей мечте» – такой уже близкой… горячей… – и склизкой!.. – через четыре слоя ткани, почти-почти преодолённых, насквозь пропитанных юношеской слизью, – казалось, двойной хлопок и двойная синтетика вот-вот расползутся, прожжённые страстным желанием, как будто раскалённым металлическим штырём!..
Я перевёл руки ей на живот – горячий, гладкий, погладил его, стиснул… Меня сильно трясло, зубы чуть ли не стучали. Она стала поёрзывать на мне, опираясь, отталкиваясь ногами от пола, тереться…
Не сговариваясь, мы сняли дрожащими руками наушники и отдали их и плеер детишкам…
Взять её за грудь я не решался; то, что можно в таком положении целовать в шею, в ухо и даже в рот, я не знал… Я тыкался только в волосы, которые, супротив моих ожиданий, оказались для лица не «шелковистыми», а какими-то уж очень неприятно-колючими…
…И потом я высвободил из своих спортштанов и семейных трусов, а она сдвинула свои спортштанишки и бело-школьные трусики с окантовкой и широкой резинкой, надвинулась, раздвинула, больно опираясь на мои ляжки своими… И я как-то сразу попал куда надо!.. Сверхжелание грёз – наяву! Спереди у неё было мокро и жёстко-волосато… а там – горячо! Она как будто просто села и замерла. Я кусал её шею…
Через несколько мгновений, на каком-то особенно большом толчке, всё кончилось, она – кажется – заорала, впившись ногтями мне в ляжки, я прикусил язык, и тут же мы остановились, и едва мы успели надвинуть штаны, как уж распахнулась дверь… и грянул свет, и с молниеносной вспышкой мысли «Постойте: а что, если наушники мы надели сами (ведь непонятно, был ли шум мотора или тишина: такой был гул в ушах и передоз эндорфинов!..), а детишки, наоборот, всё слышали?! – представляю!..» я проснулся…
Длинное предисловие (теперь уже послесловие) автора о рукописи, найденной в стене (во сне), и (не) много о себе
Итак, как мы помним, в начатом предисловии мы остановились на том, что юношу и начинающего писателя Морозова, как и всякого подростка, привлёк феномен винопития.
…Но скажу сразу, что заинтересовало оно меня не само по себе, а как алгоритм некоего альтернативного поведения и восприятия реальности, то есть, ни много ни мало, открытие новых горизонтов бытия – ну и конечно, и творчества – ведь теребить котов далее стало вовсе никак невозможно22.
Уже тогда, в старшие школьные годы, проявилась в моей писанине социальная критика, замешанная на ироничном, почти презрительном отношении к природе человека – однако, исконно не без сочувствия и лиризма (отчасти, наверное, всё же привитых на уроках литературы), а главное поскольку и ещё-ещё раньше именно прозревал в интересных личностях её, натуры, неоднозначность и двойственность, если не тройственность; ещё вроде проявилось немало от смехового начала, от хоть чего-то читанного – из классики и детективов – экшн-сюжетность, а далее откуда-то – вездесущий эротизм (даже в кошачих гисториях к двенадцатилетнему возрасту автора явилась некая кошечка Дымка!..); рефлексия уже присутствует, а вот метафизика и богоискательство едва-едва только проклёвываются.
Именитых уже в узких или не совсем кругах «Чертей на трассе» я написал 13 марта – 1 апреля 1995 г. (по другим данным, ’93 или ’94, что всё же маловероятно); рукопись с лит. правкой начала – август 1997. Этот рассказ я перепечатал потом на машинке, пытался куда-то посылать, с ним же фигурировал на филфаке… Конечно, талант мой никто не оценил23. Оценила его только Репа (О. Т.) – так мы с ней, с ним, и познались (месяца через три бессловесного сидения за соседними партами) – он даже друзьям своим его «зачитывал», и «все дохли» (кажется, среди них как раз был Санич). Потом О. К., О. Фролов, другие… – и именно «Черти…» зачитывались на наших самодельных литературных вечерах (пьянках) кружка «имени Зелёной бутылки с бычками» в так называемом «курятнике». Поэтому сам этот «настр»24 некоторого всё же постгоголевского, шаржированного изображения, но всё же и позитивного в чём-то, художественного отношения к жизни сей, её пародирования, театрализации (от скуки да немощи наверно?!..), а дальше почти кастанедовского служения, в особенности описанного сим сказителем/документалистом метода «неделания», по-нашему «профанации» (термин переосмыслен в идеологии-эстетике «ОЗ»), пошёл именно от расписываемого здесь сочинения. К тому же новелла оказалась созвучна (я не отрицаю, что и под влиянием) великому роману «Мастер и Маргарита», по которому мы все (О. К., О. Ф. и я) писали выпускные сочинения, дипломы и рефераты, и который особенно сильно и избирательно ценил О. К., не особенно ценивший наш с О. Ф. творческий поиск, а особенно и избирательно – мой. Видимо поэтому я и считал это произведение хронологически первым, а про другое почти забыл. Но суть не в этом.
…К обеду третьего дня я не выдержал – встал (был уже оч. слаб) и выжрал в сенях заржавевшую воду из умывальника – там её было ровно две протекающих пригоршни. Хочется сказать, что это меня и вернуло к жизни, но вообще-то процесс был более длительным… Но тут я вспомнил, что может вернуть меня к ней – вспомнил, что «в последний раз» (в сентябре 1999 года, когда я приходил в пустой дом уехавшей, увезённой родственниками, бабушки – как раз забрать рукописи стихов, а после написал стих «Автобиография/автогеография») за печкой (а вернее, плитой) я припрятал книжку одного психолога или мага, «дающего положительную установку». Книженция была формата А4, на плотной бумаге и с большими белыми полями – и я пару раз уж начинал её использовать для записей каких-то своих произведений, а потом и открыл для себя оригинальный жанр – отвечать на высказывания оригинала и комментировать их. Ответы были, конечно, афористичными (ну, условно говоря, на нечто среднее между «Жить надо по благодати» и «Ради успеха надо трудиться с максимальным напряжением всех сил» писалось «Вот и х… й-то, б… ть!» – что поделаешь, молодой был, не понимал…), а какие были комментарии, я уж и представить сейчас не могу.
Так вот… Я оную нашёл и продолжил заполнять её ещё более корявым почерком (а под конец, помню, писал каким-то огрызком угля) и, думается, в ещё более радикальном ключе. Потом я вспомнил, что должны быть и другие рукописи – более ранние, и даже совсем, да ещё и катушки магнитных плёнок – широких и ломких, образца ещё 60-х годов – мы с братцем выполняли из подручных средств музыку (причём как записи, так и концерты) и делали по моим произведениям, а равно как и экспромтом, радиопостановки года так тоже с 1987-го25. И я стал всё обыскивать, но ничего не нашёл. И тут меня пронзило – такой досадой – Мастера (а вернее, там-то, в романе, типа Марго, конечно, а не его) за утерянное произведение – неужель всё же горят??!!!… Я вспомнил, конечно, что сгорело! (Дело в том, что нашёл я только разрозненные обгоревшие клочки в каком-то ведре с золой и шлаком и ещё какие-то совсем юношеские отрывки, которыми было выстелено на полке – две полки по 2 м! – которые тут же с досады сжёг.) А искомого – нема! Повесть «Российский Диснейленд», 1993 – впрочем, оч. короткая, ученическая, из которой интересна только задумка, и в которой, как утка в яйце, находилась завязка её продолжения – «Russian Disneyland – 2»! – вполне себе повести, разросшейся в целую общую тетрадь (которую мы с братцем стырили – в результате долгого лыжно-диверсионного похода – из вагончика фермеров, где и происходит действие 1-й части и о которых она и её продолжение и повествуют!), в которую я потом на изоленте вклеил ещё немало листов и получился целый пухлый брульон-фолиант! Я вспомнил: чуть не каждое слово там было гениальным!!! Сейчас уж так мне не стоит и пытаться! Молодость! Свежесть! Но нет.
Я даже решил заглянуть на чердак. Нет-нет, вы не правы – там и никогда ничего не было, как в старых домах и в романах про них, даже света, только навоз и валящиеся оттудова чёрные жуки, да ещё там испражнялась и котилась чёрно-белая наша кошка Коха. Лестница туда находилась в сенцах в отдельном закутке, отгороженном шторкой-занавесом, и кроме лестницы там стоял ещё ларь (кто не знает: это как бы большой ящик для зерна, прибитый к полу или просто отгороженный). И я полез, а потом и в ларь свесился с лестницы – посмотреть что там. Там был какой-то хлам, и я увидел и вспомнил, что задняя стенка ларя, бывшая собственно уже задней стенкой дома (сеней), была какая-то странная (сделана из досок, пустота между которыми была заткнута тряпками – довольно частый случай: при постройке не хватало кирпича), и тут же вспомнил, какая странная – двойная. Там был своего рода тайник. Свесившись туда, прям внутрь ларя и дальше запуская руку вовнутрь стены, я нащупал там свои сокровища. Сокровища детства и его продолжения, «завязи наших барышей». Два пакета – и кассеты, и тетрадки. Правда, достал я, кажется, не всё – так что, несчастные будущие литердиггеры, дерзайте! Пока дом ещё стоит, и буквально недавно вот я узнал, что его продали товарищу Сибабе (тоже где-то у меня упоминался сей персонаж, неужели производное от Саид-Бабы?!) – за 10 тыс. руб.! Мне хотя б половину этой суммы получить за публикацию и то счастье. (Кстати, где ж и сборник афоризмов с комментариями на полях – неужто так и пылится, периодически разогреваясь, за печкой?! Честно говоря, я не хотел бы, чтобы его нашли.)
Надо ли говорить, что текст оказался не так гениален, как я себе представлял и надеялся. Правда, весь его я так и не прочитал (не могу перечитывать свои произведения полностью!..), и сейчас, когда я, ваш – а точнее даже не ваш, но его – без щегольства – покорный служитель, перепечатываю его и одновременно пишу вот читаемое вами сейчас предисловие26, мне остаётся в силу этого полумифического текста только верить. Я помню и верю, что в нём что-то есть, что в нём есть всё, что нужно для литературного произведения и даже шедевра.
Что касается литературной обработки/переработки текста. Естественно, сначала я хотел «оставить всё как есть». Но начав читать, сразу вспомнил, что манера изложения у меня тогда была простоватая, с перепадами (короткие предложения, описывающие действия героев или передающие какие-либо примитивные мысли, с редким, но, как говорится, метким вкраплением путано-длинных, претендующих уже на какую-то почти толстовскую глубину мысли или почти достоевскую неопределённость и самоцельность-самозначность действия… и плюс диалоги, которые у меня прям с детства блестящи!..), но уж шибко своеобразная – начиная с каких-то вычурно-новаторских деталей вроде пропуска некоторых слов и замены их двойным апострофом (как, напр., я потом увидел у А. Цветкова-мл.: «Я вышел из и поплыл…», а предыдущее предложение было про лифт, поэтому и так понятно, откуда вышел), и кончая необычной пунктуацией и расстановкой акцентов, не говоря уж о словоупотреблении и лексике. Но, может быть, я и преувеличиваю… В итоге, я остановился на том, чтобы в основном оставить всё как есть, передать, где возможно, максимально близко к оригиналу, только лишь по возможности сделав текст более адекватным – чтобы написанное было понятно не только мне27. Конечно, с той поры прошло тринадцать годков, и многие вещи, мысли и темы нынешнему автору давно не близки, поданы наивно и прописаны не детально, как у Репина, но, как сейчас мне кажется, сказочно-олеографично, будто на репродукции Васнецова… но что поделаешь: логику произведения соблюдать надо, и вообще действительно ведь – правдыстинно, как говаривала бабушка, – сейчас так уж и не напишешь!
Вся моя надежда на то, что почтенная публика оценит мой рискованный жест: после почти тысячи страниц «взрослых» опусов выпростать из большого брутального мешка истории самые зелёненькие-неокрепшие ростки ошепелёвизма и не почтёт сие за какую-нибудь несуразно постмодернистскую выходку. Тем более, что «фишка уж старая»: на сопоставлении подлинного подросткового текста и комментирующего его современного, как вы помните, построена повесть «Настоящая любовь/Грязная морковь» (1994/2001), дающая, кажется, и ключ к разграничению, так сказать, героя и автора… Однако!.. Только вот сейчас отрыв в рукописях начало названной повести, чтобы указать дату, удостоверился в том, что я почему-то предполагал и чего боялся (ведь тогда и предисловие надо было б писать по-другому): обе повести написаны в том же самом 94-м году! Ну что я могу сказать? – наверно, в хронологии собственного творчества я, как и многие графоманы, не сильно так силён, я не литературовед, не критик, моё дело написать, ну ещё, может, издать… Могу добавить к вышесказанному только ещё некоторые сведения, о которых только что вспомнил и которые, пока рядом архив, могу уточнить.
В августе 1995-го, готовясь к поступлению на юрфак, меж усиленных занятий, сбиваясь, я накатал небольшую повесть «Козырной валет», с криминальным, можно сказать, сюжетом. Поступив (всё же) на другой факультет, я показывал её упомянутым кружковцам, а также С. Е. Бирюкову (руководившему куда более благообразным кружком), но все как-то не реагировали, и я сам что называется сказал на неё рашпиль, благополучно забыв. Но однажды, на тетьем уже курсе, мне пришла гениальная (?) идея объединить «Валета» с «РосДиснейлендом», а заодно и добавить туда всё, что возможно, про бабаню, её домик и проч. И этим убивался не один заяц: в «Диснейленде» как-то до конца непонятно (вернее, в начале, где отсутствуют первые две главки), из-за чего учитель служит ученикам – и, увы, отнюдь не в евангельском смысле. Просто говорится вроде, что он совершил какое-то преступление, которым юные следопыты его и шантажируют, и раз он так старается, то видимо что-нибудь серьёзное, может быть, даже и убийство (это теперь-то я могу представить и понимаю, что судя по всему нечто более тривиальное, напр., прелюбодеяние с несовершеннолетней или кражу) … А в «Валете» напротив, героя-протагониста, юродиво-тёпленького мыслителя-мага от сохи, насколько помню, кто-то в конце повести убивает (или, что ли, он просто загадочно исчезает, и, по-моему, даже с намёком на то, что самоё автор тоже может быть в подозрении причастности к этому – «дабы завладеть его знаниями», почерпнутыми сим интригующим Валетом в прочитанных, а изложенными в написанных им книгах, да ещё в таинственном его ноу-хау – некой доске навроде шахматной с вписанными в клеточную иерархию символами; по сюжету что-то наподобие рассказа Г. Ф. Лавкрафта «Наследство Пибоди») – а кому это нужно (неужели автору? птьпфу, бяка!), никак не объясняется. Тогда пришло мне на ум сделать небольшую инверсию: учитель укокошил дурачка-философа, «дабы ЗЕЗ» (сцена в стиле убийства Троцкого, подсмотренная через набоковское окошко-щель), а ученики (те же самые в основном!) этим его и шантажируют – т. е. начать с «Козырного» (а там почитай вся жизнь героя описана, начиная с бурной молодости), продолжить «РосДиснейлендом», а закончить ещё кое-чем. Вот вам и роман. Тогда исполнил только с дюжину страниц начала. Не знаю, может ещё и напишу.
Ещё одно: первая вставная главка (13-я) – подлинный отрывок из романа, который я тоже начал писать, датированный 93-м годом. Стихи тоже подлинные, написанные, правда, не в шестнадцать, а в тринадцать лет, причём для этих моих лет это был факт фактически единичный (данное стихотв. написано ночью 18—19 августа 1991 г.!); на создание поэтических текстов-миниатюр вместо прозаических я как раз стал переходить в шестнадцать лет. Что поделать, наивно-слюняво-дегенератского лиризма и я был не чужд (правда ограничился всего дюжиной текстов, не больше); но текст этого отрывка ещё читается как плохой перевод потому, что был зашифрован. Году в 92-м, начав писать «про девочек», я изобрёл для вящей конспирации собственный шифрованный алфавит – криптограммы его довольно похожи на прописную латынь, или на её польскую или чехословацкую какую-то поросль… Но чтобы его было труднее декодировать, я сразу ввёл в него гениальный принцип «от гриба» (естественно, тогда он ещё не имел такого названия): некоторые буквы имели не одно обозначение, а два или три, все абсолютно равноценные, могущие в тексте варьироваться как угодно безо всякой закономерности. Шифр помешал прозрачности, наглядности строф.
Вообще всё действие обоих «Диснейлендов» было подготовлено как раз реальными нашими с братцем акциями (мы обряжались в самодельные костюмы ниндзя, шпионили и проказили…) – сие отражалось в записках, даже может в дневниковых записях или подобии отчётов (по-моему, это не сразу был роман), которые я вёл, если не ошибаюсь, с 1 мая 1992 г. Потом нас едва-едва не поймали (чудом! – вот бы мы за свои «диверсии» – ставшие почти уж без кавычек! – нарвались на очень крупные атата!), и мы не стали долее играть в «Неуловимых мстителей» и сразу прекратили. Наверное, вскоре после этого я начал роман «Russian Ninja», но не хватило духу и сил, да и текст, сами видите, довольно беспомощный. Всё это сообщаю не для того, чтобы похвастаться и напустить вам в глаза какой-нибудь пыли, а просто вспоминаю, констатирую факты – ведь так и было…
Тематика произведения, надо сказать, действительно специфическая. Подзаголовок «О становлении российского фермерства», в принципе, соответствует действительности, но даёт нам не так много, как в нём торжественно заявлено. Это всё равно, что гениальный судя по всему (напр., по первой экранизации) «Тихий Дон» читать как повествование «о становлении» – «о коллективизации у казаков и о борьбе („их“) с контрреволюцией». Вторую тему можно было бы обозначить как «о кризисе (советской) школьной системы» и произведение рекомендовать для ознакомления работникам наших приснопамятных школ. Ведь автору уже сейчас понятно, что не избежать ему упрёков в натурализме изображения, а вместе с тем в его же, натурализма, искажённости, извращённости, да и вообще общей негуманистичности или даже откровенной (по другим источникам, сокровенной) антигуманности самого создателя произведения, причём во первых рядах зачнут выступать именно людишки из этой категории (перед ними я и привык оправдываться). Заявляем сразу: всё это неправда, мы утверждаем традиционные гуманистические ценности. Впрочем, очевидно наверно, что и на «становление» и на «разложение» молодому автору довольно-таки наплевать, что для него важнее всего личность (и больше всего своя собственная, в чём он подражает своему герою), а с остальным (более глобальными и значимыми процессами!) критики-кьрётики уж разберутся.
Так, наш друг Виктор Iванiв, хоть и не критик, а настоящий поэт, выдал рецензию на мой первый роман и на первый роман Наташи Ключарёвой «Россия: общий вагон» под названием «На фуражке моей серп, и молот, и звезда» с подзаголовком «Новые радикалы и новые мученики» (!). И то, что он пишет там об «Echo», можно отнести и к рассматриваемой нами повести: «В начале 90-х годов… последние дни переживает советская школа – ослабленный механизм подавления изблёвывает один за другим шаблоны массового сознания. Школьный фольклор является, прежде всего, лексикой травмы, и это – одно из составляющих школьного театра насилия. Сколько его безымянных, безгласных жертв разбрелось по земле! Насилие идёт от игры – от невинной „американки“, где проигравшего поворачивают спиной, заставляют садиться на колени и стараются попасть в него футбольным мячом. Меновая ценность союзной монеты ещё не девальвирована – так юбилейный рубль обменивается на коллективное гомосексуальное изнасилование – такова печальная история одного мальчика». Я всё думал насчёт гомоизнасилования, и понял вроде, что оно символическое, а не реальное (хотя и таких полно), и понял ещё, что всё равно, хоть вроде и не должен был бы страдать особой гомофобией виртуально, не могу его соотнести с собой даже символически. Возникает вопрос: что же тогда сделала со мной ненавистная «барда», школьная система?! Неужто, как выражается мой старший товарищ, бывший педагог, и кстати, заслуженный и любимый учениками, «хрен уже довольно близко к заду поднесли», и всё? Да нет, насилие было (в широком смысле, конечно, а не сексуальное, и в нешироком – не только символическое), но не было никакого релакса и инджойитинга (если только в обратном, символическом, мазохистски-художеском смысле??!!…) – были сопротивление и контрмеры – как раз то, что описано, и то, что написано.
Вот какие пассажи сразу бросились мне в глаза, когда я попытался худо– бедно ознакомиться с наследием ситуанистов, можно сказать, предшественников (поскольку самый знаменитый из них, Ги Дебор, автор термина «общество зрелища»). «Что это за иллюзия, – задаётся вопросом Р. Ванейгем в трактате „Революция повседневной жизни“, – которая не позволяет нашему взгляду разглядеть разложение ценностей, развал мира, фальшь, разъединённость? Может это моя вера в собственное счастье? Вряд ли! Подобная вера не может выстоять ни анализа, ни приступов боли. Скорее это вера в счастье других, неиссякаемый источник зависти и ревности, который негативным путём даёт нам чувство того, что мы существуем. Я завидую, значит я есть. Определять себя по отношению к другим, означает определять другого. А другой, это всегда предмет. Поэтому жизнь измеряется по шкале пережитого унижения. Чем больше кто-то выбирает своё унижение, тем больше он „живёт“; тем больше он живёт упорядоченной жизнью вещей (выделено нами. – А. Ш.). В этом хитрость овеществления, благодаря которой она просачивается, словно кислота в варенье».
С другой точки зрения, уже активности и ответа на вопрос «Что делать?», это выражено в ситуанистском же «Докладе о конструировании ситуаций»: «Настоящая экспериментальная направленность деятельности ситуационистов состоит в гармонизации более или менее осознаваемых желаний и времени/места для их реализации. Именно гармонизация окружающей среды и этих примитивных желаний способна спровоцировать осознание их примитивности и привести к спонтанному возникновению новых желаний, для реализации которых нужно будет создать новую реальность. Таким образом, можно себе представить вид ситуационистски ориентированного психоанализа, который по контрасту с разнообразными фрейдистскими последователями должен будет выявлять подлинные желания в данном месте и в данное время исключительно для их реализации (а не для сублимации, как во фрейдизме). Каждая личность, каждый человек должен находить то, что он хочет, что его привлекает…
Наши исследования могут быть интересны, в первую очередь, для индивидуумов, практически работающих в направлении конструирования ситуаций. Подобные люди все – и спонтанно, и сознательно, – являются предситуационистами – индивидуумами, участвовавшими во всех предшествующих экспериментальных движениях и почувствовавших объективную необходимость этого вида конструирования через осознание сегодняшней культурной пустоты…
Сконструированная ситуация обязательно коллективна в своей подготовке и развитии. Тем не менее, может показаться, что на период первых сырых экспериментов данная ситуация требует на главную роль «режиссёра» одного человека. Если мы представим конкретный проект ситуации, в котором, например, исследовательская команда создаёт эмоционально подвижное собрание нескольких человек на один вечер, мы без сомнения должны различать: режиссёра или продюсера, ответственного за координацию основных элементов, необходимых для создания декора и для выработки определенных инвенций в событиях (как альтернатива, несколько человек могли бы разрабатывать свои собственные интервенции, будучи в той или иной степени не в курсе планов друг друга)…»
Как будто описание зарисованных мной «экспериментов»!
Впрочем, не знаю – от таких текстов у меня иной раз рябит в глазах, «всё позволено» будет короче, но опять же без нюансов… я выражаю подобные вещи, надеюсь, не менее тонкие и глубокомысленные, косвенно – в художественной форме.
Вот, к примеру, уже упомянутый и всячески мною и всеми уважаемый старший товарищ поведал такую историю. Когда он работал в школе, то коллега его, вполне взрослый, адекватный и ничем не уродливый дядя, ставший за свои заслуги завучем, повадился… ссать в руковину. Это была обычная эмалированная раковина в коридоре – мыть руки. И он туда наладился в достаточной степени регулярно – так что вот даже об этом стали прозревать посторонние лица – в основном вроде особо прозорливые сослуживцы, а может даже и ученики. Дело в том, что санитарный сей пункт находился в особенном месте – на нижнем полуподвальном этаже на пересечении путей в спортзал, душевые и в столовую и из них – так что как только раздастся звонок, магистраль сия мгновенно заполняется людьми (среди которых есть, кстати, и разгорячённые порозовевшие старшеклассницы, полуголые или в прилипших к телесам – особенно к складке-впадине между полупопиями! – спортивных штанах), и главное тут – успеть приладиться и сделать своё дело за этот всё же существующий в данном (да и в других) случае материальный временной эквивалент понятия «мгновенно». Работаем, так сказать, на контрастах и на грани фола: «Здравствуйте, здравствуйте, девочки! Как ваши дела? (а я вот руки мою, обмывая вот заодно и края руковинки, кем-то видимо неохалюзно оплёванные…)» Вот ведь… «То ли адреналина ему не хватало…» – с серьёзным видом рассуждает над курьёзным феноменом старший товарищ, а я уже дохну чуть ни до слёз, про себя думая, что такие случаи, конечно же, говорят о природе человеческой куда больше и выразительнее, чем многие километры писанного в терминах отвлечённых.
Некоторые сравнивают «Echo», например, с фильмом «Детки» («Kids»)28, вызывающим чувство отвращения (и в то же время сочувствия), тревоги и боли за своих детей, реальных и гипотетических; вызывается из запасников памяти немного подзабытое выражение (почему, интересно?!) – «опасение за будущее всего человечества». Автору же этих строк кажется, что он запечатлел некий новый период лишь в его начале (и самое начало – это конец 80-х, гласность и перестройка, начало 90-х, крушение Империи – т. е., у меня на сегодняшний день это именно вот эти тексты), а вообще я, конечно, мало представляю, чем и как живут современные подроски, никакого Советского Союза и не нюхавшие, – я таращу глаза на список признаков «компьютерной болезни» – «неужели ж этъ не прикол?!», потом нахожу некую их внутреннюю общность с определениями «детей индиго», а уж при рассказах матушки, как ведут себя нынешние немногочисленные ученики нашей видавшей лучшие времена schule (где она сейчас работает), просто плююсь, негодую и с трудом сдерживаюсь от а-ля старческого брюзжания… Вот докатились! – вот докатился!..29
Особенно ещё меня поразил эстонский фильм 2007 года «Класс», посвящённый той же проблеме, о которой я и пишу, – так называемом насилии в школе (отрадно, что как-то без акцента на времени, когда это происходит), весьма сходный со знаменитой лентой Гаса Ван Сента «Слон» (который в сопоставлении с «Классом» кажется туповато-слюняво-америкосной побарденью), только я, так сказать, перенаправляю векторы. А вообще такое прямое разрешение конфликта (ответ насилием на насилие) – самое простое, должны только совпасть воедино некоторые факторы, и тогда – о ужас! – бойтесь возмездия!
Повторю ещё раз: сам я подобного, равно как и описанного в настоящей повести, не оправдываю. Пусть эти произведения служат своего рода предостережением для тех, кто является говном, и своего рода арт-терапией для умных, талантливых и угнетённых. Однако, сводить всё к развлекаловке и эстетизации уж никак нельзя, потому что красота здесь вполне условная, и не только здесь, и вообще она вещь зело хрупкая. Ведь вот, например, что такое Диснейленд у нас все уже давно знают, хотя кто не бывал, представляют его наподобие Макдональдса и даже иногда путают (что, возможно, даже и оправданно), но вот по каким-то странностям судьбы построить в России нечто подобное никто, кажись, и не пытался!.. Как вы знаете из произведений классики, традиции развлечений у нас богатейшие, однако между карнавальностью западной и нашей есть, нам кажется, большая разница. В нашем бытии мало культурности, серьёзности, методичной скучности, меры как таковой, а есть воля, экстрим – «дойти до последнего предела», плюс некоторая мужицко-народная лукавость, такая доля шутки во всём, даже в самом горьком. Как видно, оба эти качества порождают и более глобальное третье – метафизическое измерение самого отношения к жизни. И посему выходит, что карнавал наш не запланированный и регламентированный, а чисто спонтанный, гулевой – уж куда вывезет! Подчас страшный, даже сакральный – именно русский… В формулировках веет бредом, но нам понятно: мы это чувствуем, мы в этом живём. Кому-то этого никогда не понять, но я вас призываю! Ведь акромя уж всех знаний о медведях в ушанках и с бутылками водки (что от действительности подчас не так уж и далеко), недавно, говорят, официально было введено в американский английский прилагательное «russian», означающее что-то типа нашего «смурной»: «I’m so fucken russian today!» Вот вам и русско-американские горки! А для теперешнего русского мальчика – мальчика-андроида с android’ом в руках – всё-это, боюсь, смурное, скучное, не больше.
Раньше, ещё в пресловутое (но далеко не всегда вислоухое, несмотря на пример чуть ниже) наше время, всё было до смешного по-другому. Источник информации и развлечений был не всегда в кармане: приходишь на дискотеку (допустим, в той же школе), тут тебе врубают кассету с новым альбомом новомодного «Кар-мэна» (которую ещё надо было специально достать – съездить в город купить или у кого-то переписать), и вот на тебя несётся (и вместе с тобой): «Эй, танцуй веселей Рок индийских королей!» (ну и там «Вновь заиграл рассвет, Пусть у нас минаретов нет» или «Падишах, шах, Пригласил в Бомбей меня…») – и ты скачешь и до хрипа голосишь, ничуть не задумываясь, откуда в Индии короли, минареты и падишах – поют ведь люди центровые, «экзотик-поп» называется, они уж стопудово бывали и в Бомбее, и в Лондоне и Фриско. Меж тем буквально в двух шагах от орущих колонок – неприметная дверца в школьную библиотеку – она работает в друом режиме: днём, но эти два шага за книжкой про Индию ещё надо сделать…
Однако «Echo» – во многом попытка чего-то европейского, всеобщего, первое индустриальное, урбанистическое сочинение. А ранние рассказы и повести совсем другое, в них сельская стихия, дыхание, почва.
Что же касаемо правдивости или вымышленности представленных событий – то, по-моему, они говорят сами за себя. А вот что говорят и как, я об этом и думал, и пишу, и думаю. Впрочем, во избежание двусмысленности юный автор-хроникёр, начав своё сочинение с эпохальной даты 12 декабря 1993 г. и монументального предложения (достойно наследующего «Мяве с Мурзиком…», конечно же!) «Россия выбирала», предпослал ему предуведомление: «ВСЕ ОПИСАННЫЕ СОБЫТИЯ ВЫМЫШЛЕНЫ И НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ СЕЛА НЕ ИМЕЮТ. АВТОР ПРОСИТ ИЗВИНЕНИЯ (даже так?!) ЗА СОВПАДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОВ».30
Моя деревня вообще мифическая, и никто из моих друзей никогда здесь не бывал. Прочие многие даже и не верят в само её существование.31 Но однажды одной моей подруге довольно сильно суровых моих дней периода «Дью с Берковой» посчастливилось. И увидела она наяву, как бедный О. Шепелёв, абсолютно трезвый и бледный, указал куда-то, где кончалась расчищенная грейдером дорога, и виднелись во тьме одни сплошные необъятные снежные заносы, сугробы да заросли. Взобрался на почти в рост человека бугор от расчистки, встал там на колени, провалившись в снег, и долго стоял так неподвижно в тиши под блистающими звёздами, только что-то подвывая и всхлипывая, несмотря на мороз и на увещевания уж затеребившей свой суперраскладной телефон розовощёкой журналистки. Он её заранее упредил: ты городская, не поймёшь. Вот и вы не поймёте (разве что самые некоторые), чего в принципе и не надо; хорошо, если прочитаете юношескую повесть сию – поразвлечётесь, узнаете много нового…
Я бы, конечно, как тот же Набоков хотел написать: воссоздать весь этот мир по крупицам, «оцифровать», перенести в образы на бумаге всё до посленей былинки, букажки, листика… но я не Набоков32, и повести мои будут скорбныя и длинныя (Асару Эппелю ещё лёгкая слава!). Я уж и начинал, да бросал… Можть потом продолжу… А пока – первый и массированный удар прото-«Общества Зрелища», анархии и не-согласия, жизни как искусства, «явления явлений себе и сильно» и проч. – из первых рук – пли! И никаких позёрства и мистификации!…»
Место силы», «намоленное место» – есть такие понятия. Бабушкин дом действовал и действует на меня на расстоянии, когда я к нему приближаюсь, – как дольмен (и даже кажется, что и не только на расстоянии самом близком, зоны видимости, но и вообще любом). Каждый раз, десятки тысяч раз, подходя к нему, к бабушке, или уходя от неё, от них, считал взглядом туда-обратно боковые окна школы, довольно зловеще стоящей по пути, а тут уже, здесь вблизи, – докасывался, считая их с особым нумерологическим порядком – 12, 7, 4, 3, 2, 2, – до колышек калитки оградки – своего рода самоизобретённая защитная магия. Заклинал судьбу и местность, чтоб были мы с бабаней вдвоём («а потом чтоб и не с ней»), – и помогало. Хотя конечно, всё это бабушка надвое сказала и вилами по воде (обратите внимание на сами эти выражения). Укореняешься в жизнь и в судьбу самоуверенно-самонадеянно – будто в первый раз входишь в штормящее море… А оно возьмёт и нахлынет всей мощью мутно-изумрудной пахучей стихии – просто берёт тебя, сбивает с ног, бросает, ударяет об острые камни, накрывает мутной холодной водой и ещё протаскивает, да и таскает-терзает себе по каменьям рёбрами и бёдрами, поигрывая, подсмеиваясь… – лучше уж выйти, да и вообще не входить! Другое дело – вёдры…
…Всё не давалась мне даже первая фишка из Кастанеды – найти во сне свои руки (т. е., если не ошибаюсь, через это осознать, что ты спишь, т. е. находишься в параллельной реальности, весьма похожей на нашу, и начать действовать там по своему усмотрению), но однажды я случайно заснул прямо часа в четыре дня, и получилось. Я пришёл (во сне) к бабушке, стал стучать в дверь, потом в окно, но она не открывала, и у меня так и защемило сердце (что уж не раз было): «А вдруг она умерла?!». Вскоре я полез в форточку (а она высоко и маленькая). Просунул в неё голову (памятуя о каком-то правиле, что, мол, ежели голова куда проходит, то остальное уж тоже пролезет), и осознал, что плечи уж точно в такой квадратик никак не пройдут… прислушался: ни дыхания, ни сопения бабушкиного не слышно… да и голову назад никак не высунуть… И тут я вдруг внезапно понял, что сплю. Мне стало так страшно (метафизически, онтологически), как никогда в жизни, как только при ясной мысли о смерти, или поти так же, когда на 1-м курсе проснулся оттого, что перепивший сынок квартирохозяйки, уголовничек и алкаш, Ауар Колчижинал Френд, поднёс мне к глотке нож, или как когда понял внутреннее устройство экзистенциальной Матрицы бытия в бэд-трипе, описанном в «Дью с Берковой». Я выставил руки на подоконник (вот они!), легко от них отпружинил, и прям с ногами стремительно впрыгнул чрез форточку в дом!.. и проснулся33.
март – август 1994,июль 2007 – октябрь 2008.Примечания
1
А самый нынче на Москве дефицит и деликатес – картошка (!) – чтоб она не водянистая была, не как мочалка, не гниль, не как горох, и не по сто рублей… У нас такую, которая здесь насыпана по 25, а то и по 40 руб. в лотке супермаркета, даже свиньям не дают!
(обратно)2
Конечно, духовный, а не по крови, хотя изначально они оба как бы едины, и если не считать вырождения кровного от большого богатства или сильной бедности, именно проявляются сами собой не понять откудова в каком-нибудь седьмом колене (у меня, к примеру, все известные предки крестьяне, и ни у кого из родственников не было высшего образования); и вот даже, как сообщили мне недавно, двоюродная наша сестра, учившись на истфаке в Пензе (это уже поколение 90-х с нормой ВО), разыскала там что-то в архивах, что подтверждает некую причастность нашей фамилии к знаменитой боярыне Морозовой, чья судьба и есть довольно редкий и истинный пример синтеза обоих аристократизмов. (Хотя, скорее всего, всё же мне неверно передали или перепутали (у Феодосии Прокопьевны ведь не осталось потомства), и речь всё же идёт о других Морозовых, идущих от купца Саввы Морозова.) Пожалуй, ещё более фундаментальным свойством моей натуры (впрочем, как видно, неразрывно связанным с указанным выше) является некий мистицизм в восприятии реальности, но не книжный, а натурально-стихийный, позволяющий и заставляющий в обыденном видеть иное, чем, естественно, я довольно рано начал пользоваться в своём художественном творчестве. Надеюсь, что в будущих произведениях мне удастся ещё более развить названную тенденцию, привлекая к этому, помимо прочего, интеллектуальные ресурсы.
(обратно)3
Вняв советам друзей и редакторов, я согласился перенести настоящее предисловие (исключая несколько вышестоящих абзацев и приложение к нему в виде плана) в конец, чтоб оно читалось как послесловие.
(обратно)4
Бардель – разнузданная пьянка, лихой кутёж, гульба. Видимо, искажённое «бордель». Не могу понять сам, диалектизм это или неологизм автора.
(обратно)5
Бадор (бадорник) – сорная трава, заросли сухой травы, бурьян (диал.).
(обратно)6
Атитектор – так бабушка называла человека, склонного к мелочно-злобному озорству, подхалимажу, постоянно затевающего что-то неприличное, пытающегося всем напакостить, обвести вокруг пальца.
(обратно)7
Основная, сквозная дорога села, полкилометра от центра к окраине, где находятся колхозные склады, а также больница, в которой некоторые бабки практически живут.
(обратно)8
Пред – председатель колхоза.
(обратно)9
Можно продолжить, что «СГ» – своего рода музыка нового русского фольклора, ещё чуждая как слащаво-прилизанной синти-попсы, так и так называемого гламура, как политкорректной (якобы антиполиткорректной) патетики рока, так и уёбищно-казнокрадской романтики «русского шансона». Может быть, это один из первых образцов того, что автор этих строк назвал в 2007 г. термином «гломур» – произведения искусства или имиджевые факты биографии, в которых совмещены в сущностном единстве элементы гламура и антигламура. Так, говорят, например, о гламуризации личности Ленина или Гитлера, но это постфактум-процесс, а если бы они жили в наше время, то, скорее всего, сами использовали выработанные современной медиа-индустрией законы массового восприятия. Типичные представители – Мэрилин Мэнсон, Сергей Шнуров.
(обратно)10
Еpentheticum – вставной (лат).
(обратно)11
Прижукнуть – затаиться, замереть, как обычно замирает замеченный человеком жук (диал.).
(обратно)12
Очищалка – чистилка, приспособление для чистки обуви (резиновых сапог, галош) от налипшей грязи, представляет собой дугу из металлической трубы или бруса, концы которой вкапываются в землю для крепления, и которые соединены между собой горизонтальной перекладиной. Устанавливается у входа в дом или учреждение, как правило, в сельской местности, особенно с чернозёмной почвой. Новаторские модели: П-образная, а также тройная или четверная, напоминающие остов туристической палатки.
(обратно)13
Ставоранный – рано вставший, перен.: пришедший первым (диал.)
(обратно)14
Далее текст «школьных сцен» большей частью зашифрован и местами тщательно зачёркнут «цензурой», поэтому вынуждены в таких случаях поприветствовать довольно обширные интерполяции, особенно в главках, которые помечены как вставные. – 2008.
(обратно)15
Сдябрить – схватить, украсть, стащить (диал.).
(обратно)16
Потом, к старшим классам, появились какие-то невиданные доселе летающие насекомые: все чёрные и страшные, жёсткие, похожие на увеличенного комара или тощую осу, нечто среднее между мухой и стрекозой, которые, не исключено, всё опыляют заместо пчёл и ос, и их очень много, и всё это неприятно и даже почти что страшно.
(обратно)17
Истисовать (истесовать) – исчиркать, испачкать (диал.)
(обратно)18
Прибасать – ухаживать; прибаснуть – выпить (диал.).
(обратно)19
Благой – сумасбродный (диал.).
(обратно)20
Туразить – преследовать, бегать за кем-то, пугать (диал.).
(обратно)21
Буйдан – бугор (диал.).
(обратно)22
Хотя в рамках группы «ОЗ» песни-гимны о подвигах Мявы и Мурзика, основанные на всё тех же текстах тридцатилетней давности, вполне себе (не) навязчиво исполняются почти все пятнадцать лет существования коллектива.
(обратно)23
Побить «круговую оборону» столичных «толстых» журналов (да и то единичным выстрелом!) удалось только публикацией в 2012 году этого рассказа в журнале «Дружба народов» – под другим названием и в сокращении. – Прим. 2013 г.
(обратно)24
Так прозаик М. Скворцов обозначает настроение, творческий настрой, а за ним неустанно повторяет О’Фролов.
(обратно)25
Скажу и отвечу: «всем этим» я нимало не стремлюсь «умалить роль О. Ф. (и проч. тож) в создании «ОЗ», а просто излагаю избранные эпизоды из своей биографии как «информацию для размышления». Насколько знаю, у О. Фролова тоже в детстве было нечто подобное, и тоже с припряжением брательника, но у меня занятия сии «вос-производства явлений» (выступления короля музыки Киссера!) носили заведомо-завидный систематический характер – бедной бабушке порой оч. сильно надоедало, царствие ей небесное! Короче, ничего такого; всех вас очень люблю.
(обратно)26
Находясь, кстати, именно на малой родине, жаль только, что не в бабушкином доме; а недавно прям я побывал – наверно, в первый или второй раз за последнюю декаду идиотской во многом писательской жизни! – в своей родной школе: давал интервью районному ТВ, потому что за оное мне – косвенно, впрочем – заплатили 3 тыс. руб. – такие гонорары иным насосам только снятся!
(обратно)27
Ведь с другой же стороны, именно при написании «Эха» я осознал, что при этом пресловутом соблюдении общепонятности и адекватности текста (которой мне всё же пришлось сделать некоторые уступки) индивидуальная стилистика, сам строй речи и мысли, а может быть, и всего авторского художественного мира теряется и переводится – будто с иностранного. Появляется литературность, но что есть сие? Разве не какое-то странное ощущение, что все тексты пишет один и тот же автор. Особенно это видно по новейшей волне нашей прозы – тех, кто пришёл в литературу с 2000-х гг. (во всяком случае, если судить по верхушке айсберга, сияющей в лучах признанности). Довлеет какая-то непонятная (вернее, понятная тем, кто в состоянии её воспроизвести) норма (нужно только избегать штампов в языке, бытующих в средней руки журналистике, и желательно – хотя бы в половине мыслей – и всё, карьера писателя обеспечена!), тогда как пресловутое «сверхусилие», которого так (риторически, не ригорически) требуют критики, в самую первую очередь может быть реализовано именно на уровне так называемой индивидуальности текста (коли уж Вы взялись за его написание), и поэтому они сами же, ещё вместе с редакторами и читателями (которые здесь ссылаются друг на друга), автору это дать не дают, и всё-это напоминает разговор двух (и более) энэлпэшников, которые знай себе подстраиваются под голос и манеры друг дружки, якорятся, серьёзничают, ярятся, серьёзно веселятся, но не в Гамбурге всё-это происходит. В идеале (а на самом деле на практике!) речь идёт ни много ни мало как о написании текста, не имеющего себе аналогов – в основном в национальной литературе, а уж подавно и вообще в мировой – как, например, сразу отличимы по стилю и строю мысли творения Гоголя, Достоевского, Толстого или Платонова, но если б им придать хорошего современного редактора, издателя и корректора, то и от них остались бы токмо рожки и ножки.
(обратно)28
Не могу дать отчёт о литературе постлолитско-постнадпропастического периода (не читал даже Селинджера! – в студенческие годы мы с О. Ф. из-за необременённости достатком читали лишь книги, которые сами попадали нам в руки, и больше занимались практикой, производством, а не впитыванием), но в кинематографе последних лет тема вообще довольно разработана: здесь и «Hard Candy» (про деводжгу) и «Sweet Sixteen» (про мальчега), и проникновенная история о том, как одна юница по-настоящему любила свою подружку и покончила из-за неё с собой (названия не помню), и довольно широко известный «Fucking Amal», русский перевод которого дал заглавие песне «Тату» и вдохновил их кукловодов на лесбийский имидж, и «Небесные создания» – о платонической вроде, но деструктивной дружбе двух школьниц, и ещё «Party Monster» («Клубная мания») – фильмец о детках-баловнях, любящих клубится и всего чуждых, и «Город Бога» про детей-гангстеров, и др. (В 2008-м вышел уже «Все умрут, а я останусь» Германики, а чуть раньше были её документальные зарисовки из жизни подростков. Однако я о том не знал, а все указанные ленты посмотрел в 2008 г. – как раз примерно когда писал предисловие – когда получил хоть какой-то (на работе) доступ к интернету. – Прим. 2013 г.)
(обратно)29
А чего стоят появившиеся году в 2010-м и вызвавшие резонанс в СМИ видеорлики, в которых ученики издеваются над учителями (а не наоборот), бьют их и т. д. В наше время такого представить было никак не возможно. Когда напечатали рассказ «Черти на трассе», снабдив его дурацким подзаголовком «рассказ учителя», то первые строки, где сообщалось, что Василия Петровича ученики заглазно называли просто Василием (поскольку ему было 27 лет), а некоторые – особо заматеревшие старшеклассники – приглазно, после редактуры стали выглядеть так: «Василию Петровичу, которого все заглазно звали Трактором, а выпускники и отдельные ученики – приглазно… было лет тридцать семь…» (плюс подтягивание образа под шаблон так называемого кризиса среднего возраста). На что я особо вознегодовал: чтобы кто-то кого-то в глаза звал прозвищем (да хоть и именем без очества) – не припомню! – Прим. 2013 г.
(обратно)30
Так начинается первый «Диснейленд». И ещё один пункт. То, что один из главных героев Бадор (С-ор) по национальности не является русским (или таковой лишь наполовину), и в разговорах персонажей сей факт как-то муссируется, не имеет никакого символического или политического смысла. Национальность прямо не указывается, инвективы обусловлены обычным бытовым национализмом, достаточно незлобивым и безопасным. Кроме того, сообщается, что иноземец давно обрусел. Редакторы советуют автору вообще убрать эту характеристику персонажа, но она дорога ему как память: во-первых, так было в оригинале 1993—94 гг., а во-вторых, у героя есть прототип.
(обратно)31
На самом деле, современная деревня, сельская местность, какой я её застал (1990—2000-х гг.) является, в моём представлении, некоей «аномальной зоной». Не везде, конечно, дело обстоит именно так, но в основном необычайно обширная территория русской позднесоветской и постсоветской глубинки ввергнута в разруху и вырождение, причём довольно своеобразные и парадоксальные. Основная суть их – в урбанизме, который давно причудливо въелся как в уклад жизни, так и в склад личности селян. Объяснить всё это в двух словах человеку несведущему, то есть, хоть и допустим, не раз бывавшему в деревне, но там не жившему, практически невозможно. Здесь, может быть, уместна лишь метафора другой планеты с иной атмосферой, гравитацией и прочими законами (или довольно часто применяемая западными исследователями русской литературы аналогия с полевыми исследованиями в диких племенах), или новейшая шуточка со смыслом «А есть ли жизнь за МКАДом?». Надеюсь в будущих своих творениях прояснить этот вопрос не только гиперболо-иносказательно, как в настоящей повести, но и более привычно и адекватно, повествовательно-описательно.
(обратно)32
Набоков есть яркий пример того мироощущения, которое в начале биографии Проханова передаётся цитатой из его романа «Дворец»: «Какое количество людей было вокруг меня – кормило, воспитывало, лелеяло! Целая рать прекрасных мужчин и женщин (причём, в контексте мысли Данилкина и мироощущения его героя, и живых, и мёртвых, т. е. славных предков. – А. Ш.) выстроилась, чтобы уберечь меня в этой жизни. У меня всегда было ощущение, что я был как бы птенец в окружении множества птиц…». У меня же наоборот имманентно чувствуется некая «безродность», возникновение самого себя не из рода, не из (или от) мира сего (нет и религии, в 90-е обрушилось хоть и слабое ощущение принадлежности к государству, к культуре), в дальнейшей жизни на чужбине не стало ни друзей, ни родственников (от которых и так отпал по мере приобщения к культуре высокой, а их к попсовой), остаётся только сон о детстве, где всё это, наверно, было, творчество, да поиски веры.
(обратно)33
При переработке повести я окончательно убедился, что одним из важнейших этапов писательской работы является творческий кризис. Он следует за первоначальным импульсом вдохновения и его плодами. Рационализация, структурализация – это редко даётся легко, особенно когда какие-то звенья цепи (сюжета) отсутствуют. Так, я обнаружил, что целых три самых ключевых сцены в найденной рукописи отсутствуют! Первая выпала вместе с листами тетради, на вторую стоят ссылки, что она в другой тетради, которая утеряна, а о третьей вообще нельзя с уверенностью сказать, что она была написана! Тут-то я и приуныл. Но маховик творчества, разогнавшись, завихряет всё вокруг, подключает резервы бессознательного. Каково же было моё удивление, когда все эти сцены, о которых оставались только смутные представления и непередаваемые ощущения, приснились мне во сне – во всей своей неоднозначной красе и несуразных деталях.
(обратно)




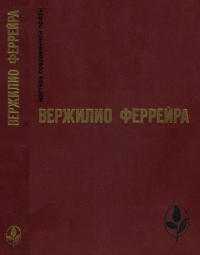
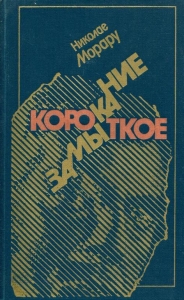



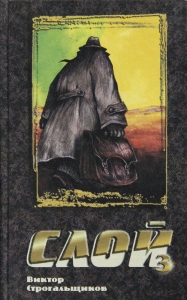

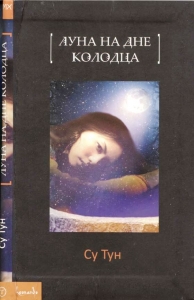
Комментарии к книге «Russian Disneyland», Алексей Александрович Шепелёв
Всего 0 комментариев