Ангелика Мехтель Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой: Роман
Предисловие
Ангелика Мехтель — не новое имя на сегодняшней западногерманской литературной сцене. Новичком в литературе молодую писательницу (Ангелике Мехтель нет еще сорока) уже не назовешь. На счету у нее шесть «больших» романов, несколько сборников рассказов, две злободневные документальные книги, небольшой сборник стихов, радиопьесы, сценарии для телевидения. И все это — за десять с небольшим лет, ведь Мехтель четко принадлежит к так называемому «поколению семидесятых», а первые ее книги пришлись на самое начало десятилетия. Разумеется, обилие печатной продукции само по себе еще ничего не доказывает, хотя и свидетельствует о серьезности намерений вступающего в литературу автора. Впрочем, у Ангелики Мехтель, помимо этой серьезности, есть и другие важные качества, собственно и делающие молодого писателя по-настоящему писателем: солидный запас жизненных наблюдений, богатство личностного опыта и, главное, «своя тема», собственный писательский подход к воссоздаваемым в слове фрагментам действительности.
А что книги Мехтель обращены именно к действительности, к конкретной западногерманской действительности послевоенных лет, порождающей множество проблем и множество внутренних человеческих конфликтов, — это факт, единодушно признанный всеми критиками, в том числе и не слишком доброжелательными. Мехтель пишет о том, что хорошо знает, с чем сталкивается постоянно, что происходит для нее «здесь и сегодня», — пишет правдиво, точно, резко. Она принадлежит к тем молодым западногерманским авторам, что вошли в литературу с достаточно четко антиформалистической программой, со стремлением писать в духе реализма, писать социально, бескомпромиссно, по-серьезному ангажированно. И пусть не все удавалось молодой писательнице в начале ее творческого пути, пусть ангажированность оборачивалась порой наивным стремлением эпатировать публику, а желание писать реалистично приводило временами к фактографичности и бытописательству — главные свои признаки проза Мехтель сохраняла всегда: продуманность социального содержания, печать подлинного таланта, свой взгляд, свое восприятие мира.
«Еще одна агрессивная молодая дама»— так называлась когда-то рецензия на первый сборник рассказов писательницы. Сказано не без язвительности, однако, по сути, довольно точно. Мехтель в самом деле принадлежит к числу «сердитых» писателей, к числу тех, кто не только не старается замазывать в своих произведениях противоречия окружающего мира, но, напротив, стремится выпятить их, подчеркнуть, сделать наглядными для всех и каждого, заставить читателя задуматься над существующим порядком вещей.
Верна и вторая половина определения. Мехтель вовсе не пытается сгладить в своих произведениях особенности «женского» пера, больше того, именно в разработке так называемой «женской темы» лучшие ее достижения; именно Женские образы, образы современниц особенно удаются писательнице. Это и отчаявшиеся, неприкаянные, изо всех сил пытающиеся «вжиться» в жестокие условия своего бытия и столь часто терпящие поражение героини ее многочисленных рассказов; и студентка Ильземан из первого романа «Проигранные игры» (1970), которая пробует после трагического самоубийства друга начать жизнь заново, но так и не может преодолеть барьер, отделяющий ее от других людей; это Анна, героиня романа «Бредущая вслепую» (1974), после долгих лет слепоты обретающая зрение, а вместе с ним и стремление к свободе, самостоятельности, независимости, к уверенному и надежному существованию без страха и тоже терпящая в конце концов поражение; это и девочка-подросток, героиня романа «Мы богаты, мы бедны» (1977), выбирающаяся из шелковистого кокона детства в мир взрослых, жестокий, холодный, сразу же демонстрирующий ей и предательство, и обман, и равнодушие людей друг к другу; это, наконец, Паула, героиня нашей книги, о ней речь пойдет ниже.
Почти все предыдущие романы писательницы кончаются трагично или, во всяком случае, повествуют о событиях горьких и печальных. «Проигрывают» свою игру молодые герои первого романа писательницы: погибает, осознав перед смертью всю бессмысленность и тщету своих карьерных усилий, сорокасемилетний журналист Мерц, герой романа «Хочешь не хочешь» (1972), снова, во второй раз, приходится начинать с нуля героине романа «Бредущая вслепую», горьким оказывается прощание с детством для героини романа «Мы богаты, мы бедны». Исключение составляет разве что роман «Стеклянный рай» (1973) — резкая, неприкрытая сатира на современную благополучную буржуазную семью, за обманчиво-респектабельным фасадом которой скрывается и непримиримая ненависть между родными братьями, и полный крах их семейной жизни, и приносящая хороший барыш торговля гашишем, и лицемерная набожность, служащая лишь камуфляжем для разного рода темных дел, и одиночество, и фальшь каждого жеста, и многое-многое другое.
Во всех своих романах Мехтель остается верна социальной теме, она затрагивает вопросы действительно актуальные, вопросы больные, горькие, требующие немедленного разрешения. Тут и одиночество, неприкаянность той части западногерманской молодежи, что по стечению обстоятельств попадает в аутсайдеры, оказывается на задворках потребительского рая («Проигранные игры»), и продажность, коррумпированность западного телевидения, опустошающего человека духовно, разрушающего личность изнутри («Хочешь не хочешь»), тут и деградация благополучной буржуазной семьи, которой достает еще сил разве только на то, чтобы поддерживать обманчивую видимость мира и благопристойности («Стеклянный рай»), и «холодные времена» западногерманских пятидесятых, принесших наряду с первыми ростками послевоенного благополучия и новые серьезные проблемы («Мы богаты, мы бедны»), Мехтель всюду обращается действительно к проблемам, стараясь ставить их резко, неприкрыто, так, как подсказывает ей ее собственное писательское чувство. Тягу к проблемности наглядно демонстрируют и документальные книги писательницы: «Старые писатели в ФРГ» (1974) — сборник интервью со стареющими западногерманскими литераторами, обреченными в большинстве случаев на нищету и забвение, материал пронзительной публицистической силы; и «Речь в нашу защиту» (1975) — сборник интервью и других материалов, рисующих бедственное положение в ФРГ жен и матерей тех, кто приговорен к длительным срокам лишения свободы, блестящий образец писательской публицистики, умелого и тонкого использования «человеческого документа».
Публицистичность по большому счету вообще свойственна прозе Мехтель, и это ее качество неожиданно и ярко открывается в представляемом ныне романе — в «Утренних беседах с Паулой». Компактное, цельное повествование романа демонстрирует лучшие стороны художественного таланта Мехтель, возросшее ее мастерство, умение изящно и лаконично выстроить художественный текст. И если прежние романы писательницы, что греха таить, страдали порой от некоторой избыточности, от многословия, если временами им недоставало точной соразмерности пропорций, цельности и определенного сюжетного единства, то в нынешнем романе все как-то удивительно на месте, все соразмерно и органично, все подчинено единой и определяющей повествовательной идее.
Так какую же идею воплощает в себе хрупкая, темноволосая маленькая Паула, скромная и интеллигентная заведующая недавно созданной муниципальной библиотеки в маленьком западногерманском городке, уверенно стоящая на своих собственных ногах тридцатипятилетняя женщина, ведущая вполне независимое существование и сама определяющая свой повседневный жизненный уклад? Какую идею воплощает в себе бывшая воспитанница монастырской школы, придерживающаяся довольно строгих (на фоне пережитой не так давно «сексуально' революции») взглядов на мораль и в то же время отнюдь не стремящаяся в начале нашего с ней знакомства обрести привязанность к кому-либо и соответственно дополнительные человеческие обязательства? Какую идею воплощает уверенно начавшая свою карьеру и «сжившаяся» с атмосферой городка Д. («Д., как Дойчланд», — замечает Паула в одном из разговоров) добросовестная служащая, которую отличают к тому же, на радость обер-бургомистру и его советнику по культуре, вполне добропорядочные умеренно-либеральные взгляды?
Перед читателем не совсем обычный текст. Во всяком случае, непривычный. Сюжета в традиционном понимании практически нет. Он лишь домысливается, угадывается, проступает сквозь разбросанные вперемешку мысли, сквозь реплики и монологи персонажей, зарисовки, фрагменты — словом, все то, что, наверное, правильнее было бы назвать подготовительными материалами к роману. Мы словно оказались неожиданно для себя свидетелями того, как из всех этих писательских размышлений и зарисовок выплавляется незаметно образ главной героини и как уже внутренняя логика самого этого образа начинает исподволь формировать, организовывать сей изначальный хаос, как, подчиняясь этой логике, становится повествование связным и цельным, обусловленным жесткой внутренней необходимостью. Ангелика Мехтель решительно выносит на страницы своего нового произведения собственную творческую лабораторию. Больше того, в вошедших в название романа «утренних беседах» становится предметом обсуждения и сам характер героини: он как бы взвешивается, рассматривается писательницей со всех сторон, проверяется на жизнеспособность и жизненность. Мы словно становимся соучастниками таинственных творческих процессов, в результате которых рожденный писательским воображением персонаж становится уже некой объективной данностью и, вырвавшись отныне из-под власти своего создателя, начинает жить самостоятельной, вытекающей лишь из логики развития его характера жизнью. «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее», — говорил Пушкин кому-то из своих приятелей. В романе Мехтель читателю, словно нарочно, заранее демонстрируется процесс рождения такого самостоятельного персонажа, и впрямь способного в какой-то момент учинить самую неожиданную «штуку», сделать то, что для него, персонажа, естественно и необходимо и что уже никак не зависит от воли придумавшего его автора.
Казалось бы, жизнь героини Мехтель разворачивается поначалу столь благополучно, столь типично для «self-made-woman», столь спокойно и в то же время увереннопоступательно, что сама она вполне может восприниматься как своего рода символ незыблемого буржуазного истэблишмента, где, если верить официальной западной пропаганде, каждый, демонстрирующий усердие и старательность, способен достигнуть определенных социальных высот и занять свое — подобающее — место в социальной и имущественной иерархии. Но все это только на первый взгляд. Тут-то и оказывается, что совсем не случайно характер героини подается писательницей в живой дискуссии, в «беседах», в динамике наплывающих друг на друга характерных эпизодов ее жизни. И тогда выясняется, что это только внешне жизнь Паулы течет так, как и естественно было бы ожидать, — спокойно и слегка монотонно, без потрясений, без каких-либо существенных открытий, без серьезных потерь. Работа в библиотеке, которая практически создается заново, на основе скудного и довольно-таки непритязательного собрания книг приходских библиотек, действительно отнимает все свободное время. Приходится решать массу дополнительных вопросов, связанных с оформлением помещения, с расстановкой книг, вечерами составлять систематический и алфавитный каталоги, оформлять заказы на новые поступления, переворачивать горы специальной литературы. Да еще попутно заниматься оборудованием собственных четырех стен — ведь Паула, по общему мнению, «прижилась» в городке, и, значит, устроиться ей нужно основательно.
Мало что меняет в ее жизни и, казалось бы, мимолетное знакомство с молодым испанцем во время респектабельного отдыха на Канарских островах. Ведь согласно раз навсегда определенной шкале жизненных ценностей для Паулы это всего лишь некая дополнительная краска к отпуску, приятное, но ни к чему не обязывающее событие, слегка нарушающее обычную отпускную монотонность. Еще бы, ведь «она всегда держала других на расстоянии. Выходные, отпуск — но не больше. Она вовсе не горела желанием заняться стиркой и мытьем посуды». Так сказать, благополучное дитя эмансипации, Паула прекрасно чувствует себя до поры до времени в собственном коконе, в том замкнутом, одномерном и вполне отлаженном бытии, которое она ведет на виду у не слишком-то жалующих чтение обывателей маленького городка Д. И когда перед нею на утреннем перроне их маленького городского вокзальчика возникает Феликс, добившийся стипендии для продолжения учебы в Западной Германии, она поначалу не испытывает никаких особых эмоций — лишь ощущение легкого неудобства, неизбежно связанного с приездом гостей. Да еще, пожалуй, предугадывает угрозу своему беспроблемному и столь надежному быту, в котором длительное присутствие другого не предусмотрено. Живое, непосредственное чувство, исходящее от юноши, открытая радость встречи и естественная порывистость объятий ломают вскоре придуманный Паулой стереотип отношений: любезная, но слегка отстраненная хозяйка и заглянувший на короткий срок гость. Проходит совсем немного времени, и вот уже мало-помалу привыкает Паула к национальным испанским приправам в супе, к еще одной зубной щетке на полочке перед зеркалом в ванной, к мужским рубашкам у себя в шкафу, даже к запаху свежего чеснока на кухне. И не просто привыкает, она — собственному желанию вопреки — привязывается к Феликсу, и чем дальше, тем больше.
К холодноватой, рассудочной Пауле приходит обычная женская любовь, и не просто любовь — прозрение. Глазами Феликса учится она смотреть на свою страну, и многое, что прежде ускользало от ее взгляда, теперь, в присутствии наделенного бунтарской зоркостью молодого испанца, обозначается особенно резко и тревожно. Мирный, уютный городок Д., столь изящно вписывающийся в традиционный баварский ландшафт, вписан еще и в немецкую историю, причем одной из самых черных ее страниц. Д. — это ведь не что иное, как Дахау, и в этом ласкающем взор ландшафте со всей непреложностью истории действительно существовал когда-то один из самых страшных нацистских лагерей смерти. Скромный желтый указатель (в отличие от огромных белых, предназначенных для туристов) указывает дорогу к созданному на территории бывшего лагеря мемориалу. Скромная, почти незаметная мемориальная доска на городской сберегательной кассе напоминает о расстрелянных здесь в годы гитлеризма участниках антифашистского восстания. Теперешние городские власти стараются по мере возможности отмежеваться от нацистского прошлого своего городка: для них Дахау — это прежде всего оазис искусства, знаменитый существовавшей здесь некогда колонией художников. И даже старожилы предпочитают не говорить о прошлом. Но приметы этого самого, кое в чем еще далеко не преодоленного прошлого, приметы, на которые столь остро реагирует Феликс, живо помнящий уродливые проявления франкистской диктатуры в Испании, то и дело дают себя знать в застойной обывательской атмосфере городка. Паула припоминает, что не раз уже ей приходилось сталкиваться с явной недоброжелательностью отдельных жителей и местных властей при решении вопроса о библиотечных фондах. И пусть те редкие экземпляры «коммунистических» книг, которые она — объективности ради — закупает иногда для библиотеки (к примеру, книжка о Розе Люксембург, выставленная ее молодой помощницей на стенде литературы для детей и юношества), помечаются ею на каталожных карточках стандартным клеймом «тенденциозная литература», даже само наличие этих книг в библиотеке представляется местным бюргерам опасным и явно нежелательным; вот почему то и дело юркают в почтовый ящик Паулы анонимные письма с угрозами, трезвонит в квартире и на работе телефон, на другом конце провода которого анонимный абонент разражается бранью. Оказывается, и комплектование скромной городской библиотеки в маленьком и довольно-таки захолустном городке может стать поводом для политических конфронтаций, привести к явному конфликту с властями. Оказывается, что даже по столь теоретическому, в общем-то, вопросу, как, скажем, принадлежность книги репортажей Гюнтера Вальрафа к беллетристике или же документальной литературе, могут возникнуть идейные разногласия. Паула упорно ставит Вальрафа на полку «беллетристика», и ей на это неоднократно указывают — не потому, что городские власти ратуют за точное соблюдение литературных жанров и родов, но потому лишь, что в разделе беллетристики книгу остросоциальных, злободневных и разоблачительных репортажей Вальрафа будут больше читать, а этого-то местным властям как раз и не хочется.
Все серьезнее начинает задумываться Паула об окружающем. Ощущение неуютности, «холодности», от которых страдает Феликс в Западной Германии, постепенно передается и ей. «Хотелось бы мне попасть в страну, где жить не страшно», — роняет Паула в одном из разговоров. В городке же, где полицейские во время учений травят собаками бездомного бродягу, нашедшего пристанище в доме, подлежащем сносу, где любое проявление неординарности, необычности тотчас наталкивается на настороженный взгляд обывателя, жить страшно. Страшновато даже выкупаться в живописном загородном озере, сильно смахивающем вблизи на отравленное химикалиями болото.
И тогда Паула бунтует. Ее бунтарство носит узкопрофессиональный и в то же время явно политически целенаправленный характер. «Где тебе понять, — говорит она [Феликсу], — что означает включить в фонды Маркса и Ленина вместо душеспасительного чтива, поместить на стенд новинок книги „сердитых“ писателей, превратить выдачу книг в скандал». Конечно же, подобный одинокий бунт обречен на неудачу. Что толку написать открытое письмо анониму и поместить его в газете, что толку впрямую спросить этого неизвестного, не хочет ли он и в самом деле возродить мрачные нацистские времена? Брошенную Паулой перчатку так никто и не поднимет. Заговор молчания куда более действенное средство. Да и зачем городским властям лишний шум, куда проще тихо сократить ассигнования на библиотеку, связав тем самым руки не в меру активной ее заведующей.
А это уже повод не только для новых раздумий, это повод для выводов. Вот почему, когда Паула решается бросить свою хорошо оплачиваемую работу, продать купленную «на всю жизнь» мебель и отправиться к Феликсу в его страну, решение ее воспринимается как подготовленное внутренне, как выстраданное и продуманное — и во время «утренних бесед» тоже. Паула не просто уезжает к ставшему ей необходимым человеку, отцу ее будущего ребенка, готовясь разделить с ним тяготы его жизни, полной лишений и борьбы она уезжает в новое свое бытие, к новой внутренней свободе и новой ответственности. Для Паулы это не бегство, не уход от вставших перед нею проблем. Скорее это их логическое, необходимое ей разрешение.
«Среди фальшивой жизни начать правильную, неподдельную. Жить со страстью, чтобы искренне, по-настоящему любить и по-настоящему же ненавидеть. А не только составить себе представление о любви и ненависти».
Превращение самой обыкновенной, заурядной женщины, от которой никто никогда не ожидал необычных поступков, в личность, в человека, способного по-своему и со всей ответственностью распорядиться собственной жизнью, собственной судьбой, — это становление женского характера, сильного, решительного и в то же время нежного и самоотверженного, и составляет главное очарование романа Ангелики Мехтель.
Писательница жесткого, резкого письма, всегда стремившаяся в книгах своих показывать жизнь как она есть, со всеми ее темными, отталкивающими сторонами, пусть даже при этом и приходилось порой грешить против хорошего вкуса, написала на этот раз книгу удивительно целомудренную, мягкую, в чем-то ироничную, но одновременно и глубоко лиричную — книгу о любви.
Так называемая «женская тема», к которой изначально тяготеет творчество Мехтель, стала в современной литературе одной из ключевых. Неприметно, исподволь, но уверенно начинает доминировать в книгах современных писателей и писательниц образ женщины самостоятельной, независимой, свободной в проявлениях собственного «я», пусть даже за свободу эту заплачено порою дорогой ценой. Талантливая фотожурналистка Элизабет Матрай (повесть австрийской писательницы Ингеборг Бахман «Три дороги к озеру»), добившаяся блистательного успеха в далеко не к каждому благосклонном мире прессы, и только начинающая свою самостоятельную жизнь героиня недавней книги Петера Хандке «Женщина-левша», а теперь вот скромная библиотекарша Паула, принимающая самое важное в своей жизни решение, — есть между всеми этими героинями, несмотря на разделяющие их пространственные и временные границы, нечто общее, делающее их близкими друг другу. «Сексуальная революция», явившаяся вполне закономерным продуктом общества отчуждения, громогласно продемонстрировала «свободу» в отношениях между двумя — свободу от ответственности, свободу от обычного человеческого участия, свободу от любви. И словно реакция на эту выхолощенную и отчужденную «свободу», тревожно размывающую наиболее сущностные человеческие отношения, все чаще появляются книги, где как бы заново совершается поворот в сторону целомудренных, неискаженных, подлинно человечных взаимоотношений. «Эмансипированные» героини Бахман, Хандке и Мехтель завоевывают и отстаивают свою независимость и свободу отнюдь не ради того, чтобы тут же урвать себе кусок от пирога сексуальной вседозволенности, растеряв свое «я» в разнообразных и ни к чему не обязывающих плотских утехах; для них независимость — это прежде всего свобода внутренних, подлинных женских проявлений, это высокая ответственность перед собой. Обладать такой свободой — это уже счастье, хотя и не такое, как счастье пожертвовать ею в нужный момент ради ценностей несоизмеримо более высоких: привязанности, преданности, подчинения, любви. Элизабет Матрай так и не суждено было изведать это, хотя именно к высокой и всепоглощающей любви она стремилась всю жизнь. С героиней Петера Хандке читатель прощался в тот момент, когда судьба ее только определялась и оставалось лишь гадать, как сложится она в дальнейшем. А вот Паула у Ангелики Мехтель находит в себе силы принять «свое решение», принять и бесстрашно осуществить его до конца. Хрупкая, неприметная Паула действительно имеет полное право сказать о себе: «Я давно уже не в коконе… Я теперь снаружи». И это само по себе — главное и важнейшее ее жизненное завоевание, свидетельство ее зрелости. И главная идея талантливо и ярко написанной книги.
Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе героини. Приехав в Мадрид, она не находит своего возлюбленного. Уклончиво сообщает кое-какие подробности о Феликсе его друг. Можно только догадываться, что это и в самом деле не «другая», что Феликс давно уже активно вовлечен в политическую борьбу и больше не располагает собой. Будущее Паулы неясно. И все же общий итог книги Мехтель — в отличие от предыдущих ее романов — светлый. Ее Паула сделала свой шаг в «другую половину мира», из одиночества — к людям, ей это удалось, и вместе со своей создательницей она вырвалась из кокона самопоглощенности, из духовной изоляции. А дальнейшие ее жизненные пути — это тема уже другого, будущего, еще не написанного романа.
Отрадно видеть, как от произведения к произведению возрастает художественное мастерство писательницы, зоркость ее социального видения. Если в первых книгах Мехтель полемическому задору и эпатажу порою приносились в жертву более существенные художественные характеристики, то в последнем романе чувствуется серьезная работа над словом, умение писать точно, легко, чуть иронично и не без известного стилистического (в этом контексте уместно было бы сказать — женского) изящества. Лаконизм и одновременно эмоциональность романа Мехтель делают его по-настоящему современным, а широкий общественный фон, на котором развертывается действие, ставит книгу в один ряд с наиболее социально значимыми западногерманскими романами. Хочется надеяться, что это первое знакомство с книгой западногерманской писательницы окажется для советского читателя радостным и интересным.
Н. Литвинец
Изображенные здесь события, быть может, протекали так, а быть может, совсем иначе.
Паула — это литературный персонаж.
Воссозданная в романе атмосфера городка Д.[1] опять-таки характерна лишь постольку-поскольку.
Эта книга не документальна и совершенно не имеет целью умалить достоинства города и его обитателей, городской библиотеки и ее заведующей.
Часть I. Зимняя встреча с Паулой
Первая утренняя беседа с Паулой
Я предложила Пауле самое удобное место. Сказала «садись» и налила себе кофе.
По утрам мне стоит большого труда провести четкую грань между днем и ночью. Для начала пусть она расскажет про Феликса. Так легче всего запустить машину. Взять да и подпалить домишко со всех четырех сторон.
Нет — Паула протягивает руку и берет из корзиночки ломтик хлеба, — нет, Феликс меня не бросил.
В моем представлении они — пальцы Паулы — более длинные, белые и холеные, чем мои.
Что же он тогда сделал?
Просто уехал к себе на родину, объясняет Паула.
Вернулся, поправляю я, на родину возвращаются.
Ну хорошо, если для тебя это так важно, пусть вернулся, соглашается Паула. Он тосковал и никак не мог привыкнуть к климату. Под конец я сама еле-еле его выносила.
Климат?
Вот ты, спрашивает Паула, ты можешь себе представить, что живешь с человеком, который круглые сутки готов рассуждать об «отечестве»?
Ясно: проблемы взаимопонимания.
Феликс говорил, что если мне претит мужское начало в слове «отечество», то я должна называть его «родной страной», «метрополией». А у метрополий бывают одни только колонии. Что, прикажете мне считать себя колонией?
Он понимал тебя?
Язык он знал превосходно. Но если посмотреть правде в глаза, то он вовсе и не покидал это свое отечество. В конце концов, приехал сюда как стипендиат и в любое время мог вернуться.
Он тебя раздражал.
Меня раздражало его отношение к собственной национальности — он принимал ее как должное, говорит Паула. А я вот принимаю только свой родной язык.
Может быть, вставляю я, мы не испытали пока тоски по стране, в которой родились, потому лишь, что ни разу всерьез с нею не разлучались?
Разве что выезжали куда-нибудь по неккермановским путевкам[2], говорит Паула.
Ни разу всерьез с нею не разлучались, повторяю я и мысленно вижу, как она пьет мой кофе и хвалит мой домашний джем. Вот у эмигрантов нет обратного билета. Слушай, а когда я говорю «эмигранты», ты кого себе представляешь — отцов или матерей?
Отцов.
Значит, все-таки мужское начало.
Само собой, говорит Паула, или ты почерпнула из наших учебников по истории другие сведения?
А как насчет родины?
Не могу вообразить, говорит Паула, чтоб меня тянуло на родину. А ты?
Как хочешь, а у меня на душе было бы неспокойно. Просто так взять и собрать чемоданы? Я бы, наверное, еще подумала, хотя нет-нет да и мелькает пугающая мысль, что, скорей всего, давно пора это сделать.
Она сможет жить где угодно, настаивает Паула. Я упрекаю ее: Хочешь, мол, увильнуть от размышлений, сбежать, смыться.
Ты облегчаешь себе жизнь, говорю я.
А ты? — опять спрашивает Паула.
Я?
Да, ты. Ты хоть раз задумывалась об этом серьезно?
Пора защищаться. И я защищаюсь — что-то признаю, с чем-то соглашаюсь. Но Пауле этого мало, она еще со мной не разделалась.
Ты играешь, объявляет она, на самом деле ты просто-напросто играешь понятиями, не делая никаких выводов.
1
Я уверена: не приди она к этому выводу, я бы не стала о ней писать. Уж от нее-то я ничего подобного не ожидала.
И как это она умудряется — раз, два — и нету: мосты сожжены, а мы еще только раздумываем, жечь их или не стоит.
Когда через десять лет после окончания школы она вдруг появилась передо мной в воскресный день на книжной ярмарке и спросила «помнишь?», я не вспомнила ничего.
Только позднее забрезжил смутный образ: длинные косы, предпоследняя парта у окна. В пятнадцать лет косы исчезли.
Отрезать косы — это символ. Да и не все ли равно? Нам же не дано отпустить себе бороду. Раз, два — и нету.
Срезанные волосы надо хранить в сухом проветриваемом месте. Можно сделать из них шиньон. У меня, например, была кукла с прической из бабушкиных волос.
Интересно, смогу я узнать ее на какой-нибудь из ежегодных классных фотографий или нет? Но к альбому я не прикасаюсь. Мы с нею не дружили.
Значит, только косы. Полной картины нет. Может, я вообще путаю ее с кем-то.
Во Франкфурте она, должно быть, инстинктивно почувствовала мою тревогу — еще бы, меня узнала совсем чужая с виду женщина! Потому и не стала навязывать мне свое общество. Только после ее отъезда пришло письмо. Будто она хотела оставить след.
С тех пор как она уехала, я потихоньку начинаю пересматривать свои представления о ней; сперва-то я думала, что все просто, нашла ей как будто бы подходящее место среди одноклассниц и успокоилась: отнесла ее к тем, кто приспособился, по доброй воле обкорнал свою индивидуальность, — такие люди принимают все, вперед не лезут, на групповых снимках их не найдешь, они согласны затеряться навсегда.
На вечерах встречи их никто не узнаёт.
Жизнь ее текла, наверное, совсем не так, как думала я. Она заморочила мне голову. Я называю ее Паулой, мне слишком мало известно, чтобы описать ее жизнь, потому я и выдумываю, ищу, домысливаю. Домысливаю внутренний мир Паулы. Возможно, этот мир был совершенно иным. Я придаю ему сходство с моим собственным.
Ну кто мог подумать, что Паула поведет себя обычно?
Как это Паула смеет собрать чемоданы, в то время как мои еще лежат на шкафу? Ведь косы она отрезала, когда остальные давным-давно с этим покончили. И в классе с нею никто особенно не считался.
В ее письме масса недомолвок. Намеки библиотекарши, у которой были неприятности из-за кое-каких книг — с трудом сумела оправдаться. О Феликсе почти ни слова, хотя одно время они жили вместе. Этот человек мне совершенно не знаком.
Ничего бунтарского в Пауле никогда не было.
Можно ли предположить, что общение с Феликсом сделало выпускницу монастырской школы, дипломированного библиотекаря тем, кого, недолго думая, провозглашают бунтарем? Кому теперь придет в голову употреблять такое слово?
Утром, за завтраком, я вскрыла ножом ее письмо, и первые строки еще вполне соответствовали моим представлениям о Пауле.
Маршрут определен, писала она, еду поездом. В письмо была вложена карта европейских дорог, путь обозначен зеленым фломастером. Любовь Паулы к порядку ничуть не противоречит образу, который сложился в моем воображении.
Киль — Мюнхен или Мюнхен — Мадрид. Я прямо воочию увидела, как она провела пальцем по карте: сначала по обычной географической, а затем по карте дорог. Для Паулы Европа поделена, разграничена, нанесена на карту. И ни единого белого пятнышка на карте нет. Никаких приключений. Каждый населенный пункт на своем месте — существует. Упорядоченная земля.
Мне кажется, Паула уже не раз наводила в Европе порядок. Словно картограф, раскладывала по местам страны, провинции, регионы. Аграрные и промышленные зоны, хранилища ядовитых веществ и атомные электростанции.
Любой маршрут можно разметить, выделить туристские тропы и скоростные магистрали дороги для пешеходов, велосипедистов, автомобилистов. Мотели, заправочные станции, пограничные пункты, вокзалы, увеселительные парки, пригородные зоны отдыха, памятники старины, живописные ландшафты, аэропорты и автостоянки — там все указано. Люди пересекают границы. Идет пограничный контроль, проверяются полицейские списки. Транспорт общественный и индивидуальный.
В учебниках географии Европа простирается до Урала. Где же он, этот Урал?
Паула никогда не отрицала, что любит порядок. Атомные электростанции, склады промежуточных материалов и отходов на карте не помечены. Эти объекты показывают только по телевизору.
Уникальные проекты — на стадии планирования, строительства, эксплуатации, временно приостановленные, — остовы зданий ценою в миллиард, смертельная опасность которых неизменно ставится под сомнение.
Европа — мультимиллионерам. А что Пауле?
Красоты природы.
По воскресеньям на велосипед — и к болоту.
А потом, значит, она собрала чемоданы. Письмо утром принесла курьерша — слишком тяжелое и поэтому доплатное.
Я представила себе Паулу: вот она, позавтракав, встала из-за стола, прошла в спальню, сняла со шкафа чемодан; я услышала щелчок замка и увидела, как ее пальцы оставили след на пыльной крышке. Постель еще теплая от сна. Интересно, сколько у нее комнат?
Две или три, а вдобавок кухня и ванная. Жалованье вряд ли большое. Может, ей еще разрешили пользоваться садом.
Из библиотеки она ушла чин чином, скрупулезно высчитала, когда истекает срок расторжения договора, и вычла неиспользованный отпуск; свой стол освободила в самый последний день — ни раньше, ни позже, — на прощанье даже собственноручно подклеила корешок Фонтане, хотя это вовсе не входило в ее обязанности. Вместо Паулы они наверняка наймут покладистого мужчину лет сорока пяти, который не будет устраивать неприятностей.
Перед отходом поезда она зашла в привокзальное почтовое отделение и опустила письмо. Почтальонша со срочной депешей позвонила у моей двери, а Паула тем временем уже оставила позади Францию, направляясь к своей цели — Мадриду. Там она думает встретиться с Феликсом.
Я встала из-за стола, открыла дверь, взяла письмо, отдала почтальонше доплату.
Как это Паула смеет неправильно оплачивать письма?
По утрам мне стоит большого труда провести четкую грань между днем и ночью. Нож медленно разрезает бумагу.
Обмеренное, взвешенное, слишком тяжелое — я читала письмо Паулы, а ее самое не понимала.
2
Вполне возможно, истинный виновник ее поступков — мужчина.
Отрезанные косы хранятся не у нее, она отдала их матери.
Каждое утро она ехала автобусом через деревни — в школу, в город; окончив школу, регулярно ездила домой на рождество. Кроме одного раза: она целых два года работала тогда в Нью-Йорке, в немецкой библиотеке тамошнего филиала Института Гёте[3]. Очень уж далеко от дома, из Киля до Франконии куда ближе.
Мужчина рядом с Паулой — это вообще невозможно…
Она всегда отличалась непритязательностью. Кто был ее партнером в танцклассе?
Учитель танцев ростом был ниже своей жены, подвижный такой; а на заключительном бале все девочки красовались в тюлевых платьях.
Во время полонеза среди других была, кажется, и Паула — рука об руку с парнем, который изучал греческий и латынь, мазал прыщи специальной мазью и норовил украдкой вытереть потные ладони о штаны. Мать Паулы нарядилась в узкое парчовое платье.
Когда Паула подала заявление насчет работы в Д., все документы у нее были в полном порядке. Городу требовался молодой квалифицированный специалист.
О Феликсе пока речи не было. Для Паулы он оставался памятью об отдыхе, однако в ходе долгой переписки о чувственном, о смерти, о свободе и терпимости все это приняло совершенно неожиданный оборот.
Феликс писал о взаимоотношениях полов, рассуждал о своем преклонении перед немецкими писателями, которое Паула не так уж и разделяла.
Твой язык, писал он, я люблю как свой родной; вы — народ педантичный, по-моему, даже мысли у вас разложены по полочкам, раз и навсегда.
Смелость бунтовать он называл смелостью жить.
И просил: напиши мне о своем отечестве. На это Паула не ответила.
Ночи у вас наверняка светлые. А вот у него дома ночи темные, сверканье дня их выжигает. Южане, писал он, тесно связывают свою жизнь с семьей. Мелкая провинность не забывается целыми поколениями. Летом мы вообще не открываем ставен, из-за жары. Во внутреннем дворике — ящики с цветами и фонтан. В горных селениях одетые в черное женщины сидят у приотворенных дверей. Люди строят резервуары для воды, чтобы выжить.
Как ты смотришь на терпимость к жестокости и насилию?
Паула вовсе не собиралась давать ему место в своей будничной жизни.
Встретив его на вокзале, она почувствовала, что он очень рад. А на работе упомянула о Феликсе, только когда фройляйн Фельсман первая высказалась о нем.
Южанин, сказала фройляйн Фельсман (в свои шестьдесят лет она была в подчинении у Паулы), итальянец, испанец или что-то в этом роде. Помоложе Паулы. Так она сказала девушке, которую Паула летом взяла на работу.
Испанец, попыталась уточнить Паула. Они как раз вешали плащи в гардеробе, фройляйн Фельсман кивнула и одернула задравшийся джемпер.
Пауле нелегко было добиться понимания. Но возможно, отношения с Феликсом склоняли ее к бунтарству. Она столкнулась с человеком совершенно иного склада.
Про испанцев говорят, что они презирают смерть и помешаны на мужской гордости. Твердят, мол, viva la muerte[4], что уже само по себе абсурдно. А библиотекарши славятся любовью к порядку и дотошностью.
Паула не отрицает, что первые годы регулярно видела во сне каталожные ящички и с мужчинами тоже встречалась, впрочем, она никому не навязывалась.
Факт остается фактом: прежде чем попасть в Д., Паула целый год работала в Киле под началом мужчины-заведующего. Там она впервые в жизни увидела подводные лодки, которые оказались куда меньше размером, чем она думала.
Лодки она заметила случайно, когда была без очков и вода на миг изменила цвет.
Разрешено ли подводным лодкам заходить в гавани, нет ли, Паула не знает. Людей на палубе она не видела.
Феликс, который воображал, будто разбирается и в этом, по недоразумению решил, что Паулу можно чему-то научить.
Он старался быть нежным и ласковым, а она даже не удивлялась, что и вдали от Киля, стоит лишь прикрыть глаза, ей видится подводная лодка; она позволила лодке исчезнуть, только когда Феликс нашел к ней правильный подход.
Она вежливо слушала, как Феликс перечисляет смертоносные орудия, способные убивать людей под водою, а после сказала ему, что самый любимый ее автор — Габриэль Гарсиа Маркес и что она заказала его книги для библиотеки в Д. Феликс упорно твердил, что рыжевато-русые волосы достались ему в наследство от готских предков.
Разговорами меня не застращаешь, говорила Паула. А ему бы ничего не стоило задушить ее в своих объятиях.
Засыпая с ним рядом, Паула порой сворачивалась клубочком и прижималась к его груди — такая маленькая, что он волей-неволей откидывал край одеяла — не дай бог, задохнется.
В воду для купанья она добавляла растительное масло, решив, что с годами бедра становятся дряблыми.
Будь Феликс постарше, вполне возможно, Паула меньше пеклась бы о своей фигуре. Зато невозможно, чтобы она сказала: «Он или вообще никто»— и уперлась на этом. Она всегда Держала других на расстоянии. Выходные, отпуск — но не больше. Она вовсе не горела желанием заниматься стиркой и мытьем посуды.
Или все-таки? Феликс безропотно взял на себя ту часть домашних хлопот, которую она спихнула на него в первый же день. Быть может, сама того не сознавая. Просто из безотчетного стремления отдать одну половину дел, которая так под стать другой. Ей нравилось, что он рослый и крупный, только временами казалось, будто она, Паула, никуда не годная пигалица. Вечером, отрывая ее от книги, он первым делом снимал с нее очки. По обличью фройляйн Фельсман никогда бы не признала в нем испанца.
Усики, за которыми Феликс тщательно ухаживал, цветом напоминали морковь. Он успешно боролся с этим недостатком, слегка их подкрашивая. К своему телу он относился как к фактической форме существования, хотя само по себе существование оценивал, скорее, отрицательно и еще не вышел из того возраста, когда задаются вопросом о смысле жизни.
Смотри будь осторожна, говорила Пауле сестра, не то он тебя мигом ребеночком наградит. Ну что бы ему поискать девушку себе под стать!
Значит, не по обличью, а скорее по акценту. Может, что-то в его манерах побудило фройляйн Фельсман к неодобрительному отзыву, ведь она принципиально сопротивляется инстинктам пола и уже не способна жить без слабительного.
Когда он появился между стеллажами и спросил о Пауле, Фельсманша тотчас смекнула, что он нездешний и моложе Паулы. С некоторых пор Феликс и Паула жили вместе, и он не видел ничего предосудительного в том, чтобы зайти за нею.
Паула сидела у себя в кабинетике, дверь была открыта, и Феликс с независимым видом направился туда. Она увидела его. Сперва ноги.
И подумала: не обольщайся, ты бы никогда не сумела так уверенно зайти в кабинет к мужчине. В тот вечер она собиралась еще внести в каталог новые поступления.
Слишком много Бёлля и Вальрафа, сказал коротышка советник по культуре, кто станет это читать? На будущее постарайтесь запомнить: мы — город среднего сословия…
Вечером положено кончать работу. Но Феликс воспринял это слишком уж буквально. Паула сердито сгребла в кучу свои бумаги. Он по-прежнему улыбался.
Пойдем? — спросил он.
Когда ты получаешь в прачечной рубашки, спросила она, тебе не приходит в голову, что их вдруг возьмут и не выдадут?
С материнской стороны Феликс, по его словам, вел родословную от готов, а с отцовской — от ближних дворян католических королей[5]. Он утверждал, что отец его по сей день готов защищать инквизицию.
Сама же Паула могла сослаться всего-навсего на франконских предков. Справку об арийском происхождении ее мать спалила в день капитуляции. А кроме того, говорила Паула, ей противны люди, которые кичатся своей родословной, будто это их личная заслуга.
Возможно ли, что белокурый испанец, отдающий крахмалить и утюжить свои рубашки, внушал Пауле бунтарские мысли?
Зимой Феликс уехал. На рождество Паула побывала дома; извещение об увольнении уже лежало у нее в чемодане.
Почтальонша, вручившая ей письмо от Феликса, была в меховых полусапожках с разводами от воды и в черных чулках.
Вторая утренняя беседа с Паулой
Я не приглашала ее к завтраку. Она сама явилась.
Сегодня дождливо. Проснулась я с головной болью. Не вставать, ничего не начинать, не варить кофе, не планировать день, не писать ни строчки, не готовить еду, никогда больше не включать посудомойку. На что мне люди? Ни писем больше, ни телефонных звонков. Все. Конец. Два дня в машинке торчит одна страница — и ни слова.
Ты неважно выглядишь, говорит Паула. Она неожиданно возникает на пороге кухни, входит, переступает через скомканные газетные листы, которые я бросила на пол возле стула. Что случилось?
Можно бы, конечно, ее выпроводить: сослаться на дождь или на то, что надо помыть окна — мухи засидели.
Но я человек вежливый, вот и говорю, что ждала ее.
Паула улыбается. Это даже не улыбка, а только намек на улыбку, от нее чуть-чуть приподнимаются уголки губ и приоткрывается рот, — будто вовсе и не хочется улыбаться.
Сложности в личной жизни? — любопытствует она.
Да уж не без этого, думаю я.
Нет, отвечаю, но, прежде чем писать о тебе, я должна знать, что тобою движет. Мне нужны простые, ясные и понятные причины. Четкие объяснения. Пока я не вижу четких объяснений твоим поступкам.
Паула села на свое прежнее место. В таком случае уточняй, выявляй, вычленяй отдельные поступки.
Я зажимаю уши. Паула грохочет в моей утренней голове.
Ее здравомыслие действует мне на нервы. Точь-в-точь такими, по-моему, и бывают библиотекарши. Я этого не вынесу.
Со скальпелем, вызывающе говорю я, похоже, за тебя надо приниматься со скальпелем. Вот и отлично. Начнем с конца. Ты, значит, ушла с работы, собрала чемоданы, сдалась — прощай, карьера, всему конец. Я спрашиваю себя, как ты вообще допустила до этого. Ведь такой конец можно было предвидеть. Я видела, что за город этот твой Д.: провинция, косная, узколобая провинция. Неминуемо надо приспосабливаться. Разве ты этого не понимала? Или понимала и сознательно ринулась навстречу катастрофе?
Катастрофе? — переспрашивает Паула.
Ведь у разбитого корыта осталась.
Нет, отвечает она, ничего подобного.
Тогда почему ты уехала? — допытываюсь я, и тут меня осеняет: бегство! Конечно же, она просто сбежала! А что за этим кроется? Банальная любовная история — ты это хочешь мне внушить?
Ну вот, снова здорово, терпеливо говорит она, опять ты играешь понятиями, шаблонами, готовыми схемами.
Банальную любовную историю я беру назад.
А без нее не обойтись, говорит Паула.
Я могу по крайней мере утверждать, что все началось в Д.?
Или еще раньше, отвечает Паула, с Феликсом я познакомилась раньше.
Пожалуй, лучше принять сразу две таблетки аспирина, оглушить себя химией, пока я не стала совсем задиристой.
Нервничаешь, замечает Паула. Пожалуйста, если тебе так хочется, пусть все началось в Д., с переговоров о зачислении на работу.
Ее взгляд падает на кухонное окно, на мушиные следы.
Отчего ты не поставишь стол к окну? Тогда за завтраком можно будет смотреть на улицу.
Часть II. Весна
1
Когда-то она видела в хронике Геббельса…
Чем раньше вы начнете, тем лучше, сказал советник по культуре.
Паула сидит напротив него. Когда она вошла, он только привстал, протянул ей через стол руку и предложил стул.
Садитесь, пожалуйста. Думаю, вы именно та, кого мы ищем.
В районный центр Паула приехала на машине, мимо бумажной фабрики поднялась вверх по холму в старый город. Дождь, шины скользят по брусчатке, белый указатель приглашает туристов в замок.
Мы — город среднего сословия, говорит он. Да вы и сами знаете, что это такое.
Киль немного покрупнее, вставляет Паула.
В кабинете жарко. Стены увешаны видами окрестностей Д. в простеньких паспарту. Окно закрыто, с улицы слышно, как шлепают по слякоти колеса автомобилей.
За основу возьмете фонды приходских библиотек, говорит он.
Жарко тут у вас, замечает Паула. Надо бы подрегулировать отопление. Она встает, снимает вязаную кофту, расстегивает верхнюю пуговицу на блузке, проветривает шею. Или, может, окно открыть?
Советник по культуре вылезает из-за стола. Он маленького роста. Меньше ее.
Когда она шла по линолеуму к столу, ей уже бросилось в глаза некоторое сходство. Фрагменты старой кинохроники. А теперь он идет к окну, и Паула радуется: хорошо хоть, не хромает.
Мы кое-что делаем ради престижа. Он поворачивает оконную раму. Пусть в конце концов люди смогут вновь выезжать за границу с нашим номерным знаком, не привлекая к себе ничьего внимания… Так лучше?
И тот, из Киля, выглядел похоже. В таких количествах реальность просто нереальна. Шея Паулы в вырезе блузки смуглая, загорелая.
Она всегда была смуглая, даже зимой. Я вновь в состоянии мысленно увидеть кожу Паулы.
Девичьи фигурки, девичьи тела в раздевалке гимнастического зала.
У вас отдохнувший вид, говорит он, однако Паула даже не думает застегивать пуговицу. В отпуске были?
Up up and away[6]. Сверху все кажется таким чистеньким. Против вращения Земли. Сесть в самолет, подняться в небо, улететь. Острова в иллюминаторе.
Внизу ждут автобусы. В здании аэропорта неккермановские и прочие гиды, с папками под мышкой и самодельными табличками в руках.
Документы предъявлены, люди пересчитаны и разбиты на группы.
Сесть в чужой автобус немыслимо. Где-то здесь и Паула. До самой гостиницы все идет как по маслу.
Иногда, сказала Паула соседу в самолете, достаточно одного-единственного незакрепленного болта или крохотной трещины, чтобы двигатель развалился.
Сосед вежливо засмеялся и как бы невзначай накрыл ладонью руку своей спутницы. За отдельный номер надо доплачивать.
Потом на пляже она долго следит за немецкой овчаркой, которая без устали роет ямы в песке. Испанцы тоже с собаками, собаки бросаются в воду и плывут вдогонку за хозяевами.
Лансароте, пишет «Мериан»[7],— самый своеобразный из Канарских островов.
Я здесь! — кричит Паула, когда в автобусе руководитель отмечает прибывших в списке.
Посмотрите направо, слышится голос гида, и вы увидите типичное для острова средство передвижения — осла. Обратите внимание: мужчина едет верхом, а женщина шагает следом. Гид издает горлом смешок; шея у него тщательно выбрита.
В автобусе Паула устроилась на заднем сиденье, впереди — затылок «веселого крестьянина», которого она приметила еще в самолете. В первом отеле всех бесплатно угощают вином — с приездом! — и заверяют, что все будет в полном порядке.
На Лансароте самолеты садятся вечером, когда солнце еще палит вовсю и ветер отдыхает.
Сумерки здесь недолги, а в глубине острова спрятан лунный пейзаж.
Паула заказывала два билета, но полетела одна.
С кем ты едешь? — спросила сестра, оставшаяся во Франконии.
Ни с кем, ответила Паула, не рассчитывая на сочувствие.
Заказывая билеты, она придумала себе мифического спутника, а потом сослалась на то, что он якобы внезапно захворал.
Нет, добавила она, перебронировать не надо. Я уплачу за двухместный номер, а билет вы наверняка успеете продать.
Быть может, как раз сейчас краснолицего голштинца определили в отдельный номер, глядящий окнами в световую шахту и полный запахов кухни, да еще содрали с него наценку. В своей двухместной спальне Паула занимает кровать у окна.
Потом выходит в гостиную, самостоятельно, без мужской помощи включает газовую горелку; из балконного окна виден кусочек пляжа и море. У берега, рассказывал гид, вы увидите резвящихся дельфинов.
Паула насчет дельфинов не поверила.
С Феликсом она познакомилась позже.
Здравствуйте, храни вас бог! — сказал советник по культуре, когда Паула вошла в кабинет. Он встал, протянул Пауле через стол руку и предложил стул. Обер-бургомистр, к сожалению, занят.
Храни вас бог, машинально ответила Паула.
В четырнадцать лет мы еще подумывали о монастырской жизни.
Паула в крылатом чепце. Птичьи чучела не летают, стеклянные глаза слишком тяжелы.
Паула внимательно посмотрела на него.
Рад вас видеть, сказал он.
В кабинете жарко. Свои документы Паула прислала еще раньше, почтой. Фото, автобиографию, нотариально заверенные копии свидетельств и удостоверение о квалификации.
Вы знаете наш город? — спросил он.
Весь путь из Киля в Д. Паула проделала на машине. Маршрут она наметила заблаговременно. Д. уютнее Киля.
В таком случае, продолжал он, познакомьтесь с Д. теперь же. Все зависит от первого впечатления.
Вам известно, что Шпицвег[8] писал своего «Книжного червя» в нашем замке? Мы кое-что делаем ради престижа. И он сообщил Пауле, что наблюдает не только за созданием городской библиотеки, но и за реконструкцией спортзала и стадиона для конькобежного спорта.
Вид у вас отдохнувший, заметил он, а потом добавил, что муниципалитет и районный совет придерживаются единого мнения: комплектование библиотеки следует доверить молодому квалифицированному специалисту. Фройляйн Фельсман вам поможет. Много лет, с самого окончания войны, она руководила приходскими библиотеками и знает своих читателей.
Наконец разговор окончен. Паула застегивает ворот, и советник помогает ей надеть кофту и пальто.
Он провожает ее до двери.
В феврале Паула пытается назвать Фельсманшу не «фройляйн», а «фрау». Но та неколебимо убеждена, что «фройляйн» подходит ей больше. Здание, о котором шла речь в объявлении о найме, уже достроено.
Город Д. приглашает хороших архитекторов. Библиотека разместится в первом этаже новой ратуши. Тот же архитектор строил и гимназию.
Замыслы у него один другого смелее.
Просто диву даешься, как великолепно вписалась его ратуша в ансамбль старого города.
Паула без труда решилась переехать из Киля в Д.
Зарабатывать ты будешь, конечно, побольше — вот что она слышит на рождество от матери. И потом, близко, сможешь приезжать к нам на выходные.
Паула молча кивнула, глядя, как мать отламывает половинку коричной звездочки. Ответила за нее сестра.
Думаю, заработок для Паулы не так уж и важен. Какая разница — сотней больше, сотней меньше. Положение здесь лучше, солиднее — вот в чем дело.
Мать отправляет половинку звездочки в рот. Паула смотрит на нее и говорит: Самое лучшее на рождество — это твое печенье.
Под елкой дочка сестры раздевает куклу. Брат вырваться домой не сумел: ситуация у них там, на строительстве атомной электростанции у Персидского залива, складывается неудачно.
Кильские коллеги смотрели на Паулу с завистью.
Ведь это же белое пятно, сказал шеф. Об этом всякий мечтает! Ничейная земля в библиотечном деле. Новехонькие стеллажи, и вообще — с первых шагов все своими руками.
В послужном списке он подписью заверяет, что Паула специалист серьезный и квалифицированный.
Зятю Паула привезла в подарок книгу, хотя прекрасно знает: в его семье это не оценят. Одно рождество у них как две капли воды походе на другое… Нет, правда, слыханное ли дело: большой районный город — и без библиотеки!
Внешняя серьезность и респектабельность послужили для Паулы отличной рекомендацией, ее кандидатуру одобрили. Библиотекарям не обязательно отчитываться в своей работе. Отчитываться необходимо лишь в использовании бюджетного фонда.
Там нет знающих людей, сказал ее начальник, вы сделаете глупость, если откажетесь.
Попади он в дорожную аварию, Паула сумела бы опознать его по родимому пятну.
К матери у нее двойственное отношение… На красной картонной тарелочке миндальные пирожные; она их не любит и все-таки берет одно.
В выходной, говорит мать, сядешь в машину и через два часа будешь у нас.
Нет другого места, где ей было бы лучше, чем здесь. «Нет места. Нигде»[9]— эту книгу она привезла в подарок зятю. А сестра вот считает, что она одна видит Паулу насквозь: зловредной была, зловредной осталась. Она-то и объясняет матери, что значит «более солидное положение».
Я люблю Кристу Вольф, оправдывается Паула.
Как же так? — растерянно вопрошала мать, когда Паула собралась в Мюнхен в библиотечное училище. Неужто дочь решила стать библиотекарем, а не учительницей?
Возможно, она бы сумела стать и директором школы, говорит сестра. Зато теперь у нее в подчинении целая библиотека.
Это уже кое-что, вставляет зять; по профессии он каменотес, а заодно торгует надгробными памятниками.
Паула смотрит, как он вновь аккуратно заворачивает книгу в подарочную бумагу. Старшая сестра всегда за ней следила. Едва выучившись читать, Паула увлеченно и без разбору принялась глотать книги и каждый раз будто сама участвовала в описанных там событиях.
Когда умер Виннету[10], девочка в слезах бросилась на кровать, хотя стояла зима и в спальне не топили. Уроки Паула делала на кухне.
И до сих пор, когда умирает Криста Т.[11], у нее тоже всякий раз перехватывает горло. Объективную оценку книг, которые она предлагает купить для библиотеки, по ее словам, можно заимствовать из «Франкфуртер альгемайне».
Ей придется растолковать коротышке советнику, что значит объединить несколько приходских библиотек в одну городскую.
Кукла такая нарядная. Зачем ты ее раздеваешь? — слышит она голос зятя.
Мать на кухне выпотрошила и зажарила рождественского гуся.
Когда Паула перебирается в Д., новое здание уже готово.
Фройляйн Фельсман выписывала католическую газету и хорошо знала о существовании Михаэльсбунда[12]. Намерения у Паулы с самого начала были наилучшие.
Встречают ее с полным пониманием, приглашают познакомиться с отцами города. На сей раз и обер-бургомистр не увиливает. Его секретарша заказывает столик, и Паула угощается жарким по-цыгански, которое ей усиленно рекомендует приходский священник.
Наши фонды, говорит он, составляют ныне около шести тысяч томов, включая книги, хранимые в ящиках.
Третья утренняя беседа с Паулой
Начинается день: переставляю стол к окну, пододвигаю туда же два стула; я уговорила себя встать, одеться, сварить кофе. Фильтр прохудился. А потом вдруг рядом оказывается Паула, выкуривает мою первую сигарету, ведет себя как дома.
Мне ничего не остается, кроме как достать из посудомойки еще один прибор.
Ты всегда была склонна к покорности? — спрашивает Паула, подставляя свою чашку.
С чего бы это мне быть покорной?
Наливаю кофе.
Гуща в конце концов достанется мне, Паула ее не выносит.
Мы ведь не неуязвимы, говорю я.
Ну разве что если вовремя смоемся, говорит Паула.
И нигде не иметь корней?
Пустить корни, объясняет Паула, значило бы стать на якорь, осесть.
У дерева есть корни. Как же дерево убежит?
Мне по душе образ дерева. За него можно ухватиться.
Съежиться, пригнуться, спрятаться, не подчиниться, говорю я, а в голове мелькает: без страха и упрека.
Нет, сняться с места, упрямо возражает Паула.
Лучше бы мне сегодня спокойно позавтракать одной.
По милости Паулы я становлюсь колючей, задиристой.
Куда? — спрашиваю. Может, в Д.? Смех по утрам так утомителен.
А почему я должна была бояться Д.? — удивляется Паула.
Да и в Киле тоже нечего было бояться. Может, разве только в Нью-Йорке.
Д. был тебе знаком?
Провинциальная тишь да гладь. В Д. не затеряешься.
Еще буквально на днях я была уверена, что ты давным-давно затерялась. Когда ты начала подумывать о Д.?
Позже.
Стало быть, Д. привлекал тебя с чисто профессиональной точки зрения? За двадцать лет твой стиль поведения ни капли не изменился. Ты всегда знала, чего хочешь?
Только не неудачи, безмятежно отвечает Паула.
Удивляюсь людям, которые всегда знают, чего хотят. Они для меня загадка.
Раз тебе так угодно, замечает Паула, считай, что мысль поселиться в Д. была изначально окрашена некоторой сентиментальностью. Д. был мне ближе, чем Киль. Вот я и постаралась не упустить случая.
И ни малейшего опьянения служебным успехом?
Пожалуй, было и это.
Право руководить городской библиотекой. Что хочу, то и делаю. Женщина на руководящем посту.
Или лошадь, на которую сделана ставка, невозмутимо произносит Паула. Все зависит от первого впечатления.
Выходит, начало было иным?
Возможно, говорит Паула, тогда я лишь отметила, что в кабинете жарища, и молча обливалась потом.
Мне необходимо знать, настаиваю я, вправду ли ты полностью отказалась от мысли произвести нужное впечатление — ведь тебе же хотелось выглядеть серьезным специалистом. Много ли было в тебе самоуверенности?
В городских библиотеках тоже предпочитают нанимать мужчин.
Вот я и добралась до кофейной гущи.
Знала ведь, что Паула от нее откажется. И все равно сержусь.
Сломать, говорю я, перевернуть, раскопать, подновить, перестроить, расширить, разровнять и преодолеть!
Насилие, коротко бросает Паула и просит сварить еще кофе.
По-настоящему мы никогда силу не применяли, говорю я.
Паула меняет тему.
Ты знаешь, до французской колонизации население Алжира умело читать, писать и считать, рассказывает она.
У них это называется «усмирить»: безграмотность принесла в страну спокойствие.
Наливаю ей свежего кофе. К завтраку никто ее не звал.
Почему, напрямик спрашиваю я, нас не предупреждают, что библиотекари — народ опасный?
Опасный? — переспрашивает Паула. Нашего брата водят на длинной сворке.
Ты и раньше это знала?
Просто не думала об этом.
Тогда перемены в тебе начались в Д.
Какие перемены?
Городов наподобие Д. пруд пруди, замечает она, значит, по твоей мысли, таких историй должно быть много. Если б вправду так было и люди, вот как я, в растерянности бежали из этих городов, то в конце концов весь наш порядок пришел бы в расстройство — сперва бы началась неразбериха с уровнем квартирной платы, из-за вдруг опустевших квартир, а там и вся экономика пошла бы к черту.
Я представляю себе обезлюдевший город вроде Д.
Можно было бы объявить его музеем. Интересно, кто поедет туда на экскурсию?
Смотри на вещи трезвее, говорит Паула. В городской библиотеке и следа нет того бунтарского духа, каким были проникнуты читальни прошлого века. Списки приобретаемых книг теперь не надо утверждать у начальника полиции. Нынче у нас действует принцип свободы выбора. Книги без опаски выдаются всем и каждому. Точнее, мы больше не держим их под спудом, не подбираем литературу специально — скажем, для посыльных, для подмастерьев и для солдат.
А есть ли у нас право на такую свободу выбора?
Это нам гарантируют.
Что, право?
Свободу выбора, говорит Паула.
2
Итак, прямиком в Д. Отказаться от кильской квартиры и переехать в Д.
Багажа немного: на севере она снимала меблированную комнату, а в глубине души постоянно жила мысль о том, чтобы не устраиваться как следует.
Может, и в Д. для начала снять комнату. Работа с первых же дней заладилась. Идет подготовка к официальному открытию. Фройляйн Фельсман рядом, помогает. Все еще впереди; желать чего-то большего — в ту пору у Паулы такого даже в мыслях не было.
Поэтому необходимо обзавестись настоящим жильем. Не в самом Д. За городом. Утром — на машине через деревни. Мимо двух бензоколонок на городской окраине — в центр. Брусчатка на холме. Белый указатель отсылает туристов направо.
На улице дождь. Фройляйн Фельсман ждет. Для Паулы забронировано место на автостоянке.
Без зонта она идет под дождем к Фельсманше. Если б не тонкая сетка морщин, той никто бы не дал шестидесяти.
Паула отпирает стеклянную дверь. Фельсман-ша тем временем стоит сзади, держит над ней зонт.
Паула толкает дверь, фройляйн Фельсман несколько раз складывает и раскрывает зонтик — капли летят во все стороны. Звук такой, будто птица хлопает крыльями.
У нас в классе на шкафу стояло чучело птицы. Паула придерживает Фельсманше дверь, глядя, как та напоследок резко встряхивает зонтик и скрывается вместе с ним в вестибюле.
Плащи они вешают в гардеробе. Библиотека еще пахнет свежей краской и синтетическими коврами.
Вы уж простите, говорит Паула, что я заставила вас мокнуть под дождем.
Фельсманша аккуратно сует мокрый зонтик в подставку, острием вниз в круглое отверстие. Потом кивает и снова одергивает задравшийся джемпер.
Если не возражаете, я опять займусь инвентаризацией. С этими словами она проходит мимо Паулы и исчезает среди пустых стеллажей. Упреки остались невысказанными, но как бы витают в воздухе, Паула живо чувствует их присутствие, только не знает, чем Фельсманша этого добивается — взглядом или всей своей повадкой.
Лунный пейзаж спрятан в глубине острова. Самолет садится под вечер.
Лишь забор из проволочной сетки отделяет аэропорт от моря. Прямо с самолета можно пойти купаться.
Волны не выше, чем на Средиземном море. Легкий прибой — в самый раз для туристов.
А по ту сторону острова — Атлантика. Лавовый поток рухнул в море, да так и застыл.
По утрам, если удается встать с рассветом, Паула видит рыбачьи суденышки на яркой открытке балконного окна.
К пляжу надо спускаться по осыпи. Банки из-под кока-колы в каменных кавернах. В гавани Пуэрто-дель-Кармен вечером все по-другому. Двое мужчин выносят из лодки на берег черепаху.
Когда случается заплыть слишком далеко, Паула вспоминает об акулах.
Говорят, море между островами очень глубокое. А на суше чуть ли не десятиметровый слой вулканической породы завалил плодородную почву.
Крестьяне бог весть откуда привозят землю, выращивают на крохотных участках лук, помидоры, виноград.
Птиц очень мало.
Деревьев тоже. Лишь специально высаженные в парках для туристов. На стенах домов в Арресифе Феликс показывает ей лозунги компартии. Неподалеку от аэропорта находится кладбище.
Рассказывают, что иной раз из-за моря сюда добираются песчаные бури Сахары. Феликс прилетел из Лас-Пальмаса. В ту первую встречу он был не один, а с каким-то парнем.
По желанию Паулы мебель доставляют прямо в деревню.
Против дома — церковь с византийским куполом. Если поглубже утопить голову в подушку и взглянуть наискось вверх, то можно увидеть высоко на карнизе голубей. Поодиночке они не летают.
Справа и слева сохранились большие крестьянские дворы. Пауле так и кажется, будто она дома.
Значит, опять в родном краю. Все по-старому. Только дети выросли. Вечерами возле телефонной будки собираются четырнадцатилетние подростки. По воскресеньям они ходят в церковь. И тогда девочки вместо джинсов надевают юбки, а мальчики-служки облачаются в кружевные стихари; когда в деревне бывают похороны, они идут по улице во главе траурной процессии и несут распятие.
На окраине — несколько коттеджей, есть в них и комнаты для детей, только вот ребятишки рождаются редко. Дом священника недавно заново покрасили, водосточный желоб блестит медью, на окнах — кованые решетки. В дверь этого дома надо звонить, все прочие день-деньской открыты. Свадьбы здесь обычно играют в начале лета; покойников провожают колокольным звоном; у свадебного распорядителя хлопот поубавилось, но говорит он все, что положено.
Когда Паула впервые приехала сюда после работы смотреть квартиру, деревня еще утопала в подтаявшем снегу. Она миновала автобусную остановку, почту, сберегательную кассу и освещенную витрину единственного магазина, поставила машину на стоянку возле трактира, недалеко от почты. Кто здесь родился, тому здесь самое место. Комнаты смотрят на улицу. А еще можно из окна полюбоваться кладбищем.
Северная сторона, без балкона, разрешено пользоваться садом. Только кухня и ванная выходят на восток. Квартирная плата невелика.
Паула живет на втором этаже. Первый занимает какая-то семья. Хозяева въехали в новый дом. Теперь там, где раньше был хлев, поднялся особняк, совсем как в городе.
Летом хозяйка стрижет газон. Есть у нее и куры, и огород. Кладбище Паулу не смущает. Снег сменяется слякотью. Лишь мертвые уходят отсюда, да и то не покидая живых.
Отец Паулы погиб не на войне. Он скончался в разгар учебного года. Утром мы молились за упокой его души. Паулу отпустили на похороны. Вернулась она в черном платье. Интересно, Долго ли она носила траур?
Две комнаты, говорит Паула, с кухней и душем.
Мать обиделась: дочь теперь живет близко, а не заезжает.
А как же ты думала, говорит Паула, у меня ведь работы по горло. Священник передал нам ящики с книгами.
По воскресеньям дома пьют сладкий кофе с пирогом. Мать, подперев голову руками, сидит напротив нее за кухонным столом и ласково смотрит, как дочка завтракает. Она по-прежнему спит на двуспальной кровати, застилает опустевшую половину, будто он еще может вернуться. В супружеской спальне все как раньше. Утром она встряхивает подушки, взбивает их и аккуратно укладывает одну на другую. В холодную погоду берет в постель грелку. По мнению Паулы, мать не страдает. Крыша над головой есть, в соседнем доме живет сестра с мужем.
Почему ты хочешь уехать? — спросила мать, когда Паула решила учиться на библиотекаря.
Брат стоял в кухне у раковины и держал голову под краном. Сколько раз Паула видела эту спину, эти плечи в шрамах от трактирных потасовок. Время от времени он встречался с девушками, но невесты у него не было. В ванной отец тоже сделал умывальник — правда, пользовалась им одна только Паула. По субботам мать топила колонку. Очередность купания была установлена раз навсегда. Первым неизменно мылся отец.
Мать подливает кофе, Паула окунает в чашку пирог. Вчера, когда она приехала, весь дом благоухал пирогами. Мать заслышала шум мотора и прямо в фартуке вышла на улицу, на ходу вытирая руки.
Если б ты жила здесь совсем одна, говорит Паула, я бы еще поняла тебя. Но ведь тут и Сюзанна, и Герберт, и малышка Сабина.
Разве я жаловалась?
Паула видит свою мать насквозь. Упреков вслух от нее не дождешься. Но Паула чувствует их, даже не глядя. Ей почему-то боязно смотреть на старую женщину — на ее лицо, руки, раньше она пряталась в нетопленой спальне.
Матиас пишет что-нибудь? — спрашивает Паула.
Мать качает головой: Твой брат очень занят.
Паула хвалит пирог. И мысленно спрашивает себя, заведется ли мотор, ведь всю ночь лило как из ведра.
Сюзанна зайдет ненадолго после церкви, говорит мать. Тебе нравится в Д.?
Пока у меня нет ни минуты свободного времени, терпеливо отвечает Паула. Она уже попросила нанять помощницу.
Надеюсь, замечает мать, ты не станешь хоронить себя среди этих книг.
Паула обещает почаще бывать на воздухе, когда будет теплее.
Как только устроюсь, говорит она, ты обязательно приедешь ко мне в гости. Вокруг деревни до самого леса — сплошные поля. Погуляем в свое удовольствие.
Часть книг, сказал священник, конечно, уже попросту макулатура.
Паула между тем нацепила на вилку одну из домашних клецок по-швабски и старательно макала ее в охотничий соус.
Но там есть и очень хорошие вещи. Ценные, добавил он, пристально глядя на Паулу.
Коротышка советник очень хвалил Пауле хорошую провинциальную кухню. Они уже договорились о сумме, которая будет отпущена на приобретение книг, — сумма была не маленькая. Обер-бургомистр интересовался в первую очередь фонотекой. О создании библиотеки он заговорил, вернувшись из какой-то командировки. Пауле дано право организовать ее — в разумных пределах. Все должно быть как везде.
Официант приносит сладкое, и мужчины, словно по уговору, пододвигают свой десерт Пауле.
В наших фондах вы найдете и литературу времен третьего рейха, говорит священник, надеюсь, вас это не смутит. Так уж вышло, хочешь не хочешь, а деваться некуда.
3
Утопив голову в подушку и глядя наискось вверх, она видит из своей новой спальни красный огонек ночного сигнала для самолетов. Утром она любит для развлечения посмотреть на церковь и вспомнить о Феликсе. На карнизе сидят голуби. Поодиночке они не летают.
Днем Паула работает, и успешно. Приходят все новые и новые книги, местный книжный магазин считает барыши. Все запасы пошли в ход. В читальне она расставляет справочники по отраслям знаний. Единственное местное издательство дарит библиотеке произведения здешних авторов. Для Д. пора расцвета канула в прошлое вместе с первой мировой войной, люди искусства тут почти не селятся. Как говорят, поздние полотна Шпицвега обязаны коричнево-синим колоритом именно пребыванию художника в Д.
Из соседней комнаты доносится голос Фельсманши: привезли ящики с книгами, и Паула спешит туда.
Вы обязательно должны пойти, сказала фройляйн Фельсман, приглашая Паулу на вечернюю лекцию о местной колонии художников (с показом диапозитивов).
Луговое болото и какой-то совершенно особый свет придают деревне неуловимое очарование.
Паула купила себе велосипед. И по субботам ездит за холмы, которые с шоссе кажутся пологими, на болото, умирающее вот уже целый век.
Там, где оно еще не погибло, намечено проложить автостраду. Серьезного сопротивления проектировщики не встретили.
Одному из городских печатников Паула заказала бланки формуляров. А вечером женщины в первый раз пылесосят расставленные книги.
Дома она садится за стол, включает лампу и разрабатываем систематический каталог — в дополнение к алфавитному.
Кухонный стол она придвинула к окну и теперь видит, как соседи снуют из дому в сарай и обратно.
Еще дальше виднеется шпиль ныне бездействующей церкви, куда прежде стекались тысячи паломников. Иссякло чудо, а с ним и людской поток. Когда снесут расположенную рядом старую халупу (сосед уже выхлопотал разрешение на слом), обзор у Паулы станет шире. А пока в халупе живет какой-то югослав, чьи земляки давным-давно высланы домой по причине засилья иностранцев.
Паула не чувствует себя здесь посторонней. Она купила мебель. По воскресеньям иной раз обедает в трактире. Тамошняя хозяйка прекрасно готовит жаркое из свинины.
Вы любите рыбу? — спросил Феликс.
Паула взглянула на него. Парню, приехавшему сюда вместе с Феликсом на выходные, Паула не понравилась. В каникулы они оба работали на Гран-Канария с туристами, которым вполне по карману поторчать здесь недельку-другую, глазея на море, потягивая «Куба либре»[13] и отнюдь не заглядывая в словарь.
Она не стала отказываться от приглашения. Феликс сказал, что изучает германистику. Проблемы взаимопонимания для него не существовало.
Иногда, сказала Паула, мне до смерти хочется жареного мяса.
Ветер из пустыни приносит порой и саранчу. В то утро Паула взяла напрокат машину — просто так, поколесить среди песчаного бездорожья. Когда путь ей преградил брошенный кем-то автомобиль, повернуть назад было невозможно. Так бы и пришлось топать пешком по карстовым горам, по жаре, без воды. Кругом ни единого дерева. Глухая пустыня. Хоть Паула и привыкла к одиночеству. На заднем сиденье пустой машины валялась шляпа от солнца. Оглядевшись, Паула заметила Феликса и его спутника. Феликсов приятель тащил бензиновую канистру. Они шли вниз по косогору, и из-под ног катились камни. От зноя блузка у Паулы липла к телу.
Феликс так и не понял, зачем она поехала одна. Остров, конечно, невелик, но ведь машина могла угодить в осыпь и сорваться в пропасть. До конца отпуска ее бы никто не хватился.
Ну уж нет, запротестовала Паула, с машиной я как-нибудь справлюсь! Она не стала отказываться, когда молодые люди пригласили ее на ужин.
Boquerones[14], сказал Феликс, совсем как у нас дома!
Он пошептался в дверях кухни с хозяином и заказал рыбу. Паула сидела за столом наедине с Феликсовым приятелем. В памяти — жалкие обрывки испанского. Кожа горит от зноя.
Феликс выкладывает со сковороды в тарелки панированные анчоусы. Паула смотрит, как он ест: двумя пальцами берет рыбку за хвост и отправляет в рот, прямо с головой. Паула вооружается ножом и вилкой. На тарелке у нее глазастые рыбы. Она клюет как птичка.
Парень следует примеру Феликса, а Паула сдвигает на край тарелки кости, головы, хвосты.
По дороге в гостиницу Феликс рассуждает о конце света. Они вдвоем: приятель Феликса еще раньше ушел в туалет и больше к столу не вернулся. За ужин платил Феликс.
Человечество вовсе не вымирает, возражает Паула, мы-то ведь живы. Среди погибели.
Сквозь ресницы она видит белый готический собор. Известняк очищен пескоструйкой. В открытые двери вливается поток туристов. Феликс хотел было попрощаться, но она не отпускает его, тащит за собой, а возле купальни вдруг ойкает: в воде плещется рыба.
Нет, я все-таки предпочитаю мороженую рыбу, говорит Паула. Другую я и готовить-то не Умею. Парные кролики и цыплята тоже не моя стихия. Порционное быстрозамороженное мясо — вот это по мне.
Да разве ты ела? Так, поклевала чуть-чуть, говорит Феликс. Хозяин был разочарован.
И слышит в ответ, что Паула с удовольствием зажарила бы мороженого цыпленка и съела аппетитную хрустящую кожицу.
Сбрызнутую коньяком?
Нет, апельсиновым соком.
Лучшие коньяки у нас делают в Хересе.
Наутро Паула стоит, прислонясь к окну. Феликс объяснил ей, до чего коварны испанские газовые горелки, и не позволил включать их самой. Она сказала ему, когда улетает.
Это не для меня, говорит фройляйн Фельсман. Кофе она пьет лишь изредка, к примеру утром, когда неважно себя чувствует. Паула хотела угостить ее кофе, а теперь уходит в кабинет одна, садится за стол, на котором громоздятся книги, полученные с сегодняшней почтой; дверь приоткрыта — вдруг кто-нибудь позовет. Паула наблюдает, как варится кофе: шипит пар, поднимаясь над кипящей водой, и вот уже капли одна за другой падают на кофейный порошок в фильтре, потом превращаются в струйку, и темная густая жидкость стекает вниз.
Поискать на карте необозначенное белое пятно?
Фельсманша объяснений не требует, но Пауле почему-то кажется, что объяснить надо. С какой стати она, разбирая сундуки, одни книжки бракует, а другие нет? «Листья и камни» Эрнста Юнгера[15] (выпуск 1941 г.) — в каталог, а «Дивизию „Кондор“»[16] — в макулатуру.
Забивать себе голову книгами. Мытье головы и укладка в последнее время опять подорожали. Купить дом на Лансароте — полный бред!
Шестьдесят миллионов, представляет себе Паула, шестьдесят миллионов скажут «нет», поставят точку, не купят ни дома, ни «фольксвагена», ни «форда», ни престижной стиральной машины, и вообще больше ничего такого, что, как известно, полезно и хорошо. Отказ от потребления ударит по барышам. Кто не желает работать, все-таки должен есть. А кто хочет есть, тому нужен холодильник. Кому нужен холодильник, тот должен за него платить. Кто не платит — не имеет права есть… У Северного моря семь жизней. Когда выловят всю рыбу, его можно будет использовать как бассейн для сточных вод. Интересно, долго еще будут паковать книги в полихлорвиниловую пленку? Нефть-то на исходе. Фройляйн Фельсман зовет Паулу.
От пыльных книг кончики пальцев становятся грязными и шершавыми, но лицо Фельсманши непроницаемо. Вы давно здесь живете? — как-то раз спросила Паула.
Что значит «давно»? Она всегда жила здесь. По свету мотаться незачем.
Может, стоило бы пригласить фройляйн Фельсман в гости: испечь пирог, накрыть в гостиной стол для кофе, вместе посмотреть на памятники за кладбищенской стеной. В субботу к вечеру местные жительницы бросают свои огороды и приходят на могилы. Но в конце концов она отказалась от этой мысли. Едва ли они поняли бы друг друга. Лучше уж пойти с фройляйн Фельсман на эту лекцию. Переодеваться ни та, ни другая не стали, только руки отмыли да причесались. Потом фройляйн Фельсман скрылась в туалетной кабинке, а Паула с мокрыми руками покинула умывальную. В лекционном зале ее встречают приветливо. Фройляйн Фельсман знакомит Паулу с директором гимназии и одним из членов правления Музейного общества, который преподает также химию и физику; Фельсманша занимает сумкой сразу два места, пожимает руки. Паула искоса разглядывает ее — эту женщину, состарившуюся без ласки. Пухленький химик едва достает ей до подбородка, но настроен дружелюбно. Фонды краеведческого музея, рассказывает он, из-за нехватки помещения так и лежат, упакованные в ящики.
С появлением ландрата[17], обер-бургомистра и советника по культуре воцаряется тишина; только фотоаппараты щелкают.
Репортеры — в темных костюмах и джинсовых туфлях на мягкой подошве.
Ступают они почти неслышно.
4
Independence for Canary — tourists, go home![18]— читает Паула на стене полуразрушенной сторожевой башни у моря.
В эту пору, говорит Феликс, становясь по просьбе Паулы как раз между двумя написанными на стене словами, в эту пору у нас дома вообще не открывают ставен, из-за жары.
Паула на глаз устанавливает выдержку и диафрагму, наводит аппарат на Феликса и щелкает спуском.
Ветер, гуляющий по крепости, взъерошил ему волосы. Некогда там, внизу, рухнул в море лавовый поток. В казематах человеческие экскременты.
Свет на Лансароте, узнала Паула, меняет привычный облик вещей, скрадывает расстояние.
На рассвете рыбачьи лодки в бухте были совсем рядом, кажется, только высунь руку из окна — и дотронешься. Перешагивая через ржавые банки из-под кока-колы и бутылочные стекла, Паула спускалась к пляжу. А лодки отступали все дальше, хотя на самом-то деле не трогались с места.
Паула бросается в волны, и тотчас у нее захватывает дух. Море холодное.
Вернувшись, она застает Феликса в ванной: он старательно бреет щеки. Чтобы пропустить ее в душ, он выпрямляется, а после продолжает свое занятие. Усы он подправляет маникюрными ножницами Паулы. За завтраком Паула уверяет его, что видела резвящихся дельфинов.
А что? — спрашивает она. Есть тут дельфины или нет?
Должно быть, есть, раз ты их видала, отвечает Феликс и, помолчав, продолжает: Ребенком я много лет думал, что у меня в голове сидит инородное тело. Чем старше я становился, тем отчетливее представлялась мне его форма и состав. Я ужасно страдал, уверенный, что в мозгу у меня — острый граненый кристалл. И боль была, причем настоящая, а не мнимая. До самой операции. А когда я очнулся с забинтованной головой, всю боль как рукой сняло.
Ну а кристалл? — спрашивает Паула наверху, в крепости, облокотись на парапет, коленки ее упираются в букву «u» слова «tourists».
После мне показали кристалл, похожий на тот, какой я себе представлял, ответил Феликс.
Стало быть, сегодня я видела дельфинов, решает она. Скажи, кто это гонит туристов домой? — спрашивает она немного погодя и велит ему стать между «Canary» и «tourists». Прислонясь к парапету, Феликс скрещивает руки на груди, солнце пока еще слева от объектива. Паула отходит назад.
Канарское движение за независимость, объясняет Феликс. Оно требует отделения островов от метрополии.
Паула нажимает на спуск.
Потом они бродят среди скалистого лунного ландшафта, и Феликс с жаром доказывает, что упрямство, с каким островитяне обрабатывают залитую лавой почву, досталось им от испанцев. Гуанчей[19] здесь уже нет — смешались с пришлым людом. Почва без лавы есть только на севере, где, как говорят, жил гётевский Клавиш. Паула прямо воочию видит книги, которые Феликс как бы постоянно держит в голове. Положив палец на спуск фотоаппарата, она старается отогнать неприязненное чувство.
Насилие? — спрашивает она, пытаясь сохранить беспристрастность.
Нет. Не противно, пока даже не надоело.
Ну может быть, неприятное чувство — отодвинутое подальше, запрятанное поглубже, замаскированное.
А внешне — полный восторг. Кругом большущие плакаты — муниципалитет агитирует читателей. За год библиотечный фонд вырастет до двадцати тысяч томов. Предусмотрена фонотека. В уютном уголке советник по культуре намерен организовать встречи с писателями.
Вечером — торжественное открытие библиотеки, играет городской струнный квартет, советник выступает перед гостями с речью.
Наша библиотека, говорит он, должна стать для читателей родным домом. Он благодарит Паулу и ее помощницу за самоотверженную работу.
Фройляйн Фельсман стоит у Паулы за спиной; ее гладкое, почти без морщинок лицо прячется в тени, Паула отступает чуть в сторону, и фройляйн Фельсман протягивает руку для пожатия. После обеда складные стулья из бежевого пластика расставлены ровными рядами, чтобы гостям было удобно следить за церемонией.
Тут и там мелькают поношенные темные костюмы — репортеры местных газет бесшумно снуют по залу. Советник по культуре все-таки не удержался от намека, хоть и не собирался говорить об этом публично: Паула, конечно, женщина, но они не жалеют, что выбрали именно ее. Затем скромное угощение: бутерброды, вино. На случай похорон в шкафу у репортеров висят черные галстуки.
Мимоходом Паула отмечает: фройляйн Фельсман совершенно счастлива. Жуя бутерброды и потягивая вино, Паула раздумывает об этом здешнем счастье, вернее, о гордости, в которой сама себе отказывает. Наглядные итоги проделанной Работы. Вот же они, тут: книги, стеллажи, ну и ковровые полы, за которыми легко ухаживать.
У входа, справа от стеклянной двери, скульптура — мать и дитя. В зале — веселые, возбужденные люди, привыкшие относиться друг к другу по-приятельски. Книжные пожертвования от прихожан фройляйн Фельсман добросовестно сдала Пауле. Да, поработали на славу. Паула молодчина. Кивок, чужая рука, словно невзначай легшая на плечо, мимоходом, по-отечески. Ни малейшего повода для беспокойства.
Среди стеллажей читального зала, там, где выставлены справочники по всемирной истории, Паула натыкается на ландрата. Со спины вылитый «веселый крестьянин». А на деле — ровесник Паулы. Молодое поколение, новые кадры. Его, видно, смущает, что за спиной кто-то есть. Когда он поворачивается, на лице у него высокомерная улыбка — никаких фамильярностей.
Солидно, говорит он, весьма солидно.
Пока мы только начинаем, говорит Паула.
Может быть, даже слишком солидно, продолжает он. Поймите меня правильно, я имею в виду не сам Д., а аграрный уклад здешнего края. Близость земле. Исстари крестьянское население.
Наконец все позади, и Паула собственноручно наводит последний блеск. С малых лет от нас неукоснительно требовали чистоты под партами: ведь дома тоже не швыряют под стол апельсиновые корки. Неопрятные девочки авторитетом не пользовались. Паула носила в будни клетчатое платье, а после уроков меняла его на другое, более старое. Остроносых туфель на каблуках Паула не надевала никогда. Ботинки монахинь по утрам сверкали, надраенные черной ваксой.
После торжеств Паула уходит из библиотеки последней. Д. точно вымер.
Паула сует ключ в замок, размышляя об уже описанных и еще ждущих описания женщинах, которые вместе с мужем получали своего рода ключ ко всему в доме. Право пользоваться домом и следить за тем, чтобы не нарушался мир и покой. Школьных порядков Паула не нарушала никогда.
У себя — она воображает, что эти две комнаты с кухней и ванной ее настоящий дом, — Паула обычно идет с востока, из кухни, на север: слева спальня, справа гостиная. Включает повсюду лампы. Сегодня ей хочется любви.
Сознание, что она работала не покладая рук, почти до изнеможения, и в конце концов добилась успеха, ничуть не утешает ее.
Поэтому она ищет утешения в другом. Пробуждает в душе нежность и ласку, будто этим можно размягчить толстую корку былых ощущений и проникнуть в суть своего «я».
Что там Фельсманша вчера говорила о многоликости счастья, если, конечно, допустить, что она счастлива.
Рассуждать вперемежку с бутербродами и то полными, то неполными бокалами вина о единственном и совсем другом счастье. Маркузе или Блох?[20] Нет, сказал обер-бургомистр (человек нервный, астенического склада, от Паулы он все время держится на некотором расстоянии), он считает, что покупка таких книг себя не оправдывает. Уборщицы спозаранку уничтожили последние следы праздника.
В самом деле, счастье. Она в самом деле счастлива, что выдает книги, — фройляйн Фельсман. После обеда придут первые читатели.
Предъявят документы, получат формуляры, заполнят карточки. Новые лица, множество молодых женщин, школьники.
Сидя за столом, Паула в открытую дверь наблюдает за происходящим. Будь что будет, а справляться надо. Как они снуют среди стеллажей, нерешительные и все же готовые жадно схватить книгу, ведь она сама просится в руки. А вон Фельсманша, время от времени она встает из-за машинки, в которую заправляет формуляры, и объясняет, как пользоваться каталогом, столь тщательно составленным Паулой. Добросовестно. Добросовестно и педантично.
Любой посетитель, кроме ребятни, может удостоверить свою личность и действительно так и делает. Никого не прогоняют, тут рады всем. Гонят и высылают только иностранцев.
Вечерами теперь смеркается позже, погода налаживается; таинственные знаки на карте погоды — такое впечатление, будто от них зависит жизнь. В вечерних теленовостях — приветливый диктор в галстуке; облачные фронты и границы снегопадов сместились к северу.
С востока, из кухни, на север — в гостиную. Поглядеть на соседа, который еще до последних известий отправился мимо старой халупы через дорогу, в трактир. Изредка подъезжают автобусы, привозят пассажиров.
В это время года народ начинает, потягивая пиво и раскрыв окна, напевать под гармонику песни своей юности, которых Паула терпеть не может. Сосед идет дальше, пока не исчезает из поля зрения своей жены. В освещенном кухонном окне новенького дома на фоне гардины виднеется ее силуэт.
Отлично, сказал на открытии коротышка советник и нисколько не возражал, когда Паула заговорила о том, что намерена более или менее регулярно знакомить читателей с новинками, чтобы снабдить их путеводной нитью в книжном лабиринте и таким образом направлять формирование читательских привычек и склонностей, которые до сих пор ориентировались на фонды приходских библиотек. Может быть, стоит организовать и передвижку для домов престарелых и для больницы. Грандиозные планы, сказал он. Не порицая, а, скорее, сомневаясь в деловой хватке своей собеседницы, которая так хорошо работает.
Только бы не хватить через край. Может быть, мы в куда большей степени, чем Киль, город среднего сословия.
Как везде, так будет и у меня.
То есть никаких экспериментов. На уроках физики мы работали с железными опилками и горелкой Бунзена. Горелку доверяли только надежным ученицам.
Нет, не противно. Человеческие экскременты в казематах — тоже неизбежность, особенно в укромных местах. Того парня Феликс отправил назад, а себе продлил выходные на понедельник и вторник. В наемной машине — по острову. На юге песчаные дороги, а в конце путешествия — древняя сторожевая башня.
Призывы на обветшалых стенах в Арресифе кажутся Пауле более вызывающими, чем здесь. Сюда давным-давно никто не ходит пешком.
Довольно воинственно, роняет Паула среди отпускной безмятежности.
Не исключено, что когда-нибудь она все же неминуемо угодит в заваруху, — мысль об этом пробуждает в ней тревожное чувство.
Melpais. Дурной край. Застывшая лава похожа на черепаший панцирь. Но местами уже вновь пробивается зелень.
Крестьяне, говорит Феликс, не падают духом.
По утрам Паула спускалась вниз по круче, а он еще спал. Широко раскинув руки, вытянув одну ногу и поджав другую, голый, только живот прикрыт одеялом, он лежал на спине и крепко спал, с непроницаемым лицом, под надежной защитой своих грез (так думала Паула) — или беззащитный, если сны страшные?
Он и брился нагишом. Паула любовалась его большим красивым телом. С удивлением, а может, и с гордостью, что она желанна.
От прозрачного света все здесь кажется рельефнее и ближе, чем на самом деле.
Одна половина мира лежит снаружи и совершенно другая — внутри. Вернувшись с пляжа, Паула идет под душ.
Феликс… Временами он раздражает Паулу. Пляж за окном только с виду золотой и чистый, песок пропитан черной вулканической пылью, которую Паула смывает под душем.
Четвертая утренняя беседа с Паулой
Итак, удача, говорю я, с первых шагов удача. Не вполне по сердцу, городок мещанистый, несколько ограниченный, даже туповатый, быть может, зато тебе предоставлена свобода действий. Почти ни тени недоверия — жить, во всяком случае, можно.
Сегодня я сходила за свежими булочками, заодно прихватила газету, сварила кофе, открыла банку джема. Сегодня я чувствую себя отлично. Паула поджидала меня у двери, когда я вернулась с покупками. На этот раз она явилась совершенно зря. Мне и без нее хорошо, работа спорится.
Дело не в моих человеческих качествах, отвечает Паула, профессионализм — вот что было главное.
И только?
В известном смысле — да. Я вовсе не помышляла о каких-то там коренных новшествах.
Под утро мне приснился сон. Будто я в Венеции и разгуливаю в чем мать родила. Солнце Уже пригревало, но зловонного удушья в городе пока не чувствовалось; и впервые в жизни я думать забыла про стыд. В соборе святого Марка служили раннюю обедню, я выхватила у какого-то мужчины шляпу и устроила сбор пожертвований.
Я обязательно расскажу тебе свой сон.
После, отмахивается Паула. Я пришла, потому что наконец уяснила себе одну штуку, которая, пожалуй, тебя беспокоит.
Иной раз я просто не знаю, какую половину считать лучшей: ту, что существует ночью, или ту, куда попадаю, проснувшись.
Да выслушай же меня, говорит Паула, я ведь поехала в Д. до некоторой степени по простоте душевной.
Не хочу слушать. Не хочу забыть сон, утратить то ощущение.
Разрезаю булочку. Раньше булочки пахли не так. Паула берет меня за кисть и держит, крепко-крепко.
Мое простодушие не укладывается у тебя в голове, говорит она, вот в чем загвоздка.
Ей и правда как будто бы очень важно внести ясность. А кофе стынет.
Я, конечно, не берусь утверждать, что знать ничего не знала, продолжает она. Но меня это не трогало, понимаешь? Меня лично не трогало.
Она прямо как в лихорадке.
Успокойся, говорю я. Не надо оправдываться. Что я, судья, что ли?
А может, все дело попросту в том, что подходящих случаев раньше не было. И никаких распрей. В пределах возможностей, какими располагает Д., мне дали полную свободу действий.
Вообрази, перебиваю я, в соборе святого Марка я даже пела. Нет, ты представляешь?! Церковь битком набита людьми, а я иду себе нагишом, собираю денежки в черную мужскую шляпу да еще распеваю, что твой соловей! Притом я ведь никогда не умела петь, даже на рождество рта не раскрывала.
В ответ Паула лишь роняет: Хотелось бы мне попасть в страну, где жить не страшно.
Жаль. Я так радовалась свежим булочкам. А теперь весь аппетит куда-то пропал.
Смотрю на Паулу: хрупкая, темноволосая, маленькая — еще меньше, чем запомнилось мне, — она сидит за столом в моей кухне; я обнимаю ее за плечи, вообще-то она — полная моя противоположность, но мне все равно кажется, будто я утешаю себя.
Как ты относишься, скажем, к таким понятиям, как исполнение долга, корректность, самопожертвование, порядочность? — спрашивает она.
В памяти тотчас оживает школа, где изо дня в день все шло как по нотам. Порядок, чистота, аккуратность.
Всего лишь функции, обязанности, давным-давно окостеневшие во имя гладкого течения жизни.
Окостенения я не замечала.
Выходит, ты просто-напросто функционировала, как машина.
Не знаю, отвечает Паула, позже я, бывало, не раз стояла у окна, глядела на кладбище и думала: интересно, как там чувствуют себя покойники. Глупо, да? Покойники ведь не чувствуют ничего.
5
Ну с какой стати ему хромать? Чепуха, и вообще навязчивая идея. Нельзя доверять первому впечатлению, оно может и обмануть. Да-да, и для беспокойства тоже нет ни малейшего повода.
Унять тревогу, всему виной особенности психики. А объективно оснований тревожиться нет.
Паула соглашается: женщины, как известно, больше мужчин склонны к депрессии. И проявляется это в снах, в мечтах. С такими вот мыслями Паула сосредоточенно прислушивается к себе: что-то не ладится с внутренней секрецией. Переутомилась — ведь первые месяцы дел было невпроворот. А в общем — можно быть довольной. Молодец!
Итак, можно быть довольной. На стенде у входа она разместила первую тематическую выставку.
Эмансипация? — спросил коротышка советник.
Наутро после открытия он заглянул в библиотеку, случайно, просто так, по пути — его контора в том же здании, вот и зашел на минутку.
Женское движение, ответила Паула. Она заранее просмотрела, отобрала, систематизировала литературу — книги крупных фирм и небольших женских издательств. Конечно, сомнение в голосе советника от нее не укрылось. Скорее, сомнение мужчины, а не политика. Нет, возражать он не возражал. И правильно — ведь тут командует Паула, ей виднее. День и ночь усердно стуча на машинке и ни на грош не выйдя из бюджета, она подготовила для читателей тоненькую брошюрку по теме: обобщила весь материал, какой сумела найти, и коротко, двумя-тремя фразами, рассказала о книгах, находящихся в открытом доступе.
Женский вопрос, говорит она и жестом просит фройляйн Фельсман передать ей один экземпляр брошюры из стопки, что возле картотеки, сует этот экземпляр советнику, который уже отошел к стеллажам с беллетристикой и внимательно разглядывал новинки. Он небрежно перелистал брошюру, на губах поощрительная улыбка: дескать, хорошо! — спрятал ее в карман и заметил: Прежде всего вам, конечно, надо ближе узнать здешних читателей. А в общем, поглядим, как они к этому отнесутся.
Потом, во время завтрака, приходит почтальонша со срочной депешей. Субботнее утро. Паула на кухне. За окном, к северу от церковного шпиля, стоит солнце. Внизу дребезжит звонок; почтальонша ездит по деревне на велосипеде и, поскольку настала весна, уже не носит полусапожек на меху. Паула отодвигает чашку, кладет недокуренную сигарету в пепельницу, встает, спускается на первый этаж и забирает письмо. На обратном пути разглядывает коллекционные испанские марки.
На кухне вскрывает ножом конверт. Феликс пишет часто, порой и не дожидаясь ответа. Я ходатайствовал насчет стипендии, читает она, и получил согласие. Теперь он продолжит изучение языков в университете города М.
Паула никогда всерьез не думала, что будет встречать его на вокзале. И вот — срочное письмо. В субботнем гороскопе она вычитала, что для Девы важнее всего нежность. Ночью ей снился стадион: поле представляло собой подобие шахматной доски, по которой сновали белые и черные игроки, погибая за королей.
Надеюсь, сказал священник (Паула между тем старательно макала клецки в охотничий соус), вы не будете шокированы. Отдавайте кесарю кесарево, мелькнуло у Паулы в мозгу.
Утром, когда она проснулась, мысли не двигались. Пустоты в голове. Пустая фабрика. Раз, два — и все разбежались.
Конечно, говорил на пляже Феликс (дул ветер и без устали бросал в спину пригоршни песка), можно проснуться утром и начисто забыть все слова. Раз, два — и онемел, будто язык упорхнул из памяти.
И родной язык тоже? — спрашивает Паула. Она примостилась у самой воды, положив голые ноги на влажный песок.
Родной язык забыть нельзя, уверяет Феликс, как нельзя разучиться есть ножом и вилкой.
Выходит, ты не боишься забыть родной язык, хотя изо дня в день пользуешься чужим?
Феликс стоит на своем: проснуться утром и начисто забыть все слова — такое возможно лишь с иностранным языком.
Паула читала, что Лансароте — самый своеобразный из Канарских островов. Странно.
Up up and away. Сверху все выглядит совершенно по-другому. Сесть в самолет, подняться в небо, улететь. Но прежде паспортный контроль.
Проверяют, нет ли Паулы в списках разыскиваемых лиц, записывают ее данные — на всякий случай и на случай необычного поведения, — а может, и не записывают, потому что люди, едущие по паушальным путевкам, обыкновенно следуют в общем порядке, не нарушая правил организованного массового туризма. Сверху так приятно увидеть землю в разрывах облаков, увидеть картину, не похожую на иллюстрации из каталогов.
Перед отлетом на поле — вооруженные солдаты для охраны самолета с немецкими туристами; таможенники роются в багаже. В зале аэропорта легко отличить уезжающих от вновь прибывших по цвету кожи.
Загорелые гордятся своим загаром.
У одного из туристов отбирают кухонный нож, найденный в ручной клади. Ведь им можно не только чистить картошку.
Две недели «Куба либре», говорит Феликс, и ни разу не заглянуть в словарь.
Послушаешь тебя, отзывается Паула, и поневоле решишь, будто ты фантазер.
Феликс не отрицает, что ночами предается фантазиям… Паула идет купаться, а он сидит на песке, ветер дует ему в спину, неподалеку все так же копает ямы овчарка; Паула знает: стоит только позвать, и он немедля бросится к ней.
Паула долго гуляет с матерью: ведет ее через деревню в поля до самой опушки леса.
Как у нас дома, говорит Паула. Мать не соглашается. Взбираясь на холм, она дышит учащенно, с трудом. Надо бы помочь ей, поддержать, но Паула не вынимает рук из карманов, ей страшно ощутить материнское тело совсем рядом, и обе все так же шагают по проселку, каждая по своей колее, разделенные полосой травы.
Твой брат прислал письмо, слышит она голос матери и спрашивает, как у него дела, спрашивает, скорее, машинально, стараясь выказать надлежащее внимание.
В воскресенье они с матерью катаются на машине по окрестностям. Неподалеку есть озерцо, уцелевшее после прокладки шоссе. Чтобы удить рыбу, нужна лицензия. Весной и осенью воду из озера спускают и чистят дно. Чего там только не увидишь — из ила торчат обрезки труб, жестяные банки, горлышки бутылок.
Вода здесь потому такая бурая, говорит Паула, что идет из болота.
Островки пены у берегов едва ли как-то связаны с загрязнением среды.
У воды им попадается снулая рыба. Паула говорит, что рыболовы уходят отсюда с порядочной добычей. Она знает: мать умеет готовить свежую рыбу — и голову отрежет, и почистит, и выпотрошит, — да не только рыбу, но, скажем, и зайца (брат однажды привозил зайца после ночной поездки).
Гляди, говорит Паула, с гармонией в природе полный порядок. И кивает на стрекозиную парочку. Водомерки скользят по озеру, туча комаров примеривается напасть на женщин. Когда станет по-настоящему тепло, вечером после работы буду ездить сюда купаться.
Водоем совершенно безопасный, но мать не верит.
Лишь бы тебе здесь нравилось, говорит она, намекая, что Пауле пора бы бросить кочевую жизнь и где-нибудь осесть. В твои годы человек уже должен понимать, где его место.
Сами увидите, как к этому отнесутся читатели, сказал он, беря с полки репортажи Вальрафа. Боюсь, со временем вам придется несколько умерить свои запросы. Но я убежден: мы не ошиблись в вас.
Садитесь, сказал он при первой встрече, рядом на столе лежали документы Паулы. Она села, мельком взглянула на развешанные по стенам виды окрестностей, поинтересовалась, каковы будут ее обязанности.
Не бойтесь, сказал он. Доверие за доверие. Думаю, мы полюбовно договоримся обо всем. И начал толковать о новых способах организации досуга в большом динамично развивающемся районном городе, о целине, какой является городская библиотека, о растущих запросах населения и информационном голоде. В Д. две гимназии, реальное училище и профессиональная школа, к тому же неподалеку расположен крупный город, а стало быть, есть студенты и преподаватели; не раз упомянул он и среднее сословие.
Паула согласилась. Муниципалитет — вот кто дал ей работу. Она говорила о подборе, освоении и плане использования книжных фондов; поле ее деятельности было четко размечено — по образцу других городских библиотек, с которыми ознакомилась комиссия муниципалитета и районного управления.
Никакого диктата сверху не будет, заверил советник по культуре. В пределах вашего ведомства можете поступать по своему усмотрению.
Наша новая библиотека, сказал он на открытии, должна стать для всех друзей книги родным домом.
Так что причин для недовольства нет. Она правильно решила переехать в Д. Тут вполне можно жить.
С Фельсманшей общаться трудновато, сказала Паула матери, но, наверное, со временем все уладится. Во-первых, мы работаем вместе без году неделю, а во-вторых, я пришла со стороны, как говорится, перебежала ей дорогу. Иного я и не ожидала.
Тебе здесь нравится? — спросила мать.
Работа — вот что мне нравится, ответила Паула.
Видите ли, говорит советник по культуре, ставит Вальрафа обратно на полку и, хотя ростом он меньше Паулы, заботливо, по-отечески, кладет руку ей на плечо, я не очень разбираюсь в вашем деле, но, честно говоря, как читатель, я бы не стал искать книгу репортажей в разделе беллетристики. Смешок он подавил, только улыбнулся и руку с плеча Паулы убрал.
Ну как, привыкаете понемножку? — любопытствует он уходя.
Паула признается, что видела пока мало — из-за нехватки времени. Но работа мне очень нравится, добавляет она.
Насчет комнаты в М. Феликс не писал ни слова. Паула готовится к его приезду. Стадион ей больше не снится. Теперь она видит эротические сны.
Феликс приехал мадридским поездом. Шагая ему навстречу по платформе, Паула чувствует, что он рад ей.
Ей хотелось снять эту сценку. На фоне черных силуэтов вулканических скал верхом на осле едет мужчина, впереди себя он усадил маленькую девочку — когда она вырастет, то будет идти следом, пешком. На шее и крупе животного — толстые вязанки бамбука.
Паула берется за аппарат, но Феликс ее останавливает. От изумления она даже не упирается. Надо же, что он себе позволяет — кто дал ему такое право?
Ты бы оскорбила его достоинство, объясняет Феликс.
Пятая утренняя беседа с Паулой
Нет уж, извини, синдром Ромео и Джульетты тут ни при чем, протестует Паула. На первых порах Феликс был для меня принадлежностью отдыха, и не больше.
Попросту ублажал тебя?
Паула хитрит и вместо ответа спрашивает, отчего я не посажу вдоль забора вечнозеленые вьющиеся розы.
Сегодня ночью меня напугал сигнальный фонарь. Мне почудилось, будто луна горит огнем.
Паула смотрит в окно, провожает взглядом соседа, который идет из дому в сарай.
Значит, мой Феликс тебе не по нраву? — спрашиваю я. Что ж ты не выкинула его из головы? Он ведь всего-навсего принадлежность отпуска.
Паула предлагает устроить огромную живую изгородь из роз.
А ты, отвечает она вопросом на вопрос, ты выкидываешь из головы приятные воспоминания?
Я уверена, что давным-давно ее раскусила. Это страх, говорю я.
Страх?
Тебе страшно сознаться в своих чувствах. Боишься потерять себя?
Паула молчит.
Жаль, говорит она немного погодя, кухня у тебя в первом этаже и соседский дом слишком близко. Со второго этажа вид был бы лучше.
Я уже готова поверить, что Паулу можно чему-то научить.
Тебя страх задавил, говорю. И давно ты живешь с этим страхом?
Она все еще прикидывается безучастной.
Наверно, ты сама себе кажешься быстрозамороженной и упакованной в целлофан.
Очень уж сурово судишь, отвечает она, глядя мимо меня на холодильник. Терпеть не могу фанатиков. Кроткие святые всегда были мне симпатичнее.
Я упрекаю ее в романтичности, и вообще, она, мол, рассуждает о фанатизме и кротких святых таким тоном, будто должна выбирать между сахаром и сахарином.
При мысли о сахарине к горлу подкатывает тошнота. Да, сурово говорю я, но я хотя бы надеюсь, что есть еще сила, достаточная, чтобы спастись от вечного холода.
Теперь она смотрит на меня в упор.
Как же ты намерена бороться с зимой? — любопытствует она. Только не говори, что будешь топить.
Насмешка?
Затопить, говорю я, натопить, сжечь.
Сахар, отвечает Паула.
Она меня раздражает.
Что делать, каждому охота, чтобы повествование продвигалось вперед так же быстро, как его собственная жизнь, говорит она.
Я протестую: Ты ведь тоже не сидишь при-горюнясь у камина — живот в тепле, спина в холоде, руки на коленях, — как твоя мать. В конце концов ты извлекла для себя урок!
Сугубо личный, замечает Паула.
Раньше, объясняю я этой Пауле, которую ничему не научишь, в поисках безопасности бежали в монастырь. Не умея совладать с одной половиной мира, искали убежища в другой. Ты это имеешь в виду?
Или покупали билет на корабль и отправлялись в эмиграцию за океан, отвечает она.
Стало быть, только безрассудная надежда? Я почему-то ору.
Назад в скорлупку!
Самовлюбленная эгоистка, отгородилась стеной от внешнего мира? Что ты там делаешь, в своем коконе? Вяжешь накидочку на душу?
Я давно уже не в коконе, говорит Паула, словно я вовсе и не орала. Я теперь снаружи.
Часть III. Лето
1
В принципе возражений нет. Напротив. Он даже приветствует ее начинание.
Она заблаговременно предупредила советника, что хочет к нему зайти, договорилась, когда это можно сделать, и в назначенное время поднялась этажом выше — разумеется, отнюдь не мимоходом, не случайно, ведь ей не по чину устраивать проверки.
Когда она появилась в дверях, он, явно нервничая, скрестил руки на груди. Паула села на стул для посетителей.
Где-то она читала, что есть такая болезнь, которая судорогой сводит мышцы, корежит суставы и в конце концов обрекает человека на полную неподвижность. Климат в Д., как говорила Пауле мать, очень сырой, часто бывают туманы.
На кашель Фельсманши следовало бы обратить внимание пораньше.
Я помню, говорит он, вы упоминали об этом еще несколько недель назад.
Кабинет не похож на прежний, мебель тоже новая. Лишь пейзажи в рамках перекочевали сюда из старой ратуши.
Тот, кто родился и вырос не здесь, мигом начинает хворать. Все-таки есть на земле места, таящие опасность для здоровья.
Итак, ваш план обрел конкретную форму?
Паула навела справки. Задуманная ею передвижная библиотека могла бы обслуживать три дома престарелых в городе и еще два за городом.
На этот раз в кабинете жарко потому, что жарко на улице. Мебель дорогая. С годами у Паулы вошло в привычку замечать ценные вещи.
Если закрыть окно, говорит она, в кабинете станет прохладнее.
Взял бы да попросил вентилятор. Еще с утра Паула засучила рукава блузки, а под низ надела майку, чтобы впитывала пот.
Одна только фройляйн Фельсман высказалась скептически: Не знаю, но, по-моему, едва ли старики встретят вас с распростертыми объятиями. Они не любят новых лиц.
Паула достает из кармана бумажную салфетку и промокает шею и лоб. Ей необходима поддержка муниципалитета. Вряд ли будет легко убедить руководство домов престарелых в пользе чтения.
Придется, скорее всего, повоевать, говорит она, ведь любое новшество встречают с недоверием.
Советник даже не думает закрывать окно.
Так странно, в эту пору — и жара, говорит он и, конечно же, обещает Пауле поддержку. Социальная благотворительность — вот как я представлю ваш план, когда буду знакомить с ним руководство.
Он больше не спрашивает, хорошо ли ей в Д. Здесь ее место. Нет, «прижилась» не то слово. Так теперь не говорят. Она влилась, интегрировалась, вот.
Он с удовольствием обсудит ее план с обер-бургомистром и ландратом. Им часто приходится выступать на всяких мероприятиях и торжествах, произносить поздравительные речи — с девяностолетием, с бриллиантовой годовщиной, со служебным юбилеем, по случаю вручения Баварского ордена за заслуги, — пусть и заинтересуют влиятельные круги библиотекой-передвижкой.
Как говорится, сделаем почин. От воодушевления советник ерзает на стуле, наконец-то расцепляет руки. Ладони потные. А под пиджаком он, наверное, мокрый как мышь. Этак и простыть недолго.
У Паулы першит в горле. С детских лет она склонна к простудным заболеваниям.
Блестящая идея. С этими словами советник достает из кармана тщательно отутюженный носовой платок и вытирает руки. Превосходная.
Ходить по путям запрещено. Да, впрочем, и невозможно — из-за высоких платформ. Пассажирские поезда идут строго по расписанию.
Очень может быть, что Паула воображала, будто Феликс из тех, кто двинется прямо по путям, не обращая внимания на запрещающие знаки.
Но он вместе с другими идет по перрону, а она между тем еще всматривается в незнакомые лица и фигуры — чужие люди встречаются после разлуки — и все не может решить, как с ним поздороваться.
И вот он уже перед нею — в одной руке светлый чемодан, в другой парусиновый рюкзак. Только теперь Паула спохватывается, что не достает ему и до плеча. Возможно, она целует его. Наспех, при всем честном народе.
Первый раз Паула целовалась с мальчиком за углом, через две улицы от школы. В ту минуту она была похожа на птичку, пьющую нектар. Мне почему-то казалось, что от нее непременно должно пахнуть корицей.
От Феликса пахнет потом и пластиковой обивкой железнодорожного купе. Усталый, небритый, грязный с дороги, он выглядит старше своих лет.
На Лансароте он был ей как-то ближе и родней. Здесь, в незнакомой обстановке, Феликс робеет. Паула целует его, а он стесняется на людях ответить ей тем же. По перрону шагает осторожно. Ей пришлось стать на цыпочки, обнять его за шею и пригнуть к себе — иначе бы она нипочем не дотянулась до его щеки.
Ты смотри, как тебе удобнее, в случае чего я могу снять комнату в М., писал он.
О любви ни слова. Паула везет его к себе, и он принимает это как должное.
Дома она молчит, не предлагает ему распаковать вещи: чемодан и парусиновый рюкзак остаются пока в передней. Вид на кладбище Феликса ничуть не смущает, он хвалит квартиру, расспрашивает о церкви и византийском куполе, слушает ее объяснения. А Паула, мечтая поскорее очутиться в его объятиях, ведет его в ванную, дает ему стакан для зубной щетки и полотенце.
За завтраком он сидит напротив нее, пьет сладкий кофе с горячим молоком. Паула сходила за булочками, открыла джем и смотрит, как он ест.
Большим и указательным пальцами Феликс отправляет в рот кусочки булки. За белой полоской зубов мелькает язык, мягкий, розовый.
Слово «человек», рассуждает он, в военном словаре отсутствует. Зато есть «людские ресурсы». Боевые машины.
А что ты знаешь про подводные лодки? — спросила Паула.
Он дожевал и зачастил: «глубинные бомбы», «торпеды», «мины», «торпедные взрыватели» и «многоствольные минометы», словно в угоду Пауле вызубрил наизусть не только Рильке, но и военный словарь.
Она-то ждала, что Феликс будет ласковее.
Сейчас он стоит у окна, у нее за спиной. Паула чувствует тепло его бедра. По улице движется свадебный кортеж. Все как полагается: впереди оркестр играет марш, за ним жених об руку с невестой, потом гости — процессия в шикарных, заказанных по каталогу нарядах шествует по деревне. А вечером тут прогонят коров.
Феликс считает, что духовой оркестр как-то связан с обрядами плодородия.
Оркестранты — сплошь коренастые здоровяки в национальных костюмах. Лицо невесты Пауле незнакомо. Женщины изредка выбиваются из маршевого ритма.
Торпеды, объясняет Феликс, стараясь ответить на вопрос Паулы, бывают противолодочные, рассчитанные специально на надводные цели и само-наводящиеся.
Вчерашняя натянутость почти совсем развеялась. Хотя накануне все произошло слишком быстро.
Если оставлять его здесь, то обязательно надо предупредить — торопливость лишь вызывает досаду.
Засыпает она с мыслью, что в шкафу висят его брюки, а в ящике рядом с ее собственными лежат его носки. Итак, мужчина в доме. Отпускной знакомец в ее собственной, а не в гостиничной постели. Вообще-то, он для нее пока не более чем воспоминание, чужак, только тело его близко и знакомо, как уютный ландшафт с деревьями. В детстве ей ужасно нравилась гладкая кора буков.
Она не отказала ему, даже встретила на вокзале, ничем не нарушила правил приличия, равно как и сам Феликс — он ведь не кинулся напрямик по рельсам.
Не отвергла. Отвечала на его письма. Впустила в дом. Впустила… Может быть, и она нуждается в защите, только не хочет в этом сознаться?
Паула, такая крохотная рядом с Феликсом, неприметная и в уличной толпе, и на предпоследней парте, — до сих пор эта Паула ревностно оберегала цельность своих чувств. Не нарушая привычного ритма жизни, тихо, без шума, стала старше, тридцать пять — это ведь не старость… или все-таки? Она неколебимо верит, что перед ним у нее есть преимущество. И не только возрастное. Если надо, у нее достанет сил обуздать свои чувства. Всю жизнь исправно тянула лямку, владела собой — так думает Паула, которая носит очки и ненавидит контактные линзы. Вся ее жизнь четко распределена между книгами, отпуском и выходными.
Утром по радио воскресное богослужение — это Феликс включил; Паула просыпается в испуге, когда он заключает ее в объятия, а через Дорогу под византийским куполом звонят колокола, созывая прихожан. Феликс ласкает ее и рассказывает о юных девушках, которых приносили в жертву дождю.
Ну и как, шел дождь? — допытывается Паула. А если не шел, что же — новая жертва?.. Хотела бы я знать, что они при этом чувствовали?
Кто?
Палачи, поясняет Паула, удивляясь, что он не спешит.
Короткий удар колокола знаменует пресуществление. Потом из нефа доносится музыка. Тебя, бога, хвалим… В школе они до изнеможения пели эту молитву в конце каждой службы.
По радио выступает проповедник. Феликс замирает, прильнув к ней. Здесь, внутри, живые, а там, снаружи, мертвые?
Она бы нисколько не возражала, будь он восприимчив к религии, склонен к воздержанию во время мессы и к импотенции во время молитвы. Однажды Феликс написал ей: Человеку необходима вера. Но тотчас же оговорился, что не имеет в виду бога, и упомянул о разуме.
Разум, ответила Паула, давно загублен.
На полный отказ Паула не рассчитывала. Ну разве только на скепсис, а это пустяки, с этим она мигом справится.
Немецкие города, говорит Феликс, на первый взгляд напоминают яркие лакированные игрушки из дорогой коробки.
Не вижу, почему бы наш план должен потерпеть неудачу, сказал коротышка советник.
Вид из окна тоже не такой, как в старой ратуше. Паула глядит поверх крыш на холм, увенчанный замком. Все крыши целехонькие. Чистые, будто вылизанные.
Как только Паула наладит работу, продолжает советник, он сразу же публично объявит о создании передвижки для домов престарелых: вот, мол, вам образец, достойный подражания. И он принимается разглагольствовать насчет делегаций работников культуры, которые валом повалят в Д. перенимать опыт.
Паула не перебивает, не говорит, что в других местах издавна практикуют передвижные библиотеки.
Позднее, говорит она, мы сможем обслуживать и больницу.
В качестве транспортного средства она предлагает свою машину. Багажник просторный — вполне поместится ящик-другой книг.
На прощание советник вскользь упоминает о финансовой проблеме. Строительство спортивных сооружений дорожает, поэтому он не может выделить Пауле ни одной лишней марки из культурного фонда.
Я уверен, добавляет он, что, планируя передвижку, вы исходили из собственного бюджета.
Паула сосредоточенно подсчитывает крыши на холме.
Ты знаешь, что мне тебя вправду очень не хватало? — говорит Феликс, выпуская Паулу из объятий.
Писал он часто. И временами не мог отделаться от ощущения, что письма раздражают Паулу.
Надо будет поговорить с ним, пусть не терзается. Ей вовсе не к чему его утешать. Лучше уж полюбоваться окрестностями. Тропинок здесь сколько угодно, природные красоты в краю болот.
Нет, не знаю, отвечает она.
Прежде о любви речи не было. В письмах он о ней не упоминал. А теперь заговаривает о любви, и Паула поворачивается спиной к стенке.
Шестая утренняя беседа с Паулой
Теплее не становится. Я напяливаю на себя все что можно. И опять коченею.
Холодно. Внутри. В доме.
Изредка по ночам, когда ни детям, ни мужу не требуется мое присутствие, я украдкой выбираюсь из супружеской постели и спешу воспользоваться тишиной и покоем.
Мерзнешь, говорит Паула.
Я не смею до нее дотронуться.
Еще напугаю — такая я холодная.
Замуровалась в четырех стенах, продолжает она. Ты хоть когда-нибудь выходишь из дому?
Каждый день, в магазин, отвечаю я.
Недолгий путь по улице. Стоя у прилавка, кладу в сумку колбасу, ветчину, печеные яйца, а попутно слышу: мол, тот-то и тот-то умер. Порой такие новости застают меня на садовой дорожке.
На вечернем горизонте голые деревья.
Не могу же я бросить дом, объясняю я Пауле, младшая дочка должна сперва подрасти. Она засыпает, а я считаю говорящих кротов, которые живут под землей, или рассказываю про вишню, которая день и ночь в бегах, но непременно возвращается…
В детстве мне ужасно хотелось иметь много зверей, говорю я. Когда мы учились в школе, ты ни разу не бывала у меня в гостях. В нашей квартире можно было держать разве что волнистого попугайчика. Ты остепенилась, роняет Паула, и насмешка, звучащая в ее голосе, окончательно выбивает у меня почву из-под ног; родила дочерей, обновила дом, огород посадила.
Паралич, рассказываю я, шел у него от лапок к сердцу: бедняга наклевался оконной замазки, а она ведь со свинцом. Так и умер в клетке, в детской.
Что ты заладила про попугая! — сердится Паула и объявляет, что я попросту гоню от себя мысли, замазываю, заглушаю. Притом нарочно.
В те годы, продолжаю я, летом еще было тепло. Теперь у нас кошки. Но я бы все-таки завела попугайчика.
Паула, смеясь, кладет ладонь на мою холодную руку. В такую рань, еще до рассвета, мне ли тягаться с нею. Ты, говорит она, кутаешься не только от холода.
Симптомы, которые я толкую как признаки болезни, по словам терапевта, остаются необъяснимыми даже после троекратного рентгена.
Меня бесят книжки с картинками, внушаю я Пауле, отсюда и проистекают мои непонятные недуги.
Что же ты делаешь с внешним миром, спрашивает Паула, раз у тебя внутри пустота?
Летом отворяю окна и двери, отвечаю я.
И ты никогда-никогда не бунтовала? — допытывается она.
Боль, с которой нет сладу, — дело прошлое, притупилась.
Меланхолия?
Иногда ярость, но за ночь она утихает.
Стало быть, покорное отречение, говорит Паула.
Я не спорю. Какой смысл доказывать ей, чего стоит свить гнездо, ведь она же вымысел. Между нами только стол у окна.
Воображаю, что Паула возьмет и подаст мне руку. Если она только постарается, ко мне вернутся тепло и бодрость.
Слишком холодно, сказала Паула еще с порога, от твоего многословия слишком холодно. Все в тебе будто сковано льдом. Отчего ночи с Феликсом не видятся тебе более раскованными?
Так проще в эксплуатации, отвечаю я. Когда дети были маленькие, я покупала им только вещи, «простые в эксплуатации»… И летние месяцы тогда были жарче, и чувства сильнее.
В доме у меня холод и тишина. Пока остальные спят. Снаружи мир давным-давно замер в недвижности.
Днем я живу не так, как ночью. Иногда я гашу себя. Утром встает одно только солнце.
С таким видом, будто ничего не изменилось.
Меня перехитрили.
Паула была здесь, хоть я и села к столу задолго до завтрака.
Ты во власти иллюзии, говорит Паула. Бежишь среди ночи к пишущей машинке, прячешься в коконе фантазий и думаешь, что этим жива.
Паралич, говорю я, прогрессировал медленно. Сперва я думала, что сумею прогнать смерть, и взяла его к себе в постель. Но когда паралич захватил сердце, даже тепло моей груди оказалось бессильно.
2
Ты изменилась, твердит Феликс.
Нет, возражает Паула, просто мы живем не так, как ты думал.
Внешне холодноватая и даже рассудочная, скупая на ласку и нежность (зачем растрачивать свое достояние?), вбившая себе в голову, что урон тем меньше, чем ниже ставка в игре (то ли дело долгосрочный вклад — и надежно, и выгодно), Паула пока держит Феликса на расстоянии. Но прочь не гонит, не настаивает, чтобы он искал комнату.
И Феликс больше не заикается об этом.
Предпочитает мириться с неудобствами дальнего пути. Если утром Паула не подвозит его на своей машине, то немного позже он едет автобусом через деревни в Д., из Д. электричкой в М., а там на метро до университета.
Давай рассуждать трезво, сказала ему Паула в первый же день, на дорогу тебе понадобится почти два часа.
Теперь она нет-нет да и спрашивает, освоился ли он здесь, и Феликс признается, что пока ему все в новинку, но уверяет, что со временем привыкнет.
Знание языка — вот что поможет ему найти ключик, повторяет он.
Без всякой задней мысли, вовсе не желая его смущать, Паула возражает: язык-то, дескать, книжный. Конечно, он хорошо изучил Новалииса[21], но разве это гарантия, что он приживется здесь и сейчас.
Я знаю, вы своих писателей не любите.
Он уверен, что разбирается во всем, и даже мысли о неудаче не допускает. Паула просто диву дается.
Неужели ни капли сомнения?
Глядя на тебя, можно подумать, будто твоя вера и впрямь способна горы двигать, говорит она.
А чего она, собственно, ожидала? Что Феликс явится в Германию, как она сама в Нью-Йорк, с потными от страха руками и бешено колотящимся сердцем, напуганный и готовый в любую минуту забиться в норку, которая укроет его от всех бед?
Вполне возможно, коротышка советник вызвал к себе тогда фройляйн Фельсман точно так же, как теперь ее вызывает Паула; на столе лежат фото, копия свидетельства и автобиография Анетты Урбан, выпускницы библиотечного училища, которая предлагает городу свои услуги.
Фройляйн Фельсман садится только после особого приглашения.
Не поймите меня превратно: фройляйн Урбан нисколько не претендует на ваше место, объясняет Паула.
Еще бы, говорит Фельсманша, пряча руки в складках серой вязаной юбки. Она и не может претендовать. У меня контракт до самой пенсии.
Садитесь, пожалуйста. Паула пристально посмотрела на новенькую. Вроде не нервничает. Скорее насторожена.
Когда Анетта Урбан появилась на пороге, Паула улыбнулась. «Храни вас бог» она не сказала. Только отметила внимательный взгляд, скользнувший по комнате: полка на стене, шкаф сдокументами, кофеварка. Окно закрыто, несмотря на жару. Пейзажам места не нашлось, впрочем, в них тут нет нужды. Пишущая машинка и неразобранные письма. На столе кипы газет, журналов, бумаги соискателей.
В первый раз устраиваясь на работу, Паула с потными руками сидела напротив какого-то мужчины, а было ей в ту пору столько же лет, сколько этой девушке.
Значит, не просто помощница, как было указано в объявлении, а молодой образованный специалист. Паула подробно рассказывает о работе. Тесное сотрудничество, заинтересованность и целеустремленность — вот залог успеха, говорит она; с губ ее так и сыплются расхожие словеса вроде «переоснастить», «оснастить», «привести в порядок», «создание», «расширение», «система», «передача фонда», «знания и деловые справки», «требования» и «жалованье», «все зависит от вас, от вашего опыта».
Разумеется, в меру своих сил она поможет молодой сотруднице включиться в работу.
И освоиться. Вы бывали в Д.?
Худо-бедно подготовился, сказал Феликс, открыв чемодан и вынимая из-под рубашек брошюры и туристические проспекты. Не только о Д., вообще о Федеративной республике. Рубашки, как заметила Паула, были белые, отутюженные. Может, и крахмальные. Мать постаралась, говорит он.
Интересно, спросил Феликс, как люди тут относятся к прошлому?
Как везде, ответила Паула. Твердят, будто знать ничего не знали.
Урбан, кажется, не столь эмоциональна. Бывала, говорит она, в замке на экскурсии. Правда, очень давно. И добавляет: Провинция есть провинция.
Паула разглядывает руки девушки, спокойные, сухие. Улыбка ее гаснет, ведь Урбан вовсе не стремится любой ценой произвести выгодное впечатление.
Тебе хорошо здесь, сказал Феликс воскресным утром.
Да, конечно. Уважение, профессиональный опыт, ежедневные планы и спокойное течение жизни, несомненно, создают чувство уверенности, которое необходимо Пауле как воздух.
Освоилась, значит?
Устроилась, ответила Паула.
Ты стала другая.
Из кухонного окна виден ветхий домишко, который скоро снесут. Глянешь на него, и сердце вдруг сожмется от печали: ведь придет день — обязательно придет, хоть и неизвестно когда, — и хибара исчезнет с глаз.
Фройляйн Урбан не отказалась выпить с Паулой чашечку кофе.
По телефону, говорит она, речь шла о самостоятельной работе.
За первый же год, отвечает Паула, наливая кофе, решено увеличить основной фонд до двадцати тысяч томов.
С помощью компьютера, надеюсь, говорит Анетта Урбан и берет у Паулы чашку.
Нет, без компьютера… Молоко? Сахар?
Приблизительно твоя ровесница, рассказывает она Феликсу в машине, встретив его на вокзале в Д. Солнце светит прямо в ветровое стекло.
Девушка отнюдь не робкого десятка, весьма самоуверенная. Твердо убеждена, что имеет хорошую квалификацию и во всем разбирается.
На коленях у Феликса пластиковая сумка: оливковое масло, вино и гофио[22]. Эти испанские деликатесы он обнаружил в одной из лавчонок университетского квартала. Солнце слепит Паулу.
Я встретил друзей, зимой они уедут в Испанию.
По пути Паула урывками ловит впечатления внешнего мира. Поля уже не пахнут фосфорными удобрениями, как весной.
Нет, сказала она по телефону матери, на эти выходные я не приеду. И коротко добавила: У меня гости.
Ни слова о Феликсе, никаких признаний. Сдаваться на милость победителя она не будет. Только ночью приходит нежность к его телу, а он — он готов утопить ее в своей страсти.
В эту самую минуту Феликс перечисляет содержимое пластиковой сумки. Что гофио действует возбуждающе, он внушал Пауле еще на Лансароте.
О Лансароте у нее остались приятные воспоминания. А вот общаться с Феликсом изо дня в день — это совсем другое дело. С каким вкусом он произносит слово «возбуждающе». Добавить гофио в суп. В памяти мелькают отпускные слайды.
Так хочется быть откровенной, откровенной без слов. Просто ехать. В глубь страны. Отыскивать новый путь? Как полярная экспедиция.
На самом же деле Феликс сидит рядом, на соседнем сиденье, с сумкой на коленях, ноги у него чересчур длинные, поэтому коленки торчат высоко вверх; они вместе едут по дороге, которую Паула наверняка с легкостью одолела бы теперь и во хмелю, и во сне.
Смелость бунтовать означает смелость жить, писал он однажды.
А ты-то сам бунтуешь? — спросила она, когда он выкладывал из рюкзака белье. Ослепительно белое, как и сорочки. Трикотажные трусы и майки.
Уход из дому стоил ему долгой борьбы с самим собой, ответил Феликс.
Мятеж в родительском доме?
Я удрал, упрямо повторил он. Смылся тайком, забрал вещи и смылся.
Но дверью не хлопнул, весело заключила Паула. Ни скандала, ни споров. Вместо этого спокойно, исподволь ходатайствовал о стипендии, выискал предлог и даже о приятельнице вспомнил, чтобы наконец-то раз навсегда перерезать пуповину.
Слушай, говорит она, когда ты, собственно, подал прошение насчет стипендии? До нашего знакомства или после?
Феликс твердит, что она теперь и машину водит иначе: Мчишься прямо как в лихорадке. Паула пугается, когда он без обиняков говорит, что она боится всякого проявления чувств.
Ужасно, а главное, безотрадно — то ли дело, когда все аккуратно завернуто в пластик. В боковое окно вливаются запахи. Летом в природе царит идиллия. Словно так будет во веки веков и никогда не придет сюда ни погибель, ни разрушение… Безумная гонка среди палисадников, петуний и ящиков с бегониями.
Паула жмет на акселератор. Феликс растерянно цепляется за крышку перчаточного отделения. На всякий случай. Держится за жизнь.
Извини, говорит Паула, переключает скорость и тормозит.
Не надо волноваться. Ничего страшного. Она его просто напугала.
Что случилось? — спрашивает он.
Только не темнить. Она еще никогда не теряла присутствия духа. Вот и сейчас предлагает ему погулять. Пройтись по земле.
Ели, как повсюду в немецких лесах. Деловая древесина, притом не дешевая.
Забавно, говорит Паула. С тобой тоже так бывает? У меня, например, есть воспоминания, от которых я не в силах отделаться. Скажем, запах болота. Я буду чувствовать его, даже когда от болота не останется следа.
Феликс что-то рассказывает о квадратном стеклянном ящике, в котором иногда видит себя самого.
Но только я один себя и вижу. Другие, не глядя, проходят мимо.
А как вы хотели? — сказала фройляйн Фельсман в ответ на сетования Паулы, что этажом выше до сих пор помалкивают насчет передвижки для домов престарелых. Старая дева раскраснелась: от жары у нее поднялось давление. Все идет своим чередом, по инстанциям. Нельзя же рассчитывать, что такой вопрос решится с бухты-барахты.
Непонятно, почему в эту жару Паула не открывает окна; на улице поливочная машина разбрызгивает воду по брусчатке, а тут, в комнате, фройляйн Фельсман еле дышит.
Вижу, очень вас жара донимает, сказала Паула.
Нет-нет, что вы! — энергично запротестовала фройляйн Фельсман, отвергая, отметая всякое сочувствие. Скоро пройдет.
Ей бы хорошо подержать руки в холодной воде.
Случись с Фельсманшей обморок, от Паулы толку не жди: она понятия не имеет, что надо поднять вверх — голову или ноги.
Видимо, у вас нелады с давлением, заметила Паула.
Я совершенно здорова, отрезала фройляйн Фельсман, но больше уже не заикалась о том, чтобы открыть окно, предпочла говорить, что она в полном порядке. Беспокоиться не о чем. Почту я положила вам на стол, добавила она.
Нет, она не прогнала его.
Пока можешь, конечно, пожить у меня, сказала Паула.
Мало-помалу жизнь у них наладилась. Феликс слишком порывист, но от этого она его отучит, думает Паула. Должен же он в конце концов понять, что одно дело — ночь и совсем другое — день.
Утром она начинает его тренировать. Спрашивает: Как ты спал?
Хорошо, отвечает Феликс; ей хочется, чтобы он держался на расстоянии, но не тут-то было: он так и норовит невзначай прикоснуться к ней или подойти да обнять, когда она стоит у плиты и варит кофе.
Обнимая ее за шею, упершись подбородком ей в волосы, он наблюдает, как она льет в кофейник кипяток. Ты красивая, говорит он.
Может статься, он с радостью улегся бы у ног Паулы, как некогда Руфь у ног Вооза. Но Паула такого не допустит. На отдыхе она, конечно, слегка расслабилась, поддалась скороспелому чувству и теперь просто обязана добиться, чтобы он вел себя так, как она требует того от других.
В душе он на нее обиделся.
Стеклянный ящик? — переспрашивает Паула.
За стеклом мы держим драгоценности. Безделушки. Или рептилий в террариумах. А иной раз и чучела хищных птиц на шкафах в классной комнате. Прямо как живые — знай срисовывай да описывай. Наглядное пособие: вольные охотники за дичью, выпотрошенные, вычищенные, обезжиренные, обработанные инсектицидами.
Как он только до этого додумался — видеть себя со стороны, да еще в стеклянном ящике?
3
На ней цветастая блузка с воротником-стойкой. В ушах клипсы. На груди эмалевая рыбка. Подбородок хищно выдвинут вперед.
Старики, говорит она, в прошлом много выстрадали.
Под окном бегонии. В комнате ветка сирени и запах мастики.
Вы слишком молоды и не помните, продолжает она.
Да, соглашается Паула, мои воспоминания начинаются с денежной реформы[23].
В общем, нельзя сказать, чтобы у наших подопечных с возрастом уменьшались культурные запросы, но вот живость и энергия год от году притупляются. А кроме того, глаза слабеют, добавляет она, и пальцы ее тянутся к брошке. Кстати, муниципалитету известно про ваш план? Мы ведь как-никак учреждение городское.
Я знаю, отвечает Паула, терпеливо, упрямо. Потом рассказывает о советнике по культуре, о своих полномочиях. Нет, качает головой директриса, муниципалитет меня пока не информировал.
Вы не думайте, я ничего вам не навязываю, говорит Паула. Просто вношу предложение, и все.
Провожая ее к двери, директриса рассуждает о Фонтане, которого время от времени перечитывает.
Руки у нее такие же хищные, как подбородок. Паула исчезает в ее когтях.
Мой муж, сообщает директриса, был пастором. Мы приехали сюда в тридцать пятом, из Шлезвига.
Тоскуете по небесному простору? — спрашивает Паула.
В войну она так намучилась, рассказывает пасторша: и дочку потеряла в первые же дни, и угля не было, а тут еще беженцы весь дом заполонили.
До неба ли тут?
У молодых, говорит она, сил хоть отбавляй.
Паула смотрит, как Феликс в ее тесной кухоньке принимается чистить овощи.
На что ты, собственно, рассчитывал, когда ехал сюда? — спрашивает она.
Он повязал ее фартук с таблицей калорий на животе и фруктовым орнаментом. Этот фартук Пауле подарила сестра на новоселье. Она прислушивается к кухонному шуму, к плеску воды, бегущей по зеленому луку и моркови, к стуку ножа, режущего картофель и луковицы.
Твоя страна, говорит он, дольше моей сражалась со смертью… А дома меня в кухню не пускают, замечает он немного погодя. Сама Паула стряпать не любит, хотя чужое кулинарное искусство приводит ее в восхищение.
У вас, у немцев, писал он, наверное, все мысли аккуратно разложены по полочкам.
Ночи, когда он приехал, и вправду были светлые — лето как-никак.
Феликс натирает оттаявшего цыпленка чесноком. Руки его до утра сохранят этот запах. Паула внушает себе, что ей это совершенно безразлично.
Осталось добавить в суп шафрана.
И украсить салат консервированными сардинами и ломтиками крутого яйца.
Ностальгия? — спрашивает Паула.
Ностальгический обед, отзывается Феликс. Пока не настоящая ностальгия.
Отгоняет тоску?
За обедом он кладет ей в суп две полные ложки гофио, рассуждает об Испании.
Паула ничего почти толком не знает. Франкистская диктатура ее не коснулась.
По-твоему, выходит, вся страна давным-давно была против Франко. Почему вы тогда ждали, когда он умрет своей смертью? — спрашивает Паула.
Легко сказать, отвечает Феликс, это вы тут за тридцать лет привыкли к демократии.
Фантазер, говорит Паула, все в облаках витаешь?
Ты никогда не сталкивалась лицом к лицу с насилием, говорит он, и ей чудится, будто весь мир тяжким грузом давит ему на плечи.
Даже об изнасиловании знаю только понаслышке, нарочно бросает она, чтобы остудить его пыл. Твоя горячность просто пугает меня.
В угоду Пауле он сбрызнул цыпленка коньяком. А хладнокровия нет и в помине, он горячится все сильнее.
Они пытали узников в тюрьмах, всего за два месяца до смерти Франко расстреливали осужденных, не оставляя им никакой надежды на пересмотр приговора.
Слушай, говорит Паула, тщетно пытаясь проглотить кусок, ну почему надо непременно рассказывать о таких вещах за едой?
Будь он старше, он бы волей-неволей контролировал свои поступки. Годы притупляют чувства. Естественный износ.
Доверие за доверие. Советник положил руку Пауле на плечо. Они стоят у входа, возле статуи матери с ребенком. Прохожие один за другим спешат мимо витрин сберегательной кассы, точно автоматы.
Нам бы следовало кое-что обсудить. Первым делом надо заручиться поддержкой, а уж потом браться за осуществление нашего замысла. Иначе мы только создадим себе неприятности. А кому это нужно?
Рука, лежащая на плече Паулы, влажная, хотя жара к вечеру спадает.
Такого зноя, говорят, не было лет сто.
Он застал Паулу врасплох. Неслышно подошел сзади, как раз когда она запирала стеклянную дверь. Фельсманша до смерти обрадовалась, по ней видно.
Вы слишком нетерпеливы, продолжает он. Всему свое время. Не стоит забегать вперед начальства. Не дай бог, рассердится.
Мы что же, так и будем здесь стоять? — говорит Паула.
Он убирает руку.
Машина его на стоянке, там же, где машина Паулы; двор сплошь залит асфальтом. Паула почти не слышит шагов советника, а ведь он идет рядом.
Долго ли мне еще ждать? — спрашивает она.
В таких делах сплеча не рубят. Паула открывает дверцу машины, кладет сумку на заднее сиденье.
Вы не думайте, я не забыл, говорит он. Пока можно заняться другими мероприятиями. Мы ведь как будто намечали провести летом первые писательские чтения?
Летом? Паула опускает боковое стекло.
Я хочу сказать… Вы же не откажетесь от этой привилегии. Кстати, вам известно, что у нас в муниципалитете есть настоящий поэт? Он и родом отсюда, и живет здесь, и чины имеет. Неплохо для начала, а?
Мы работаем не ради галочки в отчете, тут нужна серьезная подготовка, отвечает Паула, садясь в машину.
И все-таки обдумайте мое предложение, говорит коротышка советник, прежде чем захлопнуть дверцу, которую Паула вообще-то хотела закрыть сама. Я слыхал, обер-бургомистр, как патриот родного города, согласен выступить безвозмездно.
С запада мчатся большие пассажирские лайнеры. Сесть в самолет, подняться в небо, улететь?
Не торчать по субботам у пруда. Не стоять по щиколотку в иле, рядом с консервной жестянкой. С высоты все кажется таким чистым.
Против вращения Земли. Острова в иллюминаторе. Не то что здесь — сидишь с Феликсом среди липких оберток от мороженого, смотришь на купающихся ребятишек, на парней и девчонок, которые сбегают с откоса и плюхаются в воду прямо в майках и джинсах, оглашая воздух громкими криками.
Ветер прибил хлопья пены к другому берегу. Под майками у девчонок круглятся груди. Паула глядит на мокрых до нитки ребят. Феликс шевелит рукой.
Паула не говорит: давай и мы тоже, как они, — кто его знает, вдруг Феликс заартачится, да и самой что-то не слишком охота скакать в воду в юбке и блузке.
Годы не те, чтоб сидеть в мокрой блузке, которая от воды липнет к телу и становится прозрачной. А вот девчонки — все не старше семнадцати, — девчонки в себе уверены, да еще как.
Зайдя в воду, можно украдкой прижаться к Феликсу. При мысли об этом ей становится весело. Солнце — это вам не гофио.
Она кладет руку Феликсу на бедро, гладит его кончиками пальцев.
Адриатика, говорит Паула, тоже не больно чистая.
Седьмая утренняя беседа с Паулой
Неужели я вправду ждала, что она без приглашения явится к завтраку, будет есть мои булочки, пить мой кофе, курить мои сигареты и не станет впутываться во все остальное?
На ней мои тапки. Меховые, которые я купила, чтобы спастись от холода в доме, и тщетно искала сегодня утром возле кровати.
Ты извини, говорит она, но у меня закоченели ноги.
Можно сказать и так, вставляю я, как мне кажется, с насмешкой.
Паулу это как будто бы забавляет.
Не понимаю, говорит она, отчего ты встречаешь меня в штыки. Так нужно?
Вчера перед сном я спросила себя: интересно, перед тем как принять Паулу на работу в Д., проверяли ее, как всех государственных служащих, на предмет благонадежности или нет? Это очень важный момент, его нельзя просто взять и опустить.
Вот и спрашиваю теперь: Они проверяли, в ладах ли ты с нашей демократией?
Возможно, отвечает Паула, даже не думая отдавать мне тапки. Только все равно ничего нашли.
Значит, и в демонстрациях не участвовала, и против атомных электростанций не выступала, ни в коммуне, ни в жилтовариществе не состояла, в высотных домах не жила, регулярно платила за квартиру и электричество — конечно, отнюдь не вперед и не за других?
Возможно, говорит Паула. Но меня ведь взяли на работу. Выходит, ничего у них против меня не было.
Только раз в самое что ни на есть мирное время были у меня странные разговоры с одним коллегой из Рима, продолжает она. Ты знала, что, когда искали похитителей христианского демократа Альдо Моро, генеральное консульство ФРГ в Италии потребовало, чтобы филиал Института Гёте оказал помощь в розыске и ежедневно подавал отчеты о деятельности своих сотрудников?
И как же?
Мне известно только об этом требовании, говорит Паула. Разве кто может с уверенностью сказать, следят за ним или нет? Ты можешь?
Нет, вынуждена признать я. Правда, вот с телефоном бывают неполадки. То эхо в трубке, то щелчки, то вообще мертвая тишина, впрочем ненадолго — когда поговоришь с кем-нибудь и тотчас звонишь в другое место.
Ты еще ни разу не попадала в облаву?
Когда похитили шефа Союза предпринимателей[24], говорю я, помнишь — на каждом шагу пулеметы и полицейские патрули, магистральное шоссе точно вымерло, зато по деревням в объезд шли колонны автомашин, — я тогда носа из дому не высовывала.
Значит, на дороге тебя не задерживали и не проверяли.
И в доме ничего не искали. Да и зачем?
Должна ведь соображать, что мне никак нельзя студить ноги. От холода я заболеваю.
Куда ты пойдешь, если однажды тебя все-таки выгонят из норы, как крысу?
По слухам, Франц Йозеф Штраус иначе представляет себе «красных крыс» нашего века, говорю я.
Куда же?
Есть у меня план воплотить в жизнь одну утопию: купить землю — скажем, где-нибудь в Ирландии, — построить там деревню и поселиться вместе с людьми, которые пишут, или занимаются живописью, или сочиняют музыку, или вообще просто думают.
Все-таки скажи куда.
В Роттердам, говорю я (до смерти хочется обратно в теплую постель!). В Роттердаме у меня друзья, они меня приглашали. Голландия и раньше кое-кому давала пристанище.
Куда? — упрямо твердит Паула.
Ты стараешься запугать меня. Так нельзя, говорю я.
При чем тут запугивание? — спрашивает она. Ты же понимаешь, что все это приметы безумия. Тебе поэтому страшно? И продолжает: В Д. про террористов никто не заикался. Произнести это слово вслух и то уже считалось неприличным.
Наконец я спрашиваю Паулу, не поменяться ли нам обувью: я отдам ей уличные туфли в обмен на тапки.
Шевелюра ее напоминает темные густые волосы моей бабушки, которые она подарила мне на рождество для фарфоровой куклы. Я уронила куклу, и голова ее разлетелась вдребезги, но — без единой капли крови.
Почему ты не сказала, что тебе плохо, когда мерзнут ноги?
Она встает, обходит вокруг стола, садится рядом со мной на корточки, велит снять туфли и чуть ли не любовно помогает надеть теплые меховые тапки. Что это с ней?
Официально они на тебя, стало быть, не давили, говорю я. Не преследовали.
Нет, отвечает Паула.
Она быстро поднимается с колен, будто поймала себя на неблаговидном поступке.
Впрочем, уволить куда легче, ни забот, ни хлопот, вставляю я.
Верно.
И что тогда?
Откажусь увольняться, объясняет Паула. Я имею на это полное право.
Демократическое?
Последнее, на крайний случай.
4
Авторские чтения. Надо успеть провести их до каникул. Пока народ не разъехался.
Вообще-то Паула хотела начать осенью, заняться внедрением культуры, когда дни станут покороче.
Но коротышка советник настаивал, пришлось согласиться.
Лучше уж сразу взять быка за рога, не то останешься с пустыми руками. А тогда — прощай, самостоятельность.
Значит, нужно внести свое предложение. Почему обязательно кто-то из местных? Лучше пригласить какого-нибудь крупного писателя. М. рядом, так что организационные вопросы можно утрясти очень быстро.
Практически рукой подать, улещивает она по телефону, объясняет ситуацию: Библиотека новая, только-только открылась. С литературной точки зрения у нас тут самая настоящая целина.
Она призывает оказать содействие. Помочь делу.
И впервые слегка запинается, прежде чем выговорить название города.
Почти с беглостью германиста-немца Феликс процитировал Генриха Бёлля, которого проходят в университете. Насчет сопричастности истории народа, которым ты рожден.
Паула взъерошилась. Заговорила о случайности. Дескать, нечего тут кивать на родителей.
Все оборудовано, устроено, отлажено — Паула отнеслась к фонотеке и авторским чтениям не просто как к любимому детищу своего кормильца, она и сама увлеклась. Определенную роль сыграло здесь и честолюбие.
Поначалу еще неуверенно, опершись свободной ладонью о стол, стараясь скрыть робость, она спрашивает о гонораре.
По книгам она представляла себе его голос совсем иначе.
Он явно помедлил, услышав, что речь идет о Д., но, должно быть, то ли голос Паулы, то ли ее решительное согласие на гонорарные требования настроили его на дружелюбный лад.
Как и следовало ожидать, она мыслила себе авторские чтения вовсе не так, как советник.
Нет, возражала она, все будет как обычно. Без музыки. В крайнем случае цветы. На столе. В сочельник можно зажечь свечу. А летом отворить только одно из окон, чтобы проезжающие грузовики не очень мешали.
Паула впервые устраивает авторские чтения самостоятельно. В Киле она этим почти не занималась. Только изредка помогала шефу. Вечером сидела с ним рядом.
Как была неприметная, так и осталась. Что тут, что там. Выбиваться из бюджета она себе не позволит. Надо просто по-умному скалькулировать расходы. Лишь бы не сорвалось.
Рисковать не стоит. И горячиться тоже. Хотя Паула всегда была достаточно хладнокровна.
В это время года, как обычно, большой наплыв иностранных туристов. Феликс теперь привлекает внимание разве только в деревне. Паула чувствует, что на них обоих глядят неодобрительно.
Надолго ли останется ваш гость? Паула знает, хозяйке трудновато выразить свои мысли. Ей привычны лишь слова из повседневного обихода. Летом она подстригает газон для жильцов, ноги у нее в комариных укусах, на голове платок. С виду она старше мужа. Даже когда по воскресеньям надевает выходное платье.
У Паулы и в мыслях нет сознательно бросать вызов привычному окружению. Даже то неодобрение, которому она нечаянно дала повод, оставляет у нее в душе скверный осадок.
Выходит, сама себе устроила неприятность? Но так или иначе, надо решать, и она принимает решение наперекор скверному осадку — это ведь просто чувство. В провинции все на виду, и хочешь не хочешь, а придется с этим считаться, не то уронишь себя в глазах соседей.
Спокойно и трезво перечитать квартирный договор, ведь не исключено, что по какому-то пункту она не права. В договоре, однако, нет ни слова про запрет сдавать угол.
Чужих встречают недоверием, и недоверие это тем сильнее, чем большее расстояние отделяет чужого человека от его родины, — вот в чем штука. Фройляйн Фельсман воспринимает туристов как обузу. А Феликс твердит, что со временем к нему тут привыкнут.
Паула могла бы научить его играть в «дурака», чтобы в трактире за картами он подружился с крестьянами. Но она в этом ничего не смыслит.
До самого вечера она изнывает от страха, что публики не будет. Вновь бежевые пластиковые стулья, на сей раз их ровными рядами расставляет Анетта Урбан под надзором фройляйн Фельсман.
Молодая сотрудница — человек деловой и здравомыслящий. Инициативы у нее хоть отбавляй. Она убеждена, что компьютеры необходимы и в небольших библиотеках. Настало время разделить каждодневный труд с компьютером. Работать с Анеттой легко.
Изредка заходит разговор о том поколении библиотекарей, которые во имя дотошного порядка в каталоге взваливали на себя неимоверный труд.
А ведь эти задачи вполне поддаются программированию, заметила Урбан.
Паулу не оставляло ощущение, что деловитость этой девушки не что иное, как пренебрежение к человеческому труду.
В конце концов Паула поручила ей отдел детской и юношеской литературы: пусть накапливает практический опыт.
Поставить шпюриевскую «Хайди»[25] рядом с Розой Люксембург?
Будьте осмотрительны, посоветовала Паула, но не сказала: будьте осторожны. Читательские привычки надо менять исподволь, а не наскоком. Максимализм тут неуместен.
Нет, Урбан не максималистка. Она целеустремленна. Утопий, с которыми носится Феликс, эта девушка себе не позволяет.
Фройляйн Фельсман отнеслась к новенькой настороженно. Ошибок за девушкой как будто пока не замечается, но нужен глаз да глаз.
Придется фройляйн Фельсман по-иному взглянуть на нашу общую профессию, сказала Анетта Урбан, проработав в Д. всего дня два-три. Чем больше библиотекарь заботится о читателе, тем труднее ему самому. Она хоть когда-нибудь интересовалась новинками, читала крупные ежедневные газеты, следила за критикой? Я имею в виду не обязательно Райх-Раницкого[26].
Да ведь он единственный, отвечает Паула, наблюдая за Фельсманшей: та вновь проводит ладонью по спинкам стульев, проверяет, ровно ли они стоят. Одного промаха Урбан ей будет вполне достаточно.
Читала она его или нет?
Ну как же, читала — с благоговением и восторгом впитывала каждое слово: кого он погладит по головке, обласкает, кого накажет. Вот это техника, говорит Паула, с ума сойти!
Обер-бургомистр и советник по культуре, конечно же, не преминули явиться вместе, притом раньше гостя. Анетта Урбан держится с ними на равных.
Значит, вы и есть молодая сотрудница, которую мы приняли на работу, слышит Паула голос обер-бургомистра, он обращается к Урбан.
Нужные сведения об авторе Паула распорядилась передать советнику еще несколько дней назад. Короткое вступление, которое познакомит публику с гостем. Фельсманша стоит в коридоре; здравствуйте, здравствуйте, повторяет она, кивает, смотрит, как люди вешают на крючки в гардеробе свои зонты. Под вечер погода испортилась.
Автора сажают за украшенный цветами стол; окно распахнуто, на улице шумит дождь.
Наперекор всем традициям публике его представляет не Паула, а обер-бургомистр, который изо всех сил старается пробудить в согражданах благожелательный интерес. Именно его огромные фотопортреты глядели с афиш, призывая обитателей Д. посетить писательские чтения. Но когда на организационном совещании Паула предложила в конце устроить дискуссию, он сказал, что не стоит портить вечер пустыми разговорами.
Или, по-вашему, в этом есть необходимость?
И вот поднимается девушка лет шестнадцати, самоуверенная, как Урбан: она интересуется подоплекой событий, подробностями немецкой истории, которых не нашла в романе, а в ответ слышит о литературной обработке исторических материалов и о том, что главное внимание уделяется, судьбе отдельного человека, а не невзгодам людских сообществ… Не так давно, когда они ели цыпленка, Феликс объявил, что страх смерти на Западе сильнее надежды на жизнь.
На какую жизнь? — спросила тогда Паула.
Под конец обер-бургомистр говорит, что вот, мол, и в Д. есть вдумчивая молодежь, которая не боится открыто поднимать сложные вопросы.
Когда Феликс появляется среди стеллажей, Фельсманша отрывается от книги, смотрит на него и заключает: чужой.
Она сидела за украшенным цветами столом, раскладывала по алфавиту книги писателя, которые скоро вновь вернутся на полки.
В руках у Феликса аккуратный белый сверток с синей надписью — рубашки, он взял их сегодня из прачечной.
Я за тобой заеду, предупредила его Паула, жди меня лучше на вокзале.
Стулья убраны; фройляйн Урбан давно ушла домой.
Чересчур много Бёлля и Вальрафа, сказал на прощание советник, уже были нарекания. Видимо, вам бы следовало поменьше ориентироваться на свой кильский опыт… Яркий конус света от настольной лампы выхватывает из темноты лицо Паулы; Феликс подходит ближе.
Я успел на более ранний поезд, объясняет он.
У дверей гардероба их поджидает Фельсманша.
Пожалуй, я задержусь, если вы не против, говорит она, расставлю книги. Чтобы в понедельник все было на своих местах.
Да-да, пожалуйста. Паула протягивает ей ключ. Руки у Фельсманши белые-белые.
Город будто вымер.
Только светятся витрины магазинов, мимо которых с наступлением темноты никто почти и не ходит.
В первый раз, когда Паула через безлюдный город везла Феликса к себе домой, он даже рассердился. Добро бы зима — тогда понятно: люди попрятались от холода.
Теперь же пустынные улицы напоминают ему о комендантском часе, город словно бы на военном положении. С каким, наверное, ужасающим грохотом катились некогда во мраке по брусчатой мостовой чумные телеги.
Ботинки у Феликса с подковками.
Давай немножко пройдемся, предлагает он, спустимся вниз по холму. Феликс берет Паулу под руку, вернее сказать, за плечо, ведь рядом с нею он такой огромный — прямо медведь на задних лапах.
Он уверен, что этот город можно полюбить.
Старый город еще куда ни шло, говорит Паула, это почти музей.
Не как у нас.
Среди желто-бурого ландшафта — каменная громада мавританской крепости.
Оборонительные стены срыли, говорит Паула. От Бастилии тоже ведь следа не осталось.
Бастилию снесли французы, говорит Феликс, и Паула слышит в его голосе легкую иронию. Вы-то, по-моему, совершенно не способны до такой степени потерять голову, чтобы снести какую-нибудь бастилию? У вас даже революции не было.
Предметы живут долго. Тебе нравится островерхая безмятежность старинных домов? — спрашивает Паула.
На рыночной площади ни души. Только плещется вода в фонтане.
В витрине магазина — дорогая стереоустановка.
Почему ваша фройляйн Фельсман так не любит туристов? — неожиданно спрашивает Феликс.
Пауле хочется назад в машину.
Стук подковок в ночной тишине раздражает ее.
5
У Паулы все в порядке. Правда. В порядке ли? Ее будущее точно определено. Доподлинно известно, чего она хочет. Поразить влет птицу, которая и не птица вовсе.
Нет, пока она не чувствует себя пленницей. В замкнутом пространстве. Дышится ей легко. Разве что изредка теснит грудь, но, вполне возможно, тут виноваты микробы.
Дремать, как дремлют устрицы… Феликс, стоя перед зеркалом в ванной, вооружился маникюрными ножницами и цитирует «Смерть Тициана»[27].
Покорно ждать, что будет, говорит он и, перед тем как подровнять усы, проводит по ним гребешком. И примириться с тем, что наступит. В здешнем окружении ты временами видишься мне именно такой.
Один ты, конечно, не устрица?! — огрызается Паула.
Ровненько подстричь усы маникюрными ножницами — задача не из легких.
У нас дома, замечает Феликс, мама покупает перекись водорода. А эта твоя краска только все испортила.
По-моему, цвет тебе к лицу, утешает Паула.
Немного погодя она завтракает на кухне, одна. Съедает бутерброд выпивает две чашки кофе, прочитывает изрядный кусок газеты — наконец из ванной выходит Феликс.
Замечательно, одобряет она. Может, все-таки возьмешь мою машину? На велосипеде и прическа и усы опять растреплются.
А почему бы им не съездить к мемориалу вместе?
Нет-нет, поезжай один, говорит она, у меня нет времени.
Суббота, небо за окном синее-синее.
В ракушку прячешься? — спрашивает Феликс.
Паула привезла домой из библиотеки газеты и журналы и теперь стоит на своем: как она решила, так и будет.
Отговорка, машет рукой Феликс.
Она поставит на лужайке за домом шезлонг, вынесет газеты, какое-нибудь питье, вооружится карандашом. Словом, воспользуется своим правом на сад.
Отговорки, повторяет Феликс.
Боится?
Ты ведешь себя точь-в-точь как сотни и тысячи других туристов.
В конце концов он едет один и машину не берет. На велосипеде по холмам, которые с шоссе кажутся такими пологими.
Зря упираешься, сказала ему Паула, по-прежнему ощущая свое превосходство. Ведь вернешься совсем разбитый.
Не так уж это и далеко, возразил Феликс.
Все равно намаешься.
А указатель там есть?
Феликс минует окружное управление. Указатель, говорила Паула, не белый, как те, что ведут к замку или к вокзалу. Он желтый, территория бывшего концлагеря обозначена желтой табличкой, словно все это не имеет к городу ни малейшего касательства. Вне стен.
Среди кустов черной смородины, чьи толстые ветки тяжело свисают до самой земли, Паула просмотрела рецензии на первые осенние новинки, вышедшие уже летом. Она не обедала, решила дождаться Феликса.
Вот и он, брюки и рубашка мокрые от пота. Над головой рев авиационных моторов. Истребители прочерчивают узорами инверсионных следов небо, розовое в лучах заката.
Так они беснуются лишь в погожие дни. До двадцати двух ноль-ноль слушатели близлежащей военной академии преодолевают звуковой барьер: на земле шлифуют их умственные способности, но ведь и летную квалификацию надо сохранить.
Сюда! — окликает Паула; Феликс втаскивает велосипед во двор. Ей хорошо видно, как он ступает на дорожку, ведущую от дома к лужайке.
Ужинают они в кухне. Окно закрыто. Полицейскую машину, которая под рев истребителей неслышно въезжает на соседний участок, Феликс замечает первым. Ведь темнота сгущается медленно.
Пауле странно, что он пугается. Это на него не похоже.
Что случилось? — спрашивает она, идет к окну и долго смотрит наружу, хотя то, что она там видит, отнюдь не ласкает взор.
Непривычное зрелище. Даже гротескное. Она с радостью цепляется за первое, что приходит в голову. Всего-навсего съемка безобидного эпизода на фоне густеющих сумерек. Теперь часто снимают по деревням. Сцены из истории крестьянства. Для вящей достоверности — именно там, где все когда-то происходило.
Паула — сторонний наблюдатель — чувствует себя здесь, под прикрытием стен, в полной безопасности, смотрит: вот они растекаются по участку, с пулеметами, со слезоточивым газом. С овчарками на поводке.
Как обухом по голове — мысль, что происходит что-то не то. Внезапное ощущение опасности, угрозы. Точно прикованная, не в силах оторвать глаз от окна, Паула растерянно следит, как полиция окружает хибару, предназначенную на слом.
Это ученья, твердит она себе, эта Паула, которая в детстве пела, спускаясь в погреб. Конечно же, ученья — отработка облавы на террориста.
Тихо в деревне — никто не шумит, народ не сбегается. Только дети поодаль, наблюдают: полицейские — воры…
Но ведь там живут, говорит Паула. Югослав пока не уехал.
Главное — не паниковать. Это же только статисты у кулисы реальности, вдруг попавшие в поле зрения.
Может, югослав за деньги согласился им подыграть, гадает Паула.
Как в кино, приказ: Выходи! Руки вверх! Паула слышит эту команду сквозь закрытое окно.
Кому-то придется изображать врага.
Потом — слезоточивый газ. Отступили и швырнули в окно гранату.
Ученья? — переспрашивает Феликс, на этот раз держась подальше от Паулы. Ты уверена, что это ученья?
К чему ты клонишь?
Внизу какой-то человек выходит из хибары. Прикрывает глаза локтями. Это он от газа.
Ты уверена, что они сюда не придут? — спрашивает Феликс.
Паула смотрит, как того парня уводят. Потом оборачивается.
Конечно, не придут, говорит она, мы-то с тобой им на что?
Феликс зябко ежится.
Ежится? В разгар лета?
Холодно здесь, говорит он, вот уж не думал, что у вас такой холодище.
У нас не замерзают, отвечает Паула.
Она тащит его в ванную, ставит под горячий душ, намыливает, смывает пену. Докрасна растирает его тело, которое кажется ей таким красивым, а сама вымокла до нитки — брызги от душа летят во все стороны. Груди под блузкой напряглись.
Лава рухнула в море — и застыла.
Представь, что мы не здесь, а там, говорит Паула. Закрой глаза и живи воображением.
Или давай заведем ребенка.
Нет, говорит Феликс, никаких детей.
Никогда Паула не сковывала себя привязанностями, она ревниво оберегает свою независимость и готова скорее оттолкнуть мужчину, нежели принять его как должное, ей ничего не стоило сказать: «Ну чего ты ждешь, святая простота?»— затем только, чтобы он утратил ощущение своей исключительности; она сделала из любви всего-навсего чувственное наслаждение — и вот эта Паула ловит себя на том, что простая симпатия переходит в нечто куда более сильное, что ей нравится властвовать над этим парнем, которому она могла бы быть старшей сестрой; он устало замирает у нее на груди, а она, тáя от нежности, сжимает коленями его бедра, словно тесным объятием.
Наверное, так и было.
Вначале изумленно, потом испуганно глядит она на себя — разбирается в нежданном чувстве. Выкапывает его, очищает, как древнюю реликвию, найденную при раскопках.
Паула, всегда разная — в библиотеке, в постели, ночью, среди дня, — Паула забыла обо всем, уронила себя.
Это настигло ее в одно из тех редких мгновений, когда их с Феликсом уже ничто не разделяет, когда наслаждение, точно откуда-то извне, огненным вихрем вторгается в мозг, вплавляется в обе половинки ее существа, в ее цельный мир. Внутреннее и внешнее совмещаются и перемешиваются — она убегает из-под собственного контроля, безвозвратно.
Возможно, что она, птица в полете — на сей раз и вправду птица, — идет на риск, которого с шестнадцати лет избегала.
Променяв порядок на хаос, она едва ли будет теперь регулярно видеть во сне каталожные ящички. Феликс, сонный и умиротворенный, поворачивается на бок, с брюзгливым смешком, как и еженощно, забирается под перину, которую Паула, кстати сказать, могла бы на лето заменить шерстяным одеялом, подоткнув его в ногах и с боков под матрац.
Испанец, объясняет Паула Фельсманше, когда обе они вешают в гардеробе мокрые плащи. Вы уж извините, но в пятницу я никак не могла задержаться, добавляет она.
Фройляйн Фельсман никакого отчета не требует, кивает и аккуратно одергивает задравшийся джемпер. Ее не проведешь.
Думаете, она отперла нынче утром к приходу Паулы стеклянную дверь? Как бы не так. Ждала у входа и отдала ключ Пауле, потому что именно та несет материальную ответственность.
Ей бы не стоило мокнуть под дождем.
Извините, повторяет Паула.
Вам совершенно не в чем извиняться, отвечает Фельсманша, и Паула смотрит, как она чуть ли не любовно опускает зонтик острием вниз в круглое отверстие подставки. По утрам библиотека пахнет чистотой, сухим воздухом и немножко книгами. Проходы между стеллажами заполнятся читателями лишь к обеду, когда в школах кончатся уроки. Литературы они теперь выдают гораздо больше.
Пауле хорошо среди книг. Прямо как дома.
Может быть, вы все-таки утвердите мой выбор? — еще задолго до обеда спрашивает Анетта Урбан, ей хочется показать Пауле книги, которые она отобрала для выставки новинок детской и юношеской литературы.
Может, все-таки лучше «Хайди» в картинках и куперовского «Охотника» в новом издании?
Паула изумленно поднимает на нее глаза. Девушка охрипла. Неужто климат действует? Так скоро? Чтобы смягчить боль, Урбан обмотала шею шелковым шарфом и завязала его узлом; лицо правильное, почти лишенное выражения; немного косметики. Только морщинки в уголках глаз. А в остальном — будто сошла с журнальной фотографии. Блондинка. Постройнее Паулы, выше ростом и носит обычно широкие платья. Испытательный срок установлен до осени.
Ответственности боитесь? — спрашивает Паула.
Книжка по вопросам полового воспитания шокирует одну только Фельсманшу.
Нет, ответила Анетта Урбан, просто я готова идти на компромисс во избежание неприятностей.
Жара миновала, зарядили дожди, но Фельсманшу по-прежнему донимает давление. Паула смотрит, как она сортирует возвращенные книги. Кажется, будто ей очень трудно управлять движениями собственных рук. Будто в ней что-то разладилось. Свои недомогания: ломоту в суставах, шейный прострел, воспаление миндалин — Урбан объясняет вирусной инфекцией.
Температуры нет. Зато какой-то холод внутри.
Паула наливает фройляйн Фельсман чаю, пододвигает сахар и лимон. Та кладет одну-единственную ложечку сахару — чтобы не полнеть, вообще-то лучше бы сахарин, но говорят, теперь и от этого тоже рак бывает.
Паула старается не смотреть, как пожилая Фройляйн тщательно размешивает чай.
Вы когда-нибудь выезжали за границу? — спрашивает Паула. Например, в отпуск.
Фельсманша бросает на нее взгляд, полный недоверия, как на чужую.
Нет, не выезжала.
Значит, с автомобильным номером хлопот не было.
Так сказать, вросла корнями.
К лагерю, говорит фройляйн Фельсман, мы отношения не имели, никогда. И потом, он ведь лежал за пределами города, горячится она. А сам Д. всегда был обителью искусства.
Она ставит чашку на стол и поднимается, резко отпихнув стул коленом.
От второй чашки она отказывается. У нее все по плану, пора работать.
Расстройством движений Фельсманша напоминает Пауле птицу с подрезанными крыльями, которая тщетно пытается взлететь на карниз, изо дня в день, как только хозяева выпускают ее из клетки, предварительно заперев окна и двери.
Вполне возможно, фройляйн Фельсман находит усладу в незыблемом. Наслаждается пленом? Суетится в замкнутом пространстве. Отсутствие свободы стимулирует уход в себя. Вполне возможно, что из этого удается извлечь усладу. Только неясно для чего — для глаз или для нёба. Пауле становится страшно.
Нет, об этом он не говорит. Ни слова о контроле или о бдительном присмотре, под которым надо держать Паулу, покуда она не представит доказательств в том, что не является инакомыслящей оппозиционеркой.
Он забежал на минутку. На сей раз он — это обер-бургомистр. Пошел по стопам своего советника по культуре.
Наши новинки, сказала Паула, встретив его у стенда в отделе детской и юношеской литературы. Он листал книгу с картинками.
При виде его Пауле почему-то каждый раз приходят на ум огромные зерноуборочные машины, на которых крестьяне выезжают в поле. Дома они долго-долго выплачивали рассрочку за трактор.
Прекрасно, роняет он и едва ли не равнодушно ставит книгу на место. Потом продолжает: Кто с детства не сохранил в себе ощущения цельности и здоровья окружающего мира, тот не устоит перед реальностью.
Умолкнув, он выпячивает нижнюю губу и прикрывает ею тонкую верхнюю, в углах рта — энергичная складка. Деловой мужчина.
Нет, «Хайди» рядом с Розой Л. ставить не надо, сказала Паула, хотя Урбан еще колебалась…
До Розы он не дотрагивается, скрещивает руки на груди (он скрещивает их на груди до странности часто), отходит от стенда, чтобы полностью охватить его взглядом. Надеюсь, вам понятно, что я имею в виду, говоря о цельном и здоровом мире детства? Нельзя изображать мир этаким уродливым чудищем. Нельзя пугать ребенка.
Да кому же вздумается пугать детей?
Не надо вносить в ребячьи головы сумятицу. Дети ведь вырастут, станут взрослыми людьми.
Книги, говорит Паула, и детям служат для развития творческой фантазии и способности суждения.
С этим обер-бургомистр соглашается, но Паула понимает, что он-то имеет в виду книжки с картинками; снимая их со стенда, он непритворно восхищается яркостью красок и оформлением.
Недавнюю встречу с писателем он называет отрадным явлением. Только вот дискуссия едва не вышла из-под контроля, сетует обер-бургомистр (Урбан со свойственной ей безапелляционностью приписывает ему непомерное тщеславие и жажду прослыть авторитетом буквально во всем) и заключает: Впредь мы от дискуссий воздержимся.
Так и не прикоснувшись к Розе, он уже на пути к выходу замечает, что при отборе книг для юных читателей Пауле опять-таки надо избегать диспропорций, в наше время это самое благоразумное.
Я хочу знать о тебе все, говорит Феликс в темноте.
Не все.
Не все, то есть почти ничего.
Утопив голову в подушку, Паула смотрит на красный огонек сигнала для самолетов. Только изредка доносится шум проезжающего автомобиля.
По словам Феликса, в деревне царит кладбищенский покой. Как будто люди заползли в дома умирать. От ног к сердцу поднимается оцепенение — медленно, но верно.
Должно быть, та деревня, которую его отец во время гражданской войны[28] сровнял с землей, была точь-в-точь такой же.
У нас, объясняет он Пауле, жизнь каждого человека до сих пор тесно связана с семьей. Мы верим, что вина отца падает на сына.
А ты, ты сам веришь?
С того дня как умер Франко, отец трусливо держит на запоре все окна и двери. И я тоже боюсь, хоть и ненавижу отца. Только это не в счет.
В Германии холоднее, чем он думал. Незыблемый порядок в людских головах до крайности чужд ему. Он тянется к Пауле, нащупывает в темноте ее теплое плечо — она не отзывается. Оба долго молчат, наконец она спрашивает: Чего ты боишься?
Восьмая утренняя беседа с Паулой
Ты, говорю я, в сущности, эмансипированнее меня.
Нет, качает головой Паула.
Ты не связана, твержу я, то есть в конечном счете не пленница своего чувства к мужчине.
Я ей не мешаю: пусть располагается как дома. Она быстро освоилась, уяснила мою систему, знает, где найти кофе, масло, хлеб, сигареты. Когда кофе варит Паула, фильтр не рвется.
На ней мои туфли и вязаный жакет. Издали и со спины я бы даже спутала ее с собою. Только волосы другие.
Нет, я не Паула.
Поверь, говорит она, ты ошибаешься. Я никогда не стремилась к эмансипации. Осталась одна по чистой случайности — просто в нужную минуту рядом никого не было. Ну а после привыкла к независимости — стало быть, обзавелась привычками, которые для других весьма обременительны. Отдала свою жизнь на волю случая. По сути, я всегда жила как бы с краю. Даже в конце шестидесятых годов, когда казалось, что необузданный мятеж нашего поколения все-таки хоть что-то изменит, что-то сметет с лица земли, как полярную шапку, — даже тогда я держалась с краешку, а ты между тем уже подвергала себя опасности.
Написав книгу, говорю я, легче подвергнуть себя опасности, чем стоя на выдаче в библиотеке. Это заложено в самой природе вещей и вовсе не доказывает, что я была не с краю.
Задатки у нас были разные, говорит Паула. Я изначально примирилась с тем, что не устою перед требованием приспособиться.
Она наливает мне кофе, и я вдруг понимаю, что завидую ее рукам, ее черным волосам, маленькой груди, узким бедрам. Желание быть Паулой — какая нелепость! Вот если бы она опять надела на меня тапки. Взяла бы мою руку. Или обняла за плечи.
Почему она не может просто обнять меня за плечи?
Феликсу было с тобой нелегко, говорю я, ты держалась независимо и вовсе не жаждала непременно иметь рядом с собой мужчину.
Ты, говорит Паула и берет сигарету из пачки, которую я положила на стол, ты можешь, конечно, исходить из того, что Феликсова манера выставлять напоказ свои чувства действовала мне на нервы, можешь говорить о разном темпераменте и разном воспитании, можешь утверждать, что моя беда — в неспособности любить, в том, что я свожу любовь к одному только чувственному наслаждению.
Я щелкаю зажигалкой, подношу ей огонь. Феликс, говорю я, должно быть, вконец растерялся.
Я тут ни при чем.
Ошибаешься! Я начинаю горячиться, ведь все это очень мне знакомо, испытано на собственном горьком опыте, в семье, и в принципе понятно: душевные муки мужчины, когда его притязания на власть ставятся в конце концов под сомнение.
Именно Феликс, говорю я, выходец из культурной среды, где главенство мужчины от веку не подвергалось сомнению и, что называется, вошло людям в плоть и кровь — кстати, мы никогда не были настолько ортодоксальны, — Феликс, наверное, был совершенно выбит из колеи, обнаружив, что против отцов восстают у нас не сыновья, а дочери.
Думаешь, он до этого докопался? — спрашивает Паула.
Я смотрю, как она несет ко рту чашку. Губы ее приоткрываются, еще не коснувшись края. Мизинец по привычке отставлен.
Гораздо больше, говорит она, его смутило то, что он не нашел здесь той Германии, какую знал из литературы. Она существует только в книгах.
6
Погода резко меняется. За стеклами гостиных голубовато мерцают телеэкраны.
Если нет дождя, люди сидят вечерами на крылечках, кивают Пауле, которая время от времени прогуливается по деревне.
Феликс хоть и чувствует настороженность, которой его встречают до сих пор, но упрямо твердит, что теперь ему стало здесь намного уютнее.
Сердцевина не подпорчена. Только пятна на кожице выдают, что это — падалица.
Кто бы мог подумать, говорит коротышка советник, что вы с такой легкостью освоитесь в нашем городе. Ведь поначалу были опасения: дескать, вдруг вы из породы этаких завзятых спорщиков.
Но он за нее поручился. Старательная, эрудированная, вдумчивая — вот как он оценивает Паулу. Можно только поздравить себя с такой сотрудницей.
Нет, Паула никогда не была настолько наивна, чтобы принимать красивые слова за чистую монету.
Лицо и вся фигура фройляйн Фельсман прямо лучились немым удовлетворением, когда она сообщила, что советник по культуре желает побеседовать с Паулой.
В кабинете советника она застала и обер-бургомистра. Этот шьет свои костюмы на заказ, и сидят они лучше, чем у его советника. Только плечи у обоих одинаково подчеркнуты. С Паулой он держится строго официально.
Левые тенденции? — удивленно переспрашивает она.
Есть нарекания.
Роза Люксембург была коммунисткой, верно? — говорит обер-бургомистр.
Паула быстро догадалась о его беспомощности: он брал в руки только книжки с картинками, а ко всем прочим даже не прикасался, лишь украдкой пробежал глазами заголовки на корешках.
В мое время, говорит он сейчас, было значительно больше приключенческих романов. Но Молодежь, как видно, стала разборчивее.
Нет, это не вмешательство. Не регламентация. и тем более не допрос.
Паула хоть и не готова к таким нападкам, но может ответить цифрами. Чем-чем, а цифрами она всегда оперировала с легкостью.
Среди примерно четырех тысяч томов, составляющих отдел детской и юношеской литературы, говорит она, найдется максимум десяток книг так называемого левого толка. Что же касается произведений явно коммунистической направленности, то в предметном каталоге они так прямо и обозначены: тенденциозная литература. Что же тут неправильно?
У вас могут возникнуть неприятности с родителями.
В принципе все мы, конечно, на вашей стороне, уверяет обер-бургомистр. Только говорит он чуть громче обычного и, сам того не замечая, нервно тискает в кулаке собственный большой палец. Вспышек варварства нет и в помине.
А нравится ли Пауле здешняя жизнь?
Конечно, отвечает она, я люблю жить в деревне. Переехала сюда по своей воле. Спряталась в скорлупке, где все спокойно, все идет своим чередом, говорит она Феликсу. Пока на дворе день, кажется, будто жизнь тут еще не обкорнали, не выхолостили.
А ночью… что же, он сам говорил насчет кладбищенского покоя.
Так вот я и росла, говорит Паула, франконские деревни только чуточку тусклее, бесцветнее баварских.
О своей семье она почти не рассказывала, и Феликса это удивляло.
Нельзя же весь век быть пришпиленной к материнской юбке, заметила она однажды. Зато о младшем брате рассказывает охотно. По ее словам, он рано выплыл на вольный простор и удалился от берега намного дальше, чем рискнула она сама. Еще мальчишкой взбунтовался. Паула уверена: будь у отца хоть малюсенькая надежда, что сын когда-нибудь образумится, он бы нипочем не продал усадьбу.
Когда звонит мать и сообщает, что брат вернулся, Паула больше не отнекивается. На этот раз время у нее есть.
Сестра стоит на пороге, за спиной у нее, в передней, включен свет; лицо тонет в тени.
Это Феликс, говорит Паула и делает шажок в сторону, чтобы сестра могла увидеть его. Феликс протягивает руку, здоровается. Они входят в дом. Сумки им велено оставить в передней, у вешалки. Все семейство сидит в гостиной перед телевизором. Старый стоял в кухне, а этот — цветной. Прежде чем поздороваться с Феликсом, мать на миг прижимает руки к коленям. На экране — реклама какого-то стирального средства.
Приятно познакомиться, слышит Паула голос матери и обводит взглядом комнату: зять с дочкой на софе, а дальше — брат, встрече с которым она так радовалась.
Он не встает, только поворачивается в кресле, весело улыбается. Чем-то он отдаленно напоминает Феликса.
Садитесь же, говорит мать Паулы. В серо-голубом платье вид у нее отечный и нездоровый.
Сестра усаживает Феликса рядом с собой на софу. Девочка придвигается ближе к отцу.
Привет, Матиас! Паула быстрым движением ерошит брату волосы.
Позднее, за ужином — в честь Матиаса мать выставила обильное угощение, — Феликс сидит далеко от Паулы, между сестрой и ее дочкой.
Черный стал, как негр, говорит Паула брату, но выглядишь здорово.
Матиас поместился во главе стола, на отцовском стуле. В свое время он куда решительнее матери противился намерению Паулы стать не учительницей, а библиотекарем. Сам он читал только спортивный раздел в газете да грошовые романы с продолжением, сидел с ними в уборной, пока Паула не начинала стучать в дверь.
Вышвырнули нас, говорит он, и стройку прикрыли. Так-то вот: вчера на Персидском заливе, а нынче — у мамы в квартире.
Уйдя из дому, Паула особенно остро тосковала по брагу.
Вполне возможно, она гуляла с деревенскими мальчишками и разрешала им себя тискать. Примятые колосья среди хлебного поля — может статься, там попросту отдыхала красная дичь. Мальчишки кулаком вбивали в столбы ограды на выгоне жестяные крышки от пивных бутылок, тайком курили, а по воскресеньям прятали свои обгрызенные ногти под кружевами стихарей — прислуживали в церкви. От исповедника они выходили по пятницам с пылающими ушами.
В огороде завелись полевки, слышится голос матери. Ставить капканы брат на Персидском заливе не разучился. Завтра же и посмотрит, что там такое.
Вы работали инженером? — спрашивает Феликс.
Нет, говорит Паула, он квалифицированный рабочий.
Каменщик, уточняет брат.
И добился всего своим трудом, гордо вставляет Паула.
Раз фирма нарушила контракт, пускай теперь раскошеливается и платит неустойку нашему Матиасу, говорит мать, а деньги-то, между прочим, не малые.
В кухне пахнет тушеным мясом, красной капустой, пивом и пирогом, который еще сидит в духовке. Зять Паулы, до сих пор не проронивший ни слова, откупоривает бутылку пива.
Твоя сестра, говорит он наконец, прочла ту книгу, которую ты подарила нам на рождество.
Паула не спрашивает у сестры, понравился ли ей роман, и смотрит на Феликса: он опять одиноко уткнулся в тарелку и глаз не поднимает, а сидящая рядом девочка отчаянно старается не обращать на него внимания.
Никакой это не служебный юбилей, не девяностая годовщина, не вручение Баварского ордена за заслуги или медали за спасение на водах — просто вдовой пасторше исполнилось шестьдесят лет.
На последнем заседании муниципалитета обсуждался один-единственный вопрос — учреждение премии в области культуры.
Паула обнаружила советника в фонотеке, которая официально еще не открыта. И фройляйн Фельсман, и Урбан суетятся вокруг: ищут нужную пленку с языковым курсом.
Испанский? — удивилась Паула.
Это не для меня, пояснил он, а для матери, иначе ведь ей не договориться с продавцами. Мы впервые рискнули снять квартиру. И питаться будем дома.
Нет, Паула наотрез отказалась давать советы насчет отпуска и сердито отослала Урбан в абонементный зал: Люди стоят в очереди, ждут, я не понимаю, почему вам обеим надо быть здесь; потом она полюбопытствовала, как обстоят дела с проектом передвижки для домов престарелых.
На этот раз они сидят не друг против друга. И Паула внезапно замечает, что из-за своего маленького роста — он ниже ее — советник все время упорно глядит ей на нос, чтобы не возникло впечатления, будто он смотрит на нее снизу вверх.
Обер-бургомистр, разумеется, сам вручил юбилярше корзину цветов.
Очень жаль, говорит он, но ваш визит туда произвел не настолько благоприятное впечатление, чтобы вас приняли безоговорочно.
Один вопросительный взгляд на Фельсман-шу — и та с готовностью подает ему нужный лингафонный курс.
Уже в дверях он роняет, причем не без намека: Вальраф-то по-прежнему в отделе беллетристики.
Читательский формуляр ему заполнять не надо.
Сыро, потому что здесь никогда как следует не топили, холодно — на улице дождь. Феликс — среди ореховой мебели, в окружении которой прошло детство Паулы. Вещи разномастные — достались по наследству от родных.
Детскую она делила с сестрой. Теперь на сестриной кровати будет спать Феликс. В детстве, говорит Паула, я в эту пору помогала на току. Мякинная пыль проникала всюду, лезла в рот, в нос, в глаза, в уши. Потом участок сдали в аренду и в конце концов продали.
Феликс изучает себя в зеркальце, которое Паула когда-то давно повесила над изголовьем своей кровати.
Не думаю, чтобы мои родители приняли тебя сердечнее. Может, разве что церемоннее.
Она никогда не водила в дом парней. Не звала к себе подруг. На прощальном бале в танцклассе встретилась с партнером у входа в зал. А теперь вот привела Феликса в эту мансарду, в эти четыре стены, где умерла бабушка. В погожие летние дни старушку выносили на крыльцо, она грелась на солнышке и мурлыкала свои собственные, никем не записанные песни.
Прямо как оттепель среди зимы, а ведь на самом деле должно быть лето!
Нет, привезти Феликса без всякого предупреждения — это не в ее характере.
На бабушкиной кровати спала сестра, на дедовой — Паула. Дед умер еще раньше. Что ж, смерть — дело житейское. Вот и мебель никто не меняет. Просто дети перебираются из родительской спальни наверх, под крышу. Мертвые здесь не расстаются с живыми… Все как раньше — те же пестрые обои, те же старые пестрые занавески.
Неожиданно Паула — впервые не взвешивая каждое слово — рассказывает Феликсу обо всем, что ей сейчас вспоминается. Снимает с полки свое детство.
Феликс слушает, не двигаясь с места. Паула даже в лице переменилась. И сердце спешит, быстро гонит кровь к голове, вроде как у Фельсманши.
Сядь, велит ему Паула. Дощатые половицы пружинят под ее ногами. Матиас тоже выглядел здесь грузным и широким.
В этой комнате всегда было тесно, говорит Паула, тут я бродила ночами по голой равнине, зная, что конца моему странствию не будет, хотя мечтала только об одном — прийти к цели.
Мать суетится возле дочери, заваривает кофе. Окно полуоткрыто, трава в лугах густозеленая от влаги. На завтрак будет пирог, тот самый, что вчера сидел в духовке.
Феликс спит, сказала Паула, войдя в кухню.
Она села к столу. Мать молча налила ей кофе, отрезала пирога. Потом сложила руки на столешнице и смотрит, как дочь завтракает.
Думаешь, он тебе подходит? — наконец спрашивает она.
Брат стоит у раковины, сунув голову под кран, хотя спокойно мог бы умыться в ванной. Его спина, плечи, руки — все это так знакомо.
Вот Матиас натягивает белую майку и тоже садится к столу, от него кисловато пахнет мокрыми волосами и пивным солодом, что выходит наружу вместе с потом.
Нет, говорит он, для семейной жизни наша Паула давно уже не годится. Тем более для жизни с парнем, у которого в голове сплошной туман. И если хочешь знать, он тоскует по дому, чертовски тоскует. Поверь, меня тут не обманешь.
Ты надолго сюда? — спрашивает Паула.
Сюда?
Домой, уточняет она, глядя, как брат окунает в кофе пирог.
Оставь мальчика в покое, внезапно говорит мать, вечно ты подзуживаешь его уйти.
Она сняла руки со стола и скрестила их на груди, обхватив локти ладонями.
7
Обычно, внушает себе Паула, библиотекарям не снятся крепостные сооружения.
Им бы, скорее, пристало видеть в кошмарах сокращение бюджета или порчу книг.
Ничего подобного Пауле в жизни не снилось.
Столь же нелепа и мысль о том, будто из-за книг, которыми она уставила муниципальные полки, ее станут преследовать, устроят на нее облаву. Загонят в угол пулеметами и слезоточивым газом: дескать, серьезная опасность. Увидев направленное на себя оружие, она тотчас притихнет, как мышка. Вдруг какой-нибудь слабонервный вообразит сдуру, что надо защищаться, возьмет ее на мушку да ненароком спустит курок, как в кино.
В конце концов она оказалась права: облава действительно была учебная.
От жары в этом году даже воспоминания не осталось. Паула вешает в гардеробе мокрый плащ. Среди дня Фельсманша нет-нет да и заглянет туда: как бы чего не унесли.
На столе — вчерашняя работа. Сверху записка из муниципалитета. О передвижке ни гугу. Обер-бургомистр шлет ей привет и предлагает приурочить открытие фонотеки к началу больших школьных каникул — назначить День открытых дверей и ознакомить граждан с новшеством.
Паула звонит ему, но не застает: он где-то на важном совещании, трубку снимает секретарша. Да, она слышала о затее с передвижной библиотекой… Нет, подробности ей неизвестны. А вот Дню открытых дверей шеф придает весьма большое значение.
Надо бы это обсудить, говорит Паула.
Текст афиши, продолжает секретарша, уже готов, лежит на столе. Хотите, прочту?
К сожалению, в ближайшие дни он никак не сможет принять вас, очень занят. Вот если Паула оставит записку…
Обеденный перерыв Паула обыкновенно проводит среди книг. Феликс взял за правило готовить по вечерам. Поэтому днем только йогурт и фрукты.
Но сегодня она зверски проголодалась. Вышла на улицу и спустилась вниз по холму. С двенадцати до двух дороги запружены машинами — часы пик. Многие здешние мужчины ездят обедать домой.
Она вовсе не рассчитывала столкнуться в крохотном кафе с Анеттой Урбан. Ее вообще никогда не заботило, чем эта молодая особа занята с двенадцати до часу. Фройляйн Фельсман — та живет в двух шагах от библиотеки, в переулке за приходской церковью.
Паула хотела было расположиться у окна, как вдруг встретилась глазами с Урбан. Она сидела по соседству, за таким же длинным дощатым столом.
Мужчины в зале на миг подняли головы и с любопытством уставились на обеих женщин. Прямо ожившая иллюстрация к рассказам Людвига Тома[29], мелькнуло в мозгу у Паулы.
Уютно здесь, говорит Анетта, когда Паула подсаживается к ней. В иные дни я даже склоняюсь к мысли, что в этих старинных домах впрямь можно жить.
Она устроилась у самого окна, сложенного из разноцветных стеклянных квадратов. На подоконнике — горшки с цветами. Свинцовой замазкой, наверное, давно уже не пользуются… Рядом со стойкой, у двери в кухню, красуется большая печь из светло-коричневых изразцов.
Сентиментальная пятиминутка — скользишь взглядом по поверхности и забываешь, что идиллия обманчива, говорит Анетта, не дожидаясь ответа Паулы.
Хозяин подает Пауле меню, опечатки там исправлены от руки.
С виду — точь-в-точь деревенский трактир. Уборная во дворе, ключ от нее берут на кухне.
Выбор небогат, зато все вкусно, говорит Урбан.
Вы совсем не любите маленькие городки? — спрашивает Паула.
К счастью, каждый вечер я возвращаюсь электричкой в М. Нет уж, среди мещан жить нельзя.
А вы суровы, замечает Паула.
Нет, ее упрек адресован не одному только Д. Дома, запертые наглухо, как и их обитатели, мнимая защищенность — этого по всей стране хватает. Внешне полное благополучие, а вот внутри…
В перерыве между лапшой и свиной котлетой Урбан неожиданно говорит: Мне очень жаль, что у вас были неприятности из-за детских книг.
Неприятности? — переспрашивает Паула. По-моему, все уладилось. Есть еще недалекие люди… Пустяки, не стоит и говорить. И ничуть это не показательно, зря вы так… Кстати, успели уже посмотреть что-нибудь, кроме замка?
Шаг за шагом, по плану. Изо дня в день возвращалась с обеда в библиотеку другой дорогой.
Вообще-то, не мешало бы и мемориал посетить. Но я боюсь.
Я тоже, коротко роняет Паула.
Этому кошмару поддаваться нельзя.
Расплатившись, обе встают из-за стола, берут с вешалки у входа плащи; Анетта Урбан между тем рассуждает о ханжеском духе мелких городишек — по ее разумению, именно он и порождает тоталитарные устремления; Паула вдыхает застоявшиеся запахи пищи, табачного дыма, пива, кисловатого фруктового шнапса, торопливо открывает дверь — скорее на улицу! — и вдруг в какую-то ничтожную долю секунды ее мозг пронзает дотоле неведомая боль. Нет, отчаянно твердит она себе, я уверена, повторение невозможно.
Он близорук, оттого и глядит на нее так пристально. В прошлый раз, увлекшись жарким с охотничьим соусом, Паула не обратила на это внимания.
Да, сказал он, я, разумеется, поддержу ваш план перед обер-бургомистром, только вам не следует переоценивать мои возможности. Священник в наше время не пользуется таким весом, как бывало раньше.
У него в кабинете ей по-домашнему уютно. И дело тут не в нем самом, а в книгах. Темные шкафы с книгами, по всем стенам, от пола до потолка.
Миры счастливые и кошмарные, слышится его голос, это он о книгах. Что касается книг, мы, наверное, думаем почти одинаково. Но заводить сейчас речь о кошмаре, пожалуй, не к месту.
Паула смотрит, как он выдвигает стул из-за письменного стола, ставит его против гостевого кресла.
Чтобы массивный дубовый стол не мешал разговаривать.
Да, он наслышан о затее Паулы.
Вы даже не представляете себе, говорит он, какому великому множеству стариков вы бы скрасили жизнь. Видите ли, с тех пор как упразднили приходские библиотеки, я лишь в редких случаях могу удовлетворить ту или иную читательскую просьбу — из моей собственной библиотеки. Но у меня на полках нет книг, которыми интересуется большинство.
Комната тонет в полумраке, как и гостиная. Сколько же тут старинных кожаных переплетов! Паулу так и подмывает подойти к ним и потрогать. Но она сдерживается.
По-моему, вам ни в коем случае нельзя падать духом, говорит священник. Паула смотрит на его руки, сложенные на коленях: под морщинистой кожей проступают жгуты вен. Не падать духом, повторяет он, мы не вправе допускать и мысли о том, что наши чаяния могут потерпеть крах. И, провожая Паулу к двери, добавляет: Кстати, смею надеяться, что наши ящики в свое время причинили вам не слишком много хлопот. Я ведь уж подумывал не трогать их, но в конце концов всему свое место, верно?
Слушай, говорит Паула, хватит. Хватит то и Дело потчевать меня экскурсами в военную историю Испании. Я эти битвы во сне вижу.
С бутылкой растительного масла она идет из кухни в ванную.
Феликса смешат глазки жира на воде, которые якобы помогут ее коже остаться упругой.
Очень может быть, говорит она, передавая ему купальный халат, который он вешает за дверью на крючок, очень может быть, что твой отец хоть сейчас с радостью возродил бы инквизицию, как во времена Изабеллы. Но разве за это обязательно так люто его ненавидеть? Он старик, одержимый вздорными идеями. Только кто нынче примет их на веру?!
Масло жирным кольцом оседает прежде всего на шее. Ладонями Паула стирает его по ключицам на грудь.
Феликс сидит на бортике ванны, в такую воду он даже кончик пальца ни за что не окунет.
У нас дома, говорит он, в масле консервируют рыбу, овощи, но уж никак не женщин.
Ты когда-нибудь видел свою мать в ванной?
Что же тебе снится?
Крепостные сооружения, отвечает Паула. Каменные страшилища в чистом поле.
Ты попросту насмотрелась всяких картинок, решает Феликс. А знаешь, как в средние века штурмовали крепости?
С помощью приставных лестниц, отвечает Паула. Отсюда, кстати, и взялось слово «эскалация»[30].
Пауле снятся иберийские твердыни, это верно, незачем только делать отсюда вывод, что у библиотекаря есть кое-что общее с комендантом крепости. Хотя это нелепость, только если вдумаешься; как и ходячее представление о том, будто защитные установки ядерного реактора и с объективной и с субъективной точек зрения вполне надежны. До сих пор любая крепость рано или поздно покорялась. Вернее будет сказать, кровавая история Испании не выходит у Паулы из головы просто оттого, что она полюбила Феликса. Она видит мир его глазами, и потому даже во сне ей не вырваться из плена.
Теперь любовь к Феликсу не гаснет в ней и днем. Не зря же природа наделила его красотой, повторяет Паула.
Раньше она чувствовала себя как в осаде, а сейчас это ощущение пропало.
Выходит, отдала ключи от города?
Решительно поломала солидный, устоявшийся порядок, не заметила грозной опасности и, глянув на себя самое, от испуга сникла?
Мой почерк, уверяет Паула, со школьных времен ни капли не изменился. Буковка к буковке, одна к другой.
Раз есть масло, мыла не надо. И без полотенца обойдемся. Пусть кожа обсохнет в тепле ванной комнаты. А капельки воды смахнем ладонями к щиколоткам.
Объясни, будь добр, просит Паула, почему ты, собственно, рассказываешь мне про все эти завоевания, отвоевания, притеснения, жестокости и жажду власти? Никак не отрешишься от них, что ли? Неужели нельзя просто жить как живется и предоставить миру идти его путем? Ведь миру-то безразлично, размышляешь ты о нем или не размышляешь, довольствуясь своим личным счастьем.
Паула знает, что Феликс глаз с нее не сводит, следит, как она, обнаженная, с блестящей от Масла и воды кожей, нагибается над ванной, сыплет порошок, влажной тряпкой стирает грязный налет, включает душ и промывает все.
Обними он ее в этот миг, и она была бы совершенно счастлива.
Ты отдаешь себя на произвол судьбы, говорит Феликс.
Она заворачивает краны.
Не хочешь понять, что и ты причастна к судьбам мира, продолжает Феликс.
Я родилась здесь по случайности, вставляет Паула.
Нет, возражает Феликс, ты все-таки разберись, ветряную мельницу останавливают изнутри, а не снаружи…
Он так и сидит на бортике ванны. Паула позволяет себе ощутить легкое разочарование.
Знаю, у вас и в литературе был золотой век, говорит она. Ты хоть заметил, что от солнца моя кожа быстро стареет?
Она снимает с крючка халат, надевает его, запахивает на груди, завязывает пояс. Тщательно присматривается в зеркале к своему лицу.
Феликс, конечно же, уверяет, что она ни капельки не стареет. У истины нет никаких шансов.
Паула поднимает руку, гасит лампу над зеркалом.
Быстро ты постиг науку, говорит она, бурных вспышек теперь не бывает. А знаешь, где-то в Южной Америке каждый год устраивают торжества в честь древней морской богини и каждый год утром после празднества на одной из пустынных улиц находят мертвого юношу. Задушенного. Принесенного в жертву богине. Паула услыхала шорох — это Феликс шевельнулся во мраке. Она протягивает руку и в краткий миг, пока глаза привыкают к темноте, уверенно нащупывает его плечо.
Девятая утренняя беседа с Паулой
Паула уговаривает меня сесть на то место, которое кажется ей самым удобным. Потом наливает кофе и подает мне хлебницу.
И все-таки я с нею не соглашусь.
Почему, спрашивается, я должна собрать чемоданы и уехать, бросив дом, за который ежемесячно выплачиваю ссуду, и огород, и привычку к зиме, идущей на смену осени?
Не говоря уже о дочерях и о муже, насмешливо добавляет Паула.
Или о моем банковском счете, который я в любой момент могу превысить, потому что банк мне доверяет. Чего ради зубрить чужой язык, жить среди чужих? С какой стати? Не вижу причин. Не вижу, чтобы мою свободу здесь ущемляли.
Выходит, тебя лично насилие не коснулось, заключает Паула.
Нет уж, извини, перебиваю я. Меня закодировали, зарегистрировали, обработали и выпустили в свет — по-твоему, это и есть причина?
А Паула продолжает: Вернее сказать, работая над книгой, ты уже невольно заранее кое в чем себя обуздываешь, чтобы потом тебя не обуздал кое-кто другой.
Да, соглашаюсь я, они взломали контору, где на двери значится и мое имя, ворвались туда с автоматами, сославшись на якобы чрезвычайную серьезность обстановки, сломали замок — и ладно, пусть кто-нибудь другой ставит новый, а прокуратура палец о палец не ударила, как будто так и надо.
Что ты себя взвинчиваешь? — спрашивает Паула, глядя, как я намазываю маслом хлеб и нож дрожит в моей руке.
Хорошо, если уж тебе так хочется, изволь, скажу: я безумно испугалась. Втолковала детям, как им себя вести, если отца с матерью арестуют. Но за нами не пришли, оставили нас в покое. Что ж тебе еще надо? На государственную службу я не стремлюсь, никакие судебные органы мною не интересуются, не разбирают, всерьез ли мои книги зовут к насилию или же это просто художественный прием, — а значит, пока у меня все в порядке, верно? Или я ошибаюсь?
Впору на стенку лезть. Меня трясет от злости. Как эта Паула смеет доводить меня до белого каления?
Я люблю свои книги, защищаюсь я.
Как это я смею защищаться?
И мебель свою люблю. В какой-то мере и дом, и свои планы превратить его в настоящий семейный очаг, чтобы внуки были и все прочее. Сделать его убежищем, какого у меня никогда прежде не было. Чтобы забрать все это с собой, никаких денег не хватит.
Достаточно одного чемодана, замечает Паула.
Что уместишь в одном-единственном чемодане. Да и есть ли такая земля, где лучше?
Ты права, соглашается Паула, и я едва не клюю на ее примирительный тон. Но вовремя спохватываюсь: хитрит она, ой хитрит.
Конечно, ты права, говорит она и пододвигает мне густо-алый клубничный джем. Подумаешь, походить немного на костылях — другие-то и вовсе калеки, в инвалидных креслах ездят!
Я в растерянности. Похоже, Паула вдруг взяла надо мной верх, и это сбивает меня с толку. Ведь я думала, что во всем разобралась.
Отмахнуться от нее, что ли, как от навязчивой идеи?
Сдать Паулу в архив? Найти подходящую папку, пробить дырочки, подшить в дело и отправить в архив. И пусть ее там лежит. Незавершенная рукопись. Недописанная. Впрочем, обойдусь и без папки. Сложу в коробку из-под туфель, перевяжу бечевкой и отнесу в чулан. Спустя годы найду и стану удивляться: что же могло меня когда-то привлекать в этой особе?
Я сердита на Паулу. То дружеское расположение, то неприязнь — она столкнула меня в омут сумбурных чувств. Без всякого предупреждения.
Да и как ей было меня предупредить? Она ведь выдуманный персонаж, ее легко и просто подшить в дело.
Ты хоть понимаешь, свирепо говорю я и только теперь замечаю, что сегодня она облачилась в мои джинсы (они ей широки), ты хоть понимаешь, что я в любую минуту могу заставить тебя исчезнуть? Уберу — и все тут. Поверь, освободиться от тебя проще простого.
Паула кивает, словно мои аргументы вполне для нее убедительны. Стало быть, акт освобождения, подытоживает она, не проявляя ни малейшего беспокойства.
И как же ты освободишься — объективно или субъективно? — вкрадчиво любопытствует она.
Я начеку. Ишь, норовит выпихнуть меня на скользкий лед. А он еще не застыл как следует.
Страх тебя мучит? — слышу я. Голос у нее и в школе был глубже и приятнее моего. Нет уж, больше я ни во что не ввязываюсь. Страхов и без того хватает.
Ты когда-нибудь чувствовала себя в безопасности?
Я имею в виду тот ужас, продолжает Паула, который тебя охватывает, когда ты задумываешься о былых страхах родителей, дедов, бабок и об их поступках и вдруг осознаешь, что теперешние люди поступают так же, они, как и раньше, отсиживаются в своих четырех стенах. Предают, вместо того чтобы протестовать. И тут тебе не увильнуть: надо сделать выбор.
Но не обращаться же в бегство, говорю я. Нельзя ведь бежать в личное счастье, прятаться от ответственности.
Нет-нет, говорит Паула. Она таки добилась своего: я опять против своей воли ввязалась в серьезный спор. Нет, выбрать надо дерзкую мечту.
Утопию?
Дерзкую мечту о счастье.
О каком счастье? — спрашиваю я и подставляю ей свою чашку. По утрам со мною можно разговаривать лишь после третьей чашки кофе.
Паула наливает мне кофе и замечает вскользь: Ты слишком много куришь.
А что, это запрещено?
Пока нет, отвечает она.
8
Паула с Феликсом сидят вовсе не в том зале, где, по рассказам, во времена Баварской советской республики заседали красноармейцы, — тот стол в соседней комнате не обслуживается, — они сидят у окна, за которым открывается чудесный вид на Д. Паула посоветовала ему заказать жаркое из дичи.
Давно уже нет той походной кухни, что прямо на рыночной площади кормила из трактирных котлов солдат республики. И дарового пива, которым красные угощали горожан, тоже нет, зато есть домашние клецки по-швабски.
Что ни говори, а Д. всегда был крепостью.
Под стенами этого города закончилась для Баварии Тридцатилетняя война; красным в этих стенах не на что было рассчитывать.
В хорошую погоду, говорит Паула, ты бы мог полюбоваться чудесным видом. Но сегодняшний денек подкачал, и туристу не видать обещанных проспектами красот, а ведь как ему хотелось взглянуть с холма старого города на черепичные крыши, на каменистую желто-зеленую равнину, бегущую до М. и дальше, к самым Альпам. Летом теперь стало холоднее.
Небо висит низко-низко над землей. И кажется, будто Д. конца-краю нет.
И все же только люди, отроду склонные к преувеличениям, считают, что технический прогресс ведет человечество к новому ледниковому периоду, говорит Паула.
Феликс не прочь полакомиться десертом. Карточка блюд здесь громадная, внушительная, прямо исторический документ.
По дороге в ресторан им встретилась оружейная лавка: пистолеты и ружья среди птичьих чучел.
Горячая малина, алая на белом мороженом, уже чуть остыла, и Паула придвигает свою порцию Феликсу.
Сначала она звала его подняться к замку, но теперь ей не хочется лезть наверх. Как ты понимаешь, объясняет она, сегодня вид оттуда нисколько не лучше.
Она не скрывает, что заленилась и разомлела от еды. Так приятно посидеть тут, у окна. Подробно описать Феликсу дворцовый парк. Правда, в памяти сохранилась лишь тенистая аллея из подстриженных лип.
Ни одного значительного памятника культуры, ничего такого, что вызывает удивление просто оттого, что еще существует на свете.
Лучше наблюдать, как небо за окном мало-помалу набирает высоту, как обретают четкие контуры кровли домов и деревья между ними, что-то сдавливает голову и неожиданно распахивает кругозор, даль становится совсем близкой, облака — вот они, рядом, лохматятся, точно старая краска после протравки, смахни ее щеткой — и обнажится рисунок древесины.
Приближение фёна, говорит Паула, я узнаю по Альпам: они вырастают на горизонте, словно декорация, назойливая до головной боли.
Феликс съел и малину и мороженое, обе порции; вазочки, запотевшие снаружи и клейкие внутри, сдвинуты на середину стола, к цветам.
В последнее время у него как будто наметился животик, думает Паула.
Ты бы все-таки взяла машину, а? — говорит Феликс, внимательно глядя на поднявшиеся вдали горы.
Возьму, если поедешь со мной, отвечает Паула.
Видать, работа в Д. нравится тебе куда больше, чем старое место в Киле, говорит ее мать. Вон как посвежела-то.
Паула молча кивнула. Мать между тем вооружилась серебряной вилочкой, которая появляется на столе в торжественных случаях, подцепила с парадного блюда кусочек торта «Принц-регент» и медленно понесла его ко рту.
За Паулу ответила сестра.
Думаю, дело не только в работе.
До чего же вкусный у тебя торт, говорит Паула матери, украшение любого дня рождения.
Она наконец-то приехала на такси с вокзала, когда дочка сестры уже задула все десять свечей на шоколадной глазури, а мать, окунув нож в горячую воду, собиралась резать торт. Вот и хорошо, в самый раз успела, похвалил зять, но почему ты одна?
А что, надо было и его привезти? — спросила Паула. Зять встретил ее в передней, помог снять плащ, на секунду она ощутила прикосновение его пальцев к шее — он слишком рано потянулся за воротником. А что бы они сделали? — отозвался он, и на миг Пауле показалось, что временами ему до смерти охота подложить им хорошую петарду, тайком конечно.
Девочку она обняла и расцеловала, вручила подарок — книгу и немного денег в конверте, для копилки. Конверт, как был запечатанный, так и исчез среди груды подарков, а вот книгу, завернутую в голубую шелковую бумагу, Сабина из рук не выпустила, до тех пор пока бабушка не позвала к столу.
Не скучно ребенку справлять день рождения в компании взрослых? — спросила Паула.
Теперь она сидит на софе возле брата. Матиас обнимает ее за плечи. И ей уже не одиноко.
Вот и я считаю, что малышке надо было устроить настоящий день рождения, а не такое занудство, поддакивает брат.
Мама так захотела, слышит Паула ответ сестры.
А мать аккуратно подбирает с тарелки остатки крема.
Девочка доела торт, выпила какао и тихонько вышла из-за стола.
Она не уверена, что хотела неприятно поразить сестру, но, как бы там ни было, когда девочка снимает белую ленту с голубой обертки, на лице у сестры появляется выражение досады. Уж ей-то зловредность Паулы с малых лет знакома.
Сабина хорошая девочка, говорит мать. Никого не огорчает. Зачем ей праздновать день рождения по-другому?
Ни к матери, ни к отцу она с книгой не побежала, развязала белый бантик, сняла голубую бумагу, села на стул у окна, раскрыла первую страницу, начала читать. И читает, не отрываясь, уже давно.
Может быть, раздумывает Паула, снять с плеча руку брата, подойти к окну, сесть рядом с этой худенькой девочкой, у которой ее, Паулины, волосы и точно такой же рот, слишком тонкогубый для узкого личика; но вместо нее встал зять, отворил окно. Ну-ка, что тебе подарила тетя Паула? — спрашивает он.
Книжным червем станет, как Паула, говорит Матиас (в голосе его Пауле слышится ирония, вовсе не подходящая к силачу работяге, какого он из себя разыгрывает), сманит она книжками вашу Сабину.
«Когда Гитлер украл розового кролика», отвечает зятю Паула. Девочка даже глаз не подняла.
Хотела бы я знать, как тебе удается всем внушить, что ты уж очень умна? — спрашивала сестра, когда Паулу послали в монастырскую школу, а сама она нанялась конторщицей. По наущению Паулы Матиас изловил тогда лягушку и подбросил ее старшей сестре в постель…
Она умышленно так поступает, говорит сестра, только мы с Гербертом постараемся отвадить ребенка от этого вздора.
Мать достала из буфета коньяк и предлагает выпить за виновницу торжества, которая не трогается с места, хотя в дождь у окна холодно.
На кухне сестра спрашивает о Феликсе. Пока сидели в гостиной, никто о нем слова не сказал. Паула объяснила, что оставила ему машину и приехала поездом, а они тут же наперебой затараторили, что вот, мол, Сабиночке осенью идти в гимназию, а дорога-то утомительная, дальняя.
Я, замечает сестра, слыхала, будто меланхолики очень уж ласковые. Он-то как — ласковый?
И продолжает: Только вот легкомысленные, не для семейной жизни.
За окном догорает у горизонта небо. Феликс отрывает Паулу от «Недоброго часа». Сперва снимает ей очки, и она сразу же поднимает глаза, сердито морщит лоб, щурится, заново привыкая к своему окружению. Стул она придвинула к окну. Переворачивала страницы и мельком поглядывала через улицу на бетонную стену, соединяющую царство живых и царство мертвых, кладбище. Или скользила взглядом по фаллическому куполу церкви.
Феликс подошел к ней вплотную, в просвете между его ногами виднеется кусочек ковра и стеллаж. На уровне глаз Паулы — его живот, серые брюки, металлическая пряжка на ремне.
Белая сорочка измята.
По-моему, говорит она, этого Маркеса в нашей библиотеке еще нет; уносит книгу в спальню, кладет ее, раскрытую, на пол возле кровати, смотрит, как Феликс неторопливо, одну за другой, расстегивает пуговицы, и ни с того ни с сего спрашивает: Тоскуешь по дому?
А потом ласково проводит пальцем по его гладкой груди.
9
Обер-бургомистр в окружении репортеров местных газет. Анетта Урбан за пультом фонотеки — она управляется с переключателями куда лучше Паулы и Фельсманши.
В ситуациях вроде нынешней Пауле уже незачем озираться по сторонам, высматривая знакомые лица, теперь она и сама принадлежит к избранному кругу. Никуда не денешься.
Отвечая на вопросы журналистов, обер-бургомистр старается придать беседе одновременно официальный и непринужденный характер, но ни на минуту не забывает о своем превосходстве.
Да, говорит он, быть может, и создается впечатление, что мы идем вперед семимильными шагами.
И продолжает: Надо, так сказать, наверстывать упущенное, город современный, растущий, находится на подъеме. Пора открыть людям глаза. На свете есть и иной Д., не только тот, где топтали человеческое достоинство.
Потому-то и родилась мысль учредить большую премию в области культуры.
В области изобразительного искусства, уточняет коротышка советник (он держится в тени обер-бургомистра), ведь к литературе Д. почти не имел касательства.
А не развиваете ли вы сейчас столь бурную деятельность затем, чтобы уйти от прошлого? — спрашивает один из репортеров. То есть, поясняет он, вовсе не новая форма самосознания, а просто-напросто попытка изжить старый комплекс? И Паула с удивлением ловит себя на том, что уже сочувствует ему в его дерзком бунте; пульс ее учащается, ладони мокры от пота.
Если мне не изменяет память, слышится голос советника, вы новичок в здешней редакции? Сегодня я вижу вас впервые.
Не согласиться было нельзя, и Паула согласилась. Она одобрила текст объявления, извещающего о Дне открытых дверей в фонотеке (от муниципалитета его подписал обер-бурго-мистр), и около четырех — перед самым закрытием — сходила в сберегательную кассу напротив, проверила там начисление месячного жалованья, взяла немного денег на текущие расходы, поговорила с кассиром, вполне дружелюбно — ведь и он к ней привык, и она знает его в лицо, — а когда вышла на улицу, впервые увидела на стене дома невзрачную табличку, прикрепленную там в память о восстании жителей Д. и узников лагеря против эсэсовцев. Почему же здесь нет настоящего большого памятника? Вот на этом самом месте, где сейчас стоит Паула, сжимая в руке банковскую книжку и деньги — сумочку она забыла в библиотеке, — на этом самом месте были расстреляны трое заключенных и трое граждан Д.
Твой приятель — невыносимый гордец, говорил Пауле младший брат. Ты-то сама его выносишь?
Себе Паула запрещала и гордиться, и быть не в меру счастливой. Какой смысл болтать о счастье…
Фройляйн Фельсман приносит газеты с сообщениями о Дне открытых дверей. Она не поленилась отметить страницы, наполнившие ее гордостью, ведь вся здешняя библиотека — предмет ее гордости.
На одной фотографии — Паула, позади обер-бургомистра, нос и рот — на уровне его плеча в центре снимка, но немного в глубине.
Он говорил тогда и о проекте передвижной библиотеки. Паула, видно, не сумела скрыть удивления; ей вдруг вспомнился священник, и она привычно подумала, что он, наверное, любит украдкой поглаживать кожаные корешки своих книг.
Вот видите, на нас можно положиться. Эти слова обер-бургомистр адресовал Пауле, а на лице его играла легкая усмешка, от которой он выглядит проще и человечнее.
В собственной библиотеке ею овладело чувство заброшенности. Она потихоньку выбралась из толпы чиновников и гостей и ушла к себе в кабинет, к знакомому столу.
Противно, и вдобавок уже до боли надоело. Вполне возможно, что в Пауле от рождения затаился еще один человек и все поджидал удобного случая, чтобы оглушить ее ударом по голове. Самое важное тут — время и место. А также климат. Лишь здоровые натуры находят в нем хоть какое-то удовольствие.
Холод вправду усилился и явно застиг Паулу врасплох, но пока есть еще надежда или хотя бы шанс обрести надежду.
На фотографиях нет одной только фройляйн Фельсман. Она скромно расхаживала среди стеллажей, присматривая за посетителями; зато фройляйн Урбан, которая сидела за пультом фонотеки в комнате рядом, попала-таки в кадр. Что говорить, газетный материал и подан умело, и дозирован четко, отмечает Паула. Слева критика упомянутого комплекса забвения, справа местный хор мальчиков — посланец Д. на гастролях в Езоло. Передвижную библиотеку хвалят как замысел городских властей.
Местный поэт, читает Паула, ратовал за то, чтобы поделить будущую премию между художниками и литераторами, но муниципалитет успешно отбил его атаку: литератор может столкнуться в Д. с большими трудностями, чем живописец.
Нет, взять отпуск она не сумеет. Надо было планировать заранее. С бухты-барахты и в растрепанных чувствах решений не принимают, даже если допустить, что ей бы дали полную свободу решать.
И привычный ход вещей ломать нельзя. В конце концов есть еще ответственность, и лежит эта ответственность на ней.
Все ж таки, говорит Паула Феликсу (руки ее нежно скользят по его телу, а напротив звонят колокола и хлопают дверцы автомобилей), все ж таки я, конечно, не вправе удерживать тебя от поездки домой на каникулы. Но мне до смерти не хочется тебя отпускать.
Нет, тихонько смеется она, гофио тут определенно ни при чем. Откуда ты взял, что всему виной гофио?
Проникнуть Феликсу в самое нутро. Ведь там внутри спрятан лунный ландшафт. Вторгнуться.
И снова отступить, откатиться камнем.
И так каждое воскресное утро, воображает Паула, хотя прекрасно понимает: не дано ей обнять Феликса так, как он обнимает ее, не дано брать, ее удел — отдавать себя. А что, кроме наслаждения, она получает взамен?
Банальная истина, ни разу не додуманная до конца. Без конца. Вновь и вновь сначала. Может, просто чтобы не думать о другой истине.
Не думать.
Не думать, что любое плотское наслаждение стихийно и беспорядочно.
Пока не думать.
Мне кажется, говорит она этим воскресным утром, я в самом деле люблю тебя.
В самом деле, она выпалила это единым духом, будто составила свою фразу на чужом языке и затвердила на память, чтобы ее поняли — ее, ту Паулу, которая не имеет никакого отношения к другой, считающей любовь не более чем приятным развлечением.
10
Он посвежел и загорел, этот коротышка советник. К концу августа большинство горожан возвращаются из отпуска. Домой, в Д. Вот и фройляйн Фельсман тоже вернулась.
Слишком жарко, говорит он, мы с мамой ужасно страдали от жары.
Нынче утром Паула заглянула в сентябрьский гороскоп. Первые десять дней влияние Марса сулит Девам большие встряски.
Самолетом летели? — спрашивает Паула советника.
Застигнутая над гороскопом, она слишком уж горячо оправдывалась перед Феликсом. Некоторые, как там было написано, нежданно-негаданно найдут счастье своей жизни.
Конечно, нет, сказала Феликсу Паула, я читаю гороскоп для смеху.
Феликс объявил, что у нее завелось тайное пристрастие. К иррациональному. Бегство в хиромантию?
Загорелый и внутренне пообмякший, советник в разговоре с нею на этот раз даже жестикулирует.
Руки его не жмутся суетливо к краю стола. Линии на ладонях четкие, без тоненьких ответвлений — до сих пор ей не случалось видеть ничего похожего.
А вы, значит, на посту, говорит он, тем завершая экскурс в приватную сферу; теперь, встречаясь с Паулой, он допускает подобные вольности, ведь она обжилась, устроилась, закрепилась в Д. и как авторитетом, так и всей своей деятельностью отвечает в целом его представлениям о библиотекаре.
С новыми силами за работу, сказал он, когда Паула вошла в кабинет. Увидела она его не за столом, а вовсе даже у окна: он стоял, потирая руки, деловой, энергичный, — ни подспудные, загнанные внутрь фантазии, ни мысли о жизни за стенами ратуши не омрачали его лицо.
Я тут кое о чем поразмыслил на досуге, сказал он. Как идут дела с передвижкой для домов престарелых?
И прошелся по кабинету. Неужели все-таки чуть приволакивает ногу?
Плохо?
Да нет, отвечает Паула, не плохо.
Возможно, окостенение коленного сустава.
Но пока нам еще не слишком доверяют.
Впрочем, говорит он, если меня правильно информировали, вы побывали у пенсионеров всего только дважды.
Информировали вас правильно, отзывается Паула. Опустившись в черное кресло-вертушку с высокой спинкой, он жестом предложил сесть и Пауле; на этот раз она села так, чтобы, не поворачивая головы, просто скосив глаза, смотреть в окно. И теперь глядит на облепившие холм крыши всех мыслимых оттенков красного цвета. Крыши были мокрые от измороси и яркие.
Еще в отпуске, говорит он, я набросал доклад о нашем проекте. Вы же знаете: я с самого начала содействовал вашему замыслу и по мере сил поддерживал его.
Приятный оттенок, тихонько бормочет Паула.
Простите, как вы сказали? — растерянно переспрашивает он.
Она бы давным-давно обнаружила эту другую половину, если бы не видела его изначально с одной только стороны. Утром проснешься, а в голове — ни слова.
Фантазер, заранее решила Паула, ты правда фантазер. В это слово она не вкладывает ни порицания, ни одобрения, просто делает вывод, раз и навсегда.
Нет, домой он не поехал. Остался на лето у Паулы. Так и сказал: Не уеду. Но днем уезжал.
В университете каникулы, а он каждое утро садился с Паулой в машину и ехал через деревни в Д., а оттуда электричкой в город.
Какой смысл весь день торчать одному в квартире? — говорил он.
А какой смысл, спрашивала Паула, изо дня в день проделывать такой длинный путь, раз тебе не нужно в университет?
Может, спрашивала она, Феликс работает в государственной библиотеке? Читает книги, которых у нее в муниципальном фонде нет, поскольку в интересах широкого читателя она обязана избегать диспропорций.
Там мои друзья, отвечал он.
Иной раз он уезжал в М. лишь под вечер, садился после обеда на автобус, идущий через деревни в Д. И тогда августовскими вечерами, больше похожими на ноябрьские, Паула засиживалась в библиотеке, чтобы заехать за ним на вокзал.
Нет, вопросов она не задавала. И не ставила ему в упрек, что он столько времени проводит с друзьями. Не упрашивала взять ее с собой — зачем навязываться, создавать впечатление, будто любой ценой хочешь им завладеть.
Феликсова лютая ненависть к отцу пугала ее.
В детстве, говорит Феликс, мне казалось, что он крадет у меня душу. Я боялся проснуться утром — и онеметь.
Фантазер, говорит Паула. Ты фантазер?
Нет, коротко отвечает Феликс, однако же Паула пропускает жесткость его тона мимо ушей: право на такую жесткость он получит, лишь когда повзрослеет. Да, повторяет он, необходимо преодолеть кастрацию.
Эдипов комплекс? — спрашивает Паула.
Надо занять какую-то одну позицию, говорит Феликс, это куда лучше, чем оправдываться отсутствием системы, обеспечивающей удовлетворительное конечное состояние. Решиться надо. Лучше уж я решусь выступить против отца с открытыми глазами, чем вслепую.
Что произошло? — испугалась Паула.
Паула глаз не поднимает, когда фройляйн Фельсман опять спешит мимо ее двери в туалет. Козни дурного пищеварения и избыточной дозы слабительного, думает она.
В любой другой день Фельсманша была бы рада-радехонька до вечера одна хозяйничать в библиотеке. Сегодня же просто жалко смотреть, как она, побагровев то ли от натуги, то ли от стыда, возвращается из уборной; Паула с Анеттой Урбан между тем пакуют книги в квадратные картонки.
Фройляйн Фельсман с гордостью отметила, что в первую очередь читатели спрашивают книги из фондов бывших приходских библиотек.
Это ее немного утешило.
Возможно, Паула потому и не стала возражать, когда после первого же выезда в дома престарелых молодая коллега предложила возить туда не только уже заказанные книги, но и другую литературу, чтобы показать и рекомендовать ее читателям.
Вдвоем они несут картонки к машине. Паула открывает багажник, попутно рассказывая про вдовую пасторшу, любительницу Фонтане, как вдруг Анетта Урбан говорит, что по истечении испытательного срока, скорей всего, не продлит контракта.
Значит, все-таки не прижилась?
Да, не прижилась.
Я понимаю, говорит Паула, вам привыкнуть еще труднее, чем мне. Может, стоило бы запастись терпением.
Дожидаться, пока дерево, давно омертвевшее внутри, пустит новые побеги?
О дуплистых деревьях Пауле разговаривать не хочется, в дороге, под мерный шорох «дворников», лучше вспомнить о собственном нетерпении, которое она в возрасте Урбан нещадно подавляла.
Анонимное письмо, найденное сегодня на столе в куче корреспонденции, Паулу не пугает.
Забавно, что ее остерегают от распространения коммунистических идей среди детворы. С тех пор как стала совершеннолетней, Паула неизменно голосует за либералов.
Ей бы следовало слушать повнимательнее.
Не возглашать, что, мол, сновидения, мечты и фантазии ни к чему не обязывают. Не делить мир на две половины — мир грез и фантазий и мир дневной. Не заносить задумчивого меланхолика по привычке в разряд романтических натур, которые любят изображать из себя этаких донкихотов… Жизнь в односторонней системе?
Его жизнь с нею, должно быть, вопреки ее представлениям шла еще как-то иначе.
Сейчас по стеклам барабанит дождь. Капли ползут по окошку гостиной. Надо было окна мыть, а она ждала Феликса, сидела в вокзальном кафе среди мужчин, совершенно напрасно подозревая их в едва смирённой похоти, пропустила одну за другой две электрички, а Феликса в толпе пассажиров на перроне так и не углядела. И в конце концов поехала домой.
С телефоном в руках — благо шнур длинный (удлинен, конечно, за особую плату) — мыкалась из передней в кухню, из кухни в гостиную, по пустой квартире с востока на север, пока не позвонила мать, разговаривать с которой Пауле невмоготу.
Да, хватит разговоров.
Натянуть на голову простыню и шерстяное одеяло, подвернутое, как он привык, в ногах и с боков. Покончить с внешним миром. Назад к варварству любовной связи.
Ускользнуть от его рук, ищущих примирения.
Она отперла Феликсу дверь, впустила его в дом, как чужого, как жильца-пансионера. Внизу послышался шум отъезжающего автомобиля.
Не слушать его. Слишком уж он много говорит. Ну как ей вынести мужчину, который говорит без умолку. Не закрывая рта. Даже когда они любят друг друга.
Зачем он говорит о друзьях, которые якобы обязались на деле осуществить то, что левые сулят испанцам вот уже сорок лет.
Ведь, чтобы выстоять, нужна опора, говорит Феликс. Только когда есть опора, можно вынести тяготы жизни.
Слишком он молод. Слишком молод для Паулы. У нее это — пройденный этап. Она давным-давно вышла из того возраста, когда задаются вопросом о смысле жизни.
А теперь он ринулся в атаку. Кричит. Кричит как сумасшедший.
Не кричи так, просит Паула, возьми себя в руки.
Необузданный, дикий, несдержанный, запальчивый.
Как ты смеешь так на меня орать? Паула садится в постели, прямая, точно свечка.
Я не такой, как вы, кричит Феликс, не искалеченный, не ущербный, не перекроенный! Я не могу держать все это в себе, не могу, как вы, забиться в скорлупку и окаменеть!
Ты совсем обезумел и не владеешь собой, говорит Паула.
Да, обезумел, отвечает Феликс, потому что мне страшно.
Хоть бы позвонить догадался.
Нет, уверяет он, другой у меня нет.
Страх ослепляет, говорит Паула, чего ты боишься?
Страх идет от инстинкта, говорит Феликс.
Он успокоился, едва Паула перестала сопротивляться его ищущим примирения рукам.
Как же ей сопротивляться его замыслам и не ставить на карту все, что приобретено таким трудом и составляет ее нынешнее положение?
Нет, прекословить не будем. Он ведь и ждет другого. Скорее, лояльного скепсиса. Избитая похвала — то есть Паула без своего скепсиса— вызвала бы у него подозрение, говорила бы о равнодушии, о замаскированном, но глубоком пренебрежении.
Разумеется, без вашей помощи мне не обойтись, замечает он. Хотелось бы получить кое-какие цифры, первые итоги, отзывы.
Паула внимательно наблюдает за ним. Руки его уже не участвуют в разговоре, пальцы теребят шариковый карандаш.
Цифровые сводки о работе передвижной библиотеки подготовит фройляйн Урбан, Паула ее попросит. Забота о престиже, говорит советник, а ее мысли уже далеко отсюда.
Ты не знала, сказал тогда Феликс, что задолго до смерти Франко в М. возникла антифалангистская группа, объединяющая испанских студентов и рабочих?
Какое ты имеешь отношение к политической группе? — спросила она. Ты же занимаешься немецкой литературой, верно?
Забота о престиже, звучит его голос на фоне красных крыш; она все-таки взобралась тогда на холм, к замку. Но, чувствуя на плече руку Феликса, не обратила внимания, что за походка была там у людей — скованная или нет.
Вы ведь не откажетесь дать делегации подробные разъяснения?
Вы ждете делегацию? — спрашивает Паула у советника.
Оконная замазка с примесью свинца. Он отравился свинцом и умер от паралича.
Я уже завязал контакты, объяснил он.
Как только паралич поднимется к сердцу, даже тепло ее груди будет бессильно. Позволит ли он прижать себя к груди?
У вас непорядок с коленными суставами? спрашивает она, застегивая верхнюю пуговку на блузке.
Не понимаю, слышится в ответ; он в полном недоумении.
Десятая утренняя беседа с Паулой
Из кухни она пришла в спальню. Я проснулась мокрая от пота, на плече у меня лежала ее рука.
Завтракать пора, говорит она.
За окном брезжит рассвет. Гомонят птицы.
После кошмарного сна сердце мое колотится, точно у бегуна на короткие дистанции. Что Пауле надо у меня в спальне?
Возможно, она и ночи проводит здесь, в доме, без моего ведома раскладывает в гостиной пасьянсы, а радио тем временем сообщает о чокнутых водителях, которые вопреки всем правилам едут навстречу движению, и угли в камине уже не дымятся, погасли. Или она не восприимчива к угару?
Надо бы вызвать печника.
Но теперь здесь сидит Паула. Что-то говорит, и голос ее звучит так, словно она приближается в сапогах-скороходах из дальней дали.
Глаза у меня слипаются, я с трудом удерживаю в памяти ее слова, а ведь они, наверно, образуют фразу. Какое там молодое вино — всего-навсего ветхий мех. Опустевший после пробуждения. Родной язык и тот улетучился.
Проснись, говорит Паула, а я спрашиваю: Что тебе здесь надо?
Совсем рядом спит муж — он храпит, только засыпая, а утром похож на обиженного ребенка. Паула у кровати как будто нисколько ему не мешает.
Лучше спать мертвым сном, чем видеть такие кошмары. В конце концов я выпустила диких охотников, да только все впустую.
Вставай, слышится голос Паулы, ее ладонь гладит мое сведенное судорогой плечо. И сердце сдерживает свой безумный перестук. Я слишком устала, чтоб сдержать и дыхание.
Часть моего мозга я вновь убаюкала. Откуда взять силы подняться, если даже солнце только-только начало вставать?
А Пауле невтерпеж. Она стаскивает с меня одеяло, спихивает с кровати мои ноги, даже тапки мне надевает, потом берет под мышки и усаживает.
В кухне уже готов кофе. Для булочек пока рановато.
Летаргия, говорит Паула, надо бороться с сонливостью, тогда будет легче вставать по утрам.
Бороться?
Ты же выучилась бороться, говорит Паула и сыплет мне в чашку две ложки сахару, хотя в принципе я пью несладкий кофе. Правда, если она не станет размешивать, то еще куда ни шло. Я обманулась: она тщательно размешивает сахар.
Только не говори, что не усвоила урока, бодро продолжает она.
Возможно, ей бы следовало подыскать для утренних бесед другого партнера который способен разговаривать в этакую рань. Вот критики, как я думаю, продирают глаза ни свет ни заря. А она все говорит, говорит.
Нас ведь приучили бороться, говорит она, за личное счастье, за возможность сделать удачную карьеру, за машину повместительнее и побольше денег, против конкуренции. А для ясности выставили повсюду фотографии противников и футбольных звезд. Нет Thule ultimo[31] для экономической экспансии, и основа этого убеждения — непрерывно растущий валовой общественный продукт.
Если хочешь знать, говорит Паула, видимо от души потешаясь на мой счет, мы бы никогда не стали одной из богатейших наций, если бы каждый прокисал, как ты, поутру над своей чашкой кофе в надежде, что, уповая на господа бога, можно будет ничем себя не утруждать.
На какого еще бога? — недоумеваю я.
На бога противогазов и противоатомных убежищ, отвечает Паула.
Это уж чересчур, а вообще-то, сладкий кофе довольно быстро поставил меня на ноги.
Что же это за Паула, скажите на милость, которая вот уже сколько дней только и знает, что дерзит? В моем представлении Паула совсем не такая.
Пошла ты к дьяволу, говорю я, даже не пытаясь заставить свой вялый язык четко выговорить «ш». Что ты мне тут подсовываешь? Уж не сомнительный ли призыв «назад к природе»?
К какой природе? — коротко спрашивает Паула, и я вижу, как она встает из-за стола и направляется к двери.
Что это ты задумала?
Судя по ее виду, она и впрямь решила бросить меня на произвол судьбы.
Не может она так со мной поступить.
Слушай, говорю я, стараясь не впадать в интонацию маленькой девочки, на которую невольно сбиваюсь в таких ситуациях. Слушай, ты ведь должна понять. Я устала защищаться, потому и вела себя так. В конце концов, с твоей стороны тоже нехорошо говорить, будто единственная непреложная истина, с детства вдалбливаемая нам в стране, которую мы можем звать отечеством или родной страной, — это валовой общественный продукт. Подобные заявления граничат с кощунством.
Она остановилась, положив ладонь на ручку двери.
У меня в голове вертятся начальные строки песни, исполняемой женским ансамблем: «На дороге под булыжником песок, вырви же камни из песка…»
Передали один раз по радио — и хватит: лучше что-нибудь в мужском вкусе.
У Паулы и в мыслях нет вернуться на свое место.
Слушай, говорю я, ты уж прости.
Она по-прежнему не трогается с места, и я спрашиваю себя, не подарить ли ей примирения ради что-нибудь из моего гардероба.
Наконец она опять усаживается за стол и говорит, что хотела бы получить мои волосы. Одежду мы уже и так делим.
Я, мол, должна отрезать волосы для ее куклы с фарфоровой головкой и прической из синтетики.
Знаю, когда-нибудь она эту куклу уронит.
Часть IV. Осень
1
Смирилась перед жизнью, как перед необходимостью кастрации.
Ни разу не задумалась над тем, что, возможно, скована в своих движениях. Теперь, осенью, став впечатлительной, обретя восприимчивость, Паула склонна к преувеличениям.
Спущенный пруд еще далеко не смертельно отравленная планета.
У нее словно отравлен мозг.
Не одни только книги оказывают громадное воздействие. Кухонные ножи тоже полагается изымать из ручной клади авиапассажира, и пользоваться ручными гранатами дозволено лишь посвященным.
С трудом Паула выучилась разбирать буквы, усвоила алфавит. Теперь она читает бегло — впрочем, для человека ее профессии иначе и быть не может.
Книга — это ведь не граната, верно? Не может она быть гранатой. Да у Паулы и книги-то Нет, есть только Феликс.
Он стал холоднее. Рассудочнее. Однажды взял ее с собой. Действительно, другой женщины он не завел.
Ужас перед кастрацией донимает его все сильнее, и Паула объясняет это тем, что он находится так далеко от своего настоящего дома. Для тревоги нет причин.
Ничего такого, что могло бы подпалить ее дом разом со всех четырех сторон.
Она хоть и принадлежит к поколению, которое намеревалось стать на баррикады, но политикой никогда всерьез не занималась. А поэтому чувствовала себя неуютно, придя с Феликсом к его друзьям, да и в чисто языковом отношении было трудновато.
Сегодня они у озерца возле автострады. Конец сентября. Феликс за рулем. По радио — сообщение об уровне рождаемости, который продолжает падать.
Вымирающий народ, говорит Феликс непривычно саркастическим тоном, и Пауле это нравится.
Человечество пока не вымирает, отзывается она, мы-то ведь живы.
Вода, уверяла она, здесь оттого бурая, что течет из болота. Хлопья пены у берега никак не связаны с загрязнением окружающей среды.
Снулая рыба на берегу явно смердит.
Ранним утром и вечерами по выходным у воды на складных стульчиках сидят люди с рыбацкими удостоверениями — пытают счастья. Во время соревнований рядом толкутся жены и дети с термосами и бутербродами. Часами никто не произносит ни слова.
Что вы задумали? — спросила Паула, когда они возвращались от его друзей.
Заново начать историю Испании, ответил он, порвать с прошлым. Нет, никаких покушений на туристов. Мы выполним обещание свободы.
Дерзкая мечта о счастье.
Идея меж двух войн.
Кто ее не защищает, заявил Феликс, тот ее предает. И незачем тут болтать о счастье.
Надежда? — любопытствует Паула.
Вечером они увозят свою рыбу, и удочки, и складные стулья, и жен, и детей, и пустые термосы, замораживают улов, так же как зайцев, попавших под колеса на шоссе. Какой же дом нынче без морозильника?
Уровень воды сегодня низкий. Раздолье для пиявок. Бутылочные горлышки, жестянки, обрезки труб в иле. Болотная вода полезна для здоровья.
Но летом, говорит Паула, природная гармония была в полном порядке. Я сама видела стрекозиную парочку. Знаешь, недавно мне приснилось море. Чтобы попасть на берег, нам пришлось несколько километров идти пешком и перебираться через сточную канаву. В море была не вода, а прямо клоака. Я полезла в нее только потому, что, когда приезжаешь на море, положено окунуться в прибой. Я начинаю побаиваться, говорит Паула, хотя все время твержу себе, что мы не умрем, пока живы.
Ты жива?
С запада по небу, которое теперь бледнеет уже к шести, летит пассажирский самолет. Упершись затылком в подголовник, Паула недвижно сидит рядом с Феликсом.
Самолет почти недвижен в рамке ветрового стекла.
На первый взгляд мысль о том, что Паула — как раз такой случай, который никому не уладить, кажется нелепой.
Обычно библиотекари не склонны нарушать порядок. Во все тяжкие пускаются, как правило, представители других профессий. Правда, успел уже появиться плакат, намекающий, что чтение оглупляет и воспитывает жестокость, ибо наш президент — тогда он еще не был президентом — ошибочно заключил, будто Генрих Бёлль написал некий роман под псевдонимом Катарина Блум[32], однако же библиотекарей пока особо не прижимают. Население остерегают от них редко.
Паула достаточно долго была счастливым образчиком молодой женщины, которая не привлекала к себе внимания. Совершенно необъяснимо, как она вообще умудрялась функционировать.
И вдруг ее прорвало — прорвало, и выплеснуло наружу, и опустошило; она стала впечатлительной и больше не объясняет свою впечатлительность одним только расстройством внутренней секреции, больше не воспринимает себя как вещь. Глянула на себя со стороны — и удивилась.
Пока только удивилась. Противодействия еще в помине нет. Есть разве что тенденция, легкая склонность. Склонность? Например, к некой дисфункции, хотя все должно быть превосходно.
Мать она больше не навещала. О брате почти думать забыла. Вальрафа с полки не убрала.
Отмахнулась от неприятностей, которыми обязана Урбан. Только сказала: Ну что может случиться? Ведь они без меня как без рук. Нет, с истерией семидесятых годов даже в Д. покончено.
Откопать другую Паулу? Зарытую, засыпанную, заросшую травой вредину, что таилась в ребенке, бледную немочь, что в нетопленой спальне уже зачитывалась всякими чудными книжками.
Может, надо было поменьше читать? Не забивать себе голову книгами. Мытье головы и укладка волос в последнее время вздорожали, равно как и бензин.
Но есть и такие библиотекари, которые работают с книгами без ущерба для себя.
Паула аккуратно наклеила букву за буквой на белый картон: «НОВИНКИ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»; с помощью Феликса неумело пристроила эту надпись над стендом, где собирается регулярно раз в месяц выставлять новые книги.
Могли бы и рабочих пригласить, из ратуши, заметила Фельсманша.
А разве тут есть рабочие?
Как же, здание дало трещины.
Но ведь сеньор Перес сделал все как надо, ответила Паула, идя на поводу у собственной гордости, с тем чтобы смутить пожилую фройляйн. И добилась-таки своего.
Или, по-вашему, у него плохо получается?
Фельсманша чуть скривила губы в усмешке, повернулась и исчезла между стеллажами, хотя делать ей там было совершенно нечего.
Как хорошо — внести ясность, говорит Паула Феликсу. Она меня ненавидит. Зачем же я стану этому мешать?
Второй раз Феликс согласился помочь с большой неохотой.
Позвала бы рабочих, сказал он, что старуху-То провоцировать. Чем она тебе не угодила?
Ничем. Явного повода вроде бы нет. Разве только неодолимая потребность глубоко вздохнуть, покончить с одышкой. Оградить себя от астмы и окостенения суставов, регулярно при открытых окнах делая утреннюю зарядку.
В принципе ей бы не стоило давать возможность копаться в себе. Не привыкшая иметь дело с чувствами, Паула доходит до нелепостей. Нелепо думать о покупке дома в Испании. О том, чтобы хоть зиму проводить на юге. Да разве она сумеет вырваться зимой на юг? Зимой ей положено быть в городе, среди муниципальных стеллажей. И осенью, когда появляются книжные новинки, она должна быть здесь. Разве она посмеет послать к черту свою работу и удрать, смотать удочки? Лишиться счета в банке и поставить крест на будущей пенсии.
Прыгнуть вниз без всякой страховки, без сетки. Кто же прыгает, пока как следует не допекло?
Во всяком случае, не Паула.
До поры до времени она еще варит в кабинете утренний кофе, который Фельсманша не пьет, а скоро и Урбан не составит Пауле компании: в октябре она уходит.
Нет, сказала Урбан Пауле, более выгодных предложений она не получала. И вообще ни о каких библиотеках речи нет. Поедет с друзьями в Грецию, арендуют там землю, станут ее обрабатывать — начнут новую жизнь.
А как же компьютеры? — спросила Паула.
Пройденный этап, ответила Урбан.
В один миг беспощадно все поломать? Переметнуться от компьютеров к другой крайности?
Это возраст виноват? — спросила она у Феликса. Вы другое поколение, так, что ли?
Я все взвесила, уверяла Анетта Урбан, разобралась в своих неприятных ощущениях и сделала вывод.
Лучше все-таки укрыться в привычном? Варить кофе и смотреть, как струя кипятку льется на порошок в фильтре. С какой стати от этого отказываться?
Только Фельсманша, сославшись на давление, может с полным правом не пить кофе.
Ну и уродина. Гладкое лицо, на котором годы не оставили следов, выглядит нелепо. Жизни-то не было. Жизнь потихоньку прошла мимо. Ей этого не вынести. Ненависти, которую держат в узде.
Возьмешь меня с собой в Испанию? — спрашивает она. Феликс сидит в гостиной над учебниками, готовится к новому семестру.
Если я тебя попрошу, продолжает Паула, заметив, что он мнется. Когда же его чувство к ней переменилось? Она в смятении. Нельзя допустить, чтобы он зарылся в свои книги. Он сидит за ее столом, спиной к двери, в конусе света от настольной лампы; другая половина комнаты тонет во мраке.
Паула пересекает гостиную, подходит к нему сзади, обнимает за шею; упираясь подбородком ему в волосы, заглядывает через плечо: он занят писателями-романтиками.
По-старому оставлять нельзя. Но ведь непонятно, как иначе. Никакой резкой ломки, лучше исподволь, сперва чуть заметно, даже вовсе не заметно, лучше изнутри, чем извне.
Знаешь, сказала Паула Феликсу, когда они вышли из квартиры его друзей и спускались вниз по тускло освещенной лестнице, знаешь, в детстве я плакала так же редко, как и мой младший брат. Я презирала соседских девчонок, которые старательно плели из желтых одуванчиков венки, ожерелья и браслеты. Мне их занятие казалось глупым, я знала, что все увянет еще прежде, чем будет готово.
Вероятно, ты и в куклы не играла, отозвался Феликс.
Я и сейчас иногда плачу над книгами, добавила Паула.
Нет, Феликс ничегошеньки не понял. Паула ждала понимания, сочувствия, а вышло, что с пониманием туго.
Теперь, сказала она, я все-таки возьмусь за испанский. Не сказала: по-старому нельзя, но как иначе? Принесла из фонотеки домой пленки с курсом испанского языка, терпеливо принялась учиться, просила Феликса исправлять ошибки в произношении и не замечала, что ее рвение утомляет его.
Да, нет у него навыка ловить камень так же легко, как мяч.
Мотор выключен, но он пока что сидит в машине.
Если хочешь знать, говорит он, то, по-моему, воду необходимо спустить, ведь она такая грязная, что рыбы, того гляди, передохнут. Неужели ты вправду намерена тут купаться?
Вероятно, другого случая в нынешнем году уже не представится, отвечает Паула; она выходит из машины, снимает через голову джемпер, расстегивает джинсы, сбрасывает туфли. На ней бикини, то самое, что она носила на Лансароте; отойдя подальше от машины и от Феликса, она останавливается на берегу, кидает в озеро камешек, а потом и сама осторожно спускается в воду.
Под ногами ил. Рот лучше не открывать. В извечном страхе перед заразой она выплывает на середину.
Вдалеке маячит автомобиль: обе дверцы распахнуты, точь-в-точь птица с подрезанными крыльями.
Среди своих друзей Феликс чувствовал себя превосходно. Был оживлен, как в первые недели после приезда.
Все мы тоскуем по дому, сказал кто-то Пауле, привыкнуть трудно: климат другой, люди. И начал рассуждать о родине. Понимания он у Паулы не встретил. Скорее заинтересованность, сочувствие. Что это, увлеченность?..
Кожа у нее зудит, когда, обогнув хлопья пены, она вновь карабкается на крутой берег, цепляясь за пучки травы, чтобы не сорваться в воду.
Машет руками, отгоняя комаров.
Как известно, в Средиземном море отравы куда больше, чем в этом пруду. С этими словами она берет с заднего сиденья полотенце и, поеживаясь, вытирается — когда солнца нет, теперь быстро холодает.
И все-таки купаться можно.
Феликс слушает радио и Паулу. По радио передают что-то латиноамериканское.
Он только кивает, когда Паула обертывает бедра полотенцем и переодевается под прикрытием дверцы.
Знаешь, говорит она, в последнее время со мной творятся странные вещи. Я все чаще ловлю себя на том, что воспринимаю процессы, происходящие за пределами моего мозга, как обман чувств. К примеру, давешний самолет. Он что, вправду полз по ветровому стеклу?
Нет, не по стеклу, сухо отвечает Феликс, а Паулу коробит: в его голосе не осталось и тени меланхолии.
Она надевает джемпер прямо на влажное тело, снимает полотенце, застегивает молнию на джинсах.
Псевдодвижение, говорит она, мнимая подвижность, на деле ничего не меняется.
Феликс молчит, и она наклоняется, заглядывает в машину. Он сидит совершенно неподвижно. Словно кукла.
Одиннадцатая утренняя беседа с Паулой
Накрыв стол к завтраку, я принимаю ванну. Размышляю о себе. В теле пустоты. Только о себе. Но в голове — дети. Кошка окотилась. И бегония что-то слишком разрослась — почему? Я купаюсь в масле и уксусе. Запираю дверь, хотя муж и дочери еще спят. Шесть квадратных метров для меня одной. Вообразить, будто других людей на свете не существует. Масло и уксус полезны для кожи. Я мысленно представляю себе гладкую кожу, опять как у молоденькой девчонки. Моей коже всегда не хватало гладкости. Думать о начале. Руки не шершавые. Любоваться фотографиями. Лицом, которое было моим. Погрузиться в воду. Запереть дверь и размышлять.
Порой я вижу сны. Вечно одно и то же: дом, который ломается, будто игрушечный. Я говорила, что люблю его. И говорю, что люблю, — ведь я живу в нем. Но комнаты мне незнакомы. Снаружи дом не такой, как внутри. Из-за масла вода не смачивает кожу. Искупаться в молоке ослицы. Сменить кожу. Руки плавают на поверхности, точно совсем не мои. Средние пальцы на обеих руках заклеены пластырем — нарывают. В кухне у меня прорастают подсолнухи, а по почте я выписала вьющиеся розы, чтобы прикрыть ими сетку ограды. Порой я мысленно покидаю свою оболочку: что-то пребывало в покое и вот шевельнулось, ожило. Ростки мне хорошо знакомы. Длинные, бледные. Если я пересажу их из плошки с водой в землю, то, наверное, вырастут подсолнухи. Я их люблю, а может, и нет. Что-нибудь да будет.
Нет, не будет ничего, так как я боюсь одиночества.
Паула где-то прячется. Ее место в кухне свободно. Нельзя допустить, чтобы она меня бросила.
Как я тогда во всем разберусь?
«Песнь птиц» я никогда не слыхала.
Пабло Касальс[33], говорила Паула, гимн свободы испанских республиканцев.
Где-то я читала, что у иберов несчастная любовь к свободе. Свою врожденную склонность к полнейшей анархии они неуклонно возмещают требованием полнейшего единодушия.
Феликс для меня чужой. У меня были только очень-очень скудные сведения о некоем мужчине, на которого я должна ориентироваться.
И все же бегство не в частную жизнь, говорила Паула, а скорее к душевному оздоровлению. Здоровье индивида — основа здоровья общества.
Нельзя подставлять в уравнение половинку и ошибочно выдавать ее за целое.
Уйти от духовного умерщвления.
От ледяного забытья, которое вовсе не сохраняет тебя в живых, как обещано, а просто позволяет с легкостью тобой манипулировать.
Наверное, я была глуха и слепа. Нельзя путать внешнее и внутреннее.
Этого мужчину я вижу только снаружи. Каков он изнутри — неведомо.
Может, вдобавок еще и тайное желание провести с Феликсом ночь — как Паула. Ориентироваться на собственный текст как на реальность.
Вода в ванне мне по шею. А в кухне на столе лишний прибор — для Паулы.
Лежу, смотрю в потолок — и замечаю там трещинки. Распад не остановить.
Зимою этот дом выглядит не так, как летом. Ранней осенью на стене огнем пылает дикий виноград, а в ноябре все уже голо.
Сжимая дом в объятиях, виноград его пожирает.
Почему я непременно должна любить этот дом? Только потому, что он мой?
Нет, Паула, говорю я, тебе только кажется, будто я по внешнему виду сужу о внутреннем мире. В действительности я гляжу внутрь, а потом наружу. Все остальное — иллюзия.
Я вдруг замечаю, что впервые назвала Паулу Паулой. Когда я вышла из ванной, она сидела в кухне. Я даже вздрогнула от радостного испуга, какого не испытывала уже целую вечность.
Я засыпаю ее вопросами, точно она сбежит, если не удержать ее этой атакой: Что ты на самом деле знаешь о Феликсе? Он в партии? В какой? Может, я чересчур уж прямолинейно выпихиваю его в политику?
Паула — само спокойствие, не то что я. Нет, говорит она, он беспартийный.
А его друзья?
Большинство, думается мне, такие же, как Феликс. Двое-трое, возможно, состоят в Испанской социалистической рабочей партии.
Феликс, благодушно говорит она, по-моему, до сих пор ни разу еще не видел ветряной мельницы изнутри.
2
Летом в природе еще царила полная гармония. Так казалось Пауле. Октябрь нынче золотой, как реклама вина. Целыми днями сияет солнце, будто земля сбилась с пути. Или в воздухе избыток лака для волос, атмосфера склеилась.
Только солнце и выглядит как всегда. Немыслимо, чтобы оно было смертоносно.
Все планы насмарку — во Франкфурт на книжную ярмарку Паула не поехала. А ведь на этот раз ей бы не пришлось отпрашиваться у начальства. Но обстоятельства вынудили ее остаться. Как только закончился испытательный срок, Урбан немедля собралась — и была такова, а фройляйн Фельсман серьезно расхворалась. Вопреки всем медицинским канонам она подхватила менингит, которым обыкновенно болеют весною и летом, но уж никак не осенью.
Впустив в библиотеку свежий ветер, Паула теперь в одиночестве сидит на сквозняке. Скучливая досада подступает к горлу, словно отрыжка. Нет, она не жалуется. Да и на что жаловаться-то?
Она все еще старается внушить себе, что тревожиться незачем, так как пока не уверена, вправду ли ошиблась временем и местом. Не допустить распада; пока надежда крепка, обойтись мелким косметическим ремонтом, а не сносить всю постройку.
Сносят только лишь соседскую хибару, давно обреченную на слом. Внешне в деревне кое-что меняется. И сломали, и вывезли еще до наступления зимы. Разбили, как игрушку, и ветер гонит по улице облако цементной пыли.
Глядя на падающие стены, старуха, родившая в этом доме сына, жмется ближе к невестке.
Не такой уж он был и старый. Лет восемьдесят простоял, не больше. На кирпичах — клеймо итальянца-подрядчика, который обосновался со своими работниками в здешних краях. Почему он уехал из Италии?
Осталась куча мусора, из которой торчат остовы кроватей, что некогда были частью приданого.
Напротив, в старом школьном здании, разместилась мастерская, где шьют блузки. Самое позднее часа в четыре вспыхивают лампы дневного света; работают там женщины, они очень рады, что нашли место поближе к дому, к детям и в город мотаться не надо.
Позднее Паула видит в окно соседа: направляясь в трактир, он делает крюк через кладбище — ведь лачугу снесли и спрятаться негде. Возможно, этот путь знаком ему с детства. Хоронясь от родительского глаза, он таким манером до самой еженедельной исповеди крался от дозволенных свобод к недозволенным.
Деревенские своих домов еще никогда не поджигали.
И Феликс уедет не вдруг. Он как-то незаметно повзрослел, думает Паула. Она, конечно, понимает, что их отношения изменились, но мысли о разлуке не допускает.
Не допускать, чтобы тебя покинули.
Когда Паула, нагруженная книгами и ящиком формуляров, появляется в доме для престарелых, там пьют кофе. Уже знакомые стариковские лица склонились над чашечками кофе и тортом. Угощает стариков весьма общительный муниципальный советник, которому никак не откажешь в оптимизме. Небесные кущи здесь никому сулить не надо, старикам и без того до неба рукой подать, окончательно и бесповоротно. Вот он и держится с ними как сын, только, конечно, не блудный.
От кофе с тортом Паула не отказывается. Очищенный от кофеина, напиток безвреден для изношенных сердец.
Заведующая, у которой руки хищные, под стать подбородку, опять в цветастой блузке с эмалевой рыбкой. Но на сей раз запах кофе перебивает запах мастики. А уж о сирени и вовсе думать нечего.
Один из стариков спрашивает Паулу, может ли она объяснить, почему он, железнодорожный рабочий, целых тридцать лет, пока не вышел на пенсию, должен был молотком простукивать на станции вагонные колеса.
Вы никогда не спрашивали у своего начальства, в чем смысл этого занятия? — осведомился муниципальный советник, дорожащий каждым избирательным голосом.
Вначале она не хотела его удерживать. А теперь покупает ему на зиму свитер, шерстяной шарф, пальто и перчатки. Как он ни упирается, она настаивает на своем и платит сама. Хотя знает, что денег у него вполне достаточно. Зимой он должен быть именно таким: в свитере, в шарфе, пальто и перчатках, думает Паула. Только от сапог на меху он отказывается наотрез: они, мол, без подковок.
По субботам за булочками ходит Феликс, а Паула отсыпается; в деревенской лавке он забирает всю сдачу до последнего пфеннига.
Сапоги он сравнивает с периной — слишком тяжело для любви и для легкой походки.
Паула наконец-то надумала его закрепостить — не слишком ли поздно?
Его мать представляется ей этакой матроной. Низенькой, толстой, черноволосой и бледной. Письма от нее приходят теперь чаще. Пока Паула за столом, письма так и лежат возле тарелки, Феликс к ним не прикасается. Читает он их потом, в спальне.
Пауле он рассказывает о влюбленных из Теруэля. Бездыханные, изваянные в мраморе, покоятся они на своих каменных ложах, рядом, но не вместе, и рукам их вовеки не соединиться.
В эту пору у нас дома море еще теплое, говорит он. Только летом воздух над Малагой стоит без движения. Осенью он поднимается к крепости, руины которой сейчас как раз реставрируют. Видно далеко-далеко: от бухты — поверх башен — до самых гор, играющих всеми оттенками синевы. Малага у него с языка не сходит. Хотя есть места и получше.
Моя мать, говорит он, высокая блондинка. И насчет сестры ты ошиблась, она очень похожа на отца.
Паула рассказывает свой сон: как она ночью идет по какой-то местности, идет и знает, ей только снится, будто она идет и никогда не достигнет цели.
Ты была голая? — спрашивает Феликс.
В пути ей повстречался он. Стал расспрашивать, и она ответила, что не знает, куда идет. Нельзя, сказал во сне Феликс, от этого падать духом.
От чего «от этого»?
А вот от чего, говорит Паула. Во сне ты сказал, что придумываешь, как бы меня покинуть.
Он — тот, что во сне, — был очень уверен в своей правоте. Ты ведь уверен в себе или нет? Твой мир по швам не затрещит.
Их два, поучает он ее.
Два мира?
Твоя половина и моя, говорит он.
Нет, если б было две половины, они бы разладились обе.
Твоя половина, говорит Паула, тоже должна бы испортиться, раз моя сошла с рельсов. Но я этого не замечаю. Ты от меня уходишь?
Ты могла бы уйти со мной, роняет Феликс без всякой настойчивости в голосе, и она понимает, что отучила его от чрезмерных эмоций.
Куда уйти?
Анонимные письма приходят теперь регулярно, однако это не очень ее трогает. Задевает, конечно, но только иногда вызывает страх, что если анонимщик перейдет от слов к действию, то она и впрямь столкнется с жестокостью и насилием.
Куда важнее упрек советника по культуре, что-де от граждан поступают все новые жалобы, так как Паула не исправляет ошибок Анетты Урбан. Распростившись с этой девицей, любой бы на ее месте вздохнул с облегчением и вернулся к старым, испытанным методам.
Ведь самое главное в том, чтобы дети изначально составили себе правильное впечатление о мире. Нельзя вносить сумятицу в головки малышей, которым еще жить да жить.
На этот раз Паула не теребит ворот блузки, не садится, стоит у окна, скрестив на груди руки.
Кто же именно нажаловался?
Это роли не играет, тут важен сам факт, говорит он. Как вы знаете, мы всецело вам доверяем и надеемся на вас.
Лицо Фельсманши за стеклом изолятора показалось Пауле бледным и осунувшимся. Смотреть жалко.
Возможно, она умрет, так и не пожив по-настоящему. Или она слишком дорого заплатила.
Приобретением книг занимается теперь, понятно, одна только Паула. Быть может, фройляйн Урбан, с виду такая хладнокровная, на самом деле была довольно пылкой натурой.
Нет, говорит Паула, пытаясь найти оправдание; она объективно выявила недостаток и постаралась хоть как-то его устранить. Городская библиотека не чета приходской, объясняет она. Мы обязаны знакомить читателей со всеми книгами, которые можем им предложить.
Тем не менее вам бы следовало увязать предложение со спросом.
Да ведь так и есть, замечает Паула, не будь спроса, эти книги стояли бы себе нечитанные на полках. И волноваться никому бы не пришлось.
Как библиотекарю, ей действительно хочется воспитывать читательские вкусы, формировать литературные привычки, непринужденно признается она.
Ночами глаз не сомкнуть. Рядом с Паулой Феликс, спит крепко, точно никогда не видит снов. На церковной башне каждые пятнадцать минут бьет колокол, к концу часа все громче. А в полночь уже кричат петухи.
В конце концов Паула встает, заслышав, как под окнами почтальонша прислоняет к забору свой велосипед и сует в жестяной ящик газету.
Мало-помалу деревня оживает. Из птиц в эту пору остались одни воробьи. Все другие улетели. Кто остался, тот уж не поет.
Машина проехала, в такую рань они еще редки; потом прошла какая-то женщина — видно, торопится на первый автобус.
Заваривая кофе, Паула читает: Цыгане объявили на территории мемориала голодовку, чтобы привлечь внимание к дискриминации, которой их подвергают по сей день.
Вот, думает Паула, другая возможность для Д. — не говорить больше, что, дескать, и не видали ничего, и не слыхали. Не заметать сор под коврик, не ставить поверх диван.
Сказать: да, так было, но пусть это никогда больше не повторится; сделать символ попранного человеческого достоинства символом протеста. Символом защиты прав человека.
Не говорить, какое, мол, нам дело до остального мира, покуда работают колбасный завод и бумажная фабрика, а автомобильные приемники находят покупателей. Да, мы были городом художников, но этого мало. Нельзя прикрывать вчерашний день позавчерашним, замазывать, затирать, словно все еще живо.
Положить конец и начать сначала — вот как надо.
Почтить сопротивление шестерых погибших 194 бунтарей не просто табличкой на здании сберегательной кассы, нет, отмечать это сопротивление как праздник, а не вспоминать тайком о дне рождения Гитлера, тогда лицо города станет иным, новым. И сердце забьется быстрее, отгоняя подползающую смерть.
Да у какого бога найдется на небесах место для воинства слепых и глухих, которым не дано ни видеть его, ни воспевать?
Торт, кофе и порозовевшие лица стариков. Кое-кто радуется, когда Паула приходит с книгами.
Многие понимают, что торт — тоже всего-навсего подачка. До сих пор Паула не приводила сюда делегаций работников культуры.
Лишь на пути к машине ей становится ясно, что этот советник представляет в муниципалитете оппозицию. Он ступает чуть ли не с робостью, потому что ботинки у него скрипят.
Слишком уж мало она интересовалась коммунальной политикой. Забилась в скорлупку, а оттуда видно не бог весть сколько.
К своему изумлению, Паула обнаруживает, что по симпатиям ее причисляют по меньшей мере к социал-демократам. В расчете на соответствующую реакцию с ее стороны заводят речь о собрании горожан и присылают приглашение от обер-бургомистра.
В приглашении он упоминает об инициативах, с которыми его граждане могут выступить на собрании, но не о запросах, хотя отец города обязан реагировать только на формальный запрос.
Паула вдруг замечает, что ее стараются вовлечь в местную политику.
Нет, говорит она, я живу не в Д.
Стало быть, на собрании горожан у нее нет права голоса, и вообще, она не уверена, хватило ли бы ей смелости выступить, даже будь у нее такое право.
Наконец совсем рассвело; Паула возвращается в постель. Феликс лежит на спине, комком прижав к животу одеяло и простыню. На лице обиженная гримаса — ему снится что-то нехорошее. Он не просыпается, когда Паула тщательно укрывает его и ложится рядом. Она юркает под одеяло, не оставив себе даже отдушины, сворачивается клубочком, обнимает Феликса и засыпает, как в детстве, когда уставала бороться с собой и все-таки опять совала в рот большой палец.
3
Досада и омерзение. Выходит, переезд в Д. все-таки был ошибкой?
Утопив голову в подушку и глядя наискось вверх в окно, она видит под куполом церкви красный сигнал для самолетов.
Я задыхаюсь, говорит Паула. В горле у нее першит от сухого кашля. Феликс молча лежит рядом. Отметить все признаки болезни. Лежать в темноте и слушать шорох автомобильных шин по мокрой мостовой. И испытывать чувство, будто видишь сон: вот она ползет на четвереньках по длинному подземному ходу и знает, что выхода нет. Рассчитывать, насколько хватит воздуху. Но не останавливаться, стремиться вперед. Безрассудная надежда.
Хоть бы я ошиблась, говорит Паула, хоть бы ошиблась. Ты спишь?
Нет, отвечает Феликс.
После второй пункции у Фельсманши появился свист в ушах. Ее подлечили, поставили на ноги, но на работу пока не выписали и из-за свиста направили к психиатру.
Может, тебе страшно? — спрашивает Феликс.
Я уверена, говорит Паула, она в жизни к себе ни одного мужчину не подпустила. Временами мне кажется, что она — пустыня, существующая лишь для порядка, потому что в атласе тоже есть пустыни… Если б можно было сказать, что собственный ее порядок уже не порядок, что происходящее у нее в голове день ото дня становится все понятнее.
Феликс поворачивается на бок, пододвигается ближе. Чего ты боишься?
Все так перепуталось, говорит Паула, надо разобраться, а я не знаю, с чего начать.
Он неудержимо проникает в нее.
Тогда бросай все и едем вместе, говорит Феликс.
Да, он улетает с легким сердцем. Из немецкой зимы в южноамериканское лето.
Паула отпросилась на день, чтобы проводить брата на аэродром.
Почему, спрашивает он Паулу в кафетерии, где они перед самым вылетом пьют кофе, почему бы мне не строить атомную электростанцию, если за это платят?
Почему ей никогда не приходило в голову участвовать в демонстрациях против атомных электростанций? Аварии на реакторах упоминаются разве что в сводке утренних новостей. По крайней мере такие, как в Харрисберге. Всего лишь сочувствие к демонстрантам, но и упрек брату; а собственную инертность не одолеть?
Если не он, то другие это сделают. В Ландсхуте в окрестностях реактора птенцы у воробьев сплошь альбиносы и уроды.
Давно ли ты так наивна? — спрашивает он сестру. Мать осталась дома. Прощальных сцен не будет.
Нет, какие там сомнения. Для него это непозволительная роскошь, если охота уцелеть. Жизнь, говорит он, штука простая, только жить надо одним днем. Детей он заводить не хочет. Он знает, о чем говорит.
Сходства с Феликсом Паула больше не видит. Будь осторожен, говорит она. В сущности, брат уплыл тогда вовсе не сам, его попросту унесло течением.
Смотри не заразись, говорит она и удивляется собственной жесткости: раньше она запрещала себе так относиться к Матиасу.
Чем не заразись?
Испанским вирусом.
Что ты имеешь в виду? — недоумевает брат. В лагере у нас все будет как в Европе, надо быть полным идиотом, чтобы по неосторожности подцепить такое.
Испанский вирус, насмешливо объясняет Паула, уже перекинулся на Южную Америку и жаждет свободы, совсем уже близкой свободы.
Она бы предпочла попрощаться с братом по-доброму.
Этот парень забил тебе голову всякой ерундой, говорит он наконец, отошли его домой, пока не разочаровалась.
Знаешь, говорит Феликс, у нас дома кое-кто уже снова с восторгом толкует о Франко. И виной тому не реформаторы, а тяжелое положение в экономике.
Паула ждала его только к вечеру, но он возвратился из М. днем и стоял у нее за спиной, когда она тщательно запирала на обеденный перерыв стеклянную дверь библиотеки.
Подлинная опасность идет от нищеты, говорит он, сидя у окна, там, где в тот раз сидела Урбан.
С виду дома кажутся необитаемыми. После Паула попросит ключ от уборной, чтобы хоть одним глазком заглянуть в кухню, где до сих пор готовят на дровяных плитах. Гигантская плита стоит посередине, занимая чуть ли не все помещение.
Выходит, испанское чудо не состоялось?
Под знойным небом, в желто-бурой земле, в глухом краю среди солнца и крепостных стен погребена надежда? Груда камней — знак насилия?
Сегодня ты вообще не ходил в университет, напрямик говорит ему Паула, ты был у друзей.
Он не дает себе труда сослаться на какую-нибудь мифическую лекцию.
В перерыве между супом и котлетой она замечает: Твой страх перед отцами не что иное, как нелепый страх кастрации.
Да, страх перед фашизмом, отвечает Феликс.
Его страх, как он утверждает, идет от инстинкта.
Из окна его кабинета открывается совсем другой вид. Не красные кровли на дворцовом холме, как из окна советника по культуре. Отсюда, с высоты, виден весь Д. и каменистая равнина до самого М., а когда дует фён, вдали за большим городом маячат Альпы; эту панораму увековечили на своих полотнах знаменитые художники.
Больше всего обер-бургомистр любит музыку.
Не стоит придавать значение анонимным письмам, говорит он. И на миг озадаченно умолкает, узнав, что аноним тем временем уже успел позвонить Пауле в библиотеку.
Мы, говорит он, искореним это зло. Беспокоиться ей незачем.
Мать советника по культуре зубрила испанский совершенно напрасно, кассирши в универсамах достаточно знали немецкий язык, чтобы правильно отсчитать сдачу.
Просто удивительно, заметил Феликс, как быстро ты справляешься с моим родным языком. Но пока, чтобы добиться понимания, Паула еще вынуждена прибегать к безмолвному языку жестов.
Значит, искоренить зло. Он принес Пауле список тех изданий для детей и юношества, которые помечены в каталоге как тенденциозная литература, а вдобавок статью министра по делам культов (он же ведает и культурой) о ситуации в области детской и юношеской литературы. Сегодня, читает Паула, эта литература зачастую дышит унынием, усталой покорностью и пессимизмом. Сплошь конченые личности. Но, к счастью, наша действительность богаче и многограннее.
Не отбрасывать мысль о том, кому она обязана этим списком.
Мы думаем, слышит Паула его голос, что страсти улягутся, если вы решитесь переставить сомнительные книги из отдела юношеской литературы в отдел для взрослых. По желанию родители смогут взять их там для своих детей.
Утром, одеваясь, она глядела из окна спальни на кладбище, наблюдала за вдовцом: он старательно разровнял землю, на которой сейчас нет ни цветочка, аккуратно отложил в сторонку инструмент, а потом стал в изножье могилы, скрестил руки под животом и склонил голову, как для молитвы.
Паула слыхала, что он грозился прибить соседскую кошку, если еще раз поймает ее на свежеразрыхленном холмике.
Феликсу она говорила, что до сих пор тосковала лишь по запахам родительской кухни.
Разговоров о родной стране, о метрополии она больше не выдержит.
Что же, прикажете ей считать себя колонией?
По Западной Германии, говорила она (он между тем надевал купленный ею белый свитер с высоким воротом), по Западной Германии я никогда не тосковала. Я бы смогла жить где угодно.
Говорила, что ни отец, ни мать ей не нужны.
Но теперь, вот в эту самую' минуту, она не в силах бросить то, что создала.
Собрать вещи и удрать? Лучше сегодня, чем завтра. Но только без скоропалительных решений.
Уехать хочешь?
Кроме того, добавила она, срок твоей стипендии еще не вышел. Ведь нельзя же собирать чемоданы в разгар семестра, как ты это себе представляешь?
Вечером, вернувшись домой, она рассчитывала поужинать овощным супом с гофио.
Въехала в промокшую деревню, мимо автобусной остановки, мимо почты, справа за поворотом — сберегательная касса, слева — освещенная витрина магазина, трактир обзавелся помпезной неоновой вывеской; уже с поворота она увидела свет в окнах — значит, Феликс дома.
В передней — светло-желтый кожаный чемодан и парусиновый рюкзак, на кухонном столе — открытка от Анетты Урбан (море на ней синее неба) и письмо Феликсовой матери, которое он забирает, когда Паула появляется в дверях.
Сегодня утром он сказал: Твое отечество я представлял себе не таким холодным.
Стало быть, тоскует по южному климату.
Что ж, можно назвать это и тоской по климату.
Двенадцатая утренняя беседа с Паулой
Я не хочу расстаться с ощущением, что видела приятный сон. Нагишом гуляла с Паулой по Венеции. В Венеции, которая представляется мне похожей на Нониного кита, я бы хотела когда-нибудь написать книгу. Сложить вечерком дневной мусор в пластиковый мешок и вывесить за окно, на крюк в стене, выходящей на канал. Схорониться во чреве кита.
В соборе святого Марка мы обе — я и Паула — получили огромное удовольствие: собирая подаяние в мужскую шляпу и выводя фиоритуры.
Конечно, я бы и в Венеции могла проснуться и начисто забыть все слова. Онеметь. Раз, два — и готово. Язык словно улетучился из памяти.
Родному языку не разучишься, говорит Паула (теперь она остается и на ночь), как нельзя разучиться есть ножом и вилкой.
Нет, говорю я, ошибаешься. Конечно, я могу проснуться утром, а в голове — тишина, все остановилось. Мертвая фабрика. Нет больше ни матери, ни отца. Мир переменился. Ты забыла, какой он. И не стоит говорить, чти отца своего и матерь свою, дабы слова твои благоденствовали и никто тебя не узнал. Встань поутру и не произноси больше ни слова. Потому что ни слова больше не помнишь. Пустоты в голове.
Да ладно, отвечает Паула и гонит меня из теплой постели. Уж чем таким блещет твой родной язык? Брось. Брось бояться. Все можно назвать и по-иному. Наполнить ветхие мехи молодым вином, говорит она и упорно твердит, что сможет жить где угодно.
Конечно, можно утром открыть глаза, говорю я, и оказаться ветхим мехом, который рвется, оттого что стенки его истончились и прогнили.
К примеру, говорю я, пытаясь юркнуть обратно в постель, еще теплую от сна, к примеру, если спишь слишком мало, вот как я с тех пор, как корплю над твоей историей. Что ты делаешь, когда я устаю и вынуждена бросать работу?
В постель она меня не пускает. Ладно, постоим у шкафа.
Вообще-то, говорит Паула (с уверенностью экстрасенса она вытаскивает из шкафа именно то, что хотела надеть я), вообще-то тебе, по идее, легче собрать чемоданы, чем мне. Ты ведь не жила от рождения и до окончания школы безвылазно в одном поселке, в одном доме.
Вот как, говорю я и обнаруживаю, что стирки прибавилось, ведь Паула тоже кладет свое грязное бельишко в нашу корзину, по-твоему, у меня отродясь не было корней? С сорок пятого все время в пути — сперва бегство, потом переезд за переездом. Без конца. С одного места на другое.
Утром я иной раз спрашиваю себя, отчего мужчины всегда оставляют свои грязные носки там, где их сняли.
Но, говорю я, именно поэтому я обзавелась имуществом, которое удерживает меня на месте.
Ты, замечает Паула, должна действовать иначе. Не позволять себе плыть по течению.
А я плыву?
В море ты далеко заплываешь? — спрашивает Паула.
В кухне она уже поставила на плиту кофейник. Я признаюсь, что в море плыву, только пока дно близко, под ногами. Потому что тебе это непривычно, объявляет Паула и твердит: Родина там, где не чувствуешь себя чужой.
С какой стати, спрашиваю я, ты рассуждаешь о родине? Повторяешь вычитанное в книгах, и только-то. Я готова к бою и не уступаю. На этот раз мне уверенности не занимать. Испания для тебя чужая страна, говорю я. Поэтому долго ты там не выдержишь.
Испания, какой видишь ее ты, отвечает Паула, существует только лишь в твоей голове.
А где в таком случае существуешь ты? — любопытствую я.
Ну хорошо, говорит Паула, если уж тебе никак нельзя без Испании, тогда учти, что оплакивать отныне придется не немецкую историю, а европейскую.
Но как же твой испанский вирус?
К лечению больного, говорит Паула, не давая мне встать, чтобы я не мешала ей готовить завтрак, надо приступать, когда его организм еще в состоянии быстро мобилизовать все свои силы на борьбу с недугом.
Стало быть, все же решение в пользу дерзкой мечты?
Ты играешь понятиями, говорит Паула, оперируешь химерами, мнимой удовлетворенностью, внушая себе, что в голове у тебя происходит естественная копуляция.
Мне легче сохранять спокойствие, пока она этак развоевалась. Как библиотекарше, ей бы не стоило принимать мою работу до такой степени в штыки, думаю я. Что у нее в мыслях, когда она говорит о копуляции? Моя манера любить, в сущности, ее не касается.
Представь себе шахматы, говорит она.
Мне их представлять незачем. Они лежат в гостиной, можно сыграть.
Нет, говорит Паула, ты не играешь. Тобой играют. Как думаешь, какая ты фигура?
Больше всего я люблю быть конем, отвечаю я.
Не больше всего, поправляет Паула.
Что же ты хочешь услышать? — спрашиваю я и чувствую себя загнанной в угол.
Разумеется, в ответ я могу назвать только пешку.
Между прочим, я еще ни разу не видела Паулу такой резкой и нетерпимой.
Едва совладали с шахматами, новое дело — представляй себе Европу.
Ты знаешь, говорит она, что, начиная с революции в России и до конца второй мировой войны, в Европе погибло свыше ста миллионов человек, не считая жертв гражданской войны в Испании. Какой стала бы Европа, не будь погибших? Ведь мы помним только об ушедших близких.
Уже к концу завтрака я опасливо спрашиваю Паулу: Ты не передумала? Мне действительно надо обрезать волосы и отдать их твоей кукле?
Почему бы нет? — отвечает она вопросом на вопрос. В конце-то концов, не все ли равно?
А что ты сделаешь с волосами, если уронишь куклу? — допытываюсь я.
4
Будь она даже не виновата, ей бы нипочем не отделаться от ощущения вины. Сегодня она виновата. И вчера тоже.
Виновата. Потому что проспала.
Лежать, утопив голову в подушку, и глядеть наискось в окно. Вверху на карнизе сидят голуби. Не завтракая, сесть в машину и двинуться в город, мимо двух бензоколонок у въезда, перед второй из них сбавить скорость — не то оштрафуют за превышение, у них там радар запрятан, — и дальше, мимо нового здания окружного управления, где стоят дорогие стулья, оплатить которые можно только из кармана налогоплательщиков. Надо бы сменить резину, а то колеса буксуют на сырых камнях. Белый указатель отсылает туристов к замку, желтый — к концлагерю.
В прошлую субботу Феликс объявил, что, кроме себя, она никого и ничего не видит. Лелеешь свое «я» и прикидываешься несчастной, вместо того чтобы разобраться.
В чем? — спросила Паула.
Например, в том, почему ты не приемлешь слово «отечество» и отказываешь себе в ностальгии.
А ты? — спросила Паула.
Я?
У тебя ведь только и разговоров что о собственной персоне.
У меня трудностей нет, ответил он.
Нет у меня трудностей, отрезал он, глядя, как комнатная муха, уже невосприимчивая ни к холоду, ни к инсектицидам, вдруг в панике забилась между окном и занавеской, мне нетрудно ощутить себя частицей той страны, где я родился и вырос.
Южанин, сказала о нем Фельсманша, рассчитывая, что Паула, стоя по ту сторону стеллажа, услышит ее.
Я приеду, уверяла Паула на вокзале, приеду, как только смогу взять отпуск. Ты надолго уезжаешь? Она расстроила его план скрыться тайком, как из дому. При расставании ни сцен, ни слез. Ни беготни по путям, запрещенной и смертельно опасной. Феликс не сказал, когда вернется, обещал написать.
До поры до времени лечить надо осмотрительно. Недомогание Паулы. Предмет ежемесячных забот. Грамотные люди заботливы и осмотрительны.
Иногда, сказал обер-бургомистр, поддакивая коротышке советнику, точнее, регулярно женщинам бывает тяжко.
Так она могла бы отмежеваться от той истории, оправдаться, сознаться, сдаться. Регулярно, по определенным дням, — не в форме.
Она могла бы ухватиться за эту мысль, подтвердить, что ее поступок — всего-навсего биологически обусловленная реакция, легкое нарушение гормонального обмена. Временное и поправимое. Не систематическое. Не обязательное. Ей бы простили ошибку. В конце концов, у каждого дома жена, а у той временами что-нибудь подгорает и она просит за это прощения. Да они были бы рады услыхать, что Паула не бунтарка и не беременная, что ее бунтарская выходка — просто результат недомогания. Обструкция в животе, а не в мозгу.
Их бы можно было успокоить. Они бы поняли, что дело обстоит так, а не иначе.
Что-нибудь другое, добавил бы, подмигнув, коротышка советник, было бы совсем не в вашем стиле.
Публичный бунт — не в ее стиле.
Разве она не могла каждый раз сурово и решительно класть трубку, и дома тоже? Вместо того чтоб ударяться в панику.
Истерия… В каком же свете предстает наш город?
Нельзя было писать анониму открытое письмо, да еще публиковать его в местных газетах.
Писать, что ее грозили убить, пристукнуть, если она не уберет с библиотечных полок кое-какие книги.
Нельзя принимать всерьез болтовню какого-то одиночки, которому место в сумасшедшем доме. Нельзя приравнивать его бредни к критическим замечаниям и дружеским укорам, что делались ей покуда исключительно с глазу на глаз. Нельзя говорить об антидемократическом духе, ведь он же вовсе не существует. Или существует, но только в больном мозгу этого типа.
Нельзя, пользуясь удобным случаем, в письме к безумцу преподавать гражданам Д. урок из истории библиотек. Рассказывать о бунтарском духе, который жил в читальнях минувшего века, предшественницах нынешних муниципальных библиотек.
Зачем было ставить вопрос о совершеннолетнем гражданине, который больше не позволит регламентировать, что именно ему читать?
Ни с кем не посоветовалась. И перегнула палку.
Публично спрашивать у психопата, не хочет ли он возродить фашизм. Обращаться к нему с призывом не трусить, не прятаться малодушно за письмами и звонками, не избегать открытой дискуссии, ибо свободный обмен мнениями, дескать, гарантирован конституцией. Вы же сами, прямо как нарочно, дразните его.
Как вы только додумались до таких нелепых поступков? Ведь вы знаете, что мы в любую минуту готовы поддержать вас и взять под защиту. Надо было довериться нам.
Коротышка советник намекал на недомогание, указывая Пауле путь отступления. Но Паула больше не отступает.
Она глядит в окно, на колонну в честь установления гражданского мира, которую перенесли сюда от старой ратуши.
Поймите же наконец, говорит Паула, я не могу допустить какого бы то ни было вмешательства в мои дела, а библиотека как раз и есть мое дело.
С климатом вконец худо. Не участвовать в открытии краеведческого музея, чьи экспонаты извлекли из ящиков и разместили в бывшем финансовом управлении. Не следить вперемежку с напитками и бутербродами за ходом церемонии, как на открытии городской библиотеки. Не глядеть на Фельсманшу. Бледную и исхудавшую, так что юбка на ней висит мешком. Лучше уж прихворнуть и остаться в постели. Сбить температуру. Осень за окном поливает деревню дождем.
Незачем выслушивать вопросы насчет Открытого письма и просьбы описать голос анонима.
Страшно — вдруг он перейдет от слов к делу и вправду явится сюда, станет у двери. Испытать на себе насилие? Отчего она нервничает? Такой тип мог бы и в Киле позвонить.
Альбом фотографий снят с полки. На предпоследней парте у окна сидит вовсе не Паула, там сижу я. На самой последней парте — близнецы, которые в шестнадцать лет уже выглядели старухами. Паула сидит у двери, она в очках, в белой блузке с круглым воротничком и в вязаной кофте, застегнутой на все пуговицы, руки чинно сложены на коленях. Она улыбается, так как фотограф сказал, что надо быть повеселее.
Застывшая поза. И место совсем другое.
Сбив температуру, излечив свое недомогание, она могла бы вернуться под крылышко отцов города; обеспеченная, опекаемая, осторожно наставляемая, она бы действительно могла воспринять объявленное на будущий год сокращение ассигнований как самое обычное узкое место в муниципальном бюджете. И не ударилась бы в панику. Не сочла бы это личным оскорблением. Если бы она вопреки ожиданиям забеременела, то, как заведено, получила бы отпуск или попыталась добиться разрешения на легальный аборт.
Она действует наперекор рассудку, но что ей от этого, кроме урона? Радость?
В сущности, она должна быть довольна. Могла бы и менингит подхватить от Фельсманши. Говорят, иногда эта болезнь заразна.
Температура, словно недуг в голове. Признак менингита — затрудненность движений. Больной не в состоянии подвести колено ко лбу или, наоборот, дотронуться лбом до колена. А виной тому повышение внутричерепного давления.
С какой стати ей мнить себя утопающей только потому, что кухня не пахнет свежим чесноком, в духовке не жарится цыпленок, в суп не насыпано гофио, в стакане нет его зубной щетки, а в шкафу — белья?
Скорей уж можно вообразить себя камнем. Сама бросила себя в воду и теперь видит круги, бегущие по поверхности от ее падения. Чем дальше в глубину, тем шире кругозор. Разве она уже и самой себе чужая? Панический страх — очутиться на дне водоема и остаться там лежать, недвижно, на веки веков.
Чушь.
Чушь — думать, что стерилизация не обрекает женщину на бесплодие, а только убивает в ней желание. Чушь — сравнивать эту страну со стерилизованной женщиной. Непристойно и немыслимо для воспитанницы монастырской школы.
Она видела сны о каталожных ящичках и спала с мужчинами, не пуская их в свою душу. Тогда на Лансароте Феликс был с парнем, который не просто сопровождал его. Свои сны он никогда ей не рассказывал.
Он не хочет ребенка, но вовсе не потому, что его чувства изменились, — так он говорил. Изменились не чувства к Пауле, а только лишь возможность их свободного проявления; когда кругом трещит мороз, самое сокровенное наружу не вытащишь.
Ее мать сказала бы: У тебя просто чуточку поднялась температура, но это неопасно.
Закутаться, зарыться в перину и шерстяное одеяло и выгнать с потом все дурное.
Да только она чересчур сухая. Сверху донизу сухая, точно выжженная засухой. Во рту ни капли слюны. И нет спасения — чем оросить землю, если вода иссякла.
Горячая, сухая, бесплодная.
Возможно, они в самом деле существуют. Те организмы, что в неблагоприятных условиях обрастают специальной капсулой — и остаются живы. Долгие тысячелетия.
А другие вымирают.
Паула не умрет. От простуды умирают разве что сердечники. У нее же сердце еще никогда не болело. Это только кажется, будто оно болит.
5
От внутреннего беспокойства больше не отмахнуться, как от навязчивой идеи. И нет причин к довольству, думает Паула, к тому, чтобы полагать, что природная гармония есть фальшивая химера. Причина и иллюзия…
Паула теперь слишком чувствительна к холодному ветру, который рябит поверхность озерца, и зимою ей уже не искупаться.
Чащу кустарника на берегу проредили, деревья подстригли, подрезали, сухостой убрали. Вывезли остатки лета.
На Лансароте Паулу поразила мощь застывшей лавы. Это — не миг в развитии мира, но мир как таковой. Взрыв. Извержение и распад. Рождение.
Не прятаться более в себе, как в устричной раковине. Выброшенная из скорлупки, выбитая из колеи, Паула теперь иногда разговаривает сама с собой, ведь она снова одна, а от одиночества отвыкла.
Феликс говорил, что нельзя склонять голову перед тронами правителей. Паула зовет это гражданским мужеством и, надо сказать, вполне уверена в превосходстве своего делового и трезвого подхода. У него-то не было уверенности, готов ли он набраться такого мужества. Паула видела Феликса скорее рыцарем Печального Образа его собственных фантазий. Где тебе понять, говорит она, что означает включить в фонды Маркса и Ленина вместо душеспасительного чтива, поместить на стенд новинок книги «сердитых» писателей, превратить выдачу книг в скандал.
Бросить перчатку?
Попытаться учинить бунт среди муниципальных стеллажей в надежде, что порыв свежего ветра обернется постоянным освежающим бризом.
И потерпеть неудачу, потому что Паула-одиночка — то же, что вулкан в стране детства.
Бросив вызов, она жнет не бурю, не анархию желаний, которая не поддается кастрации, она жнет всего лишь сокращение ассигнований, а это и так уже дело решенное.
Кому охота терять квалифицированного работника, да еще так скоро. Начальство лелеет надежду, что Паула, выбитая из колеи, вновь вернется на проторенную дорогу, ведь неуживчивости за нею прежде не замечалось.
Чем она могла бы оправдаться? Одной только потребностью пустить в ход заржавленный механизм?
Опоздав на работу, Паула просит у фройляйн Фельсман извинения, уверяет, что купит новый будильник, электронный: он-де и мертвого подымет.
Расставляя по полкам новые книги, Паула все время чувствует на себе взгляд Фельсманши: та глаз с нее не спускает до тех пор, пока последние карточки не исчезают в ящиках каталога.
Со злости Паула приписывает старухе вековечную душевную оцепенелость: все в ней застыло в недвижности — будь что будет, и злу она не воспротивится.
Сестра с самого начала предвидела, что удержать его Паула не сможет. Зять по-прежнему смахивает на неудачливого пиротехника-самоучку, которого подводит собственная лихость.
У матери все по-старому. Навестив в воскресенье Паулу, она спросила: Чего ты, собственно, добиваешься, вызывая в людях злость?
По одежке протягивай ножки — вот как надо жить, упрямо твердит она. Разве что накинуть на плечи теплый халат, чтобы было уютнее.
Феликс прислал письмо.
Пойми, пишет он, сейчас я не могу вернуться. Я принял твердое решение и теперь пробую разобраться. Guardia Civil[34] как была рассадником фашизма, так и осталась.
Письмо не из Малаги, а из Мадрида. Значит, домой он не поехал, застрял на полдороге и пишет от друга, у которого гостит. Этого друга он встречал летом в М. Она что же, ждала, что завтра он вернется?
Паула взяла нож, надрезала конверт; теперь по субботам никаких булочек, только газета, сигареты и кофе.
В эту субботу она бы могла и прокатиться на велосипеде к болоту, соблазнясь обманчивым декабрьским солнцем, но тем не менее садится в машину и едет в Д., на вокзал. По субботам все магазины открыты, поэтому в М. она едет поездом, так как автостоянки возле переполненных универсальных магазинов наверняка забиты машинами. Забронировать среди зимы туристическую поездку в Мадрид будет сложно. Агентства предлагают андалузское побережье и Канарские острова, Джербу или Мадейру. Маршруты по столицам Пауле тоже не подходят. У них есть, скажем, Лондон, Париж, Афины. Но не Мадрид. Даже в Барселону зимой нет туристических самолетов. Пауле остается только приобрести билет на обычный рейс. Ни под каким видом она не полетит в Испанию на «Кондоре», это слово вызывает у нее дурные ассоциации.
Сразу после рождества — на две недели в Мадрид. Новый год встретить у Феликса. Интересно, как испанцы празднуют Новый год? Задуман, стало быть, просто отпуск. Заказан билет, ну, может быть, еще куплено платье в одном из магазинчиков старого города. Уступка минутному капризу, что с ней вообще-то бывает редко. Все ее существо радостно ждет встречи с Феликсом.
Ночами она бы теперь могла грезить о цветущих мадридских каштанах, хоть и не знает, есть ли там каштаны, тем более цветущие в эту пору. Ей видится маленькая площадь, окаймленная унылыми мещанскими домишками, посреди нее — купа старых каштанов, багряных, источающих тяжелый аромат. И там она встречает юношу — не Феликса.
Курить в электричках воспрещается, поэтому она одержима одной мыслью — успеть на перроне выкурить сигарету. Сумку она спокойно ставит на платформу, придерживая ее ногами. Рядом сидит какой-то старик, с виду типичный dropout[35]. Курили бы лучше сигары, советует он, все не так вредно.
Паула кивает и заводит речь о том, что-де можно затягиваться, а можно и не затягиваться. А сама думает: уходи, уходи отсюда, старик, ты слишком дряхл.
Я всю жизнь курил сигары, продолжает старик, вот здоровьишко и уберег, сами поглядите.
Она не смотрит на него, замечает на перроне двух «черных шерифов» из числа частных полицейских, задача которых — обеспечить покой и порядок, одного их присутствия достаточно, чтобы народ присмирел и держался на расстоянии от этих мужчин с пистолетами в кобуре, выставленными на всеобщее обозрение; Паула вспоминает, что читала однажды в статье о книжной ярмарке, как какой-то парень, протянувший федеральному президенту книгу, был зверски избит его телохранителями. Бетонный пол между стендами устлан сизалевыми циновками…
С появлением ландрата, обер-бургомистра и советника по культуре воцаряется тишина; слышатся только щелчки фотокамер. Репортеры — в темных костюмах и зимних сапогах на микропорке.
Это мероприятие устраивала не Паула, хотя происходит оно в помещении библиотеки.
Фройляйн Фельсман с улыбкой мелькает в толпе; она теперь не стоит у входа и не прохаживается между стеллажами, наблюдая за посетителями; она пожимает руки, чувствует себя раскованно и уже заняла сумочкой место рядом с учителем физики, который по совместительству возглавляет краеведческий музей. Она тут как дома.
Под эгидой муниципалитета единственное городское издательство представляет публике иллюстрированный томик, посвященный Д., куда вошли рисунки местного художника и лирика местного поэта, — праздник получился на славу: при свечах, с камерной музыкой, с цветами на столе, со стихами в исполнении некой актрисы, а завершилось все вручением книг обер-бургомистру, советнику по культуре и ландрату.
Потом — ужин, холодные закуски; и эти люди, по-приятельски относящиеся друг к другу, чувствуют себя как рыбы в воде, враждебности, видимо, никто не испытывает.
Собрание горожан тоже прошло без шума; зал был полон лишь наполовину, ни один наглец не потребовал от отцов города оправданий. Когда обер-бургомистр попросил выступающих внести в списки свои имена, фамилии и адреса, ораторов набралось меньше полудюжины.
Пауле удалось в этот вечер незаметно уйти, и никто ее не хватился. Фельсманша заранее убрала стенд с новыми поступлениями к Пауле в кабинет, от греха подальше.
Публика благодушествует, в зале царит полная гармония. А там за дверью — рождество.
«Там за дверью»[36] она зятю не дарила, зато преподнесла ему книжку из серии «Сделай сам»— о том, как своими руками сделать фейерверк. Книга была обернута в рождественскую бумагу.
На этот раз и брат приехал к рождеству домой. Живой и здоровый. Ничем он в Бразилии не заразился. Подлинную нищету видел только из окна автобуса. Самое замечательное на рождество — по-прежнему материно печенье.
Без малого шагах в двадцати от «черных шерифов» Паула поднялась, отшвырнула окурок и зашагала прочь, глядя на птиц между рельсами; в лицо ей пахнуло ветром от подъезжающей электрички. Раз, два — и нет ее.
Вернулась в бюро путешествий, обменяла авиабилет на железнодорожный. Уступила минутному капризу, решению, принятому вот только что, сию секунду, но отменить его уже очень трудно.
Заявление об уходе она передала коротышке советнику из рук в руки и не сочла нужным выдумывать причины, которые были бы, по его мнению, уважительными.
Поспешное решение? Или тут как в фотографии: снимок проявляется и остается только положить его наконец в фиксаж из тиосульфата натрия.
Еще в бюро путешествий Паула наметила себе маршрут. Мюнхен — Мадрид. И смотрела, как девушка за столом зеленым фломастером нанесла его на карту европейских дорог, а после взяла деньги.
В Европе нет приключений? Каждый населенный пункт на своем месте — существует. На карте. Упорядоченная Европа, поделенная, разграниченная, состоящая из стран, провинций, регионов; аграрные и промышленные зоны, хранилища ядовитых веществ; атомная энергия — благодарю покорно. Те, кто говорит «да», не встречают сопротивления. Говорить «да», а не «нет»? Европа — мультимиллионерам?
А Пауле — Мадрид, который мысленно видится ей на карте белым пятном. На тридцатом году демократической эры она решилась уехать из своей страны.
Не принимай близко к сердцу, говорил Матиас встревоженной матери, никуда она не денется. Я знаю Паулу, ей нужна крыша над головой и свой собственный порядок.
Снег к рождеству не выпал.
А после рождества завернули холода, мороз ударил ночью, и утром все вокруг было осыпано инеем, как в видовом фильме.
В озерце теперь не поплаваешь. И рыболовов с их складными стульями как ветром сдуло.
Поверхность озера ничуть не похожа на зеркало. Мороз грянул внезапно, и вода, как была взбудоражена северным ветром, так и застыла.
Паула подъехала на машине к самому берегу.
Одно только небо не изменилось: его все так же бороздят тяжелые пассажирские авиалайнеры.
Тринадцатая утренняя беседа с Паулой
По ночам я теперь иной раз брожу в каком-то сумеречном краю, брожу и все время помню, что сны можно истолковать. Я иду не останавливаясь, и знаю, что это сон, и пытаюсь во сне истолковать свои видения, чтобы опередить тех, кто мнит себя толкователями снов и норовит отнять у меня мои грезы.
Вчера я встретила Паулу.
Двигалась она судорожно, рывками, то быстрее, то медленнее, как в старых фильмах. Мы шли друг другу навстречу и приблизительно могли рассчитать, где эта встреча произойдет.
Ночами я считаю лучше, чем днем.
Куда ты собралась? — спросила я образ, сотканный в моем воображении.
Утром, когда мы с Паулой готовим завтрак в доме, все прочие обитатели которого еще спят, Паула допытывается, что же она мне ответила.
Не помню, отвечаю я, да это и не важно, твои слова нужны были только затем, чтобы сон продолжался. Меня томила какая-то смутная тревога, хотя на самом деле ничего такого не было.
Боишься, говорит Паула, процеживая кофе, а я меж тем накрываю на стол.
Боюсь? Я уверена: она давным-давно меня раскусила. В старинной дружбе, думаю я, очень важно сохранять дистанцию, это позволит мне в любую минуту ретироваться.
Ты боишься, твердит она, боишься связать себя решением, выносить чувства и мысли, дать им созреть, отвечать за процессы в собственном мозгу. Ты все блокируешь страхом. И давно ли?
Такое ощущение, будто я заболеваю. Будто меня охватывает паралич, который вот-вот подберется к сердцу.
Ничего удивительного, говорит Паула, наверняка ведь кажешься себе упакованной в целлофан и быстрозамороженной.
Да, говорю я, соглашаюсь, уступаю, но фанатики мне все-таки больше по нраву, чем кроткие святые.
Ты права, говорю я.
Какие еще фанатики? — спрашивает Паула. На деле-то ты забиваешься в скорлупку. Никого, кроме себя, не видишь и не любишь. Как Нарцисс? Конечно, кивает она, ты явно страдаешь нарциссизмом. Я страдаю нарциссизмом. Ну хорошо, пусть так.
Но, защищаюсь я, я вовсе не юноша Нарцисс, что пришел к нам из мифа. Нет во мне мучительно-безнадежной любви к себе. Я вовсе не отражение с пушком на щеках.
Мой нарциссизм другой: дружеское общение с собою приносит мне удовлетворение. Важна не взаимность, говорю я, а дружеское общение.
Все это хорошо, говорит Паула и как бы невзначай легонько касается моей руки, когда мы обе беремся за дверцу холодильника, чтобы достать масло, все это хорошо, и тем не менее ты сидишь в скорлупке, взаперти, сама себя запираешь на ключ. Чем ты там занимаешься? Вяжешь накидочки на душу?
Я не в состоянии достать из холодильника масло, мне хочется кричать, кричать не переставая, потому что я не могу утверждать, будто я не в скорлупке, а снаружи.
Ты боишься куда больше, чем когда-либо боялась я, говорит Паула мне в лицо.
И ведь не сбежишь — некуда.
Очень уж ты привыкла облегченно вздыхать: вот, мол, и хорошо, опять счастливо отделалась, продолжает она. Кончать надо с этими вздохами. Надо без конца и без устали говорить «нет».
Я боюсь, говорю я, от страха я слепну и глохну, и боюсь ослепнуть и оглохнуть, и боюсь обмануться, решив, что еще не слепа и не глуха.
Перестань, говорит Паула, хватит об этом, в конце-то концов.
Без разума и смысла я — бессмыслица.
Бояться необходимо, говорит Паула, если страх ломает твое безразличие.
Я-то рассчитывала запустить машину, подпалить домишко Паулы со всех четырех сторон. А дом, оказывается, был вовсе не ее.
Да, кое-что изменилось.
Паула одолела меня. Она мне больше неподвластна.
Я перестала говорить дочке, что вишня непременно вернется.
Часть V. И вновь зима
Четырнадцатая утренняя беседа с Паулой
Встретить Паулу на вокзале я не ожидала.
Во всяком случае, не спозаранку и не в молочном баре. Я ведь могла бы зайти и в ресторан. Но молоко, по-моему, все же вкуснее сосисок с капустой.
Она уезжает, а я только-только явилась на вокзал и коротаю за завтраком время до следующей электрички.
Привет, сказала Паула: она неожиданно выросла передо мной в ту минуту, когда официантка ставила на стол вчерашние булочки, предвещающие скорый завтрак.
На этот раз я ее вспомнила.
Она, должно быть, заметила, что меня нервируют ее манеры, села рядом и сразу же заговорила об Испании.
О будущем.
Будущее? — с издевкой переспрашиваю я. После целой ночи в битком набитом спальном вагоне федеральных железных дорог о благодушии не может быть и речи. Послушай, говорю я, ну какое у нас будущее? Зарегистрированное, введенное в память ЭВМ, перекрученное бюрократами, усмиренное и обезвреженное, какая там личность — нет ее, есть только удостоверение личности; если здесь реакторы не взорвутся, то рванут где-нибудь в другом месте, но так или иначе все это неизбежно ударит по нам. Чего же ты, собственно, хочешь? Будущее давным-давно предано и продано.
Нынче под основные гражданские права подкапываются хитростью компьютеров. Никогда еще государственные органы не ущемляли с таким коварством требование свободы.
О каком же будущем ты толкуешь, а?
О нашем, заученно выпаливает Паула, о прошлом родителей наших детей.
Но тогда, говорю я, ты не можешь сбежать.
Я называю это бегством. Паула — новым началом. Концом приспособленчества.
Бунтом, равнозначным смелости жить.
Иногда я представляю себе, будто живу на вокзалах, с двумя-тремя пластиковыми сумками, набитыми всяким хламом, или в обшарпанных номерах каких-то привокзальных гостиниц. Мне нравится шум поездов.
Однако же я не позволю оспаривать мою смелость жить. И потому меняю тему.
Отчего, спрашиваю я, никто в библиотеке тебя не поддержал?
Где, к примеру, были те молодые женщины, которые регулярно со дня открытия приходили брать книги? Откуда это безразличие к притеснениям? Твоя реакция на преследования анонима — вот и все, что их интересовало.
В том-то и дело, коротко отвечает Паула. Она заказала себе большую кружку какао.
Выходит, я права: смирение, капитуляция. То есть бегство, упорно продолжаю я.
Ладно, пусть бегство, отвечает Паула, но бегство как стратегия — чтобы вновь выпрямиться во весь рост и если уж когда-нибудь вернуться, то вернуться несломленной.
Бегство как возрождение?
Можно обойтись и без чемодана, и без Испании.
Значит, Испания — тоже чистая случайность?
Возможно, будь ты уроженкой Испании, ты бы сбежала куда-нибудь еще.
Бегство как поступательное движение утопии?
Подняться, выпрямиться, держась за утопии.
Среди фальшивой жизни начать правильную, неподдельную.
Жить со страстью, чтобы искренне, по-настоящему любить и по-настоящему же ненавидеть. А не только составить себе представление о любви и ненависти.
Я, говорит Паула, хотела бы жить среди людей, которые относятся друг к другу по-человечески.
Уже не одно лишь недовольство. Коли на то пошло, скорее антидовольство.
В первую минуту я подумала, что теперь она совершенно непохожа на птичку, пьющую нектар, гораздо больше она напоминает птицу с подрезанными крыльями, хотя и не превращенную пока в чучело, что стояло в классе на шкафу.
Она не спрашивает, о чем я думаю, пока мы сидим среди усталой вокзальной публики и пьем — я кофе, она какао.
А все же надо сказать, о чем я думаю. Сказать о том, что она все еще пахнет корицей, но только мед стал другим.
Письмо, на котором не хватает марок, уже опущено в ящик привокзальной почты.
1
Возможно, я никогда бы не стала писать о Пауле, не приди она к этому решению. У других тоже бывают схожие неприятности, однако же таких выводов они не делают. Я узнавала: наши городские библиотеки вовсе не в забросе. И заведующие там есть. Кстати, нередко женщины. Думать здесь не о чем.
О разнице между жизнью и вымыслом, которая, как говорят, невелика, можно вовсе не думать.
Стало быть, меня раззадорили выводы Паулы, более того, возможно, сам ход мысли, приведший к этому решению. Полная неожиданность. С какой стати именно Паула? Почему не какая-нибудь другая женщина, которая с детских лет привыкла держаться вызывающе и от которой можно было ожидать необычных поступков? От Паулы таких поступков никто не ожидал.
Я уверена, любой человек тотчас забыл бы ее лицо, ненароком столкнувшись с нею где-нибудь. К примеру, на перекрестке, когда светофор переключается на красный сигнал.
Нет, Паула и теперь не станет переходить улицу на красный свет. И через пути на Главном вокзале напрямик не пойдет. Зачем ей ставить под удар новую жизнь?
Вот я и написала о Пауле. Выстроила домыслы о ее внутреннем мире, которому придала сходство с той половиной мира, что существует в моем мозгу. Но так и не разобралась с другой половиной мира, находящейся вне меня. То есть я спорила с Паулой, да только не одолела ее.
Теперь она сама по себе — не я, но часть меня.
В конце, как и в начале, несколько фактов и множество предположений. Отправные точки, вероятности и воплощение фантазии. На бумаге?
Воображаемый мир. Как же она провела последние недели перед отъездом?
Разговор об увольнении, по-моему, прошел примерно так же, как беседа о найме. На этот раз последнее впечатление, которое, сохранившись в памяти, необязательно должно быть плохим. Но сама Паула изменилась. А значит, будет держаться более уверенно, по-настоящему уверенно, ведь теперь она сознает, что нисколько не зависит от мнения коротышки советника по культуре, который на самом деле вовсе не прихрамывает.
Вполне возможно, она даже помогла ему составить объявление о вакантной должности. Или составила сама, потому что привыкла иметь дело с печатным словом. Подписал его обер-бургомистр (полностью фамилия, звание, должность), как и положено подписывать любое муниципальное объявление, по крайней мере в этом городе. Вопрос о том, кто именно требуется — мужчина или женщина, — оставлен открытым. Не указано, что желателен сотрудник, который не будет поднимать шум вокруг подбора книг. Возможно, коротышка советник втихомолку и побаивался повторного «мезальянса», но вслух он ничего не сказал. Прежде всего упирал на срочность, так как Паула воспользовалась очередным отпуском, чтобы побыстрее уволиться.
Возможно, Фельсманша в первую минуту решила, будто одержала победу по всему фронту. С тех пор как стал виден конец, Паула ни разу не заставляла ее мокнуть под дождем. Хотя так и не купила будильника, который и мертвого подымет. Но позже Фельсманша уразумела, что лучше все-таки работать с человеком не слишком молодым, лет этак сорока. Сама она в библиотечном училище никогда не училась.
В феврале, когда в Германии стоят самые холода, Паула сняла со шкафа чемодан, услыхала, как щелкнули замки, и увидела следы пальцев на пыльной крышке. Я люблю вот так рисовать себе Паулу. Постель была еще теплая от сна.
Феликс прислал письмо. Я должен объяснить, писал он, почему тебе не стоит приезжать. Живу я у друга. Нас многое объединяет. Наши отцы вместе летали на бомбежки. И нам от этого больше не убежать. Мы за это в ответе.
О Мадриде он пишет: Очень ветрено. Степной ветер. Дожди — и на час-другой тепло, солнечно. Совсем иной ритм, не как у вас. На улицах Guardia Civil.
Паулу это не останавливает. Возможно, ее и нельзя уже остановить, потому что она скрупулезно и педантично наметила себе план действий: предупредила хозяйку, что съезжает с квартиры, заказала мебельный фургон, оплатила место на складе.
Я не хочу, чтобы и ты тоже отвечала за все это, писал он, а о Пауле-женщине, о любви, об уважении ни слова. Но это ее не смутило. Через некоторое время приехали грузчики забрать мебель.
В пустой квартире она заперлась напоследок в ванной. Стоя под душем, размышляла о пустотах в теле, как частенько думала об этом после отъезда Феликса. Утром она заметила на лице желтоватые пятна. Последнюю ночь провела в гостинице неподалеку от вокзала. Ранним утром вышла к поезду. Времени у нее было достаточно, и она выпила в молочном баре большую кружку какао.
На ней широкое платье вроде тех, что носила Урбан, и теплые зимние сапоги, ведь путь долог — больше суток. И только в самом конце его — юг, где должно быть тепло.
На границе — паспортный и таможенный контроль. Чиновники ходят непременно по двое, с переносными рациями и при оружии, проверяют пассажиров, пока поезд стоит на запасном пути. Номера некоторых паспортов, бог весть почему, вызывают подозрения и куда-то сообщаются по рации; владельцы документов всякий раз откровенно недоумевают. Пауле представляется некая зловещая контора, где лежат списки, с которыми сличают пассажиров.
Коротышка советник откровенно изумился, когда Паула выбилась из колеи, ведь, прежде чем взять ее на работу, он навел справки, не оставлявшие сомнения в ее благонадежности.
Горы Швейцарии Паулу никогда не интересовали.
Испания лежит у моря. На рекламных проспектах оно совсем рядом с пансионатами. Во Франции ей уже довелось однажды побывать. Ночь она проводит, вытянувшись в вагонном кресле. Оконное стекло в полосах дождя. Стук колес, по-моему, уже через несколько часов начал действовать ей на нервы.
Утром — французско-испанская граница, и Паула принимается разглядывать людей за окном и пейзаж. Пейзажа больше, чем людей. В поезде не топят.
Чтобы согреться, она складывает руки на животе. Ничего, как-нибудь справлюсь, написала она Феликсу. Она уже достаточно освоила испанский, чтобы объясниться. Он встретит ее на вокзале, думает Паула. Она сообщила ему день и час приезда.
Внутренняя Испания представлялась ей не такой голой и бесприютной; скудная растительность, город, крепостные башни, заводы на окраинах. И снова безлюдье. Только у станций низенькие домишки. Женщин, сидящих на пороге, она пока что-то не видела.
Она оставила все в полном порядке, прежде чем ринуться в хаос. Ящиков больше не распаковывала, скорее наоборот, паковала, тщательно складывала в картонки свои вещи, так же как некогда разложила по коробкам и спрятала на чердаке родительского дома школьные тетради, за каждый класс отдельно.
Педантичность у нее от отца, думает Паула. И любовь к книгам тоже. Временами он без разбору, пачками таскал их от букиниста. До того как занялся крестьянским хозяйством, он пешком дошел до самой Швейцарии. На первых порах все охотно слушали эту историю за стаканчиком вина после воскресной службы, а потом перестали, когда священник привез слайды из Израиля.
С матерью он говорил о погоде и о семейном бюджете. Паула училась лучше брата и сестры. И отец гордился ею. Она знает, ему трудно было выразить свои мысли, он умел пользоваться лишь словами повседневного обихода.
Умирая от воспаления легких, которое распознали слишком поздно, он все спрашивал в бреду, где его школьные тетрадки.
Сгорели, сказала мать, ты же знаешь. Она сожгла их вместе со справкой об арийском происхождении и портретом фюрера.
Горящая бумага дает сильный жар.
Прежде чем сжечь мосты, Паула оставляет след. Раздаривает книги, не только запрятанные в подарочную бумагу, но и свои собственные, из шкафа. Брату — Габриэля Гарсиа Маркеса. Быть может, в надежде, что он прочтет эту книгу на досуге в поселке строителей.
В Мадрид она приезжает ночью. Неподалеку от вокзала тянутся ввысь дома жилого массива. В окнах она видит свет, такой знакомый, озирается по сторонам, ищет на перроне знакомую фигуру. Ничего хорошего, если ты приедешь, писал он. У меня кое-что засело в голове и обросло капсулой. Теперь вот разбираюсь. Я принял твердое решение.
На это она могла бы ответить. И началась бы долгая переписка.
Или он бы мог вернуться. Ведь жизнь в Германии казалась ему более размеренной и упорядоченной.
В детстве Феликс мнил, будто его покарали чужеродным телом в мозгу.
Всего лишь навязчивая идея, исчезнувшая после фиктивной операции.
Ни одному ребенку этого не вынести, твердил Феликс.
На вокзале он ее не встретил. Паула взяла такси. Она не была бы Паулой, если б не запаслась адресом его пансиона, который и дала шоферу.
2
Итак, уехала из Д. без ссылки на уважительные причины. Ведь к климату можно бы привыкнуть. И отношения с фройляйн Фельсман наладить. В конце концов, от дождя есть зонтики, от холода — теплая одежда. Кто станет из-за этакой ерунды сниматься с места? Живут же люди в окрестностях вулканов, неустанно возвращаясь в свои дома после каждого извержения. В сравнении с другими нам еще хорошо живется. Хорошо ли?
Обер-бургомистр и ландрат подвели положительные итоги истекшего года и указали аналогичные перспективы года следующего. Даже побеспокоили местную ясновидицу, и та по картам предрекает всем удачу — ведь к концу года народ любит прочесть в газете что-нибудь этакое.
Да, ей надо было всего-то сделать шаг-другой навстречу советнику по культуре, и он бы тоже пошел ей навстречу. В худшем случае согласились бы на том, что до срока выпихнут фройляйн Фельсман на пенсию, а Розу Л. будут выдавать только вместе со шпюриевской «Хайди». Ну а табличку, отсылавшую к мемориалу, так и так заменят.
В Д. нет ни «черных шерифов», ни книжной ярмарки — в сущности, здесь тишь да покой. Или нет?
Сознаюсь. Сознаюсь, по утрам мне стоит большого труда провести четкую грань между днем и ночью.
Почтальонша, звонящая в дверь, каждое утро приносит целую пачку писем и газет. Письмо Паулы выделяется только тем, что оно доплатное. Срочную корреспонденцию в деревне разносят вместе с обычной. По воскресеньям, когда почтмейстерша сидит дома. Сознаюсь, я не ждала этого письма, думала, что Паула уедет, как уезжает всякий, кому это по карману. Ясное дело, библиотекарша зарабатывает больше писательницы. По крайней мере ей книги дают кусок хлеба.
Когда я подношу к конверту нож — а я делаю это с удовольствием, — она уже в Испании. Собиралась встретиться в Мадриде с мужчиной, ради которого туда поехала.
По всей видимости, она рассчитывала, что я отвечу. Иначе зачем бы ей указывать свой мадридский адрес?
С ним Паула не встретилась. Зато повидала его друга.
Когда она вышла из такси, ей почудилось, будто в лицо и правда пахнуло степным ветром; на память пришли скалы, бесприютный ландшафт, оставшийся позади. Она решилась.
Друг его стоит на пороге, за спиной — освещенная передняя, лицо — в тени.
Паула так долго была в пути, ей до сих пор мерещится перестук колес. Парень впускает ее в тесную прихожую. Паула ставит чемодан на пол. Он моложе Феликса, темноволос, тонок в кости.
Из кухни выходит какая-то женщина в халате, направляется к телевизору, в конец коридорчика. Телевизор красуется над дверью, на особой полке. Женщина поворачивает выключатель, а Паула глядит ей на руки. Они старше лица.
На экране — реклама стирального средства.
Где Феликс? — спрашивает Паула.
Женщина уселась на стул посреди прихожей. Сложила руки на коленях и смотрит на экран.
Паула инстинктивно прикрывает руками живот.
Здесь рекламируют те же самые товары, что и у нее дома.
Феликса нет, говорит его друг.
Но он вернется?
Она горда своими познаниями в языке — еще бы, можно вести беседу, а не только кое-как объясняться. По телевизору сейчас покажут фильм, который она смотрела еще дома. Смотрела, и ощущала себя его героиней, и страдала так же, как при чтении книг. Феликс говорил, что ей нужно учиться смотреть со стороны.
Своей-то истории не знаешь, говорил он, а занимаешься чужими.
В такую даль ехали, и совершенно впустую, слышит она голос Феликсова друга.
Здесь, в коридоре пансиона, не холодно, но Паула мерзнет.
Вам надо отдохнуть, продолжает он, я спрошу, может, у нее найдется свободная комната.
Паула чувствует на себе взгляд женщины, сидящей у телевизора. Свой приезд она воображала совсем иначе. В голове мельтешат картинки — море и прибрежные пансионаты. Фотографии коридоров, как правило, не публикуются.
Друг, о котором писал Феликс, говорит, что у хозяйки должна быть свободная комната, сейчас он все уладит.
Что с Феликсом? — напрямик спрашивает Паула, не давая ему уклониться от ответа, и видит, до чего он сконфужен.
Вероятно, Феликс не знал, что вы приедете, говорит он. Сегодня утром он уехал в Барселону.
Где-то на полдороге они наверняка встретились.
И разминулись среди этого однообразия.
Нет, писем из Германии в этот день не было.
Она уверена, ее письмо он получил.
В связи с политической кампанией, объясняет Феликсов друг.
Внезапно ей становится очень трудно вообще понять язык, на котором он говорит, она слушает, как этот незнакомец рассуждает о поколениях и о том, что историческое развитие неотвратимо сплетает и увязывает судьбу индивида с судьбой народа.
С самого начала она решила не делать аборта. Аборт для Паулы неприемлем. Ведь она совсем было уверовала, будто бесплодна, как старуха, и теперь радуется. Думая о еще не родившемся ребенке, она видит в мечтах непременно девочку.
Немного погодя она лежит в комнате под легким шерстяным одеялом, и думает, что должна бы зябнуть, так как привыкла к перинам, и старается разобрать диалог из фильма, который идет в коридоре и уже знаком ей на родном языке. Ни в коем случае она не станет просить Феликсова друга узнать для нее расписание поездов на Барселону, а тем паче на ФРГ.
Маршрут намечен, писала мне Паула, еду поездом. Вечером буду уже во Франции.
Я читала строчки Паулы, а самое Паулу не понимала. По всей видимости, она на это и рассчитывала. Возможно, запомнила меня еще по школе и знала, куда нажать, чтобы во мне сработала пружинка любопытства.
Она ждала от меня ответа. И я ответила. А потом получила еще одно письмо: в Мадриде она надеется подработать — либо в посольстве, либо в Институте Гёте, либо в Немецкой школе. Можно, пишет она, и независимость сохранить, и все-таки выжить.
Ты, писала она, можешь без колебаний выбрать местом действия Д. Д., как Дойчланд, как Германия. Ведь он тебе знаком. Сознаюсь, Паула действовала мне на нервы. И действует до сих пор. Больше всего меня сердило то, что целый год мы прожили, как говорится, дверь в дверь — и не встретились. Я надеялась, пишет Паула, что в один прекрасный день ты зайдешь в библиотеку и вспомнишь.
Я не зашла. Это в детстве я каждую неделю ходила в библиотеку, специализируясь на шестидесяти четырех томах Карла Мая.
На первых порах надо получше освоить испанский, а дальше оставаться в Мадриде не обязательно. Паула подумывает о Малаге. И кое о чем другом. На испанском говорит полмира. Можно поехать, скажем, в Южную Америку. Маркеса она теперь читает в подлиннике.
Случай сблизил нас во времени и пространстве, и мы могли бы регулярно встречаться. Могли бы частенько вместе завтракать, воображаю я.
Паула в моем доме — лучше бы я об этом не думала, потому что она навязчива, словно мысль. Никакими силами ее не выпихнуть больше за дверь, не отвадить, не прогнать.
А я могу поймать себя, как брошенный камень? Вчера опять пришло письмо от Паулы. Возможно, ее все-таки что-то терзает, хоть она и не признается. Возможно, это что-то — ностальгия.
Расскажи мне о Германии, пишет она (мне ведь писать не трудно). Торопит набросать эскиз, выстроить домыслы насчет Д., или хочет пробудить надежду, что в будущем…
О ребенке, которого она еще не знает, Паула пишет, что он должен расти в стране, где жить не страшно.
Он едва-едва успеет стать взрослым, а наш век выплюнет его, думаю я.
Что мне рассказать о Германии? Описать ночные кошмары?
Предутренние кошмары, рожденные трезвоном дверного звонка, инъекции под скорлупку.
Нет, я не та, за кого ты, Паула, меня принимаешь, говорю я. Зачем ты хочешь пробудить во мне надежду? Еще в школе я была безнадежна. Никогда рта не раскрывала, говорю я.
Я бы разве что могла придумать тебе красивые мечты, заветные мечты на сон грядущий, сочинить повести — в слепом полете, совсем иные повести про Германию. Иную историю.
Нет, говорю я, зачем рассказывать тебе об ином? Надо просто говорить «нет», произношу я вслух, когда неожиданно звонят в дверь. Паула никогда не звонила. Всегда-всегда говорить «нет».
Я встаю из-за пустого кухонного стола, у дверей кто-то варварски жмет на звонок, хотя день еще не начался. Погребальным колоколам положено звучать глуше, так мне раньше казалось. Пора. Решение принято. Пора живым расстаться с мертвыми.
Примечания
1
Под сокращениями Д. и М. в романе, по-видимому, зашифрованы Дахау, где во время войны размещался гитлеровский лагерь смерти, и Мюнхен. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
«Неккерман»— торговая фирма и туристическое агентство в ФРГ.
(обратно)3
Организация, созданная в 1952 г. в Мюнхене для пропаганды немецкого языка и культуры за рубежом. Имеет филиалы во многих странах мира.
(обратно)4
Да здравствует смерть (исп.).
(обратно)5
Имеются в виду Фердинанд и Изабелла, правившие Испанией в эпоху Колумба.
(обратно)6
Здесь: раз, два — и нету (англ.).
(обратно)7
Издаваемый в ФРГ географический журнал.
(обратно)8
Шпицвег, Карл (1808–1885) — немецкий живописец и график.
(обратно)9
Повесть-эссе Кристы Вольф, современной писательницы ГДР.
(обратно)10
Индеец, герой приключенческих романов Карла Мая (1842–1912).
(обратно)11
Героиня романа Кристы Вольф «Размышления о Кристе Т.»
(обратно)12
Организация, объединяющая церковноприходские библиотеки.
(обратно)13
Крепкий коктейль.
(обратно)14
Анчоусы (исп.).
(обратно)15
Немецкий писатель (род. в 1895 г.).
(обратно)16
Соединение, посланное Гитлером во время гражданской войны в Испании (1936–1939) на помощь Франко.
(обратно)17
Начальник окружного управления ФРГ.
(обратно)18
Независимость Канарским островам — туристы, убирайтесь домой! (англ.)
(обратно)19
Коренное население Канарских островов.
(обратно)20
Современные буржуазные философы.
(обратно)21
Немецкий писатель-романтик (1772–1801).
(обратно)22
Испанская приправа.
(обратно)23
Денежная реформа была проведена в Западной Германии в 1948 г.
(обратно)24
Имеется в виду Ганс Мартин Шляйер, похищенным и убитый террористами в 1977 г.
(обратно)25
Имеются в виду сентиментальные романы о девочке Хайди, принадлежащие перу швейцарской писательницы И. Шпюри (1829–1901).
(обратно)26
Известный западногерманский литературный критик, сотрудничает в газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг».
(обратно)27
Одноактная пьеса Г. фон Гофмансталя (1874–1929).
(обратно)28
Имеется в виду гражданская война в Испании (1936–1939), закончившаяся поражением республиканцев.
(обратно)29
Немецкий писатель, автор юмористических рассказов (1867–1921).
(обратно)30
От лат. scalae — лестница.
(обратно)31
Крайнего предела (лат.).
(обратно)32
Героиня повести Г. Бёлля «Поруганная честь Катарины Блум».
(обратно)33
Испанский виолончелист, дирижер и композитор (1876–1973).
(обратно)34
Гражданская гвардия (исп.) — жандармерия, выполнявшая при Франко функции политической полиции.
(обратно)35
Здесь: человек не у дел, выброшенный жизнью (англ.)
(обратно)36
Антифашистская пьеса Вольфганга Борхерта (1921–1947).
(обратно)


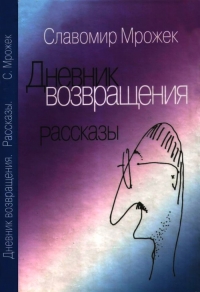

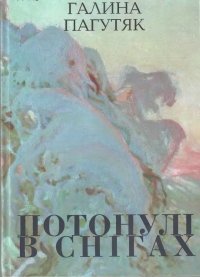

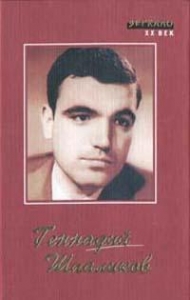




Комментарии к книге «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой», Ангелика Мехтель
Всего 0 комментариев