Ким Ён Су Девушка конец света
КОГДА Я НАЗВАЛА КЕЙ-КЕЯ ПО ИМЕНИ
За тринадцать лет, что прошли с тех пор, я не раз представляла себе ручей, где ребенком купался Кей-Кей. Эту холодную синеву воды, в которую он, тогда еще семилетний мальчик, входил в одних трусах. Кей-Кей вверял тело бегущему потоку и спокойно лежал, глядя в небо. Уносимый рекой Кей-Кей. Юное тело, которое он никогда не вытирал насухо, усеянное капельками воды. Кей-Кей смотрел на облака над собой, и при каждом его вдохе небольшие волны теплой от жаркого летнего солнца речной воды, потревоженной его движениями, неторопливо набегали на мальчишескую грудь, к которой через многие годы я буду с упоением прижиматься. В моих мечтах Кей-Кей, подобно водомерке, опавшему ивовому листу или бумажному кораблику, бесконечно уплывал вдаль по реке, огибая прибрежную линию, тенью ложившуюся на его тело.
Пока я сидела в международном аэропорту Лос-Анджелеса и ждала объявления о начале посадки в самолет, который летел в страну, где родился Кей-Кей, этот образ снова всплыл у меня перед глазами. Как всегда, все было залито умопомрачительно ярким солнечным светом. И, как всегда, вокруг была полная тишина. Каждый раз, когда я смотрела на широко улыбающегося Кей-Кея, я осознавала, что я женщина. Среди множества известных мне моих собственных лиц самое красивое отражалось в глазах улыбающегося Кей-Кея. В каждом глазу по одному отражению — итого два лица. И сколько бы теперь ни смотреть на меня, того моего лица уже не разглядеть. Но я довольна. Оно и понятно, что самого красивого моего лица больше нет. Мне уже далеко за пятьдесят, и лицо понемногу осунулось. Слышно, как появляются новые и новые морщинки. Клетки, из которых я состою теперь, уже не знают, что такое любовь. Те из них, которые любили Кей-Кея, исчезли из моего организма. А я давно научилась не закрывать глаза, когда думаю об этом, — боюсь, что скатится неосторожная слеза.
Где теперь мокрое тело семилетнего Кей-Кея? И куда делись клетки моего организма, льнувшие к нему, когда мы любили друг друга? Перелетая самый широкий океан, я читала книгу «Одновременность» и нашла там строки, которые могут служить ответом на мои вопросы. Речь шла об одной из тайн астрофизики, которую долго пытались разгадать: «Учитывая скорость движения звезд, ученые высчитали массу Вселенной, но, сложив вместе все массы существующих небесных тел, они выяснили, что суммарная масса звезд, оказывается, меньше десяти процентов массы Вселенной. Что же составляет оставшиеся девяносто с лишним процентов?» Ученые называют это темной материей. Темную материю никак нельзя зарегистрировать, поэтому подтвердить ее существование невозможно. Девяносто процентов нашей Вселенной составляет материя, которая для нас даже толком не существует. Погрузившись в чтение, я пропустила объявление, что в салоне будет выключен свет. Освещение в самолете погасло. Снаружи все еще было светло, но пассажирам пришло время спать.
Вот что я хочу сказать. Если девяносто процентов Вселенной составляет вещество, которое мы никак не воспринимаем, то, может, и нет никакого особого места, куда делось юное тело Кей-Кея и любившие его клетки моего организма. То же самое и с моим самым красивым лицом. Все они существуют, просто вы не можете их увидеть.
Из электронного письма, которое прислали организаторы трехдневной международной конференции писателей, следовало, что по окончании официальной программы у всех иностранных гостей в заключительный день будет свободное время с часу дня и все участники смогут посетить любое место по своему усмотрению при условии, что все они успеют вернуться к шести часам в отель, где организаторы конференции устраивают для них торжественный прощальный ужин. Именно распорядок третьего дня, а также название той страны, куда меня приглашали, и стали основными причинами, по которым я так заинтересовалась конференцией женщин-писателей, проходящей в Восточной Азии. Это название воскрешало в памяти бесчисленные ночи, которые я не любила и с которыми едва справлялась. И хотя я ни разу еще не была в той стране, я заранее обожала ее. Нас связывала моя тайна: Кей-Кей приехал из этой страны.
Пока мы едем в машине из аэропорта в центр города, Хэпи немного сдавленным голосом просит меня заранее сказать о том, куда я хочу поехать вечером третьего дня, если, конечно, есть какое-то особое место. Ни минуты не колеблясь, я отвечаю: «Памме». Памме. Хэпи слегка склоняет голову набок и смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Простите?» — переспрашивает она. Я повторяю: «Памме». Хэпи смеется. Мне кажется, что название «Памме» звучит для корейцев как-то смешно. И очевидно, что Хэпи впервые слышит его. Она несколько раз повторяет название места. Памме. Памме. Памме. Придерживая руль левой рукой, правой она достает из сумочки на переднем пассажирском сиденье ручку и листок бумаги и, извинившись, что недостаточно хорошо знает английский, протягивает их мне. Я пишу на листочке: «Pamme». Едва только я возвращаю ей листик, она смотрит на запись и снова произносит название места. Пам. Me. Она просит меня немного рассказать, что это за место. От Сеула до Памме добираться примерно час. Надо проехать мимо какой-то горы, на которой растет много каштанов, и после нее будет видно желтое морское побережье. Больше я ничего не могу сказать про Памме. Я даже не знаю, верно ли то, что я уже рассказала. Каждый раз, произнося «Памме», я теряю ощущение реальности.
Вскоре, моргая поворотником, машина сворачивает к виднеющимся вдали ночным огням и едет вдоль моря, тянущегося слева от нас. Немного погодя Хэпи рассказывает мне, что город, к которому мы подъезжаем, был построен шестьсот лет назад. Еще в самолете я успела прочитать в путеводителе «Lonely planet», что освоившиеся здесь иностранцы говорят, что это «суетный город, в котором нет ничего долговечного, но полно вещей, которыми можно полюбоваться мимоходом». Как только я прочитала эти строки, я представила себе бессмысленно опадающие на ветру фиолетовые лепестки палисандрового дерева. Интересно, а в этом городе тоже растут палисандровые деревья? Внезапно меня охватывает любопытство. Я уже не слушаю, что говорит Хэпи, и мои мысли рассеянно парят над ночным морем.
Чуть позже я объясняю Хэпи, как Кей-Кей вообще оказался по пояс голый в озере Мид. Хотя оно и находится посреди пустыни, там даже есть оснащенная пристань для яхт. Кей-Кей зашел в озеро, начал махать руками и смеяться. Он сказал, что покажет мне, как плавал в речке на своей родине, когда был ребенком. И вскоре уже лежал на воде, вытянувшись в полный рост. Так он и дрейфовал на спине в три часа дня на озере Мид. То, что он мне показал, было «а corpse swimming». Плавающий труп. Лежащее на поверхности тело, вытянутые вдоль туловища руки, и только ноги изредка двигаются в воде. «Живо вылезай оттуда! — крикнула я, потому что мне стало не по себе от слов „плавающий труп“. — Где ты вообще научился так плавать?» Кей-Кей встал на дно, посмотрел в мою сторону, рассмеялся и ответил: «В Памме. У себя на родине. В детстве, как только начиналась летняя жара, я ложился точно так же на воду и смотрел в небо на проплывающие вверху облака и солнечный свет. Я вот сейчас подумал. Это был самый прекрасный период моей жизни». Сказав это, Кей-Кей плюхнулся в воду. А я в итоге осталась смотреть на мерцающие капельки воды, покрывавшие его тело, видневшееся над поверхностью озера. Какое-то время я продолжала ругаться. Неужели он хочет вот так болтаться в воде после смерти и что вообще он имел в виду, говоря, что время в Памме было самым прекрасным в жизни? Вылезши из озера, Кей-Кей сказал, что видел под водой «Боинг В-29», у которого полностью сохранились все четыре винта. Тогда это показалось мне глупой шуткой и я пропустила его слова мимо ушей. И только спустя несколько лет я узнала, что действительно был случай, когда «Боинг В-29» затонул в озере Мид. Правда ли Кей-Кей увидел тогда останки самолета? Или сказал это, чтобы подразнить меня?
— По-корейски это называется «плавать на спине», а не «плавать трупом». Конечно, труп — это все то же тело, а плавание — всегда плавание, но нельзя говорить «плавать трупом», — говорит Хэпи, снова взглянув на меня в зеркало заднего вида.
Я пытаюсь произнести по-корейски «плавать на спине» прямо так, как услышала: «сонгчжангхеом». Слово звучит очень по-восточному. Мне кажется, что язык сломается, если я повторю это еще раз, и я замолкаю. Хэпи продолжает говорить:
— Только дети называют «плавание на спине» так, а взрослые у нас говорят «пэёнг». Ну а если переводить на английский, то получится не «а corpse swimming», а «a backstroke».
На что я отвечаю:
— Нет, Хэпи. Кей-Кей тогда показывал вовсе не как плавать на спине, а как плавать трупом.
Хэпи смущает упрямое выражение моего лица. Темное море слева от нас внезапно исчезает, и появляются вершины гор, освещенные звездами. Море остается позади. Я завидую себе, тридцатидевятилетней, с ужасом вбегающей в море, чтобы с замиранием сердца попытаться разглядеть Кей-Кея, нырнувшего в озеро.
Через три дня. Пока мы едем в Памме, Хэпи рассказывает мне, что случилось за прошедшее время. В первый вечер, вернувшись домой, Хэпи пыталась в Интернете найти место, про которое я говорила, но через полчаса поняла, что это бесполезно. На мониторе предлагались различные варианты замены искомого слова. Еще появлялись такие фразы, как, например: «с другой стороны, даже не будучи склонными к полноте, если есть на ночь пампушки или сладкие булки, вы непременно поправитесь» или «искусственный спутник „Паме“ можно увидеть невооруженным взглядом. Если приглядитесь, вы увидите похожее на звезду тело, медленно движущееся по ночному небосводу». Даже когда она ввела в поисковой строке Гугл название «Pamme» на английском, это не дало никаких результатов. Оказалось только, что есть такая фамилия. Хэпи попробовала написать раздельно: «Pam Me». На что поисковик вывел ей странную фразу: «U deon nal do nun mul le jeoj jeoss deon seul peun pam me do». «Что все это значит?» — пробормотала Хэпи.
На столе рядом с компьютером стояло зеркало, у которого одна из сторон была обычной, а другая — увеличивающей. Сначала Хэпи просто погляделась в зеркало, а потом дотянулась до него и перевернула обратной стороной. Она уже стерла макияж, и теперь на ее коже были видны маленькие веснушки. Радует, что последнее время их стало поменьше. Веснушки появились у нее три года назад. С тех пор она стала избегать солнца. Как-то раз она встретила одну свою знакомую, с которой давно не виделась, и та страшно удивилась, взглянув на ее лицо. Она сказала Хэпи, что проблема вовсе не в ультрафиолете и что веснушки появились из-за эстрогена. Хэпи предположила, что они еще могли появиться из-за стресса. Но этот женский гормон, содержание которого в организме увеличивается, например, во время беременности, тоже мог сыграть свою роль. По крайней мере, беременеть еще раз она совершенно не хотела. Именно когда она вынашивала ребенка, все лицо у нее вдруг покрылось этими пятнышками. А еще она тогда ела по ночам все, что только под руку попадалось. Сметала все, как помело. Поме. Памме. Она снова уставилась в экран. «Помню счастливые дни и грустные ночи» — в памяти всплыла строчка из популярной корейской песни, которую китайцы потом перевели на английский язык.
Назавтра она устала за день и пораньше легла спать. Проснулась она оттого, что почувствовала на себе чей-то взгляд. Муж разглядывал ее, пока она спала. От него пахло алкоголем и сигаретами. Стоило только ей открыть глаза, как муж поднялся и пошел на кухню. Она услышала, как он открыл дверь холодильника и что-то достал из него. Хэпи снова закрыла глаза. Муж крикнул с кухни:
— Ну как? Удалось найти Памме?
— Нет. Но она говорит, что он там родился.
— Кто?
— Кей-Кей. Молодой любовник этой писательницы.
— Студент, который уехал туда на стажировку? Он же на семнадцать лет ее моложе!
— Да этим уже никого не удивишь.
— Ну ничего себе!
С этими словами он поднес ко рту стакан воды и сделал несколько глотков. Возможно, он и сам был бы счастлив, если б у Хэпи, как у меня, появился любовник на семнадцать лет младше.
— Так, может, просто Памме по-другому пишется? А что? Она сказала, что надо проехать горы с каштанами к месту, где откроется желтое побережье. Или Желтое море? Так это «Памми».
Во время японской оккупации это место называли Юльсан. Вот так и получилось, что муж Хэпи нашел мой «Памме» рядом с Желтым морем, в часе езды от Сеула.
Через полтора часа, оставив позади бесконечные дома, вывески, дорожные знаки, перекрестки и снова выехав на автомагистраль, мы доезжаем до Памме. Мы выходим из машины, и Хэпи показывает мне дорогу к речке, в которой течет грязная сточная вода. Она такая же мутная, как вода в баночке художника, после того как он неоднократно промоет кисти от красок. На темно-сером, как будто его закрашивали минимум в три слоя, небе нет того огромного яркого солнца, которое всегда присутствовало в моих мечтах. Поэтому здесь нет ни улыбки, ни самого красивого моего лица. Только широкая обмельчавшая река. По левому берегу тянется лента, красной полосой в точности повторяющая все изгибы серой воды. Серый цвет повсюду: цементные стены домов, трубы дымоходов, тротуары и дороги, вдоль которых тянутся серые провода. На западе проглядывает маленькое, как апельсин, солнце. Я сосредотачиваюсь на дыхании: вдох-выдох. Я никак не могу поверить, что в 1976 году Кей-Кей мог здесь купаться.
— Это промышленная зона. Ее начали строить очень давно, — не обращая внимания на мою растерянность, но с некоторой неуверенностью в голосе Хэпи сообщает мне все, что заранее вычитала про это место. — Впервые план развития этой промышленной зоны был рассмотрен и утвержден в рамках второй пятилетки. Ну, имеется в виду пятилетний план экономического развития страны, кхм…
И только теперь я впервые внимательно присматриваюсь к Хэпи. Ей 39 лет. Возраст, в котором я полюбила Кей-Кея. Даже все то, что она съедала по ночам, никак не испортило ее фигуру, и она до сих пор в прекрасной форме. Погруженная в свои мрачные мысли, я не осознавала до конца, что для Хэпи наступила пора последнего ослепительного расцвета женской красоты. С нашей первой встречи в аэропорту мне казалось, что лицо ее озаряется светом, как у человека, любующегося фейерверком. Она представилась: «Хеми» — и пояснила, что будет помогать мне как переводчик и передавать всю необходимую информацию вплоть до моего отлета обратно домой. По ровным интонациям голоса сложно было догадаться о ее чувствах, но, когда мы пожали друг другу руки, оказалось, что ладонь ее была влажной от холодного пота. Она крепко сжала мою руку и сказала:
— Если вам сложно запомнить имя, то можете называть меня Хелпми, как английское выражение «help me».
Я рассмеялась, когда услышала это, и ответила, что лучше запомню ее как Хэпи — «счастливая».
Я резко перебиваю свою помощницу, продолжающую экскурс в историю этого промышленного района:
— Это не Памме.
— Это Памме, — бросает она в ответ. — Если быть совсем точной, то Панми. Изначально место называлось Памми, а теперь Панми.
Я абсолютно не понимаю, о чем она говорит. Я не улавливаю никакой разницы в названиях: Памме, Памми, Панми, — для меня они все звучат одинаково.
— В любом случае это не тот Памме, где Кей-Кей плавал трупом.
— Это Памме. И нельзя говорить «плавать трупом». Надо говорить «плавать на спине».
Я понимаю, что с меня довольно, — больше ни слова не скажу Хэпи, после того как она привезла меня в это место: какая-то отвратительная подделка под мой Памме.
— Хотя вас и наняли как переводчика, вы не понимаете ни одного моего слова. Вы даже не поняли, почему я говорю «плавать трупом». Вы вообще меня не слушаете. Ни слова не понимаете!
Я в гневе. Я прекрасно понимаю, что сейчас выгляжу как старая бабка, помешавшаяся на своем прошлом. Но ничего не могу с этим поделать. Кажется, я вот-вот расплачусь. Зря я только перелетала самый широкий океан в мире. Хочу обратно в Америку. Хочу уехать из «суетного города, в котором нет ничего долговечного, но полно вещей, которыми можно полюбоваться мимоходом». Сейчас. В эту самую минуту.
Я плохо помню дни. В памяти моей остались только ночи. О днях я помню только цвет лепестков палисандрового дерева. Когда идет дождь, цветы становятся фиолетовыми, в сухую погоду они голубые. В моих воспоминаниях цветы то фиолетовые, то голубые. Но я хорошо помню, что город был охвачен беспорядками. Начавшиеся в конце апреля на южных окраинах демонстрации разрушительным ураганом прошли через весь город. И так же, как ураган, уничтожили все на своем пути. Даже когда кончился день, у Южного вокзала ночь так и не наступила. Город яростно пылал до утра. Районы, где поджоги удалось предотвратить, охраняли люди с ружьями и пистолетами. Афроамериканцы кричали о том, что в этой стране у них нет никаких прав. Но не было не только прав. Еще на улицах не было полиции и отрядов оборонительных войск.
Первого мая я встретила Кей-Кея. Только мы встретились, он стал рассказывать о мексиканской девушке, которую увидел, выходя из магазина на перекрестке Семнадцатой и Вестерн-авеню. Она стояла на углу под палисандровым деревом и обращалась ко всем проходившим мимо людям.
— Я не понял, что она говорила, поскольку не знаю испанского. В любом случае я решил, что, конечно же, она просит денег. Никогда не подавал уличным попрошайкам. Но, как ни странно, мне захотелось помочь ей. То ли из-за выражения ее лица, то ли из-за голоса, то ли из-за странной ситуации вокруг: борьба огня и тьмы. Хотя я бы сказал, что они не борются, но сосуществуют, и от этого становится не по себе… В общем, я отдал ей мелочь, которая была у меня в кармане. Тогда она сказала мне: «Уверуйте в Спасителя вашего Христа». — Кей-Кей ненадолго прервался, потом добавил: — Это же хорошо, что она так сказала.
Конечно хорошо, Кей-Кей. Потому что ты сделал хорошее дело.
Той ночью мы с Кей-Кеем залезли в прохладную воду в его ванне и купались там вместе. Бежевая пластмассовая ванна была слишком тесной для нас двоих. Застыв в неудобных позах, мы обнимали друг друга под водой и молчали. Тело Кей-Кея, которое я любила, всегда было мокрое — либо от воды, либо от пота. Мне нравилось, когда его влажное тело касалось меня. Мокрое, оно отличалась от того, каким было обычно. Оно становилось безгранично нежным и чутким. Тело маленького мальчика. Оно таяло и наполняло собой воздух в комнате, расплываясь, словно краски в воде. Мокрое тело. Чтобы оно не растворилось совсем, я крепко обнимала Кей-Кея, всеми силами удерживая его. И это было моим счастьем. Я умоляла его быть со мной всегда. Просила не исчезать. Обещала делать все, что он захочет. Говорила, что мне будет этого довольно. А он равнодушно кивал головой.
На улице было не жарко, но я никак не могла остыть после близости с Кей-Кеем, и сон не шел. За окном слышались выстрелы, которые я хотела бы забыть. Наконец я задремала, а когда снова открыла глаза, оказалось, что я накрыла голову подушкой. Не поворачиваясь, я протянула руку, чтобы дотронуться до Кей-Кея, но его не было. Я вдруг поняла, что не сказал ему самого главного, того, что обязательно нужно было сказать. Я осторожно позвала его. Я боялась: вдруг он уже исчез? Но он стоял, голый, в темноте и смотрел в окно. Юг города пылал: горели, ярко освещая ночное небо, то ли машины, то ли дома. Я попросила Кей-Кея вернуться ко мне. Он ответил, что город в огне, — это такое жуткое зрелище, что становится страшно. И добавил, что все равно еще немного посмотрит, а потом вернется ко мне. Почему он не захотел вернуться сразу, если, по его словам, вид горящего города пугал его.
Я снова уткнулась в подушку и пробормотала то, что хотела сказать Кей-Кею. Шептала, чтобы он никогда не покидал меня. Не знаю, зачем были все эти слова.
Я так испугалась, проснувшись в тот раз, что до утра уже больше не смогла заснуть.
Утром, уезжая от Кей-Кея, я ехала по Семнадцатой авеню и вспомнила о палисандровом дереве, про которое он рассказывал. Но, повернув голову в сторону магазина, я заметила только людей, лежавших в ряд на парковке со связанными за спиной руками. Это были иммигранты, выходцы из Латинской Америки, которые, воспользовавшись беспорядками, начали грабить магазины и лавки. Несколько человек с самого края извивались, пытаясь подняться на ноги. Это напоминало мучения перевернувшегося жука-скарабея. Мне было так неприятно вспоминать об этом позже, что еще года два я ни разу не подходила к тому магазину на углу. Вернулась я туда лишь однажды, когда Кей-Кей уже лежал в больнице. Конечно, я не думала, что мексиканская девушка все еще стоит под деревом, и, как и следовало ожидать, сама я эту девушку так никогда и не увидела. Хорошо хоть, что само палисандровое дерево по-прежнему стояло на своем месте. Я посмотрела вверх на его цветы. Но я не помню точно, были ли они фиолетовыми или голубыми в тот день. Помню только, что я молилась, стоя под тем деревом. Кей-Кей ведь сделал доброе дело: впервые в жизни подал деньги нищенке на улице. Если, Господь, Ты и правда Спаситель… Я никогда раньше не молилась и не обращалась к Господу, поэтому не знаю, правильную ли молитву я творила. Под порывом ветра с дерева опало несколько цветов. Я простояла там около получаса. Наверное, этого оказалось слишком мало. Через несколько дней Кей-Кей умер.
Конечно, я знаю, как он умер. Ведь именно я до самого последнего дня ухаживала за Кей-Кеем и следила за повязками на его голове. Если вы когда-нибудь смотрели сериал про больницу и врачей, то вы непременно видели всех этих плачущих родственников, вбегающих в реанимацию и сразу бросающихся обнимать своего близкого, находящегося в коме. Когда же я в первый раз увидела огромную, как тыква, голову Кей-Кея, я застыла и даже перестала дышать. Я боялась. Я боялась, что ему может навредить малейшее мое движение. Жаль, я не знала, как все закончится, иначе я ни на минуту не выпускала бы его из своих объятий. Словно сосед, который потихоньку перевозит куда-то по одной-две вещи, а потом внезапно вдруг исчезает насовсем, Кей-Кей умирал медленно, но момент, когда дыхание его остановилось, был все же неожиданным. До самой смерти он не осознавал, что все это время я была рядом с ним. Желая только того, чтобы он очнулся, я без конца звала его, прижавшись губами к самому его уху. И только когда он умер, я узнала, что его настоящее имя было Кхичжун Кхим. Но это имя так и осталось для меня чужим. Кхичжун. Теперь, когда я произношу это имя, звуки его летят в пустоту. Некому откликнуться. И до сих пор мне больно, что я ни разу не позвала Кей-Кея по имени.
Но я так и не поняла, почему Кей-Кей умер. Я знала только, как он умер. Зачем вообще он умер? В конце концов я стала считать, что на него так повлиял огонь. Огонь, на который он смотрел, стоя у окна, за два года до смерти. Огонь, на который он смотрел один, голый, у окна. Огонь, от которого он не мог отвести взгляд, несмотря на то что сам признался, что боится его. Даже если кто-то скажет, что я выжившая из ума старуха, верящая в нелепые домыслы, — мне все равно. Потому что мне нужна хоть какая-то причина его смерти, иначе я даже спать не могу.
Между заводами был маленький парк. Посреди небольших холмиков, засаженных цветами, стояла деревянная скамейка, густо покрытая краской кирпичного цвета. С одной стороны от нее виднелись подпорки для дикого винограда, похожего на глицинию. Я сидела в неудобной позе, смотрела на пышный куст алых королевских азалий и слушала рассказ Хэпи. Она говорила безликим голосом, словно человек, который по просьбе друга передает сообщение, что тот разрывает отношения со своей половинкой. Она говорила о том, как ее трехгодовалый ребенок, который кричал и стонал каждое утро, стал ощущаться как что-то лишнее в жизни. О том, как бежала в больницу, неся за спиной своего позднего сына, и успокаивала себя тем, что в мире очень много людей болеют и в этом нет ничего страшного. О том, как она втайне яростно проклинала медсестру, которая никак не могла попасть в вену и исколола ее сыну все руки и ноги, и так же проклинала врача, которого наконец вызвала сестра и который воткнул-таки иглу в вену на шее ребенка. О физиологическом растворе, тридцать две капли которого каждую минуту попадали ребенку в кровь, и о таблице, в которой было двадцать четыре графы. Рассказывала про интернов и ординаторов, которые, пользуясь случаем что-то спросить, уводили лечащего врача в коридор. А потом она сидела на стуле рядом с сыном и клялась себе, что выйдет из больницы только с малышом. Все эти больничные дела.
Когда у ребенка начинались боли, он кричал, но Хэпи ничего не могла сделать. Этот крик заполнял собой всю больничную палату. «Что? Что такое? Что? Что случилось? Где болит?» — спрашивала, пытаясь хоть что-то понять, Хэпи у сына, который даже не знал других слов, кроме «мама» и «папа». «Где болит? Скажи маме. Пожалуйста, скажи маме». Но от этого ребенок только громче начинал кричать. А-а-а-а-о-о-о-о-у-у-у-у-ы-ы-ы-ы. «Ну пожалуйста, скажи маме, что случилось».
На этом месте Хэпи замолчала. А я растерялась и не знала, как реагировать. Теперь ребенок все рассказывает. Теперь он все рассказывает маме. Но в тот момент Хэпи хотела умереть. Хэпи торопливо повторяла звуки, которые произносил малыш: «Ы-а-а-а-ы-ы-о». Она, стоя у кроватки сына, повторяла его крик, чтобы понять смысл. Но напрасно. Все было бесполезно. Время необратимо текло, ночь она провела, повторяя за сыном «А-ы-ы-о» и пытаясь разобраться, что бы это могло значить. Когда остановилось одно маленькое сердце, слабое с самого рождения, для Хэпи опустел весь мир. А потом однажды она вдруг поняла. Ы-а-а-а-ы-ы-о. Ребенок плакал каждое утро оттого, что стал обузой, а не радостью для своей матери.
После этого Хэпи ни с кем не разговаривает. Ни с мужем, ни с родителями, ни с братьями, ни с сестрами. Если звонит телефон, она долго-долго не подходит, а потом просто снимает трубку и молчит. Все теряются и начинают кричать: «Алло! Алло? Ты меня слышишь? Что-то с телефоном. Алло! Хеми?» — а потом вешают трубку. Она вспоминает, как бегала, обливаясь потом, то в одну, то в другую больницу, неся сына за спиной, и теперь ей кажется, она стала такой легкой, что улетит в небо. Конечно, такого никогда не случится. Но никто не решается разуверять ее. Поэтому она ест — ест рис, ест мясо, пьет литрами молоко, варит себе рамён[1]. Муж складывает всю еду из холодильника в огромный полиэтиленовый пакет, завязывает его и выносит на улицу, но не успевает он вернуться домой, как Хэпи уже грызет сырой рис, растворимый кофе и лепестки орхидеи, растущей в горшке на подоконнике.
В конце концов муж начал бояться Хэпи. Его пугают веснушки, появившиеся на ее лице, ее непрестанно увеличивающийся вес. Они провели несколько месяцев, заточённые каждый в собственное одиночество, не в состоянии понять друг друга, пока оба не пришли к осознанию, что все это болезненное проявление страхов Хэпи. Человек инстинктивно избегает страданий. Поэтому иногда, чтобы не мучиться, люди даже идут на самоубийство. Для Хэпи самым большим страданием было продолжать жить без ребенка. И то, что она продолжала свое существование, было связано не с тем, что она обрела надежду, но, наоборот, с тем, что она ее утратила. Но этой правдой она не могла поделиться даже с мужем. И только спустя еще четыре месяца она обрела пусть не надежду, но хотя бы минимальную опору, от которой смогла оттолкнуться, чтобы вернуться к жизни.
Через полгода после того, как она потеряла ребенка, ее проблемы с весом и веснушками достигли своего апогея, однако ситуация начала потихоньку улучшаться после того, как однажды Хэпи посмотрела документальную передачу про синхронный перевод. Сначала она даже и не думала о том, чтобы, как сейчас, работать устным переводчиком. Она всего лишь хотела пойти учиться на курсы. Она поступает в магистратуру на недавно открывшуюся кафедру переводоведения в своем родном университете, который когда-то закончила. На занятиях Хэпи дословно повторяет на корейском все, что говорит преподаватель: «Был конец декабря. На заснеженной долине я вдруг увидел зайца, который тихо сидел на снегу с таким видом, будто бы он заблудился и не знает, куда бежать. Ему-то куда ни беги — везде дорога, но зайчонок замер, сбившийся с пути». Хэпи смотрит на губы преподавателя и повторяет все, что слышит. Она так занята этим, что даже не задумывается над смыслом слов. Просто копирует голос и интонацию преподавателя, как будто это она сама так говорит. Если преподаватель подносит левую руку ко рту, Хэпи тоже подносит левую руку ко рту, если он чихает, она тоже чихает. Потом она точно так же повторяет все, что он говорит по-английски. Повторяет до тех пор, пока речь на том или другом языке не становится для нее всего лишь набором звуков, таящих в себе скрытый смысл, который она даже не пытается понять. В конце концов любая речь для Хэпи становится звуковыми знаками, а смысл, который они в себе несут, складывается где-то внутри нее, а не приходит извне вместе со словами говорящего.
— По правде говоря, я впервые сейчас работаю устным переводчиком. Зря я послушала мужа и решила, что Памми может вдруг оказаться Памме. Это была моя ошибка. Если честно, я и сама сразу поняла, что это не тот Памме, как только мы сюда приехали. Как бы ни были похожи названия, это место все равно не станет вашим Памме. Правильно? Это все моя вина. С тех пор как вы упомянули о смерти Кей-Кея, я погрузилась в свои мысли и часто пропускала ваши слова мимо ушей. Иногда я так же вела себя с ребенком. Извините меня. — Хэпи опустила голову. — И не надо называть меня Хэпи. Никакая я не счастливая.
Но я и впредь буду называть ее Хэпи. Она встает со скамейки и говорит, что пора возвращаться в Сеул. По пути она продолжает рассказывать. За те полгода, что она сильно поправилась и покрылась веснушками, один приятель ее мужа спросил, какой может быть «как» в их жизни, если то, что происходит у них с Хэпи, называть семьей. Я спрашиваю у Хэпи, что такое «нак». Это единственное слово, которое она не перевела и оставила прямо так, на корейском. Хэпи отвечает:
— Ну, я и сама до сих пор не понимаю, что он имел в виду под этим «нак».
Так Хэпи мне и не объяснила значение этого слова.
Едва мы выезжаем на трассу, как упираемся в хвост длинной вереницы машин, медленно ползущих в сторону города. Полчаса мы плетемся в этой пробке, но, кажется, не проезжаем и пары километров. Спросив разрешения у Хэпи, на обратном пути я села на переднее сиденье рядом с ней, но в этой пробке мы толком ни о чем и не разговариваем, скорее наоборот, между нами чувствуется некоторое напряжение. Изредка Хэпи принимается постукивать пальцами левой руки по губе. А я просто смотрю на дорогу. Мы замечаем впереди черный дым, поднимающийся над рядами машин и автобусов. Хэпи говорит, что там точно произошла какая-то авария. В любом случае мы не успеваем к шести часам обратно в отель. Я смотрю вперед на дым и бормочу под нос:
— Это похоже на мокрое тело Кей-Кея.
— Это похоже на мокрое тело Кей-Кея, — повторяет за мной слово в слово Хэпи. И начинает смеяться. Видимо, это и есть «нак». — Я тоже хотела вас кое о чем спросить. Вчера в интервью вы говорили про исследование полюсов Земли. И там было такое слово — «гипервитаминоз А». Что это значит? — Хэпи смотрит на меня.
Пока мы говорим, мимо нас по обочине с сиренами и мигалками проезжают эвакуатор, полиция и машина «скорой помощи».
— Ну… — протянула я. Я хотела дать Хэпи возможность самой догадаться о значении слова.
Она облизывает губы. Пока она думает, мы еще немного проезжаем вперед. Накануне я действительно давала интервью для одной из корейских газет и рассказала про арктическую экспедицию. Исследователи умирали от голода, поэтому им пришлось убить и съесть белого медведя, и в итоге они погибли от гипервитаминоза А. Хотя эскимосские охотники, так же как Хэпи, не знают, что такое гипервитаминоз, но из поколения в поколение они учат своих подрастающих детей, что мясо белого медведя — это табу, есть его нельзя.
— Похоже, сожаление еще долго будет в душе, — говорит Хэпи.
На этот раз я повторяю ее слова, и мы смеемся. Тогда я понимаю, что «нак» не передает мои чувства к мокрому телу Кей-Кея. Ну и что с того?! Я также поняла, что еще долго буду грустить из-за того, что у Хэпи умер сын, и даже подумала, что неплохо было бы умереть, как полярники в экспедиции. И Хэпи теперь поняла. Я смогла продолжать жить, потому что у меня было мокрое тело Кей-Кея.
Наконец машины начали набирать скорость. Хэпи вскрикнула:
— Ой, посмотрите! А вот и авария. Видите, грузовик горит.
Я смотрю вперед. Рядом с заездом на виадук горит грузовик. Я вглядываюсь в языки пламени. Весь грузовик пылает в огне, но еще больше поражает, сколько поднимается черного дыма. Черный дым быстро поднимается в небо, в бесконечный космос. Мы проезжаем еще немного вперед, и внутри машины сразу чувствуется жар от огня. Вдруг мне становится страшно. А чувствовал ли Кей-Кей такой же жар, когда смотрел из окна на горящий город?
— Ничего себе! Не похоже, чтобы он врезался во что-то, как он мог сам по себе так загореться? — говорю я. Мне передается жар огня. И я чувствую, как внутри меня что-то меняется.
— Интересно, что с водителем? — шепчет Хэпи себе под нос и быстро оглядывает обочину около грузовика. Она тычет пальцем: — Туда, туда посмотрите. Вон там, рядом с полицейской машиной. Мужчина в синей робе. Сейчас разговаривает с полицейскими. Похоже, водитель успел выскочить из машины, пока та еще не загорелась. К счастью, с ним все в порядке.
Уставившись на пожар, мы не спешим набирать скорость. Машины сзади начинают вовсю сигналить, пытаясь поторопить нас. Я говорю:
— Поехали, Хэпи. Теперь уже поехали. Огонь скоро погаснет.
Хэпи кивает в ответ, но наша машина по-прежнему продолжает еле ползти. Хэпи тоже это знает. Когда мы уедем, огонь, оставшийся позади, будет гореть дольше, чем мы можем предположить. Внутри. Внутри нас. Где-то в глубине. Возможно, до тех самых пор, пока мы не состаримся и не умрем. Дело в том, что эти девяносто процентов космоса, которые мы не видим, но которые уже так давно влияют на нас, заполнены огнем. Но, конечно, пока мы живы, мы не можем увидеть его. Хэпи приходит в себя и говорит:
— Думаю, такими темпами мы можем и на прощальный банкет опоздать.
И хотя Хэпи знает, что мы все равно уже не успеем вернуться к шести часам, после этих слов она нажимает на газ. Машина постепенно набирает скорость, оставляя пламя темного огня позади.
НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ ТО, ЧТО ПРОШЛО
Лето. Приехав на море, она начала взрослеть, и это уже было не изменить. Она решила: все из-за того, что она давно не нежилась на солнце. В самом деле, что такое особенное происходит в восемнадцать? Но она, например, перестала мечтать. Интересно, как чувствуют себя ее сверстницы? Наверняка кто-то еще перестал мечтать в восемнадцать. Ее кожа казалась темной, как капельки дождя, стекавшие по окну отеля. Опускалась густая южная ночь, под ее натиском шторм, заглушавший собой все звуки, наконец-то стих. Заперев за собой дверь номера, она скинула всю одежду, оставшись в одной розовой бейсболке, и прошла в ванну. В зеркале отражалась молодая стройная девушка. Счастье быть худенькой в этом возрасте. По крайней мере, так говорила ее мать. Девчушка сделала прохладней воду, набиравшуюся в ванну, и вернулась в комнату. Голая, она стояла и смотрела в окно, за которым лежал таинственный мир тишины. Она зашла обратно в ванную. На запотевшем зеркале виднелись следы стекавших капель. Стоило ей начать протирать зеркало, как кто-то постучал в дверь номера. Этого она никак не ожидала и замерла в нерешительности. Едва девушка осмелилась снова пошевелить пальцами, как человек за дверью кратко и быстро позвал ее по имени. Так произносят только то, что хотят сохранить в тайне. Это был Хён. Она улыбнулась. Может статься, он будет стучать в дверь ее номера каждую ночь этих каникул. Она развернула кепку козырьком назад и посмотрела в глазок. Хён огляделся по сторонам и левой рукой нажал на звонок. Девушка вернулась в ванную комнату, где вода уже лилась через край. Не перекрывая кран, она забралась в ванну. Звонок раздался еще несколько раз. Девушка полностью погрузилась в воду. На ее улыбке замерли пузырьки воздуха, а бейсболка моментально промокла насквозь и стала почти красной. Ночью жара спала.
Когда она открыла глаза следующим утром, перед ней, заставляя забыть о ночной тишине, простирался новый — зеленый, синий, желтый — разноцветный мир. Изумрудное море, успокоившееся после шторма. Яркий солнечный свет. Прозрачный воздух, настолько чистый, что видно далеко вокруг. Выстроившиеся в ряд пальмы с листьями, блестящими высоко вверху. Накануне родители взяли машину напрокат и по горной дороге доехали до этого самого места. Дождь лил как из ведра, и щетки на лобовом стекле не справлялись с потоком воды. Это был долгожданный отпуск, но тогда, в машине, все сидели с постными лицами. Она же постоянно ловила себя на мысли, что ехать в катафалке на похороны было бы и то лучшим путешествием. Однако наутро все наслаждались прекрасной погодой, напрочь позабыв о вчерашнем ненастье. Еще не было и десяти, но солнце уже вовсю припекало. Море. Она стояла и, щурясь, смотрела на синее море, когда к ней подошла мать и, будто бы сжалившись, сказала:
— Теперь ты можешь забыть о том, что тебе надо поступать в университет. Но только на то время, пока мы здесь.
Девушка прекрасно знала, что с самого начала все это путешествие задумывалось лишь для того, чтобы не позволить ей слишком расслабиться и следить, чтобы она училась перед экзаменами. Она подумала, что предпочла бы этому солнечному дню какое-нибудь ненастье, чтобы можно было запереться в комнате и спать.
Завтракали в ресторане на втором этаже отеля. Две женщины — ее мать и мать Хёна — без умолку болтали. Они были хорошими подругами и даже спланировали этот совместный отдых будто бы для того, чтобы их дети, готовившиеся к поступлению, могли немного отдохнуть. Однако те двое, которых это касалось непосредственно, сидели с отсутствующим видом и ковырялись в тарелках, полных неаппетитной еды из буфета. Не только их матери радовались разгулявшейся погоде. Отцы, давно не выбиравшиеся на семейный отдых, с первыми лучами солнца ушли играть в гольф и до сих пор оставались на поле, забыв про завтрак.
— Где ты была ночью? — взглянув в ее темные глаза, завел свою песню Хён.
— В комнате.
— Я стучал.
— Я не слышала. Наверное, уже спала, — равнодушно ответила девушка, пока Хён насаживал на вилку бекон и еще какую-то ерунду.
— Я даже звонил несколько раз.
— Мало того, что приходишь к девушке посреди ночи, так еще и трезвонишь во всю дурь.
Она отложила вилку и, запрокинув руки за голову, потянулась всем телом. Хён скользнул взглядом по ее фигуре. На ней было черное платье без рукавов с широкими проймами, так что, пока она тянулась, были видны ее подмышки. Мать, до тех пор сплетничавшая про свою невестку и ее жадность, начала бранить дочку за непристойное поведение за столом. Все бы ничего, но тут девушка заметила, что и мать Хёна смотрит на нее, и быстро опустила руки.
— Она у меня еще такой ребенок, все приходится присматривать за ней, — объяснила женщина и добавила: — такой добрый ребенок.
Хитрости матери было не занимать. До этого дня она ни разу не упоминала, что дочка у нее должна быть доброй. И впервые в жизни девушка слышала, чтобы мать так говорила про нее. Всю жизнь мать хотела, чтобы ее дочка была красивой, а не доброй. Девушка не знала наверняка, но, кажется, мать считала, что ее собственная жизнь не удалась именно из-за того, что она когда-то была доброй. У родительницы было своеобразное представление о воспитании ребенка. Она забивала все шкафы дорогой одеждой, подчеркивающей женственность дочери. Или незаметно клала в косметичку на столе подводку для глаз, хотя девушка даже не умела ею толком пользоваться. Но куда больше знаний дочь почерпнула из маминого разочарования в жизни, которое сквозило и в манере говорить, и в том, как она себя держала. Это не означало, что она не хотела жить, как мать, или тяготилась ее вниманием, — она понимала, что сможет стать такой красивой, как сама этого захочет, если будет придерживаться маминой линии. Она уже понимала, что легко может стать такой, какой ее хотят видеть окружающие. Они хотели до банальности простых вещей: чтобы она стала еще красивей, еще привлекательней, еще очаровательней.
Девушка довольно рано привыкла к тому, что все вокруг обращают на нее внимание. Поначалу она думала, что у нее просто больше возможности покрасоваться, чем у других девочек (причиной тому была мать, крайне любившая наряжать и украшать дочку), но скоро она поняла, почему мать так старается. Вокруг было много девочек, ничуть не уступавших в красоте, но по сравнению с ними она сама не выказывала ни малейшего интереса к нарядам и украшениям. Именно поэтому мать взяла все в свои руки и пыталась сделать из дочки привлекательную женщину. Девушка знала, что мужчины будут считать красивыми любые ее действия, ее голос, ее манеру бессвязно говорить просто потому, что она привлекает их и потому, что они считают ее красивой. У нее была тайна: она сама не понимала, кто же она на самом деле. Ей было все равно, почему парни не могут оторвать от нее глаз. Ее куда больше интересовали другие вещи. Например, ее занимали звуки, которые вчера ночью она слушала в ванне, с головой погрузившись в воду. Такие красивые звуки. Ей было интересно, откуда могли исходить эти звуки, очаровавшие ее. Она задержала дыхание и, пока хватало воздуха, оставалась под водой в горячей ванне. Потом она вынырнула, вылезла из ванны, оделась и вышла из номера. В коридоре не было ни души, где-то еле слышно жужжал телевизор. С мокрых волос стекали капли воды и беззвучно падали на ковер.
Девушка постояла в холле отеля, наблюдая, как дрожат на ветру листья кустов бересклета. Потом через вращающуюся дверь вышла на улицу. Сильный ветер сносил капли дождя в сторону. Вокруг ничего не было видно, кроме отелей и съемных коттеджей, и девушка никак не могла понять, далеко ли было море. Она зашла обратно в отель и спросила у посыльного, как ей дойти до берега.
— Через сад направо, там будет деревянная лестница, ведущая к морю, — объяснил молодой человек. — Это самое красивое побережье во всей Корее. Только ночью вы вряд ли это увидите. Темно. Лестницу освещают фонари, но все равно спускайтесь осторожно. — Посыльный смотрел ей прямо в глаза.
— Что, правда совсем ничего не видно на берегу?
— Ну, трудно сказать. Я давно не ходил к морю в такую погоду.
— Когда в последний раз?
— Да еще в школе, наверное. Трудно собраться с силами и пойти к морю в такой-то ливень.
— Что ж, значит, сейчас там никого не будет.
Посыльный лишь улыбнулся в ответ. Его слова о море только больше раззадорили девушку. Она поблагодарила его и, едва выйдя из отеля, вспомнила, что возвращалась туда за зонтом. Она снова зашла внутрь и обратилась к молодому человеку. Тот сходил в служебную комнату и принес ей черный зонт с эмблемой отеля. Девушка взяла его и вышла под дождь. Посыльный последовал за ней.
— Я провожу вас. Покажу дорогу до лестницы, — сказал он с профессиональной вежливостью.
Она кивнула. Все лучше, чем идти одной.
— Вы местный?
— Да. Прожил здесь всю жизнь, если не считать службы на материке. Здесь, конечно, скучно.
— Почему скучно?
— Да здесь почти ничего не происходит. Вот пройдет такой шторм, на следующий день погода просто сказочная, а все равно никто не радуется, не веселится. На острове все черствеют. Иногда, правда, кто-нибудь кончает с собой. Прыгают со скалы. Или, бывает, кто-нибудь утонет, заигравшись в воде.
— Вас забавляет смерть?
— Нет. Дело не в этом. Мы живем за счет приезжающих туристов, поэтому нам нельзя, чтобы такое происходило. Вот этим летом, например, никто не погиб. Полиция тщательно за всем следит, да и деревенские ребята пообещали, что это лето обойдется без происшествий. Сезон уже заканчивается, так что, видимо, так оно и пройдет, это лето. А послезавтра в местном развлекательном центре будет выступать рок-группа. Конечно, в Сеуле никого не удивишь таким концертом, но вы приходите. Должно быть интересно.
— Не люблю концерты. Где море?
— Вон там.
В той стороне, куда указал посыльный, девушка увидела только сосны, освещенные светом фонарей, все остальное тонуло во мраке. Она пошла к морю, слушая, как капли дождя падают на мокрую землю, как вода стекает в канализацию, как ветер шевелит хвоинки на деревьях и исчезает в темноте, как волны накатывают на берег и снова отходят в море, которое словно играло арпеджио, где самые низкие ноты ночного аккорда сменялись высокими и обратно. И, слушая ритмичные звуки волн, она вспомнила про страдания. Их вполне можно было бы назвать сладкими. Она все чаще и чаще находила некоторое очарование в своих страданиях, поэтому не исключала, что со временем так же, как мать, станет считать свою жизнь неудавшейся. Она была уверена, что на самом деле мать разочаровалась в жизни не оттого, что была доброй, но оттого, что в этом было какое-то очарование. Куда важнее всех взлетов и падений было ее пристрастие к страданиям, которое постепенно укреплялось в ней. Хотя, по сути, сами страдания были ей незнакомы. Если бы, как того хотела мать, девушка вышла замуж за кого-нибудь типа Хёна, она могла бы оказаться в мире, лишенном страданий. Они с Хёном прекрасно подходили друг другу, и к тому же он был ей небезразличен. Но ведь не было никаких душевных терзаний в том, чтобы любить Хёна и быть с ним. Она не могла это объяснить, но ей хотелось страдать. Пока она слушала шум волн, потихоньку начало светать. Когда она сделал еще один шаг в сторону моря, посыльный окликнул ее:
— Пожалуйста, остановитесь! Никаких происшествий до конца сезона!
О чудесном летнем дне можно было судить по ее сияющим глазам, когда следующим утром она в легком полосатом платье поверх купальника стояла на лестнице, ведущей к пляжу, и смотрела на море. Ее взгляд, полный любопытства, был подобен солнечному свету, озаряющему без разбора все вокруг. В первый погожий денек после затяжных дождей все отдыхающие выбрались на пляж, и на дороге, ведущей к морю, было не протолкнуться в толпе отпускников и торговцев. Везде, где только это было возможно, на песке были установлены зонты от солнца и шатры, кромка моря пестрела людьми в купальниках. Все утро она провела в большом гостиничном шатре за чтением книги, которая давно ждала своего часа. Хён и родители не вылезали из моря. Девушка была поглощена чтением, лишь изредка отрывая глаза от книги, чтобы ответить на СМС друзей, оставшихся в Сеуле. Чтение было ее самым любимым занятием, которому она с радостью посвящала бы все свободное время. В этом романе речь шла о женщине в самом расцвете сил, которую все больше интересовали чувственность и эротизм и все меньше — здравый смысл. Героиня не понимала, что страхи и опасения, с которыми она пыталась бороться, только больше загоняли ее в ловушку желаний и страдала. В книге упоминался стих, однажды прочитанный героиней. Он начинался словами: «Я случайно проходила мимо / по мрачной дороге, засыпанной снегом». Дальше рассказывалось, как женщина шла по улице и в одном окне увидела плачущего мужчину. Она ничем не могла ему помочь, но, тем не менее, не отрывала взгляда от окна, пока слезы не перестали течь по его лицу. Заканчивался стих словами: «Сейчас я случайно вспомнила этого человека / в пустом офисе глядя на падающий снег / и слезы его мне вовсе не кажутся глупыми». Особенно девушке запомнились последние строчки стихотворения, потому что ей точно так же не казалось, что героиня романа ведет себя глупо.
Солнце поднималось все выше, и как-то вдруг ей стало жарко. Дочитав до середины книги, она отправилась к воде. Море оказалось неожиданно холодным и глубоким. Она вытянула руки перед собой и нырнула. Избегая толпы купальщиков, девушка поплыла в сторону открытого моря. Бесформенная вода обтекала ее тело и расходилась в такт гребкам. Дыхание сбилось, и понемногу она начала уставать. Тогда она перевернулась и поплыла на спине. На ее груди играли лучи горячего полуденного солнца. Пока она плыла и смотрела на неустанно движущееся солнце, она задумалась о следующем лете и тут же почувствовала легкий укол грусти. Она подумала, что, после того как окончит школу, уже никогда не сможет так самозабвенно наслаждаться солнечными днями, как в это лето. Не то что ей кто-то помешает или она сама этого не захочет, просто из-за того, что она станет взрослой, она уже не сможет смотреть на солнце так, как сейчас. Она подумала, что не хочет взрослеть. Пока она была погружена в свои мысли, кто-то неожиданно дернул ее за ногу. Не удержавшись на волнах, девушка ушла под воду и сразу догадалась, что это Хён незаметно подплыл к ней. Хён, крепко державший ее за ногу обеими руками, нырнул следом. В нем было много бесполезной силы. Если бы она была такой сильной, то тратила бы ее всю без остатка. Ничего бы не оставляла внутри себя. Она вынырнула на поверхность и попыталась отдышаться: мало того, что она уже довольно давно плавала, так теперь ей еще пришлось нырять. Когда вынырнул Хён, он увидел, что к девушке подошел оранжевый катер. В нем сидели загорелые парни лет по двадцать, телосложением выгодно отличавшиеся от него. Спасатели прокричали, что там, куда заплыли Хён с девушкой, было опасно и что им следует вернуться к берегу. Хён развернулся в обратную сторону, но увидел, что девушка махнула рукой спасателям. Сказав, что совсем выбилась из сил, она попросила отвезти ее на берег. Молодые люди подняли ее на борт.
Когда совершенно измотанный Хён доплыл наконец-то до берега, он увидел, что девушка уже давно оделась, поднялась по лестнице и, облокотившись на перила, смотрела на море. Платье обтягивало ее мокрое тело, а с волос все еще скатывались капельки морской воды. Он побежал в ее сторону, обогнал какого-то мужчину и начал поднимать по деревянным ступенькам. Девушка не отрывала взгляд от моря, так ни разу не посмотрев в сторону своего друга.
— На первом этаже отеля есть ботанический сад, ходила уже туда? — спросил Хён, подойдя к ней.
Она помотала головой.
— Там есть самая большая голубая агава на острове. Хотел тебе показать.
Хён взял ее за руку. Его рука был горячей, несмотря на то что он только что вылез из холодного моря. Она прекрасно знала, что Хён хотел ей показать вовсе не растение с таким странным названием, а животное, затаившееся в нем самом. От этой мысли ее бросило в жар. В этот момент она встретилась глазами с мужчиной, поднимавшимся по лестнице, и сразу узнала его.
— Отпусти мою руку. Я следом пойду.
Она отдернула свою руку, но Хён снова схватил девушку и силой потащил за собой. Хотя он и сказал, что ботанический сад находился на первом этаже гостиницы, когда они зашли в холл, оказалось, что сад был в подвальном помещении. Как она и предполагала, Хён не так уж сильно интересовался тропическими растениями. Стоило им только войти в сад, он потащил ее в угол, где росли бананы, и, укрывшись под их листьями, притянул девушку к себе и поцеловал в губы. Она позволила его языку проникнуть в ее рот. Она слышала, как на пляже разговаривали люди, как работала оросительная установка где-то на газоне; слышала музыку, доносившуюся из динамиков в отеле; слышала, как бежала кровь по жилам. На Хёне не было ничего, кроме черных плавок. «Вот, значит, какое у мужчин тело», — подумала она и, не в силах преодолеть любопытство, засунула правую руку ему в плавки. От удивления Хён оторвался от поцелуя, но вскоре снова впился в ее губы. Он попытался дотронуться до ее груди, но девушка отпихнула его руку. Тем не менее парня это не остановило.
— Я женюсь на тебе, — сказал Хён.
На этот раз она постаралась отпихнуть не только его руку, но и его самого. Внутри все похолодело.
— Ну, и где эта агава? — спросила девушка.
Хён, словно бы происходящее ничуть не смущало его, веселым жестом поманил ее за собой. Растение росло у окна, в которое задувал сильный теплый ветер и из которого было видно море. Она наклонила голову и стала рассматривать длинные листья, напоминавшие язык диковинного животного.
— Оно питается солнечным светом и превращается в текилу, — сказал Хён.
— Из него готовят алкоголь?
— Самый жгучий из всех алкогольных напитков.
— Пробовал?
— Да. Когда пьешь, ощущение, будто огонь глотаешь.
— Думаешь, если проглотить огонь, будет такое же ощущение? По-моему, все просто сгорит.
— Да ты ничего не знаешь. Про алкоголь-то уж тем более, — ответил Хён и погрозил ей пальцем.
В этот момент со стороны моря послышался вой сирены. Девушка выпрямилась. Ее платье и волосы развевались на ветру. Она высунула голову в окно и увидела, что все люди вылезают из воды. По зелено-синему морю мчался, разбрызгивая белую пену, оранжевый катер спасателей.
— Это те самые спасатели. Похоже, что-то случилось, — сказала девушка Хёну, который также уставился в сторону моря.
Катер, наматывавший круги по воде, остановился, и из него выпрыгнули спасатели. Они не переставая ныряли в воду в поисках тонувшего. Чем-то спасатели напоминали водомерок. Девушка с Хёном заслонили ладонями глаза от солнца и смотрели, что будет дальше. Ветер неустанно трепал волосы.
Когда потом она вспоминала о тех летних днях, о пропавшем в море человеке, о волосах, без устали развевающихся на ветру, она всегда ощущала что-то похожее на смущение, подобное тому чувству, которое испытывают девочки, когда первый раз видят кровь на нижнем белье или замечают в зеркале только-только появляющиеся округлые формы груди, — чувство, что входишь в новый неизведанный мир. Простое очарование, детское, незрелое и непонятное. Матери сразу замечают такие изменения в дочерях. А девочки начинают стесняться. Они больше молчат, становятся чувствительней к словам и действиям и понемногу начинают отдаляться. Если, например, им приходится куда-то идти в одежде, которая им не по душе, они начинают все чаще и чаще выказывать свое недовольство в словах или поступках. И ее мама скоро начнет все это замечать. Увидит, что дочка входит в мир, где родители уже мало что могут сделать. Поведение всех девочек меняется из-за того, что они начинают стесняться всяких разных вещей, но матери никак не могут этого понять. Кажется, они совершенно забывают, что сами взрослели точно так же.
Позже тем вечером обе семьи собрались на барбекю в ресторане, расположенном в саду отеля. Там она сказала матери, что не сможет больше купаться. Озадаченная этим заявлением мама попыталась выяснить причину, на что девушка ответила, что у нее начались месячные.
— С какой стати они вдруг начались именно сейчас? — удивилась мать.
Конечно, она знала, что у дочери в принципе менструации были нерегулярными, а тут еще столько нервов с выпуском из школы — немудрено, что цикл сбился. Однако мать, специально планировавшая этот отпуск так, чтобы он не совпал с месячными дочки, смотрела на нее с явным подозрением. Если бы захотела, она не постеснялась бы проверить, правду ли говорит девушка, но, будучи воспитанной женщиной среднего класса, она посчитала это неуместным. Девушка не стала ничего отвечать, и это было правильно. В любом случае мать не смогла бы понять, что ее дочь настолько стеснительна, что не сможет теперь войти в море, после того как в нем кто-то утонул.
— А что у тебя с шеей? — спросила женщина.
— А что такое? — ничуть не изменившись в лице, переспросила девушка и потрогала шею, на которой начал проявляться след от слишком страстного поцелуя Хёна.
— Нет, не там. Вот тут, слева.
Мать огляделась по сторонам. Кроме них двоих, все остальные были настолько поглощены готовкой мяса, будто это могло решить все мировые проблемы.
— А разве не этого ты хотела? Это же мои последние каникулы.
— Иди-ка в отель, посиди там немножко, потом увидимся. В моем номере возьмешь шарф. Каникулы каникулами, а меру знать стоит.
— Я тебе не собачка, чтоб меня прогонять. — С этими словами девушка поднялась и отправилась в отель. «Дураки. Все вы лицемеры. Только и знаете, как мясо жарить», — думала она по дороге.
У гостиницы группа панков вытаскивала из машины музыкальные инструменты. Посыльный поприветствовал ее как хорошую знакомую:
— Понравилось море?
— Ночью больше. Мне больше нравится, когда его не видно и можно воображать его каким угодно.
— Жаль.
— Почему?
— Кажется, море вас не особо впечатлило. А лицо у вас загорело. Щечки порозовели. Вы только посмотрите на этих музыкантов. Первый раз вижу такие прически. Интересно, они только с ирокезами могут нормально выступать?
— Дураки они. Кстати, где тут можно выпить текилу?
— А разве в баре ее не продают?
По пути в бар она еще раз взглянула на музыкантов. Среди панков с сумасшедшими прическами стоял один человек с совершенно обычной стрижкой, хотя он тоже походил на бывшего музыканта. Ему было за тридцать, и он смотрел на нее. Она привыкла к тому, что на нее все время смотрят. Она как будто становилась хрустальной статуэткой и не замечала всех этих взглядов. Она всегда с радостью становилась хрустальной и наслаждалась чужим вниманием. Но взгляд этого мужчины отличался от других, его вполне можно было назвать наглым. Стоило мужчине убедиться, что девушка заметила его, он, не мешкая, подошел.
— Там, на лестнице, это был твой парень? — спросил он.
Девушка подумала, что вопрос мог бы быть и не таким банальным. Она посмотрела на часы, потом ответила:
— Если быть точной, то прошло ровно пять часов и шестнадцать минут с тех пор, как он сделал мне предложение.
— Тебе бы еще развлекаться и развлекаться, а ты уже замуж собралась.
Ей не понравилось, что он говорит с ней как с маленькой.
— Тогда я подумаю о том, чтобы уйти в монастырь. Как я погляжу, это все едино.
— Что едино?
— Все одинаково скучно. Ну да ладно. Вы приехали на завтрашний концерт? Будете выступать? А я видела вас по телевизору. Давно еще, но все равно узнала сегодня на лестнице.
— Нет, концерт мне неинтересен. По правде говоря, со вчерашнего вечера я только за тобой и наблюдаю. На что ты всегда так увлеченно смотришь? Собственно, я и подошел к тебе просто потому, что хотел задать этот вопрос.
— Конечно на море.
— Море? И все? И что же такого интересного в море? Сколько тебе лет? Ты моря, что ли, раньше никогда не видела?
— А вы до сих пор поете?
— Не меняй тему. Я задал тебе вопрос. Правда, что ли, только на море и смотришь?
Он пристально посмотрел на нее, но ей нечего было ответить.
— Ладно. Вот что тебе надо знать. Ты на море смотрела, а я совсем другое видел. Поняла?
— И что вы видели?
— Как умер человек. Он барахтался в воде, то выныривая, то снова уходя под воду, а я кричал что есть мочи, только спасатели на суше ни его не видели, ни меня не слышали. Вот когда я с ним играл так в прятки, я на тебя не смотрел, только на него. Хотел тебе рассказать, что еще видел помимо тебя.
Мужчина замолчал. Внезапно она почувствовала, что готова умолять его, чтобы он продолжал рассказывать о том, что видел помимо нее. Это ее желание было совершенно неожиданным, но оно полностью захватило девушку. Она чувствовала себя чудовищем оттого, что хотела услышать подробности случившейся трагедии. Вот, например, совсем недалеко, в саду отеля, ее родители и родители Хёна ели мясо и вели бесконечные разговоры о ценах на жилье, или о гольфе, или о скором поступлении детей в университет. Она знала, что не может вписаться в общество, где только об этом и говорят, а главное, у нее смелости не хватило бы хоть на шаг приблизиться к этим людям. Именно поэтому море было единственным, на что она могла смотреть. Этот мужчина очаровал ее, но к этому чувству примешивалось еще другое, похожее на тайное желание просить его помощи. Это не было связано ни с ее семьей, живущей в мире, который ей не нравился, ни с миром ее фантазий — она понимала, что многие позавидовали бы ее жизни. Но у всех вокруг было одно простое желание, исходившее ли из обычного сексуального влечения или обусловленное обществом. Например, Хён искренне хотел ее. Именно поэтому он вчера и пришел к ней под дверь. А вот она не чувствовала такого сильного желания. Хуже было то, что ко всему прочему она еще и стеснялась.
— Говорят, там продается текила. Составите мне компанию? — спросила девушка, указывая в сторону бара.
— Я не очень-то хорошо себя веду, когда напиваюсь, — ответил мужчина, понизив голос.
— Неважно. Я исчезну раньше, чем вы напьетесь.
Если проглотить огонь, все сгорит и не останется никаких чувств. Теперь она это знала. Когда она вышла из комнаты музыканта, прикрыв за собой дверь, она уже больше не стеснялась. Немного пройдя по коридору, девушка развернулась. Ей хотелось вернуться обратно в его номер. Она думала о том, что он просто хитрый искушенный бабник. «И что же такого интересного в море?», «Хотел тебе рассказать, что еще видел помимо тебя» — она понимала, что эти его слова всего лишь грязные уловки, к которым он искусно прибегал, чтобы заинтересовать девушек. Однако ей сразу стало любопытно, как он ведет себя с другими. Рассказывал бы он им таким же вкрадчивым голосом о том, чего, кроме него, никто не видел? Поделился бы с ними пугающей его мыслью о том, что сначала мы даже не придаем значения некоторым вещам, а потом может оказаться, что они меняют всю нашу жизнь? Она не могла отрицать, что теперь вдруг этот человек стал ей ближе, чем Хён. Она была готова вернуться к нему и умолять, чтобы он больше ни с кем и никогда не разговаривал так, как с ней. Чтобы никому больше ничего не рассказывал. Только ей. Но вместо того, чтобы вернуться, она побежала прочь вдоль коридора. Ей вдруг почудилось, будто она никогда больше не сможет вернуться к семье, если помешкает еще немного. Она спустилась на лифте до первого этажа и выбежала из отеля. Даже посыльный не успел окликнуть ее. Когда она добежала через сад до ресторана и увидела, что родителей там нет, ей стало по-настоящему страшно. Она согнулась, пытаясь перевести дух. Она не могла избавиться от мысли, что никогда уже не сможет вернуться в свой прежний мир. Вдруг она увидела Хёна на лестнице, ведущей к отелю, и сразу успокоилась. Хён радостно сбежал к ней по ступенькам.
— Где ты была? Я стучал в твой номер, — сказал он, подойдя поближе.
Она попятилась.
— Дурак, опять ломился в мою комнату? Не знала, что я должна сидеть там весь день.
— Ты, что ли, пила? Чего ты такая красная?
— Ты так хвастал, что я тоже решила попробовать текилу, а что?
— Мать тебя обыскалась.
— Где она?
— Пойдем покажу, — сказал Хён, беря ее за руку.
Она высвободилась. Хён будто бы рассердился и начал подниматься по лестнице вперед нее. Между звездами, тускнеющими в лунном свете, дул теплый ветер. Она поднималась за Хёном, отставая на три-четыре ступеньки. Поднявшись на последнюю, поросшую тимьяном, Хён остановился, чтобы подождать ее. Он повернулся к ней и повторил:
— Я женюсь на тебе!
Девушка удивилась тому, как неправдоподобно звучали эти слова. Она не знала, что случилось, но после этих слов ей стало жалко бедного парня, а потом она испугалась, что он догадается обо всем. Она подумала, что, вероятно, только сохранив все в тайне, сможет выйти замуж за Хёна. Поэтому она постаралась улыбнуться ему с самым беззаботным видом, как будто ничего и не случилось. Не зная, чем вызвана ее улыбка, Хён снова взял девушку за руку. Но, не в силах преодолеть себя, она развернулась и побежала вниз по лестнице. Она бежала, оставляя за спиной Хёна, семьи и парочки, возвращающиеся с прогулки по берегу, тихие спокойные ночи этих людей на отдыхе, нежные теплые мечты, которые рождаются в голове в подобную ночь. Она бежала. Хён бежал следом. Девушка выбежала на песчаный пляж и бросилась к воде, чувствуя на щеке дыхание моря.
Прогуливавшаяся вдоль берега мать заметила ее и спросила, куда это она собралась, но девушка, не останавливаясь, обогнула родителей и забежала в воду.
— Да что же это такое? Что с тобой происходит? Какая муха тебя укусила?
В этот момент следом за девушкой в море вбежал Хён. Увидев это, обе семьи весело захохотали. От этого смеха девушка разрыдалась. Ее охватил ужас, что мать может догадаться, что произошло. Она не придумала ничего лучше, как идти дальше в море, расстилающееся перед ней. Сейчас оно не было изумрудным — сейчас у него не было ни формы, ни цвета, ни берегов. Ее глаза, нос, рот, уши оказались под водой.
И снова появились звуки, которые она слышала вчера в ванне. Оставаясь под водой, она приоткрыла рот и попробовала звуки на вкус. Во рту оказалась невыносимо соленая вода. И сразу она почувствовала, как боль заполняет все ее тело. Стоило ей только чуть-чуть испытать те страдания, которые всегда очаровывали ее, она поняла, что не сможет справиться с ними. Ей надо было подняться на поверхность. Если она не сделает этого сейчас, то никогда уже не сможет вернуться в тот мир, который ей знаком. С этими мыслями она продолжала погружаться все глубже и глубже. Хён поймал ее. И, оставив все позади, она выпрямилась и вынырнула на поверхность. Рот и нос были полны воды. Хён держал ее, не давая снова уйти ко дну. Потом они стояли по колено в воде, поддерживая друг друга, и сквозь морскую воду и соленые слезы она видела отель, залитый ярким светом включенных в каждом номере ламп. Она бездумно стала искать окно, из которого нагая смотрела на ночное море. Теперь, после того, как на виду у всех она так глупо бросилась в море, она смогла вволю наплакаться. А Хён неловко стоял рядом, не в силах ни обнять, ни утешить ее.
ДЕВУШКА КОНЕЦ СВЕТА[2]
Есть вещи, которые заставляют нас заранее ожидать чего-то. Например, собрав рюкзак и предвкушая хорошую прогулку по горам следующим утром, вы выглядываете в окно и видите размытое лунное гало, предвещающее дождь. Или, после того как вы два часа ждете собеседования для приема на работу, вас, наконец, приглашают в кабинет, окидывают взглядом человека, страдающего запором, и отпускают, не задав ни единого вопроса. А может, скажем, вы целую неделю ночи напролет готовите домашнее задание, в положенный день одним из первых приходите в аудиторию, опускаете голову на парту, чтобы немного вздремнуть до начала занятия, а просыпаетесь только часа через два, в уже опустевшем помещении. Именно это лунное гало, кислое лицо потенциального работодателя и лекция, пролетевшая во сне, мешают сказать, что наша жизнь абсолютно непредсказуема и полна загадок. Вообще, она похожа на некую систему шестеренок, цепляющихся друг за друга. Из-за оплошностей нашей памяти нам не всегда удается восстановить точную последовательность событий, хотя все в жизни цепляется одно за другое. И только по прошествии некоторого времени мы можем определить, что явилось первой шестеренкой, раскрутившей за собой все последующие.
Начальная шестеренка, приведшая к тому, что я теперь говорю о любви, раскрутилась старанием одной девушки, добровольно помогавшей в библиотеке. Она обратила внимание на доску объявлений, мимо которой проходила по утрам, каждый раз находя там новые постеры и афиши. Тогда, с согласия библиотекаря, она стала еженедельно прикреплять кнопками на эту доску разные стихи, распечатывая их на самом обычном принтере. Три времени года — осень, зима и весна — должны были сменить друг друга, прежде чем вслед за первой шестеренкой закрутилась следующая. В начале мая девушка оставила работу в библиотеке и вместе с мужем уехала из города. А на доске объявлений остался висеть стих На Хви Док[3]. Затем кто-то из посетителей библиотеки воспринял задержавшийся на некоторое время листок как приглашение всем желающим поучаствовать в процессе и начал вывешивать на доску произведения Син Кён Лима[4].
И сразу вслед за этим еще несколько человек с помощью бумаги и кнопок решили показать, как много хороших поэтов в Корее. Довольно скоро доска превратилась в хаос. Тогда кто-то предложил не вывешивать все подряд, а собирать каждую неделю всех любителей поэзии и выбирать стих, который будет красоваться на доске в следующий раз. Такая вот почти легенда о том, как появилось общество любителей поэзии «Читаем стихи вместе». Что касается меня, то я был третьим человеком, кто повесил свое любимое стихотворение (а это было стихотворение, принадлежавшее перу Чхве Ха Лима[5]) на доску объявлений после того, как девушка-стажер перестала следить за ней. Причем это произведение я выбрал спонтанно, вспомнив, какую поэзию здесь вешали до этого. Я наспех нацарапал слова ручкой на тетрадном листе и повесил его вместо всех тех, что подготовил заранее дома. «Когда мне было семь лет, чайки летали над морем», — начиналось стихотворение. «И так будет, когда мы состаримся. Там вечерние сумерки отбрасывают тень тихую, как человеческая грусть»[6] — таков был конец. Однако тогда у меня еще не возникало желания прийти на одно из собраний, которые стали проводить по средам, чтобы послушать, как читают стихи другие, выступить самому, а потом помочь выбрать стих, который будет всю следующую неделю висеть на доске у библиотеки.
После этого в июне, когда утомительный сезон дождей сошел на нет, словно исчерпав свои силы, и только жаркое, жаркое, жаркое летнее солнце палило нещадно, я пошел взять книгу в библиотеке и увидел прикрепленный на той самой доске стих «Девушка конец света». В нем юноша рассказывал о том, как брел по дороге и увидел в конце пути одинокую метасеквойю. И если бы в том самом месте был конец света, то он встретился бы под деревом со своей возлюбленной, и это было бы похоже на встречу огня и слез, радуги и луны. Они сидели бы бок о бок, прислонившись к шершавому стволу, а их любовь постепенно растаяла бы, «как поздний мартовский снег, не оставив после себя ни следа, ни тени». Сначала я взглянул на имя поэта, а потом уже пробежал глазами сам стих, и мое внимание привлекла строчка о метасеквойе, «любовавшейся озером». Тогда я залез в библиотечный компьютер и почти сразу нашел книгу под названием «Метасеквойя — живой реликт». И мне показалось совершенно естественным пойти в дальний угол библиотеки, где находилась литература по ботанике, явно не пользовавшаяся популярностью среди читателей, и взять эту книжку. Похоже, я был первым, кого она заинтересовала.
«Когда деревья уже сбросили листву, однажды вечером я ушел далеко в горы. Туда, где было много гробниц. Я сам не заметил, как начал взбираться все выше. Хмурое небо просветлело, и я пошел в горы, туда, где не было людей. Из глубокой тишины бежали ручейки, соединяясь у моих ног, далеко в горах, там, где не было людей. Мне было уютно. Хотелось случайно встретить какого-нибудь знакомого».
Мужчина средних лет, слегка волнуясь, начал читать стихотворение. Это было одним душным вечером в среду, когда сезон дождей уже закончился и дневная жара не спадала даже к ночи. Человек двенадцать сидели в полуподвальной аудитории библиотеки.
Я по очереди вглядывался в каждого, пытаясь догадаться, кто же из них выбрал стихотворение «Девушка конец света». Перед тем как прийти на собрание общества «Читаем стихи вместе», я представлял себе сборище немолодых уже девиц, увлеченных литературой, которые мечтают выступить со сцены, приглашают на свои посиделки именитых литераторов, обращаются во всяческие издания, читают вслух хорошие стихи, призванные облегчить их собственные творческие муки, а затем критикуют потуги друг друга. Но когда я все-таки пришел на это собрание, оказалось, что в действительности все несколько отличается от обычного литературного вечера в какой-нибудь библиотеке. Всего в членах клуба числился двадцать один человек, собрания проходили по средам, но в силу разных обстоятельств не все могли присутствовать каждый раз, поэтому в среднем приходило человек пятнадцать. Среди них действительно было несколько молодых домохозяек из элитных районов города, но были и другие люди совсем разных профессий: военный, преподаватель, плотник, юрист, медсестра; возраст у всех был разный — от школьников до пенсионеров.
«…Неизвестный, я не могу дать тебе имя на языке моей земли…» — Оратор закончил декламировать стих, немного помолчал, чтобы перевести дух, и продолжал уже более спокойно: — Несколько дней назад один из лоточников, выступающих против инициативы администрации запретить уличную торговлю, покончил с собой. Ну, и вы, наверное, слышали, что после этого началось: демонстранты перекрыли дорогу, и теперь от моста Сонгсан по северной улице Кангбён практически невозможно проехать.
Некоторые из сидящих в комнате людей сочувственно закивали: «Да, три часа ехал. Да, это просто ужасно». А я вот ничего не знал об этом.
— Мы с одной моей коллегой возвращались с деловой встречи как раз в том районе. Больше часа простояли в пробке почти на одном месте и в итоге решили, что дальше так ехать бессмысленно, и оставили машину около магазина на заправке. Там же купили кофе. И вот я сижу за столиком в тени навеса, пью свой кофе, смотрю на небо над рекой Ханган, а потом я перевел взгляд на забитую дорогу и внезапно подумал, что у меня никогда больше в жизни не будет столько свободного времени, как сейчас. И тогда я спросил у своей коллеги: «Ты знаешь, почему здесь такая пробка?» — «Да по радио же сказали, что уличные торговцы вышли на демонстрацию». — «Нет, это все от тоски, — сказал я, — я читал в газете статью про этого лоточника, который покончил с собой. Ему было сорок три года. Почти как мне. А сорок три — это такой возраст, когда половина пути уже пройдена, и ты сначала бежишь от этого, стараешься не думать, а потом внезапно осознаешь, что дорога ведет в один конец и пройти по ней можно лишь однажды. И все, что прожито к этому моменту, уже кануло в лету. Все закончилось и не повторится. И он тоже все это понимал, и ему было тошно и тоскливо, поэтому-то он и покончил с собой». Я замолчал. Некоторое время мы сидели тихо, пили кофе, на ум не шло, что можно еще сказать. И тогда я вспомнил этот стих. Когда я еще был первокурсником в университете, я часто встречал одного паренька, если ходил куда-нибудь выпить. И стоило ему захмелеть, у него выступали слезы на глазах и он начинал читать это стихотворение. Я думал, что это просто какой-то случайный незнакомый парень, а потом оказалось, что мы с ним учимся на одном факультете и даже на одной кафедре. Вот ведь… и это время уже больше не повторится.
— А что у вас за интерес к этой вашей коллеге? — с плохо скрываемой иронией в голосе спросила вдруг девушка примерно моего возраста.
— Да нет у меня никакого интереса. Да и вообще, после сорока я со столькими уже девушками повстречался и расстался. И с ней так же.
— А, то есть у вас все-таки были отношения? — на этот раз голос подала седая старушка.
— А что, обязательно должны быть какие-то отношения? Встретились да разошлись. Утром поздоровались, вечером распрощались. С женой тоже так: вечером встречаетесь, утром разбегаетесь…
— Какие у вас тут странные разговоры, — сказал я неожиданно для самого себя. И сказал это чуть громче, чем хотелось бы, так что все уставились на меня.
— А вы, кажется, первый раз на нашем собрании? Может быть, вы приготовили какой-нибудь стих для нас? Вы, наверное, уже поняли, как это все происходит: читаете стих, а потом немного объясняете, почему вы выбрали именно его, ну и так далее. Попробуете? — выпалила все та же старушка немного резким голосом.
Вот как все было. Весной того года я окончил университет и еще целый месяц после этого сидел дома и валял дурака, а когда стали опадать лепестки вишни, я начал подрабатывать с десяти утра до четырех вечера в кафе в большом торговом комплексе рядом с домом. А по вечерам, когда смеркалось, я под песни Пэ Чхоль Су бегал вокруг озера. Иногда, далеко не каждый день, но где-то раза два-три в неделю, я вспоминал о девушке, которую звали Нана, и отправлял ей СМС, практически лишенное какого-либо смысла. Она отвечала мне также далеко не каждый раз, но примерно на одно сообщение из трех. Тогда на экране моего мобильника высвечивалось имя Нана. «6/15 10:48 am Нана. Специально пишу, что болею, чтоб ты проявил участие». Как-то так. Она всегда требовала, чтоб я писал ее имя слитно: «Нана» вместо «Нан-а», которым наградил ее дедушка — вышедший на пенсию учитель средней школы. Благодаря этому я по десять раз на дню вспоминал роман Эмиля Золя[7] и в конце концов пошел и взял его в библиотеке. Но понял я из него, лишь что героиня вела беспорядочную сексуальную жизнь и что, наверное, когда-нибудь этот натуралистический роман стоит переписать более современным языком, но вряд ли и тогда я смогу прочитать его от корки до корки. Как-то так. И мой двадцать пятый год жизни проходил мимо меня серией натуралистических заметок из книги девятнадцатого века.
Потом пришел сезон дождей, я больше не мог бегать из-за постоянных ливней и принялся читать библиотечные книги, ожидая, когда осадки прекратятся. И может быть, из-за этих ливней, а может, и нет однажды я не набрал сообщение Нане, а взял да и позвонил ей. Некоторое время мы говорили исключительно о погоде. О дожде, который то лил как из ведра, то, как будто выдохшись, начинал еле-еле моросить, о сером унылом небе, о том, как скучаем и ждем жаркого, жаркого, жаркого летнего солнца. Потом я сказал, что из-за этих дождей не могу больше бегать, а она ответила, что я вовсе не похож на бегуна, как ей казалось. А потом вдруг Нана сказала: «Правильно. Было здорово. Нам было хорошо. Но больше мы не сможем вернуться в то время». От этих слов мне стало и радостно, и грустно. В первую очередь оттого, что она так мило связала предложения, сказав: «Правильно… Но…» Правильно. Но. Правильно. Но. После того как я повесил трубку, я еще долго повторял эту конструкцию, когда, например, раскладывал хлеб на кухонном столе, чтобы наделать бутербродов, или когда рассматривал хмурый, как мое будущее, пейзаж, стоя с сигаретой в зубах около скамеек перед библиотекой.
«Правильно, эти дожди, может, никогда не закончатся. Но надо попробовать разок пробежаться», — подумал я, а через несколько дней дожди практически прекратились. Я надел желтые шорты, футболку, вышел на улицу, взглянул наверх на низкое серое небо и побежал. Я жил в новом районе города, где небольшие, все примерно одной высоты, частные домики, многие из которых сдавались в аренду, были разделены узкими улочками, двадцать четыре часа в сутки забитыми припаркованными машинами. А теперь ливневые дожди затопили все водой и кругом, словно школьники, спешащие домой, бежали ручейки. Когда-то на этом месте было поле бумажной шелковицы, но теперь остался только небольшой парк с вишнями и дзельквой граболистной. В нем тоже была доска объявлений, а в углу одиноко стояли качели и детская горка, которые год от года все больше ржавели, и уже несколько дней в парк не залетали птицы. Была пятница. Утром в новостях ведущий в желтом дождевике, водя рукой по карте Корейского полуострова, показал, куда движется зона низкого давления, и сказал, что с завтрашнего дня ожидается повышение температуры. Был вечер. Я побежал в сторону озера. Медленно, день за днем проходил двадцать пятый год моей жизни, и это было так же неизбежно, как дождь, пропитывающий одежду, как ржавчина, разъедающая детскую площадку, как фронт пониженного давления, постепенно покидающий Корейский полуостров. И все мои тревоги были под стать моему возрасту. Их было больше, чем хотелось бы, но ровно столько, сколько положено.
Я бежал около получаса и был на противоположном берегу озера, когда ливень вдруг начал стихать. Вся моя одежда уже насквозь промокла, а кроссовки были полны воды. Я посмотрел на запад, откуда дул порывистый ветер, и увидел небольшой просвет. Среди мрачных грозовых облаков мелькнуло голубое небо, и тучи начали светлеть — это было такое завораживающее зрелище, что я остановился, тяжело переводя дух, и некоторое время просто любовался этой картиной. Окутавшие все небо тяжелые облака приподнялись над горизонтом, обнажив узкую полоску света, и постепенно превратились в белую вату кучевых облаков, предвещая хорошую погоду. Сначала гроза, потом ветер, а теперь новая пора. Я наблюдал, как заканчивается сезон дождей, и казалось, в этот миг природа пробудила во мне все чувства, которые только можно представить. Я стоял и любовался до тех пор, пока не отдышался после бега, пока не продрог на ветру, пока, стекая под собственной тяжестью, с деревьев не начали падать звонкие капли дождя, пока просветы между тучами не заполнило голубое небо. Я понимал, что это последний день сезона дождей. Я смотрел на небо на западе, на кучевые облака, на шершавые стволы и гладкие листья, по которым стекали капли воды, но видел только одинокое высоченное дерево метасеквойи.
И завертелась новая шестеренка. Метасеквойи не растут поодиночке. Они растут либо в ряд, либо сразу целыми рощами. Причину этого я знал из книжки «Метасеквойя — живой реликт». Летом 1943 года в китайском городе Чунцин начальник биологической экспедиции, державшей путь в провинцию Хубэй, заболел малярией и остановился в кампусе сельскохозяйственного университета города Ваньсань. Работавший в университете Ян Лун-син рассказал ему о том, что в районе Модаоси, простиравшемся на сотню километров, растет огромное священное Чаньское дерево. Услышав эту историю, начальник экспедиции четыре дня взбирался на отвесные горы и спускался в глубокие расщелины и наконец в районе Модаоси нашел огромное дерево, достигавшее тридцати пяти метров в высоту. В 1946 году удалось определить, что это метасеквойя, хотя еще в 1941 году японский доктор наук Микки из университета города Киото внес эти деревья в классификацию как вымерший вид. Метасеквойи росли в меловой период вместе с динозаврами, но не смогли пережить ледниковый период. И просто чудо, что в 1943 году это дерево все-таки обнаружили таким удивительным образом. А потом уже несколько саженцев метасеквойи доставили в Корею в качестве подарка от Китайского государства. Они успешно прижились и были распространены по разным районам страны. Дерево оказалось очень красивым и быстрорастущим, и его стали высаживать вдоль дорог для озеленения городов. Именно поэтому в настоящее время все эти деревья растут в ряд и очень редко можно встретить одиноко стоящую метасеквойю.
— Так, а почему же вы тогда решили, что увиденное вами дерево — это метасеквойя, да к тому же из стихотворения «Девушка конец света»? Вы же сами говорите, что оно там одно растет, — спросила меня после собрания та же пожилая женщина, которая предложила мне прочитать заготовленный стих.
Я подумал, что это, вероятно, замыкающая шестеренка во всей истории. Я пришел в клуб любителей поэзии, потому что за неделю до этого мое внимание привлек стих, висевший рядом с библиотекой, но на собрании я все время чувствовал себя не в своей тарелке. На помощь мне пришла эта самая бабушка.
— Мне кажется, не просто так вас привлекло стихотворение на доске. Давайте вернемся к этому разговору позже, — сказала она.
Тогда я понял, что мои ожидания не оправдались. Меня можно было сравнить с карандашом: у меня внутри тоже был черный стержень своих корыстных интересов. Через это стихотворение я ожидал кого-то встретить, может быть, даже какую-нибудь прекрасную незнакомку с непроизносимым на нашем языке именем. Но теперь стало ясно, что встретить мне было суждено седую старушку с морщинками вокруг огромных глаз, которая воскрешала в памяти образ мисс Марпл. Когда все разошлись, мы остались сидеть в пустой комнате и пить растворимый кофе из автомата.
— Знаете, что меня заинтересовало в этом стихотворении? Дерево, метасеквойя. Я пошел и взял в библиотеке книгу «Метасеквойя — живой реликт». Когда вечером я решил ее почитать, то обнаружил на последней странице под прозрачной пленкой чье-то имя. Эм, извините, не знаю, как вас…
— Хви Сон. Ким Хви Сон. Хотя нельзя сказать, что я такая же красивая, как актриса[8].
Я растерялся.
— Так вот, уважаемая Ким Хви Сон…
— Просто Хви Сон. Так что же дальше?
— И это же имя я видел на листочке со стихотворением в тот день. Это не могло быть просто совпадением. Я навел справки и выяснил, что, когда библиотеку только открыли, в ней не хватало книг, поэтому жителей района призывали к благотворительности. И на всех книгах, отданных в библиотеку, ставили печать с именем бывшего владельца и словами благодарности: «Книга является подарком от ***. Спасибо за вклад в развитие библиотеки». Вероятно, и этот поэт живет или жил где-то неподалеку.
Хви Сон кивнула.
— Надо сказать, что я читал книгу с некоторым трепетом. Меня поразило, что ее держал в руках сам поэт. Может быть, она ему даже как-то помогла, когда он писал свое стихотворение. А в одном месте на полях я вот что увидел.
Я полез в сумку. Суперобложку с книги я снял еще дома и теперь достал издание в простом картонном переплете, маркого светло-коричневого цвета, по чистоте которого сразу было понятно, что книга совсем новая. Я начал листать страницы в поисках записи, оставленной поэтом. Она обнаружилась там, где начинался восьмой раздел книги «8. Раскрытая тайна». На полях рядом с параграфом, в котором рассказывалось, как образец дерева из Модаоси сначала потерялся, а потом нашелся под номером 118 в каком-то китайском хранилище, поэт записал следующее: «Одинокое дерево метасеквойи. Гулял вечером в 10 часов. Огни города на противоположном берегу озера. Ответил там».
Мисс Марпл, точнее, Хви Сон некоторое время смотрела на эту карандашную запись. Глаза ее стали влажными, а взгляд подобрел. Я испугался, что она вот-вот заплачет, и тут до меня дошло:
— Это ваш сын написал?
Хви Сон ничего не сказала, но покачала головой.
— Хм… этот человек умер? Недавно? А что случилось? Неужели рак?
— Да, он умер от рака. Лет семь-восемь назад. А он всегда был полон жизни, как молодое деревце. Он был так молод. Так молод. — Все-таки Хви Сон не сдержалась, и слезы потекли по ее щекам.
А я стал ругать себя, что напрасно все это затеял.
— Ох, с возрастом даже такая короткая маленькая запись может растрогать, — чуть погодя сказала Хви Сон.
А потом она начала рассказывать про поэта. И так шестеренки завертелись дальше. Хви Сон преподавала родную речь в государственной школе в старом районе города. Именно из-за специфики бывшей работы ее сразу выбрали председателем этого поэтического общества. Благодаря ее любви к стихам и тому, как мастерски она преподавала, в том числе и практику стихосложения, трое из ее учеников стали известными поэтами. Он был как раз одним из них. Даже став знаменитым, он остался жить в своем старом доме и каждый день ездил на работу в центр Сеула. Поэтому Хви Сон по-прежнему встречала иногда на улице своего выдающегося ученика. Он с трепетом вспоминал школьные годы и обращался к своей бывшей учительнице просто по имени, вопреки положенному вежливому обращению, но это нисколько не раздражало ее. Хви Сон. Уважаемая Хви Сон. Это был еще один из его талантов.
Всего было издано два сборника стихов этого поэта. Один при жизни, другой — уже после его смерти. Но стихотворение «Девушка конец света» не вошло ни в один из них.
— Однажды я пришла навестить его в больницу, и он показал мне этот стих. Я честно призналась, что стихотворение мне очень понравилось. «Только не воображайте, что я написал его для вас», — отшутился он. Но я так люблю слушать любовные истории, что стала донимать его расспросами: «А что это за девушка, про которую ты написал?» Он ответил: «Очень милая, добрая девушка». — «Ну, в этом никто не сомневался! Расскажи поподробнее. Как вы познакомились? Ты очень ее любишь?» — не отступала я. «Да, безусловно. Я хотел бы быть с ней до самого конца света». При этих словах он засмеялся. Удивительно, я до сих пор слышу его смех. Потом он добавил серьезно: «Она замужем. Наверное, хорошо, что я так и не предложил ей в тот вечер сбежать вместе куда-нибудь. Все равно, видите, как получилось». Так он и умер. Потом на похоронах я вглядывалась в лица молоденьких девушек и все гадала, пришла ли его любимая на церемонию, и если пришла, то кто она? Кого поэт так сильно любил?
А эта его запись в книге, не правда ли, очень занятная? Он не мог предложить своей любимой сбежать вместе, но сам все равно сбежал с ней на край света к метасеквойе, которая оказалась всего лишь на противоположном берегу озера. Видимо, для него конец света был именно там…
— Почему вы выбрали именно это стихотворение?
— Ой, я уже на прошлом собрании все рассказала, теперь снова повторять?
— Ну, вы же понимаете, я здесь новенький, только первый раз сегодня пришел…
Хви Сон оттаяла, во взгляде ее промелькнула улыбка.
— Последнее время я все чаще думаю о том, что осталось несделанным в жизни. Вам, молодым, этого еще не понять. В какой-то момент становится неважным, чего ты добился и какой ценой, наоборот, начинаешь вспоминать то, чего ты еще не сделал. Забавно: можно забыть, что ты сделал, но вещи, которые ты не сделал, не забываются. Вот так. И их не одна-две, их много.
И я вспомнила, что так и не нашла ту девушку и не сказала ей, как сильно ее любил ныне покойный поэт. Тогда я придумала повесить это стихотворение на доску объявлений в библиотеке. Чтобы посмотреть: вдруг кто-то узнает его и придет ко мне? И вот теперь вы, молодой человек, говорите мне, что пришли на наше собрание из-за того стиха. Это, конечно, здорово, но я все-таки немного разочарована.
— По правде говоря, я тоже, — сказал я и быстро добавил: — ну, по собственным причинам.
— М-да, понятно, что до самого последнего дня поэт вздыхал явно не по мужчине.
— Да и я не испытываю ничего, кроме зависти к поэтам. Кроме того, я в то время был обычным школьником и о любви…
Хви Сон кивнула головой:
— Похоже, вы отстали в развитии. Сейчас дети уже не такие. Хотя в итоге все одинаковые. Вот вы, например, тоже прочувствовали это стихотворение. Я так и не узнала, кому оно было посвящено, и никогда не смогу никому сказать, что был человек, который думал о вас до самой смерти, но все равно этот человек когда-нибудь все узнает. Поэт написал это стихотворение. И метасеквойя в нем стала самым дальним уголком, куда он смог убежать со своей возлюбленной.
Немного помолчав, Хви Сон добавила:
— На следующей неделе я ложусь в больницу. Вы же понимаете, к старости в организме не остается ни одной здоровой клеточки. Конечно, мне жаль, что я так и не рассказала всю эту историю девушке, которую любил поэт, но я рада, что хотя бы вам успела ее поведать.
Хви Сон немного посидела в наступившей тишине и вышла. Я замешкался, погрузившись в свои мысли, потом вскочил и тоже заторопился к выходу. Хви Сон дождалась, пока я покину аудиторию, выключила в помещении свет и заперла дверь. Все это время я думал о своей бывшей девушке, о том, как мы проводили вместе время, о том, что я постоянно был чем-то недоволен и болезненно все воспринимал, о наших общих мечтах про совместное будущее, которому так и не суждено было случиться. Друзья твердили мне, что если у меня появится новая подружка, то с ней у меня наверняка все сложится хорошо, но ведь тогда у меня уже будет другое будущее, а не то, о котором мы мечтали вместе с моей девушкой. Правильно. Все это ушло, исчезло без тени и следа. Но…
— А как вы думаете, на что поэт мог там ответить? В книжке, помните, пометка: «Ответил там».
Хви Сон посмотрела на меня, как на двоечника:
— А вы думаете, этот ответ уже кто-то нашел?
Все наши знания пусты. Мы думаем, что все знаем, а сами по большей части живем, ничего не зная на самом деле. Мы знаем лишь «нашу» правду, и мы не можем знать правду других людей. И в этом неведенье мы можем прожить всю жизнь, состариться и умереть, — что нельзя не назвать настоящим счастьем. Хотя еще не факт, что мы успеем состариться, поскольку мы можем случайно умереть в любой момент просто из-за своей или чужой глупости. И именно поэтому мы должны быть благодарны каждому прожитому дню. А мы, как дураки, всё сидим и гадаем: где наше счастье? Правильно. Даже самое, самое, самое хорошее время нашей жизни проходит. Но нельзя сказать, что оно проходит бесследно. Возможно, все мы живем и становимся дряхлыми стариками лишь для того, чтобы хотя бы единожды в своей жизни стать ученым, обнаружившим свою тридцатипятиметровую метасеквойю. Священное дерево, пережившее динозавров, оставившее после себя только окаменелые останки, а потом чудесным образом вновь явившее себя миру.
В тот вечер мы с Хви Сон нашли толстенное письмо, запечатанное в пластиковый пакет. Оно было спрятано рядом с могучим корнем метасеквойи около озера. Мы с ней задумались, что же имел в виду поэт в своей записи, нацарапанной на полях книги, и предположили, что, возможно, он мог спрятать что-нибудь под деревом у озера. Тогда мы обогнули водоем и начали разрывать почву у корней. Пакет нашелся неожиданно легко, вероятно из-за того, что с тех пор, как он был закопан, прошел уже не один сезон дождей и почву заметно смыло. Под прозрачной пленкой было написано: «Просьба к тем, кто найдет это письмо. Это очень важно: пожалуйста, отправьте его по данному адресу. Марка уже приклеена, не волнуйтесь о стоимости пересылки». Мы в задумчивости сидели бок о бок с Хви Сон под деревом, под которым когда-то сидел поэт со своей девушкой, чей адрес был написан на конверте, и так же, как они, смотрели на огни города. Они отражались в озере и разрезали длинными неровными бороздами темную рябь воды. Чуть погодя Хви Сон обратилась ко мне:
— Не слишком ли рано мы нашли это письмо? Явно оно еще не успело пролежать здесь сотни лет. Интересно, сколько стоит отправить его по почте?
— Не знаю, не так давно это стоило двести пятьдесят вон, не думаю, что… — Я хотел сказать, что сейчас это наверняка стоит немногим дороже, чем в то время, когда письмо было закопано, но меня прервал удивленный возглас Хви Сон:
— Ну что за человек! Он думал, его письмо когда обнаружат-то?!
В общей сложности на конверт было наклеено марок на две тысячи вон. Хви Сон молчала. Вдоль озера шла дорога, и шелест шин останавливающихся и отъезжавших от светофора машин напомнил мне шепот морских волн.
Итак, заключительной шестеренкой в этой истории стало имя на конверте. Самое удивительное, что от дерева у озера до дома по указанному на конверте адресу можно было дойти всего за полчаса. Сложно было представить, что заставило человека, которого больше нет с нами, закопать письмо, вместо того чтобы отнести его тому, кто живет так близко. Мы гадали, кем была эта девушка. Возможно, для нее это памятное место и она уже не один раз приходила к этому дереву. Мы с Хви Сон решили не выполнять просьбу поэта, по крайней мере, ту ее часть, где он просил отправить письмо по почте, а отдать конверт лично в руки адресату. Мы договорились встретиться в пятницу в пять часов вечера после моей работы. А до пятницы жизнь шла своим чередом. Я продолжал работать в кафе и бегать вдоль озера, поглядывая на метасеквойю. И не каждый раз, но раз на третий, как я вспоминал про Нану, я отправлял ей сообщение. И я все еще чувствовал, что мое будущее достанется кому-то другому. Единственное изменение, которое произошло, это то, что я снова взялся за книгу Эмиля Золя. На что Нана сразу написала сообщение: «Эмиль Золя? Нана Золя! 7/4 2:17 pm Нана» — вот так вот. Так подходил к концу двадцать пятый год моей жизни. Иногда мне на телефон приходили сообщения, некоторые из которых заставляли меня улыбнуться. Вот так вот.
В пятницу светило жаркое, жаркое, жаркое солнце, раскаляя улицу добела. Хви Сон зашла за мной в кафе. Мы пили кофе и ждали, пока жара немного спадет. Мы поговорили о том о сем, а затем я осторожно, чтобы не показаться грубым, спросил у Хви Сон, почему она ложится в больницу. Женщина слегка покраснела:
— Даже не знаю, стоит ли молодым слушать про это. Мне должны удалить одну грудь.
Я пробормотал какие-то невнятные слова сожаления и извинился.
— А за что тебе передо мной извиняться? Это мне должно быть стыдно говорить об этом.
Заметив, что я совсем смутился, Хви Сон засмеялась. И я был благодарен ей за этот смех. Чуть погодя она, все еще улыбаясь, хотя морщинки, собравшиеся вокруг ее глаз, выдавали горькие переживания, сказала:
— Я и сама не знаю, как все сложится. Удалят ли мне только левую грудь, или потребуется резать еще дальше. Врачи не знают, родные не знают. Никто не знает. В такие минуты очень-очень одиноко. Потому что сам себе становишься чужим. Через десять лет… нет, это я уж слишком разогналась. Никто не знает, что через год-то будет. Будет ли все так же жарко палить солнце? Будут ли эти люди все так же сидеть здесь, боясь даже помыслить о том, чтобы выйти на улицу? Какая песня будет популярна следующим летом? На какую страну обрушится следующий тайфун? И этот человек… — Хви Сон указала на конверт, лежавший на столе. — Что двигало им, когда он закапывал письмо под деревом? Он стал очень скрытным после школы, когда поступил в университет, и я даже предположить не могу, что происходило у него внутри… Последнее время я часто вспоминаю его.
Я не знал, что ответить. Я был еще недостаточно умен в свои годы, чтобы подобрать искренние слова, которые могли бы поддержать Хви Сон… я мог только посочувствовать.
— Может быть, в следующем году я займусь стрельбой из лука. Нельзя упускать такую прекрасную возможность, — сказала Хви Сон и снова засмеялась.
— Было бы здорово, — не задумываясь, ответил я и только потом понял, что сморозил очередную глупость. Реплика была действительно дурацкой.
Когда солнце спряталось за домами, мы вышли из кафе и побрели в сторону указанного на конверте адреса. Нас провожал шелест деревьев, высаженных вдоль дороги. Некоторое время мы шли молча, потом Хви Сон сказала:
— Я очень удивилась, когда ты зашел на наше собрание в библиотеке. Ты очень похож на этого поэта. Брови, глаза… я даже ждала, что ты вот-вот назовешь меня по имени.
— Да я сам удивился, когда вы заговорили со мной.
— Потому что я несла какую-то ерунду?
— Нет, вовсе не поэтому, — ответил я. — Когда вы сказали, что вас зовут Ким Хви Сон, я сразу вспомнил свою девушку.
— Правда? Потому что она такая же красивая, как та актриса?
— Нет, нельзя сказать, что она такая же красивая. Просто имя звучит похоже. Хотя для меня она красивее всех.
— О, вот такие разговоры мне нравятся… Расскажи поподробнее. Как вы познакомились? Похоже, ты сильно ее любишь. Только посмотри на себя!
Я задумался. А ведь правильно. Что там десять лет! Мы не можем предугадать, что будет хотя бы через год. Будет ли жарко следующим летом, какая песня станет популярной, на какую страну обрушится тайфун. Все так. Я посмотрел на дорогу перед собой и представил, как молодой поэт со своей возлюбленной не спеша шли по ней до самого конца света, где росла у озера одинокая метасеквойя. Потом они вернулись домой, поскольку дальше им было некуда идти. Оба они были безмерно счастливы и беспредельно грустили. Но, благодаря тому что они прошли по этой дороге, их любовь останется жить вечно. Пройдет много-много лет, закончится еще один ледниковый период, за это время погибнут все деревья, но кто знает, возможно, одно из них выживет и будет хранить память о двух любящих сердцах.
Хви Сон смотрела на меня во все глаза.
— Правильно. Да… Так и есть, — ответил я на ее вопрос.
КОГДА ВАМ ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИДЦАТЬ
Дул восточный ветер, заштриховывая разводами облаков половину кобальтового, словно выкрашенного масляной краской неба. Глаза закрывались сами собой, и сквозь прикрытые веки огни вечернего Сеула мерцали россыпью драгоценных камней, хотя высоко над головой небо все еще оставалось ярко-синим. Достаточно было задрать голову, и казалось, словно ты уносишься в космос с края земли. Почему-то в памяти всплыло слово «сансара»[9], которое мы произносим едва ли раз в три года. И как-то помимо воли вырвалось: — Какое в этот раз красивое небо на мой день рождения!
Слова были адресованы паре напротив меня за столиком. Молодой человек и девушка сидели ровно выпрямив спины и казались немного напряженными, словно случайные попутчики, ожидающие отправления поезда. Перед нами стояло пиво «Ред дог» в количестве, вполне способном заменить собой ужин, внизу расстилался район Ёнгсан. Ветер отнес половину моих слов, и парень перегнулся через стол, жестами показывая, что не услышал меня.
— Говорю, у меня сегодня день рождения, — повторила я громче.
— День рождения? Значит, будем дергать тебя за уши? — переспросил парень с японским акцентом, но в таких выражениях, что прямо-таки захотелось поинтересоваться, где он их выучил.
Неожиданно именно из-за неплохого словарного запаса показалось, что он несколько нагло разговаривает, потому что при всех своих знаниях использует довольно фамильярные обороты. И хотя я видела его впервые, а потому изначально разговаривала с ним вежливо и только на «вы», довольно скоро я переняла его манеру речи. В конце концов, я все равно была старше его. Наверняка он даже не знает, как одним словом называется двоюродный дед. Потому что даже я сама узнала, что в корейском языке есть такое слово, только сегодня перед завтраком. Этот коротко стриженный молодой человек в темно-синем костюме был внуком старшего брата моей покойной бабушки, чья семья не вернулась на родину после освобождения Кореи от японской оккупации. Мне он приходился троюродным братом, но с таким же успехом нас можно было назвать чужими друг другу.
— Да, сегодня у меня тридцатый день рождения. Еще одна зарубка на палочке жизни. Чувствую себя деревом, с которого неистово облетают белоснежные лепестки.
— Корейский язык такой сложный, сестра. Поздравляю с днем рождения. Давай выпьем за это.
Молодой человек перевел все сказанное на японский сидевшей рядом девушке, которая недавно стала его женой. Они подняли бокалы. Я последовала их примеру. Накануне я легла только в три часа ночи. Мой начальник снова вчера повторил расхожую фразу, что рекламный бизнес — это война. Когда ты зашиваешься так, что вздохнуть не можешь, и все сроки уже давно прошли, а начальство пичкает тебя такой банальщиной, тяжело не взорваться. Ладно, мой начальник и эти чертовы дизайнеры — их я еще могу простить, но вот агенты, которые, похоже, всерьез уверены, что получают деньги именно за то, что смешивают с дерьмом все проекты, никуда не денутся от огненных стрел моего гнева. Вот тут у нас на самом деле война.
Тем не менее пиво и поздравления улучшили мое настроение. Никогда не думала, что буду справлять свой тридцатый день рождения на вершине горы Намсан со своим троюродным братом. Вообще даже не представляла, что меня когда-нибудь будет поздравлять внук старшего брата бабушки. Не знаю, как те из вас, кому уже исполнилось тридцать, справляли свое тридцатилетие, а те, кому еще нет тридцати, — собираются его справлять, но лично я была уверена, что в мае этого года поеду в Соединенные Штаты Америки, возьму машину напрокат и объеду весь Североамериканский континент. Когда-то я прочла один из рассказов Петера Хандке, и там был схожий сюжет. Главный герой романа приехал в какой-то маленький американский городишко и только к вечеру вспомнил: «О, так мне же сегодня стукнул тридцатник!»[10] С тех пор я только об этом и мечтала. По-моему, это самый лучший способ отпраздновать юбилей. Как только мне исполнилось двадцать семь, я начала копить деньги на это мероприятие. Мы с Чон Хёном походили по турфирмам, посмотрели, что пишут в Интернете, и рассчитали весь бюджет поездки: на жилье тысяча триста долларов, на еду — шестьсот и так далее. Потом мы открыли общий счет в банке и решили откладывать ежемесячно по сто тысяч вон каждый. Поначалу Чон Хён не выдерживал моего давления и вносил необходимую сумму, но чем дальше, тем чаще мне приходилось класть на счет все двести тысяч за нас обоих. Почему мы хотели отпраздновать тридцатилетие вместе? Потому что мы не только были одногодками, но даже родились в один месяц. Я решила, что раз я всю жизнь постоянно трудилась над чем-то, то в мае этого года обязательно устрою себе длинный-предлинный отпуск. Подумать страшно.
И вот утром моего долгожданного тридцатилетия я, ненакрашенная, неодетая, поспав всего три часа, стояла у телефона и слушала папин монолог о том, что я должна позаботиться о каком-то его племяннике, который сильно помог отцу, когда тот последний раз летал в Японию. Племянник приехал в Сеул в свадебное путешествие, и надо было убедиться, что это путешествие не будет чем-либо испорчено. Еще не успев толком проснуться, я ничего не понимала и постоянно переспрашивала:
— Что? Папа, я ничего не слышу. Ты знаешь, что сегодня у твоего ребенка день рождения? Да, мне тридцать лет исполняется. И хватит говорить мне про свадьбу. Показать Сеул? Зачем они вообще поехали в свадебное путешествие в Сеул? Я тоже не пробовала. На Намсан еще не ходила. А! Говоришь, кругосветное путешествие? Свадебное путешествие на год? А-а-а…
Когда я повесила трубку, сна не было ни в одном глазу. Вот так, проснувшись однажды утром, чувствуешь к отцу то же самое, что к начальнику рекламного отдела, который просмотрел все твои проекты и не сказал ни одного доброго слова, не подбодрил. Бросить работу? Перестать общаться с отцом? Как бы то ни было, это было очень грустное утро. Мало того, что день рождения начался не лучшим образом, так теперь, когда я уже с самого утра вспомнила, что у меня сегодня юбилей, не осталось никакой надежды, что вечером, после прекрасного ужина с каким-нибудь красивым мужчиной, я вдруг внезапно вспомню и скажу: «Ой, а мне же сегодня исполнилось тридцать лет», — вот о чем я жалела.
Я горько улыбнулась, вспоминая прошлый год, когда для меня еще не сменились сезоны и листочки крепко держались на дереве жизни, не опадая под натиском ветра. Когда проходит некоторое время, мы вдруг осознаём, какими грандиозными были наши мечты, какими несбыточными оказались наши желания. Я думала, что это будет так просто: отметить свое тридцатилетие в каком-нибудь Элизабеттауне в Штатах со своим любимым, но время показало, что не такая уж это легковыполнимая мечта. В прошлом году я перевела Чон Хёну все деньги, что мы накопили, и распрощалась с ним. Хотя в основном это были мои деньги, мне было совсем не жалко отдавать их, потому что все равно я готова была потратить все на наше путешествие. После этого я уже не мечтала ни о чем глобальном. Если продолжать говорить о желаниях, то теперь, в мои тридцать лет, чего мне хотелось? Похоже, только того, чтобы меня не выдернули на работу, пока я отмечаю день рождения в компании своего брата и его жены. Ха-ха.
— Ты чего смеешься? Потому что день рождения? — спросил брат, отставив пиво и глядя на мою ухмылку.
— Ага, с ума можно сойти, как хорошо!
Его жена переспросила на японском, что случилось. Ей было всего двадцать четыре года. У нее были крашеные бронзовые волосы и чистое светящееся лицо. Вот правда, она была такая хорошенькая, прямо куколка. Мне даже стало завидно. Я подумала, что мир несправедлив и перед смертью надо будет не забыть об этом. Я посмотрела на брата, совершенно не понимая, о чем они болтают с женой.
— Когда нам десять, мы хотим поскорее повзрослеть, в двадцать — спорим с окружающим нас миром, а тридцать — это возраст, когда надо остановиться и наконец присмотреться к себе. Возраст, когда можно уже быть честным с собой. Давайте за это и выпьем. Примерно такой был смысл, — объяснил он.
Я некоторое время смотрела на парня, не веря своим ушам. Он сказал это все с таким милым выражением лица, будто бы говорил поздравительную речь на выпускном вечере в университете. Но мне даже не хотелось вдумываться в его слова, потому что теперь уже окончательно завершилось мое двадцатилетие. Ха-ха, снова усмехнулась я.
— Спасибо за поздравления, дорогие. Что ж, давайте выпьем еще по пиву.
Его жена захлопала в ладоши и сказала что-то своим прелестным голоском.
— Раз день рождения, то надо зажать нос, — кратко перевел мне брат довольно длинную речь жены. Затруднившись перевести на корейский ту часть, в которой объяснялась логическая связь между «день рождения» и «зажать нос», он попросту опустил ее.
— Зажать нос? Японская традиция в день рождения?
Неожиданно для себя я начала говорить прямо как он. Мы чокнулись под радостные возгласы этой сладкой парочки. Хм. Со смешанными чувствами я отпила из стакана. Прохладное пиво приятно щекотало горло. Я подумала о том, что сказал брат, и, зажав нос левой рукой, допила все до конца. Какая разница, как пить пиво? Может, оно вообще так лучше пьется? Не успела я додумать эту мысль, как у меня защекотало в носу и на глазах выступили слезы. Сразу после этого по всему телу прошла дрожь. Меня непроизвольно передернуло. Молодожены внимательно смотрели на меня, а потом засмеялись и радостно захлопали в ладоши. «Может, из меня получится неплохой алкоголик?» — подумала я, посмотрев, как они веселятся, пока я напиваюсь. Я осушила стакан и подняла руку, чтобы привлечь внимание официантки.
— Девушка, еще пива. Три по пол-литра.
Вечер моего дня рождения. И пусть мне не удалось провести его с любимым в каком-нибудь тихом американском городишке, я пью пиво в ресторане на самой высокой башне в Сеуле. Если разобраться, это тоже не так уж и плохо.
Не многие студенты мечтают стать таксистами после университета. Мы познакомились с Чон Хёном в клубе, где собиралась молодежь, интересующаяся рекламным делом, и сошлись на почве любви к кино. Он мечтал стать маркетологом в области киноиндустрии и посвятить свою жизнь кино, а я представляла себя режиссером, который снимает фильм за фильмом, чтобы донести что-то до этого мира. В то время мы ничего собой не представляли и именно поэтому могли представлять себя кем угодно. Как однажды посчитал Чон Хён, в двадцати четырех часах каждого дня тысяча четыреста сорок прекрасных минут. Он всегда носил с собой свой «кэннон», который ему подарили на поступление в университет. И он наиболее ярко мог видеть весь этот мир, когда тот озарялся светом вспышки, выхватывая одну из шестидесяти секунд одной минуты из тысячи. И это время для него растягивалось до космических масштабов.
И куда это все подевалось? Где теперь эти секунды? Где весенние дни с лениво опадающими вишневыми лепестками и Чон Хёном, рассуждающим о красоте тысячи четырехсот сорока минут. Окончив университет, я некоторое время проработала в турфирме, но примерно через год перешла в корпорацию, занимающуюся рекламой, где и работаю до сих пор. Чон Хён работал в киноиндустрии и получал какую-то минимальную зарплату. Так продолжалось года три, и наши отношения тем временем завяли, как забытый на веранде зеленый лук. Чон Хён, ранее мечтавший стать таким же известным, как режиссеры Пак Чхан Ук или Понг Чун Хо, заявил, что, пока ему еще не исполнилось тридцать, он собирается начать новую жизнь. Вскоре выяснилось, да и то узнала я это через десятые руки, что новая жизнь Чон Хёна — такси. Я не смогла перебороть свое разочарование, перевела на его счет все накопленные деньги, позвонила и холодно сообщила, что мы расстаемся. Я могу справиться с любыми трудностями, но не выношу банальностей. Есть мечта, есть желание заработать, а есть совершенно обычный кризис среднего возраста. Вот этого я терпеть не могу. Я твердо решила, что больше видеть его не хочу. Сам же Чон Хён никак не отреагировал на мои слова о том, что я перевела ему деньги и что его ждет ничтожная, дурацкая жизнь. И я опять подумала: как же это банально!
Летом 2008 года Чон Хён работал таксистом и часто ездил в центр города, который был постоянно забит из-за того, что демонстранты, выступавшие против импорта американского мяса, перегораживали дороги и мешали движению. Я со своими коллегами дважды — тридцать первого мая и десятого июня — выходила на митинги. Оба раза тысячи демонстрантов заполняли площадь Кванхвамун, в руках у всех были свечки. Все движение до ночи было перекрыто. Я запомнила, что это было именно десятого июня. Недовольные политикой Ли Мён Бака[11] демонстранты прошли по улице Сечжон-но и столпились перед зданием парламента. Людей было столько, что невозможно было пошевелиться. Когда началось шествие, дорога в пятьсот метров от здания пресс-центра до перекрестка с улицей Сечжон-но заняла целый час. Мы шли, останавливались, садились на асфальт, снова вставали. Будучи совсем не в настроении протестовать, я в итоге отделилась от шествия и пошла в сторону западных городских ворот Содэмун. Всю дорогу я сжимала в руке мобильник. В тот день я сильнее всего тосковала по Чон Хёну с тех пор, как мы расстались. Удивительно, каким одиноким можно быть в толпе. Я была уверена, что если я позвоню Чон Хёну, то он сразу приедет. Я была убеждена в этом, возможно, даже сильнее, чем тысячи демонстрантов в своих действиях. Именно поэтому я так и не позвонила, хотя сейчас понимаю, насколько нелепой была моя уверенность. В любом случае вечером того дня для меня завершился период жизни, когда я была счастлива.
А в январе из одного журнала я узнала, на что Чон Хён потратил деньги, которые мы копили на путешествие в честь нашего тридцатилетия в мае 2009 года. В статье я прочитала, что всего в Сеуле 70 000 такси, а значит, мои шансы, что мне не повезет и я сяду именно в машину «господина Ли Чон Хёна (29 лет)», равняются 1:70 000. И даже если я сяду в это такси и сразу выйду, поскольку отношения у нас с ним не очень, с вероятностью 1:70 000 я снова могу поймать его такси в следующий раз. Чисто математически вероятность того, что я поймаю такси своего бывшего возлюбленного два раза подряд, равна вероятности первого события, умноженной на вероятность второго события, то есть 1 к 49 миллионам. Таким образом, если, например, пользоваться такси раз в день, то потребуется 13 миллионов 424 тысячи 658 лет, чтобы это событие произошло. Голова пошла кругом, когда я увидела эту невероятную цифру. Иногда люди легко относятся к расставанию, думая, что всё равно все под одним небом ходим, но когда вдруг осознаешь, как далеки вы вдруг оказались друг от друга, эта иллюзорная легкость исчезает и наваливается истинная тяжесть разлуки.
Но если не рассматривать исключительно мою ситуацию, то можно теоретически сократить время, требующееся на реализацию потенциальной возможности события. Если высчитывая вероятность того, что в одно и то же такси дважды сядет один пассажир, принять во внимание, что в день таксист перевозит двадцать пять человек, и брать в расчет не меня одну, а всех этих людей, то вероятность, что они дважды сядут в такси «господина Ли Чон Хёна (29 лет)», существенно повышается с соотношения 1:70 000. Тем не менее даже в этом случае, учитывая, что каждый из них пользуется такси один раз в день, событие может реализоваться один раз за 192 года. Короче говоря, крайне маловероятно, что житель Сеула дважды воспользуется одним и тем же такси за всю свою жизнь. Как было бы здорово, если бы человеческая жизнь подчинялась абсолютным математическим законам и теории вероятности. Если бы можно было все просчитать и прожить именно так, как мы мечтали в студенческие годы. Но, как известно, жизнь непредсказуема. «Господин Ли Чон Хён (29 лет)» в очередной раз убедился в этом через несколько дней после того, как начал работать таксистом. Около полуночи в районе станции метро «Ахён» к нему в такси села девушка. Он затылком почувствовал на себе ее недоброжелательный взгляд. На улице шел дождь и завывал ветер, что как нельзя лучше подходило атмосфере внутри машины. Неожиданно громко девушка спросила:
— Вы меня преследуете?
— Вы считаете, мне делать больше нечего? Я и так как белка в колесе кручусь, чтоб хоть что-то заработать. Откуда у меня время, чтоб еще вас преследовать?
— Тогда зачем вы меня здесь все время поджидаете? Я уже третий раз сажусь в вашу машину.
Сам «господин Ли Чон Хён (29 лет)» вообще не помнил девушку. Тем не менее именно так он и познакомился со своей нынешней подругой. После этого случая он потратил все свои сбережения на то, чтобы установить в багажнике компьютер с встроенной системой беспроводного подключения к Интернету WiBro, а в салоне такси поместить камеру, которая управляется с помощью кнопок на руле и может снимать при любом уровне освещенности. Все, что происходило в его машине, он начал транслировать в режиме реального времени на одном из интернет-сайтов. Весь этот проект «господин Ли Чон Хён (29 лет)» назвал «Ночь судьбы». Суть проекта, на который молодой таксист даже получил финансовую помощь от администрации города, сводилась к игре: возможно ли в таком огромном мегаполисе, как Сеул, дважды проехать на одном и том же такси? Главный герой игры — случай, а правила простые: если один и тот же человек дважды сядет в такси этого водителя, игра закончится. Но игра считается выигранной, только если повторная встреча в такси этого огромного и бессердечного города произойдет исключительно по воле случая. Водитель надеется выиграть, хотя результаты не обнадеживающие. С тех пор, как он встретил свою девушку, по количеству случайных встреч уверенно лидирует сеульское метро. Тем не менее онлайн-трансляции на сайте Чон Хёна были очень популярны, так как там было на что поглазеть. Иногда даже попадались пьяные мрачные типы, которых рвало прямо в салоне.
Зима 2008 года выдалась очень холодной. Но мне пришлось провести несколько ночей на работе в толком не отапливаемом офисе. Как-то вечером я заработалась допоздна, но когда сил бороться со сном не осталось, я доплелась до переговорной в надежде вздремнуть и случайно наткнулась на эту статью в журнале, оставленном в комнате. Мое лицо вспыхнуло. Я даже испугалась, как бы кто не увидел меня со стороны. Меня всю трясло. Ощущение было, что меня предали. Больше всего меня порадовала строчка про «свои сбережения». Когда это он успел накопить деньги на то, чтобы установить камеру в такси? Понятное дело, что это те деньги, которые я ему перевела на счет, перед тем как мы окончательно расстались. Перевела сама, отчасти из жалости к нему, отчасти для того, чтобы он не умер от голода, но все равно это были мои деньги, доставшиеся мне потом и кровью. И вот теперь, когда он волею случая нашел себе новую девушку, обрел надежду в жизни и сколотил первоначальный капитал, он хоть словом обмолвился, что хочет стать великим режиссером? Внутри у меня все кипело, и я была готова прямо сразу пойти и выбросить из его машины все это дурацкое оборудование, которое позволяло всем извращенцам-вуайеристам подглядывать за другими людьми двадцать четыре часа в сутки. Хотя, с другой стороны, я подумала, что это всё лучше, чем прочитать в газете, что он совершил какое-нибудь ужасное преступление или сильно пострадал в аварии на своем такси. Тем не менее мне было не по себе, что он вот так жил после того, как расстался со мной.
Окончательно захмелев после третьего бокала пива и неотрывно глядя вниз на огни центрального Сеула, я рассказала это все молодоженам, приехавшим из Японии, и они тут же подняли невообразимую шумиху вокруг моей истории.
— Этот человек прав, сестра. Миром правит случай. В деревнях все подчинено природе, а в городах — воле случая, — высказал свою мысль мой японский брат, все тщательно взвесив. Брат, который был мне так близок, пока был здесь, и который был практически чужим, стоило нам разъехаться.
— Допустим, то, что мы сейчас здесь сидим и разговариваем друг с другом, — это можно назвать волей случая. Ведь вплоть до сегодняшнего утра я даже не знала о твоем существовании. А то, что я еще и с твоей женой познакомилась, которая сидит тут рядышком с тобой, так это вообще чудо. Но теперь подумай, какова вероятность сесть дважды в одно и то же такси.
— Нет, мы встретились не случайно, мы встретились потому, что заранее договорились об этом. В человеческих отношениях многое предопределено.
Он мог уверенно говорить об этом, ведь рядом, будто доказывая истинность слов брата, сидела его жена. Насколько же мужчины бывают наивны и просты? Кажется, когда им приходит время жениться, они все запираются в комнате и благодарят Бога за то, что послал им такую замечательную девушку. И с этой потрясающей иллюзией они по собственной воле идут во дворец бракосочетания. История моего брата такова. У него был друг, немного старше его. Второго такого товарища не найти. Он работал в регистратуре университетской больницы. Хороший, добрый человек. Они с братом были очень похожи, и у них настолько совпадали вкусы и привычки, что если одному хотелось чем-нибудь перекусить, он покупал товарищу такое же мороженое или печенье и в ответ непременно слышал: «Это как раз то, чего мне сейчас не хватало!» И как-то утром этот его друг ехал на работу и, заглядевшись на очаровательную девушку, врезался на перекрестке в машину. Авария была не слишком серьезной, и, уладив все формальности со страховой компанией и полицией, приехавшей на место ДТП, он поймал такси и тут же снова попал в аварию. Повинуясь минутному импульсу, он вышел из такси посмотреть, как там что, и вдруг из машины, в которую врезался водитель такси, вышла та самая прекрасная девушка. Так они встретились во второй раз. Решив, что такое совпадение не случайно, он подошел и заговорил с незнакомкой. В итоге они договорились поужинать вместе через несколько дней в ресторане одного хорошего отеля. Но в назначенный день уверенность оставила его, и, испугавшись возможной неловкой атмосферы, он позвал с собой на ужин своего веселого друга, которому в тот день пришлось остаться на работе сверхурочно. Этим другом как раз и был мой брат. И вот через два года эта девушка сидит рядом с моим братом под сеульским небом, на котором теперь не осталось и следа прежней синевы, а только глубокая асфальтовая темнота.
— И еще неизвестно, как там у вас в итоге все сложится с тем парнем. В жизни ничего заранее не предугадать. Позвони ему. Нам повезло, и теперь мы отправились в кругосветное путешествие. Тебе, сестра, тоже обязательно повезет, — сказал мне брат.
К нему тут же присоединилась жена со словами:
— Пожалуйста, еще раз побудь смелой.
При чем тут смелость? Я захмелела и все это время вертела телефон в руках. Не могу сказать, что у меня ни разу не возникало желания позвонить Чон Хёну после того, как я наткнулась на статью в журнале. Когда я только прочитала ее, то первым делом вырезала ту ее часть, где был написан адрес интернет-сайта, и вложила листочек в свой блокнот. Но осмелилась зайти на этот сайт я только дня через два. В неотапливаемом помещении я включила свой собственный обогреватель, что делать категорически запрещалось, и работала всю ночь напролет. Я осталась работать вместе с другими моими коллегами. Но потом я задремала, а проснувшись, обнаружила себя в опустевшем полутемном офисе. Все куда-то ушли. Я взглянула в маленькое зеркало на столе: волосы сбились на одну сторону, оттого что я заснула щекой на столе. Я не верю в привидения, но все равно мне было страшновато сидеть одной в пустом офисе. Я встала и зачем-то выглянула в окно, потом приоткрыла дверь и высунула голову в коридор. Я вспомнила о Чон Хёне, достала из блокнота кусок статьи и зашла на указанный сайт. Несмотря на позднее время, на сайте, куда Чон Хён выкладывал трансляцию из такси, было без малого человек сорок. Я думала увидеть салон машины, но неожиданно в маленьком окошке видео появилась крыша какого-то дома, откуда валил черный дым и были видны языки пламени. В сторону огня со всех сторон поднимались струи воды. Вероятно, микрофон был выключен, потому что никаких звуков слышно не было. Я остановила видео и решила проверить, не ошиблась ли с сайтом. Рядом с видеоокошком было написано: «Проект таксиста Чон Хёна „Ночь судьбы“». «Тогда хоть покажись», — подумала я, глядя в монитор. Но в ту ночь Чон Хён так и не появился в кадре. Вплоть до возвращения моих коллег, ушедших, как оказалось, в ближайший магазин за кофе, на экране в полной тишине мелькали языки пламени и поднимался черный, как смола, дым. Откуда-то снизу хлестали струи воды, пытавшиеся побороть огонь. А потом я выключила трансляцию. Через несколько дней я узнала, что в том пожаре погибло пять человек. В это время я выиграла тендер на рекламный проект для одной телекоммуникационной компании и должна была теперь заниматься им. Я была горда собой, потому что сдержалась и не позвонила Чон Хёну, чтобы поделиться с ним этой радостной новостью. Хотя было ли тут чем гордиться на самом деле? Я уж было нашла его номер в своем мобильнике, но вовремя остановилась и представила, как сигнал моего звонка достигает самой высокой сеульской башни на горе Намсан, а оттуда каждый раз, когда в моем телефоне раздается гудок, расходится круглыми, как бублик, волнами по всему городу.
Живя в таком огромном городе, даже пользуясь услугами такси дважды в день, мы до самой смерти можем так и не проехать в одном и том же такси. Но мы можем случайно встретить человека, с которым у нас как будто назначено, и сразу влюбиться. Эта встреча может оказаться такой же завораживающей, как постоянно меняющееся небо, в которое я окунулась с головой. Наша жизнь похожа на этот город. Кто угодно может оказаться на месте человека, упершегося в стену безнадежности, из которой он не может выбраться, потому что совершенно не смотрит по сторонам и упрямо верит в какое-нибудь свое глупое убеждение. Люди постоянно меняются, носят множество масок, которые в итоге все сводятся к одному-единственному истинному лицу. Так же меняется и город. Когда вы глубокой ночью возвращаетесь с работы и вглядываетесь уставшими глазами в сверкающий городской пейзаж, вы не находите ничего общего с тем городом, который видели днем, когда он был тусклым и пыльным, заметенный песчаной бурей из далекой Монголии. И каждое из тысячи четырехсот сорока мгновений в этом городе прекрасно. Каждые шестьдесят секунд, каждая секунда из тысячи минут. Город был похож на нас, молодых, по несколько раз за день меняющих свои мнения и настроения. Я прожила уже двадцать часов и шестнадцать минут своего нового дня, которого раньше не было и который никогда больше не повторится. Двадцать часов и шестнадцать минут своего тридцатилетия.
— Хм, сегодня мой тридцатый день рождения и эти двое уезжают в кругосветное путешествие вместо меня. Этот молодой человек абсолютный счастливчик, который может сидеть спокойно, а девушек к нему как магнитом тянет. А его прелестная жена известна тем, что одно ее появление рядом с дорогой вызывает кучу аварий. Они поженились всего три дня назад. Вот, познакомьтесь. Этот же молодой человек очень быстро нашел себе новую девушку в огромном городе, где практически невозможно сесть в одно и то же такси дважды. Ли Чон Хён, скобки открываются, 29 лет, скобки закрываются.
Я немного разволновалась, когда мы встретили Чон Хёна на стоянке около Национального театра. «Неужели так бывает?» — постоянно крутилось у меня в голове. Против ожиданий, за год и два месяца, что я его не видела, Чон Хён похудел и выглядел теперь очень хорошо. Наверное, было бы по-человечески объяснимо, если бы я, как его бывшая девушка, желала, чтобы у него никогда не появилась новая возлюбленная или чтобы он неудачно женился, а может, и вовсе ушел в монастырь. Но, глядя на его пышущее здоровьем лицо, я была рада за него и благодарна за его невозмутимость. Как же трудно иногда быть человеком!
— Много слышал о тебе в ресторане. Сестра рассказала. Она показывала нам сверху красиво освещенную дорогу, по которой ты приедешь. Сестра очаровательна! — сказал мой элегантный братик, который был явно младше меня, что не мешало ему сразу говорить «ты», из-за чего Чон Хён несколько растерянно взглянул на меня.
— Вряд ли вы… ты услышал обо мне что-то хорошее. Кстати, да. Я тоже, пока ехал, все время смотрел на башню на Намсане.
Чон Хён широко улыбался. Конечно, он говорил мне «ты», но поскольку видел моего брата впервые, то не знал, как уместнее с ним разговаривать, но в итоге решил не церемониться и с ним. Появилось давно забытое чувство неловкости и сомнений от этих повисших в воздухе рваных фраз. Правда ли, что тридцать лет — это возраст, когда можно остановиться и посмотреть на себя, возраст, когда уже можно быть честным с самим собой? Мы сели в такси Чон Хёна — я на переднее сиденье, молодожены на заднее. Как и было написано в том журнале, внутри машина была оборудована маленькой камерой, похожей на эндоскоп. Мой брат как будто бы удивился, увидев ее.
— И сейчас работает? — спросил он.
— Конечно. Но если не нравится, скажите. Я могу ее выключить.
— Да пусть работает. Мы красивые, камер не стесняемся.
Брат захихикал и посмотрел на свою спутницу. Поскольку мы уже изрядно выпили, то открыли все окна в машине, чтобы они не запотели. Откуда-то доносилось равномерное постукивание. Мои волосы развевались на ветру. Машина Чон Хёна миновала район Ханнам-донг и выехала на дорогу Соволь-киль. Из радиоприемника лилась ария «Овцы могут спокойно пастись» из кантаты Баха. Я слушала музыку, смотрела из окна в темноту и снова называла его «милый Чон Хён». Опять «милый Чон Хён». Слезы потекли из глаз. Стоило мне разреветься, Чон Хён, умудряясь смотреть и на меня, и на дорогу одновременно, протянул руку и сжал мое запястье. Я скинула его ладонь, но он вновь дотронулся до меня. Я отвернулась и стала разглядывать мелькавшие за окном деревья. Брат, не подозревая о моих слезах, о чем-то весело болтал на японском со своей женой.
Мы проехали мимо недавно сгоревших южных ворот Намдэмун, обогнули площадь перед зданием парламента, доехали аж до перекрестка у ворот Кванхвамун и снова выехали на дорогу Чон-но, объехав таким образом подножье горы Намсан по кругу. И только после этого свернули к отелю «Башня», где остановились молодожены. Пока мы ехали, Чон Хён поделился своими воспоминаниями. Каждый раз, когда его отец приезжал в Сеул, например на свадьбу каких-нибудь родственников, он предлагал сыну подняться на Намсан, если останется время. Однажды они с Чон Хёном уже подъезжали к восьмиугольному павильону внизу башни, когда по радио в такси, в котором они ехали, вдруг зазвучала сирена и передали срочное сообщение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, поскольку на границе с Северной Кореей над Желтым морем был замечен летающий объект. О башне на Намсане можно было забыть, поэтому они сели в павильоне и стали ждать, когда отменят воздушную тревогу. Пока они ждали, отец сказал Чон Хёну: «Если вдруг случится война, мы можем потерять друг друга, поэтому нам нужно сейчас обменяться каким-нибудь секретом, чтобы мы смогли узнать друг друга, когда встретимся вновь. Давай, ты первый. Расскажи мне что-нибудь, чтобы я смог убедиться, что это именно ты, если мы встретимся через несколько десятков лет». Чон Хён задумался, что бы такого рассказать. Например, вторые пальцы на ногах и на руках у него были длиннее, чем все остальные, еще у него была родинка на внутренней стороне бедра, а волосы он мог укладывать на любую сторону… что еще?..
Тем временем мы подъехали к отелю. Брат протянул мне маленькую жестяную коробочку.
— Что это?
— Я нашел ее, когда делал в доме генеральную уборку перед свадьбой. Твоя бабушка складывала в эту коробочку свои сокровища, когда училась в начальной школе. Теперь, когда бабушки уже нет в живых, я хочу, чтобы сокровища хранились у тебя.
На коробочке был нарисован пастух и стадо овец, мирно пасущихся на лугу. Местами рисунок уже стерся. Судя по тому, что с одной стороны было выгравировано название церкви, эта коробочка была подарком для прихожан. Я открыла крышку, чтобы посмотреть, что за сокровища хранились внутри, но тут брат тронул меня за плечо и сказал, что следующим утром им надо рано уезжать, поэтому они уже пойдут спать.
— Завтра утром? Куда?
— На пароме из Инчхона в Китай, в город Тяньцзинь. У меня там друг живет. Сестра, я и по-китайски говорю. Чуть-чуть.
Я убрала жестяную коробочку в сумку и помахала рукой молодоженам, вышедшим из машины. Они весело засмеялись и помахали в ответ. Чон Хён попрощался с ними. Проводив взглядом удаляющуюся парочку, я спросила у него:
— Интересно, в Китае тоже есть несколько степеней вежливости в языке?
— Нет, но речь там делят на официальную и нет. Куда теперь? — спросил он, снимая машину с ручного тормоза.
— Домой.
— Адрес тот же?
— Ага.
Я вжалась в кресло и снова уставилась в окно. Однако Чон Хён, вместо того чтобы ехать, стал возиться с камерой. Я посмотрела, не хочет ли он повернуть ее в мою сторону.
— Что ты делаешь?
— Камеру выключаю.
— Зачем?
— Но это же смешно! Мы с тобой. А если ты снова заплачешь? Вдруг кто из знакомых увидит, что тогда?
— Оказывается, это смешно?! Мне все равно, делай что хочешь.
Некоторое время я смотрела в окно, потом резко выпрямилась и выпалила:
— Да ты же просто испугался, что твоя новая подружка увидит.
— Нет.
— Ты, оказывается, более предусмотрительный, чем кажешься.
— Я же сказал, что нет.
Хотя Чон Хён и сказал «нет»… Всю оставшуюся дорогу до дома я говорила о великолепном сопрано, которое мы слушали недавно на дороге Соволь-киль. О том, как этот прекрасный голос успокоил мою израненную душу. О том, что, пока я слушала арию и думала о красоте городских огней, мерцающих вдалеке, ко мне вернулась вся тоска одиночества, которую я переживала весь год, и захлестнула меня. О том, как долго внутри меня жила память о нашем расставании. О том, что, пока звучала ария и даже после того, как она закончилась, я радовалась ветру, который хлестал меня по лицу. А потом я вспомнила, как наблюдала на рассвете за алыми языками пламени, за черным дымом и летящими снизу струями воды. И о случайно прочитанной строчке письма, которое мне встретилось вскоре после этого. «Моему отцу и папочке», — начиналось письмо. «Папочка, я по тебе очень скучаю. Это единственное, что сейчас есть в моей душе. Очень хочу тебя увидеть, папочка. Пожалуйста, хотя бы приснись мне. Я обниму тебя всей душой и никогда не отпущу. Я не смогу оставить тебя и никогда не отпущу. Я буду повторять тебе „Папа, я люблю тебя!“» — так оно заканчивалось[12]. Я сказала, что плакала тогда как раз из-за того, что вспомнила эти строки из письма.
А потом говорил Чон Хён. Рассказывал, каким ничтожным он считал свое существование, когда начинал работать таксистом, и что он радовался, видя, сколько еще людей живет в этом мире. О том, как часто люди бубнят что-то себе под нос, сидя на переднем или заднем сиденье такси. О том, что, даже не глядя на пассажира, по одному только запаху он может определить, что человек ел на обед, какое у него финансовое положение, где он работает, — и от этого становилось одиноко. А потом однажды на рассвете он увидел, как свирепствовал тот страшный пожар. И о том, каким темным видится ему его будущее. Я очень внимательно слушала все, что говорил Чон Хён. Старалась не пропустить ни слова. Изо всех сил пыталась понять, о какой темноте в будущем он говорит. А еще я думала: какое счастье, что в Сеуле есть хоть один таксист, которому не нужно подробно объяснять дорогу к моему дому, и что, как только я приду домой, я обязательно открою жестяную коробочку, чтобы узнать, какие сокровища прятала там моя бабушка, когда была маленькой.
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА
Был канун нового года. Весь день небо закрывали низкие облака. И хотя я заранее знал о том, что к нам приедет иностранец, друг моей жены, с которым она любила разговаривать, индиец по имени Сатбир Сингх, я все равно смутился, когда действительно увидел его, открыв входную дверь. Он был родом из Пенджаба, а я до тех пор не то что пенджабца, вообще ни одного человека из Индии не встречал. Честно признаться, я даже не представлял, в какой части Индии находится Пенджаб. И я впервые видел такую длинную неопрятную бороду и пожимал такую влажную потную руку.
Однако больше всего меня обескуражил и в некоторой степени расстроил его ужасный корейский. Конечно, я не рассчитывал на то, что индиец, приехавший сюда на заработки, будет говорить по-корейски так же бегло, как мы сами. Тем не менее я полагал, что он достаточно хорошо знает язык и может хоть как-то поддержать разговор. И, разумеется, я даже не предполагал, какой это станет помехой для нашего с ним общения. Поэтому, не зная, как поступить, я просто стоял и смотрел на него, на его ярко-розовый тюрбан, темные, угольного цвета глаза, лицо, наполовину скрытое бородой.
— Я не мочь носить тюрбан каждый день, — начал Сатбир. — Корейцы это не любить. От завода один час надо ехать в автобус. В автобусе пьяные говорить «Аль-Каида». В автобусе есть придурки. Правда же? Сегодня праздник — я носить тюрбан.
Меня немного удивили его слова. Не то, что он надел тюрбан, потому что сегодня праздник, и не то, что он сказал про придурков в автобусе. Меня удивило его «Правда же?» — вопрос, который часто используют женщины, ожидая услышать подтверждение своих слов в вежливой дружеской беседе. Поэтому, даже не пригласив его в дом и не сказав, что рад встрече, я долго стоял, держась за дверную ручку, и расспрашивал его про корейский язык. Он объяснялся на смеси двух языков — английского и корейского, но поскольку я практически не говорил на одном, а он — на втором, то из всего его рассказа я понял только, что он и еще двенадцать пенджабцев, большая часть из которых были сикхами, жили все вместе в контейнере около мебельной фабрики, где работали, поочередно готовили еду, к которой привыкли дома, и поэтому незнание местного языка для них было «ноу проблем», но у Сатбира была какая-то своя причина, по которой он решил выучить корейский и пять месяцев назад стал посещать языковые курсы для рабочих-иммигрантов.
Не знаю, много это или мало — пять месяцев изучать чужой язык, но что для человека родом из Пенджаба пять месяцев — это ничтожно короткий срок, я узнал, стоя в дверях своего дома и пытаясь поговорить с этим мужчиной. Я также знал, что за эти пять месяцев он сблизился с моей женой, хотя я никак не мог понять, почему вообще они подружились; но после того, как я лично познакомился с этим человеком, меня скорее начал мучить вопрос не «почему?», а «как?». Когда я спросил его об этом, он снова начал подробно рассказывать о своих занятиях по корейскому языку, но это оказалось повторением всего того, что я уже слышал раньше. А потом он стал сбивчиво рассказывать, как однажды стоял один посреди площади, заполненной, словно густым дымом, звуками корейской речи, и почувствовал, как начинает задыхаться от всего этого…
Я не смог сдержаться и рассмеялся, он тотчас же начал смеяться в ответ. Мы стояли друг перед другом и смеялись как дураки. Я никак не мог выяснить, почему он решил учить корейский язык и как они подружились с моей женой, но я знал, почему и как он приехал ко мне. Целый долгий час он ехал сюда на автобусе, чтобы настроить пианино, стоявшее у нас в гостиной. И, несмотря на то что его могли дразнить Аль-Каидой, он все равно надел свой розовый тюрбан в этот последний день уходящего года. Я перестал смеяться и спросил, как насчет того, чтобы войти внутрь. Озадаченно нахмурившись, он повторил мои слова: «Как насчет?» Таким был новый знакомый моей жены, которого она называла своим собеседником.
Ночь была очень тихой. В такую ночь, если начинается снег, то он превращается в настоящий снегопад. Даже серый промозглый ветер, днем гонявший облака по небу, стих в темноте. Индиец стоял на коленях перед пианино и ударял по клавишам, изредка отхлебывая из кружки зеленый чай, который я приготовил для него. Он извлекал звуки из пианино, наполняя дом пока еще бессмысленным бренчанием. Я решил посмотреть телевизор и сел на диван. На экране один за другим появлялись какие-то певцы, исполнявшие незнакомые мне песни. Приглядываясь, я понимал, что на сцене собрались новые звезды, но все они были так похожи друг на друга, что казалось, будто это повторение прошлогоднего праздничного концерта.
Пока я смотрел, как пенджабец с серьезным видом ударяет по клавишам пианино в гостиной, заполненной звуками танцевальной музыки, мне вспомнились слова жены, которая, уходя на встречу, просила меня быть поприветливее с ее «скажем так, другом» индийцем, который приедет настраивать инструмент. За приветливость я посчитал то, что уменьшал громкость телевизора, нажимая кнопку на пульте, каждый раз, когда Сатбир ударял по клавише. Вскоре я потерял интерес к происходящему на экране и уставился в окно. Я думал. Думал о снеге. Думал о сильнейшем снегопаде. Вряд ли этот человек, приехавший из Пенджаба, много знает о снеге. Очевидно, что Пенджабом должно называться какое-то жаркое место. Стоит только взглянуть на индийский тюрбан: становится ясно, что снега там не бывает.
С тех пор прошло уже более десяти лет. А в то время у нас были простые желания. Мы мечтали, чтобы у нас было отдельное жилье, пусть и съемное, но лишь бы не в полуподвале. Мы только окончили университет и входили во взрослую жизнь. С деньгами у нас тогда было намного хуже, чем сейчас, и как-то мы поехали путешествовать по заснеженному Хоккайдо, хотя нам даже пришлось брать кредит в банке на это путешествие. Но для нас это было особенное, как мы его называли, «прощальное» путешествие. Мы сели в поезд и поехали в маленький город Отару на берегу моря. С сумками наперевес мы вышли из здания вокзала и сквозь пар от нашего дыхания увидели дорогу, по краям которой лежали сугробы размером с человеческий рост, и море, начинающееся в конце дороги.
В Отару мы пробыли три дня и все это время смотрели, как одна за одной падали снежинки. В феврале снег очень легкий: снежинки летают, ложатся на землю, снова поднимаются в воздух, оседают на ветках деревьев и кружатся на ветру. Когда идет такой снег, день становится самым светлым днем, а ночь — самой темной ночью. Вспоминая, как тогда в Отару снежинки одна за одной нежно ложились на те, что уже успели упасть до них, я могу сказать, что зима в Отару такая бережливая, что ни одна снежинка не пропадает у нее даром. Когда мы возвращались в наш маленький отель на берегу замерзшего канала, мы стряхивали снег с ботинок, изо всех сил топая ногами в тусклом свете маленьких лампочек, висевших вдоль крыши. Земля под нашими ногами была твердой, как айсберг на Северном полюсе.
— Когда ночью идет снег, даже собаки не лают. Правда же? Интересно, а почему так?
— Может оттого, что на небе не видно луны?
— Нет, не поэтому. Подумай еще.
— В собачьем языке нет слов для снега, поэтому они молчат?
— Нет. Тоже не то.
— Потому что собаки онемевают от красоты падающего снега?
— Скучно.
Вот так мы и разговаривали, а когда больше не могли говорить, мы любили друг друга. Мы любили друг друга и ранним утром, и вечером, когда слабый солнечный свет едва пробивался в комнату, и темной ночью, когда за окном прекращался снегопад. Ее влагалище было не горячим, но скорее приятно теплым; и, подолгу оставаясь в ней, я думал о холодной воде белого заснеженного Отару за окном нашего номера. Холодное море. Холодный канал. Холодные пруд. Странное дело: окруженный ли холодной водой, находящийся ли в ее теплом лоне, я думал о словах прощения. Могу ли я в настоящем попросить прощения у кого-нибудь в далеком будущем, тем более у самого себя? И если так, то каков я сейчас? И простит ли меня настоящего тот, будущий я? В моей голове рождалось и умирало множество мыслей. Среди них были те, которые обязательно стоило запомнить, и еще больше тех, которые лучше было сразу забыть. В этом путешествии мы открыли для себя уникальную историю народа айну. Больше всего мне запало в душу, что в языке айну существует всего семь числительных. В небольшом музее, который находился по дороге к белоснежному морю, мы узнали, что айну означает «человек», и что у этого народа нет слов для обозначения понятия «очень много». Спускаясь к морю, мы чувствовали, что плывем по течению, следуя изгибам вечности, как речные и морские воды Земли. Мы занимались любовью, а засыпая, переносились в своих снах из одного незнакомого места в другое, как волны, не знающие покоя.
— Ты говорила, что училась играть на пианино. Ты многому научилась? Бетховен? Моцарт?
— Ну, я хотела дойти до Сорокового этюда Черни…
— «Хотела дойти», говоришь, то есть так и не дошла?
— Я просто бросила играть.
— Я не знаю, Сороковой этюд Черни — это уже большое достижение?
— Нет, не большое. Сороковой этюд Черни это далеко не вершина мастерства, это всего лишь небольшой подъем в начале пути. Обычно там не кончается путь. Если ты хочешь играть на пианино, то нельзя там останавливаться. Надо идти дальше. А я вообще дошла только до Одиннадцатого этюда и бросила, что уж тут говорить?
— А почему бросила?
— Потому что замучилась.
— Неужели этюды Черни такие сложные?
— Ага, все эти диезы и бемоли. Чтобы играть Сороковой этюд Черни, надо безболезненно следовать нотам, где одни сплошные черные клавиши.
— Странно, что ты говоришь о боли, — разве это больно, а не трудно?!
— Ну, это трудно в душе, а больно телу, разве нет? По-моему, очевидно, что играть больно. Правда же? Потому что пальцы болят так, что невозможно дальше ударять по клавишам. А почему ты спрашиваешь?
— Просто так. Я с детства часто думаю об этом. Я всегда представлял себе, как буду возвращаться с работы домой, открывать ворота во двор и через распахнутое окно слышать звуки пианино. Но я не знал, что это так мучительно.
После того как я закончил говорить, она некоторое время молчала, никак не реагируя на мои слова, а потом хлюпнула носом и расплакалась; ее рыдания постепенно становились все громче и громче. Я смотрел, как она плакала, по-детски обхватив себя за плечи, и в моих глазах тоже появились слезы. Кажется, в тот момент мы думали об одном и том же. Как дети. О детях. И о невероятно сильном снегопаде. И о том, что мы всегда будем вспоминать Отару, каждый раз, как пойдет снег. Много-много мыслей.
— Этот пианино какой такой пришел? — обратился ко мне индиец.
— Этот пианино какой такой пришел? — повторил я вслед за ним.
Тогда он, кажется, понял свою ошибку и попытался задать вопрос снова:
— Как такой пришел?
Но я и сам толком не знал, как это пианино оказалось в нашем доме.
— От одиночества.
— Пианину было одиночество?
— Нет, речь не об этом, не о пианино и даже не обо мне…
Мне надо было сказать, что нам с женой было одиноко, но я не знал, как это объяснить, поэтому задумался и замолчал. Он немного подождал, сидя на стуле перед пианино, а потом ударил по одной из клавиш. Это была фа в малой октаве. Раздался «пустой» звук, клавиша опустилась вниз и так там и осталась. Я давно знал, что эта клавиша западает. Но Сатбир несколько раз прошелся по всем клавишам и, кажется, нашел еще пару таких же, о которых я не знал. Две из трех запавших клавиш постепенно поползли обратно вверх. Можно сказать, 2:1.
— Этот пианино давно не пел. Правда же?
И только тогда я понял, о чем он спрашивал.
— Верно, человек, который отдал мне этот инструмент, тоже так говорил. Сказал, что дочка играла на нем, когда ей было одиннадцать.
— Если не петь — не покупать.
— Оно досталось нам бесплатно.
— Бесплатно ничего не бывает, — твердо отрезал он.
— На блошином рынке бывает, если знать, где искать, — ответил я тем же тоном.
Он тут же уставился на меня так, словно не на шутку разозлился. Я решил, что продолжать разговор в таком духе нет ни смысла, ни желания, и стал придумывать, как можно разъяснить обстоятельства, при которых мы получили это пианино, но не мог подобрать слова. Он прожил в Корее уже три года и всего лишь пять месяцев назад начал серьезно изучать язык этой страны, и я не мог придумать, как теперь объяснить ему на корейском наше с женой одиночество. К тому же у меня начали закрадываться сомнения: а действительно ли он не знает то, о чем спрашивает? А вдруг ему известно, почему мы поженились и почему здесь сейчас стоит это пианино? К слову сказать, это был, по собственному выражению моей жены, «скажем так, друг», приехавший из Пенджаба сикх Сатбир Сингх, с которым, опять же по словам жены, она познакомилась, когда вела занятия по корейскому языку для рабочих-иммигрантов.
Я не совсем понимал, что значит «скажем так, друг». Еще меньше я стал это понимать, когда увидел, что этот друг — мужчина, с которым невозможно разговаривать. Дело не в том, что я не верю, будто бы взрослые мальчики и девочки могут просто дружить друг с другом, но я в принципе не мог поверить в рассказ жены о том, как она познакомилась с этим иностранцем, приехавшим на заработки в Корею. И когда я, вспылив, спросил у нее: «И чего ты теперь от меня ждешь?» — жена ответила: — «Ты прекрасно знаешь, что я ничего от тебя не жду. Правда же? Да и я просто сказала, что у меня появился, скажем так, друг».
На мой вопрос о том, как они сблизились и стали друзьями, жена ответила, что благодаря разговорам. Благодаря разговорам. В любом случае, каким бы нелепым все это ни казалось, с прошлой осени главным собеседником моей жены вдруг стал не я, ее муж, а как раз таки этот самый «друг».
Я уж было решил, что жена рассказывает этому странному иностранцу все, включая и наши с ней диалоги, но, поразмыслив, понял, что это было бы весьма проблематично. Он так плохо знает корейский, что жена может рассказывать ему все что угодно, но мне кажется, он все равно мало что поймет из этого. И для меня оставалось загадкой, как жена могла подружиться с этим человеком, как она утверждает, благодаря разговорам. Может быть, она прониклась его ситуацией и, пользуясь тем, что этот иностранец совсем не может говорить по-корейски, но очень хочет его выучить, стала рассказывать ему эти свои вечные глупости. Потому что иногда, когда я вспоминаю наши разговоры с женой, мне кажется, что ей не важно, слушают ее или нет, — ей просто нужен человек, которому она могла бы рассказывать все подряд. Возможно, этот человек, ставший с прошлой осени ее другом, слушал бесконечные разговоры об отчаянии, которое испытываешь каждый раз, когда случается очередной жизненный кризис, или о давнишних, но так и не сбывшихся мечтах, или, например, о любимом цвете и книгах, которые произвели глубокое впечатление, и обо всем остальном, о чем моя жена постоянно трещит. Не знаю, может, именно это она имела в виду, когда назвала его «скажем так, другом».
Я начал говорить, отчетливо произнося слова, чтобы он мог лучше меня понять:
— Хозяином этого пианино был пожилой человек. Ему было много лет. Он заболел. Он скоро умрет. Он боялся, что он умрет и вместе с ним умрет пианино. Поэтому он отдал мне пианино. Вы меня понимаете? — спросил я, глядя в глаза индийцу.
На что он ответил:
— Пожалуйста, слушайте внимательно. Этот пианино как до такой пришел?
Я растерялся от его вопроса, но, тем не менее, продолжил в подробностях рассказывать про этого старика. Я прочитал в газете бесплатных объявлений о том, что за просто так отдают старое пианино «Ямаха». Когда я позвонил, оказалось, что старик в больнице. Я сказал, что звоню по объявлению, тогда умирающим голосом старик поинтересовался, кто будет играть на пианино. Я пожалел о том, что вообще позвонил, едва только услышал этот хриплый голос, но подумал, что теперь уже ничего не поделаешь, и сказал, что хочу подарить пианино жене, которая в младших классах играла «Сорок этюдов» Черни. Тогда старик очень обрадовался и попросил меня прийти в больницу, чтобы он отдал мне ключи от дома. Я пошел в больницу. Старику оказалось меньше лет, чем я предполагал. Вместе с ним в палате сидела его жена. Слабым голосом старик долго рассказывал, какую важную роль играло пианино в его жизни, а потом наконец вручил мне ключи. Как только мы заговорили про пианино, его жена демонстративно вышла в коридор и не заходила в палату, пока я не ушел. А старик со слезами на глазах говорил о том, что, хотя мне и не нравится идея идти одному в совершенно пустой дом, на самом деле в этом нет ничего страшного, и о том, насколько важно для него это пианино, и что это все, что у него осталось. Из палаты я вышел в растерянности, оттого что старик настойчиво торопил меня поскорее вывезти пианино из его дома.
Дом этого пожилого человека находился в центре одного из новых районов. Это был двухэтажный отдельно стоящий дом. Если бы он был на окраине района, то, когда возводили новостройки, жильцам предложили бы за какую-нибудь компенсацию переехать в многоэтажку. Но дом стоял в гуще таких же старых монолитных домов, построенных в восьмидесятые годы, и так и остался стоять на своем месте. Едва только открыв железную дверь с небольшим матовым стеклом, я сразу увидел это пианино. Я пришел вместе с другом, который должен был помочь мне вынести инструмент. Как и этот пенджабец, он был настройщиком. Он прошелся несколько раз по клавишам и, прицыкнув языком, сказал, что если мы хотим играть на пианино, то его придется несколько раз настраивать, перед тем как оно зазвучит по-настоящему. И спросил, нужна ли его помощь в этом.
Я пропустил его вопрос мимо ушей и довольно грубо попросил просто помочь вынести пианино. У меня было несколько причин отказаться от настройки, но в первую очередь это произошло из-за старика. Он сказал, что у него очень много воспоминаний связано с пианино, и я не знал, могу ли я распоряжаться инструментом как мне угодно, к тому же настройка оказалась дороже, чем я предполагал. Но что самое главное — я вообще не понимал, о чем говорил мой друг. Тогда еще я не знал, что значит «настроить пианино». Поэтому я просто сказал:
— На этом пианино никто не играл с тех пор, как уехала дочь владельца, поэтому все нормально. Просто помоги мне его вынести.
Он ответил, что я скоро пожалею о своем решении, и оказался прав.
Когда я опять пошел в больницу, чтобы вернуть ключи от дома, я случайно узнал, почему жена старика оставалась безучастной ко всему, что касалось этого инструмента. На этом пианино играла дочка старика от первого брака. После развода дочка, вероятно моя ровесница, вместе с матерью эмигрировала в США в поисках новой жизни. Отцу в память о ребенке осталось только пианино.
Когда я дошел до этого места в своих объяснениях, пенджабец кивнул головой, будто бы понял наконец, как это пианино «до такой» пришло. Конечно, я говорил долго, но еще ни словом не обмолвился о том, как это пианино привезли к нам домой, и, увидев, как он кивает в знак согласия, будто знает, о чем я говорю, я даже не удивился, а скорее просто удостоверился в том, что жена уже давно рассказала ему всю эту историю. И как-то неожиданно я начал задумываться: а как же она преподнесла ему все это? Понимает ли моя жена, почему я привез сюда пианино? А если понимает, то почему она так язвительно спросила меня тогда, зачем ей этот ни на что не годный инструмент?
Но было еще кое-что, о чем я не рассказал ни жене, ни этому пенджабцу. Это письмо, которое старик получил от своей дочки, эмигрировавшей в Америку. Письмо хранилось внутри стула, который я забрал вместе с пианино. Я перечитывал письмо много раз. Оно было написано спустя несколько лет после того, как дочка уехала из Кореи, ей должно было уже быть лет пятнадцать, но письмо было написано корявым детским почерком. Оно начиналось: «Папа, как твои дела?» — и заканчивалось словами: «Не волнуйся. Не болей, будь здоров. Anna». Было ясно, что ребенок перестал говорить по-корейски, как только приехал в Америку. Несмотря на это, старик наказал своей новой жене каждый день протирать пианино, чтобы оно было чистым и дочка смогла бы играть на нем, когда бы ни вернулась домой. И все это время до сих пор старик был здоров. Но, кажется, что и этот пенджабец, приехавший сегодня к нам домой, игравший на клавишах инструмента, и тот друг, с которым я приехал в дом старика, чтобы забрать пианино, — все они знали, что пианино все это время потихоньку умирало. И будто бы об этом же говорила дочка старика в своем письме, написанном корявым детским почерком, по которому и не скажешь, сколько на самом деле ей было лет.
Прошел один год, за ним пошел второй — пианино расстроилось, клавиши сломались. Даже если бы дочка вернулась и вновь стала играть на этом инструменте, старик уже не услышал бы мелодий ушедшего времени, так же как и не услышал бы он звуков корейской речи, которую дочка успела позабыть. Все меняется. Жена заявила мне, что не будет играть на этом инструменте, и полностью погрузилась в преподавание родного языка иностранным рабочим, которым он был необходим для существования в Корее. Когда я возвращался домой с работы, жена была на занятиях, где учила работников-иммигрантов простым предложениям на корейском языке: «В нашей семье шесть человек. Папа, мама, старший брат, старшая сестра, младшая сестра и я. Я люблю папу. Я люблю маму. Я люблю старшего брата. Я люблю старшую сестру. Я люблю младшую сестру». Однажды вечером я немножко побренчал на расстроенном пианино в совершенно пустом доме и решил еще раз позвонить в больницу. Телефон старика был отключен. Я хотел было оставить ему голосовое сообщение, но потом просто повесил трубку. Не такой это был важный вопрос, чтобы оставлять сообщение умирающему, а кто знает, может, уже и умершему старику. Я хотел спросить, верит ли он, что дочка стала бы играть на этом пианино, если бы вернулась в Корею. Узнать, действительно ли он в это верит.
Позвонила жена и сказала, что уже возвращается домой, но из-за снегопада образовалось много пробок, и домой она приедет позже, чем рассчитывала. Только тогда я вдруг понял, что на улице идет снег. Также с запозданием я понял и слова пенджабца: «Если не петь — не покупать», которые значили не то, что никто не купит расстроенное пианино, а то, что не стоит покупать пианино, если никто не будет на нем играть, потому что оно умрет без музыки. Пенджабец стал мне объяснять, что нет ничего невозможного в том, чтобы воскресить пианино, но для этого ему надо будет еще три-четыре раза приехать сюда, потратив час на дорогу, и заново настроить инструмент, но на этот раз я уже был далеко не так уверен, что правильно его понимаю. Жена очень просила, чтобы я не отпускал нашего гостя, пока она не вернется домой, а поскольку он уже закончил настраивать пианино, то мы просто сидели в гостиной и бездумно смотрели праздничный концерт по телевизору. Лицо пенджабца оставалось бесстрастным, даже когда на сцену вышли комики в костюмах морковки и огурца. Они шутили так, что зрители в зале заливались смехом и хлопали в ладоши. Я подумал, что и сам уже стал староват для подобного юмора, и эти комики меня не веселили, но пару раз я все-таки рассмеялся, сделав вид, что шутки оказались действительно стоящими. После короткого выступления комики ушли со сцены, а вместо них снова появились поп-звезды.
Я уменьшил звук телевизора, взял на кухне из холодильника две банки пива и протянул одну из них пенджабцу. Я не знал, можно ли сикхам пить, и более того, здравый смысл подсказывал мне, что скорее всего нет, но я нарочно несколько раз настойчиво протягивал ему банку, хотя он и пытался отказаться. Мне казалось, что если мы вместе немного захмелеем в эту последнюю ночь уходящего года, то гнетущая атмосфера несколько развеется. Наконец, не найдя другого выхода, Сатбир с обреченным выражением лица взял банку. Мы чокнулись и сделали по глотку. Не отнимая банку ото рта, я смотрел, как он проводит правой рукой по бороде. Потом я снова предложил чокнуться, и мы присосались к банкам. Докончив свое пиво, я вернулся к холодильнику и взял еще по банке. Я поставил перед ним одну и сказал, что мне чертовски интересно, о чем же они все-таки говорят, когда встречаются с моей женой. И пояснил, что, конечно, моя жена болтушка, дай только волю, но мне интересно, что он понимает из ее рассказов, учитывая, на каком уровне он знает корейский. А если он не понимает корейский, то что они делают во время своих частых и долгих встреч? Не то чтобы я их в чем-то подозревал, просто мне было очень любопытно.
Совершенно внезапно он произнес:
— Хечжин не говорит корейский. Хечжин говорит английский.
— Английский? С чего бы ей говорить на английском? — спросил я, не понимая, что он имеет в виду.
— Хечжин говорит английский. Я говорит корейский.
— Она же не знает английского.
— Я знаю английского. Друг друга учимся. Друг друга исправляем.
И тогда, кажется, я наконец понял, что за отношения были у жены со «скажем так, другом». Это не было что-то серьезное, чего я смутно опасался, а простые отношения двух людей, которые бесплатно помогают друг другу учить чужой язык. Он понемножку, как мог, говорил с моей женой на корейском, а она с таким же трудом отвечала ему на английском. Вот уж действительно, по-другому и не назовешь этого «скажем так, друга». У меня сразу полегчало на душе, я залпом допил свое пиво и поторопил пенджабца последовать моему примеру.
— И о чем Хечжин говорит на английском?
— Много разговоров. Погода, еда, музыка, книга рассказывает. «I like Zorba the Greek», — так рассказывает.
— Верно. Хечжин нравится книга «Грек Зорба»[13]. Ну а вы про что говорите?
— Я тоже говорю. Погода, еда, музыка, книга говорю. Я люблю Рахманинов.
— Я бы никогда не подумал, что вы умеете настраивать пианино и любите Рахманинова.
Ну да, неужели только это меня в нем и удивляет? Можно подумать, что все остальное для меня очевидно: что он из Пенджаба и исповедует сикхизм, что он живет в контейнере с двенадцатью другими пенджабцами, у которых наверняка такие же длиннющие неопрятные бороды.
— Хечжин практически не говорит по-английски, а вы — по-корейски. Поэтому вы, наверное, и не можете ничего больше сказать, кроме как «I like Zorba the Greek» или «Мне нравится Рахманинов». Вряд ли вы с ней можете делиться своими внутренними переживаниями. Правда же? А вы ведь хорошо знаете это выражение?! Можно сказать, это словечко Хечжин. Вы ведь часто слышали «Правда же»? Правда же?
— Да, часто слышал. Правда же?
Я успокоился и громко, от всей души рассмеялся. Стоило мне засмеяться, он тут же рассмеялся в ответ. Мы оба захохотали.
— О чем вы еще говорите? Хечжин и обо мне что-нибудь рассказывает? — спросил я, отсмеявшись.
— О вы что-нибудь не рассказывает. Смотрит на слон и говорит «однооко».
Я не понял, что он имел в виду, и начал переспрашивать:
— Слон? Одно око? В смысле, один глаз?
— Смотрит рисунок слон и говорит «один». «Одинокий». «Одиноко» говорит.
— А, одиноко. Про что она так говорит?
— Душа Хечжин одна.
Я совершенно не понимал, что он пытается мне сказать. То ли что моя жена чувствует себя одиноко, то ли что у нее одна душа. Тогда пенджабец отставил банку с пивом, попросил бумагу и карандаш и начал рисовать. Первым делом он нарисовал лес. Это был не какой-нибудь сосновый лес, к которому я привык, а что-то похожее на джунгли. А в лесу он нарисовал ребенка, лежащего с закрытыми глазами.
— Это был лес. Я был ребенок. Я был один. Я был спать.
После этого он изобразил капельки, которые стекали по щекам ребенка. Нарисованный мальчик начал плакать.
— Я проснулся. Я плакал.
Некоторое время я рассматривал ребенка на рисунке. Когда я оторвал взгляд и посмотрел на пенджабца, он снова принялся рисовать. Сначала он нарисовал длинный-предлинный хобот, потом уши — огромные, как банановые листья. Глаза, по сравнению с хоботом и ушами, оказались маленькими, зато впечатляли ноги, похожие на четыре колоны какого-нибудь древнего храма. Так рядом с плачущим ребенком, который только проснулся в лесу и обнаружил, что он совсем один, появился большущий слон. Когда были нарисованы и лес, и плачущий ребенок, и слон, пенджабец стер капельки слез со щек мальчика, а его глаза изобразил в виде двух полумесяцев. Ребенок смеялся. Я невольно ахнул и спросил:
— Вы и правда встретились так со слоном в детстве?
— Это слон. Очень большой слон. Я проснулся, плакал, и быть слон.
Я взял рисунок и впился в него глазами, как будто вживую смотрел на сцену из детства пенджабца, когда он, проснувшись один в лесу, вот так повстречал огромного слона. Все это время гость продолжал говорить:
— А Хечжин говорит английский. «Always I wanted a baby. I want to be the elephant like this. I am alone. I feel lonely». Хечжин английский хорошо не знает. Правильно. Я тоже корейский плохо говорить. Хечжин английский говорит, тогда я говорить корейский. Друг друга исправляем ошибки. Я всегда мечтать ребенка. Я мечтать стать этим слон. Я одна. Я…
А дальше он не смог подобрать слова. Он знал, что значит «lonely», но только не знал, как выразить это на корейском языке. Но как это все связано? Как это все связано? Я посмотрел на рисунок, где был изображен лес, которого в наших краях не увидишь, проснувшийся ото сна ребенок и слон с впечатляющими ногами, похожими на колонны храма. Я стал перебирать слова, которые могла бы сказать жена:
— Я одна. Мне одиноко. Или я никому не нужна. Или у меня никого нет. Или как собаки, которые молчат, когда идет снег, я чувствую…
Я закрыл глаза и тихо слушаю. Каждый раз, когда меняется сигнал светофора, слышно, как все машины одновременно срываются с места. Этот звук доносится до меня через равные промежутки времени сквозь щелочку в приоткрытом окне и напоминает звук морского прибоя. Потому что, когда я слушаю вот так вот спокойно с закрытыми глазами, мне всегда кажется, будто я стою один на берегу моря, которое уже много тысяч раз видело зиму и сейчас снова переживает еще одну. Если представить, что это самая последняя зима, которую увидит море, становится очень одиноко слушать звук его волн. А я стою и слушаю с закрытыми глазами. Была последняя ночь двенадцатого месяца года, прошедшего, как и многие годы до него. Под шум машин пенджабец, сидящий прямо передо мной, начал напевать какую-то песенку своей далекой страны, аккомпанируя себе на только что вернувшемся к жизни пианино, хотя оно все еще не было настроено должным образом. А я сижу с закрытыми глазами, как человек, не видящий ничего перед собой, и слушаю эту песню. За исключением того, что она про слона, я больше ничего о ней не знаю. Если передавать слово в слово, то песня, как сказал пенджабец, о «слон, ребенок». Поэтому я сижу с закрытыми глазами и думаю: «Слон, ребенок». Мной овладевают звуки песни чужой страны, и начинает болеть душа от мыслей про слона и ребенка, но поскольку кроме этого я больше ничего не могу узнать о песне, то отвлекаюсь на звучание пианино, которое до сих местами фальшивит, а потом я возвращаюсь к шуму машин на дороге. И так во всем мире уходит еще один год. Но, кажется, я должен подумать о своей жизни. Пока пенджабец не допел свою песню. Пока не вернулась жена. И пока, наконец, для всех нас не наступил новый год.
МНЕ НУЖЕН ОТДЫХ
В тот день после завершения рабочего дня, когда никого не осталось в читальных залах, служащие библиотеки собрались на третьем этаже в так называемом «Зале культуры», чтобы подготовить материалы к летнему лагерю юных читателей, который должен был открыться на следующий день. Каждый год в библиотеке на пять дней открывали летний читальный зал для пятиклассников районной школы, и после успешного окончания этого мероприятия работники библиотеки с легким сердцем по очереди отправлялись на летние каникулы. В этом году директор неожиданно объявил, что первыми в отпуск пойдут сотрудники, занимающие более низкие должности, из-за чего вокруг летнего отдыха поднялась небольшая шумиха. Трехэтажное здание библиотеки стояло на вершине холма. С южной стороны открывался вид на море. Всего в библиотеке было три читальных зала — общий, детский и интерактивный, где требовалось постоянное присутствие персонала на случай, если посетителям понадобится помощь. В библиотеке работало восемь человек: четыре библиотекаря, три сотрудника технического персонала и один управляющий директор. Двадцать восьмого июля заканчивался летний читальный лагерь для школьников, и после этого сотрудники по двое могли уходить в недельный отпуск. Теперь все разговоры были о том, что раз первыми будут отдыхать младшие сотрудники, то старшие смогут уйти в отпуск не раньше конца августа. И хотя им было важно, чтобы отпуск совпал со школьными каникулами детей, директор библиотеки не хотел принимать это в расчет. Поскольку дело приняло такой оборот, то старшие работники стали многозначительно поглядывать на коллег младше по должности с надеждой, что кто-нибудь из них добровольно вызовется перенести свой отпуск на более поздний срок. Однако те ничего толком не говорили, избегая темы отпуска. В итоге на амбразуру кинулась Чхве, занимавшая седьмой ранг и неплохо справлявшаяся со всеми внутренними делами в библиотеке. Она собрала всех молодых, еще несемейных сотрудников десятого ранга, таких как мисс Канг, и попыталась урезонить их в вопросе отпусков. Однако у Чхве была настолько агрессивная манера говорить, что все заметно помрачнели еще до того, как она закончила свои наставления.
Когда сотрудники пошли ужинать в ближайший ресторанчик, разговор за столом никак не клеился: по двое-трое коллеги обсуждали какую-то ерунду, но чувствовалось общее напряжение. Вероятно, эта неуютная атмосфера за ужином поспособствовала тому, что, вернувшись обратно в библиотеку, все вдруг стали обсуждать новость, что на пляже в десяти минутах езды от города рядом с одним из туристических центров нашли тело старика, постоянного посетителя библиотеки, вызывавшего неугасаемый интерес у всех работников. Разговор об этом услышала и мисс Канг, разбиравшая во внутреннем помещении материалы о детских книгах и журналах для открывающегося на следующий день летнего лагеря. Она стояла с побледневшим лицом и медленно скрепляла степлером материалы, разделяя по три листочка какие-то распечатки, вылезавшие из принтера. Канг слышала разговоры про этого старика с самого первого дня своей работы в библиотеке. Он был здесь чем-то вроде легенды. Впервые этот пожилой человек зашел в библиотеку лет десять тому назад. Тогда библиотека еще не была оснащена техникой, способной проставлять и считывать штрихкоды, поэтому все делалось вручную по системе бумажных карточек. Посетители искали в картотеке имена авторов и названия произведений, расположенные в алфавитном порядке, переписывали номер карточки на бланк заявки и отдавали его библиотекарю, который находил и выдавал нужную книгу. С каких-то пор этот старик стал сдавать заявки с самого утра раньше всех остальных читателей. Хотя в то время его еще нельзя было назвать стариком, несмотря на раннюю седину. Так или иначе, сотрудники библиотеки стали выделять его из толпы. Он приходил каждый день, когда работала библиотека, и читал. А сотрудники все время делились друг с другом сплетнями о том, какие книги он заказывает. В основном он выбирал книги под трехсотыми или девятисотыми номерами. В библиотечной системе под трехсотыми номерами шли книги по социологии, а под девятисотыми — по истории.
Когда он только начал регулярно приходить в библиотеку, один из сотрудников сказал, что видел его как-то по телевизору и будто бы узнал в нем бывшего профессора университета Корё, который однажды вдруг заявил, что горько разочаровался в действительности, и уволился. Несколько лет назад эта новость была у всех на устах в городе. Но кто-то нашел книгу того бывшего профессора, и после тщательного сравнения фотографии профессора в книге с человеком, сидящим в читальном зале, все сошлись во мнении, что общего у них только короткие волосы. Но по-прежнему никто не сомневался, что это все равно профессор или ученый, вернувшийся из Сеула в свой родной город. Подробности узнать было невозможно, но все думали, что он тоже уволился из университета, как тот профессор из Корё, но, например, по политическим соображениям, и приехал на море, чтобы в этой тихой библиотеке написать свое исследование. Но и это предположение не оправдало себя. Прошел год, потом еще один, а старик все не собирался возвращаться в Сеул и продолжал приходить в читальный зал. Думали, что, вероятно, он не мог вернуться в столицу, пока страной правил Ро Дэ У[14], но, даже когда на посту президента сменили друг друга Ким Ён Сам[15] и Ким Дэ Чжун[16], мужчина продолжал каждое утро приходить в библиотеку и читать книги под трехсотыми и девятисотыми номерами. А потом постепенно наладился контакт между работниками библиотеки и их постоянным читателем, который даже стал понемногу рассказывать о себе. Тогда-то и выяснилось, почему он на самом деле приходил читать в библиотеку.
Когда сотрудники библиотеки поделились друг с другом всем, что рассказывал им старик, выяснилось, что никакой он не ученый и не профессор. А был он бывшим детективом. И привычка коротко стричься осталась у него с тех самых пор. До сорока пяти лет он работал в полиции и приехал в провинцию Чоллан-до по долгу службы. В погоне за преступником он добрался до острова Синчжи-до в области Вандо-гун, а закончилось все тем, что детектив оказался один на необитаемом острове. Это случилось, когда, притворившись рыбаком, он поехал на катере вместе с другими любителями рыбной ловли на дикий остров рядом с Синчжи-до. Убедившись, что преступника, которого он искал, в компании нет, он расслабился и стал пить соджу[17] вместе с остальными рыбаками. Потом он отошел по нужде за большой валун на берегу. Справив дело, детектив присел на камень и стал смотреть на прилив, любуясь волнами, набегавшими на берег и откатывавшимися обратно в море. Незаметно для себя он провалился в сон, а когда открыл глаза, на небе уже мерцали бесчисленные звезды. Он встал, потянулся, огляделся и понял, что все еще стоит у вчерашнего камня и смотрит на вчерашнее море, а все вчерашние рыбаки напились, сели на катер вместе с таким же пьяным капитаном и уехали обратно на Синчжи-до. Детектив провел на острове два дня в полном одиночестве. Есть было нечего, а пить приходилось затхлую воду из лужи. Два дня он думал о том, что смерти он ничуть не боится, но все-таки он добрался аж до этого маленького островка совсем не затем, чтобы вот так умереть. Больше всего его огорчало, что он всю жизнь старался жить правильно и честно, а умереть ему придется на острове, где даже некому поведать о своей праведной жизни. Через два дня капитан рыболовецкого катера наконец отошел от беспробудного пьянства и у него закрались смутные подозрения, что где-то он напортачил. Вернувшись на остров, он нашел там забытого пассажира, однако это уже не был прежний детектив. Вернувшись на остров Синчжи-до и оттуда переправившись на Вандо, старик отправил письмо в отделение полиции, где работал, и сообщил, что увольняется по личным обстоятельствам. Затем он позвонил коллеге, с которым был на короткой ноге, и попросил того забрать его выходное пособие и передать половину суммы семье, а оставшуюся часть перевести на личный счет бывшего детектива. К счастью, в силу специфики его работы у него было достаточно левых доходов, о которых семья не имела ни малейшего представления. На эти сбережения он объездил один за другим города на южном побережье полуострова, а когда на его счет перечислили половину выходного пособия, обосновался в этом городе. В первую очередь он снял себе небольшой домик с видом на море в десяти минутах ходьбы от библиотеки. Затем открыл счет в банке на чужое имя по поддельным документам и перевел на него все оставшиеся деньги. Первый месяц стал для него своего рода экспериментом. Он бросил пить и курить, ел всего два раза в день — утром и вечером, при этом мясо позволял себе только раз в неделю. Он стал ложиться в девять, просыпаться в четыре утра и делать зарядку в парке перед библиотекой. Через месяц он посчитал, сколько у него ушло денег, и поделил весь оставшийся капитал на эту сумму. Оказалось, что сбережений ему хватит как минимум лет на десять подобной жизни. А учитывая проценты, которые банк ему будет ежемесячно начислять, денег может хватить и на дольше. Этого времени вполне должно было хватить на то, чтобы осуществить все задуманное. Завершив все свои подсчеты, бывший детектив начал ежедневно приходить в читальный зал библиотеки.
Как только речь зашла об этом старике, покончившем с собой, все сотрудники библиотеки забыли о переживаниях по поводу отпуска и стали наперебой делиться домыслами, связанными с этим человеком. Даже Чхве, отбросив мысли о том, что, если она пустит все на самотек, ей предстоит уйти в отпуск только в конце августа, похвасталась перед сидящими в комнате коллегами, как давно она начала помогать старику в поиске книг, заодно напомнив всем присутствующим, чего она успела достичь за это время. Первый раз старик пришел в библиотеку спустя примерно год после того, как Чхве начала здесь работать. Однажды он подошел к ней, когда она, как всегда, была занята какими-то библиотечными делами, и отвлек ее просьбой:
— Я хочу прочитать древнейшую в мире историю.
Чхве задумалась:
— Хм, может, это Библия? Или буддийские сутры? А может быть, мифы Древней Греции? Басни Эзопа? Да я и сама не знаю, что считается самой древней историей.
— Нет, вы не поняли, я хочу взять книгу «Древнейшая в мире история».
— А, ну вы знаете, мне нужен код книжки. Сейчас я посмотрю и скажу вам.
Он тут же протянул бланк заявки, в котором было написано имя автора, название «Древнейшая в мире история», номер 388.3 — к57с. Тоже книга под одним из трехсотых номеров. Обычаи, фольклор.
Совершенно растерявшись, Чхве спросила:
— А чем вас заинтересовала эта книга?
— Хочу посмотреть, есть ли там что-нибудь о том, как воскресить умершего.
Эта история Чхве разрядила обстановку. Все коллеги, столпившиеся вокруг нее, наконец-то смогли от души посмеяться, забыв о прежнем накале страстей. Все, кроме младшей сотрудницы Канг. Чтобы поддержать разговор, Пак, имевший восьмой ранг, поделился своими сомнениями, на самом ли деле старик совершил самоубийство, потому что это вполне могло быть и замаскированное убийство. Тут все стали строить предположения, кто во что горазд. Может быть, один из преступников, которого поймал бывший детектив, за свое примерное поведение в тюрьме в течение последних десяти лет был досрочно освобожден и, чтобы отомстить старику, приехал сюда и утопил несчастного? А может быть, последние десять лет бывший детектив сидел в библиотеке и расследовал дела, связанные с коррупцией в полиции, и, узнав о том, что он собирается обнародовать все, что накопал, высшие посты решили заставить его замолчать навсегда в морской пучине? А может быть, по его вине арестовали и казнили человека, который в итоге оказался невиновным, и, прожив десять лет с этим грузом на душе, старик наконец не выдержал и решил покончить с собой? Самую реалистичную версию выдвинул Пак, настаивавший на том, что проценты, которые старику начисляли на его счет, и все его ранние сбережения подошли к концу, вот и он сам решил, что лучше отдать концы в море, чем умереть от голода.
И тут Канг, которая не участвовала в общей беседе, а, погрузившись в свои мысли, не переставая мяла в руках распечатанные листы, вдруг начала всхлипывать. Все растерялись от неожиданности.
— Эй, ты чего? Плачешь что ли? Что случилось? — довольно резко окликнула ее Чхве. Едва только увидев раскисшую физиономию Канг, та сразу вспомнила о проблеме отпусков и сама тут же пала духом.
Канг вытерла слезы и ничего не ответила, только сидела, шмыгая носом. Ее лицо с черными следами растекшейся туши стало некрасивым от смазанной косметики. Только что разрядившаяся обстановка снова стала накаляться из-за молчаливого противоборства двух женщин.
— Ну, чего разревелась? Скажи хоть, что случилось. Обидел тебя кто? — снова стала приставать Чхве, задавливая девушку вопросами и ледяным тоном.
— Мне нужно немного передохнуть. Просто отдохнуть, — ответила Канг дрожащим голосом. Слезы снова покатились у нее из глаз, она вскочила с места и выбежала из комнаты. Чхве открыла рот и уже не умолкала ни на минуту. Отдохнуть! Подумать только! О май гат! Ей нужен чертов отпуск летом!
На следующий день в библиотеку пришел мужчина, назвавшийся сыном покойного старика. Узнав, что на южном побережье нашли тело его отца, который бросил семью и больше десяти лет скрывался неизвестно где, он посомневался некоторое время, но решил-таки приехать в этот город с одной лишь целью — уладить все необходимые формальности и разобраться с вещами покойного. Изначально у него даже и мысли не было попытаться узнать что-либо об отце, так трусливо сбежавшем от них с матерью. Но, пробыв в доме старика почти сутки, он изменил свое решение. Отчасти из-за того, что соседи рассказали ему, что тот каждый день проводил в библиотеке за чтением книг, за исключением, конечно, праздников, когда библиотека была закрыта. А отчасти из-за свитера, который сын нашел в доме покойного.
Домик стоял на небольшом возвышении в закоулке и гармонично вписывался в этот район трущоб, оставшихся еще со времен гражданской войны, когда все эти домики построили на скорую руку, чтобы временно разместить беженцев с севера. Со временем все дома перестроили, крыши покрыли черепицей, железом или оцинкованными пластинами, и только дом в самом тупике остался таким, каким был с самого начала. Сын покойного поднялся по лестнице, залатанной многочисленными цементными заплатами, открыл железную дверь, с которой уже местами сошла синяя краска, и вошел во внутренний дворик старого дома. Совершенно неожиданно он обнаружил, что на этом пятачке, залитом цементом, нашлось место для маленькой лужайки, где вдоль низенькой оградки росли подсолнухи, бананы и декоративные растения. Он сел на грубые доски крыльца под синей жестяной крышей и посмотрел за ограду. Вдалеке между островами было видно море. Интересно, будет ли видно это красивое море из окна дома?
В комнате, где раньше жил старик, было практически пусто: маленький стол у окна, из которого действительно открывался чудесный вид, подушка, чтобы сидеть на полу, аккуратно сложенный матрас, спальные принадлежности и одна-единственная спортивная сумка с вещами. Мягко говоря, комната аскета. Комната выглядела так, что можно было подумать, будто хозяин собрался переночевать здесь в последний раз и куда-то уехать наутро. На гвозде, вбитом в стену, висел коричневый свитер. Это был старый, потрепанный свитер с вытянутыми рукавами и растянутыми манжетами. Несложно было догадаться, сколько всего повидал этот обычный свитер, какие часто носили в деревнях годах в девяностых. До этой поездки сын думал, что смог забыть отца так же, как и тот смог бросить семью. Но теперь он понял, что на самом деле невозможно вычеркнуть отца из своей жизни. И этот болтающийся на гвозде свитер, который он нашел в комнате покойного в городе всего лишь в пяти часах езды на машине от того места, где они жили с матерью, всколыхнул в нем много горьких чувств. Гордиться своим отцом он не мог. И он никогда не пытался понять, что двигало стариком, когда тот бросил семью и сбежал в этот город. Но, проведя целую ночь, упершись взглядом в поношенный коричневый свитер, висевший на гвозде, сын вдруг захотел узнать, чем занимался прошедшее десятилетие отец, от которого осталась всего одна сумка с вещами.
Узнав от соседей, что отец почти все время проводил в читальном зале, сын решил зайти в библиотеку. Однако как раз на этот день пришлось открытие летнего читального лагеря, и у сотрудников не было ни минутки, чтобы поговорить с мужчиной. В придачу Канг, которая никак не могла согласиться на какой-нибудь разумный компромисс по поводу отпуска, еще и не вышла на работу в тот день, так что в библиотеке и вовсе не хватало рук. Чхве с самого утра была не в духе из-за выкрутасов Канг и на все расспросы по поводу покойного сказала только, что он каждый день приходил в библиотеку, а больше ей сказать нечего. Все время, что она разговаривала с сыном старика, было слышно, как галдят и носятся по всему залу дети на третьем этаже. Чхве повторила, что не знает, почему бывший детектив ежедневно приходил в библиотеку, что и зачем записывал себе в блокнот. Затем она сняла трубку, позвонила на третий этаж и стала довольно резко отчитывать Пака за то, что тот не в состоянии утихомирить детей и вообще не следит за ними. Единственное, что Чхве смогла сказать сыну покойного наверняка, это то, что тот брал книгу «Древнейшая в мире история». А потом Чхве сама начала расспрашивать мужчину об его отце. Тот без особого смущения рассказал про жизнь родителя, и, как раз когда он закончил говорить, раздался звонок от Канг. Она сообщила, что плохо себя чувствует, берет отгул и в этот день вообще не выйдет на работу. Это стало последней каплей, от которой Чхве взорвалась.
Мужчина посмотрел, как Чхве с красным лицом кричала в телефонную трубку, встал и тихо вышел за дверь. Он прошел в общий читальный зал, подошел к круглому столу, который упомянула Чхве, и внимательно осмотрел стулья вокруг, как будто надеялся найти следы отца. Красноватые деревянные стулья, на которых отец сидел каждый день с девяти утра до шести вечера, были сделаны добротно. Мужчина сел на один из них и бездумно уставился на книжные полки. Он постучал пальцами по столу, повернулся и стал глядеть в окно, любуясь пейзажем. Через некоторое время он поднялся и пошел к книжным полкам: сначала к трехсотым номерам, а затем пересек зал по неширокому проходу между стульями и пробежал глазами книги с девятисотыми номерами. Книг было столько, что даже за десять лет ежедневного чтения их было все не осилить. Было бы у него столько времени, он стал бы читать книги по литературе, которые шли под восьмисотыми номерами. Но даже через десять лет вряд ли он смог бы похвастаться, что прочитал их все. Да и вообще неизвестно, читал ли на самом деле отец все эти книги, пока сидел за круглым столом. На этой мысли мужчина понял, что больше он уже ничего здесь не узнает про покойного, и вышел из библиотеки.
Вечером, когда сотрудники расходились после рабочего дня, Чхве предложила всем желающим пойти в пивную через дорогу, послушать очень интересную историю, которую она узнала утром от сына бывшего детектива. Работники библиотеки, трудившиеся накануне допоздна, чтобы успеть подготовить летний лагерь для детей, не хотели ни пива, ни историй, но, зная, что Чхве весь день злилась из-за Канг с ее нервным срывом и отгулом после этого, коллеги решили принять удар на себя и скрепя сердце пошли все вместе пить пиво. Как только все расселись, Чхве начала пересказывать историю, услышанную утром от сына покойного, который не знал, где и чем занимался его отец последние десять лет. Однако история оказалась такой длинной, что конца затянувшимся посиделкам не предвиделось. Черт бы побрал этот летний отпуск!
Итак, старик исчез из дома, когда его сын учился во втором классе старшей школы. Это случилось утром обычного дня, ничем не отличавшегося от других дней того года. Отец позавтракал, читая газету за столом, надел новый коричневый свитер, который подарила ему жена, и вышел за дверь. К вечеру, когда из низких облаков начал накрапывать осенний дождь, он так и не вернулся домой. Только ранним утром следующего дня отец позвонил домой и объяснил жене, вскочившей с кровати, что по работе ему внезапно пришлось уехать на несколько дней. Женщина начала переживать, что он уехал даже без сменного белья, но не подумала спросить, куда и на сколько он поехал. Пока его не перевели в отдел внутренней безопасности главного провинциального полицейского управления несколько лет назад, он довольно часто срывался в такие неожиданные командировки, поэтому она не стала беспокоиться, зная, что муж всегда звонит из поездок. Конечно, их разговоры не отличались замысловатостью: «Дома все в порядке? Все в порядке. У меня все хорошо. Следи за собой, кушай хорошо». Но в этот раз он не звонил. Вместо этого, наоборот, несколько раз ему пытался дозвониться человек, представившийся журналистом. Через четыре дня женщиной овладело нехорошее предчувствие. Она позвонила в участок на работу мужу.
Трубку передавали от одного сотрудника другому, потом наконец какой-то мужчина сказал, что она ошиблась номером и человек с таким именем здесь не работает. Несчастная женщина была ошеломлена. Она решила, что, вероятно, мужчина, с которым она разговаривала, просто не знает ее мужа и что они на самом деле работают вместе. Отчасти она была права, но только отчасти. Ее муж действительно работал в главном управлении, но, в отсутствие начальника антикоммунистического отдела, всё подразделение ее мужа было переведено в другое здание. Она позвонила еще по нескольким номерам и, когда после всех формальностей установили ее личность, с большим трудом получила, наконец, телефон торговой фирмы «Янгчжон». Эта фиктивная фирма была настоящим местом работы ее мужа. Когда она дозвонилась туда, ей ответил непосредственный начальник мужа Ким Сан Му, он не назвал ни чина, ни звания, а сказал только, что является начальником отдела.
Ким Сан Му сказал, что ее муж без каких-либо объяснений уже целую неделю не выходит на работу, все беспокоятся по этому поводу, и если прогулы будут продолжаться, то не избежать административных наказаний со стороны кадровиков. Интуиция подсказывала женщине, что муж попал в какую-то серьезную передрягу. Она высказала встречное недовольство, что никто из сотрудников не позвонил ему домой, раз уж все так волнуются. Ким Сан Му ответил, что это специфика их работы, и ледяным тоном напомнил, что они работают в особом отделе. Его слова множеством мелких насекомых заползли ей в ухо и мурашками разбежались по всему телу. По голосу начальника женщина поняла, что дурное предчувствие не обманывало ее. Она также догадывалась, что вместо сотрудников фиктивной торговой фирмы скорее проявят себя журналисты.
На следующий день Ким Сан Му зашел в полуподвальное кафе в закоулке на рынке в районе Ёндынгпхо, опоздав на встречу часа на два. Он выглядел лет на десять младше ее мужа. Вероятно, он только-только разменял пятый десяток, но на висках уже была заметна седина. Ким Сан Му скупо разъяснил, что из-за набирающих обороты студенческих демонстраций работы стало невпроворот, поэтому он с трудом выкроил время для встречи. Он спросил у женщины, не замечала ли та в последнее время что-нибудь необычное или странное в поведении мужа. На что она сказала, что понятия не имеет, как связана их фирма со студенческими демонстрациями, и, может, они, конечно, торгуют слезоточивым газом для разгона митингующих, но с тех пор, как ее муж стал работать в этой фирме, его поведение действительно изменилось. Ким Сан Му сразу отметил, что именно от этого все проблемы: ее муж не справлялся с работой, и теперь вся организация находится в кризисном положении, а виновник случившегося, похоже, решил сбежать, чтобы не нести ответственность. Хотя женщина и спросила, что такого натворил ее муж, Ким Сан Му ничего не ответил, состроил бульдожью гримасу, а потом начал медленно ей втолковывать:
— Уважаемая, в этом мире есть три типа мух. Обычные грязные мусорные мухи, еще более поганые мухи, которые летают вокруг дерьма, но среди всех самые отвратительные — это журналисты, которые ничем не брезгуют. И сейчас они все высунулись и слетаются к тому дерьмецу, что оставил ваш муж. Если столкнетесь с ними, постарайтесь, как можете, избегать общения, чтобы самой не вляпаться. А ваш муж скоро вернется, ну а если нет… — Ким Ман Су не договорил.
Женщина пристально смотрела на него, понимая, что именно от его слов зависит судьба супруга.
— Думаю, мы друг друга поняли, так что ступайте домой. Если кто-нибудь пронюхает, что высокопоставленный начальник исчез и не появляется на работе, то эти гады тут же все слетятся и начнут рыть глубже. Подумайте, вы же не хотите этого. Так что, если журналисты будут спрашивать, куда подевался ваш муж, скажите, что он стал ходить налево и вы выставили его за дверь. Как было бы хорошо, если бы это действительно было так. Скорее бы уже все кончилось.
Она не знала, во что вляпался муж, но, как и предсказывал Ким Сан Му, только она вернулась домой, журналисты стали звонить без перебоя и интересоваться ее супругом. Женщина упорно отмалчивалась, а журналисты все наседали: «Скрывая все от нас, вы делу не поможете. Мы прекрасно знаем, что ваш муж не работает ни в какой фирме „Янгчжон“. Вы же видите, страну лихорадит. Пока они его еще покрывают, но если что, на вашего муженька все и повесят, пока он где-то пропадает. У вас дома телевизора, что ли, нет? Не слышали, что студента убили? Если вы скажете, где муж, мы сможем его защитить. Сами подумайте. Да какие измены?! Что вы говорите? С кем это? Ким Сан Му? Кто это? Ой, да вы смерти, что ли, своему мужу желаете? Совсем с ума сошли?»
Она наконец разобралась, о каком дерьме говорил Ким Сан Му и журналисты, поэтому просто выключила телевизор, выдернула телефон из розетки и никому не открывала дверь. Отрезанная от внешнего мира, она не знала про студентку, которую запытали до смерти в полиции, про расследование этого дела, когда о нем стало известно общественности, о докладе специального отдела, созванного для расследования этого дела, и что в нем заявлялось, будто бы к преступлению причастен один-единственный полицейский, скрывшийся в неизвестном направлении и объявленный в розыск. Не знала она и о том, что доклад не вызвал доверия у граждан. Ей не было до всего этого дела. По ночам она думала только о том, какого цвета был свитер, в котором ушел муж. Она никак не могла вспомнить цвет. Это был настолько непримечательный свитер, что, отойди ее муж на десять шагов, она уже не смогла бы сказать, во что он был одет. Она переживала, как он будет ходить в этом тонком свитере, когда наступит зима, которая уже не за горами. И в итоге, совсем потеряв покой от мыслей о приближающихся холодах, она, недолго думая, позвонила Ким Сан Му. После многократных звонков ее наконец соединили, но она даже слова не успела сказать, как бывший начальник ее мужа сообщил, что тот прислал на работу заявление об увольнении, которое уже подписали, и что смысла звонить в отдел больше нет. Она начала была что-то кричать в ответ, но Ким Сан Му раздраженно перебил ее.
Когда Чхве дошла до этого места в рассказе, раздался звонок ее телефона. Она нажала кнопку ответа, но все же закончила историю репликой Ким Сан Му. Коллеги за столом засмеялись. Тем временем Чхве поднесла телефон к уху, но там уже повесили трубку. Она посмотрела, что звонила Канг. Издевательство какое-то! Чхве, у которой сразу испортилось настроение, перезвонила обратно, но Канг не взяла трубку.
Утро того дня. Канг проснулась и, только открыв глаза, поняла, что у нее нет ни сил, ни желания идти в библиотеку, тогда она снова натянула на себя одеяло, а ближе к полудню позвонила и сказала, что не выйдет на работу. Так что она упустила возможность узнать историю старика, которую поведал его сын. Разговор с Чхве был настолько ужасен, что даже не хотелось вспоминать об этом. Она прекрасно понимала, что подвела всех, не выйдя на работу в первый день летнего лагеря, когда и так не хватает рук. «Но все равно, разве можно так разговаривать с работником, который звонит сказать, что заболел? Говорите, всегда думаю только о себе и подставляю своих же друзей на работе? Ладно. Говорите, толку от меня никакого — одни неприятности? Допустим. Но вот интересно, что подвигло вас сказать девушке, которая до сих пор не замужем, что она вертихвостка и кокетничает с любым мужиком, которого видит? Вот уж не знаю, о чем вы думали, но ведь понятно, что злитесь вы из-за летнего отпуска. О нем бы и говорили! Если б я знала, что все так повернется, то пошла бы в библиотеку, даже если б при смерти была», — думала Канг, которой стало только хуже после того, как она попросила себе один день отгула. Зря только позвонила. Она лежала в полном одиночестве, укутавшись в одеяло, и плакала. Так она провалялась весь день: то засыпала, то просыпалась, снова начинала плакать и проваливалась в сон. Ближе к вечеру она встала, несмотря на слабость и ломоту во всем теле, и приготовила себе поесть. От горячей пищи вернулись силы и сразу стало казаться, что Чхве не такой уж плохой человек, и если ей рассказать все как есть, то она обязательно поймет, почему накануне Канг не смогла сдержаться и в слезах выбежала из комнаты и почему сегодня ей так плохо, что она даже не смогла выйти на работу. Канг нашла номер Чхве и нажала кнопку вызова на мобильнике. Послышались гудки.
Все было на ней. Начиная от внедрения новой системы нумерации и, конечно, все, что касалось выдачи и приема, а также возврата просроченных книг. Она же составляла списки заказов читателей и ожидающихся поступлений, которые потом вывешивала на доске объявлений. За все дела в общем читальном зале тоже отвечала Канг. Когда она шла работать в библиотеку, то думала, что у нее там будет время попить кофе или почитать какую-нибудь интересную книгу, как, скажем, у Чхве. Она никак не предполагала, что в действительности ей будет не отойти от своего рабочего места, где она встречает посетителей, выдает книги и повторяет как попугай: «Срок возвращения книги — шестое число следующего месяца». Что же касается расстановки книг обратно на места, то те немногочисленные книги, которые оставляли в специальной коробке при выходе, можно было со спокойной душой быстро поставить на полки следующим утром. Однако все те книги, которые бросали тут и там по всему читальному залу, и те, которые возвращали ей ближе к закрытию, просто выводили ее из себя, и ей хотелось побыстрее расставить все, чтобы закончить работу. Зачастую, особенно в те дни, когда вечером у нее была какая-нибудь встреча, она расставляла книги только по номеру секции, не разбирая их по порядку внутри общего номера. Более аккуратные библиотекари тоже редко расставляли книги по порядковому номеру вплоть до последней цифры, но все-таки они расставляли книги в алфавитном порядке хотя бы до второй буквы в фамилии автора и расставляли тома в нужном порядке. Однако Канг игнорировала алфавитный порядок и просто ставила книги в секцию по первой цифре номера. Конечно, обычные читатели ничего в этом не понимали и не замечали таких тонкостей, но любой человек, хоть сколько-нибудь знакомый с работой библиотеки, увидев этот бардак, просто ужаснулся бы.
И именно он, этот старик, первый обратил внимание на хаос, царивший на полках. Хотя он ничего и не понимал в системе номеров, он прекрасно помнил место каждой книги в библиотеке. И более того, он знал, что накануне праздничных дней персонал библиотеки оставался после окончания рабочего дня, чтобы разобрать книги и расставить их по своим местам. В тот день Канг, тихо скуля себе под нос, допоздна разбирала весь этот бедлам на полках, и, наверное, если бы не старик, она проковырялась бы до утра. Он расставлял книги по местам исключительно по памяти, но, когда Канг сверяла номера, оказывалось, что все книги действительно стоят на своем месте. Восхищению девушки не было предела. И пока они вдвоем расставляли книги на полки, у них было время вдоволь поговорить. Сначала разговор шел о книгах. Оказалось, что старик обладал талантом переживать все события, описанные в книгах, так, будто он сам был им свидетелем. Сотрудники библиотеки думали, что он читает только книги под трехсотыми и девятисотыми номерами, но на самом деле он также часто читал книги по литературе под восьмисотыми номерами, по искусству — шестисотые номера, конечно же, книги по философии — сотые номера и даже техническую литературу под пятисотыми номерами. Поэтому он, как драгоценными камнями, сыпал интересными фактами, почерпнутыми из книг по литературе, искусству, философии, рассказывал о мировых научных открытиях.
— Я бы тоже хотела, как вы, весь день только и делать, что читать. Здорово вот так жить! — сказала Канг, когда они вместе со стариком выходили из библиотеки, наконец расставив все книги по местам.
Он грустно усмехнулся в ответ:
— Верно. Я десять лет только тем и занимаюсь, что ежедневно читаю. Кажется, я перечитал уже все книги в вашей библиотеке. Пора завязывать с этим. Но вот что странно: сначала все было по-другому, но теперь чем больше я читаю, тем несчастнее становлюсь. Уж лучше бы и не начинал никогда.
— Я не понимаю, почему вы несчастны. Целый день читаете себе в удовольствие, не беспокоитесь ни о деньгах, ни о семье.
— Ха-ха. Это длинная история. Может, зайдем куда-нибудь выпьем пива и я вам расскажу все по порядку?
Они сели в такси и поехали в бар при отеле, находящемся в туристической зоне, в десяти минутах от библиотеки. Они расположились в зале, по которому разносилась фортепианная музыка, и смотрели на ночное море, на черные волны, бежавшие по черной воде. Они снова начали говорить о книгах, которые произвели глубокое впечатление на них, а на столе тем временем множились бутылки. Потихоньку темы иссякали, а старик все чаще смотрел на плескавшиеся внизу черные волны. Глядя на ночное море, он подумал, что был бы рад, если бы некоторых событий в его жизни не было. Тогда он открыл рот и стал медленно рассказывать Канг истории из своей прошлой жизни, когда он служил в полиции. «Сейчас, конечно, многое изменилось, но, когда я работал в отделе криминальных преступлений в семидесятые и восьмидесятые годы, считалось, что зачастую последним, что видит жертва убийства, оказывается лицо близкого, хорошо знакомого человека; и что на теле жертвы не остается почти никаких ран, если преступник изначально сильнее, но в противном случае, когда жертва сильнее преступника, убийство оказывается крайне жестоким, потому что убийца не уверен в своих силах и перестраховывается. Вот удушение, например, обычно говорит о том, что преступник был сильнее жертвы». Из монолога старика Канг узнала для себя много нового. А рассказывая про удушение, он даже для наглядности схватил девушку обеими руками за шею. Но Канг, уже немного захмелев к тому времени, не стала даже сопротивляться или выказывать недовольство.
Старик все никак не мог забыть один случай, который произошел, когда он работал следователем, и все, что он видел тогда, по-прежнему стояло у него перед глазами. Он даже признался, что именно из-за этого происшествия за два дня, что он провел на безлюдном острове около Синчжи-до, он все-таки решился уйти из полиции и провести оставшееся время в библиотеке за чтением книг. Он никак не мог забыть взгляд одного человека. Ни до, ни после этого он никогда не видел, чтобы люди так смотрели. И как этот образ навсегда остался в нем, точно так же и он сам навсегда отпечатался на сетчатке глаз того человека, который унес его с собой в могилу.
— И кто же на вас так посмотрел? — спросила Канг.
На некоторое время старик застыл в оцепенении на соседнем стуле, не выпуская ее руку из своей.
— Это был студент.
— Студент или хорошенькая студентка?
Он не ответил, и Канг слегка толкнула его локтем в грудь:
— Я угадала?! И вы влюбились в эту студентку, бросили семью и приехали сюда. И что с ней стало? Она умерла?
— Чтобы забыть тот взгляд, я начал читать. Ходил в библиотеку и сидел там весь день. Сначала я даже думал собрать материал и написать книгу о настоящей истории нашей страны, показать истинные ценности, рассказать о людях, которые проливали кровь и пот, чтобы отстоять независимость страны. Мне казалось, что все сложилось неправильно и нынешняя молодежь, не зная, как нашей стране удалось выстоять и достичь такого развития, окружила себя какими-то ложными идеалами и ценностями. Но у меня ничего толком не получилось.
— Несмотря на то что вы хотели забыть ее взгляд, вы все равно помнили ее. Вам надо было роман писать, с чего вдруг вы решили писать книгу по истории?
— Так получилось. С чего вдруг… С чего вдруг я стал последним человеком, которого видели эти глаза? Я до сих пор мучаюсь от этого. И ведь я увидел ее тогда впервые в жизни.
Старик вздохнул. Он собирался, находясь в бегах, написать книгу, оправдывающую его действия, и сдаться полиции, но через год заточения в библиотеке его попытки так и не увенчались успехом. Впереди у него было много времени, и он решил, что если захочет, то сможет перечитать все книги, которыми заставлены полки вокруг. В книгах рассказывалось про разных людей и их судьбы. И каждый раз, когда в их жизни случались какие-нибудь неурядицы, внутри них начинали бурлить самые разные чувства, и именно внутренняя энергия и душевные порывы в итоге выносили героев на новый, совершенно неожиданный поворот жизни. Но поддерживали себя эти люди очень простыми идеями: «У меня есть мечта» или «У нас есть право на счастливую жизнь» и так далее. Такую простую правду он почерпнул из книг по истории, науке, философии, которые в случайном порядке читал все эти годы. А до этого он попросту не задумывался над такими вещами. И каждый раз он непременно вспоминал глаза той студентки. В них он тоже видел мечты и право на счастливую жизнь. Он был прав. И это он знал не из книг.
Постепенно он стал понимать, что с тех пор, как он перешел работать в антикоммунистический отдел, он пошел по ложному пути. За год его жизнь превратилось в постоянное страдание, которое он пытался заглушить чтением. Он читал книги одну за другой, все больше и больше книг. Но чем больше он читал, тем сильнее начинал страдать. Ни в одной из этих книг мертвые не воскресали, а старики не становились снова молодыми. Как ни странно, жизнь всем давалась только один раз и прожитое мгновенье не повторялось, — так говорилось во всех книгах в библиотеке. Когда он осознавал, что не сможет забыть ее взгляд до самой смерти, на него волнами накатывало отчаянье. Словно хватаясь за соломинку, он вновь набрасывался на книги. Он был уверен, что в библиотеке, где так много книг, найдется хоть одна, которая оправдает и такую жизнь, как его.
Он снова начал пить. К тому времени он уже знал место каждой книги в этой библиотеке. Старик выходил из читального зала в конце дня и, когда дверь за ним закрывалась, он шел в какой-нибудь бар и сидел там один, лишь бы не возвращаться в комнату, в которой как будто поселилось привидение. А когда он хмелел, он спускался к морю и долго-долго смотрел на черные волны, накатывающие на берег. Он думал о том, что все десять лет каждый день читал книги только для того, чтобы потонуть в этих водах. Все десять лет он ждал, пока концентрация соленой воды в его теле превысит содержание крови. Он представлял, как вся жидкость соберется в легочных капиллярах, потом, не выдержав давления, хлынет в легкие и выйдет через нос и рот наружу. Он любил представлять себе этот момент. Он будет покачиваться на волнах лицом вниз, свободно раскинув руки и ноги. Потому что всех утопленников в основном находят именно в такой позе. Кровь приливает к голове, телу, рукам, предплечьям, ногам, икрам и уже не может вернуться к сердцу.
Прошедшие десять лет он верил, что сможет потопить свое отчаянье в морских волнах, и надеялся только, что у него хватит сил вытерпеть и не глотнуть воздуха, оставаясь в воде до самого конца. Так, чтобы вокруг глаз и рта появились петехии, вызванные кислородным голоданием. И чтобы эти кровоизлияния были видны всем, когда его тело вынесет однажды утром на пляж. Более того, он хотел, чтобы его рот и легкие заполнило много, как можно больше воды. Чтобы люди по всему миру узнали, как много планктона оказалось в его крови и легких. Чтобы люди увидели на нем такие же следы смерти, которые были обнаружены на теле той студентки, утопленной в ванне более десяти лет назад. И когда все это случится, пожалуйста, простите меня! Все меня простите! Пожалуйста!
Старик говорил шепотом, глядя на ночное море, а по его щекам текли слезы. Канг взяла его за руку. Она пыталась утешить его, говорила, что если он столько раз искренне раскаивался, то, конечно же, та несчастная студентка не могла не простить его. Канг обняла старика. Ее рубашка намокла от его слез. Старик дрожал от страха, а она гладила его по голове и шептала: «Не мучайте себя! Та студентка любила вас до самой смерти. Она думала, что была бы счастлива с вами, что с детства она мечтала встретить такого человека, как вы. Любовь прекрасна каждое мгновенье. Поэтому не мучайте себя. Вам нечего стыдиться и бояться». И тогда, ничего не стесняясь, он зарыдал в голос. «Все хорошо. Вы все равно не могли ничего сделать. Она уже давно простила вас». По пустому ночному бару эхом разносились стоны.
Вот так все и было. Поэтому, когда она услышала новость о том, что его труп обнаружили на пляже, и тело, и душа ее заныли. И если бы она все это рассказала, разве коллеги не смогли бы ее понять, пусть даже их всех заботит только этот дурацкий отпуск? Но едва только Чхве ответила на звонок, Канг услышала противный голос, в котором звенели стальные нотки:
— Уважаемая, мы перевели выходное пособие на банковский счет, поэтому не надо больше сюда звонить и доставать нас.
Послышался смех и даже аплодисменты — где-то эти слова Чхве здорово повеселили людей. Едва сдерживая слезы, Канг прервала разговор и швырнула телефон в стену. Пока аппарат разлетался на маленькие кусочки, Канг приняла решение: она уйдет в отпуск в ту же минуту, как закончится летний читальный лагерь. И вовсе не из-за того, что она злилась на Чхве, окончательно испортившую ей настроение. Просто ей нужен отдых.
КЕМ БЫ ТЫ НИ БЫЛ, НЕ ВАЖНО, КАКИМ ОДИНОКИМ
Неизвестно, каким образом его занесло в Изыми, но серия фотографий черных журавлей, которую он сделал там, выделялась на фоне остальных работ. Точнее будет сказать, что эти фотографии не выделялись, а были исключением в его творчестве, поскольку до и после этого он фотографировал только людей — друзей, знакомых или членов семьи. Но казалось, что не только предмет съемки выделял эту серию, было в фотографиях и что-то еще, особенное. Фотографируя людей, он не слишком много внимания обращал на то, как падает свет, не продумывал детально, в какой части будет фокусироваться кадр. От его фотографий создавалось ощущение, будто он снимал их экспромтом, без длительной подготовки, на полароид, делающий мгновенные фотокарточки: большая часть кадра обычно была размыта, словно фотографировали в спешке, хотя, конечно, кое-что оставалось в резкости. Сделанные в Изыми фотографии журавлей не были исключением. Я открыла для себя творчество этого фотографа задолго до того, как вместе с известием о его смерти мне поступило предложение от одного издательства написать его биографию. Однако я никогда не была знакома с ним лично. Забавно, но только много позже я узнала, что у меня все-таки был шанс встретиться с фотографом, когда я училась в университете. В любом случае я с удовольствием согласилась начать работу над книгой о нем.
Через некоторое время после того, как я приступила к изучению материала, однажды вечером мой муж вернулся домой пьяным и спросил меня, зачем я вообще взялась за эту книгу. Не помню, что я сказала ему тогда, но точно ничего интригующего, как, например: «В его фотографиях что-то есть». Скорее ответила что-то типа: «Если скажешь, чтоб я оставила это занятие, то брошу прямо сейчас». Потому что тогда моя жизнь казалась мне толстой скучной книгой, которую «что прочитаешь, что не прочитаешь — без разницы». Но муж, вместо того чтобы попросить меня не заниматься больше этой работой, спросил, люблю ли я его. Сейчас мне страшно вспоминать тот вечер. Я никак не могла понять, что же творится в голове мужа и почему он задает мне эти вопросы. В ту ночь он спросил у меня всего две вещи: почему именно я пишу книгу об этом человеке и люблю ли я его, своего мужа. Его вопросы не получили настоящих ответов, но дали мне понять, что мужчины такие существа, которые решают убедиться, что ты их любишь, в самый неподходящий момент.
В любом случае я даже не догадывалась, что фотографии, развешенные над моим столом, были для мужа как бельмо на глазу. Я не помню точно, когда повесила их в своей комнате, знаю только, что именно закат в день смерти моей матери заставил меня вырезать их из сборника работ фотографа. Мама умирала мучительно. Словами не передать, как она страдала. До последней минуты ее сопровождала боль, лишь изредка облегчаемая лекарствами. И вера, которая поддерживала ее всю жизнь, теперь тоже нуждалась в поддерживающих препаратах. Из-за мамы я узнала, что между жизнью и смертью человек страдает. И каждый страдает по-своему, переживая личные мучения. До самой последней минуты я держала руку матери, уже не приходившей в себя, и постоянно повторяла, что люблю ее, но я так и не смогла понять, как сильно она страдает. Похоже, смерть понять легче, чем чужую боль. Я не ощутила горького чувства потери, когда мама ушла из жизни. Боль, которую я не могла разделить с ней, отдалила нас с мамой, как пропасть, так что даже смерть не могла сравниться с ней. Пока тело матери перевозили в холодный больничный морг, я смотрела на закат. Нет, не я смотрела на закат, скорее мне просто было видно закат.
В тот день из этого мира навсегда ушел один человек из тех, кого я любила. К счастью, мама оставила мне много воспоминаний. Когда я смотрела на нее, бьющуюся в агонии, воспоминания заставляли меня то смеяться, то вдруг плакать, но тогда мама была еще жива. Однако перед осознанием утраты воспоминания были беспомощны. Пока остывало мамино тело, покинутое душой, перед моими глазами простирался закат — красный, трепещущий разными оттенками, словно цветастая ткань на ветру. Это было необычное зрелище: висели низкие облака и красные закатные всполохи простирались далеко по небу.
— Смотрите, какой необычный закат, да? — обратилась я к мужу и старшему брату, которые курили неподалеку.
Они посмотрели в ту сторону, куда я показывала, но не увидели ничего особенного. Тогда я поняла, что никто, кроме меня, больше не может увидеть этот закат, закат дня, когда умерла моя мама. Вероятно, как мамину боль могли облегчить только ее обезболивающие средства, точно так же мою тоску мог унять только этот закат. Невозможность разделить боль и тоску другого человека повергла меня в отчаянье.
Чем глубже впадаешь в отчаянье, тем легче угадываешь его в других людях, переживших похожие несчастья. Я случайно увидела его фотографию «Закат дня, проведенного с черными журавлями», и на ней я узнала красные закатные всполохи, которые, как приклеенные, стояли у меня перед глазами со дня маминой смерти. Я наткнулась на эту фотографию в газете примерно тогда, когда мне стал привычнее образ всегда радостно смеющейся мамы, который жил в моих воспоминаниях, а не лицо мамы, страдающей от боли в последние ее дни. Первый раз, когда я увидела фотографию, мне было тяжело смотреть на нее, потому что она напомнила мне, в каких мучениях умирала мама, но, как ни странно, потом я почувствовала, что мне становится тепло на душе оттого, что кто-то другой тоже пережил подобное и увидел такой же закат. Если бы фотография отозвалась во мне только болью, я бы ни за что не поехала в тот же миг в центральный книжный магазин за сборником работ этого автора и тем более не стала бы аккуратно вырезать из книги фотографии, чтобы потом повесить их над письменным столом. Конечно, о том, что серия фотографий «Закат дня, проведенного с черными журавлями» стоит особняком среди остальных его работ, где запечатлены исключительно его друзья или члены семьи, я узнала намного позже, когда взялась писать его творческую биографию и пересмотрела всю коллекцию его работ. Но, еще не обремененная этими знаниями, я смогла получить чистое, лишенное какой-либо предвзятости эстетическое наслаждение от его фотографии, на которой он запечатлел закат. Работая над книгой, я постепенно узнавала все больше о жизни фотографа и любовалась другими его снимками, но ни один из них уже не смог доставить мне того чистого эстетического удовольствия.
Так что теперь я думаю, что повесила над столом фотографии из серии «Закат дня, проведенного с черными журавлями» не только из-за своих личных переживаний, но и из-за чистого эстетического чувства. Там же крылась причина, по которой я не смогла понять поступок мужа, когда он разбудил меня посреди ночи, чтобы спросить, люблю ли я его. Но во мне не было обиды, чувства вины или жалости. Если б мне пришлось назвать один самый впечатляющий закат, который я видела в своей жизни, то я, несомненно, вспомнила бы только закат в день смерти моей мамы. В нем впечатляло уже то, что никто в этом мире не смог увидеть его таким, как видела его я. Никто. Ни муж, ни ребенок, ни мои братья. Не знаю, почему меня так успокаивало, что я, проводив маму на тот свет, но так до конца не разделив ее страданий, одна вижу этот закат таким. Хотя я и говорю «успокаивало», скорее это было похоже на благостное чувство отрешенности, с которым принимаешь как есть все сложные моменты в жизни, несмотря на то что отказываешься их понимать. Как, например, смерть близких. Поэтому для меня содрогнулся весь мир, когда я узнала, что кто-то еще видел такой же закат, как я в тот день. Эти фотографии будто говорили мне: «Не думай так легко найти утешение, тебе потребуется на это целая жизнь!» Учитывая события, которые мне пришлось пережить, внезапные вопросы мужа могли бы показаться мне настолько простыми и банальным, что у меня не дрогнула бы ни одна ресничка.
Те два своих вопроса муж задал мне, когда я закончила изучать материалы, связанные с фотографом и его творчеством, и думала о том, как лучше начать книгу, собираясь уже писать черновик. Подойдя вплотную к этому этапу, я начала понимать, как, оказывается, сложно писать о чьей-либо жизни. Фотограф как-то сказал в интервью для одного журнала: «Полное забвение не под силу человеку. Люди неполноценны и уязвимы, потому что не способны полностью стереть свою память. Я фотографирую не для того, чтобы хранить бесчисленные воспоминания, но чтобы забыть о них». Этими словами он объяснял каждую из большого числа фотографий, на которых изображены люди, чей постоянно меняющийся облик он запечатлел. Но, похоже, не в моих силах было узнать, насколько это было правдой. Тем не менее мое внимание привлекли его слова о том, что он использует фотоаппарат как средство забвения, которые могли означать, что он фотографировал своих друзей и членов семьи, чтобы бесконечно забывать о них или отпускать их из своей жизни. А раз так, то все материалы, которые я собрала, и тысячи фотографий, которые пересмотрела, в итоге оказались скоплением вещей, от которых он хотел избавиться в своей жизни. Я начала сомневаться, что он фотографировал то, что было дорого ему и что он хотел сохранить в своей душе. Но поскольку я все равно писала не критический обзор его работ, то до них мне дела не было. Единственно, из простого человеческого любопытства я страстно хотела узнать, что он старался оберегать от забвения. Именно из-за этого желания я и начала работать над его биографией.
В ту ночь, когда муж внезапно разбудил меня, чтобы спросить, люблю ли я его, мои мысли постепенно вернулись к серии фотографий «Закат дня, проведенного с черными журавлями». Обычно, когда я начинала думать о них, меня уносило в воспоминания о маме и о закате в день ее смерти. Однако на этот раз мои мысли остались блуждать вокруг фотографий. Этот мастер всегда фотографировал только друзей и родственников, почему же вдруг у него возникло желание запечатлеть птиц? Во всех статьях и обзорах его творчества я могла прочесть только, что это «самая примечательная серия» его работ, но нигде не было ни намека на ответ, почему он сделал эту примечательную серию. Небольшая подсказка была в авторском предисловии к брошюре для его частной выставки, в экспозицию которой входили и эти фотографии с черными журавлями. Предисловие заканчивалось следующими словами: «Представленная на этой выставке серия работ „Закат дня, проведенного с черными журавлями“ была сделана в Японии, когда я по приглашению Министерства образования приехал на выставку в город Фукуока, откуда съездил в Изыми, где и запечатлел эти кадры. Изначально у меня даже мысли не было ехать туда, но как-то так само собой получилось, что я оказался в Изыми. Можно сказать, что это первые и последние фотографии в моей жизни, сделанные на память, но они получились лучше, чем я ожидал. Если бы не Ким Кёнг Сок, этнический кореец, проживающий в Японии, который во всем мне помогал во время моей поездки и был координатором с японской стороны, я бы даже не стал делать эти фотографии, поскольку душа у меня к этому сперва не лежала. Тебе не нужно быть хорошим, Ким Кёнг Сок, Тебе не нужно ползти на коленях». Итак, это были единственные «памятные фотографии», сделанные не для того, чтобы забыть, а как раз наоборот — чтобы помнить. И не кто иной, как его координатор Ким Кёнг Сок, «настроил» душу фотографа на то, чтобы он сделал «первую и последнюю в своей жизни» серию таких работ. Вот все, что мне удалось узнать. Я сомневалась, стоит ли начинать творческую биографию с этого.
«Тебе не нужно быть хорошим. / Тебе не нужно ползти на коленях» — это были первые строки стихотворения «Дикие гуси» американской поэтессы Мэри Оливер. Полностью он процитировал это стихотворение в 1991 году в эссе «Когда ты снова надеваешь одежду». Фотограф оставил после себя много авторских эссе, критических статей о фотографиях, вводных статей к собственным сборникам работ, к открытиям выставок, статей в журналах и газетах, но каким-то образом получилось так, что «Когда ты снова надеваешь одежду» было единственным эссе, в котором так или иначе упоминались птицы. Я просмотрела все материалы, касающиеся фотографа, в поисках хоть чего-то, связанного с пернатыми, но кроме эссе обнаружила только пару размытых силуэтов птиц на фотографии какой-то девушки. Заканчивалось стихотворение следующими строками: «Кем бы ты ни был, не важно каким одиноким / мир предлагает себя твоему воображению / взывает к тебе как те дикие гуси, грубо и взволнованно / снова и снова провозглашая твое место / в этой семье вещей». После чего фотограф написал, что то, что мы осознаем как реальность, — это всего лишь «момент времени, в который происходит то или иное событие». «Реальность меняется каждое мгновение, и если мы хотим запечатлеть ее, то должны меняться и способы ее отражения», — продолжает он свое эссе, апеллируя к словам Бертольта Брехта. «С того момента, как что-то произошло, пути назад нет. Это как раз и есть та реальность, которую мы знаем», — писал фотограф. Забавно, что наиболее показательным моментом изменения реальности он считал мгновенье, когда утром начинает одеваться девушка, с которой мужчина только что провел ночь.
«Не сами весенние деревья, но душа людей, жаждущих смены времени года, заставляет нас смотреть на еще голые деревья и отыскивать подтверждения скорого прихода весны, которые непременно находятся. Распускающиеся цветы не останавливаются на том, что говорят нам о приходе весны, они впускают нас в новый мир, где все деревья в цвету. И для человека искусства решающим вызовом является не способность показать новый мир, но передать мгновение на пороге открытия нового мира. Однажды я попросил девушку, которая лежала голая рядом со мной, одеться очень-очень медленно. И это был тот самый момент перехода реальности. Едва только она начала одеваться, мы уже не могли повернуть обратно. С незапамятных времен каждый раз, когда обнаженная женщина прячет свое тело под одеждой, мир меняется», — писал фотограф. Я наткнулась на этот абзац, когда перечитывала его записи, надеясь найти хоть что-нибудь, что поможет мне понять, зачем он сфотографировал черных журавлей. Эти мысли фотографа показались мне странными. Неужели момент, когда для мужчины меняется мир, — это тот миг, когда женщина надевает одежду? И не задумывался ли автор, что реальность точно так же меняется, когда он сам одевается?
Так или иначе, это эссе несколько раз всплывало в моей голове, пока я пыталась найти координаты Ким Кёнг Сока, чтобы связаться с ним. Прошло уже пять лет с той выставки, на которую Министерство образования Японии пригласило фотографа в Фукуоку, и отыскать теперь какие-нибудь сведения о Ким Кёнг Соке, выступавшем тогда в качестве координатора с японской стороны, оказалось нелегкой задачей. К счастью, среди материалов, которые выдали мне в издательстве, обнаружилась рекламная брошюра, приглашавшая на выставку работ фотографа в Музей искусства Азии в городе Фукуока. В день открытия выставки автор фотографий выступал с лекцией, в основу которой было положено эссе «Такова реальность, известная мне», написанное за десять лет до этого. Задачей Ким Кёнг Сока было представить японской аудитории самого фотографа, рассказать о его творческой биографии и о мире его работ в целом. В брошюре было написано, что на тот момент мистер Ким учился в докторантуре университета Кюсю на факультете литературы. На всякий случай я зашла на сайт университета, и оказалось, что Ким Кёнг Сок до сих пор работает на том же факультете, теперь уже ассистирующим профессором. Я тут же отправила ему электронное письмо на адрес, указанный на страничке университета. В письме я немного рассказала о себе и пояснила, что мне хотелось бы задать несколько вопросов о том случае, когда они вместе с фотографом пять лет назад во время выставки отправились в Изыми, где фотограф сделал снимки черных журавлей. Через несколько дней безуспешных попыток начать книгу я пришла к выводу, что написать биографию фотографа я смогу не раньше, чем съезжу в Японию и сама увижу этих журавлей.
Мало кому в этой области литературы доверяют настолько, чтобы автор мог рассчитывать на большие гонорары за работу над биографиями такого рода. Редактор издательства, которое предложило мне взяться за написание книги, начал с не очень обнадеживающих слов: «Если вы хотите заработать денег, то есть много других вариантов, но подумайте о том, какой глубокий смысл может быть в этой работе. Эта книга для человека с характером, который не остановится, пока не выложится на все сто, но для этого необходимо найти мотивацию, чтобы начать писать». В случае, если нет внутреннего толчка, например научного или, как у меня, личного интереса, — то очень сложно заставить себя писать. Я взялась за книгу, потому что это была биография другого человека, который смог увидеть точно такой же закат, какой видела я. Именно в этом крылась внутренняя мотивация моей работы. Однако это не так легко поддавалось рациональному объяснению. Поэтому я не рассчитывала, что муж сразу поймет мое желание поехать в японский город Кагосима, чтобы самой увидеть черных журавлей. И я никак не ожидала, что он настолько спокойно воспримет мои слова и снова задаст мне всего лишь два вопроса: «Кто будет сидеть с ребенком? А с деньгами что?» Сама я думала только о том, что мне необходимо увидеть журавлей, чтобы начать писать биографию фотографа, и поэтому совсем не задавалась подобными вопросами. Я приводила любые доводы, всплывающие в моей голове, в пользу поездки, и в конце концов муж дал добро на мою поездку в Кагосиму при условии, что он отправится со мной. Мне было все равно, лишь бы только мне дали посмотреть на птиц, в чем я честно призналась.
Мне пришлось отправить еще несколько писем, прежде чем из Японии пришел ответ, в котором Ким Кёнг Сок объяснил мне, что даже не читал первые мои сообщения, потому что в адресе отправителя стояло имя «Mia». Только после того, как пришло еще несколько писем с этого адреса, он наконец открыл одно из них. Этим объяснялось, почему он так долго не отвечал. «Mia», ничего удивительного, что в строке отправителя стояло это имя, потому что меня так зовут — Миа, и как только меня не дразнили из-за этого имени в младших классах. Однако Ким Кёнг Сок не стал вдаваться в подробности, почему он с недоверием отнесся к письмам от человека с таким именем, зато скопировал в письмо новость о том, что двенадцатого числа прошедшего месяца в третий раз пересчитали черных журавлей, зимующих на равнинах Изыми, и всего их оказалось 9697 птиц, кроме того, у побережья недалеко от Изыми было замечено около сотни дельфинов, которые, похоже, мигрируют в сторону от побережья Амакусы. В конце письма он приписал: «Сейчас корейский язык нехороший, поэтому пошлю еще раз». Я соврала бы, если бы сказала, что на самом деле понимала все, что он писал.
Однако фотографии журавлей и дельфинов, которые были в письме, еще долго не выходили у меня из головы. Ким Кёнг Сок не смог объяснить, зачем послал мне сообщения о пересчете птиц и миграции дельфинов, но непонимание его мотивов не помешало мне, разглядывая вложенные снимки, начать догадываться, почему черные журавли запали в душу фотографа. Жалко только, что вторая новость была про дельфинов, а не про черепах, потому что в Японии есть поговорка, точнее, пожелание долголетия: «Тысячи лет журавля, десяти тысяч лет черепахи». Вполне можно было понять, почему фотограф, захваченный съемкой семьи и друзей в их постоянно меняющейся реальности под названием повседневная жизнь, вдруг неожиданно попал под очарование неизменной реальности птиц, ежегодно прилетающих зимовать с берегов Амура в долину Изыми. Я вспомнила, как все во мне перевернулось, когда вдруг выяснилось, что фотограф видел такой же закат, как я в день маминой смерти. Эссе, которое я упоминала ранее, он подытоживает словами: «Можно сказать, что девушка, надевающая на себя одежду, — это самая печальная картина на свете». Чтобы лучше понять эссе, я читала его, разложив перед собой фотографии серии «Закат дня, проведенного с черными журавлями». Оно напоминало мне, как я смотрела на незабываемый закат и переживала смерть мамы. Тогда я поняла, что жизнь полна противоречий, но одновременно с этим она предельно логична.
Жизнь полна противоречий, но насколько же она логична… Это случилось спустя некоторое время. Был вечер, я возвращалась на машине домой после лекций, которые читала в магистратуре. Освещенная фонарями набережная была забита красными габаритными огнями машин, спешивших доставить людей домой после работы. Накануне я всю ночь готовилась к занятиям и теперь, совершенно измотанная, без единой мысли в голове, упершись взглядом во впереди идущую машину, поочередно нажимала то педаль тормоза, то педаль газа. Из радио доносились звуки гитары, но я даже не вслушивалась в мелодию. Впереди, позади, с обеих сторон меня окружали машины, ехавшие с точно такой же скоростью и в том же направлении, куда нужно было мне. Я глубоко вжалась в водительское кресло, осмотрелась по сторонам и вдруг заплакала. Потому что я не знала, действительно ли то место, куда мне сейчас предстоит так долго и утомительно ехать, это именно то место, куда мне на самом деле нужно попасть. Сразу после этого я поняла, что все это время слушала не гитару, а уд — традиционный музыкальный инструмент народов Средней Азии. И что перед глазами у меня все размыто не только из-за внезапных слез, но и из-за осеннего дождя, который начался довольно давно, и что больше я не могу продолжать свою семейную жизнь. Я осознала это все сразу одновременно и очень неожиданно для себя. Не теряя времени, я тут же позвонила мужу и предложила развестись. Он был на какой-то встрече и спросил меня о причинах моего решения. Я стала рассказывать про лилии, которые принесла маме в больницу.
Маме очень нравились белые лилии, она всегда ставила их на обеденный стол и даже протирала листочки цветов от пыли. У меня сохранились очень теплые воспоминания о том, как однажды за поздним воскресным завтраком я, сидя нога на ногу, покачивала правой ногой и шутливо ворчала на маму, сдувающую пылинки с цветов. За несколько дней до ее смерти по пути в больницу я зашла в цветочный магазин и купила ее любимые белые лилии. Я поставила их в палате, и аромат цветов наполнил все помещение. Но от тяжелого запаха лилий маме стало трудно дышать, и она попросила меня убрать цветы, все равно она даже не могла повернуться, чтобы полюбоваться на них. Мне ничего не оставалось, как забрать лилии домой и поставить на стол рядом с нашей с мамой фотографией. Через несколько дней мама умерла. А цветы прожили еще некоторое время. И мне показалось, что они простояли дольше любого другого букета. Обычно сорванные цветы очень быстро засыхают, но эти лилии жили еще три недели после смерти мамы. Однажды я вернулась домой и увидела, что муж выбросил цветы. Размазывая слезы по лицу, я начала кричать на него: «Верни их обратно! Иди и принеси их назад! Верни мамины цветы!» Теперь я напомнила эту историю мужу, и он растерянным голосом спросил, неужели я действительно хочу развестись из-за цветов, которые он так опрометчиво выбросил тогда. Он сказал, что по-прежнему любит меня, и без меня он не видит смысла жить дальше, и что он обязательно станет внимательнее, раз я так хочу. Я ответила: «Давай разведемся. Я прошу, давай разведемся. Пожалуйста, давай разведемся». А муж сказал мне растерянным голосом: «Я по-прежнему люблю тебя. Без тебя я не вижу смысла жить дальше. Я обязательно стану внимательнее, раз ты этого хочешь. Я больше никогда не буду выбрасывать белые лилии».
После этого случая муж ни на минуту не оставлял меня одну, но потом почему-то изменил свое решение и сказал, чтобы я ехала в Японию без него. Он сказал, что у него много работы и он вовсе не уверен, что хочет смотреть на черных журавлей, а вместо этого лучше мы с ним отправимся вдвоем в Новую Зеландию, когда я закончу эту свою работу, а ребенка на это время оставим его родителям. Может, конечно, я изменю свое мнение, когда наконец увижу черных журавлей в Изыми, но на тот момент я вообще сомневалась, что смогу осилить творческую биографию фотографа. В любом случае, напишу я книгу или нет, я точно решила ехать в Японию. Обменявшись еще несколькими электронными письмами с Ким Кёнг Соком, снова начавшим вспоминать родной язык, от которого он давно уже отвык, мы решили, что я прилечу в Фукуоку, а оттуда мы вместе поедем в Изыми смотреть на птиц. В ходе нашей с ним переписки выяснилось, почему он прислал мне статью о дельфинах, замеченных у берегов Изыми. Ким Кёнг Сок написал, что пять лет назад именно для того, чтобы посмотреть на дельфинов, они с фотографом поехали на остров Амакусу. Поэтому в своем первом письме он пытался намекнуть мне, что в этом году дельфины перебрались в Изыми, подразумевая, что я смогу сэкономить время и увидеть и журавлей, и дельфинов в одном месте.
Вскоре я выяснила и то, почему он не стал читать первые мои письма. Мы встретились в международном аэропорту Фукуоки и направились в сторону стоек регистрации внутренних рейсов, вылетающих в Кагосиму. Ким Кёнг Сок приехал в Японию, когда ему было три года, вместе с родителями, прилетевшими сюда учиться. Таких людей называли «ньюкамер» от английского new comer — вновь прибывший. Разговаривал Ким Кёнг Сок на своем родном корейском языке куда лучше, чем писал письма, содержание которых порой оставалось для меня загадкой. Известие о преждевременной смерти фотографа очень расстроило бывшего координатора, который сохранил самые теплые воспоминания об их совместной работе в Японии. Я удивилась, когда мистер Ким сказал, что произведения фотографа были полны душевного сопереживания уходящим вещам. Потому что втайне я все время думала: не является ли ключом к пониманию «другой реальности», о которой говорил фотограф, не повседневная жизнь друзей и членов семьи, но их смерть? Я поинтересовалась у своего нового знакомого, не говорил ли что-нибудь фотограф про это в своей лекции «Такова известная мне реальность» в Фукуоке пять лет назад.
Ким Кёнг Сок ненадолго задумался, потом сказал, что, конечно, что-то такое мелькало в словах фотографа (например, он всегда повторял, что он «несовершенный человек и поэтому фотографирует, чтобы забыть»), но сам он пришел к такому выводу о творчестве мастера по другой причине. «В программу пребывания фотографа были включены экскурсии по окрестностям Фукуоки. На это отводилось два дня перед открытием выставки», — стал рассказывать мне Ким Кёнг Сок. — Очень живописные виды открываются, если ехать от Фукуоки в сторону Амакусы, мы решили прокатиться осмотреть остров, а завершить свою поездку в горячем источнике на открытом воздухе с видом на море. Мы взяли такси, и, пока осматривали остров, я спросил: «А вы любите дельфинов?» — «Дельфинов?» — «Да, дельфинов». — «В Хакате вы тоже говорили про дельфинов. Они действительно такие милые, да?» — «Там дельфины взаперти, а на Амакусе живут дикие дельфины». А вы сами не любите дельфинов? — обратился Ким Кёнг Сок ко мне. — Я с детства обожаю дельфинов. Мне так хорошо и спокойно на душе становится от одного их вида.
Ким Кёнг Сок посмотрел на меня по-детски наивными глазами. Был бы на моем месте фотограф, он, возможно, с удовольствием запечатлел бы этот взгляд на камеру. Вот так неожиданно фотограф и его координатор пять лет назад вдвоем отправились смотреть на дельфинов, а оттуда заехали в Кагосиму. Надо сказать, японцы, когда устраивают какое-нибудь массовое мероприятие, рассчитывают время не то что по часам, а по минутам. Так что одна только поездка к дельфинам была большим отклонением от запланированного графика, а уж когда они поехали в Кагосиму, в Фукуоке у организаторов выставки началась паника.
Возможно, точно так же, как мы сейчас, фотограф приземлился пять лет назад в аэропорту Кагосимы. И они с Ким Кёнг Соком так же сели в пассажирский экспресс, который за двадцать три минуты довез их до Изыми. В поезде мистер Ким продолжил свой рассказ: «Если вам интересно, почему мы отправились в Изыми, так это все потому, что фотограф спросил у меня, чем так хороши дельфины». И тогда Ким Кёнг Сок начал рассказывать о Мии: «Ее зовут так же, как вас, поэтому, когда я увидел ваше первое письмо, у меня перехватило дыхание и я даже не набрался смелости открыть сообщение». Он рассказал о шведской девушке по имени Мия. Конечно, она была кореянкой, но в детстве ее удочерила семья из Швеции. Ей не давало покоя ее корейское имя, и она во что бы то ни стало решила вернуться в Корею, выучить язык и найти свои корни. В итоге в студенческие годы она приехала на стажировку в университет Ёнсе в Сеуле на языковые курсы. Именно там она и встретила Ким Кёнг Сока, который также приехал на свою историческую родину. Дальше все было, как у всех. Они познакомились, выяснили, что у них много общего, быстро сошлись и полюбили друг друга. Но однажды Мия пришла к Ким Кёнг Соку, сказала, что ненавидит Корею и возвращается домой в Швецию. И все потому, что она выяснила, что никто никогда не давал ей имени — просто всех брошенных детей называли «Мия», что соответствовало двум китайским иероглифам «потерянный ребенок». «А мне что было делать? Я ведь любил ее. До смерти ее любил, но что мне оставалось делать? Я просил ее не уезжать. Говорил, что приеду за ней в Швецию. Но все было напрасно. Мы писали друг другу письма. Постоянно. По правде говоря, будучи этническим корейцем, я тоже чувствую себя брошенным в Японии. Ни один мужчина на свете не смог бы понять Мию так, как я. После возвращения в Швецию Мия, естественно, стала постепенно забывать корейский язык. Письма становились короче, а другого способа общения у нас не было. Это было похоже на то, как медленно уходит человек, нет, на то, как медленно умирает любимый человек. В конце концов письма сократились до одного простого „Привет“. Спросите, почему я люблю дельфинов, — вот именно поэтому: они успокаивают меня».
Мы вышли на станции Изыми, поймали такси и едва попросили отвезти нас к берегу, как пожилой водитель сразу догадался, что мы едем смотреть черных журавлей. Он рассказал, что здесь собирается девяносто процентов всех черных журавлей мира и с октября, когда сюда прилетают первые птицы, до февраля, когда последняя стая улетает в Сибирь, здесь всегда полно желающих посмотреть на пернатых. Шофер объяснил, что сегодня птиц будут пересчитывать в четвертый раз за сезон, поэтому с самого утра уже собрались толпы желающих поглядеть на это зрелище. Последнее время количество птиц лишь немного недотягивало до десяти тысяч, и все дети и взрослые в Изыми с нетерпением ждали пересчета журавлей, надеясь, что рекорд будет побит. «Мы должны сделать это!» — воскликнул таксист по-японски. Ким Кёнг Сок начал переводить мне все, что сказал таксист, но разговорчивый водитель вклинился с дальнейшими объяснениями. Иногда люди приезжают посмотреть на «потеряшек». Многие здесь настолько интересуются птицами, что привозят с собой огромные мощные бинокли. И им иногда удается обнаружить других перелетных птиц, так называемых «потеряшек» — меичхо — птиц, которые по пути миграции из Северной Америки отбиваются от стаи и теряют дорогу. Ким Кёнг Сок снова стал рассказывать про фотографа: «Пока мы ехали смотреть на дельфинов, я рассказал ему свою историю о Мии, и это, видимо, натолкнуло его на воспоминания о меичхо, которых он когда-то видел. Он рассказал, как однажды снимал кого-то, а на заднем плане в кадр попала странная птица. Потом он сверился с энциклопедией и выяснил, что это скорее всего был черный журавль, но, чтобы определить, действительно ли это так, он попросил меня поехать в Изыми, посмотреть на птиц».
«Я-та, я-та, ю-ка-та, ю-ка-та», — издалека донеслись крики и громкие хлопки. Возбужденно потрясая кулаком в воздухе, таксист воскликнул: «Надо побить трехлетний рекорд! Даешь десять тысяч!» Он посмотрел на нас в зеркало заднего вида. Мы опустили стекла и посмотрели в сторону, откуда доносились крики. Над головами людей, столпившихся на смотровой площадке, взмыла вверх стая журавлей, заполнив собой все небо. И на фоне пасмурных облаков птицы начали медленно описывать огромный круг. Только стая поднялась в небо, таксист остановил машину, высунулся в окно, задрал голову и начал наблюдать за этой потрясающей картиной. Журавли парили в небе. Дух захватывало от этого великолепия. Ким Кёнг Сок поторопил водителя, чтобы тот скорее отвез нас к смотровой площадке. Таксист словно очнулся и снова завел мотор машины. Все страстно желали, чтобы в этом году перелетных птиц оказалось не меньше десяти с половиной тысяч. Пока рекордное количество — 10 469 — было зафиксировано в 1997 году. Если в этом году птиц окажется больше, это станет лучшим рождественским подарком студентам в клубе любителей журавлей.
«Следующий пересчет птиц будет в рождественское утро, обязательно приезжайте на это посмотреть», — сказал таксист взволнованным голосом. Когда водитель немного успокоился и перестал тараторить, Ким Кёнг Сок продолжил свой рассказ: «Мы поехали смотреть птиц, и оказалось, что на его фотографии действительно был черный журавль, немного задержавшийся на берегах Амура. Есть птицы, которые позднее других вылетают на зимовку, и тогда они остаются на Корейском полуострове, не долетая до Изыми, куда изначально держат путь. Но это бывает редко, и таких птиц совсем мало — дюжина, не больше. Говорят, в 1984 году на Корейском полуострове видели таких птиц».
Я изо всех сил старалась вспомнить фотографию, где на заднем фоне я видела двух-трех птиц. Запечатленная на снимке девушка была одета в облегающий свитер оливкового цвета. Ветер играл ее длинными волосами, а она смотрела в камеру и смеялась. Как и на большинстве работ фотографа, кадр был немного размыт, но, как и все фотографии, где присутствовали люди, она была наполнена эмоциями. Я привыкла к тому, что чувства насыщали работы фотографа, но раньше не придавала этому большого значения. Теперь, когда я выслушала рассказ Ким Кёнг Сока, мне показалось, что на той фотографии главным чувством была глубокая любовь. Фотография этой девушки отличалась от других, где были друзья или семья фотографа. Она была сделана в 1984 году, когда, как правильно сказал Ким Кёнг Сок, несколько черных журавлей остались зимовать в Корее. И это была единственная фотография, датированная тем годом. Это был период в жизни мастера, когда он то ли впал в депрессию, то ли усомнился в своем деле. Так или иначе, но он забросил фотографию и открыл ресторанчик, специализирующийся на японской кухне, в районе Пангбэ-донг. В каком-то интервью он признался: «Я люблю готовить, да и денег хотелось немного подзаработать».
— Он говорил, что никогда в жизни не забудет закат, который видел в тот день.
Погруженная в свои мысли, я шла от такси в сторону смотровой площадки, когда Ким Кёнг Сок произнес эти слова.
— Что? — переспросила я.
— Говорю, фотограф как-то сказал, что никогда в жизни не забудет закат, который видел в тот день. Меичхо, заблудившиеся птицы, черные журавли. Закат, который он видел в тот день, когда познакомился с этими птицами, он будет помнить всю жизнь, так он говорил. Но не сказал почему. Похоже, мои рассказы не слишком вам помогают?
— Нет-нет, продолжайте. Что случилось, когда он приехал сюда? Что он делал? — стала я расспрашивать Ким Кёнг Сока.
— Мы вдвоем ждали, пока солнце начнет садиться.
— Где-то здесь? На этом месте?
— Не знаю, тут все поменялось с тех пор.
— О чем вы говорили, пока ждали заката?
— Да я толком не помню. Ничего особенного. Думали, что мы будем есть на ужин, об этом много говорили. Хм, о чем мы говорили? Да, вряд ли я смогу вам помочь.
Вслед за Ким Кёнг Соком я пришла к месту, где пять лет назад он стоял с фотографом.
Когда солнце начало клониться к закату, он взял фотоаппарат и сделал несколько снимков с того места, где теперь стою я и откуда было видно поле, на котором собралось множество перелетных птиц, преимущественно черных журавлей, а западнее поля плескалось море. Именно здесь фотограф сделал уникальную серию работ, «первые и последние фотографии в моей жизни, сделанные на память», и «если бы не Ким Кёнг Сок, этнический кореец, проживающий в Японии, я бы даже не стал делать эти фотографии, поскольку душа у меня к этому сперва не лежала». Но все-таки фотографировал он «не для того, чтобы хранить бесчисленные воспоминания, но чтобы забыть о них». Я запрокинула голову и посмотрела наверх, где по небу кружили черные журавли. Чтобы охватить целиком всю картину, я, сама того не замечая, стала кружиться на месте. Какой это был огромный мир! А черные журавли пересекали этот огромный мир, прилетая с берегов Амура в Изыми. Очевидно, что мы не можем стать свидетелями всего мира и удержать в памяти все, что заполняет этот мир. Но, кроме того, мы не можем и отречься от мира, полностью стереть свои воспоминания о нем. Люди, которых он фотографировал всю жизнь, — его друзья и родственники, — старели, болели, кто-то умирал. У всех была сложная, запутанная жизнь, у всех она бесконечно менялась. Стоя на том месте, я смогла понять повседневную жизнь людей, запечатленную на его фотографиях. И точно так же я поняла «закат, который он запомнит на всю жизнь», если заимствовать его слова.
С моих губ стали слетать строчки из стихотворения «Дикие гуси», которое фотограф цитировал в своем эссе. «Тебе не нужно быть хорошим. Тебе не нужно ползти на коленях за сотню миль через пустыню, каясь. Тебе только нужно позволить нежному животному твоего тела полюбить то, что оно любит. Расскажи мне про свое отчаяние, а я расскажу тебе мое. Тем временем этот мир идет дальше. Тем временем солнце и чистая галька дождя движутся через ландшафты, через эти прерии и дремучие деревья, эти горы и реки. Тем временем дикие гуси, высоко в этом чистом голубом небе, опять направляются домой. Кем бы ты ни был, неважно каким одиноким, мир предлагает себя твоему воображению, взывает к тебе, как те дикие гуси, резко и взволнованно, снова и снова провозглашая твое место в этой семье вещей»[18]. Место, где мне надо быть, находится посреди всего того, что заполняет мир. И, стоя среди этого мира, я вертела головой, пока журавли не начали садиться обратно на поле, закончив свой фантастический вираж в небе, пока не настало время расходиться школьникам, закончившим подсчет пернатых, и всем туристам, собиравшимся здесь с рассвета, чтобы посмотреть на птиц. Я стояла посреди всего этого и смотрела на строгое серое небо. Стояла посреди мира. Ждала заката. До тех пор, когда можно будет увидеть птиц, улетающих обратно домой.
АЛЕКС, АЛЕКС, СМЕЮЩИЙСЯ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
1
Итак, лето того года. «Он» проводил его в красивом прибрежном городке, отстроенном в духе старой Европы, и не было ни дня, когда бы «он» не напился. Такой уж это был город. Торговцы устанавливали ряды своих лотков, втискивая их между деревьями на обочине дороги, идущей вдоль берега моря, и вывешивали свой товар — воздушные шары в форме Микки-Мауса, или Дораэмона, или еще кого-нибудь странного животного из мультяшного мира. И хотя все эти звери, призванные привлекать туристов, весело улыбались, отчего-то казалось, будто в глазах у них стоят слезы. За рядами воздушных шариков открывался вид на мост над морем — местную достопримечательность — и плескавшиеся под ним волны. За последние дни деньги, которые «он» имел при себе, практически закончились. «Он» сидел в одиночестве, цедил пиво и смотрел на дорогу, вдоль которой болтались воздушные шары. Цвет моря, видневшегося то ли за смеющимися, то ли за плачущими лицами животных, постоянно менялся, следуя велению изменчивой природы. В зависимости от того, как падал солнечный свет или ложились тени от бегущих облаков, море могло быть от стального серого цвета до ярко-голубого. Каждый раз, когда менялся цвет моря, по стройным рядам воздушных лиц пробегала дрожь. Они кланялись морю, потом городу и вскоре вновь взмывали вверх. Через какое-то время проходящие мимо туристы стали кривиться от одного вида мужчины, пьющего пиво с самого утра.
В этом городе так было заведено: то внезапно начинался дождь, то бодро выглядывало солнце, резкие порывы ветра стихали так же неожиданно, как и начинались. Внезапный ветер в тихий день, трещины в старых колониальных зданиях города, неровности на мощеных тротуарах или смех проходящих мимо туристов воскрешали в памяти забытые мгновения. Воспоминания поднимались, как дым, виток за витком и рассеивались раньше, чем сознание успевало зацепиться за какое-нибудь из них. В этом городе «он» привык к очарованию скоротечного мгновения. «Он» просыпался с отекшим с похмелья лицом, вставал, открывал деревянные ставни гостиничного номера, и вместе с густым утренним воздухом в комнату проникал винный запах, манящий строками Омара Хайяма: «Иди сюда, приходи наполнить стакан. Скинь с себя зимнюю одежду в этот теплый весенний день. Пока птица времени не может улететь далеко, но в любой момент она расправит свои крылья».
Хороший алкоголь и беззаботность жизни в этом городе были словно обусловлены самой природой. Напитки и жизнь здесь были похожи на рыбу, выловленную в жаркий летний день: если не съесть ее сразу, она испортится. Так же «он» объяснял и то, что ежедневно упивался пивом. С каждым новым глотком «его» жизнь менялась, и назад, в прошлое, дороги не было. Наверное, «он» уже давно подозревал, что в «его» жизни настанут такие времена. Очень давно. С тех самых пор, как позвонил жене, сказал, что не вернется к назначенному времени, и перешел дорогу. С того короткого промежутка времени, когда зеленый свет светофора сменился желтым, а затем красным, отрезав дорогу назад. С тех самых пор по «его» жизни поползли маленькие трещинки.
В отеле «Шангрила», где «он» остановился в первую ночь, «он» вдруг понял, что ошибался, думая, будто люди не видят изменчивости жизни и проживают только одну ее ветвь, не оглядываясь на ответвления. Как только «его» заселили в номер, «он» сразу снял с себя всю одежду и улегся спать на огромной двуспальной кровати кинг-сайз, наличие которой «он» требовал, еще только бронируя комнату в гостинице. Накрахмаленная простыня казалась бумажной. Утром «он» спустился в буфет и позавтракал в одиночестве, выделяясь среди бизнесменов при галстуках. Когда к «нему» подошел официант и предложил кофе, «он» жестом остановил его, думая только о том, чтобы вернуться в номер и снова залечь спать. Разделавшись с завтраком, «он» поднялся к себе в комнату, задернул тяжелые плотные занавески и залез в кровать. Do not disturb. «Он» понемногу выпадал из жизни. Теперь никто не мог потревожить «его» сон. В этом городе «он» придумал себе новое имя.
Так «он» и жил в этом отеле: завтракал в буфете, а потом спал весь день; проснувшись под вечер, шел пить пиво до тех пор, пока опять не заваливался спать. Так продолжалось какое-то время. Однажды «он» очнулся ото сна. В комнате было темно, и «он» не понимал, какое было время суток. «Он» поднялся с постели и раздвинул занавески. И сразу в комнату ворвались отсветы от движущихся машин, огней светофоров и высоток на противоположной стороне дороги. Он растер руками лицо и, будто вспомнив что-то, достал сумку и начал рыться в поисках паспорта. Тот оказался вложен между страницами книги, которую мужчина читал в самолете. От долгого сна «его» глаза привыкли к темноте, и отсветов из окна ему было вполне достаточно, чтобы прочитать все, что было написано о «нем» в документе. Потом «его» взгляд упал на строку в книге.
«Если бы я мог, то постарался избежать этого, но мне придется начать говорить о твоем произведении „Парень тишины“ с критики. Нет, даже не с критики — об этом я и помыслить не могу! — но с некоторого несогласия с тобой». На следующее утро, пока «он» жевал булочку, выпеченную в форме цветка, «он» несколько раз повторил про себя это предложение. «Он» решил, что вся его суть заложена в словах: «если бы я мог избежать». Без них предложение было бы все равно что мертвое. «Он» задрал голову и уставился в потолок, на котором был нарисован месяц и звезды всех форм и размеров, а между ними была пустая темнота космоса. «Я — это больше не я», — произнес «он». Никто «его» не услышал. Так «он» положил конец той жизни, которую вел тридцать два года.
Через четыре дня «он» собрал сумку и вышел из отеля. «Он» стоял на остановке перед гостиницей и некоторое время просто смотрел на проходящие автобусы. Спереди у них висело табло, на котором было написано, куда едет автобус, но «он» не видел ни одного знакомого названия. «Он» вглядывался в одно за другим табло, а потом сел в двухэтажный автобус, который ходил между старым и новым городом, просто потому, что в Корее едва ли можно было увидеть двухэтажный автобус. «Он» сел на свободное место на верхнем этаже и стал безучастно смотреть на ветви платана, которые расступались перед автобусом, обогнувшим парк по окраине, заехавшим на небольшую возвышенность и оттуда устремившимся вдоль берега моря. Как только автобус выехал на прибрежную дорогу, то сразу стало видно мост через залив. Несимпатичная бетонная конструкция, напоминающая волнорез, и подобие маяка на одном из его концов привлекали к себе многочисленных туристов. Не имея никакого представления об историческом значении моста, «он» с некоторым удивлением смотрел на восторженную толпу.
Пока мы не знаем прошлого новых для нас предметов, они все нам кажутся странными. «Он» сошел с автобуса на остановке перед мостом и пошел вдоль берега. Несомненно, «он» выделялся на окружающем фоне, и с первого взгляда становилось понятно, что «он» принадлежит другому миру. «Он», как всегда, был одет в черный деловой костюм, в руке у «него» была небольшая сумка. Точно так же «он» выглядел четыре дня назад, когда выходил из дома. Сейчас «он» шел по направлению к мосту и остановился у отеля, из которого непременно должно было быть видно море. Отель выглядел старым, как будто его построили полвека назад. «Он» достал банку пива из сумки, вскрыл крышку, запрокинул голову и начал пить. Яркое солнце светило высоко в небе и слепило глаза так, что трудно было смотреть. Он прикрыл веки. На жаре пиво казалось солоноватым. Опустошив банку, «он» выбросил ее в мусорный бак, вновь ощущая желание завалиться спать.
«Он» сразу направился к отелю, который был рассчитан главным образом на местных. Учитывая количество туристов, постоянно крутящихся в этом районе, холл отеля казался невыносимо тесным. Из кафе, тут и там украшенного грязными подтеками, пахло затхлой сыростью и прокисшим чаем. Зато и цены за ночь, указанные на стойке регистратуры, были соответствующими. «Он» попросил себе самую дешевую комнату. Девушка за стойкой посмотрела на «его» лицо, уже раскрасневшееся от только что выпитого пива, и протянула анкету постояльца. «Он» взял ручку и некоторое время смотрел на бланк, в который надо было вписать имя, национальность и паспортные данные. Только тогда «он» вдруг понял, что не может вспомнить свои имя и фамилию. «Он» достал из сумки книгу, из которой, со стуком плюхнувшись на пол, вылетел паспорт, заложенный между страниц. «Он» поднял и раскрыл документ, внимательно посмотрел на данные на двух первых страницах, конечно же ненастоящие, и заполнил бланк. Пока «он» выводил английские буквы своего имени, «он» несколько раз посмаковал его. Теперь «его» зовут так. Теперь это «его» имя.
2
Конечно, Алекс — это сокращение от имени Александр. Значение этого имени — «мужественный защитник». В случае с именем Жаклин все немного сложнее. Это женское имя образовано от французского Жак, которое в свою очередь является производным от имени Иаков, встречающегося в Ветхом Завете. Опасаясь мести своего брата Исава, Иаков бежал в Месопотамию. В пути ему приснился сон, в котором он увидел лестницу, достающую до неба. В имени Жаклин спрятано слово Божье, которое услышал Иаков: «Сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю». Именно этим Жаклин и Алекс подходят друг другу, ибо одной обещана защита, а другой призван защищать. Четыре года назад в день, когда открывался фестиваль в Эдинбурге, на Королевской миле, ведущей к Эдинбургскому замку, древней крепости города, Алекс случайно встретил Жаклин, которая искала китайский ресторан «Сайгон-сайгон». По долгу службы Алекс знал все о ресторанах, а потому смог подробно объяснить девушке, куда ей идти, приправив свой рассказ тонким ароматом юмора, чем произвел на Жаклин незабываемое впечатление. Алекс воспринял как хорошее предзнаменование то, что первый разговор завязался вокруг китайского ресторана, и счел эту встречу знаком судьбы.
Если кто-нибудь задастся вопросом, насколько судьбоносной была первая реплика Алекса: «Немного ниже пупка», которой он немало удивил Жаклин, пытавшуюся выяснить, где находится китайский ресторан «Сайгон-сайгон», то ответ найдется в лондонском Ковент-Гардене. В одном из ресторанов этого района он продолжил свое знакомство с девушкой. «Потому что», — начал Алекс, взмахнув вилкой, и замер с таким лицом, будто решал в тот момент судьбы мира. Потому что, будучи наречен тем же именем, что великий македонский правитель, предпринявший поход на восточные земли, Алексе детства мечтал, что, когда ему исполнится двадцать пять, он обязательно отправится на Восток. Но до появления в его жизни Жаклин мечты оставались просто мечтами. Теперь же он наконец решил действовать, о чем и начал громко рассказывать Жаклин в ресторане. В то время Алекс считал себя поэтом (хотя с тем же успехом он мог считать себя бездельником), и он стал энергично уговаривать Жаклин, графического дизайнера по профессии, отправиться вместе с ним в кругосветное путешествие. Он соблазнял ее заморскими красотами, к тому же путешествие сулило возможность подзаработать и сделать себе имя.
Когда остававшаяся безучастной к этому безумному проекту Жаклин довольно резко спросила: «И как это все будет?» — она уже попалась на крючок Алекса. Имея неплохой опыт в написании отзывов о ресторанах и кафе для журнала «Тайм-аут» и других популярных изданий, Алекс хотел отправиться на Восток и наладить там выпуск собственного журнала. Он взял стакан и плеснул немного воды на стол, затем стал размазывать ее вилкой, рисуя карту мира. Сначала Алекс весьма схематично изобразил Африку, а затем принялся за сложные очертания Юго-Восточной Азии, вырисовывая береговую линию Китая и Корейского полуострова. В конце он добавил несколько капель воды из стакана и нарисовал Японию. По его плану, оттуда они смогут вернуться обратно в Англию. Жаклин влюбилась в эту мокрую карту мира на столе ресторана, хотя не могла не признать, что она была далека от совершенства. После этого у этих двоих уже не было другого выхода, как приехать в Стамбул и начать жить единой судьбой.
Жаклин много раз могла бы вернуться домой, но ее удерживал Алекс, точнее, его скрытый талант, проявившийся в поездке. Он делал все возможное, чтобы на подсознательном уровне внушить Жаклин, будто он гений. Например, когда он говорил с ней о знаках зодиака, она слушала его и верила, что человек, родившийся под знаком Весов, может быть, и необязательно гениален, но точно взвешивает все, что попадает на чаши его весов, и, как истинный художник, знает цену людям и вещам. Даже то, что Жаклин не воспринимала слова Алекса в штыки, уже говорило о его силе. Люди, рожденные под этим знаком, не являются абсолютным измерительным прибором, но всегда могут объяснить, почему их чаши склонились в ту или иную сторону. Эта способность Алекса была подобна маяку в городе, чуждом ей, как пустыня Иакову. Алекс знал, на что способен человек, видел его потенциал с самой первой встречи и знал, что нужно сделать, чтобы этот потенциал раскрыть. Он не обращал внимания на общественное положение человека, но сосредотачивался на силе, заложенной у него внутри.
Это существенно помогало Алексу, и когда он работал над журналом «Восток и Запад» в Стамбуле, и когда выпускал «Сад Роз» в Калькутте. В восточном городе Алекс быстро понял, что его английский был незаменимым инструментом, поскольку он мог учить языку детей высокопоставленных лиц. Кто бы ни знакомился с Алексом, всех впечатлял его талант сохранять превосходный баланс в общении и полное отсутствие какой-либо предвзятости в отношении других людей. Чаши его весов всегда были вровень: легкие или тяжелые — не важно, главное, что всегда в равновесии. Но, конечно, равновесие было весьма субъективным. Хотя в Калькутте журнал, который в Стамбуле они с Жаклин еле-еле растягивали на четыре страницы, разросся до тридцати двух листов, оставаться в этом городе стало невозможно. Виной тому были муссоны, рикши и невыносимая жара. Еще одна причина крылась в том, что Алекс стал поглядывать на других девушек. Жаклин не относилась к тому типу людей, которые могли бы простить измену. Однако Алекс успокоил ее, свалив все на жару, и уговорил покинуть Калькутту и перебраться восточнее, в город, где он пообещал ей прекрасное побережье и хорошее пиво. Прибрежный город, в который они приехали, был отстроен на европейский манер, и там Жаклин с Алексом стали издавать журнал «Красная звезда». Название, как, впрочем, и всегда, придумал Алекс. И хотя он имел очень смутное представление о маоизме, сам образ красной звезды покорил его воображение. Это оказался последний журнал, над которым они с Жаклин трудились вместе. И во всех смыслах поспособствовал этому господин Ри: благодаря его финансовой помощи издание «Красной звезды» в принципе стало возможно, но он же поспособствовал и тому, что Алекс отдалился от Жаклин. С того самого момента, как, проходя мимо Жаклин в баре отеля «Шангрила», Ри остановился, наклонился к плечу девушки и, раздувая ноздри, вдохнул ее аромат, Алекс понял, что на этот раз они будут издавать журнал благодаря дарованиям Жаклин, а не его собственным талантам. И конечно, он даже представить себе не мог, что прекратит свое существование «Красная звезда» опять же из-за Жаклин. Как бы там ни было, в ту самую секунду, когда Ри остановился около Жаклин, Алекса захлестнула злость. Ри ответил ему, что он не смог сдержаться, когда аромат, исходивший от Жаклин, вынудил его поступить столь грубо. Ри так затейливо и красочно пытался оправдать свой поступок, что его рассказ стал похож на волшебную восточную сказку.
Предчувствие не обмануло Алекса. «Красная звезда» выросла именно из того разговора. Когда Ри узнал, что Алекс и Жаклин путешествуют по Востоку, собирают материал по истории и культуре разных городов и публикуют свои заметки в журнале для многочисленных туристов, он охотно предложил свою помощь, в первую очередь финансовую. Демонстрируя один из журналов «Сад Роз», который пришел на смену аляповатому «Восток и Запад», Алекс решил, что пора набивать себе цену.
— Да, в других городах наши инвесторы оплачивали и стоимость издания журнала, и, конечно, наше проживание, — начал Алекс, решив не раскрывать правду, что во всех предыдущих случаях им оплачивали только стоимость печати журнала.
Ри покивал головой и предупредил только, что его имя не должно значиться в качестве издателя. Это вполне устраивало Алекса, который к тому времени уже успел привыкнуть к разным административным трудностям. Не вдаваясь в подробности, он спросил, есть ли у Ри еще какие-нибудь пожелания по поводу журнала.
— В каждом номере вы обязательно должны публиковать мою историю, которую я рассказал в начале вечера, — ответил Ри.
Алекс кивнул — никаких трудностей просьба Ри не представляла, хотя было непонятно, почему для него это было так важно.
От всех предыдущих журналов «Красная звезда» отличалась оформлением. Щедрые инвестиции позволили раскрыться Жаклин, которая до этого никак не могла показать свой талант во всей красе. В «Красной звезде» неожиданно обрывающиеся предложения были написаны различными удивительными шрифтами. Представившийся мистером Ри старик занял место издателя совсем под другим именем. А вся работа по написанию текстов, как и раньше, легла на плечи Алекса. Он решал, о чем писать: обзор ресторанов, баров, культурных мероприятий, — и в зависимости от этого отбирал материал. Некоторые трудности у него вызывали статьи об историческом и культурном наследии города, сохранившемся до наших дней, но самым сложным оказалось писать историю мистера Ри, которую Алекс был обязан публиковать в каждом номере. Примерно в то время, когда они работали над третьим номером, Алекс случайно встретил «его», мужчину, разглядывавшего воздушные шары с лицами забавных зверюшек, колыхавшиеся над песчаным пляжем, и тогда же Алекс вдруг почувствовал, что не может больше сочинять эти истории. Плевать на журнал и все остальное — в душе Алекса было одно-единственное желание: сбежать!
3
Дом мистера Ри стоял на холме напротив огромного аквариума под названием «Мир моря». От отеля возле моста до дома Ри пешком можно было дойти минут за двадцать, не больше. По обеим сторонам дороги, ведущей на холм, росли туи, деревья гинкго и дубы, высаженные здесь, когда этот район еще принадлежал иностранцам, жившим в стране. В гуще деревьев было много укромных мест, где можно было спрятаться от любопытных глаз прохожих и где обитали уличные бродяги. И хотя сама по себе дорога была создана для пеших прогулок, из-за бродяг, которые постоянно оказывались на пути, бессильные посторониться, мало кто решался ходить по ней. Все дома вдоль дороги и выше, где жил Ри, были построены приезжими. Поэтому стоило лишь подняться на холм — и вокруг оказывались роскошные вишневые сады.
Мистер Ри жил в двухэтажном доме колониального периода, и каждый год ближе к концу весны он мог наблюдать, как улетают вниз, в сторону океана, белые лепестки, опадающие с вишневых деревьев. Синее море было заветной мечтой цветов. Только оно было далековато, и лишь немногие лепестки долетали до него. Вероятно, это была оборотная сторона весны, если она у нее есть. Так говорил мистер Ри, когда рассказывал о бесчисленных цветах, устремлявшихся к морю. Таково было его представление о жизни. Он считал, что абсолютно все вещи, преодолевая пик, показывают свою обратную сторону, изнанку. Только недостижимая мечта поистине может называться мечтой, поэтому если вы видите спину людей на пути к мечте, значит, они перевалили за пик и отказались от нее. И именно этот момент является переломным в жизни. Мистер Ри верил, что все его несчастья начались с тех пор, как он стал жить один в этом двухэтажном доме.
Когда «он» впервые пришел к Ри, тот, зажигая свечи, спросил: «Можно ли скучать о том, чего не существует?» Он говорил, избегая прямых формулировок, и никогда не объяснял свои мысли до конца. Его немного корявый английский, на котором говорили все местные нелегалы, заставлял задуматься, не принадлежит ли и он к их числу. Может, он тоже нелегал? Алекс взглянул на Ри. Тот положил на место зажигалку и стал рассматривать мужчину, который пришел с Алексом. «Речь идет о мечте?» — уточнил мужчина, но сразу понял, что ошибся в своем предположении. Тогда Ри уселся напротив нового друга Алекса и наконец-то заговорил о себе. История была в точности такой же, как ее пересказывал Алекс. История о любви к девушке, которая жила в доме на самой вершине холма. Едва мистер Ри начал свой рассказ, Алекс сказал, что его уже тошнит. Мужчина подумал, что Алекса тошнит от куцего английского, на котором говорил Ри.
Когда мистер Ри жил в Америке, он несколько раз пробовал написать свою историю. Поэтому в каком-то смысле его можно было назвать писателем. Писателем, который разными словами и в разной манере рассказывает одну-единственную историю жизни. Иначе говоря, он выжал из этого сюжета все возможное и больше ничего не мог добавить к написанному. Тем более он хотел, чтобы теперь за эту историю взялся кто-нибудь другой, и именно поэтому, как он сам признался, он вложил деньги в «Красную звезду». По его задумке история его жизни должна стать похожа на любую другую статью в журнале: например, об истории создания города, истории знаменитого моста или бывшего района поселений колонизаторов. Короче говоря, пока кто-то постоянно снова и снова пишет о городе, он оживает и история продолжается. Также и у Ри оставалась надежда, что его жизнь еще может измениться, пока кто-то бесконечно переписывает его историю.
«Я хочу новую историю, такую, которую можете написать только вы с твоим другом. Придумайте еще что-нибудь» — вот чего хотел Ри от Алекса. Ему было все равно, кто будет писать его историю. Мистер Ри с радостью отдал бы любые деньги, если бы можно было взять его жизнь и придумать из нее что-то новое. Когда Алекс вместе со своим приятелем сидели на пляже, открывая последнюю банку пива, тот предложил свою помощь. Первыми словами Алекса были: «Тебе надо будет стать писателем с богатым воображением и жаждой творчества». Уже изрядно захмелевший мужчина развалился на песке и, посмотрев на Алекса, ответил: «Ну, если мне за это будут платить деньги…» — «Хорошо. Я куплю тебе этих воздушных шариков на пару сотен баксов», — ответил Алекс. Воздушные шарики. Все-таки маленькие лица на них не улыбались. Так только казалось из-за того, что уголки их губ были вздернуты кверху. Алекс купил воздушный шарик, решил проблемы с оплатой жилья приятеля, и больше уже мог не заниматься этой опостылевшей ему историей.
Второй раз мужчина пришел к Ри, когда солнце клонилось к закату. Мистер Ри стоял во дворе своего дома и смотрел на видневшийся вдалеке пляж: песок искрился в лучах заходящего солнца, и все еще было полно народу. В саду было жарко, но легкий ветерок спасал от духоты. Ри сел под пляжным зонтиком, установленным между деревьями, и продолжил свой рассказ. Когда он был молодым, в самый разгар революции, случилось так, что он убил отца этой девушки. Это было время, когда могли убить любого, надев ему на голову треугольный мешок, чтобы не было видно лица. После смерти отца ее семья стала потихоньку разваливаться. «Родные и двоюродные братья девушки стали контрреволюционерами. Жаль, что все в этом мире разваливается», — начал Ри, жестом указывая на двухэтажный каменный особняк перед собой. Как бы там ни было, Ри и другие студенты собрались на железнодорожной станции, сели в поезд, более двух месяцев скитались по городам, познакомились с ребятами из других стран и в итоге оказались на границе.
«Он» слышал об этой революции и даже знал имена основных участников. Но теперь слушал рассказ мистера Ри как нечто вымышленное, неправдоподобное. «Он» спросил: «А если откинуть все, что мешало вашей любви, то все закончилось бы иначе?» Мистер Ри посмотрел на фонари, зажегшиеся на пляже, и ответил: «В каком-то смысле. Может быть, не все. В любом случае, возможно, я любил вовсе не ее, а именно препятствия, встававшие между нами. От нее чудесно пахло. Жасмином, розмарином, детьми, молоком, соснами, только что приготовленным рисом и много чем еще. Не знаю, как объяснить, но это было прекрасно, она сочетала в себе все вкуснейшие запахи, которые вы можете представить. Вот так. — Мистер Ри провел правой рукой в воздухе, пытаясь изобразить стену. — А не было бы препятствий, не было бы и этого аромата». — «Правда? Если бы не было препятствий?» — переспросил «он». Ри посмотрел «ему» прямо в глаза, поднялся со своего места и потрогал ствол вишни, которая росла в его саду. «Напишите об этом. Я уже много раз обдумал все, что мог, по поводу своей жизни». Это был первый раз, когда Ри открыто сказал «я».
По каменному зданию, огороженному стеной, полз угасающий оранжевый луч солнца. В круглом окошке за деревянной рамой зажегся свет. Туда переехали Алекс с Жаклин, но Алекс уже несколько дней не возвращался домой. Слушая пение птиц, доносящееся из-за дома, он вспомнил, что отель, в котором «он» провел первую ночь, назывался «Шангрила». Возможно, для «него» это было тем, «чего не существует». И, может, «он» уже очень давно скучает по этому далекому месту. Может быть. Кто знает? А тем временем Ри что-то говорил. «Мистер Чои. Мистер Чои». «Он» медленно поднял глаза и встретился взглядом с Ри. «Мистер Чои», — позвал тот еще раз. «Это не мое имя», — ответил «он» мистеру Ри. «Тогда как же вас зовут?» — спросил тот.
4
Однажды Алекс пришел к «нему» в отель и сказал, что от мистера Ри пахнет преступлениями. Это случилось вскоре после того, как вышел третий номер «Красной звезды», в котором, конечно, тоже была опубликована история Ри. Она ничем не отличалась от того, что Алекс писал в первых двух выпусках журнала. На что, собственно, Алекс и указал.
— В итоге мы будем писать одни и те же статьи в каждом номере. И в этом, видимо, вся идея мистера Ри. Он хочет отчиститься от своих преступлений таким образом. Люди уже начинают интересоваться, почему мы пишем одно и то же из номера в номер. А я даже не знаю, что им отвечать.
— То, что пишешь ты, и то, что пишу я, отличается одно от другого, — сказал «он».
Алекс изумленно уставился на приятеля. Как и раньше, он все еще не понимал, в чем разница между двумя одинаковыми историями.
— Люди скоро поймут. Про возвращение мистера Ри. И окажется, что мы с тобой тоже уже вовлечены в его преступления. Ты сам это писал. Как глубоко ни вглядывайся в человеческую жизнь, не найти человека, чья жизнь была бы абсолютно понятна окружающим. Жизнь любого человека — это череда неподвластных нам случайностей. Это предложение может служить оправданием мистера Ри.
Оправдание было бы необходимо, если бы существовала правда, но «он» считал иначе. В истории мистера Ри, переписанной несколько раз в поисках истины, ее не было как таковой. И когда «он» пошел к Ри в третий раз, тот вышел, держа в руках картонную коробку, набитую всевозможными тетрадями. Добравшись до границы, Ри начал записывать свою историю. Лишь только у него появлялась свободная минутка, он брал тетрадь и описывал все, что было или могло бы быть. Казалось бы, это хороший способ, чтобы расставить все по местам, лучше понять, что произошло, но в итоге получается как раз наоборот. Сомнения цепляются друг за друга и мешают разобраться. Поначалу мистер Ри был убежден, что стоит подправить несколько предложений, и появится ясность, не останется места сомнениям, но в итоге начинал переписывать все заново. Поэтому тетрадей было так много. «Он» просмотрел записи, которые мистер Ри делал в Пакистане, Индии, на Тайване, в Соединенных Штатах. Где-то он писал карандашом, где-то шариковой ручкой, где-то перьевой, писал то печатными, то прописными буквами. Конечно, смысла мужчина не понимал, так как не знал языка. Но догадывался, что повествование менялось в зависимости от настроения мистера Ри и ситуации, в которой тот оказывался.
— С течением времени история понемногу начинает меняться. Потому что ты больше узнаешь о жизни, понимаешь вещи, которых не знал в молодости. И каждый раз меняется твой взгляд на события и меняются твои слова, которыми ты описываешь эти события. Возможно, самая ранняя запись о том, что произошло, наиболее правдива, но невозможно понять, насколько эта правда осмысленна. Осмысленной, скорее, можно назвать мою последнюю запись, — пояснил мистер Ри. Он вернулся на родину, выдав себя за американского гражданина, и под вымышленным именем купил этот особняк, после чего узнал, что бывший владелец дома был казнен в разгар революции по ложному донесению. Сам Ри принимал участие в этих кровавых игрищах, во время которых был смертельно ранен отец девушки, хотя тогда Ри этого не знал.
Тем не менее известие заставило мистера Ри переписать всю свою историю. Сам он не понимал, почему оставил возлюбленную и сел на поезд. Это грызло его всю жизнь. В итоге он пришел к выводу, что это произошло из-за чудовищного чувства вины оттого, что он нанес ее отцу смертельный удар. Но проблема в том, может ли повлиять на действия молодого юноши, который, ничего не зная, сел на поезд, то, что он узнает в дальнейшем. Возможно, он тогда бы и не убил ее отца, и не сел потом на поезд. Стоило только поднять эту тему, как мистер Ри попросил «его» написать об этом. «Он» начал представлять жизнь мистера Ри, какой она могла бы быть, если бы тот не ранил отца девушки. В «его» мыслях молодой Ри все равно садился на поезд.
А тогда в чем смысл всего, что происходит с нами в жизни? Как-то однажды «он» показал полицейскому водительские права младшего брата, которые по ошибке случайно положил в свой кошелек. Конечно, равнодушный страж порядка не стал вглядываться в фотографию и выписал штраф на имя «его» брата. Что штраф выписан не на «его» имя, «он» понял только спустя несколько дней, когда пришел в банк оплачивать квитанцию. А если бы можно было изменить прошлое, пожелал бы «он» переиграть все так, чтобы показать полицейскому свои права и теперь не иметь всех этих проблем с перепутанными именами и платежами? Когда «он» записывает рассказы мистера Ри, который будто бы хочет найти логическое объяснение своей жизни, «он» на самом деле придумывает новую реальность. Хотя никто из них никогда в этом не сознается, «он» так же, как и мистер Ри, однажды купил поддельный паспорт и поднялся на борт самолета, который летел в город, в котором мужчина никогда раньше не бывал. «Он» не планировал это заранее, а потому найти истинные причины «его» поступка будет нелегко. В конце концов, жизнь так же, как и истории мистера Ри, пишут не один раз, но исправляют и переписывают каждую секунду. Можно вспомнить и осмыслить прошлое, но логически предсказать, что будет дальше, невозможно. Каждый раз, когда мистер Ри записывал свою историю, она получалась разной, тем более уж не могли совпадать истории, записанные «им» и Алексом.
— Но есть главная составляющая, принципиальная основа, — сказал мистер Ри, снова складывая тетради в коробку, — она заключается в том, что я любил эту девушку всю жизнь. Что мне только не доводилось делать в Америке! Даже то, что человеку в принципе не под силу. И каждый раз в самые трудные моменты я вспоминал этот дом. Я представлял, как вернусь на родину и буду жить с ней здесь. Я думаю, именно в этом кроется причина, почему я все-таки уехал из Штатов. Но, вернувшись, я понял, что моей мечте не суждено сбыться. Потому что, кроме дома-то, больше ничего не осталось. И куда мне было бежать от одиночества? В эту свою историю? Пока Алекс с Жаклин не переехали сюда, дом был слово наполнен призраками, но сейчас все изменилось.
— Это из-за Жаклин? — спросил «он».
— Вполне возможно. Ведь может так статься, что я любил не саму девушку, а любил всю жизнь ее запах. И что, если так? Если я любил лишь ее запах, как тогда изменится весь мой рассказ? — Мистер Ри пристально посмотрел на мужчину.
Тот отвел взгляд и уставился в сторону.
5
Рассматривая проходивших мимо людей, Алекс сказал:
— Меня всегда интересовали новые места. — Его голос тонул в гуле аэропорта. Люди спешили на рейсы, постоянно звучали объявления о начале регистрации или посадки на то или другое направление. — Приезжая в незнакомый город, я первым делом пытаюсь раздобыть карту. Центральная улица, спальные районы, промышленные зоны, развлекательные центры и так далее. Потом изучаю историю города. Когда в этом месте появились первые поселения, когда город процветал, когда, наоборот, пришел в упадок, какие исторические памятники сохранились до наших дней. Это все определяет образ города. Без этого невозможно его понять. Иначе не было бы так много музеев, памятников архитектуры, мемориалов. Я не прав? Если не знать всего этого, то каким бы гурманом человек ни был, он не сможет прочувствовать вкус города. Еще это называют атмосферой города.
— Ты думаешь, что возможно понять город через его атмосферу? — спросил «он».
— А как иначе? — ответил Алекс вопросом на вопрос.
— Мы садимся на самолет и пересекаем океан, мы видим небо, мы видим звезды, мы видим океан внизу. Но в конечном итоге мы видим лишь самих себя. Как бы далеко ты ни уезжал, ты можешь понять только себя самого. Когда ты пробуешь еду, ты сравниваешь ее с другой пищей, которую ел раньше, ты пробуешь их разницу на вкус, но возможно, что вкуса как такового ты не чувствуешь. И Жаклин…
На этих его словах Алекс резко поднялся с места, не дав мужчине договорить.
— Она шлюха. С самого начала, как я встретил ее в Эдинбурге, она была шлюхой. Да еще такой, которая и обезьянами не побрезгует! — Алекс сорвался на крик.
Проходившие мимо пассажиры стали оборачиваться на них.
— Тебе надо было стихи писать, а не журнал по истории городов. Тогда, возможно, ты не потерял бы Жаклин, — сказал «он».
Алекс так и остался стоять. Он слушал, что говорит приятель, и все ниже и ниже опускал голову. Тот наклонился и заглянул Алексу в лицо: слезы текли у него из глаз. «Attention, please», — женский голос начинал очередное объявление, эхом прокатившееся по залу.
— От карты нет никакого толка. От старой карты нет никакого толка, поскольку она устарела, но даже самая новая детальная карта становится бесполезной к тому моменту, как выходит из типографии, поскольку город уже успел измениться. Поэтому я никогда не смотрю на карты и все прочее. Но ты прав. Я тоже, когда только увидел Жаклин, сразу понял, что она шлюха. Да еще такая, которая и обезьянами не побрезгует, — сказал «он».
Алекс поднял голову и посмотрел на своего приятеля, на кончиках его ресниц дрожали слезы, но было непонятно, плачет он или смеется.
— Как вы мне все надоели. И ты, и этот Ри. Это что, такая восточная изюминка? Все вы лжецы и аферисты! Правда для вас ничего не значит! — Алекс перевел дух и продолжил: — Жаклин не тот человек, про кого такие, как ты, могут трепаться, что она шлюха. Все так получилось из-за того, что я свалял дурака в Калькутте. Неужели ты правда думаешь, что она любит эту обезьяну Ри? Это смешно!
— Алекс, Алекс, ты повторяешься, — ответил «он».
— В смысле? — переспросил Алекс.
— Так или иначе, ты снова говоришь, что Жаклин была шлюхой с самого первого дня вашего знакомства в Эдинбурге. Ты же видел тетрадки мистера Ри. В них одна и та же история. Он всю жизнь писал одно и то же, но каждый раз истории отличались друг от друга. Давай я скажу по-другому: «Жаклин не шлюха». И что изменилось? — спросил «он».
Алекс поднял с пола сумку, стоявшую рядом с сиденьями, кратко выругался, развернулся на месте и пошел к стойке регистрации на рейс.
А «он» так и остался сидеть на месте, смотря вслед Алексу, прокладывающему себе дорогу в толпе людей. Все они чего-то искали. Стойку авиакомпании, чтобы купить билет, нужные ворота, чтобы сесть на самолет, или семью, чтобы в последний раз обнять перед вылетом. Даже когда Алекс затерялся в толпе, его бывший приятель еще долго оставался на своем месте. «Он» думал, как бы «он» начал, если бы, подобно мистеру Ри, вздумал написать повесть своей жизни.
Бесчисленные первые предложения. И эти первые предложения меняются с течением времени, с развитием нашей жизни. Мы меняем первое предложение в зависимости от того, куда нас завели все последующие. Теперь «он» знал, что уже не начнет свою историю словами: «Наверное, он уже давно подозревал, что в его жизни настанут такие времена. Очень давно. С тех самых пор, как позвонил жене и сказал, что не вернется к назначенному времени, и перешел дорогу». С тех пор его жизнь начала безостановочно меняться. Прежде чем вернуться в абсолютную темноту, мы беспрерывно исправляем историю своей жизни. Он поднялся с места и медленно пошел. Теперь в зависимости от того, куда он пойдет, будет меняться начало его истории. И он пошел, перебирая в темноте первые предложения своей жизни.
КОМИК, ОТПРАВИВШИЙСЯ НА ЛУНУ
1
Через восемнадцать лет после того, как один мужчина ушел скитаться по пустыне, двадцать четвертого декабря двухтысячного года я получил приглашение и отправился на вечеринку к старшему товарищу, который праздновал свое назначение на должность штатного профессора университета. Там я увидел девушку с химической завивкой на голове. Она напомнила мне одну из американских тряпичных кукол, которые вдруг стали очень популярны, когда я был еще маленьким мальчиком. Естественно, именно с этих кукол, напоминающих пухленьких американских детишек, я и начал разговор. Затем мы поговорили о начале восьмидесятых, когда эти игрушки только стали популярны, и в итоге вспомнили одного боксера, у которого констатировали смерть мозга после жестокого боя за чемпионское звание в сверхлегком весе в одном городе, известном от Калифорнии до Невады своими развлечениями.
Майк Тайсон как-то сказал, рифмуя слова, будто читал рэп, что «кроме бокса все остальное очень скучно», а я в тот вечер напился и несколько раз повторил его фразу, пародируя великого боксера. «Азэ зэн боксинг, эврисинг из соу боринг (Other than boxing, everything is so boring)», — чеканил я речитатив. Вообще-то, мне не свойственно дурачиться перед малознакомыми людьми, и мне самому было удивительно, что я так себя веду. Однако вскоре ко мне снова подошла девушка с химией на голове и вопросом: «А роман из этого может получиться?». Тогда-то я и понял, что все это время пытался привлечь именно ее внимание.
— Что? Вы о чем?
— Я об этом боксере. О боксере, который умер в Лас-Вегасе. Можно ли написать роман о его страданиях?
— Так ведь роман, как вы знаете, — это не просто рассказ о страданиях. Роман — это переложение страданий, известных и понятных автору. Если бы я мог понять, что боксер чувствовал в ожидании смерти, то я, вероятно, смог бы написать об этом роман.
— Тогда спрошу по-другому. Можно ли понять, что такое страдание?
— Для писателя страдания — это когда читатели не понимают его романов, а потому книги этого писателя не продаются.
Люди вокруг нас засмеялись.
— Ничего смешного.
— Тогда тебе надо набраться опыта, чтобы ты смог написать об этом боксере, — вклинился в разговор мой старший товарищ.
— Нет. Я писатель, который не знает, что такое страдания, — сказал я в шутку, на что девушка ответила:
— Похоже, вскоре вы все-таки напишете этот роман.
— Неужели? Хотите сказать, что вскоре я узнаю, что такое страдания, и, вероятно, вы же мне в этом и поможете?
Мы обменялись многозначительными взглядами. Не знаю, какой промежуток времени она подразумевала под «вскоре», но, учитывая, что этот боксер появился в моем романе, похоже, что теперь я знаю о страданиях не понаслышке. «Это то же самое, что влюбиться в девушку», — сказал чемпион мира в супертяжелом весе боксер Флойд Паттерсон. «Вот, например, вы знаете, что ваша девушка вам изменяет, что она хитрит и иногда даже бывает жестокой, но вам все равно. Девушка причиняет вам боль, но вы продолжаете любить ее и хотите быть с ней. Вы ничего не можете с этим поделать. Примерно такие же отношения у меня с боксом», — пояснил он. Возможно, именно так мне стоило начать свою историю.
Не прошло и десяти минут после того, как я вдруг понял, что эта девушка откуда-то знает, что я писатель, а я уже не мог спокойно смотреть на нее: внутри у меня разливалось странное тепло, стоило мне только повернуться в ту сторону, где сидела она. И это тепло все больше и больше разгоралось во мне каждый раз, когда кто-то говорил про нее или когда говорила она сама. Я узнал, что она училась в одной школе с женой моего товарища, работала продюсером на радиостанции и была моей ровесницей. Ближе к полуночи пошел снег, невероятно красивые снежинки медленно укрывали землю. К тому времени я совсем раскраснелся и сиял, как полная луна в пятнадцатый день первого лунного месяца, которую очень любят рисовать дети, очерчивая ярким огнем ее круглый силуэт в воздухе перед собой. Моя краснота стала результатом не только количества употребленного алкоголя, но и внутреннего жара, поднимавшегося во мне.
2
Меньше чем через месяц я убедился, что у нее, так же как у меня, при встрече учащается пульс, из-за чего краснеет лицо и по телу, до самых кончиков пальцев на руках и ногах, разливается тепло. С той самой снежной ночи двадцать четвертого декабря, когда большие хлопья снега ложились на землю, предвещая светлое Рождество, а мы с одиннадцати часов вечера жевали селедку с твердым мясом и мягкими костями, градус наших отношений все повышался и вдруг упал в начале сентября следующего года. А пока температура продолжала накаляться, я взахлеб упивался всем, что есть в этом мире, словно школьник, жадно глотающий воздух после километрового забега, в котором он успел полностью выложиться. Пока между нами было это тепло, мир вокруг казался простым, абсолютно понятным и безобидным.
Однако прошло немного времени, и я поймал себя на мысли, что мы с ней похожи на людей, любующихся цветами вишни в начале апреля, когда на деревьях среди белых лепестков появляются первые зеленые листики. Вишня пока еще вся в цвету, но понятно, что пройдет совсем немного времени и цветочки опадут. То же самое чувствовал и я. В душе была грусть, похожая на ту, что испытываешь, сидя под роскошной цветущей вишней. Я почувствовал это, когда мы лежали вместе и я двумя руками гладил ее по голове, вглядываясь в ее лицо. Конечно, можно списать все на то, что в этом мире нет ничего вечного. Тогда, как это ни парадоксально, мы были с ней одновременно удивительно счастливы и удивительно несчастны.
Насколько я помню, самое чистое счастье, неомраченное ничем, мы разделили с ней со второго по пятое августа 2001 года, когда наконец-то закончился уже опостылевший сезон дождей, длившийся тридцать девять дней. Я подогнал свои выходные под ее летний отпуск, и мы вместе поехали в небольшой коттедж на берегу озера в городе Чхунчжу. Все, чего мы хотели, — это вдоволь спать, сколько нам захочется спать, вдоволь разговаривать, сколько нам захочется разговаривать, вдоволь читать, сколько нам захочется читать, вдоволь купаться, сколько нам захочется купаться, вдоволь напиваться, сколько нам захочется пить, и вдоволь заниматься любовью, сколько нам захочется любить друг друга. Говорят, человеческие желания безграничны, но в то время у меня не было никаких других желаний.
Четвертое августа. Последний вечер нашего отпуска. Мы, взявшись за руки, прогуливались по красной асфальтовой дорожке, с которой открывался прекрасный вид на озеро. Вода в озере была мутной после затяжных дождей. Вдоль асфальтовой дорожки на расстоянии тридцати шагов друг от друга стояли фонари, вокруг которых, привлеченные светом, летали насекомые, изредка звонко ударяясь о лампочки. В то время она работала над выпуском передач «Истории нашей жизни», и, медленно ступая вдоль озера, она рассказывала мне об атмосфере, царящей в полупустой студии, где остаются только задействованные в проекте люди и сводят чей-нибудь рассказ о жизни.
— Есть одна женщина, врач, которая вслед за своим старшим братом ушла в горы Тогюсан, как только разразилась корейская война, и вступила в ряды северокорейских партизан. А когда война закончилась и проходили уже последние зачистки местности, ее арестовали. Потом она вышла из тюрьмы и, тщательно скрывая свое прошлое, много трудилась, а потом все заработанные деньги пожертвовала университету, чем сильно прославилась. Но историю своего прошлого она никогда никому не рассказывала, пока не пришла к нам на радио. А вот еще помню историю одного человека, который стал художником и работал в традиционном восточном стиле. У него была мечта обогатить сына, который родился у его любовницы, и он все для этого делал. Но его крупное развивающееся предприятие обанкротилось, и он решил покончить жизнь самоубийством и с этими мыслями ушел в горы Чирисан. Там он увидел одиноко растущее абрикосовое дерево. Поскольку он все равно собирался свести счеты с жизнью, то решил напоследок вдоволь полюбоваться деревом, пока его тошнить от него не станет. И он три года смотрел на абрикос, а потом впервые в жизни взял кисть и начал рисовать. Я по несколько раз прокручиваю рассказы этих людей в пустой студии. В первый раз слушаю просто саму историю, а потом начинаю следить за эмоциями и чувствами, которые в ней скрыты, причем я думаю, что их больше не в словах, но в том, что заполняет паузы между словами. Ты же знаешь, что редакторская работа состоит как раз в том, чтобы удалить все заминки в рассказе: искать и вырезать вздохи, длинные паузы между словами, когда человек сглатывает или откашливается. От этого становится не по себе, грустно и очень одиноко. Я имею в виду, тоскливо сидеть, вслушиваться в запись и вырезать эти живые звуки из оригинальной пленки… Ой, что это там?
Потом, когда она заканчивала редактировать сюжет и передача выходила в эфир, ее каждый раз удивляло и расстраивало, что в итоге получалась совсем не такая история, которую она записывала в самом начале. Возможно, именно эти вздохи, покашливания, сглатывания в паузах между словами и есть то, что составляет «историю нашей жизни». Получается, что сомнения и страхи, которые испытывал человек в минуты, когда его жизнь делала новый поворот, исчезали вместе с кусочками оригинальной записи, которые она вырезала. Куда? В космос, в темноту. Как эта сова, чей силуэт растворился в ночи, когда на повороте асфальтовой дорожки, огибающей озеро, девушка прервала себя, воскликнув: «Что это там?!»
Среди деревьев она увидела сову. И хотя прошел еще месяц, прежде чем она сказала мне, что мы расстаемся, я думаю, что на самом деле мы расстались именно тогда. В ту ночь мы смотрели на огромный черный силуэт совы на фоне полной луны, и все мое будущее виделось мне таким же ясным и отчетливым. Более того, я был убежден, что прекрасно понимаю все процессы, приведшие меня и ее к тому, кем мы были на тот момент. И в этом простом и понятном мире я осознал, что хочу стать тем человеком, который каждый вечер до самой смерти будет желать этой девушке спокойной ночи. Еще несколько минут после того, как сова скрылась за деревьями в лесу, мы стояли и смотрели вверх на ночное небо, и я, расчувствовавшись, выдал то, что уже некоторое время жило у меня в душе:
— Давай поженимся.
Она повернулась, посмотрела на меня и весело рассмеялась.
— Я серьезно. Не смейся.
Тогда она запрокинула голову и расхохоталась так, словно и вправду услышала какую-то забавную шутку. Я взял ее за руку и стал напирать:
— Хватит смеяться. Ответь мне. Быстро. Быстро.
Не прекращая смеяться, она сказала: «Хватит!» — и отстранилась от меня. Еще через месяц я понял, что за эти несколько счастливых минут вслед за совой в мерцающее вечернее небо улетело тепло, которое жило в нас с ней прошедшие восемь месяцев. Мне было радостно думать, что огонь, живший между нами, не просто исчез в никуда, но растворился во вселенском космосе. Потому что иначе я бы уже давно умер, не в силах перенести потерю своей любимой.
3
Все, что случается с нами в жизни, можно считать предопределенным в том плане, что предпосылки и знаки всегда появляются задолго до самого события. Конечно, это далеко не факт, но я вынужден был принять такую позицию, чтобы жить дальше и не захлебнуться своим горем и чувством утраты. Наша любовь, начавшаяся внезапно, как нежданный снегопад, так же неожиданно закончилась. После того как моя любимая сообщила, что мы расстаемся, я очень долго пребывал в депрессии и пытался найти причину, по которой она ушла. Единственное, что я понимал, это то, что расстались мы не из-за моего предложения, которое я сделал, поддавшись чувствам в ту ночь, когда мы любовались совой, летавшей на фоне полной луны. Когда наша любовь началась без какой-либо явной причины, мне все равно казалось, что я понимаю абсолютно все в этом мире, но когда в конечном счете мы также без какой-либо явной причины расстались, я перестал понимать элементарные вещи: почему Земля крутится, почему наступает ночь, почему я лежу без сна с широко открытыми глазами?
Полнейшая растерянность, в которой я пребывал довольно долгое время, в итоге затаилась глубоко в моем сознании, а потом наступила осень 2004 года. Мы со знакомыми писателями, редакторами и другими коллегами из литературных кругов сидели в ресторанчике, где подавали прекрасный одэнь[19], и внезапно разговор зашел о том, кто что делал в день, когда случились теракты 11 сентября. Некоторые узнали о терактах только спустя несколько дней, кто-то услышал эту новость в такси по дороге домой и по каким-то своим причинам решил вернуться на работу. А я сказал, что в тот день потерял свою невесту. Сначала это вызвало всеобщее удивление, но в следующий момент все разразились смехом. Конечно же, моя бывшая девушка в тот день и рядом не была с башнями Всемирного торгового центра или Пентагоном. Я просто хотел сказать, что из-за этого теракта некоторым образом всплыли проблемы, которых раньше я не замечал в наших отношениях, из-за чего в итоге мы и расстались. Однако, когда я посмотрел на этих людей, которые смеялись мне в лицо и хлопали по столу, мне оставалось только замолчать.
То, что я не смог рассказать в ресторане, это слова, которые я услышал от своей девушки, когда произошли теракты. Если передавать дословно, то в одной из многочисленных статей, посвященных тем событиям, было написано, что Нострадамус предсказал эту трагедию в своих катренах. Вот что он писал: «На сорока пяти градусах загорится небо,/ Пламя достигает великого нового города, / Немедленно поднимается огромное пламя, / Когда они хотят иметь подтверждения от нормандцев». Она процитировала эти строки и пояснила, что не может выйти за меня из-за предсказания Нострадамуса. Это все равно что она сказала бы, что мы должны расстаться, потому что поднимается уровень мирового океана. Все, что может чувствовать мужчина, когда ему в одностороннем порядке заявляют о разрыве по такой нелепой причине, как повышение уровня мирового океана, что приводит к затоплению острова Тувалу, — это смятение, унижение, гнев, злость и далее по списку.
Как я уже говорил, я долгое время пребывал в депрессии и смог принять наш с ней разрыв только после того, как одно за другим пережил все эти чувства, родившиеся во мне. Тем не менее я ничуть не смутился, когда в ответ на мою несостоявшуюся историю в ресторане я услышал громкий смех. Уверенность в себе придала мне смелости. Как-то днем, не прошло и недели с того вечера в ресторане, я встречался с главным редактором одного издательства. За обедом мы с ним выпили. По пути домой сказалась давешняя смелость, усиленная алкоголем, и я попросил таксиста отвезти меня к зданию, где она работала, хотя сам не понимал толком для чего. Пока мы проезжали по мосту Мапхотэгё, я смотрел на реку Ханган и напевал себе под нос песню американской рок-группы «Дорз» «People are strange»: «People are strange, when you’re a stranger». Правда, это была единственная строчка из песни, которую я помнил. Я не узнавал сам себя, душа казалась мне чужой. Или нет, скорее просто измученной.
4
Я подошел к стойке регистрации, чтобы взять временный пропуск и подняться в радиостудию. Потом вдруг стал собачиться с охранниками, которых вызвали девушки на регистрации (я был пьян и уже не помню, из-за чего мы начали ругаться), и тут около проходной появилась она в белом платье, поверх которого был накинут бордовый кардиган. Похоже, кто-то успел с ней связаться, после того как я несколько раз упомянул ее имя. Ей уже было за тридцать, но, вопреки ожиданиям, женское очарование переполняло ее. Весь мой хмель улетучился, стоило мне увидеть, как она проходит через турникет, похожий на турникет в метро. А потом я подумал, что надо спасать положение, раз уж мы снова встретились, да еще и таким нелепым образом.
— Я проходил мимо и подумал, что я еще не обедал сегодня, и может… — начал я, но прервался. Я собрался было сказать ей «ты», но, испугавшись слишком уж серьезного выражения лица, с которым она смотрела на меня, нелепо пробормотал: — Если вдруг вы, уважаемая мисс Ан, не обедали, то, может быть, вы составите мне компанию…
Она кивнула в сторону электронных часов, которые висели в холле. Было начало шестого.
— Не поздновато ли для обеда? — спросила она, искоса поглядывая на людей вокруг нас. — Похоже, ты много выпил.
— А, да. Я ездил в издательство. Обычно-то я не пью днем, но мы заказали суп из минтая и немного выпили под него.
Я хотел сгладить ситуацию, но никак не мог найти правильные слова.
— Ладно, выход там. Проводить тебя?
Я застыл в нерешительности, а она взяла меня за руку и повела в сторону вращающейся двери. Выйдя из здания, она сразу отпустила мою руку, которую и так едва держала, и пошла к обочине дороги, где стояла пара свободных такси. Низко склонив голову, словно нашкодивший ребенок перед матерью, я побрел за ней, думая лишь о том, как можно было бы исправить все, что я натворил, но не мог ничего придумать. Я зажмурился и вдруг со всей дури врезался лбом в дерево. И ладно бы я просто врезался, но поскольку я был пьян, то вдобавок еще и рухнул на землю так, что искры из глаз посыпались, хотя открывать глаза по-прежнему не хотелось. И почему мир так жесток ко мне? А как было бы здорово, если бы это все оказалось сном. Или, может быть, она сейчас убежит куда-нибудь, так и оставив меня валяться здесь одного? Я лежал неподвижно с закрытыми глазами и тут услышал приближающийся звук смеха. От этого смеха заныло где-то глубоко в груди. Однажды, когда я сделал ей предложение, она точно так же смеялась надо мной.
— Что это? Что за детский сад? Что ты делаешь? — засыпала она меня вопросами сквозь смех.
Я широко раскрыл глаза:
— Ничего смешного!
— А что тогда? — спросила она, перестала смеяться и серьезно посмотрела на меня.
— Просто хотел показать тебе, в какой безнадежной ситуации я оказался.
Сделав вид, что со мной все в полном порядке, я быстро поднялся на ноги и принялся отряхивать одежду. Теперь я выставил себя в глазах своей бывшей возлюбленной, с которой мы так долго не виделись, настолько жалким, насколько это вообще было возможно. Хотелось умереть со стыда.
— Пойдем, — сказала она.
— Хорошо.
Расставаясь, расстаются, но в душе я все время надеялся, что еще можно что-то исправить.
— Мне вот все интересно, прямо спать не могу, знаешь, я очень переживал и еще хотел тебе кое-что сказать, поэтому пришел сегодня, нет, у меня же дело тут было неподалеку и на обратном пути зашел… — тараторил я. Удивительно или даже забавно, но, как только я наконец-то увидел ее, смятение, унижение, гнев, злость, которые до сих пор сидели глубоко в моей душе, исчезли, растаяли, как прошлогодний снег. У меня было такое состояние, что я понял бы все, даже если бы она сказала, что мы расстались не из-за теракта 11 сентября или глобального потепления и повышения уровня мирового океана, а просто из-за того, что в тот день снова встало солнце.
Но, толком не слушая, что я говорю, она опять пошла к дороге. Поэтому я решил, что единственное, что мне оставалось, это сесть в такси, уехать оттуда и больше никогда не показываться ей на глаза. Однако она прошла мимо припаркованных такси, повернулась в мою сторону, снова взяла меня за руку, которую только что выпустила из своих ладошек, и, не обращая внимания на движущиеся машины, перешла дорогу к парку Йойдо.
5
Она сидела на скамейке. Готовое закатиться за горизонт солнце пробивалось сквозь ветки с поникшими листьями и золотило ее лицо. Она поморщилась, отчего над переносицей появились складочки, а потом заслонилась от солнца рукой. Посидев так какое-то время, она скрестила руки на груди, повернула голову в мою сторону, и я заметил, что она едва заметно дрожит. Она спросила, что же там такое произошло на дороге, отчего я врезался в дерево. Конечно, я не понимал, то ли она беспокоится обо мне, то ли ей действительно интересно, а может, она спросила об этом, потому что до сих пор испытывала вину передо мной или что-то еще, но, тем не менее, я приложил все усилия, чтобы собраться и поговорить наилучшим образом, потому что больше я не мог допустить ошибок перед лицом своей бывшей возлюбленной.
— Сьюзен Зонтаг как-то сказала, что, когда мы смотрим на чужую боль, нельзя говорить «мы». Зонтаг — это такая писательница и литературный критик. Несколько книг даже переведены на наш…
— Я знаю, кто это. Мне она тоже нравится. Продолжай.
— Ну так вот, она говорит, что «мы» и боль не могут сосуществовать, потому что, где есть «мы», там есть общение, а где есть общение, нету боли, да? Вот смотри. Скажем, левая рука — мальчик, а правая — девочка. Эти два человека всегда были вместе, а потом вдруг вот так взяли и расстались. Это значит, что нет общения, а это уже боль, — я объяснял ей, все время сводя и разводя сжатые кулаки.
— Да? Но ты вроде начал говорить о чужой боли, а это, кажется, здесь ни при чем, но продолжай.
— В любом случае, когда люди вместе, они не страдают, а когда расходятся, то появляется боль, вот о чем я. Поэтому, когда тебя не стало рядом, я очень страдал. Раз тебя нет, значит, не получилось общения, значит, мы не понимали друг друга. Я чувствовал себя так, словно у меня есть уши, но я не слышу, есть глаза, но я не вижу. Почему ты это сделала? Знаешь, как это было странно? Я так тебя и не понял. Боль — это когда начинаешь сомневаться в человеке, который был тебе ближе, чем ты сам. Смотри сюда. Дует ветер. Вот здесь между деревьями. Но когда тебя нет, знаешь, какие мысли меня одолевают? А почему собственно дует ветер? Я перестал понимать самые простые вещи. И каждый раз, когда дует ветер, я страдаю. Похлопай в ладоши. Хлоп-хлоп-хлоп. Слышишь звук? А почему он есть? Один этот звук уже причиняет мне боль. Все в мире причиняет боль.
— Ты хочешь сказать, что сегодня не первый случай, когда ты врезался в дерево и упал посреди дороги?
— Мне больно уже оттого, что я не понимаю, для чего ты задаешь этот вопрос. Я все равно что блуждаю в кромешной темноте. Тебе интересно, где в таком состоянии я натыкался на деревья?
— А ты натыкался на что-то еще?
— На ветер, на запах жареной курицы, на синеву неба. Я натыкался на все и спотыкался обо все в этом мире.
— Теперь ты стал писателем, который не понаслышке знает, что такое страдания, а все равно говоришь такую ерунду, которую никто не купит. Раз уж ты пришел ко мне, то я очень хотела бы помочь. Что ты хочешь от меня услышать? Что ты хотел узнать?
— Так я же уже сказал. Хотел узнать, почему дует ветер. Почему слышен звук, когда хлопаешь в ладоши.
— Я не Нэйвер[20].
— Почему ты решила со мной расстаться? Этого нет ни в одном поисковике. Ведь не было никакой причины. Единственное, что я смог придумать, это то, что мы расстались потому, что я сделал тебе предложение. Мне нужна причина, иначе я спать не могу от мысли, что ты бросила меня просто так. Ну да ладно. Хватит. Я пойму. Еще недавно, нет, вот только сейчас, когда я смотрел на Ханган, пока ехал сюда в такси, я еще ничего не понимал. Но теперь, кажется, я начинаю понимать.
— Начинаешь понимать, почему я предложила расстаться?
— Ну да. Из-за теракта 11 сентября.
И мы громко рассмеялись. Можно ли вообще говорить серьезно о том, что где-то в Сеуле расстались влюбленные просто из-за того, что в Нью-Йорке произошел теракт. Но это как раз про нас. Конечно, можно назвать мои слова бредом, но вот что она сама сказала:
— Ты прав. Мы действительно расстались из-за того, что рухнули башни-близнецы Всемирного торгового центра. Мы никак не могли сохранить отношения в то время. Кроме того, я совсем не собиралась замуж. Буду рада, если ты сможешь это понять.
— Ясно. Я понял. И в мире до сих пор осталось еще очень много зданий, которые можно взорвать. И поскольку проблема терроризма пока глобально не решена, то никто не знает, когда упадет очередное строение.
Я полностью верил всему, что она говорила.
— Не надо этого сарказма. Что ты хотел мне сказать?
— Это не сарказм. Любовь — это как болезнь. Верно. Наша любовь началась с того, что в 1982 году в Лас-Вегасе один боксер умер, выдержав четырнадцать раундов, а закончилась на том, что 11 сентября 2001 года рухнули башни-близнецы. То есть мы как начали встречаться без какой-либо причины, так без причины и расстались. Теперь наконец и я дорос до того, чтобы это понять. Ну да ладно. Поужинаем?
Она посмотрела мне в глаза и замотала головой:
— У меня встреча.
— А, понятно. — Я немного помолчал. — Тогда сейчас тебе расскажу. В городе Кордова на Аляске живет индианка племени эяк, некая Мэри Смит Джонс. Она последний человек на Земле, кто знает эякский язык. И когда ее спросили, что она чувствует в данной ситуации, она ответила: «Не знаю, почему именно я, почему я оказалась этим человеком. Знаю только, что у меня душа болит от этого. Очень больно осознавать, что я последняя». Кто станет говорить, если никто не будет слушать? Весь мир — тишина. И пустота.
Она дослушала мой рассказ до конца и еще некоторое время сидела молча, потом сказала:
— Хорошо, я отменю встречу и поужинаем вместе, а ты мне расскажешь об этом поподробнее.
— О чем?
— О тишине и пустоте.
6
Впервые я понял, что невозможно писать о боксе и при этом не писать о боли и смерти, благодаря американской писательнице Джойс Кэрол Оутс. Как-то она призналась, что, перед тем как написать свое эссе «О боксе (On boxing)», она специально пересмотрела запись выступления того боксера, о котором я говорил, что именно с него началась наша любовь. Еще она добавила, что в одной только Америке с 1945 по 1985 год так или иначе из-за бокса умерло как минимум триста семьдесят человек. Оутс объясняла парадокс бокса следующим образом: «Боксер не только устраивает спектакль, который является шокирующим торжеством способностей человеческого тела, но целенаправленно поражает воображение людей, которые пришли за теми переживаниями, которые не передать словами. Я хочу сказать, что бокс — это искусство единственное в своем роде и его невозможно ни с чем сравнить».
Я вспомнил эти слова Оутс на прошлой неделе, когда прошло два года с тех пор, как я пьяный завалился на радиостудию. На выходе из дома в почтовом ящике я заметил конверт. Я никак не ожидал, что это окажется письмо от моей бывшей девушки, которое она к тому же отправила экспресс-почтой. Обратный адрес говорил о том, что письмо было отправлено из Америки, из отеля «Сизос-палас» в Лас-Вегасе, штат Невада. Я вскрыл желтый конверт с печатью авиапочты и обнаружил внутри письмо и компакт-диск. В письме, которое в общей сложности растянулось аж на двенадцать листов, в углу каждого из которых стоял желтый герб отеля, она объясняла, что заставило ее прилететь в город посреди пустыни. Письмо начиналось со слов благодарности за то, что я рассказал ей историю, которая и привела ее в Штаты.
Суть в том, что Фонд корейской прессы осуществляет программу, дающую возможность отправиться на исследования в любой уголок мира. А история про Мэри Смит Джонс — последнюю носительницу эякского языка, которую я рассказал тогда, настолько запала Ан в душу, что она подала в Фонд заявку с названием «Смерть языка» с целью исследовать проблемы индейцев и судьбу исчезнувшего в Калифорнии индейского языка. В итоге ее заявка выиграла конкурс, и теперь Ан пребывала в университете города Беркли, недалеко от Сан-Франциско, в качестве приглашенного исследователя. Я довольно быстро прочитал все письмо до предпоследней страницы, не испытывая никаких особых эмоций, лишь изредка удивляясь про себя: «Надо же как!» Но последняя страница как будто была написана чуть позже остальных, в спешке и немного небрежным почерком.
«Ты прав. Утратить человека, с которым вы общались, — все равно что потерять способность выразить себя. На самом деле я приехала в Америку не только из-за того, что меня заинтересовал умирающий или уже мертвый язык, но потому еще, что уже давно, когда по телевизору снова показывали, как обрушились башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, я смотрела этот сюжет, и вдруг мне захотелось узнать: а что же на самом деле произошло осенью 1982 года в Лас-Вегасе?»
Стоило мне прочитать это предложение, я сразу вспомнил, как она обратилась ко мне в первое Рождество нового тысячелетия, когда мы впервые встретились: «Я об этом боксере. О боксере, который умер в Лас-Вегасе. Можно ли написать роман о его страданиях?» И вдруг я понял, что не было нужды спрашивать у нее что-либо! Черт возьми! Получается, это вовсе не причуды моей логики и не шутка, в которой я, впав в отчаянье, нашел спасение, но чистая правда: мы полюбили друг друга именно из-за какого-то боксера, который в 1982 году умер в Лас-Вегасе, продержавшись на ринге четырнадцать раундов, а разошлись из-за теракта 11 сентября 2001 года.
7
Если верить письму, то, увидев по телевизору кадры разрушения башен-близнецов, заснятые очевидцами 11 сентября, она стала разыскивать след своего отца, который давным-давно затерялся где-то в Штатах. Она помнила отца в очках с толстыми линзами, нервно орущего на семью или лежащего, не в силах подняться от тяжелого похмелья, с мокрым полотенцем на голове. И хотя иногда его глаза за тяжелой роговой оправой очков наполнялись жалостью, когда он видел ее, тогда еще маленькую девочку, куда чаще она видела, как он воет, словно бесчувственное животное, и льет пустые слезы. Она не могла оправдать ни единой его слезинки. Очки он начал носить с 1977 года, когда сильно пострадал от взрыва на станции Ири[21]. В тот момент он находился неподалеку, в театре Самнам, где ждал начала выступления. Он вспоминал потом, что от взрыва в театре полностью снесло крышу. И рассказывал, что под обломки попали комик Ли Чу Иль[22] и певица Ха Чхун Хва[23].
В 1970-х годах отец работал помощником ведущего, потому что из-за вечных слез и криков научился прекрасно гримасничать. Но только в мае 1980 года к нему пришла известность, когда он стал выступать в одной шоу-программе на региональном канале ТБС. Каждый раз, когда он появлялся на экране, у нее возникал один и тот же вопрос: «А это действительно мой отец?» — потому что он все время вел себя как дурак и глупо смеялся, чтобы ни происходило в программе. Ей было всего семь лет, но она умирала от стыда, когда видела отца, подслеповато щурящегося без очков (какой бы из него получился дурак в очках с черными роговыми оправами?), выставляющего себя на посмешище. Так же как раньше ее братья гордились, что их отец выступает в маленьком театре на окраине Сеула, и хвастались друзьям, что он комик, тыча в афиши с фотографией яйцеголового родителя, расклеенные по закоулкам и телефонным будкам, теперь братья каждый раз хлопали в ладоши от радости, что их отца показывают по телевизору, а она в это время забивалась в угол комнаты, затыкала уши руками и читала сказку про Рапунцель.
Еще с тех времен, когда отец играл в передвижном театре, его репертуар состоял из сказки о Черепахе, отправившейся на Луну. Действие происходило в двадцать первом веке, когда на Земле уже вымерли все зайцы, и его герой, следуя особому указу короля Дракона, отправляется на ракете на Луну, чтобы раздобыть правителю заячью печень. От начала до конца представления с Черепахой постоянно что-то происходит: то он врезается в коричное дерево, то поскальзывается на недогрызенной Зайцем морковке и вообще попадается на всяческие его хитрые уловки и в итоге уползает со сцены в одном исподнем. Такой вот фарс показывал ее отец. Хотя в своем пародийном выступлении он пошел по следам комика Пэ Сам Рёнга[24], было очевидно, что его сценка несколько устарела и явно уступает шоу Ли Чу Иля, примерно в это же время появившегося на экране со своими популярными фразами: «Капусту-то уже заквасили?», «Простите, что лицом не вышел» и знаменитым: «Что бы мне сегодня вам показать?», после чего он начинал вилять попой в танце под музыку «Susie Q». Ощущение, что выступление отца устарело, усиливалось оттого, что заканчивалось оно народной песней.
Конечно, все по-разному оценивают эту эпоху, но после убийства президента Пак Чон Хи[25] корейскому народу пришлось осознать, что времена меняются, и на фоне этих перемен на всенародном фестивале фольклорного искусства, появившемся в эпоху юсин и проводившемся на стадионе Чангчхунг в Сеуле, один вид Ли Чу Иля вызывал на лицах улыбку, чего нельзя было сказать об ее отце. Это было время парадоксов, которые не нуждались в объяснениях. И хотя она все так же убегала со слезами на глазах, расстроенная видом отца по телевизору, ее братья все чаще стали пародировать Ли Чу Иля и его мазохистское «Простите, что лицом не вышел», чем отца, уползавшего в одном нижнем белье со словами: «Ничего смешного».
Казалось, что это всего лишь вопрос времени, когда отца попрут с экрана, но внезапно ситуация повернулась таким образом, что он оказался тигром на бесхозной горе. Первого сентября 1980 года после инаугурации президента Чон Ду Хвана[26] Пэ Сам Рёнг, На Хун А, Хо Чжин, Ли Чу Иль и другие были объявлены «низкосортными комедиантами» и фактически дорога к телевизионным показам оказалась для них закрыта. Если бы ее отца причислили к «низкосортным», то ему пришлось бы разделить такую же судьбу, а так он мог продолжать выступать и мелькать на телеэкране без каких-либо последствий. Возможно, тогда для ее отца было самое счастливое время, поскольку он был комиком. Для нее же это счастье имело вид маленькой комнаты на втором этаже дома, где она сидела в одиночестве у окна и представляла, будто бы она — заточенная в башне Рапунцель, которая все ждет своего принца. И только много позже она поняла, что делал ее отец для того, чтобы она могла вот так мечтать у окошка.
8
Она покопалась в студийном архиве видеозаписей и наткнулась на имя отца в 1297-м выпуске программы «Новости Кореи»: «Специальные новости. Сюжет 11: Инаугурация президента Чон Ду Хвана». В пояснительной записке к выпуску значилось: «Реакция граждан — комик Ан Пок Нам с народной песней». Имя ее отца было записано иероглифами. Она взяла пленку и расположилась в соседней комнате, где было установлено видеооборудование. Не испытывая особого трепета или волнения, она начала смотреть «специальный выпуск новостей», где «кортеж президента Чон Ду Хвана и его супруги» проезжал по дороге Сечжонно, следуя на официальную церемонию от Ёнсана к стадиону на Чамсиле. Отец появился, когда выпуск о реакции общественности на нового президента уже почти завершился. Она увидела его в самом конце репортажа и, едва удержавшись, чтобы не выключить запись, зажала рот рукой и покраснела до кончиков ушей.
На экране показывали, как первого сентября 1980 года перед толпой, собравшейся у Голубого дома[27], который был временно открыт для публики, вышел г-н Ан Пок Нам, запрокинул голову и затянул: «Пришел добрый и мудрый король!» И хотя в комментариях к видеозаписи было отмечено, что это сюжет про комика Ан Пок Нама, исполняющего народную песню, на этом выступление ее отца заканчивалось. Видимо, со временем заявленная традиционная песня сильно изменилась, и скорее всего после этой строчки шли остальные слова, но, как бы то ни было, в выпуске «Новостей Кореи», освещавшем инаугурацию президента Чон Ду Хвана, комик Ан Пок Нам появился ровно на семь секунд, пропев лишь: «Пришел добрый и мудрый король!» — и это всё. Хотя, наверное, с точки зрения редакторов «Новостей Кореи», вполне хватит одной этой строчки, а весь остальной куплет уже не важен. Она представила, как в сентябре 1980 года этот выпуск новостей транслировали на всю страну. Как же это было ужасно!
Хотя Ан уже стала продюсером, она ни разу не упоминала, кем был ее отец. И не только из-за того, что в один прекрасный день тот бросил семью и уехал в Америку, но и потому, что было нелепо говорить про отца-комика, учитывая, что чуть больше чем через год после своего дебюта на телеэкране он уже перестал существовать для зрителей. Вспоминая комедиантов того времени, люди называли только такие имена, как Пэ Сам Рёнг, Нам По Вон, Ку Понг Со, Ли Ки Донг и Ли Чу Иль. Однако, посмотрев 1297-й выпуск «Новостей Кореи», она подумала, что, вопреки ожиданиям, наверняка многие должны помнить ее отца. Новости в то время смотрели на большом экране в кинотеатрах, и едва ли можно забыть сюжет о комедианте, который выкрикнул слова «Пришел добрый и мудрый король!» в адрес военного диктатора, ставшего президентом страны после убийства множества ни в чем не повинных сограждан. И тогда она, которая никогда в жизни не могла представить себе, чтобы отец был способен на такое, решила, что, наверное, пора оставить попытки разыскать его след. По большому счету с отцом она провела всего семнадцать месяцев: с мая 1981 года по октябрь 1982-го. Вероятно, на самом деле Ан Пок Нам был совсем не тем человеком, которого она знала. И вполне возможно, что она так никогда и не поймет, почему Ан Пок Нам бросил семью и уехал в Америку. В то время ей действительно казалось, что правильнее будет прекратить его поиски.
В письме она написала следующее:
«Помнишь, о чем мы говорили в тот вечер, когда видели сову около озера в Чхунчжу? Я рассказывала о том, как чувствуешь себя, монтируя в одиночестве студии историю чьей-нибудь жизни, прослушивая пленку по несколько раз. Пока допоздна редактируешь эти записи, в какой-то момент перестаешь обращать внимание на само содержание, но слышишь только интонацию и скорость речи. И когда долго вслушиваешься в эти звуки, начинает казаться, что за ними можно услышать жизнь человека: свет и тень, холод и жар, одиночество и грусть. Я много думала о том, что жизнь человека передается не в самой истории, но в тех мелких деталях, которые чувствуются в его голосе. „О, человек сейчас рассказывает трагический эпизод своей жизни, но ведь голос выдает, что в то время он был счастлив, как никогда“, — часто бубнила я себе под нос, раз за разом воспроизводя запись. Когда я редактирую пленку, грустнее всего мне становится, если рассказчик вдруг замолкает. История еще не закончена, но в какой-то момент она обрывается на полуслове. Повисает тишина, и только пленка продолжает крутиться. Тишина и темнота. И я слышу только помехи. Может быть, именно в эти паузы в рассказах я и вслушивалась, прокручивая запись по несколько раз. Может, именно в этом молчании вся правда. Секунда, две, три, четыре, пять. Я жду, пока человек снова заговорит, и читаю переживания стихшего голоса».
Она расспросила людей, которые помнили ее отца, сходила в архив и на студию, где нашла еще несколько записей, и сделала копию с одной пленки. Сначала она озаглавила ее просто: «На Луну», но потом приписала: «Комик, отправившийся на Луну». После этого она стала включать запись с выступлением отца каждый раз, как только у нее появлялось свободное время. Иногда она не смотрела на экран, а только слушала, что происходит на сцене, а иногда отключала звук и смотрела только видеоряд. Иногда мыла посуду, запустив пленку, а однажды был случай, когда она сильно напилась, улеглась спать, даже не переодевшись и не смыв макияж, но все равно включила запись представления, а утром с удивлением смотрела на синий экран телевизора. Сначала действия отца в этом номере вызывали у нее только недоумение и стыд, но в конце концов она стала воспринимать все отстраненно, словно читала пространные предложения философского трактата.
На пленке была записана постановка комедийного фарса, где ее отец появлялся на сцене, проламывая стену ракеты, сделанной из пенопласта, поскальзывался на недоеденной морковке и летел прямо в коричное дерево. Понятно, почему после сентября 1980 года все это уже смотрелось довольно странно. В конце выступления отец в одном нижнем белье, скребя руками по полу, полз, как черепаха, к другому актеру, стоявшему в стороне, протирал глаза руками, упирался взглядом в камеру, словно позабыл свою роль, и говорил слова, служившие ему своего рода визитной карточкой: «Ничего смешного!» Казалось, что комедия уже закончилась и он говорит на полном серьезе, что вызывало саркастическую улыбку. Конечно, со временем вся эта комедия вообще перестала вызывать хоть какую-нибудь улыбку.
9
Последний раз он выступал в мае 1981 года на фестивале «Национальные обычаи — 81», проходившем на острове Йойдо. Вопреки громкому названию — «Национальные обычаи» — на сцене показывали одни только низкопробные комедии. И ее отец вновь изображал, как улетает в лунную страну на ракете, установленной в одном из углов сцены.
«Три, два, один. Старт. Вжи-и-и-и-ик. Пш-пш-пш. Это Черепаха. Это Черепаха. Я вылетел из королевского центра управления. Лечу на Луну, чтобы поймать Зайца. Вижу воздушных змеев в ясном ночном небе. Один змей, второй змей, третий. Здесь собралось очень много змеев — им явно нечем заняться. Корейские змеи, японские, китайские. Даже западные змеи. Всякие разные змеи, все собрались. Пока, воздушные змеи! Я лечу на Луну! Та-да-дам. Вжи-и-и-ик».
Черепаха прилетает на Луну, где гравитация не такая сильная, притворяется, что собирается помочь Зайцу молоть муку, берет ступку и совершает какие-то нелепые телодвижения. Потом Заяц уворачивается от летящей в него ступы и убегает, а Черепаха гонится за ним, но врезается в коричное дерево, вместе с которым падает на пол. На сцену выходят люди, чтобы вновь поставить декорации, а ее отец некоторое время лежит на полу среди этого хаоса, потом вскакивает на ноги со словами: «Ничего смешного!» Черепаха уговаривает Зайца: «Если поедешь со мной на Землю, то я прокачу тебя там на поезде». Но Заяц, всю жизнь моловший муку на Луне, даже не знает, что такое поезд. Тогда Черепаха кладет Зайца на пол и объявляет всей публике, что он теперь железная дорога. Заяц с ярким румянцем на щеках и в ободке с приделанными к нему длинными ушами недоуменно спрашивает: «А где же тогда поезд?» Тогда Черепаха притворяется, что у него спадают штаны, на что Заяц спрашивает: «Чего это у тебя штаны упали?» «Чувствую, что приближается самый быстрый поезд на свете!» — отвечает Черепаха. Тут Заяц соображает, что что-то не так, вскакивает, бьет Черепаху в пах, и Черепаха со стоном уползает.
Последней сценой было возвращение Черепахи на Землю без Зайца, которого он не смог поймать, и пантомима на тему смерти короля Дракона. После чего Черепаха выкрикивает: «Пришел добрый и мудрый король!» — и начинает петь известную народную песню. Ее отец взял микрофон и пошел вперед, к зрителям, будто бы ожидая, что они поддержат его и споют вместе с ним. Зрители, которые никак не реагировали на весь спектакль, не думали даже подпевать, но тем не менее актер продолжал идти, не останавливаясь, к краю сцены, а потом вдруг послышался грохот и ее отец исчез из кадра. Камера снимала так, что было видно только половину сцены, где стояло коричное дерево и частично разломанная ракета. Когда стихла музыка, стало слышно, как смеются зрители. А на следующий день после этого представления в одной газете в рубрике «Курьезы» появилась статья, в которой рассказывалось, как ее отец «упал со сцены больше метра высотой» и «вопреки задумке организаторов концерта „Национальные обычаи — 81“, он показал действительно низкую комедию».
Когда она в третий раз пересматривала пленку, на последних кадрах она смеялась в полный голос, так же, как все зрители, собравшиеся на представление двадцать лет назад. В своем письме мне она писала: «Он сказал „Добрый король“. Едва ли он смог бы стать популярным после этих слов. В общем-то, поделом ему, разве нет? Я посмеялась». После этой выходки отправившийся на Луну комик уже не мог вернуться на Землю. Как правильно отметил автор статьи в разделе «Курьезы»: «Такие низкопробные комедии подлежат депортации с нашей планеты». Выступление на сцене в программе «Национальные обычаи — 81» было последним появлением ее отца на сцене и телеэкране. Ссылаясь на случай, когда он упал со сцены, никто уже больше не соглашался на его выступления. Прошло некоторое время, и она перестала пересматривать пленку. Случилось это все до того, как я напился, приехал к ней на радио и, не видя ничего перед собой, врезался в дерево.
10
Судя по хриплому голосу и неспешной манере говорить, человеку, ответившему на мой звонок, было за пятьдесят. Я рассказал ему про письмо, которое получил, и объяснил, откуда узнал номер его телефона. Мужчина попросил меня подъехать, поскольку самому ему было сложно передвигаться. И попросил он меня приехать не куда-нибудь, а в библиотеку для слепых. Вплоть до тех пор я мало того что не был в библиотеке для инвалидов по зрению, но даже ни разу не задумывался о том, что подобные заведения могут где-то существовать. Пока я не пришел в библиотеку и не увидел все собственными глазами, воображение рисовало передо мной картину читального зала, в котором полно людей, сидящих непременно с закрытыми глазами, словно они затерялись в воспоминаниях, все они водят двумя руками над раскрытыми книгами, читая кончиками пальцев выпуклый шрифт Брайля. Не знаю, чем именно, но эта картина меня смущала.
Однако, стоило мне приехать в библиотеку, я понял, что все мои представления были лишь следствием невежества. Четырехэтажное здание находилось рядом с рыночным проулком недалеко от шоссе Олимпиктэро, откуда доносился гул машин. Эта библиотека не была похожа ни на одну из тех, что мне доводилось видеть раньше. Дело в том, что я в некоторой степени не чужд хождению по библиотекам, и, как мне представлялось, эти здания всегда строились только рядом с красивыми ухоженными клумбами. Вероятно, цветы отгораживали библиотеку и ее посетителей от остального мира, чтобы те могли полностью погрузиться в чтение, но в то же время смена времен года в пейзаже за окном должна была вернуть людей, совсем уж углубившихся в мир печатного слова, к реальности. Поэтому я несколько растерялся, увидев здание библиотеки, стоящее практически в одном из рыночных закоулков.
Когда я вошел через стеклянные двери в библиотеку, то сразу справа от себя увидел автомат с минералкой, все надписи на котором были выполнены шрифтом Брайля, а слева в специальном ящике лежала Библия, изданная брайлевской печатью, преподнесенная в дар Корейским библейским обществом. Книги, которыми были забиты полки прямо напротив входа, свидетельствовали о том, что я все-таки находился в библиотеке. Я полистал некоторые из них: «Бесплатные автобусы Сеула для незрячих инвалидов и пожилых людей», «Полезная информация», «Сборник классической музыки для фортепиано» — и убедился, что ни в одной нет ни одной буквы, а все строчки попарно напечатаны шрифтом Брайля. Из комнаты, которая располагалась за автоматом с напитками, доносились звуки работающего печатного пресса, а слева находился офис, и было слышно, как там хихикают две девушки. От одной мысли, что я стою в библиотеке для слепых, я почему-то стал более чувствителен к звукам. И тут же я понял, почему здесь не было необходимости в цветах и клумбах, и что большого открытого пространства эти люди скорее всего испугались бы, потеряв ориентиры.
С первого этажа я позвонил человеку, с которым мы договорились встретиться, и он попросил меня подняться на третий этаж по лестнице слева от входа. На третьем этаже была комната, на дверях которой красовалась вывеска «Звукозапись». Помещение было оснащено аудиооборудованием и напоминало радиостудию. В изолированной от всех кабинке одна девушка-волонтер читала вслух книгу, а за пультом в студии сидела вторая помощница, следившая за ходом записи. Обе были так поглощены работой, что даже не заметили меня, когда я заглянул внутрь комнаты сквозь стеклянную дверь. Первым на меня обратил внимание человек средних лет, державший в руках белую трость и сидевший позади девушки за пультом. Практически так я его себе и представлял. Он повернулся в мою сторону и спросил, не я ли только что звонил с первого этажа. На его голос обернулась девушка и взглянула на меня. Я представился. Мужчина указал на стул рядом с собой и, сказав, что они практически закончили запись, попросил немного подождать. Я сел и стал рассматривать студию из-за плеча девушки.
Я пытался понять, что за книжку они записывали, но слова «Я хотел поблагодарить его, но передумал. Ни к чему это было. Виднелись заснеженные Карпаты. Я вдыхал прохладный воздух» ни о чем мне не говорили. Однако вскоре девушка дошла до следующего отрывка: «Каким человеком был Данте? И что такое „Божественная комедия“? Когда я пытался простыми словами рассказать о „Божественной комедии“, то в какой-то момент у меня появлялось странное, необычное чувство», — и сразу у меня в памяти всплыло имя автора и название произведения. Это была книга Примо Леви «Человек ли это?»[28]. Отрывок о том, как в концентрационном лагере Примо Леви вспоминал строки «Божественной комедии» и на французском декламировал их своим товарищам.
«Вот, послушайте. Настройте головы и уши. Это поможет разобраться в сегодняшнем дне. Поможет понять ценность человеческой натуры. Никто не рождается, чтобы жить как животное, напротив, мы рождаемся, чтобы следовать догмам добродетели и мудрости. Я сам как будто впервые понимаю это. Резкий сигнал свистка — словно голос Господа. На какое-то время я забыл, кто я и где нахожусь».
Мужчина рядом со мной слушал голос девушки, кивая головой в такт словам. Изредка я слышал, как он вздыхал, или, может, это был стон. Поскольку больше все равно делать было нечего, я стал вслушиваться в то, что читала девушка. А она продолжала рассказ Примо Леви: «Прости меня, Пикколо. Я забыл как минимум четыре строчки». И дальше: «С ним надо говорить. О Средневековье. Надо объяснять такие человечные, такие очевидные, но в то же время неожиданные анахронизмы. А я сам вдруг узнал объяснения тому всеобъемлющему, свидетелями чего мы стали, что, возможно, является нашей судьбой, нашел причину, по которой мы находимся здесь». «А в итоге нас поглотит океан» — это было последнее предложение. Как только запись закончилась, девушка за пультом поблагодарила всех, а мужчина, аккуратно зажав трость под мышкой, зааплодировал. Я тоже, поддавшись импульсу, захлопал вместе с ним.
11
Мужчина сказал мне, что на четвертом этаже у него своя комната, и предложил пройти туда. Он поднялся со стула, развернулся и, протянув вперед свою трость, вышел из звукозаписывающей студии, а я последовал за ним. Девушка за пультом высунулась за дверь и крикнула вдогонку: «Чуть погодя мы снова будем записывать, так что приходите». Не оборачиваясь, он помахал в воздухе левой рукой и ответил: «Хватит на сегодня». Хотя он и сказал про личную комнату, я несколько засомневался в его словах. Но, как оказалось, «комнатой» он назвал кабинет директора библиотеки. Он открыл дверь, щелкнул выключателем слева от входа, зашел в ярко освещенное помещение и сел в широкое кресло, повернутое спиной к зашторенному окну.
— Да вы не стойте, присаживайтесь, — сказал мне директор Ли Ин Ёнг.
Только прочитав табличку с именем, которая стояла на столе, я понял, с кем разговариваю. Я сел на диван, рассчитанный как минимум на троих. И тут же смутился, поскольку диван из искусственной кожи издал громкий характерный звук, словно я не сдержал газы. Я объяснил директору Ли, что пришел по просьбе подруги, которую та изложила в письме, где писала, что будет крайне благодарна, если я свяжусь с Ли Ин Ёнгом и передам ему вложенный в конверт компакт-диск. Я достал из сумки и положил на столик перед собой диск. Некоторое время я рассматривал надпись. Диск, так же как и видеокассету с выступлениями отца, она подписала «Комик, отправившийся на Луну». Неожиданно директор Ли спросил меня:
— А чем вы занимаетесь?
— Пишу, — ответил я.
— Неужели писатель?
— Да.
— Как интересно! В романе, который мы недавно записывали, сказано, что в Африке считается, будто каждый раз, когда умирает старик, становится на одну библиотеку меньше. Я подумал, что в этом есть доля правды. С тех пор как я не могу читать, каждый человек для меня стал точно новой книгой. Потому что, когда глаза ничего не видят, как у меня, человек оказывается ограничен в выборе книг. Я еще ни разу не встречал писателя, а значит, и не читал книгу о них. Такой шанс не часто выпадает, правда? Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Как сейчас? Хватает на жизнь, если работать писателем?
И только теперь я в полной мере осознал, что разговариваю с директором библиотеки для слепых, который и сам инвалид по зрению.
— Ну, это, конечно, убыточное занятие. Я имею в виду издание книг. Последнее время люди лучше воспринимают фильмы.
— А как ваши романы? Их покупают или нет? Может, у вас есть бестселлеры?
Конечно, я встречал людей, которые, едва познакомившись со мной, начинали расспрашивать меня о содержании книг и их названиях, но директор Ли был первым человеком, допрашивавшим меня подобным образом, и я несколько растерялся.
— Не хотелось бы говорить, но продаются они с трудом. Я издал пять книг, и ни одна не стала бестселлером.
— Конечно, это исключительно мое мнение, но для меня и остальных незрячих людей ваши книги все равно что не существуют. Чтобы записать одну аудиокнигу или напечатать книгу шрифтом Брайля, требуется много денег, поэтому перед нами оказываются главным образом бестселлеры или издания, которые могут помочь, поддержать нас, инвалидов, в нашей ситуации. Наверное, вы скажете, что это только для инвалидов так, но мне почему-то кажется, что это верно и для многих обычных людей. Возможно, они даже никогда и не задумывались о том, что где-то вообще есть ваши книжки. Ну, раз вы говорите, что они не продаются.
— Возможно. Но я не считаю, что хороши только те книги, которые хорошо раскупают. Я буду писать, пусть даже всего для одного-единственного читателя.
— А, да я так. Просто высказал свои мысли с точки зрения гносеологии. Поскольку мне никто ваших книг не читал, то я не могу ничего о них знать. Такая вот правда жизни. Я не знаю, какие книги хорошие, а какие плохие. Но сам бы я хотел почитать именно такие книги, как ваши, извините, конечно, но те, которые толком не продаются.
— Вы имеете в виду те книги, которые теперь уже не можете читать, потому что нет денег, чтобы обеспечить вас ими, а не только бестселлерами?
— Конечно. Последнее, что я прочитал, это «Вегетарианство» автора Ли Че Ха[29]. Тогда я еще учился в докторантуре по специальности «Корейская литература». Когда из-за врожденной катаракты я полностью ослеп на левый глаз, то продолжал каждый день читать книги оставшимся правым. Я выбирал только те книги, которые практически невозможно пересказать, потому что знал, что потом, когда я полностью лишусь зрения и не смогу больше читать, буду вынужден слушать только бестселлеры и полезные советы. К тому времени у меня уже и на правом глазу появилось бельмо и я видел только частично. Пока я читал книги, черное пятно перед моим взором потихоньку разрасталось, и настал день, когда я уже ничего не смог разглядеть. Летом 1981 года, еще до того, как я полностью ослеп, я как-то написал Ли Че Ха письмо, в котором спрашивал, предвидел ли он события двадцать шестого октября[30], когда писал свои повести. Но поскольку вскоре я окончательно потерял зрение, то так и не смог узнать, пришел ли от него ответ, и если пришел, то что он мне написал. С тех пор из моего мира полностью исчезли книги, которые невозможно пересказать, и книги, которые толком никто не покупает. Поскольку раньше, когда я еще видел, я мог читать разные книги, я знал, как много разных людей живет в этом мире, но теперь я не слишком-то верю, что люди вокруг меня сильно чем-то отличаются друг от друга.
— Неужели на вас так сильно влияет то, что вы читаете только бестселлеры?
— Еще бы! Не так давно я прочитал книгу, естественно напечатанную шрифтом Брайля, которую написал один английский профессор, тоже инвалид по зрению, и из нее я узнал о сочинении Мерло-Понти[31] «Феноменология восприятия». Автор когда-то читал эту работу и в своей книге говорит, что она помогла ему понять, почему теперь он иногда чувствует себя привидением. Однако я эту книгу Мерло-Понти прочитать не смогу. И поэтому мне никак не узнать, почему я сам иногда ощущаю себя привидением. С точки зрения чтения мы можем стать мыслящими людьми, только прилагая к этому все свои силы и возможности. Это расстраивает меня.
Я ничего не ответил, а только покивал головой, упустив подходящий момент для какой-либо реплики, и мы оба замолчали. Я чувствовал, что наше общение несколько осложняется тем, что директор Ли не видит моего лица, а я, соответственно, не вижу никакой реакции с его стороны на те эмоции, которые я выражаю. Я начал сомневаться, закончился ли наш диалог на этом или нет и стоит ли еще что-то сказать, когда директор Ли произнес:
— Да вы говорите, не стесняйтесь.
— Хм, а как вы узнали, что я хочу что-то сказать?
— Когда глаза не видят, уши слышат. Люди большей частью сильно втягивают воздух, перед тем как что-то сказать. И тогда я понимаю: «А, этот человек собирается говорить». Вы, наверное, уже догадались, что поскольку чтение для нас, слепых, редкое удовольствие, то мы любим поговорить с новыми знакомыми. Хотя, конечно, для нас это просто способ узнать другую точку зрения. Но что-то я разболтался. Говорите, прошу вас.
— Да, конечно. А как вы познакомились с Ан Ми Сон?
— Ну, как вы видели, у нас тут достаточно хорошая звукозаписывающая студия. Открыли мы ее в прошлом году, и тогда через одного нашего инвестора я познакомился с Ми Сон. У нас не было человека, который разбирался бы в звукозаписи, и она нам сильно помогла, — сказал директор.
— Она сейчас в Америке.
— Да, я знаю. Она до самого отъезда каждую неделю работала здесь на добровольных началах.
— Надо же как! Она прислала мне письмо из Америки, и в нем был диск, который она просила передать вам. И мне сразу стало интересно, почему именно меня она попросила об этом.
— Ах-ха-ха-ха. Ну, это… — Директор засмеялся, потом продолжил свой рассказ.
12
Прошло меньше года с тех пор, как директор Ли ослеп, и однажды он шел к шкафу, чтобы переодеться, и сильно ударился правым глазом о дверцу, которую кто-то оставил открытой. В итоге у него лопнуло глазное яблоко, поскольку, вдобавок ко всему, у него было высокое внутриглазное давление и глаз был словно воздушный шарик, туго заполненный водой. Конечно, придерживаясь чистой логики, он не стал впадать в отчаянье из-за того, что теперь в его мире стало совсем темно, хотя раньше он еще мог отличить день от ночи. Да и к счастью, когда рана стала заживать, глаз ему все-таки удалось сохранить. Однако после этого случая он стал испытывать сильную боль каждый раз, когда двигал глазами. Но все, что он мог сделать с этой сильнейшей болью, это выпить обезболивающее, лечь, закрыть глаза, положить сверху на веки влажное полотенце и терпеть свои мучения. Но от таблеток он впадал в полубессознательное состояние и практически был не в состоянии что-либо соображать. Он не отличал реальность от галлюцинаций и в болезненной агонии бормотал обо всем, что сознание случайно проецировало на сетчатку его глаз. Все это очень походило на бред сумасшедшего.
Я спросил у него, на что на самом деле похож подобный бред, и он ответил, что это такие слова, за которые во времена серьезных бедствий в стране можно прославиться так, что перед тобой будут преклоняться, как перед незрячим предсказателем.
— Например, — перебил его я, — как предсказания Нострадамуса?
Пока я произносил это, в моей голове пронеслось множество мыслей.
— Да, например. Сказать, что весь мир поглотит огонь, а по земле поползут огромные змеи. Что-нибудь в таком духе. Мне, например, весь мир представлялся красным, когда я ударился глазом и залил все кровью.
В итоге директор Ли оказался на развилке дорог и должен был выбрать одну из двух возможных. Первый путь заключался в том, чтобы забыть про нормальную жизнь, постоянно терпеть боль и в муках пытаться отличить явь от вымысла. Второй — окончательно принять судьбу слепого человека, удалить глаз и навсегда освободиться от терзавшей его боли. Поскольку он все еще смутно различал движения людей и реагировал на яркий свет, то призрачный шанс вернуть зрение с развитием медицины все-таки оставался. Операция для него значила не только потерю глаза, но вместе с ним и надежду на то, что он когда-либо сможет вернуть зрение. Стоя перед нелегким выбором, директор Ли положил конец всем своим терзаниям и решился пойти на удаление глаза.
Это было все равно что заново родиться. В книге Примо Леви «Человек ли это?» цитируются слова Одиссея из «Божественной комедии» Данте: «И развернуло меня к глубокому и необъятному морю». Ни одни другие слова не смогут точнее описать, с чем директору Ли пришлось столкнуться после операции. Перед ним распростерся новый огромный мир, в котором не было боли. Время в этом мире текло очень медленно, предметы существовали, а потом исчезали в одно мгновение, и это повторялось из раза в раз. Пока он мог видеть, мечты всегда казались ему куда более яркими, чем жизнь. Прошло немного времени с тех пор, как директор Ли полностью потерял зрение, и весь видимый мир словно бы перестал для него существовать: ему казалось, что в том мире, которого он не видит, как будто и его самого никто не видит, — он жил словно человек-невидимка, существовал как призрак.
— Когда люди узнают, что я ничего не вижу, они начинают вести себя так, будто меня и вовсе нет рядом. Большая часть людей, сидя напротив меня, даже не смотрит на меня, когда мы разговариваем. Однажды в особенно холодный осенний день я вышел из дома, повязав на шею шарф. Поскольку я шел с белой тростью, то все сразу понимали, что я слепой. Надо сказать, в тот день дул очень сильный ветер, и одна пожилая женщина обратилась ко мне со словами: «Вы же все равно ничего не видите, закрыли бы все лицо шарфом, чего вы им только шею обмотали?» «Вот ведь как бывает», — подумалось мне тогда. Для меня ее слова звучали, как если бы она сказала: вы же не видите, значит, и вас никто не видит. Получается, что я в принципе исчезаю. Главное, что чувствует слепой, это то, что он перестает существовать. Потому что существует только то, что видят.
Директор Ли продолжил свой рассказ:
— Даже когда мне удалили глаз, для меня не наступила черная темнота. Я и не знал, что это так происходит, но поскольку зрительный нерв у меня остался до сих пор, то я вижу не кромешную темноту, а в основном серый цвет. Иногда его пронизывает розовый, иногда — синий, но чаще всего просто серая пустота. В воображении все видится намного красочнее, чем в жизни. Летом 1981 года видимому миру, каким я знал его до того времени, пришел конец. После этого познаваемый мною мир сузился только до тактильных ощущений и звуков. Хотелось бы мне, чтобы мой мир мало изменился с тех пор, как я потерял зрение, но это далеко не так. Теперь у меня нет неба. Нет звезд. Широкие открытые пространства для меня — это пустая темнота. Чем уже пространство, тем лучше я его чувствую. Например, если я крикну в комнате, то по отражению звука от стен смогу примерно представить себе размеры помещения. Вы там еще меня слушаете?
— Да, слушаю.
— Вот о чем я и говорю. Пока вы не подали голос, отвечая на мой вопрос, я не мог знать, сидите ли вы еще передо мной или нет. Когда вы молчите, вас не существует с акустической точки зрения. Только когда вы отвечаете, я думаю: «А, вот он где». Поэтому иногда я говорю, как потом выясняется, сам с собой, даже не зная, что передо мной уже никого нет. Таков он, мой мир. Однако я по-прежнему много чего вижу во сне. Конечно, это зрительные образы, сохранившиеся в моем подсознании, но мне многое снится. И также я хоть и смутно, но все еще помню то, что видел раньше, перед тем как ослепнуть.
Директор Ли замолк, а потом попросил меня принести ему воды из кулера за дверью. Я вышел из комнаты, налил воды в бумажный стаканчик, пачка которых стояла тут же у аппарата, потом вернулся, поставил стаканчик на стол и помог директору Ли нащупать его рукой. Он поднял стаканчик и сделал несколько глотков.
— Прекрасно. Вы правильно сделали. Только так я могу выпить воды. Когда мне говорят: «Стакан перед вами», я не могу сделать ни глотка. Бывают случаи, когда я вдруг натыкаюсь на припаркованную машину на дороге, и тогда прохожие мне говорят: «Идите налево». А для нас «лево» — это необъятное пространство, только мало кто из здоровых людей догадывается об этом. Как бы там ни было, подытоживая давешний разговор, можно сказать, что летом 1981 года я умер в мире, где мог видеть и жил до того времени, но заново родился в мире, где нет зрения. Это все равно что родиться с воспоминаниями о своей прошлой жизни. Если кто-нибудь говорит о дороге на Кванхвамун, то у меня в памяти эта дорога всплывает такой, какой она была летом 1981. После того как мне удалили глаз, у меня пропало желание ходить по тем местам, где я бывал раньше. Я боялся случайно наткнуться на что-нибудь, чего нет в моих воспоминаниях. Наверное, похожий страх мы испытываем, когда взрослеем. Я нарочно упрямо хватался за те картинки из прошлой жизни, которые сохранил в памяти. Именно благодаря этому я помню многое из того, что другие люди уже забыли. Например, ее отца. Вы же знаете, что ее отец — это комик Ан Пок Нам?
— Я узнал об этом из того самого письма.
— А, понятно. Мне показалось, что вы любите друг друга, а она, оказывается, даже ничего не рассказала вам про отца.
Я немного смутился:
— Ну, сейчас уже нельзя сказать, что мы любим друг друга, но в любом случае она никогда не рассказывала мне про него.
— Как-то я говорил о последних зрительных образах, которые сохранились в моей памяти, и вспомнил о концерте «Национальные обычаи — 81». В то время Ан Пок Нам был все еще довольно известен. Тогда она призналась, что это ее отец, и я спросил: «Как он сейчас поживает?» Она нервно сглотнула, помолчала немного и ответила: «Он оставил семью, втайне продал наш дом, взял все деньги и уехал с любовницей в Америку». А я пробормотал: «Вот как. Неужели у людей, которым требуется срочная операция, еще хватает сил бежать с любовницей? Он же был знаменитостью, ему надо было быстро делать операцию, тем более что у него были деньги». Девушка тут же стала расспрашивать меня, и я в свою очередь поинтересовался: «А разве вы не знали, что у вашего отца были проблемы со зрением и он постепенно слеп?» Она ответила вопросом на вопрос: «Откуда вы знаете?» Тогда я сказал: «Это было заметно по его выступлениям. Каким бы талантливым ни был актер, если он хорошо видит все перед собой, нарочно он никогда не сможет так врезаться в дерево или упасть со сцены, как ваш отец. По тому, как сильно он ударялся о дерево и как упал со сцены, было видно, что он на самом деле видит все как в тумане». Ну а потом… — Директор Ли замолчал.
— Что потом?
— Потом я никак не ощущал ее присутствия. Как я уже говорил, я теряюсь, если не слышу никакой реакции на свои слова от собеседника: ощущение такое, будто человек, который только что стоял передо мной, вдруг внезапно исчез. И я подумал, что она ушла. Я осторожно позвал: «Вы еще здесь?» Но ответа не последовало. Мне стало не по себе, я вытянул вперед руку и начал водить ею перед собой, как вдруг коснулся ее лица. У меня было чувство, будто я дотронулся до цветка, покрытого предрассветной росой. Дрожащим голосом она прошептала: «Да, я все еще здесь», — и я кончиками пальцев чувствовал движение мышц ее лица.
13
Восьмого октября 1982 года в восемь часов вечера в аэропорту Маккаран в Лас-Вегасе приземлился самолет с семью корейскими гражданами на борту. Они пересели на этот внутренний рейс в Лос-Анджелесе, чтобы принять участие в мировом чемпионате по боксу в легком весе, который должен был состояться двумя днями позже. Корейская делегация состояла из боксера, который, собственно, и должен был выйти на ринг, его тренера и других людей, связанных со спортивными соревнованиями, еще был спонсор боксера — молодой президент какой-то компании, который пригласил с собой в поездку мужчину средних лет в очках с тяжелой роговой оправой черного цвета. В аэропорту они все погрузились в микроавтобус, который для них подготовил местный координатор, и, пока ехали к главной улице Стрип, расположенной в самом центре Лас-Вегаса, все, за исключением молодого президента какой-то компании, который уже несколько раз бывал в казино Лас-Вегаса, заезжая по делам в Штаты, сидели молча и только разглядывали яркие неоновые вывески на ночных улицах, словно до этого даже не представляли, что есть такое место, как Лас-Вегас.
Человек, выступавший в роли координатора, сидел на переднем пассажирском сиденье. Он только что окончил экономический факультет калифорнийского университета Беркли в качестве иностранного студента из Кореи. Координатор развернулся лицом к остальным и, чтобы разрядить весьма странную мрачноватую атмосферу в машине, в которой, как он потом говорил, «все как будто предвидели трагедию, случившуюся двумя днями позже», начал рассказывать об истории Лас-Вегаса и разъяснять особенности отелей на улице Стрип. Сплетни, скопившиеся у него с тех пор, как он был студентом, о знаменитостях, владельцах чеболей[32], и других политических и военных шишках, которые спускали в Лас-Вегасе уйму денег, понемногу разрядили атмосферу. Вчерашний студент в порыве энтузиазма стал немного приукрашать истории, преувеличивая и раздувая обычные слухи, и каждый раз в машине раздавались удивленные возгласы: «Неужели правда?» Он только поддакивал: «Конечно», за что каждый раз был вознагражден новым всплеском удивления.
Однако не все в машине живо реагировали на его рассказы. Вполне естественно, что накануне боя спортсмен с цепким взглядом и острым подбородком, накинув серый капюшон, вжался в кресло и уперся взглядом в тусклый свет оранжевых лампочек в салоне машины, совсем не глядя на пестрые огни улицы. Мужчина средних лет, сидящий сразу за боксером, с таким же видом уставился в пол, низко опустив голову. Вскоре координатор уже знал, что этот мужчина, оказывается, комедиант. Об этом ему сообщил молодой президент какой-то компании: «Вон там сзади сидит настоящий комик, но ты тут так шутишь, что ему уже, похоже, пора завязывать со своей работой».
— Я так давно здесь живу, что уже не знаю теперешних знаменитостей Кореи. Вы мне потом оставьте автограф, пожалуйста. Как вас зовут? — затараторил студент.
Но комик как будто и не слышал вопроса. Некоторое время он сидел спокойно и, только когда его окликнул молодой директор, проворчал:
— Меня зовут Ан Пок Нам.
Молодой директор развернул свое грузное тело и спросил, глядя на комедианта:
— Господин Черепаха, и каковы ваши впечатления от Лас-Вегаса? Ничего смешного? Ха-ха-ха.
— Мно-много огней. Это хорошо, — заикаясь, ответил тот.
— Много огней. Это хорошо. Ха-ха-ха. — Молодой президент хлопнул себя по коленке и рассмеялся, как будто и правда услышал очень смешную шутку. — Где ж это видано, чтоб так говорили о Лас-Вегасе?! Много огней. Это хорошо! Думаю, перед боем господина Кима нам всем стоит немного расслабиться, тем более раз с нами благородный янбан[33], который летал аж до Луны и обратно, а значит, здесь он даже не заметит разницы во времени. Ха-ха-ха.
Студент еще долго не мог забыть боксера и комика, которые молчали, даже когда разговор касался непосредственно их, и как будто знали, что случится через два дня. Он не мог забыть их вплоть до того дня, двадцать три года спустя, когда к нему пришла молодая женщина и сказала, что хочет узнать, что же произошло десятого октября 1982 года. «Езжайте в Долину Смерти. Обязательно езжайте. Может быть, там вы что-нибудь увидите», — ответил он ей.
Через два дня в отеле «Сизос-палас» проходил титульный бой, результаты которого многие хорошо помнят, поэтому нет смысла говорить о них снова. Бой проходил в выходной день, и для американцев, по несколько часов добиравшихся на машинах до Лас-Вегаса, а потом еще несколько часов наслаждавшихся азартными играми в казино, было достаточно развлечений, чтобы остудить голову: кабаре с длинноногими танцовщицами, шоу дельфинов, рассекающих, словно моторные лодки, водную гладь с дрессировщиками на спинах. Боксерский матч был самым подходящим заключением дня для всех желающих развеяться. Итог спарринга был виден довольно скоро, и можно было сразу делать ставки на следующий бой. Конечно, немного обидно, если боксер падает прямо в первом же раунде, но если, скажем, он выстоял три раунда, то это уже вполне стоящее зрелище.
Но, когда начался заключительный поединок, оказалось, что соперники вовсе не торопятся уйти с ринга. Бой продолжался до одурения долго, так что устали все: чемпион прошлого года, его соперник и зрители, непрерывно наблюдавшие за этим жестоким зрелищем. Понемногу замедлялась свистопляска кулаков и тяжелели шаги танцевавших на матах боксеров. По прошествии десяти раундов все, кроме людей, приехавших из страны, которую называли Южная Корея, начали понимать, что что-то пошло не так. И начавшееся так же радужно, как шоу дельфинов, состязание превратилось в ночной кошмар. Все с нетерпением ждали, когда боксер упадет. И в четырнадцатом раунде спортсмен из маленькой страны на Востоке наконец-то свалился на ринг. Когда голова уже давно измотанного спортсмена ударилась о мат, из разорванного рта полетел на пол окрашенный красным загубник. Ослепительный свет прожекторов, направленных на ринг, оказался последним ярким воспоминанием боксера в этой жизни.
С самого начала все знали, что не получат существенной прибыли с этого боя, так как ставки были невысоки, потому как спарринг задумывался всего лишь как шоу. И конечно, практически все, кто сделал свои ставки, выиграли. Однако были и люди, потерявшие во время этого поединка крупные суммы. Это как раз случай молодого президента корейской компании, который поставил пять тысяч долларов на малоизвестного боксера, всего лишь поверив его словам, что он будет стоять насмерть и домой полетит либо в поясе чемпиона, либо в гробу. Однако на этом финансовые потери молодого президента не закончились. Вернувшись в свою комнату в отеле, он обнаружил, что исчезли и пятьдесят тысяч долларов, которые он нелегально вывез из Кореи. Единственным человеком, который знал о существовании пятисот банкнот по сто долларов каждая, был комедиант, который, собственно, и пронес эти деньги через границу вместо самого президента, вынужденного теперь методично прочесывать одно за другим казино улицы Стрип в поисках своего бывшего товарища, будто провалившегося сквозь землю.
Координатор корейской группы сбился с ног из-за этих происшествий и не знал, за что хвататься в первую очередь. С одной стороны, он стал представителем спортсмена и обязан был давать интервью иностранным репортерам, но в то же время ему необходимо было постоянно сотрудничать с полицией Лас-Вегаса, чтобы найти комика, скрывшегося с пятьюдесятью тысячами долларов. Случаи похищения крупных сумм в Лас-Вегасе были нередки, и полиция уже привыкла расследовать подобные дела. Корейцы, два дня назад приземлившиеся в аэропорту Маккаран в Лас-Вегасе, снова сели в самолет и улетели обратно в Лос-Анджелес вместе с боксером, у которого диагностировали смерть мозга. Молодой президент фирмы не мог больше терять время и был вынужден вернуться с товарищам в Лос-Анджелес. Учитывая, что пятьдесят тысяч долларов являлись для него той суммой, которую он был готов оставить в казино, он не сильно переживал по поводу денег, но вот предательство он простить не мог, а потому сказал студенту, что комика непременно нужно поймать. И попросил его еще на несколько дней задержаться в Лас-Вегасе, чтобы проследить за ходом расследования и держать пострадавшего в курсе дела. Он пообещал, что если жулика поймают, то он отдаст студенту ровно половину той суммы, что еще останется при нем. Студент, уверенный, что комик решил с украденными деньгами попытать счастья в казино, ответил, что главное — поймать его до того, как он проиграет все до последней монеты.
Однако вскоре выяснилось, что комедиант вовсе не собирался идти с похищенными деньгами в казино. Утром следующего дня координатор корейской стороны с двумя американскими полицейскими поехали в пустыню, которая протянулась на двадцать пять миль вдоль скоростного шоссе от Лас-Вегаса к Лос-Анджелесу, чтобы осмотреть машину, арендованную накануне, а теперь лежавшую вверх тормашками в той самой пустыне. По пути полицейские передали корейцу документы, обнаруженные в перевернувшейся машине, и заодно поинтересовались, что стало с боксером, проигравшим бой за день до этого. Просматривая документы, в которых кроме имени ВОК NAM AHN был также указан адрес двухэтажного дома, вероятно уже перешедшего к другому владельцу, студент ответил: «Наверное, он уже умер». Машина вверх дном лежала между древовидными стволами растения, известного как дерево Джошуа. Ее капот был направлен вглубь пустыни, настолько безжизненной, что можно было легко поверить, будто перед вами лунный пейзаж. Поскольку пятидесяти тысяч долларов в машине не обнаружилось, то полицейские предположили, что грабитель отправился на попутках дальше по шоссе. Однако их помощник, кореец, поднял очки комика, валявшиеся рядом со свежими следами, ведущими в пустыню, и засомневался, действительно ли тот уехал автостопом. Словно не веря сам себе, молодой человек вглядывался в желтую пустыню, залитую ярким утренним солнцем, и не находил сил сказать полиции, что человек, который даже в очках едва различал что-то впереди себя, похоже, ушел вглубь пустыни.
14
Мы сидели бок о бок в библиотечной студии и слушали голоса, записанные на диск, который Ан Ми Сон прислала вместе с письмом. Запись начиналась с реплик ее отца, которые она скопировала с видеопленки. Например, «Пока, воздушные змеи! Я лечу на Луну!» или «Ничего смешного». А потом последовали рассказы очевидцев — людей, которые в 1982 году ездили в Лас-Вегас вместе с боксером: переживший несколько банкротств и возвращений в бизнес, имеющий восемь судимостей за мошенничество «молодой президент», а теперь уже седой водитель сеульского такси; тренер, который до сих пор каждый год, что бы ни случилось, десятого октября ел жареные говяжьи ребрышки в память о покойном боксере, который, в отличие от своего наставника, очень любил это блюдо; вернувшийся из заграничной стажировки и теперь работающий в корейском университете профессор, — все они поделились своими воспоминаниями. Она не отредактировала ни единой записи голосов этих людей, рассказывающих об ее отце.
Она оставила не только такие реплики, как, например: «Вам, наверно, горько будет это слышать, но я считаю вашего отца своим врагом. С тех пор как он это сделал, моя жизнь пошла наперекосяк» или «Ну, был такой. Приехал вместе с директором. Больше ничего не могу сказать». Но кроме того она оставила на записи звук ревущих моторов, работающих автоматов, чужой разговор, хорошо различимый где-то в отдалении, чьи-то быстрые шаги, скрип открывающихся и закрывающихся дверей, звон телефона, надрывающегося в одиночестве. Иногда подолгу вообще ничего не было слышно. Тогда мы тихо сидели с директором Ли и ждали, пока снова зазвучит чей-нибудь голос или послышатся звуки происходящего вокруг. Во время одной из таких пауз я смотрел на солнечный свет, пробивающийся через закрытые жалюзи, и слышал голоса детей, удалявшихся по переулку. Я подумал, что действительно речь людей, то умолкавших, то снова начинавших говорить, звучала одиноко и немного тоскливо. Некоторое время я слушал запись, закрыв глаза, а потом спросил у директора Ли: «Ничего, если я выключу свет?» Нажимая на кнопку на своих наручных электронных часах, директор поинтересовался: «А что в комнате уже темно?» Очевидно, он не расслышал моего вопроса. Часы женским механическим голосом составили предложение: «Точное время шесть часов тридцать пять минут вечера». «Нет, свет сейчас включен, и я спрашиваю, можно ли его выключить», — пояснил я. «Да мне-то все равно», — ответил директор.
Я поднялся и выключил свет. Комнату заполнила темнота, все еще мерцавшая отблесками уходящего дня. Голоса на диске рассказывали о комике, который двадцать четыре года назад похитил в Лас-Вегасе пятьдесят тысяч долларов. Иногда люди говорили быстро и складно, иногда запинались, словно не могли припомнить детали случившегося, иногда чувствовалось, что говорящий до сих пор не смог перебороть злость и обиду внутри себя, иногда казалось, что никто так до конца и не разобрался в случившемся. Некоторое время я сидел спокойно, рассматривая огоньки проигрывателя, усилителя и пульта, но в итоге просто закрыл глаза. И как раз в тот момент, когда я подумал, что с закрытыми глазами, пожалуй, могу случайно задремать, впервые зазвучал ее голос. Она рассказывала, что восьмого октября 2006 года взяла машину напрокат и в одиночестве отправилась в сторону Лас-Вегаса. Она сидела в водительском кресле и перечисляла номера дорог, по которым ей предстояло ехать, и названия городов, которые должны были встретиться ей на пути. С 580-го шоссе на 5-ое, в Бейкосфилде свернуть на 58-ое, а проехав пустыню Мохаве, в Басытоуне выехать на 15-ую дорогу. Она не удалила с записи даже щелкающие звуки, которые были слышны, когда она включала или выключала диктофон во время своей восьмичасовой поездки. В паузах, когда смолкал ее спокойный голос, я слышал звук работающего мотора, музыку, доносившуюся из магнитолы, рев ветра, ее покашливания. Я слышал пустыню, простиравшуюся слева и справа от дороги, плавные, как во сне, повороты дороги, свежесть прохладного ветра, залетавшего в приоткрытое окно. Я чувствовал одиночество мужчины, однажды исчезнувшего в пустыне, отчаянье девушки, отправившейся к той же пустыне, чтобы понять его, свет и тень, которые им обоим предстояло увидеть там, холод и жар, одиночество и грусть.
Потом снова раздался щелчок диктофона. Сначала был слышен звук приближающейся издалека машины, которая вскоре с такой же скоростью начала удаляться. Звук мотора стих, и в комнате вдруг стало очень неуютно и одиноко. Стало тихо, но совсем не так, как вначале. Были слышны завывания ветра, напоминавшие чей-то хриплый свист, звук волн и вой койотов в ночи. Очень долго, так долго, что он успел опротиветь, продолжался этот рев ветра. И когда я уже всерьез забеспокоился, где же она находилась, в одинокий вой ветра вдруг ворвался ее голос: «Теперь вы видите?» Было слышно, что она еле сдерживает слезы. На этом ее слова обрывались, и еще четверть часа мы слушали одинокий ветер, ревущий в микрофон, а потом вдруг все закончилось и мы погрузились в тишину и темноту.
Диск остановился, и из динамиков, расположенных по обе стороны от нас, не доносилось ни звука. Мы так и остались сидеть, не в силах пошевелиться. Через некоторое время директор Ли произнес:
— Ну, как бы то ни было, — потом помолчал немного и продолжил: — может быть, послушаем еще раз?
— Да надо бы. Вы что-нибудь поняли?
— Нет, давайте-ка сначала еще раз включим.
Я открыл глаза, поднялся и подошел к пульту, посмотрел на счетчик времени воспроизведения, нажал на кнопку и начал перематывать запись ближе к концу. После нескольких неверных попыток я наконец нашел то место, где начиналась запись ее поездки в Лас-Вегас. Она снова съехала с 580-го шоссе на 5-ое, в Бейкосфилде свернула на 58-ое, а проехав пустыню Мохаве, в Басытоуне выехала на 15-ую дорогу и приехала в Лас-Вегас. И снова, когда непрекращающийся звук ветра стал невыносим, она спросила: «Теперь вы видите?»
Я слушал ритмичные завывания ветра. Пока перед моим взором не предстала ночная пустыня, погруженная в тишину и темноту, и комик, перевернувшийся на машине и потерявший свои очки. Пока я не увидел, как он, оставшись один в широченной пустыне без конца и края, озирается по сторонам и в итоге уходит к миру, озаренному ярким светом. Пока отчетливо не увидел очертания пустыни, протянувшейся до самого горизонта, где начиналась дорога, по которой он брел вглубь безжизненных песков. Пока не увидел наконец, как по этой яркой дороге он поднялся к полной луне.
— Это же полнолуние! Верно? — пробормотал я, на этот раз мне даже не пришлось закрывать глаза, чтобы видеть.
Директор Ли ничего не ответил. Я один смотрел на огромную яркую луну прямо перед собой. Я был там один.
Примечания
1
Рамён — пшеничная лапша быстрого приготовления.
(обратно)2
Для данного рассказа Ким Ён Су позаимствовал название у японского композитора Кацухико Маэда, который в своем проекте «Девушка конец света» совместил элементы классической, электронной и рок-музыки.
(обратно)3
На Хви Док (1966 г. р.) — корейская поэтесса.
(обратно)4
Син Кён Лим (1936 г. р.) — корейский поэт.
(обратно)5
Чхве Ха Лим (1939 г. р., наст. имя Чхве Хо Нам) — корейский поэт.
(обратно)6
Из стихотворения Чхве Ха Лима «Вечерние сумерки».
(обратно)7
Имеется в виду роман французского писателя Эмиля Золя «Нана».
(обратно)8
Ким Хви Сон (1977 г. р.) — известная южнокорейская актриса, славящаяся своей красотой.
(обратно)9
Сансара — круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой; одно из основных понятий в индийских религиях.
(обратно)10
Речь идет о повести Петера Хандке «Короткое письмо к долгому прощанию».
(обратно)11
Ли Мён Бак — президент Республики Корея с февраля 2008 года.
(обратно)12
Из письма Юн Хён Гу, старшего сына Юн Ёнг Хёна, к своему отцу, погибшему в январе 2009 года в пожаре в высотном здании в районе Ёнгсан, откуда полиция пыталась с помощью дымовых гранат вытеснить граждан, выступавших против сноса жилых домов.
(обратно)13
Роман греческого писателя Никоса Казандзакиса.
(обратно)14
Ро Дэ У (1932 г. р.) — президент Республики Корея с 1988 по 1993 год.
(обратно)15
Ким Ён Сам (1927 г. р.) — президент Республики Корея с 1993 по 1998 год.
(обратно)16
Ким Дэ Чжун (1924–2009) — президент Республики Корея с 1998 по 2003 год.
(обратно)17
Традиционный корейский алкогольный напиток крепостью около 20°.
(обратно)18
Переведено совместно с П. Пихица.
(обратно)19
Одэнь — рыбное блюдо корейской кухни, изначально пришедшее из Японии.
(обратно)20
Нэйвер (англ. naver) — одна из наиболее популярных поисковых систем в Республике Корея.
(обратно)21
11 октября 1977 года в результате неосторожных действий персонала военный поезд, перевозивший более 40 тонн динамита, взорвался на станции Ири в Сеуле, что привело к серьезным разрушениям и человеческим жертвам.
(обратно)22
Ли Чу Иль (1940–2002) — известный южнокорейский комик.
(обратно)23
Ха Чхун Хва (1955 г. р.) — знаменитая южнокорейская эстрадная певица.
(обратно)24
Пэ Сам Рёнг (1926–2010) — южнокорейский комик, прославившийся своими телевизионными выступлениями.
(обратно)25
Пак Чон Хи (1917–1979) — в 1961 году в результате военного переворота стал президентом Республики Корея.
(обратно)26
Чон Ду Хван (1931 г. р.) — военный офицер, президент Республики Корея с 1980 по 1988 год.
(обратно)27
Голубой дом — официальная резиденция президента Республики Корея.
(обратно)28
Примо Леви (1919–1987) — итальянский прозаик, поэт и переводчик. Первую книгу дилогии «Человек ли это?» Леви написал сразу после освобождения из немецкого концлагеря.
(обратно)29
Ли Че Ха (1937 г. р.) — корейский прозаик и поэт. Его сборник «Вегетарианство» состоит из тринадцати произведений, каждое из которых описывает события и последствия корейской войны 1950–1953 годов.
(обратно)30
Речь идет об убийстве президента Пак Чон Хи 26 октября 1979 года.
(обратно)31
Морис Мерло-Понти (1908–1961) — французский философ, приверженец школы феноменологии.
(обратно)32
Чеболь — южнокорейская форма финансово-промышленного конгломерата, представляющего собой группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности одной семьи.
(обратно)33
Янбан — одна из категорий корейского дворянства.
(обратно)
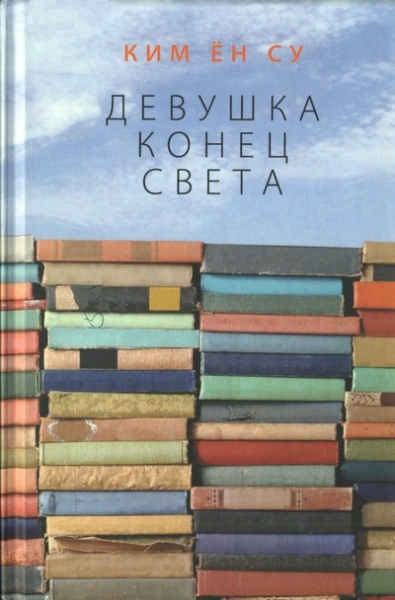




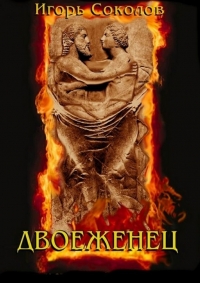

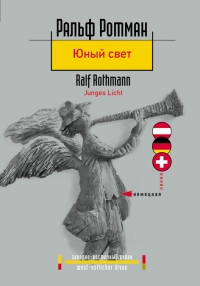
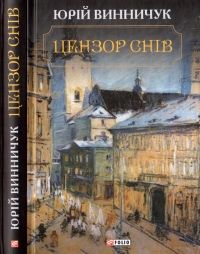




Комментарии к книге «Девушка конец света», Ким Ён Су
Всего 0 комментариев