Сергей Ильин Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем
© С. Ильин, 2017
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
* * *
Виктории посвящаю
I. Познавая себя и ближнего
Четыре города. – То ли потому, что Мюнхен не слишком большой и не слишком маленький, а может потому, что живописная горная речка протекает через самый его центр и на зеленых берегах ее можно беспрепятственно купаться и загорать, то ли по той причине, что славный и в меру одиозный Франц-Иозеф Штраус заблаговременно приютил в этих исконно аграрных краях современнейшую индустрию, а то ли по причине небольшого «магического квадрата», оформившего центр города так, что по нему можно гулять ежедневно – и нисколько не наскучит, или еще потому, что сам фюрер когда-то облюбовал его, а может просто вследствие гармонического архитектурного соседства всех минувших эпох – от Средневековья до современности, – как бы то ни было, но этот город, который даже близко нельзя отнести к числу самых красивых городов мира, тем не менее, по единогласному заверению очень многих и разных людей, разумеется, не коренных мюнхенцев, людей повидавших весь мир и могущих сравнить, является самым благоприятным городом в мире, – просто для того, чтобы жить в нем повседневной жизнью.
Но есть ли для города лучшая похвала?
Зато только в трех городах мира – Венеции, Амстердаме и Санкт-Петербурге – и конечно же по причине их сквозной пронизанности водными каналами непроизвольно рождается желание бродить по ним часами, днями, месяцами, годами, столетиями – и не надоест: тут дело в том, что разорванные образы домов, деревьев, неба и людей не только отражаются в зеркальной поверхности воды, но и как бы уходят вглубь ее, так что складывается впечатление, будто внешний мир не запечатлен намертво на водных зеркалах, подобно насекомым на гербарийных иглах, но обладает таинственными нишами в глубине зеркал, куда он (мир) по странной прихоти исчезает и откуда снова возвращается, а поскольку время, как и свет, имеет не только квантовую, но и волновую природу, то и вся прошлая, но также и будущая жизнь этих городов, вместе с биографиями их прежних и будущих жителей, принимает участие в этом магическом спектакле наравне с настоящим моментом, причем не то, что мы видим, слышим и представляем, бродя как зачарованные по улицам вдоль каналов, существенно, а существенно как раз то, что нельзя видеть, слышать и представлять, – оно и есть единое на потребу: то великое и невидимое бытие, слитное предощущение которого сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни и осуществление которого мы обычно видим либо в боге, либо в смерти, – да, вот в такие минуты древняя, как мир, сделка с дьяволом приходит на ум: продать душу дьяволу за возможность вечно бродить по этим трем заветным городам, – и хотя сделка эта заведомо проигрышная – ведь никогда дьявол не предложит человеку больше, чем Господь-бог – все-таки в данном случае это посмертное блуждание по Венеции, Амстердаму и Санкт-Петербургу, разумеется, без ограничений во времени и пространстве, без страха смерти и телесного разрушения, даже без оправданного опасения, что нам все это рано или поздно наскучит, зато с неотразимой – потому что запретной – прелестью проникновения во все дома и квартиры со всей их таинственной внутренней жизнью и в пределах суммарного исторического времени, – итак, это потустороннее блуждание, уступая заранее господним возможностям – разве астральные миры не превосходят в бесконечные разы ареалы трех названных городов? – да, это фантастическое, безумное, одержимое греховной поэзией блуждание представляется все-таки настолько экзистенциально обоснованным и соблазнительным, что заведомо проигрышная сделка с дьяволом насчет продажи души как-то сама собой приходит на ум, – и не то что бы мы на нее согласились, выражаясь вместе с Атосом, но о ней можно хотя бы поразмыслить на досуге.
Но есть ли для города слава выше этой?
Добрый знак. – Если когда-нибудь в начале марта, выйдя из подъезда и увидев соседа-немца, выбрасывающего мусор (чрезвычайно добродушного и общительного человека) вы спонтанно разговоритесь и он по ходу разговора, заглянув в безоблачное голубое небо, мечтательно промолвит, что вот наконец-то наступила весна и зимняя депрессия закончилась, а вы сами не зная почему вдруг скажете, что, напротив, весной-то и разыгрывается настоящая, матерая, нутряная депрессия, но сосед не поймет вашу мысль, однако на всякий случай понимающе улыбнется, а вы, поскольку у вас всегда были хорошие отношения с ним и еще по причине вашего боевого настроения в данный момент, подтвердите вашу догадку классической фразой о том, что нынче прямо «Моцарт разлит в воздухе» (а ведь это, в сущности, все равно что сказать: «Я только что позавтракал яичницей»: в том смысле, что как дважды два четыре) и тогда сосед ваш очень пристально взглянет на вас, и в его взгляде вы ясно прочтете два вопроса: первый – «Здоровы ли вы душевно?», и второй – «Не издеваетесь ли вы над ним?» – так вот, после того как вы разубедите его в обоих пунктах и даже искренне попытаетесь разъяснить ему вашу точку зрения, и разговор ваш примет привычное житейское направление, и вы от души проболтаете еще минут сорок, – знайте, что после этого разговора вы ни сблизитесь, ни отдалитесь, и ничего нового вы ни друг о друге, ни о мире не узнаете, – зато у вас будет шанс догадаться, что никогда еще, быть может, ваш скрытый комплекс неполноценности не выражался с такой детской наивностью, с такой гениальной простотой и с таким неподдельным очарованием, – а поскольку тайное, становясь явным, не обязательно исчезает, то и вы после разговора останетесь под впечатлением некоторого томительного недоумения, как и ваш сосед, – и все-таки первый шаг сделан, «лед тронулся», как говорил незабвенный Остап Бендер, и никогда еще никакой день не начинался так хорошо, как этот: в этом вы можете быть вполне уверены.
Но пока только в этом.
Недоразумение. – Прогуливаясь по Зендлингерштрассе, одной из самых характерных улиц Мюнхена, и остановившись в задумчивости подле Старых Ворот из красного кирпича, этой трогательной достопримечательности города, где в аркадах сидит как обычно старик-нищий, рассеянно разглядывая праздную толпу и пытаясь придать лицу униженно-просящее выражение, вы замечаете какую-нибудь грациозно продефилировавшую мимо молодую женщину с точеными чертами лица, осиной талией, белой блузой поверх черной майки, в плотно облегающих джинсах и с теннисной повязкой вокруг высокого сжатого лба; далее, вы видите, что обратил на нее внимание и старик-нищий: в разодранном пальто, смахивающем на картофельный мешок и замусоленной кепкой в руке, он тоже провожает женщину внимательным долгим взглядом, но в его глазах, когда он поворачивается к вам и почему-то неуверенным жестом указывает на кепку, не отражается и следа известного волнения, – и вот как всякому русскому человеку, воспитанному на Толстом и Достоевском, вам хочется сказать ему что-нибудь общечеловечески веское и утешительное, вроде того, что, мол, жизнь, что ты с нами делаешь? – однако он, точно догадавшись о ваших несуразных мыслях, недовольно от вас отворачивается, – и вот тогда экзистенциальная ненужность любого слова, если оно не подкреплено жестом или поступком, а еще лучше, жизненной позицией того, кто его произносит, то есть негласное предпочтение ему волевого молчания и вечной и бесконечной, как универсум, дистанции, – да, вот тогда эта крошечная деталь опять и в который раз бросается вам в глаза как, пожалуй, главное отличие между тем, что есть мир западный, и тем, что мы понимаем под русским миром.
Одержимость порядком. – Как, наслаждаясь жизнью, нельзя все-таки забывать, что всегда и в любом месте может случиться что-нибудь такое, что с этим наслаждением, мягко говоря, совершенно несовместимо, и это принадлежит к сущности самой жизни, так живя в Германии и пользуясь ее во многих отношениях образцовой организацией социальной и общественной жизни, тоже нельзя забывать, что к вам тотчас же и в течение буквально четверти часа подойдут полицейские, если вы, например, будучи усталым, вздумаете коротко прилечь на скамейке, или, привлеченные какой-нибудь живностью, вступите на газон, или не дай бог! заедете на велосипеде не туда, куда разрешено, – короче говоря, Дамоклов меч за малейшее нарушение немецкого порядка всегда и везде висит над вами, и не то что бы это так уж страшно – полицейские здесь очень вежливы, да и сами вы только внутренне выиграете, если научитесь уважать величайшую святыню немецкой нации – в конце концов «в чужой монастырь со своим уставом не лезут» – однако эта поистине метафизическая страсть немцев соблюдать порядок в таких мелочах, которые представителям других – и тоже всеми уважаемых европейских – наций даже в голову не придут, страсть, которую можно сравнить разве что с рыцарской скупостью пушкинского Барона или с мрачной одержимостью героев «Бесов», – она, эта страсть, быть может, намекает на какое-то древнее таинственное проклятие, висящее сызмальства над этой великой нацией, – и ни монументальные свершения в области культуры, ни опустошительная слава колоссальных разрушительных и саморазрушительных войн, ни даже примерная забота государства о благе граждан, а также их званых и незваных гостей, – абсолютно ничто не может заставить забыть нас об этом проклятии: оно как родимое пятно, по которому мать даже спустя десятилетия узнает свое родное дитя, и в нем, этом пятне, столько мелочности, чреватой величием, и вместе столько величия, чреватого мелочностью, что, увы! все прочее для чужестранца может выветриться со временем из памяти, а вот эта самая исконная немецкая черточка останется в сознании, точно ее там нацарапали гвоздем: в ней, кстати, при желании можно найти объяснение всем противоположным и мнимо несовместимым между собой проявлениям исторической жизни немцев.
И совсем уже в качестве постскриптум. – Когда я вижу, как на абсолютно спокойном отрезке какой-нибудь проселочной дороги собираются баварские полицейские, чтобы установить там радар или организовать усиленный контроль водителей, когда я вспоминаю, как однажды прямо передо мной на тротуар выехал полицейский автомобиль, слепя глаза, и у меня проверили документы только потому что я, с точки зрения проезжающих мимо полицейских, подозрительно заглянул в собственную машину (я хотел убедиться, подтянут ли ручной тормоз), и когда я сравниваю все это с нашим семейным голландским путешествием, где за все недельное пребывание в этой чудесной стране мы увидели без всякого преувеличения всего лишь пятерых полицейских – да и то двое из них, точно шутки ради, гарцевали на конях – то кафковская гипотеза о том, что преступление притягивает закон, обретает также и обратную значимость: закон тоже, оказывается, притягивает преступление – в том смысле, что он его самым буквальным образом материализует из пустоты: быть может, точно также как врачи не столько лечат, сколько создают и материализуют болезни.
И как природа кафковской гипотезы насквозь художественна, а значит двусмысленна, так точно зыбко и противоречиво ее приложение к сравнительной криминальной статистике Германии и Голландии: с одной стороны, в Голландии за последнее десятилетие было закрыто около десятка крупнейших тюрем, а в действующих тюрьмах так много свободных мест, что голландцы за деньги содержат там преступников из соседних стран, однако с другой стороны, Амстердам считается после Лондона самым криминальным в Европе городом (хотя я этого совершенно не почувствовал), а суды в Голландии склонны просто многих преступников отправлять не в тюрьмы, а на социальные работы: потому-то так много там свободных камер!
И все-таки противоречие (в статистике двух стран) есть противоречие, его так просто не объяснишь, – и чем черт не шутит: быть может, лучшего его уяснения, чем при помощи кафковской гипотезы, вообще не существует!
Милые странности. – Как же отрадна иной раз страждущему от уныния и скуки взору на европейских улицах та мгновенно бросающаяся в глаза неопределенность в азиатской паре, когда по виду женщины трудно решить, приходится ли она сопровождающему ее мужчине женой, матерью, подругой, дочерью или сестрой, правда, Будда говорил, что все мы были женами, матерями, подругами, дочерьми и сестрами в прежних жизнях, – но ведь тут все сразу и одновременно.
При желании, однако, можно найти к этой истории и своеобразный постскриптум, а именно: если войти в общение с этими людьми и поближе узнать их, а потом сравнить полученные сведения с вышеописанным первым впечатлением, которое должно было продемонстрировать наше неподражаемое остроумие, – то выйдет довольно сложное и противоречивое ощущение: с одной стороны, нам будет немного стыдно за наш иронический перл, как нам всегда было немного стыдно, когда на место серьезного отношения к тому или иному явлению жизни выступала попытка увидеть его в дымке улыбчивого (само)отрицания, но с другой стороны эта глубочайшая азиатская непроницаемость не позволит нам слишком уж стыдиться подмеченного и быть может несколько надуманного наблюдения, тем более что улыбка над милой парочкой будет являться снова и снова, – и вот тогда мы догадаемся, наконец, что ирония только тогда оправдывается вполне как целостное видение жизни, когда ее субъект готов отдать за нее жизнь, а в идеале еще и в процессе жертвования жизни каждую минуту сохраняет на лице и в сердце ту божественную улыбчивость, которой, кажется, никто кроме Сократа похвастаться не мог.
И потому, чтобы не оступиться и не сойти на ложный путь, лучше вовремя вспомнить, что все учителя человечества и религиозные деятели не жаловали иронию, а значит и нам следует идти вслед за большинством: все-таки жить с улыбкой на лице в той степени легче, чем без нее, в какой трудней умирать, хотя, с другой стороны – и это последний аргумент в пользу Сократа – именно ирония, а не так называемое религиозное чувство, есть главный и единственный признак, отличающий людей от животных, а быть может и от всех остальных живых существ.
Вдали от родины. – Хитрость русского человека как та абсолютно нерастворимая в воде таблетка, что остается на дне стакана, когда после долгой беседы рассосались в душе и в желудке и нечеловеческая откровенность, и нечеловеческое любопытство, и нечеловеческое гостеприимство, и нечеловеческая теплота, и нечеловеческое благодушие, – и вот хочется иной раз выплюнуть таблетку, да вовремя осознаешь, что она подобна тому ребенку в пресловутой ванной, которого все-таки не следует выплескивать вместе с водой, – уж не есть ли сие свойство общий знаменатель нашей ментальности, тот самый, которую имел в виду В. В. Розанов, когда записал свою знаменитую фразу: «Посмотришь на русского человека одним глазком, посмотрит он на тебя одним глазком… И все ясно без слов. Вот чего нельзя с иностранцем».
Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить, что ход нашей истории всегда был как бы предопределен свыше – в том смысле, что главный ее участник: русский народ в лице его низших и средних сословий в ней никогда по-настоящему не участвовал, и верхи всегда определяли политически-общественную жизнь в страны: отсюда ее торжественно-однообразный, напоминающий местами православный молебен, характер, а весь национальный организм – точно гигантская декоративная фигура, поднявшаяся на котурнах: она даже не ходит по сцене по причине неудобства обуви, но застыла в величавой, хотя несколько неестественной позе, а вокруг нее повисла тревожная, томительная атмосфера… что-то будет!
Эта странная зловещая тишина, обычно предшествующая катастрофам, повисла над Россией, по-видимому, давным-давно, когда именно, и сказать нельзя, как невозможно определить хронологическое начало сказки, и ее трудно было услышать, потому что она, как малая матрешка, изначально была облечена в тот великий и предвечный левитановский покой, который, играя роль более крупной матрешки, и по сей день одухотворяет иные российские пейзажи.
Наша великая тишина, из которой вышло все лучшее, доброе, вечное, и наше великое историческое бездействие, породившее то, что отталкивает от нас многие, слишком многие народы, были слиты воедино, и конечно же, триединый славянофильский образ самодержавия, православия и народности, в европейском масштабе являясь глянцевым кичем, все же в нас и для нас кое-что да значил и значит до сих пор, более того, он по-прежнему неотделим от суммарного представления о русской культуре и русской душе, как неотделима от глухой нашей глубинной деревушки какая-нибудь белотелая церквушка с золоченым куполом и малиновым звоном, да еще неподалеку от узкой речушки со степным простором на одной стороне и сосновым бором по соседству с березовой рощей на другом берегу.
В такой вот благодатной, удобренной столетиями тишине трудно расслышать пронзительное безмолвие приближающейся трагедии, как непривычно распознать в странном, бесшумном и гигантском оттоке воды от берега приближающийся из океана цунами.
В такие часы чувствуешь себя зрителем фильма, из которого выключили звук: все вроде бы происходит так, как в нормальной жизни, а звук выключен, звук исчез – душа всего живого и ощущение – точно в кошмарном сновидении, нет чувства реальности, ее место заняла пугающая призрачность, – такое впечатление производит наш Санкт-Петербург: самый нерусский с точки зрения ее предшествующей истории и вместе с самый русский в плане ее же театральной сущности.
Так точно и в жизни отдельного человека бывают минуты, когда ему кажется, что будущего для него больше нет, потому что все главное, для чего он рожден, уже сделано, а исполнение повседневных нужд только усиливает чувство пустоты, сгустившейся вокруг него; подчиняясь инстинкту жизни, он ищет для себя какие-то задачи, способные оправдать его ставшее вдруг ненужным присутствие в этом мире, но все рушится и обваливается под его руками, а сам он, как во сне, падает все глубже в состояние полной прострации.
Такая минута, раздвинутая в эпоху и многие эпохи, есть русская история в ее сокровенном бытийственном сюжете, и в разные периоды нашей истории это чувство присутствовало с неодинаковой интенсивностью, но полностью никогда не исчезало, – вот почему, наверное, русский эмигрант так хорошо и так естественно чувствует себя за границей: нет, он не сделался ни немцем, ни англичанином, ни французом, да у него и мысли такой не было, он остался русским и стал им за границей едва ли не в большей мере, чем прежде, когда жил в России, потому что то характерное ощущение двойного отсутствия – себя в своей стране и страны вокруг себя – оно на расстоянии стало восприниматься острей и отчетливей.
Да что говорить? на днях я ехал в мюнхенском метро, напротив меня сели две русские женщины преклонного возраста, но далеко не старухи, конечно же, недавно приехавшие из России и обосновавшиеся в Германии, и вот одна стала рассказывать другой, как она записалась в какой-то творческий немецкий кружок – ну типа наших песен и танцев – и как все поначалу было вроде бы хорошо, до тех пор пока она не стала регулярно приносить на занятия блины и пирожки и от души ими всех участников угощать.
Сначала ее благодарили, потом как-то стали недоуменно переглядываться, затем вопросительно на нее смотреть и наконец руководительница кружка прямо ей сказала, чтобы она прекратила заниматься подобной благотворительной деятельностью, – женщина обиделась и вышла из кружка: «Я же все от души делала, – пожаловалась она соседке по сиденью, – но немцы, знаете, такие сухие и странные», – и та как будто с нею согласилась.
А я поневоле вспомнил, как в конце семидесятых прошлого века, сразу по приезде в Германию, когда русских здесь можно было буквально по пальцам пересчитать, я все-таки неприятно морщился, когда вдруг случайно слышал родную речь в общественном транспорте или на улице и, хотя я не мог обойтись без Толстовской Библиотеки, хотя жена у меня была русская, хотя думал и писал я на русском языке и общался удовольствием с некоторыми российскими эмигрантами, хотя мама у меня осталась в России и судьба родной страны была для меня далеко небезразлична, все-таки никогда мне не забыть того тайного, глубочайшего, безраздельного и постыдного по большому счету блаженства, которое я испытывал, будучи отделен от миллионов моих соплеменников тем самым Железным Занавесом, падение которого так приветствовала прогрессивная История, но так оплакивало практически все население Западной Германии и в первую очередь русские эмигранты Первой, Второй и Третьей волны.
Наверное, с тех пор мало что изменилось, потому что, наблюдая в метро за теми двумя женщинами, я тоже тщательно избегал их взглядов и вообще делал все, чтобы в сидящем напротив пассажире женщины не узнали своего соотечественника: ведь если бы я внимательно взглянул на женщин «одним глазком», то и они, быть может, пригляделись ко мне «одним глазком», – и тогда мы «поняли бы друг друга без слов», а вот этого мне почему-то не хотелось.
Почему? быть может, ответ заключен в такой, например, «Эмигрантской балладе». —
Простая история с нами случилась – от будней сбежали, и дверцу в стене под плющами волшебную мы отыскали, вошли: за мансардным оконцем виднелась часть летнего сада — а лучшего места под солнцем нам было уже и не надо. Соблазны мирского уюта — увы! эмигрантское свойство — обняли, как щупальцы спрута, святое души беспокойство, но стало в сердцах раздаваться природы кармической Слово: «В российской юдоли рождаться придется вам снова и снова, до тех пор пока не поймете, что лучшей не выпадет доли — пока для себя не найдете на сцене истории роли, что пыль всем в глаза не пускает значенья громадного ношей, а просто игрой убеждает, как принято в пьесе хорошей». Мы в шоке и смутной тревоге, но шепчем в свое оправданье: «Лишь роль человека в дороге актерское наше призванье, а прочее – грубые маски души необъятной и русской: куда до истории-сказки Европе рассудочно-узкой! Меж Богом и миром природы нашли мы бездонную бездну, и в ней приютились – на годы, как в спальне с женою любезной, а те, кто нисколько не падки до этого сложного чувства, вовек не постигнут загадки России и просто искусства». Так мирно поспорив судьбою, как с грозным в спектакле героем, мы дверцу в стене за собою как занавес, тихо прикроем.Древние боги и серая мышь. – Если вы, будучи эмигрантом и прожив две трети жизни, скажем, в Мюнхене, прогуливаясь однажды поздно вечером по городу в компании какого-нибудь вашего гостя из России, вспомнили вдруг вашу любимую отпускную страну – а ей может быть, конечно, только древняя Эллада или точнее, то, что от нее осталось – вспомнили дискретно-покровительственные улыбки гостей в отельной столовой при виде упрямо просовывающихся в плотно сжатые и тем не менее такие доступные ладони тамошних кельнеров, вспомнили жалобный вой побитой хозяином придорожной таверны собаки, вой, в котором не было ожидаемых упреков, а были только пронзительные сетования на причиненную ей несправедливость, вспомнили, как однажды выдался пасмурный день, около часа накрапывал мелкий теплый дождь, пляжи опустели, туристы разбрелись по городу и их скучающие праздные лица на каждом шагу, точно об стенку, упирались в приветливую непроницаемость лиц местных жителей, вспомнили, как ежедневно совершала свой путь вдоль моря с увесистыми корзинами пожилая статная гречанка, и в одной ее корзине были фрукты, а в другой сладкие лепешки, и женщина невозмутимо выкрикивала свой товар, не расхваливая его и не радуясь, когда находились покупатели, лишь время от времени ставя ношу на песок, посреди бледных намасленных туристов, занявших, кажется, каждый квадратный сантиметр узкой прибрежной полоски, отирая платком вспотевшее лицо, поднимая бремя свое и идя дальше.
Итак, если вы вспомнили все это и готовитесь дальше вспоминать в том же духе, да кто-то неподалеку как назло зажег сигарету, дожидаясь пока его собака, вдоволь нанюхавшись, возвратится из-за кустов, в то время как из побочной темноты грянет на вас колокольный перезвон, возвещающий полночь, и будет в этом перезвоне насильственная, непрошеная весть из потустороннего мира, но будет и акустическая мера, весть эту на лету ослабляющая и приспосабливающая к нашему мирскому уровню, – итак, если в качестве маленького чуда состоятся все эти непростые и несоединимые на первый взгляд между собой условия, то – самое время сходу завернуть за угол, миновать антикварную лавку с древним оружием и грозными масками в полутемных витринах, пройти мимо игрушечной лавки, еще раз свернуть налево и – прямо упереться в греческую таверну, которая будет обязательно иметь скромный вид, а название непременно громкое, под стать гомеровскому эпосу, и конечно же с малым числом призрачно колеблющихся в желтых окнах посетителей в этот предполуночный час.
Ну а если, далее, пожилой полный кельнер в жилетке и с широко расстегнутым воротом будет стоять снаружи перед дверью, заложив руки за спину и внимательно наблюдая, как под фонарем мышь поедает хлебную корку, а его молодой и по-видимому начинающий помощник, тоже не зная чем заняться, но не осмеливаясь застыть в монументальной бездеятельности, подобно старшему коллеге, будет протирать для вида окно, если, продолжаю, увидев вас, пожилой кельнер с трудом оторвется от зрелища ужинавшей мыши, молча и с достоинством проведет вас вовнутрь таверны, усадит за самый уютный, по его словам, столик в углу: как раз рядом с миниатюрным амурчиком, зажавшим в пухлых ручонках корзину с цветами, если, далее, ваш спутник, поблагодарив вас за приглашение, сейчас же углубится в изучение меню, а вы, оглядевшись, убедитесь, что это типичная греческая таверна за границей, отдающая кичем, но милая взору всякого, кто успел побывать в Греции и полюбить эту коротающую в архаической дреме какое уже по счету столетие островную колонию, и потому здесь обязательно будут, во-первых, неизменный фрегат над баром изумительной ручной работы, во-вторых, сеть под закопченным потолком, где искусно запутались разнообразные и высушенные дары моря, как-то: гигантский краб с чудовищно непропорциональными клешнями, рыба-меч, косоглазая камбала, чучело спрута, громадные раковины и прочая морская прелесть, в-третьих, любительские акварели на стенах, в-четвертых, дискретно белеющие среди пышной парниковой зелени гранитные копии великих работ древности, а в-пятых и самое главное, с потолка, из замаскированного в щупальцах медузы старенького прибора будет литься заунывная бессмертная музыка, от которой повеет нестерпимой архаической ностальгией, разрыхляющей душу и не открывающей ей выхода в действие, опять-таки в отличие от итальянских или испанских мелодий, – итак, если все эти детали будут иметь место, значит вы сделали правильный выбор и можете считать, что вечер ваш вполне удался.
И тогда самое время заказать запеченный овечий сыр, начиненные фаршированным мясом баклажаны, бараньи котлеты в виноградных листьях с помидорами, а для начала графин домашнего красного.
Когда же, наевшись и напившись, переговорив на все личные и безличные темы, вспомнив всех, кого хранит двойная память, меж вами возникнет, наконец, неловкое молчание: этот милосердный бог смерти любой встречи и любого общения, и вы украдкой посмотрите на часы, жестом закажете кофе, и почти в ту же минуту юноша-прислуга с лицом бога-Танатоса оставит на столе две чашечки с выпуклой поверх краев кремовой пенкой и две рюмки анисовой водки: традиционный подарок хозяина угодным ему гостям… подождите на минуту расплачиваться: обратите внимание, как на пепельном столбике истлевшей до фильтра сигареты запечатлелось название ее марки, – эта обостренная внимательность поможет вам осознать, почему нынешний вечер оказался одним из наилучших в вашей жизни.
Думаете, дело во встрече с вашим соотечественником? да, но только отчасти, или в хорошей еде? атмосфере? настроении? да, и в этом тоже, но все это, поверьте, не главное, – и как черт, согласно пословице, сидит в детали, так главная причина того, почему вы до скончания дней не забудете нынешний вечер, заключается во внимательном созерцании старшим кельнером поедающей корку хлеба под фонарем мыши, потому что – и это ясно ребенку – если бы ее не было, вы попросту прошли бы мимо этой таверны в поисках другой и более приличной, тем более что их в центре Мюнхена несколько, а вам, собственно, опытный в ресторанных делах приятель рекомендовал как раз ту, что кварталом дальше.
Но мышь все решила.
Кстати, когда вы встанете из-за стола и хозяин, довольный чаевыми, проводит вас до дверей и сердечно с вами простится, а вы с порога ступите во мрак и холод, притворно смягченные неоновым светом, то мыши под фонарем уже не будет, зато по-прежнему угрюмо и неуклюже, точно приклеенные, будут шелестеть на ветвях еще не сорванные ветром бурые листья, – и пусть в октябрьском полуночном мюнхенском небе немыслимы древние светлые греческие боги, все-таки далекая улыбка их, так похожая на мигание бледных звезд, намекнет вам, что это, быть может, именно они послали мышь на вашем пути в тот памятный вечер.
Экзотическая зарисовка. – Если в отпуске, в каком-нибудь провинциальном таиландском городке, выйдя из отеля и направляясь, скажем, в магазин, вы встречаете буддийского монаха, гладко выбритого и в оранжевой робе, который прошел мимо вас и исчез за соседним домом, оставив после себя громадный знак вопроса, – ведь его успели раз десять сфотографировать два толстых и вспотевших туриста, прежде чем они принялись дальше поедать мороженое, то вы невольно задумываетесь над тем, в чем, собственно, состоит этот вопрос.
А вопрос состоит в том, что сделалась вопиюще зримой разница между ними: буддийский монах имеет право иметь только чашу для подаяний, иглу для зашивания, бритву и три робы, а сколько вещей у этих праздных туристов? поистине, несчетное количество, и все эти вещи ему, монаху, не нужны, какая бездна вкуса! просто нельзя не позавидовать, что может быть прекрасней? но, с другой стороны, и толстякам-туристам тоже не нужны его чаша, игла, бритва и робы, также и они высказали немало хорошего вкуса в оформлении собственного внешнего облика: стоит только обратить внимание, как колоритно зажаты у них в кулаках сопливые платки и как ладно оттопыриваются из карманов аккуратно завернутые в пакетики буддийские сувениры, – нет, положительно также и у них все на месте, как у того монаха.
Вы скажете, что монах бесконечно духовней толстяков-туристов? может быть, но нельзя согласиться и с тем, что все-таки эта улица, этот городок и в особенности этот мир без сопливых толстых туристов и с одними местными жителями и благородными монахами что-то потеряет: какую-то малую толику той невидимой субстанции, которая и удерживает мир в таинственном равновесии, тем более, что и сами монахи что-то потеряют, если туристы вдруг навсегда исчезнут: ведь на фоне местных жителей монахи уже не так великолепно смотрятся, как рядом с туристами, – итак, жизнь выступает за равновесие, которое, правда, постоянно нарушается, но тут же снова восстанавливается на ином и часто неожиданном уровне, так что гармонию приходится отыскивать заново, и тот, кто склонен ее видеть в мироздании, всегда ее найдет, а тот, кто в нее не верит, нигде ее не увидит.
И что самое интересное – оба будут одинаково правы, и на этом парадоксе, как на библейском ките, стоит мир.
Это сладкое слово свобода. – Нигде, кажется, с такой физиологической остротой не ощущается магическая природа жизненного пространства, как в общественном транспорте, пространство здесь поистине – дышит, и оно дышит вместе с нами и нашими легкими, – и как кусочек пищи, застрявший в гортани, препятствует свободному дыханию и вызывает спазматический кашель, так точно человек, слишком долго и некстати находящийся в нашем принудительном соседстве – разумеется, чужой и не слишком симпатичный человек – фатально нарушает естественное дыхание нашего жизненного пространства.
Подобный казус происходит каждодневно в общественном транспорте, причем если сидящий против нас человек дремлет, читает газету или смотрит в окно – это одно: также и тогда, впрочем, нас не покидает чувство, будто наше неприкосновенное право на свободу грубо попирается, но мы с наигранной грустью успокаиваем себя, что жизнь нужно принимать как она есть, – если же наш визави начинает еще и сверлить нас глазами или хотя бы искоса непрестанно за нами подсматривать, то наше благосклонно-созерцательное восприятие жизни грубо прерывается извне, – и нам приходится действовать.
Самым достойным ответом в такой ситуации было бы, несомненно, встретить взгляд визави и так долго его выдерживать, чтобы неучтивый сосед понял свою бестактность и раз и навсегда отвел бы глаза, однако беда в том, что вуайеризм, как и зевок, заразителен, – и вот вместо того, чтобы прекратить недостойную игру, мы против воли в нее втягиваемся и разве что, стыдясь, стараемся «не попасться»: то есть стреляем взглядами так быстро и незаметно, чтобы наш визави вовсе их не почувствовал.
Поэтому когда он сойдет, мы вместе с облегчением ощутим и некоторое разочарование: вот оно-то и укажет нам истинную цену нашей так называемой свободы духа.
Первородный грех, явленный воочию в общественном транспорте. – Когда к вечеру и после рабочего дня в общественном транспорте к вам подсаживается какой-нибудь небритый, неряшливо одетый, неприятно пахнущий, но все еще чрезвычайно бодрый старик, и, подобно маятнику, качнув бесцеремонно плечами сначала в сторону левого от себя соседа по сиденью, а потом в правую, то есть вашу сторону – дабы обеспечить себе побольше жизненного пространства – комментирует свой жест штампованной фразой: «Это место ведь не занято?», а вы, вместо того чтобы приветливо, пусть и не вполне непринужденно ему улыбнуться в ответ, сказав: «Нет, конечно» и дальше с готовностью потесниться, чтобы подарить ему хотя бы тот абсолютный минимум общечеловеческой любви, который вы вообще в состоянии дать, который вас нисколько не обременит и о даре которого вы сами наверняка не однажды мечтали, под влиянием ли классиков, религии или просто задумываясь о своей душе, – итак, когда вы вместо этого простейшего жеста, который был бы, быть может, единственным нравственным оправданием всего вашего нынешнего прожитого дня, демонстративно отодвигаетесь от этого злополучного старика, так что при этом тесните сидящего справа от вас соседа и, не переставая видеть странно досаждающий вас старческий профиль боковым зрением, смотрите все-таки упорно и надменно в противоположную сторону, – и никогда, никогда, никогда не повернете вы уже к нему лица своего – ни в сем веке, ни в будущем! – да, в эту судьбоносную минуту как раз и следует вспомнить библейскую истину о первородном грехе: с той лишь существенной поправкой, что тот тяжкий и несмываемый первородный грех висит только на вас одних, только для вас одних он имеет кармическое значение и только вы одни его должны будете отрабатывать всю вашу жизнь и быть может последующие, тогда как небритого старика он ни в коей мере не касается, он ему не подвержен, он просто не о нем, – а доказательством тому является тот очевидный и замеченный всеми факт, что вы все время непрерывно, незаметно и пристально наблюдали за стариком, а когда он вышел, метнули ему в спину прощальный пронзительный взгляд, тогда как он вовсе не обращал на вас внимания, – и вот это ваше полное несуществование в его глазах освобождает его как от ответственности быть хотя бы элементарно вежливым по отношению к вам в общественном транспорте, так и тем более от общечеловеческой любви к вам.
Вы, таким образом, сами того не желая и на собственном примере отдельно взятого человеческого субъекта доказали существование первородного греха, но пойдет ли это вам на пользу или во вред, вы узнаете только тогда, когда… вот именно, когда уже будет поздно.
Фантазия о зеркале или что можно взять с собой. – Когда задний фон стекла совершенно темный и непроницаемый, мы видим в зеркале отражение своих самых чувственных и соответственно преходящих черточек: от разного рода прыщиков, волосинок и морщинок до черт лица, которые по причине физиологической отчетливости тоже наиболее подвержены законам времени, – зато на полупрозрачном фоне, каковы обычно полутемные стекла, играющие роль зеркал, мы замечаем уже и свой рост, и манеру стоять и двигаться, и собственный профиль, и даже угадываем существенное выражение лица, то есть то физиогномически главное в нас, на чем выстраиваются черты нашего характера и наши человеческие отношения, а вот они-то уже почти ничем не отличаются от платоновских идей: нам упорно продолжает казаться, что если что-то в нас и способно пройти сквозь игольное ушко смерти, то это наши психические конфигурации, отделенные от наших же конкретных физических признаков, то есть наша образная сущность, – впрочем, в виде исключения, бывает и так, что человек, минуя фильтрацию несущественного в себе, как бы всей массой своего физического облика, включая и одежду и прочий аксессуар, не то что ломится в потустороннюю действительность – туда наскоком не проникнешь – но непонятным образом готов в нее в любой момент нечаянно провалиться, точно раствориться в волшебном зеркале.
Такое ощущение возникает, например, когда в вагон метро входит старая сгорбленная женщина в полуплаще из искусственной крокодиловой кожи с воротником и рукавами из светлого меха, тоже искусственного, в приличных брюках и полулакированных туфлях: она тащит перед собой тележку с зонтом, кока-колой, свежей бульварной газетой и рекламами, на лице ее солнцезащитные очки, а крупный сгорбленный нос, все еще густые темные брови (так несозвучные с седыми буклями волос), крутая складка у рта и особенно усики над верхней губой делают ее похожей отчасти на мужчину, – что-то серьезное и насмешливое, не жестокое и безжалостное, вежливо-приветливое и глубоко отчужденное и отчуждающее одновременно сквозит во всем ее облике, вызывая тоже противоречивые и внутренне несовместимые чувства: тут и безотчетное уважение к необычной пассажирке, и почти порочное любопытство узнать о ней побольше, чем позволяют даже законы приличия, и категорически-брезгливая невозможность сблизиться с нею при соответствующих обстоятельствах, главное же, здесь читается, как предостерегающий дорожный знак для водителя, указание на то, что мы имеем дело с представителем, быть может, самой загадочной, но и самой проблематической нации в мире, причем загадочность эта сугубо темная и непроницаемая по своей природе, в отличие, например от светлой и прозрачной загадочности древних эллинов или индусов, – однако по части зеркальной магии они все приблизительно равны.
О пользе физиогномики
I. (Горький опыт самопознания). – Посреди шумной европейской привокзальной улицы, в турецкой забегаловке, за стойкой, упершись взглядом в зеркало с виньетками и поедая кебаб, иной раз вдруг удивленно замираешь: ведь так много можно было бы рассказать о субъекте напротив! но удерживает элементарное чувство порядочности, – в сущности, это производит несколько комическое впечатление, хотя и является, быть может, тем последним, отчаянным и так и не вырвавшимся из глотки криком, который свидетельствует о полнейшей безысходности нашей ситуации.
С другой стороны, когда мы особенно внимательно рассматриваем себя в зеркале, нам подчас настолько неприятны иные черточки в себе и в то же время, в силу последнего интуитивного знания о себе, эти черточки кажутся нам настолько естественными и неотделимыми от себя, что мы ими почти против воли вынуждены любоваться, – отсюда проистекает то неизбежное приятное отупение, каким обычно сопровождается задержка на собственном отражении в зеркале, и оно же, увы! является основной музыкальной тональностью любой автобиографии.
Вот почему, зная о существовании законов физиогномики, четко определяющих зависимость характера от черт лица, зная, что опытный психолог, мельком взглянув на ваше лицо, как по карте определит вашу сущность, сколько бы вы ни старались мимикой скрыть ее, зная, далее, что и вам самим изменить ваш характер так же мало возможно, как поменять черты лица, – итак, зная все это, вы будете пожизненно обречены чувствовать некоторую благодарность от всякого случайного взгляда любого случайного человека, который внимательно посмотрит на вас и – не заметит почему-то того очевидного изъяна в вашем характере, который, как прыщ на носу, написан на физиогномической карте вашего лица: и более того, чем меньше окружающие склонны или способны проверять незыблемые законы физиогномики на вашем печальном примере, тем большей вы к ним проникаетесь симпатией, хотите вы того или не хотите, и тем скорее они становятся вашими близкими, друзьями и знакомыми, – этот странный закон напоминает темное солнце в сердцевине нашего мироздания, лучи которого столь же милосердны, сколь небожественны в своей сути.
II. (Директор издательства). – Обнаружив какую-либо неприятную черточку в лице того или иного человека, мы склонны как можно скорее отыскать ее аналог в характере – чтобы восстановилась искомая гармония между физиогномией и психологией, а тем самым мир в наших глазах сделался хоть чуточку более прозрачным и постижимым – и не было случая, чтобы сие благородное начинание нам не удалось: я припоминаю в этой связи директора самого антисоветского без преувеличений печатного органа, что со времен окончания Второй Мировой осел во Франкфурте-на-Майне, – мы туда случайно попали сразу после выезда: искали работу, моей первой жене предложили место машинистки, для меня ничего там не светило, и была, конечно, альтернатива начать новую жизнь у немцев и с немцами (соответственно с курсами обучения немецкому, курсами обучения новой профессии или повышения квалификации, лучшей зарплатой и прочими социальными благами), но тот директор, в общем-то симпатичный человек, хотя иногда напоминавший оскалом лица затравленного хорька, настаивал на том, что для человека русского, хотя и покинувшего русскую землю, единственным подлинным смыслом существования за границей может быть только служение «общему русскому делу», тогда как жизнь посреди немцев неизбежно сделает его бессмысленной атомарной единицей, то есть он в ней попросту бесследно растворится как кусок сахара в реке – и он в этом был безусловно прав! – беда лишь в том, что, как впоследствии выяснилось, дети этого человека, как, впрочем, и дети всех без исключения патронов антисоветского движения в Европе получили прекрасное образование и шли по «немецкой линии», никто из них грязным делом борьбы с «преступным режимом» не занимался, а на эту работу (кстати, плохо оплачиваемую, ожидались еще и добровольные вычеты от зарплаты на «общее дело») предназначались эмигранты так называемой Третьей волны, вроде нас, – вот и говори после этого, что между лицом и характером нет никакой связи!
Самая чистая и бескорыстная радость. – Испытав радость выздоровления, радость влюбленности и любви, радость моря и леса, радость открытия новой книги, нового человека, новой земли и так далее и тому подобное, то есть испытав, кажется, все возможные в жизни радости – хотя бы в той или иной степени – приходишь к давно известному (по меньшей мере после Будды) выводу, что все они (радости) не вечны и не абсолютны, но слишком зависят от объекта, и если убрать или переиначить объект, то любая радость очень легко и с каким-то даже садистским удовольствием превращается в свою противоположность: неудовольствие и страдание.
Да, это так, но есть ли вполне чистая и бескорыстная радость, не зависимая от причины или объекта, вот в чем вопрос? на первый взгляд, ею может быть только радость от бытия как такового: в самом деле, просто быть без того чтобы чем-нибудь заниматься, что-нибудь думать, чувствовать или осознавать, к чему-либо стремиться и о чем-либо жалеть, – разве это не радость, лишенная своей противоположности? вполне возможно, здесь философская петля закинута так далеко и так широко, что в нее попался весь космос, – но пробовали ли вы, любезный читатель, хотя бы полчаса ничем не заниматься, ни о чем не думать, ничего не чувствовать и не осознавать, ни к чему не стремиться и ни о чем не жалеть? а если пробовали, то наверняка согласитесь со мной, что в таком субтильном состоянии немало и субтильного страдания, с которым еще нужно работать и работать.
Зато если в один прекрасный вечер случайно забрести во время прогулки на центральный железнодорожный вокзал и с перрона увидеть в окне отъезжающего поезда какого-нибудь давнего знакомого, окликнуть его, заметить, как и он обернется, взволнованно взметнет бровями, захочет что-то сказать, но уж локомотив унесет его на неприличное для разговора расстояние.
Да, именно в этот момент вы и ощутите быть может в первый и в последний раз в жизни ту самую искомую чистую и бескорыстную радость, потому что – осознаете вы чуть позже – если бы поезд вдруг остановился и оклик превратился в длительную беседу, ваше общение, конечно, обрело бы полноценный характер, но не было бы уже той чистой и бескорыстной радости в голосе и особенно во взгляде, самое же главное, если бы эта встреча вовсе не состоялась, ваша радость от прогулки ничуть от этого не уменьшилась бы, а значит она (радость) не зависела от причины и объекта, то есть была поистине абсолютной.
Что и требовалось доказать.
Дороги, которые мы выбираем. – Когда в толпе мы вдруг исподволь встречаем взгляд другого и незнакомого нам человека, то еще задолго до возникновения какого-либо психологического контакта – по времени же эта фаза длится долю секунды – мы чувствуем сквозящую сквозь этот взгляд первозданную и совершенно непостижимую для нас чужеродность бытия: она пронизывает нас как-то сразу и насквозь, так что даже ночное мироздание с его мерцающими звездами, быть может, давно умершими и лучше всего, кажется, доносящее до нас бесконечность мира, превосходя тот взгляд в монументальности воздействия, уступает ему, однако, в завуалированной пронзительности выражения.
Ибо ночное небо все-таки объект, а значит неизбежно подчиняется оформлению нашей субъектности, и какой бы страшный образ мы из него ни слепили энергиями чувств, мыслей и воли, это все-таки наш собственный и производный от нас образ, тогда как пристальный взгляд на нас чужого и постороннего человека, сколь бы безобиден он ни был, означает вторжение в наше жизненное пространство субъекта, то есть живого существа, которое одним своим существованием делает наше бытие и наше мировоззрение куда более условным и относительным, чем это удалось ответившему нам немым взором необозримому полуночному универсуму.
И вот эта субъектная чужеродность любого нашего визави настолько элементарна и вместе настолько действенна, что в ней, как в зеркале, мы читаем и наше онтологическое с ним равенство, и наше кровное с ним одиночество, и наше сходное с ним право на счастье, и нашу родственную с ним обреченность на страдания и смерть, – да, чужой взгляд в толпе показывает нам, точно в магическом кристалле, наше собственное положение в этом мире и нашу судьбу в нем, а кроме того, в качестве бесплатного приложения, взгляд этот ненавязчиво подсказывает нам, что если бы Всевышний соизволил взглянуть на нас, Он бы это сделал как в современной сказке, – приняв образ не нищего, а какого-нибудь случайного в толпе человека или, нотой выше, Всевышний посмотрел бы на нас точно так, как мы сами ответили на взгляд того человека из толпы.
То есть если ответили с любовью – то и сами получили свыше любовь, скажем, в виде постоянных жизненных удач, а если ответили с раздражением и неприязнью – вот вам и тайная причина наших неурядиц и несчастий; как бы то ни было, в чужом взгляде мы фиксируем сначала бездноподобное отчуждение нам по всем параметрам, и это отчуждение мы можем легко расширить и углубить – ответным холодным и безразличным взглядом, но можем и сузить и даже упразднить – идущей изнутри теплотой наших глаз, теплотой, которая демонстративно не обращает внимание на настроение и внешние обстоятельства: ведь в согласии с неумолимым законом симпатии-антипатии этот застрявший надолго в поле нашего зрения субъект с нескромным взглядом может показаться нам настолько отталкивающим, что простое допущение необходимости с ним долго и интенсивно контактировать вызывает в нас то самое непреодолимое и сартровское: «Ад – это другие».
И кто знает, быть может, идя целенаправленно по этому пути и никогда с него не сворачивая, мы и на самом деле попадем в Ад, тогда как, сумев преодолеть себя и ответив несимпатичному субъекту любящей добротой во взгляде, мы отправимся в противоположном направлении, то есть, даже страшно сказать, в Рай, – ну а если, как это обычно бывает в жизни, ограничиться среднеарифметическим вежливым любопытством и закрыть доступы в себе как наверх, к Богу, так и вниз, в Аид, то, по всей видимости, нам навсегда придется оставаться в Чистилище земного бытия, или, как говорят буддисты, в круговороте вечного перерождения.
Что мы, собственно, и делаем.
Уличное представление. – Только вкусив неотразимое очарование толпы на центральных улицах европейских городов, только обратив внимание, что любой прохожий здесь настолько чертовски интересен, что от него невозможно оторвать взгляд: по крайней мере пока он не исчезнет из нашего поля зрения, и это несмотря на то, что при полнейшей нашей минутной в нем заинтересованности нам совершенно безразлична по сути его биография – таково даже главное условие внимательно-бескорыстного созерцания людей на улице – и только осознав, что в этой глубочайшей и неустранимой фрагментарности человеческих судеб, более того, в самой принципиальной незаконченности любого куска жизни, откуда бы его ни отхватить, заключается не только первичная характеристика бытия, но и его жанрово-эпическая подоснова, – только тогда исчезает раз и навсегда вкус к театру как таковому, исчезает физическая возможность присутствовать в набитом зале, исчезает способность даже в талантливой актерской игре признавать великое искусство, исчезает готовность видеть интересную и живую интригу на месте всего лишь намертво выдуманного сюжета, – да, после урока, преподанного уличной непосредственностью, пропадает вкус ко всему условному, и только одно кажется странным и непонятным: как он мог он (вкус) так долго держаться.
Действительно, когда наблюдаешь за людьми на улицах европейских городов, кажется, что они, непроизвольно подчиняясь какому-то выше них стоящему природному игровому инстинкту, на короткое время – словно только для того чтобы пройтись перед зрителями в новом лице – перевоплощаются в каких-то немного других персонажей: по крайней мере непосредственное восприятие от них таково, что в семье они несколько иные, нежели на улице, а на работе и вовсе не похожи ни на тех, ни на других, – но мы заранее и от души верим в их малые житейские перевоплощения, а если верим, значит признаем в них некоторое крошечное, но истинное лицедейское искусство, причем чем шире шпагат между ролью и тем, кто ее играет, тем талантливей актер, когда же нам, в виде исключения, вовсе не удалось распознать в герое знакомого актера – а такое часто бывает в лучшем кино и такое нередко происходит на обыкновенных европейских улицах – тогда мы имеем дело с апогеем актерского мастерства.
А вот на российских и даже столичных проспектах несколько другая игра: там люди видят друг друга насквозь – точно смотрят сквозь стекло, вместо того, чтобы наблюдать за собой в зеркалах, то есть в тех же стеклах, но с темной непрозрачной основой, – последние не позволяют по природе своей всмотреться в них до дна и подарить человеку дурную и неоправданную иллюзию, будто он он все до конца в своем ближнем понял, вот почему зеркала создают некоторую естественную и непредвзятую атмосферу скромной тайны и повседневного волшебства, тогда как стекла служат, как правило, лишь трезвым и практическим целям, – да, когда смотришь в зеркало, то даже сам себе немного удивляешься, и это хорошо, человек обязательно должен себе немного удивляться, иначе он будет походить на неодушевленную вещь: в зеркале, между прочим, вообще нет неодушевленных вещей, там мир замкнут на себя, самодовлеющ и уникален и плюс к тому еще отражен – его не пощупаешь, и вот он уже по одной этой причине начинает магически притягивать, как недостижимый идеал, а через стекло мир только растекается, как вода сквозь пальцы, создавая ощущение неустранимой, фатальной реальности, в которой столько скуки, предсказуемости, морального шаблона, дурной повторяемости и поразительного однообразия, что она скорее напоминает сон, нежели живую жизнь.
И как в кино постоянно присутствует иллюзия, что все обошлось без искусства: мы не видим ни режиссера, ни сценариста, ни актеров между сценами, ни статистов, ни всех тех, кто обступили с камерами, прожекторами и тысячами вспомогательных приборов ту сцену, которую мы в данный момент наблюдаем, и мы не можем никак вмешаться в игровое действие, тогда как в театре все-таки можно незаметно подмигнуть актеру, и только сообразно этой иллюзии и в пропорциональной от нее зависимости рождается драгоценное и по сути центральное ощущение великого удивления от искусства, так в театре это последнее начисто отсутствует и не может не отсутствовать, а само великое – потому что метафизическое – удивление деградирует до уровня всего лишь чувственного смакования от мастерской игры: итак, рассуждая в гиперболах, театр – как наша сиюминутная жизнь, в которой еще что-то можно поправить, кино – как наша же прожитая жизнь, в которой поправить ничего уже нельзя: тут и размах, и необратимость каждого шага, и вытекающие отсюда серьезность и величие, и судьбоносность, но, как сказано, и некоторый шок, по причине опять-таки непроходимой дистанции между зрителем и актером.
Вообще же, когда в любом постороннем человеке нутром ощущаешь пусть даже малый и незначительный, но самостоятельный и ни к чему не сводимый мир, концы которого, как любил говаривать наш незабвенный Федор Михайлович, сходятся в «мирах иных», тогда и себя самого посреди этого мира воспринимаешь как крошечную звезду в бесчисленном сонме больших и малых мирозданий, и потрясает тогда душу самый великий из всех доступных нам просторов: простор звездного неба, – так вот, крохотное, но истинное его подобие переживаешь иногда на улицах европейских городов, – не потому ли мы сюда приехали? и как иначе объяснить пророчество того же Достоевского о том, что Европа нам, русским, быть может, внутренне ближе и дороже, чем самим европейцам? подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, вынужденным сутками пить морскую воду, от которой они сходят с ума и гибнут, мы тоже давно обезумели от недостатка подлинного живого духовного простора и необходимости пить вместо его нектара мертвую воду пустого и давящего на душу бескрайнего пространства, еще раз! не признавая метафизической (то есть попросту не до конца проницаемой) личности в собрате, мы добровольно лишаем себя дополнительных и важных экзистенциальных измерений, на отсутствие которых потом жалуемся и для восполнения которых едем за границу.
Вот почему русский человек производит глубоко театральное впечатление, в противоположность человеку западному, сходному с образом кино, – нет, каково закручено, а?
Когда между людьми пробегает черная кошка
I. – (Нежданная встреча). – Всякий раз, когда человек уверяется, что его общение с тем или иным ближним – или дальним, неважно – наткнулось на непреодолимые границы – подобно тому, как гоголевская панночка не могла перешагнуть через обведенный Хомой магический круг – и вот уже сделаны сотни попыток перейти черту: то есть нащупать хоть какую-то мелочь, которая бы связала заново обнаруживших вдруг между собой непроходимую бездну людей, но все эти попытки закончились неудачей и дальнейшими разочарованиями, – итак, всякий раз, когда человек, остановившийся перед вышеописанной роковой чертой, ставит крест на надломившемся отношении, решив для себя, что никогда уже в нем не будет музыки, а если не будет музыки, то и ничего не будет, – да, всякий раз тогда именно и входит в мир царица-Смерть.
Когда же человек в сложившейся ситуации несмотря ни на что продолжает и дальше искать контакт, продолжает работать над собой, верно предположив, что вина на испорченном приятельстве лежит в равной мере и на нем самом, продолжает верить, что рано или поздно его попытки хотя бы минимального сближения увенчаются успехом, – тогда уже входит в мир другая великая миропомазанная сестра: царица-Жизнь.
А еще в жизни нередко бывает так, что вот годами общаешься с какими-то хорошими людьми, и нет между вами вроде бы ни ссор, ни обид, ни даже досадных недоразумений, и они, эти люди, тоже, конечно, считают вас добрыми приятелями, и все идет «как по маслу», и все-таки вы примечаете, что после каждого общения с ними вы как-то странно разочарованы и опустошены, и вы не можете понять, от вас ли это зависит или от них, и так или иначе в душе остается какой-то едва уловимый привкус, как после неудобоваримой еды, и со временем его становится все ощутимей, а вы на глазах уподобляетесь еще и тому снобистскому знатоку музыки, который возомнил, будто в камерном концерте (вашего узкого общения) некий музыкальный диссонанс постоянно оскорбляет его утонченный слух и залегает вечной занозой в душу, – короче говоря, все не то или, точнее, не совсем то.
И тогда рано или поздно наступает разрыв: тихий, потому что никто никого не оскорбил и не обидел, и в тоже время резкий и окончательный, потому что вы твердо решили раз и навсегда избавиться от свербящей в душе занозы.
Но если однажды, спустя долгие годы, во время прогулки, в какой-нибудь отдаленной парковой аллее на другом конце города, куда вы и заходите, быть может, раз в год, вы наткнетесь вдруг на этих людей, и они в первый момент инстинктивно попытаются сделать вид, что вас не заметили – ведь это вы были инициатором разрыва, вы их оттолкнули, вы не искали с ними примирения – а вы как ни в чем ни бывало тепло и от души разговоритесь с ними, поскольку эта встреча вас нисколько не отягощает, она коротка и никаких последствий иметь не может, – так вот, знайте заранее, что после нее вы поневоле будете ждать их телефонного звонка (формального, как мол у вас дела?) или хотя бы думать о нем, и это до скончания дней ваших, – и тихая и упрямая радость от того, что звонок этот так и не последовал, будет отравляться трезвым и ясным сознанием того, что вы, может быть, поступили и правильно, закончив отношение, но все равно не лучшим образом (а как поступить лучшим образом, вы так и не узнаете), и вот это итоговое ваше сознание тоже будет подобно занозе, и неизвестно еще, какая заноза глубже засядет в вашу душу и больнее будет там свербеть: прежняя и давняя от общения или заново и после нежданной встречи в парке осознанная от прекращения общения.
II. (Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем). – Когда люди расходятся по причине «непонятно каким образом слетевшего с губ обидного слова», то расхождение, явившееся неизбежным последствием необратимого воздействия словом – при подобных инцидентах даже запоздалое извинение может только сократить дистанцию, но не вовсе упразднить ее – будучи на первый взгляд досадным и случайным, на самом деле является вполне закономерным, если не «дожидавшимся своей очереди», потому что некоторое охлаждение между людьми – как правило, вследствие слишком большой взаимной разности – давным-давно созрело и ждало только случая, чтобы войти, наконец, в открытую дверь, – и вот что интересно: участники инцидента могли бы своевременно и по доброй воле сделать то, что требует от них ход вещей (в данном случае конфигурация их характеров), то есть заранее и без слов немного отдалиться друг от друга, но нет! именно жизнь и она одна должна расставить все точки над i, и она это делает, работая в «двойном ключе»: стихии и случая (вот чего не может человек), а это и есть самый убедительный метод работы, – так что в итоге, сетуя на себя за слово, которое «как воробей – вылетело и его уже не поймаешь», люди втайне об этом вылетевшем не столько из уст, сколько из души обидном воробье нисколько не жалеют.
III. (Критическая точка). – Говорят, что в бронированном стекле есть некая критическая точка, от малейшего прикосновения к которой стекло разбивается, и точно такая же точка существует якобы в человеческом организме: касание ее вызывает мгновенную смерть, – но сходным образом и в отношениях между людьми случаются происшествия настолько незначительные – ненароком сказанное слово, мимолетный жест или непроизвольный поступок – что их даже трудно заметить, – и тем не менее они приводят к разрыву: разумеется, в них нельзя видеть причину расхождения, они были всего лишь зримой пантомимой все той же загадочной пьесы под названием «Тайная несовместимость людей как одна из главных особенностей человеческой природы», причем, как правило, чем тише и незаметней оказалось последнее перед опусканием занавеса действие, тем обычно болезненней, глубже и бесповоротней расторжение былой дружбы или доброго приятельства, – если же вообще ничего не было: ни слова, ни жеста, ни поступка, – вот тогда расхождение между людьми самое окончательное и необратимое, то есть наиболее страшное и непонятное.
В чем его причина? думается, в конечном счете в некоей предустановленной дистанции, которая почти на уровне космического закона запрещает данным людям сближаться дальше положенного уровня, и это действует наподобие невидимой занозы, засевшей в сердце: ведь речь идет о принципиальном ограничении начала Любви, в коем мы привыкли видеть источник всего лучшего и Высшего, – действительно, обращает на себя внимание, что практически все самые великие люди в любой сфере деятельности, не исключая религии (за редкими исключениями типа трогательной дружбы Гете и Шиллера) как будто изначально связаны описанной выше изначальной и глубинной взаимной несовместимостью: вот они-то уж поистине не сказали друг другу ни единого слова и тем не менее настоящие, искренние, сердечные отношения между ними абсолютно невозможны.
И вот эта бросающаяся в глаза психологическая особенность общения между «корифеями духа» вносит в музыкальную палитру бытия острую щемящую «гамлетовскую» ноту, и нота эта созвучна и Первовзрыву как гипотетической причине возникновения Вселенной, и его величеству Случаю как возможному источнику жизни на земле, и квантовой природе света и времени, постулирующей метафизический «провал» на клеточном уровне мироздания, и лицезрению звездной полночи, внушающей пиетический ужас, и иным невообразимым преступлениям людей, и разного рода тревожным и необъяснимым событиям и, наконец, образу самой Смерти, о которой мы ничего не знаем и насчет которой можем лишь гадать и догадываться… короче говоря, все это скорее подтверждает, чем опровергает, существование «критической точки» на всех, в том числе и на самых высоких уровнях бытия.
IV. (Чудовища). – Между людьми – причем, как правило, довольно близкими – иногда проскальзывает в словах, но еще чаще между слов и как бы в мыслях, и даже не в мыслях, а между самими порами душевными нечто невообразимо безобразное: нечто такое, что они даже в себе не подозревали (литературный образчик такого безобразия мы находим в страшной догадке Разумихина насчет своего друга Раскольникова), нечто похожее на отвратительную, шипящую, зловонную и ядовитую змею (головой слегка напоминающую отвратительные искажения лица, если взглянуть на себя в этот момент в зеркало), – и только то обстоятельство, что эта змея никогда не выползает наружу, когда люди остаются наедине с собой, но всегда во время общения с тем или иным человеком, – лишь это счастливое обстоятельство спасает людей до поры до времени от чудовищного подозрения, что подобная омерзительная змея живет в самой сердцевине их собственного существа.
Но быть может здесь-то как раз и залегают гносеологические – или онтологические? или те и другие вместе? – корни разного рода безобразных фантастических существ: от кобольдов до драконов, тех самых, без которых невозможен жанр сказки, и существование которых в астральной действительности как будто уже не подвергается сомнению, – во всяком случае присутствие таких чудовищ в межчеловеческом общении очевидно, что же до их конкретного образа, то он вполне может быть предоставлен фантазии: в конце концов ничто поистине важное не является в том или ином законченном облике, напротив, некоторое множество образных вариантов, иной раз даже взаимно противоречивых, гораздо точнее описывает глубинную, то есть и повседневную, и метафизическую одновременно действительность.
V. (Что значит испить чашу до дна). – Чтобы вполне понять ближнего своего, а заодно и себя самого, достаточно представить себя стоящим перед неустранимым выбором: либо заболеть неизлечимой формой рака, причем сию минуту, либо принять облик того самого ближнего: совершенно чужого, непонятного и по большому счету несимпатичного нам человека, – и как прежде, до рокового выбора, присматриваясь к нему (тому человеку) поневоле где-нибудь в городском транспорте, мы мысленно и от нечего делать воображали себе его характер (с нашей точки зрения особенно далекий от совершенства), рисовали в душе его родных и близких (которых мы не подпустили бы к себе на пушечный выстрел), задумывались праздно и о месте его рождения (нас там не было, нет, не будет и не может быть), и о его профессии (конечно же, полная противоположность нашей), и вообще обо всем, что его так или иначе касается (но совершенно не касается нас), – так теперь, когда нам срочно нужно принять судьбоносное решение, мы точно так же и даже гораздо пристальней присматриваемся и к далекому от совершенства характеру (но он нам уже представляется достойным понимания и сочувствия), и к якобы чужеродных нам родным и близким (а ведь сойтись с ними не так уж и невозможно!), и к обстоятельствам рождения, профессии и прочим деталям (а почему бы не попробовать себя в новой жизни?).
Короче говоря, мы перед лицом смертельного приговора оказываемся в этом чрезвычайно деликатном вопросе гораздо сговорчивей, и не то что бы мы уже согласились изменить себе, но живущая в нас неистребимая вера в помилование в самый последний момент как бы оттягивает окончательное решение в измене, и вместе с тем безошибочное предчувствие, что по-доброму все не кончится, заставляет нас тщательней и интенсивней вживаться в облик того, кто может сделаться нашим двойником: этот раздвоенный в себе и противоречивый процесс, по отношению к этой жизни выглядящий как хоррор, вполне реален относительно жизни последующей: как бы то ни было, нельзя в точности сказать, к чему он приведет, можно только предположить, что какой бы выбор мы ни сделали, мы о нем пожалеем.
VI. (Музыка как нравственный императив). – Обращает на себя внимание, что истинная добродетель и нравственная красота настолько скромны, тонки и неуловимы, что их почти невозможно не только классифицировать, но иногда даже просто выразить в словах, тогда как, наоборот, зло и преступление наличествуют зримо и выпукло, недаром люди испокон веков воспринимают все высокие проявления души скорее в поэтическом аспекте, отрицательным же проявлениям человеческой натуры давным-давно поставлен памятник в виде бессмертного Уголовного кодекса, – это происходит потому, что высокие и лучшие качества человеческой души в конце концов впадают в светоносное безмолвие, как реки в море, ведь уже у Данте Ад скульптурен, Чистилище живописно, а Рай музыкален, из чего прямо вытекает, что и отношения между людьми зиждутся на законах музыкальной гармонии, тогда как любое преступление, любое зло и даже любой безобидный, но мерзкий поступок, являясь отклонением в разной степени от этой изначальной и космической гармонии, предельно вещественен: он имеет некоторую несовершенную форму, некоторую несовершенную плотность и некоторый несовершенный запах.
С другой стороны, отрицательные черты людей в нашем сознании присутствуют всегда наравне с положительными и никогда сами по себе, отдельно от них: поэтому когда какие-то слишком негативные качества знакомых нам людей становятся для нас невыносимы и мы вынуждены отдалиться от такого человека, его положительные черты – которые мы так ценили когда-то – тоже незаметно исчезают и даже умирают в наших глазах, а если мы их и превозносим, то именно как мертвецов, о которых принято говорить одно только хорошее, и это совершенно нормальный и естественный процесс, то есть вместо культивирования одних качеств и ненависти к другим происходит постепенное отчуждение от тех и других вместе, – попробуйте в художественном персонаже мысленно убрать одни качества и оставить другие: он тотчас разрушится.
Ведь даже природа как будто нарочно сделала так, чтобы все вокруг нас нам было одновременно и немного близко и немного чуждо, и в первую очередь наши дети, казалось бы, самые близкие нам существа, по причине принадлежности их новому поколению живут на совершенно иных волнах, нежели мы, а это значит, что музыкального созвучия, этой волновой первоосновы бытия, нам в отношении с нашими детьми очень часто и очень остро не хватает, так что чужие люди кажутся нам подчас внутренне ближе наших детей, – а идя дальше, кто не обращал внимание, что домашние животные и даже, бывает, неодушевленные вещи кажутся нам ближе иных людей: что же говорить тогда об ангелах и богах? итак, все в мире как будто подчинено магической перспективе живописи Леонардо да Винчи, когда бесконечно близкое начинает озвучивать бесконечно далекое, так что и Лейбниц, провозгласивший наш мир «лучшим из миров», и Шопенгауэр, категорически настаивавший, на том, «что будь этот мир чуточку хуже, он просто не мог бы существовать», одинаково правы.
Но если все в мире взаимосвязано, как утверждают философия и физика, то и связь людей с самыми дальними и запредельными мирами, такими, как Бог и дьявол, не подлежит сомнению, и связь эта может быть исключительно музыкального и отчасти фантастического порядка, хотя и Бог и дьявол, по слову Достоевского, живут не далее, как в сердцах человеческих, – однако отсюда прямо вытекает, что не простенькая мораль о «любви и братстве всех людей» является сердцевиной подлинной нравственности, а тот в высшей мере сложный и непредсказуемый «клубок отношений» между людьми, выразить и запечатлеть который могут только художники.
И тем не менее, несмотря на эту очевидную и всеми интуитивно признаваемую истину, мы все-таки по какой-то странной иронии судьбы пожизненно обречены искать, а стало быть и находить нравственный императив не где-то очень далеко и в запредельных мирах, а совсем близко и в окружающем мире, и он (императив) всегда в значительной мере по субстанции своей легок, тих, неуловим и обязательно музыкален, – но такова именно идея «любви и братства между людьми», которая нам так действует на нервы, над которой мы так смеемся и к которой мы все-таки тянемся всей душой.
VII. (Пепел Клааса). – К сожалению, на каждом шагу приходится наблюдать тот феномен, что самые лучшие наши чувства – и в первую очередь чувство любви, да, именно искренней и бескорыстной любви как единственной психической энергии, способной разрушить скорлупу эгоистического обособления – по отношению к нашим близким и родным оказываются не то что полностью невозможным, но как бы воплотимыми лишь в малой доли: в том смысле, что любая и уже не однажды испробованная житейская ситуация, в которой любовь должна была бы выразиться, что называется, по максимуму, на самом деле только приводит к разочарованиям, и разочарования эти тем неожиданней, глубже и горче, чем настойчивей обе стороны пытаются задействовать самое лучшее в себе – а это действительно любовь, и голос сердца нас не обманывает.
И вот поневоле образуется некий неиспользованный и по сути неиспользуемый резервуар тонкой энергии, который накапливается в нас и как бы непрестанно постукивает в наши сердца, подобно пеплу Клааса, но ответа не находит: двери посторонней души для нашей любви и двери нашей души для любви со стороны по каким-то непонятным роковым причинам остаются закрытыми и все ограничивается ощущением смутной тоски и скорби, как при восприятии какого-нибудь произведения искусства – Моцарт! – когда благородные наши чувства пробуждены, но выхода не находят.
В такие особенно запоминающиеся минуты хочется думать и верить, что описанные выше психические энергии не исчезают из мира, но растворяются в небе, точно бунинское «легкое дыхание», и какая-нибудь особенно восприимчивая поэтическая натура способна выловить их из космоса и заново использовать: уже в творчески-преобразовательных целях, – в самом деле, разве не присутствует в нас тайное убеждение, что все самое лучшее в искусстве напитано именно этими самыми и никакими другими выше описанными энергиями?
Загадка врожденной антипатии. – Как часто приходится обращать внимание: коллеги на большом предприятии, ни разу между собой не общавшиеся, но прекрасно знающие о взаимном существовании, зачастую склонны, сталкиваясь в коридорах или на лестницах, под благовидным предлогом не здороваться и даже отводить глаза в сторону, но те же самые коллеги, встречаясь в городе, уже сердечно и внимательно приветствуют друг друга, – случись же им повстречаться за границей, они и вовсе вошли бы в короткое общение: так что, нужно полагать, сведи их судьба на необитаемом острове или в ином мире, они, пожалуй, стали бы даже добрыми приятелями.
Однако здесь не следует обольщаться: то обстоятельство, что эти люди интуитивно старались избегать друг друга, насколько позволяли законы приличия, скорее всего намекает на невозможность сближения между ними по-настоящему никогда и ни при каких обстоятельствах, да они и сами в глубине души об этом догадываются, и потому стараются сводить общение к минимуму, то есть там, где можно, продолжают заблаговременно избегать друг друга и не встречаться даже взглядами.
Тем самым, дабы устранить следствие, они подрубают на корню его причину, ибо, раз внимательно взглянув друг в друга, можно ненароком проникнуть в чужую душу, а через нее и в свою собственную, – в данном случае некоторая взаимная врожденная антипатия или, выражаясь мягче, психологическая несовместимость, может сказать нам о себе больше, чем мы хотели бы знать: итак, лучше не шутить с огнем, потому что нередко в жизни случается так, что один человек, единожды взглянув на другого, начинает испытывать по отношению к нему необъяснимую антипатию, доходящую до одиозной ненависти.
В чем здесь причина? я думаю – в том, что человек не просто предчувствует, но точно знает, что при определенных, а иногда даже и при любых обстоятельствах у него с тем антипатичным человеком возникнет неразрешимый, а то и прямо смертельный конфликт и конфликт этот предотвратить совершенно невозможно, – но это означает, что будущее способно реально вторгаться в настоящее, пусть в данном случае и в самом безобидном варианте безошибочного психологического предчувствия того, что – будет.
Так, произошло, в частности, в конце 2013 и начале 2014 годов, когда в Украине имел место на первый взгляд необъяснимый и мнимо немотивированный взрыв ненависти по отношению к российскому соседу, тогда еще не было ни взятия Крыма, ни Донбасских войн, а ненависть уже была, ее, конечно, можно объяснить событиями прошлого, но прошлое, сколь бы кровопролитным оно ни было, по самой своей природе источает покой и тягу к забвению, не то будущее: от него веет субтильным и глубоко метафизическим беспокойством, так что любое, даже самое счастливое будущее, внушает нам некоторое тонкое и необъяснимое беспокойство, – что же говорить тогда о будущем, чреватом полным разворотом на Запад и гражданской войной?
Вот не просто предчувствие такого будущего, а как бы абсолютно точное знание о нем, точно оно уже наступило, – вот оно-то и стало, по-видимому, причиной той односторонней и одиозной украинской ненависти к русским, которую нам так трудно понять.
Ну, а американцы ей только воспользовались.
Искусство непричастности
I. (Очевидные преимущества недеяния). – Чем глубже и выстраданней наш жизненный опыт, тем парадоксальным образом дальше уходим мы от постижения сути жизни: ведь последняя не есть какая-нибудь кантовская «вещь в себе» (в таком случае мы как раз имели бы шанс посредством неординарного прорыва, полета или подползания, в зависимости от ситуации, проникнуть в ее сердцевину), но целокупное множество практически бесконечных взаимосвязей, – и вот, «вгрызаясь» в пласты жизни, как отбойный молоток вгрызается в камень, мы всего лишь создаем свою туннельную нишу, и из нее уже, как из платоновской пещеры, рассматриваем и познаем мир, а другого способа постижения окружающей действительности нет, не было и не может быть, – так что в конечном счете чем тоньше стены пещеры и чем больше там светоносных окон, тем лучше мы можем видеть и осмыслять мир: логично, не правда ли?
Учитывая же то, что жизнь в основе своей противоречива и даже антиномична, так что и любой человек наделен чертами характера, которые мы часто не в состоянии связать воедино, получается, что, увлекаясь какой-то одной стороной повседневности или нашего ближнего – а в этом-то по преимуществу и состоит так называемый личный опыт – мы неизбежно упускаем другую и противоположную сторону, так что, по логике вещей, совсем не допускать болезненного вживания в какую бы то ни было проблему, нигде не искать добровольного (в отличие от навязанного обстоятельствами) страдания (которое в наибольшей степени определяет наше мировоззрение), ничему не дарить своего исключительного внимания, сил ума и в особенности энергий чувств, – это и значит как раз собственными руками превращать железобетонную пещеру богатой личным опытом биографии в прозрачную и светоносную обитель духовного бытия, зарубив попутно себе раз и навсегда на носу, что любой личный опыт может столько же давать человеку во второстепенном и психологическом плане, сколько отнимать от него в плане основном и духовном, – что он, кстати, этот пресловутый личный опыт, и делает.
Так странным образом после посещения Парижа мне почему-то трудней стало воспринимать деяния моих любимых мушкетеров плюс похождения героев Бальзака плюс изнеженно-жестокую атмосферу при дворе «Короля-Солнца» плюс кровавые оргии Великой Французской революции и плюс так далее и тому подобное на едином духе и в едином художественно-историческом пространстве, нежели до того, когда я знал Париж по разного рода фотографиям, фильмам, рассказам, описаниям, художественному чтению и, наконец, моим собственным представлениям о нем, – да, как ни удивительно, все это пестрое, разбросанное и многогранное восприятие помимо личного опыта визитера позволяло увидеть французскую историю и французскую литературу тем не менее в некоем первозданном целомудренном изумительном единстве, тогда как личный опыт узрения великого города «своими глазами» названное чудесное единство непоправимо разрушил.
Или, побывав в Греции, мне поначалу ближе стали красоты гомеровского эпоса, однако в итоге и очень скоро именно прилепившиеся к душе через ухо и глаза неотразимые физические подробности нынешнего греческого пейзажа сделали органичное и непосредственное – в этом все и дело! – восприятие фантастического мира Гомера делом затруднительным и даже почти невозможным.
Наконец, мой личный опыт с женщинами, как я могу судить, позволил мне узнать женщин на каких-нибудь десять процентов, а оставшиеся девяносто процентов я «добрал» от внимательного и ни к чему не обязывающего наблюдения за чужими и посторонними женщинами, причем чем меньше я о них знал (то есть я ничего о них не знал и знать не мог), тем полней и всесторонней были задействованы суммарные энергии моего ума и интуиции, а в этом-то и заключается смысл сведения к минимуму любого сугубо личного опыта!
Потому что, и это очевидно, личный опыт нам абсолютно необходим, для обретения его мы только и приходим на землю, но как смысл одного замечательного упражнения йоги под названием «поза змеи» состоит в том, чтобы, лежа на животе, как можно выше изогнуть верхнюю часть тела, без того чтобы оторвать пупок от земли, и как природа всегда и везде склонна идти кратчайшим путем, так желательно при минимуме личного опыта добиваться максимума духовного обогащения.
Блестящий пример указанной закономерности у всех нас перед глазами: Будде, согласно легенде, достаточно было одного-единственного наблюдения, а именно, что всех людей ждет болезнь, старость и смерть, и на нем одном он построил свое учение, – ясно, что меньше этого никакой личный опыт быть не может.
Итак, чем меньше по объему личный опыт и чем он, так сказать, нейтральней, то есть по возможности исключает любые дополнительные страдания (в которых апологеты противоположной точки зрения, типа Достоевского, усматривают, наоборот, единственный источник духовности) тем лучше, не забудем: самые великие творцы, типа Будды, Баха или Льва Толстого помимо классических болезни, старости и смерти никаких других страданий не узнали, а в наши дни непреходящую значимость вышеописанного духовного закона «максимума при минимуме» вам продемонстрирует любой мало-мальски продвинутый буддийский монах, который всю свою отшельническую жизнь провел в труде и медитации, но который, если вас поставят перед ним, расскажет о вас больше существенного, чем все ваши родные и близкие вместе взятые, включая вас самих, а заодно и как бы впридачу напомнит вам о вашей прежней жизни и намекнет о вашей жизни будущей, – вот и сравните подобные духовные откровения с нашими любыми мирскими личными опытами!
II. (Быть иль не быть – вот в чем вопрос). – Просматривая историю и видя в ней разнообразные, красочные, бесчисленные и блестящие деяния, а также их творцов – тех самых пресловутых хрестоматийных «исторических героев», шире: любых выдающихся людей, которым, кажется, нельзя не позавидовать, потому что для чего же еще рождаться в этой жизни как не для того, чтобы оставить в ней «настоящий глубокий след»? – итак, бегло просматривая многотомную книгу историю, мы поначалу вроде бы завидуем ее главным героям, то есть людям, которые ее сделали, и все бы дали за то, чтобы быть на их месте, – однако, если мы дадим себе труд поглубже всмотреться в себя самих и задуматься о нашей внутренней непреходящей природе, мы будем вынуждены сделать весьма неожиданный для нас и очень даже парадоксальный вывод, а именно: будучи поставлены радикально перед выбором – быть там, в пекле событий и оставить навечно на скрижалях истории свое имя или остаться навсегда в тени, чтобы все эти знаменитые и судьбоносные события прошли мимо нас как сон или видение (что и произошло с нами как будто на самом деле), итак, имея подобный обоюдоострый выбор, нам почти невозможно было бы добровольно принять то или другое решение, а если бы нас все-таки принудили к нему, мы скорее выбрали бы второй вариант, чем первый.
То есть небытие не как пустая философская абстракция, а как центральная и чрезвычайно субтильная психическая энергия – в данном случае итоговое сознательное нежелание участвовать в бурной (исторической) жизни – осиливает бытие, и это интереснейший и принципиальный момент: разумеется, мы не в силах раз и навсегда зачеркнуть жизнь, выбрав так называемое «чистое небытие», – но последнее не существует в реальности, и доказательство его несуществования заключается как раз в том, что нам не дано категорически отказаться от нашей простенькой и «никчемной» повседневной жизни, однако мы это делаем как бы потому, что нет иного выхода, то есть эта наша скромная жизнь гораздо ближе стоит к реальному и сугубо относительному небытию, чем, например, богатая событиями жизнь исторического героя.
И потому наше отношение к нему глубоко антиномическое: с одной стороны, мы ему немного завидуем, потому что он врезался в жизнь так глубоко, как метеорит при падении врезается в землю, но, с другой стороны, он этим самым врезанием предельно отдалился от тишайшего блаженного бытийственного покоя минимального деяния, к которому все мы инстинктивно стремимся, втайне предпочитая мелкие и как бы символические деяния повседневной жизни, которые наиболее сродни действиям, производимым нами во сне, тогда как тот же самый исторический герой подобен, как уже сказано, метеориту, который либо с громадной скоростью вращается вокруг своей смысловой планеты и ничто уже не может убавить скорость вращения, либо с неотвратимыми кармическими последствиями врезается в нее, а третьего для него не дано.
Человеческая история вообще для непредвзятого ума предстает как прекрасный античный город, разрушенный чудовищным (подобным Лиссабонскому) землетрясением: повсюду примечательные обломки, которым в культурном отношении цены нет, и все-таки, копаясь памятью и воображением в этих обломках, не говоря уже о реальном допущении, что это вы могли жить и творить в том античном прекрасном городе, и это вы – безразлично в каком смысле – лежите под его обломками, итак, слишком вживаясь в раскопки умозрительного города-истории, рождается ощущение (пусть слабое, зато неистребимое) заживо погребенного: не хватает воздуха и нет легкого дыхания, а та бессмертная слава, что веет над останками умерших героев (пожизненных граждан античного города), психологически не уравновешивает отсутствие свежего воздуха, – вот и получается, что мы вечно обречены метаться между бытием и небытием, а жизнь, выступая в двух своих основных обличиях: громкой жизни и тихой жизни, не только не облегчает наш решающий выбор, но прямо усложняет его до невозможности.
III. (Великое лицезрение подъездной двери). – Как подметил непревзойденный Кафка, чем дольше мы стоим перед дверью, куда хотим постучать и за которой нас не столько ждут, сколько мы сами ждем, что нас ждут, тем труднее нам постучать в нее, так что в конце концов, если невидимая черта ожидания перейдена, мы вынуждены тихо повернуться и уйти восвояси.
Правда, обычно этого не происходит, потому что повседневная наша жизнь расписана, как репертуар провинциального театра, и преодолеть гравитационную силу приглашения в гости нам, как правило, не дано, между тем, если дать себе труд вдуматься в сам по себе элементарный, но весьма неординарный феномен долгого лицезрения двери, то оно, это лицезрение, несмотря на свою изначальную комичность, может при определенных условиях трансформироваться в самое настоящее откровение.
И вот как это может произойти.
Когда мы стоим перед свершением поступка, который продиктован основным нашим настроением на данный момент, но тишайший голос интуиции не то что бы отговаривает нас от него, но советует нам как следует его продумать, потому что мы наверняка будем сожалеть о последствиях, и тогда нам придется взвешивать непреодолимый инстинкт деяния и неустранимое сожаление от него, – так вот, тогда это обычно означает, что несвершение поступка ценнее, нежели его свершение.
И тогда мы впервые прикасаемся – не умом, а всем существом своим – к тому, что на заре Средневековья называлось отрицательной теологией, только там подразумевалось, что о Боге можно говорить лишь негативными определениями: что Он не есть на самом деле, потому что о том, что Он есть в себе самом, нам даже приблизительно не дано судить.
Но ведь и к миру можно относиться, как к неведомому Богу, и тогда получается, что любой поступок ведет к обогащению нашего внутреннего Я, независимо от того, какой знак стоит перед ним: плюс или минус, здесь опять перед нами первооснова человеческой психики с ее одинаковой открытостью как к добру, так и ко злу: наше Я склонно приобретать любые опыты, в том числе и сознательное делание зла другим, мы собираем такие опыты как грибы: главное – сначала сорвать и положить в корзинку, а потом уже, дома, при жарке разберемся, плохие они или хорошие.
Действительно, есть все основания полагать, что даже из самых мерзких деяний путем их искреннего осмысления и покаяния может со временем выйти что-то очень хорошее, а значит и их свершение было не только не напрасным, но даже в какой-то мере оправданным.
Очень скользкий, однако, и опасный путь, потому что, как бы сладко ни было покаяние в дурных делах и каким бы преображенным ни выходил из него человек – слова и музыка нашего Федора Михайловича – преображение это временное и неполное, главное же, оно полностью зависит от покаяния, довольно сладострастного, нужно сказать, чувства, а кроме того, само покаяние напрямую зависит от дурных поступков: нет зла – нет и раскаяния, нет раскаяния – нет и очищения, и вот весь этот сложнейший, противоречивейший и в глубочайшей мере псевдо-духовный процесс, на котором, как на гвозде, висит все творчество Достоевского, застопоривается.
Я оказывается без питания, ему нечего переваривать, за неимением поступков – две трети из которых именно такие, которые лучше было бы не делать – оно вынуждено настраиваться на лечебное голодание, но последнее всегда целебно как для души, так и для тела, и в воздержании от скоромной пищи для внутреннего Я путем несвершения иных поступков, в которых нам придется когда-нибудь обязательно раскаяться, заключается громадный потенциал.
Здесь можно увидеть аналогию со сходными местами из каких-нибудь черновиков к какому-нибудь роману, где герои тоже иной раз делают не то, что предполагает начальный и невызревший авторский замысел, и если автор вовремя не исправляет те поступки своих героев, которые, согласно художественной идее – а она, как известно, не ошибается – не должны были быть сделаны, то он потом неизбежно и горько раскаивается, как раскаиваемся и мы на каждом шагу в жизни, делая что-то такое, что лучше было бы не делать, причем от раскаивания трудно отучиться, оно сродни духовному хулиганству, а русский человек ой как любит похулиганить.
Вот если бы в содеянии иного зла видеть грубейшую стилистическую ошибку, которая портит нас как неважно кем задуманный, но на две трети нами самими непрерывно сотворяемый образ, ошибку, которую быть может уже и поправить нельзя, и которая, как любил говорить Талейран, хуже любого преступления… да, кто знает, – быть может, такое художественное сознание способно было бы куда эффективней нравственно очистить человека, нежели любая мораль, что говорю? так оно и есть на самом деле при ближайшем рассмотрении, иначе быть не может и никаких тут доказательств не нужно: достаточно просто внимательно и нелицеприятно взглянуть на ход истории, присмотреться к ее действующим лицам, а главное, как следует понаблюдать за самим собой.
И вот окажется, что, прослеживая на склоне лет искренне, беспристрастно и до последней глубины – это обязательное условие анализа! – сделанные и несделанные опыты жизни, приходишь к выводу, что в том случае, если мы могли совершить какой-то немаловажный для нас жизненный опыт, и все-таки по тем или иным причинам не совершили его, у нас в душе и почти помимо воли и сознательной работы ума является ощущение некоторой удивительной, безусловной и как бы первозданной чистоты.
С другой стороны, параллельно и на одном дыхании, точно вторая ветвь на одном и том же суку, возникает в душе столь же удивительное и неотразимое в первозданной чистоте своей ощущение сожаления насчет тех же самых несделанных опытов жизни: вот, мол, упущено уникальное бытийственное переживание, которое уже никогда не сможет повториться.
Догадавшись, что это и есть, пожалуй, два самых субтильных, глубочайших и антиномических ощущений, доступных человеку, что они знаменуют последние границы восприятия бытия, и что их поэтому можно сравнить опять-таки со Сциллой и Харибдой – с чем же еще? между которыми вечно плывет и движется наша жизнь… итак, догадавшись об этом, остается только проверить эту великую, но пока гипотетическую истину на собственном опыте.
У меня это произошло в прошлом году.
Перед Рождеством я опять стоял перед той подъездной дверью, справа от которой была вмонтирована в стену металлическая табличка с еврейским именем, людей, что там жили, я в последний раз видел тридцать пять лет назад, мы с первой женой изредка приходили в ним посмотреть телевизор и поболтать о том о сем, это были муж и жена, эмигрировавшие из России в начале семидесятых и осевшие в Мюнхене. Он, полненький, лысоватый, с курчавым высоким лбом и петушиным взглядом, она – высокая, стройная и очень спокойная, когда говорил он, умолкала она и наоборот, так что то великое и тайное, что их связывало, оставалось всегда недоступно для их собеседника, и он уходил с тем ощущением легкой заинтригованности, благодаря которой общение никогда не бывает скучным, хотя в нем не было ничего, что можно было бы назвать нескучным.
Мы познакомились с ними через еврея-шофера, который нелегально перевез нас из Вены в Германию, сам он жил с женой и дочкой в Оффенбахе под Франкфуртом, мы у них прожили неделю, не зная куда податься и к кому обратиться, прежде чем волею случая осели в Мюнхене.
И вот, спустя полжизни, я опять стоял перед дверной табличкой, на кнопку под которой я столько раз нажимал давным-давно, время утекло как вода между пальцев, – неужели только потому, что прожил на чужбине?
Как же мне хорошо было здесь! и как тревожно думать о том, что моя западная и настоящая, как мне хочется думать, жизнь мне ни разу не приснилась, а снились и снятся лишь эпизоды и их фантастические вариации из той прежней и вечной, российской и саратовской жизни.
Значит ли это, что мою западную жизнь закон кармы слизнет, как корова языком? и я опять появлюсь на свет в каком-нибудь провинциальном российском городке? и опять начнутся сладость, беспросветность и ужас провинциального бытия – именно в том же порядке – а потом отчаянная попытка выбраться, и неизвестно, удастся ли она, и если удастся, я опять смирюсь с общим сюжетом жизни и буду с удовольствием умом и сердцем его обсасывать, а если не удастся… вот какие странные мысли приходят в голову.
Как бы то ни было, я очень большое внимание придаю снам, быть может, здесь сказывается моя природа игрока, – и сны как главный козырь могут в решающий момент либо выиграть игру под названием «смысл жизни», либо в пух и прах ее проиграть, а как это в точности произойдет, спрашивайте уже у тибетских буддистов: они знают.
Ну а с теми людьми мы расстались, как будто знали друг друга вечно, и потому регулярно отмечаться в знак приличия хотя бы раз в год было как бы необязательно, – вот мы и не отмечались, просто в соседнем доме практикует мой адвокат, и всякий раз направляясь к нему, я коротко заглядываю на знакомую табличку, быть может инстинктивно любопытствуя, живы ли мои давние знакомые: они были живы.
И вот теперь, наконец, спустя тридцать пять лет, я решил навестить их: у меня просто страсть встречаться с людьми раз в несколько десятилетий, в этом есть что-то нечеловеческое, я знаю, – но ведь и какое сверхчеловеческое величие! нет, что там ни говори, а только в общении, разделенном широким потоком времени, есть та монументальная значительность, которую не замутит никакая банальность, и это значит, например, что можно говорить все, что заблагорассудится – а выйдет прекрасно и величественно, – такого не бывает в повседневном общении, впрочем, это может быть и тайное оправдание все того же комплекса неполноценности в аспекте общения.
Итак, я уже решил, какой подарок я им сделаю, и положил его в корзинку для покупок, но перед самой кассой вдруг усомнился: а правильно ли я делаю? а что, если они совсем не рады будут меня видеть? подарок, чашка кофе, воспоминания… ну, а дальше? ведь провожая меня до двери, встанет вопрос о новом приглашении с моей или с их стороны, и нужно будет мучительно решать, поддерживать дальше отношения или ограничиться вот этим странным посещением, если поддерживать – то почему это нельзя было делать прежде, когда было и время, и силы, если же не поддерживать, то все это еще более странно и неприятно.
А кроме того, я вспомнил моих старых приятелей: итальянца и немку, с которыми мы дружили лет двадцать, потом они исчезли из моей жизни по причине развода с женой: общие знакомые как будто делят судьбу супружеского расхождения, однако я встретил их случайно на Зендлингертор – я был тогда со второй моей женой – и все пошло замечательно и лучше прежнего: они нам дали ключи от своего итальянского загородного дома, и мы там провели самый лучший отпуск нашей жизни… но потом и это приятельство было вдруг прервано, я уже не помню, когда именно, почему и как.
Спустя десять лет, я, помнится, вдруг во что бы то ни стало захотел до них дозвониться, но не смог, и поехал к ним без приглашения, но застал одного Джакомо, и он мне открыл, как будто не удивившись моему приходу, и мы болтали, как прежде, и он мне показывал опять свою коллекцию марок и медалей, но когда я у двери попросил у него номер телефона, он сказал, что его у нет под рукой, и что он сам позвонит.
Никакого звонка, конечно, не последовало, и не было никакой взаимной обиды, наступила просто глубокая старость с его стороны, и у него исчезла потребность общения, а поскольку он тоже был таким же заядлым эгоистом, как и я, он не счел нужным объясняться и оправдываться.
Так мы и расстались навсегда, а знакомство с ним все-таки осталось в моей душе как одно из самых удачных и приятных, может быть, потому, что там ни на йоту не было тягостного и напыщенного интеллектуализма, столь неизбежного в общении между русскоязычными людьми.
Так к чему же я веду? ах, да, вспомнив о Джакомо, я окончательно понял, что мое нежданное посещение тех людей из далекого прошлого было бы непростительной ошибкой, ибо прошлое слишком величественно, чтобы позволять без повода в него вмешиваться и делать из него прозаическое настоящее и все-таки, когда я выкладывал подарок из корзины, у меня было грустное чувство: я добровольно отказывался от одного из самых субтильных опытов и это можно трактовать как отказ от самой жизни.
Может быть и так, но в этом я вижу скорее достоинство, чем недостаток, все-таки что-то я приобрел взамен, – незапятнанная чистота прошлого тоже ведь чего-то стоит.
Не вполне апокалиптические звери
I. – Раз подметив, что за многолетним идеальным браком может скрываться – и наверняка скрывается – обыкновенная и фатальная неспособность соблазнить или увлечь другую женщину (или мужчину), вдруг мгновенно осознав, что десятилетие за десятилетием отбывающие срок жизни супруги нашли для себя всего лишь благоприятнейшую с моральной точки зрения маску – безукоризненную в плане житейской игры, снимая которую боишься уже повредить лицо, – и вместе с тем столь же внезапно и остро почувствовав, что их не в чем упрекнуть, что в их лебединой верности может быть сокрыта «соль земли», и что так глубоко подкапываться под людей просто нельзя без того чтобы насчет тебя самого не возникли те же самые последние и страшные вопросы, – итак, осветив хотя бы с одного бока тусклым светом заскорузлого житейского сознания весь этот запутанный клубок (между прочим) центрального человеческого отношения, начинаешь невольно воспринимать не чужую или свою, а саму душу человека как таковую не в привычном амплуа абстрактной и безвидной – то есть доступной разного рода светоносным манипуляциям – противоположности тела, а в куда более правдоподобном качестве не слишком духовного – преувеличения здесь никому не нужны – но уж конечно и не сугубо материального – приземленность мышления тоже никому еще не помогла – образа: какого образа?
Учитывая земной ландшафт, принимая во внимание соотношение земли и воды на нашей планете, не переставая удивляться также невероятным красотам и пугающей загадочности океанских глубин – которые вопреки всякой логике и вопреки здравому человеческому рассудку исследованы в гораздо меньшей степени, чем космос (тогда как океан для нас бесконечно важнее, чем космос) – а главное, прислушиваясь к сообщениям о живущих в бездонных водах многообразных фантастических существах, превышающих наше воображение, – итак, подытожив все вышесказанное, единственно идентичный образ души напрашивается сам собой.
II. – Как, нырнув под какую-нибудь скалу и увидев там притаившегося спрута или водяную змею, мы, возвратившись на берег, невольно видим и бухту и небо и деревья и солнце и весь божий мир в каком-то новом и более остром, ярком и волнующем свете, – потому что подводные чудовища, являясь им полной противоположностью, в то же время, желая того или не желая, неизбежно продемонстрировали кровное единство всего на земле, в духе Маугли, повторявшего всем зверям: «Мы с вами одной крови, вы и я», – в том числе и тайную, пуповинную связь идиллически-прекрасной бухты, неба, деревьев и солнца со спрутом и водяной змеей, – так, внимательно всматриваясь вглубь собственной души, вплоть до тех ее дальних пределов, где самые страшные поступки из мрака полной невозможности подступают к полусвету возможного и готовы вот-вот шагнуть в область вполне вероятного и даже реального – при условии всего лишь крошечного изменения во внешних обстоятельствах или собственном характере, – мы естественно и закономерно обнаруживаем в своей душе, наряду с привычными идиллическими пейзажами, притаившихся за их красотами чудовищ.
III. – И вот тогда, оглядываясь на людей, которых мы считали до того безукоризненно чистыми и светлыми, то есть похожими на бухту и чудный пейзаж вокруг нее, мы делаемся вдруг смущены, и во взгляде нашем на этих неповинных ни в чем людей появляются оторопь и смущение, – и тогда опять, в который раз, свершается предвечное грехопадение, – то есть мы начинаем смотреть на ближних наших, изыскивая в них притаившихся в глубине спрутов и змей; и если мы их даже не нашли – а так, как правило, и происходит – мы никогда уже не забудем самой возможности их существования в душе любого без исключения человека, и в этом, собственно, нет ничего дурного, напротив, если и есть реальная возможность возлюбить ближнего, то только благодаря существованию чудовищ и в нас и в нем одновременно: просто эти чудовища должны как-то гармонировать между собой, но ведь гармония и есть душа искусства.
IV. – Стало быть, любовь суть тоже в первую очередь искусство, что и требовалось доказать.
Без вины виноватые
I. (Приглашение на казнь). – Если мы действительно любим людей за то добро, которое им делаем, и ненавидим их за то зло, которое им причиняем, то все-таки нельзя не отметить, что, даже причиняя им зло, мы испытываем раскаяние, хотя при этом не отрекаемся от содеянного: и потому, сделав им зло и преисполнившись чувством вины, которое, впрочем, никогда не идет так далеко, чтобы вычеркнуть содеянный поступок из списка бытия, наше сочувствие к страдающему от нас человеку напоминает мучительное, но бессильное и бесполезное сострадание того высунувшегося из окна верхнего этажа дома, примыкавшего к каменоломне, и невольного свидетеля казни К., который для пущего театрального правдоподобия не только порывисто наклонился далеко вперед, но еще и протянул руки вдаль.
Кто это был? – спрашивает Кафка. – Друг? просто добрый человек? – нет, это был скорее хрестоматийный Кай, то есть каждый из нас.
Кафка не описывает взгляд того сострадающего человека, но любой из нас, вспомнив себя в вышеописанной классической ситуации причинения зла ближнему при одновременных укорах совести и без какого-либо раскаяния, дорисует этот взгляд в своем воображении, – потому что он слишком часто наблюдал его в зеркале.
II. (Двойная ошибка). – Даже самые наши близкие родственники и друзья, то есть люди, которых мы единственно в состоянии тепло и искренне любить, иной раз переступают заветную невидимую черту, – то есть совершают поступок или начинают вести образ жизни, которые с нашими, а может быть даже и с общечеловеческими понятиями о Добре, Красоте и Правде несовместимы.
Мы в таких случаях от них не отрекаемся, но и не скрываем своего полного с ними несогласия и, если они упорствуют, в нашем отношении к ним, хотим мы того или не хотим, начинают сквозить холодность и отчуждение: положим, это всего лишь своего рода маски, скрывающие наше сочувствующее лицо и добрые участливые глаза, но наши «провинившиеся» родственники и друзья, видя вместо привычного лица холодную маску, растеряны и шокированы, они пытливо заглядывают нам в глаза, пытаясь увидеть, что под маской, – однако под нею обычно другая маска, пусть менее холодная и более приветливая, но это все еще маска, потому что мы твердо решили не открывать лица до тех пор, пока наши подопечные не вернутся на путь истинный.
Процесс воспитания может продолжаться сколь угодно долго, но беда в том, что когда мы поймем, что на верном пути были все-таки они, а не мы, будет уже поздно: та самая холодно-отчужденная маска, которую мы так долго носили на лице, станет уже отчасти нашим собственным лицом и в особенности пострадают наши глаза: тот молчаливый упрек и уверенность в собственной правоте, которые так неприлично доминировали в нашем взгляде, теперь навсегда будут отражаться в зеркале и скрыться от них нам будет уже некуда.
III. (Ложная эстетика покаяния). – Поскольку характер и внешние обстоятельства связаны самым тонким, но и самым глубоким, то есть музыкальным образом, постольку и любые поступки людей, в том числе даже вопиющие к небу, в известном смысле необратимы, они в полном смысле слова судьбоносны, а стало быть и раскаянию – этой мнимой панацее от любых нравственных заболеваний – места в космосе нет, точнее, раскаяние есть воображаемый и по жанру религиозно-поэтический феномен: раскаяться означает по сути отказаться либо от частицы своего прошлого, либо от частицы собственной души, но ни то, ни другое невозможно.
Так всякий, кто более-менее знаком с современными немцами, знает, что в глубине души они в грехах Второй Мировой войны нисколько не раскаялись – и не потому, что они хуже других наций, а потому, что требовать от них искреннего и глубокого раскаяния все равно что ждать, чтобы они прыгнули выше головы, они просто не понимают, чего от них хотят, – и они правы: ведь что происходит в процессе покаяния? когда мы в чем-то каемся, мы на словах отмежевываемся от предмета, а по сути только тоньше к нему привязываемся, потому что преступление и покаяние неотделимы друг от друга, как ночь и день, и чтобы испытать это очищающее душу блаженство покаяния, нужно прежде обязательно совершить преступление, а чтобы снова испытать это блаженство, надобно опять совершить преступление, хотя бы мысленно, и даже не совершая нового преступления, можно каяться, например, о том, что прежнее покаяние не достигло цели и, почитая неспособность к истинному покаянию своего рода субтильным душевным преступлением, каяться о нем снова и снова, разворачивая дальше, точно гигантскую ядовитую змею, всю эту магическую цепь греха и покаяния, – вот почему буддисты категорически отвергают душевную пользу покаяния и особенно перед смертью: ведь именно в последние часы жизни судьбоносная или попросту сюжетная (что одно и то же) связь греха и покаяния может обнаружить настолько неодолимую власть над ослабевшей от предсмертных страданий душой, что навяжет ей (элементарной силой искусства) неблагоприятные кармические последствия, то есть все тот же сюжет преступления и покаяния, но в ином художественном (жизненном) варианте.
Действительно, как часто бывает, что конфликтующие стороны, сами того не желая, «подливают масло в огонь»: совершив столь же прекрасный, сколь и бесполезный ритуал покаяния, они остаются убеждены, что вот теперь уже точно подготовлена почва для дальнейшего сближения, и препятствия на пути к тесному и сердечному общению – ведь как прекрасно обняться со своим смертельным врагом! – раз и навсегда раскаянием, а также сопутствующим ему «содействием свыше» устранены: люди идут навстречу друг другу, а сами в глубине души с ужасом чувствуют, что свернувшаяся в сердце змея взаимной неприязни не только не убита, но в тишине начинает спокойно расправлять кольца, и, уязвленные ее ядом, разочарованные в себе и в противнике (ведь ни раскаяние, ни божественная любовь не произвели на тех и других никакого действия), они с утроенной ненавистью и к противнику и к себе самому – что немаловажно! – бросаются в пожирающий огонь конфликта.
А что, собственно, произошло? просто эти люди пренебрегли своим космическим сюжетом: ибо как одним планетам надлежит вращаться вокруг других на порядочных расстояниях, так что они практически и знать друг о друге не знают, так иным людям и иным нациям надлежит сохранять великую дистанцию, ибо она, дистанция – космический закон, а не любовь, о которой нам протрубили все уши, – итак, несоблюдение дистанции прямиком ведет к коллапсу, а невозможность любви вызывает тайное чувство вины, в свою очередь подталкивающее нас в объятия еще более разрушительного механизма покаяния.
IV. (Якорь мира сего). – Чувство вины, если оно слишком сильно, ведет к желанию устранить с лица земли как того, кто является его источником, так и в конечном счете себя самого, то есть без всяких сомнений это один из самых страшных механизмов разрушения и саморазрушения, но если чувство вины присутствует в слабой степени, оно может парадоксальным образом даже сближать людей: причиняя человеку некоторую боль или обиду, мы затаиваемся благородным желанием возместить их и компенсировать, принуждая себя тем самым сделать шаг, на который без предварительного создания состояния неравновесия путем чувства вины у нас быть может не хватило бы энергии, однако вся беда в том, что невероятная динамика, скрытая в комплексе вины, обладая тенденцией роста в геометрической пропорции, не имеет той первобытной чистоты, без которой межчеловеческие отношения остаются глубоко проблематическими по сути: но ведь это-то больше всего и нужно людям, если присмотреться! чувство вины, таким образом, можно уподобить и наркотику, дозу которого приходится постоянно увеличивать, иначе не почувствуешь эффекта, и хронической болезни, которая постепенно перерастает в смертельную, и пробоине в днище судна, которая пропускает все больше воды, пока корабль не потонет… и тем не менее, при всем смертельном драматизме, заложенном, можно сказать, на генетическом уровне чувства вины и греха, человек, то есть обыкновенный человек, каких девяносто девять процентов, не может жить без вины и греха, он предпочитает их любой внутренней чистоте, и он тянется к ним как библейский Адам к гранатовому яблоку, потому что чувствует всем нутром своим, что без вины и греха нет любезной его сердцу жизни земной, без вины и греха начнут непроизвольно и необратимо очищаться его мысли и чувства, без вины и греха с ним случится… вот именно, что? да то, что в один прекрасный момент все существо его может сделаться настолько легким и светоносным, что он как воздушный шар воспарит от земли в иные и горние сферы, а вот этого он боится больше всего на свете! и потому – да здравствует чувство вины! да здравствует первородный грех! и да здравствует бог, который втайне предпочитает грешника праведнику!
V. (Загадочное испытание). – Причиняя ближнему незаслуженную боль, мы проникаемся чувством глубочайшей вины к нему, и хотя, как верно подмечено, мы никогда не простим ему этой нашей вины перед ним, все-таки раз вошедшие в мир боль и вина за нее никогда уже мир не покинут: в них вечная гарантия того, что мы и ближний наш отныне до скончания века будем привязаны друг к другу кармическими цепями покрепче галерных, – но как и почему такое произошло? да очень просто: ведь наверняка были в том нашем ближнем черточки, из-за которых мы хотели от него удалиться, но были в то же время и другие черточки, те самые нам бесконечно дорогие и родные, из-за которых нам хотелось с ним остаться, – и вот, не в силах отделить зерна от плевел и не желая в то же время их совместной выпечки, мы прибегли к этой крайней и по сути преступной мере: мы соединили себя с ним навсегда посредством причинения ему нестерпимой боли.
Это невероятно, но мне почему-то кажется, что именно такова тайная причина того самого чудовищного и непонятного людям испытания Богом Авраама, о котором мы читаем в двадцать второй Главе первой Книги Моисея: в самом деле, может ли Исаак простить отцу, что тот без малейших сомнений готов был заклать его как жертвенное животное? может ли такое простить отец самому себе? и могут ли они оба подобное невероятное жертвоприношение простить Тому, Кто его организовал? но прощение или непрощение со временем уходят, а кровная связь между теми, кто причинил боль, и теми, кто ее принял, остается на вечные времена, и она, эта связь, быть может, крепче и выше самой любви.
Подражание Ницше (раннее)
Большие иль малые мира сего — как сходны они без одежды! поистине, нет в них и тени того, что наши сулили надежды. Пусть первым дано (махаонами став) расправить гигантские крылья — не скроют они, что их тела состав весь соткан из снов и… бессилья. Одних только мелких страстей и обид не счесть, как не счесть унижений — накинули хоть бы насмешливый вид во время кумирослужений. Вторые же… те прокляты век на весах отмеривать скорбь и страданья, безумно надеясь за них в небесах хоть йоту купить воздаянья. Но будет оплакать и им суждено ту правду в слезах изобильных, что бог отвернулся от слабых давно, как он отвернулся от сильных. И наше участье от них утая, проститься мы с ними готовы: осмотр наш окончен, оденьтесь, друзья, — чтоб мы полюбили вас снова.Золотое равновесие доверия. – Если действительно безоговорочное доверие к чужому и постороннему человеку, как заметил Мишель Монтень, является верным признаком истинной (потому что отчасти детской) любви к Богу – тогда как, наоборот, посещение церкви, соблюдение постов, произнесение молитв и прочие аналогичные поступки так называемых религиозных людей следует назвать скорее ложными признаками – то тут необходимо обратить внимание на сопутствующие детали: в них и только в них – да и могло ли быть иначе? – заключается вся суть дела!
Ведь как часто один человек, доверяя другому, все-таки в глубине души догадывается, что тот в конце концов не оправдает его доверия, и обычно так именно и происходит, и можно было бы, конечно, предположить, что, поскольку второй догадывается, что ему все равно не вполне доверяют, он и не лезет из кожи вон, действуя по принципу: ты думаешь, что я плохой? ну так я и буду плохим! однако проще и легче объяснить происходящее элементарной раскладкой характеров: каждый преследует только свои интересы, и так всегда было, есть и будет.
И потому, чтобы на сцену вышел чрезвычайно редкий (поскольку довольно независимый от уз повседневности) и любопытный персонаж Человеческой Комедии под названием Доверие, должны быть соблюдены кое-какие театральные – и они же сугубо жизненные – условия: во-первых, нужно, чтобы первое действующее лицо – то, которое доверяет – обладало добродушным и щедрым нравом и не слишком стремилось копаться в чужой душе, во-вторых, необходимо, чтобы второе действующее лицо – то, которому доверяют – не терпело большой материальной нужды и в особенности не имело нуждающихся родственников, ради которых правым и неправым образом будут отпускаться средства из золотого фонда Доверия, в-третьих же и самое главное, оба главных персонажа, сопряженных святыми узами Доверия, не должны быть по-человечески слишком связанными или, наоборот, чересчур отдаленными, потому что в обоих случаях Бог, таинственно ими занятый, будет снова оттеснен на задний план сугубо человеческими (положительными или отрицательными) эмоциями.
Зимний ландшафт с уткой, лебедем и городскими жителями. – Когда в середине февраля в погожий солнечный денек после полудня вы прогуливаетесь по какому-нибудь мюнхенскому городскому парку с обязательным озерцом и идиллическим домиком на островке посередине, а вокруг пахнет уже весной, но еще зима, когда вы замечаете вмороженные в тонкую пленку льда ветки и куски мусора и на полном серьезе радуетесь своему наблюдательному дару, когда вы, далее, заглядываетесь на плавно выгибающиеся в темной оттаявшей воде у самых берегов отражения деревьев и резвящихся подле них уток (одна из них все старается встать на ледяную полоску, по несколько раз вскарабкиваясь на ледок, уродливыми лапками шлепая туда-сюда, серебристая пленка неизменно подламывается под ней, и утка, точно капитан на мостике тонущего корабля, с достоинством идет вниз, но снова и снова, точно только для того чтобы поразвлечь зрителей, повторяет свой опыт), и когда вы, наконец, заканчиваете ваше праздное наблюдение созерцанием неподалеку плавающего одинокого лебедя, который достает отяжелевшие, затонувшие наполовину куски хлеба, время от времени с характерной пристальной недоброжелательностью всматриваясь в стоящих на берегу людей, точно ожидая от них более вкусной пищи, а те благосклонно переглядываются и обмениваются ничего не значащими замечаниями, – тогда… но тогда вы просто не сможете не припомнить не однажды виденные вами в европейских музеях старые голландские пейзажи с простолюдинами вокруг замерзших водоемов.
«Насколько же ничего не изменилось на земле!» – невольно подумаете вы, – и как же все поминутно меняется!» – придет в голову следующая мысль: ведь между теми приплюснутыми, бесшабашными и слегка придурковатыми жителями тогдашней Голландии – неужели они на самом деле были такими? – и нынешними прилично-разношерстными обитателями земли немецкой казалось бы нет ничего общего! казалось бы… а на самом деле общность есть, но она настолько субтильная, что на нее не сразу даже обратишь внимание, и тем не менее только она и она одна, как та знаменитая бесконечно малая величина в математике, способна удовлетворительно решить уравнение человеческой жизни, которое, помимо сложных и недоступных обычному человеку конечных результатов, пытающихся определить, например, связь отдельной жизни с предшествующими и последующими жизнями, а также с другими бытийственными измерениями, говорит нам всегда одно и то же, а именно: то, что людей сближает, все-таки самих людей характеризует больше, чем то, что их разделяет.
Почему Шерлок Холмс нам все-таки бесконечно дороже Гамлета. – Сама жизнь испокон веков показывает нам, что человеческая природа, во-первых, преступна по определению, во-вторых, убийство ближнего есть краеугольный камень человеческой преступности, в-третьих, мотивы убиения настолько многообразны и пустяковы, что даже не верится подчас, что они могли послужить причиной убийства, но в то же время, как мы помним, главный смертный грех укоренен в душе на тех же правах, что и смерть в теле, а это значит, что самые чудовищные преступления скрываются под самыми обыкновенными оболочками и вытекают из самых обыкновенных обстоятельств, и никакой психологический анализ не в состоянии удовлетворительно объяснить это странное и по сути глубоко загадочное соединение «самого чудовищного и самого обыкновенного», – так что даже призрак убиенного, которому открылись иные тайны, скрытые пока для простых смертных, явись он перед нами и попытайся объяснить, кто и зачем его убил, не сможет этого сделать.
А если так, то не лучше ли раз и навсегда прекратить поиски «вещи в себе» и обратиться к явлению? эту задачу и выполняет великий сыщик, причем с гораздо большей убедительностью и правдоподобием, чем великий знаток человеческой души, писавший под именем Шекспира: самое же главное, в одном случае мы имеем художественный мир, в котором нет ни единой детали, которую мы не могли бы поближе рассмотреть и пощупать, иными словами, мы в этом мире в самом буквальном значении слова как у себя дома, тогда как в другом художественном мире все нам бесконечно чуждо, и мы в нем – как гости, которые, заплатив входной читательский билет за право приобщиться к «шекспировскому гению», должны рано или поздно покинуть спектакль.
А вот мир Шерлока Холмса покидать не нужно, он как родная квартира, как наша улица, в конце концов как те же розановские «штаны» («Литература это мои штаны»), что валяются на стуле, одел – и пошел: да, пожалуй, нет в мировой литературе более уютного пространства, чем квартира на Бейкер-стрит за несуществующим номером 221 В, шире – чем туманный Лондон, в котором вечный Каин убивает своего вечного брата Авеля, еще шире – чем вся добрая старая Англия, где убийство как одно из центральных проявлений бытия человеческого с легкой руки Шекспира стало основной литературной темой, и где спустя пару столетий с легкой руки Артура Конан-Дойля убийство как драгоценнейший бриллиант человеческого развлечения было облечено в достойную камня оправу общественно-космического уюта.
Итак, убийство по духу и букве своей столь же уютно, как сидение со стаканом виски перед вечерним камином: но ведь это и есть центральная перспектива взгляда на преступление в нашем цивилизованном обществе, и создатель Шерлока-Холмса здесь ничего не выдумал, – и как уютно прозябает преступный замысел в глубинах души человеческой, пока не настал его час выйти оттуда, так точно не менее уютно все его совершение и раскрытие (или нераскрытие), потому что соотношение преступного замысла с прочими тесно окружающими его душевными компонентами точно такое же, как реальное соотношение преступника с окружающими его обитателями города и мира: иными словами, они неотделимы друг от друга, и туманный Лондон так же трудно представить помимо скрытых в его недрах преступников, как человеческую душу без преступных инстинктов, – ну, а то чисто читательское удовольствие, которое мы получаем от чтения «Шерлока Холмса», и которое в разы превосходит удовольствие от чтения «Гамлета», – оно просто подтверждает на эстетическом уровне подмеченную и описанную выше общечеловеческую психическую закономерность.
Запоздалая рецензия. – Когда литературный роман описывает главу преступного клана, перенимающего серьезную и почти отцовскую ответственность за всех своих членов, так что каждый из них, при условии лояльности, может быть абсолютно спокоен за свое будущее и будущее своей семьи, и решительно ничто не может угрожать его жизни или благополучию, кроме, разве, гибели самого протеже, далее, когда каждый из членов клана по возможности занимается тем, что ему больше всего лежит и не лезет туда, где он только все напортит – то есть хотя бы на довольно малом участке жизни имеет место довольно большая гармония – когда, помимо этого, любой член клана может получить от главы его в разумных пределах услугу, которую ему даже приблизительно не окажет никакой другой человек и никакая другая организация, а взамен он тоже, конечно, должен будет оказать услугу, которую от него когда-нибудь потребует заимодавец, но эта услуга такого рода – и здесь вся пуанта – что оказать ее не только возможно, но и приятно, когда, переходя к драматическим пружинам, иные члены клана, не получив у себя дома того места, на которое рассчитывали – но это потому, что, как безошибочно определил глава клана, им от природы не дано было занимать данную должность – переходят скрыто к врагу, и пощады им отныне быть не может, потому что они сами себе своего предательства никогда не простят, когда, продолжаем, все абсолютно мысли, чувства, намерения и поступки близких и дальних людей главой клана по возможности ловятся, учитываются и обязательно вознаграждаются или караются, – так что и полет воробья над его головой не проходит бесследно, но имеет какие-то невидимые, однако далеко идущие и поистине кармические последствия, – когда простые люди обращаются к главе клана за помощью, и в этой помощи, как и в самом обращении можно увидеть как дьявольские, так и божественные черты, причем в одинаковой мере и одинаково глубоких измерениях, так что лучший друг юности главы клана, заболев раком, всерьез попросил того замолвить за него словечко перед Богом, – и это звучит вполне правдоподобно и убедительно, и когда, наконец, будучи тяжело ранен и потеряв старшего сына, глава клана оказался на грани крушения дела своей жизни, но его спас младший сын, однако какой ценой? ценой отторжения по причине демонической мстительности и невозможности прощать всех тех людей, кого умел от природы и щедро привлекать отец, так что сама художественная конфигурация отца и сына ничем не уступит паре Болконских, – да, вот тогда самое время обратить внимание на рождение без каких бы то ни было преувеличений гениальнейшего произведения искусства, которое, несмотря на мафиозную тематику, достигает и композиционно, и психологически уровня самых великих романов, а поскольку без внимания этот роман не остался и даже приобрел колоссальную популярность, остается только сказать, что он все равно остался недооцененным, – в том смысле, что его никогда не поставят в один ряд с романами самыми великими и классическими, – и напрасно.
Вопрос ребром. – Не кажется ли вам, что роман как жанр окончательно исчерпал себя – и не потому даже, что в наше время практически не пишутся выдающиеся романы (которые всегда в единственном числе), зато пишутся романы, мягко говоря, не вполне выдающиеся (имя которым легион), а потому, что слишком очевидной стала сама условная природа романа как жанра? и дело тут в том, что правда о любом человеке таится во времени как душа в теле, – так что чем больше временные промежутки, тем существенней в них раскрывается человек, а вот это-то для любого романа все равно что смерть: заряженное умной игрой художественное деяние, в чем бы оно ни заключалось, нуждается в сравнительно коротких промежутках времени (так называемое классическое единство времени, места и действия), – и никогда никакой герой романа не может фигурировать в пределах игрового пространства, разделенного годами, а то и десятилетиями, то есть получается, что самое важное и интересное в художественной литературе всегда происходит в течение довольно ограниченного времени, иначе теряется напряжение повествования, без напряжения нет связующей музыки, а без музыки нет вообще ничего.
Но ведь узнавать, как человек, а заодно и его ближайшее окружение меняются на протяжении десятилетий, есть без преувеличений самый интересный опыт, доступный человеку, однако этот опыт, как уже сказано, с жанром романа несовместим, и потому приходится выбирать: либо живую и неподдельную правду о человеке, либо умную и талантливую (в лучшем случае) выдумку о нем, – так что же нам выбирать?
Как говорится «просто ни к чему». – После долгих и трудных поисков отыскав, наконец, «единое на потребу», невольно начинаешь относиться ко всему прочему как к чему-то такому, «что по большому счету ни к чему», – и просто поразительно, с какой филигранной точностью это странное и несуразное определение «ни к чему» описывает суть проблемы: ведь речь здесь идет ни о чем другом как сознательном отказе от вспаханных поначалу ищущим духом и почти уже вывернутых им наизнанку целых пластов культуры, – боже, какие там отыскались богатства! как они смогли бы обогатить эрудицию! но что такое эрудиция как не ударный кулак культивированного тщеславия? а человек по природе своей ищет все-таки пищи для души, и пища эта в конце концов столь же проста, сколь и изысканна: она состоит всего лишь из хлеба, воды да божественной амброзии, причем у каждого свой хлеб, своя вода и своя амброзия, – и вот вкусив их однажды в том самом, вами одними для себя найденном и для вас одних предназначенном сочетании, вы уже не сможете есть другую духовную пищу, а потому рано или поздно на вопрос какого-нибудь очень доброжелательного и очень культурного человека: «Разве вы не читали такого-то и такого-то автора?», вы просто с улыбкой пожмете плечами, и на его естественный и неизбежный упрек: «Но ведь его нельзя не читать», вы произнесете ту самую золотую формулу: «Да, но мне это ни к чему»: поверьте, это и будет последним и решающим доказательством того, что «единое на потребу» вами, наконец, найдено, и ничего уже больше, к счастью, искать не нужно.
Добрый старый слуга. – Наши основные (то есть врожденные и практически неустранимые никем и ничем) страхи подобны нашим же старым и верным слугам, которые, служа нам верой и правдой, оберегают нас не только от опасностей мира сего, но и от дверей в Неизвестное, а между тем только смело и опрометчиво открыв одну из них, можно войти в новый для себя мир, тогда как другого входа туда, к сожалению, нет, – итак, наши слуги-страхи, будучи к нам приставлены от рождения, зная нас как облупленных, догадываясь своей безошибочной интуицией, что есть все же на этом свете двери, точно созданные для того, чтобы мы через них вошли, тем не менее на всякий случай и по привычке устраивают неприличную потасовку с нами всегда и без исключения, когда судьба сталкивает нас лоб в лоб с подобной дверью: и разыгрывается в тот момент одна и та же, наполовину комическая, наполовину трагическая сцена, когда мы и наш конкретный персональный страх, схватив друг друга за грудки, пыхтя и злобствуя, катаемся молча по полу, но в конце концов, как и полагается, мы берем верх, поднимаемся, перешагиваем через побежденный страх, открываем заветную дверь – там, свет, воздух и новая жизнь! – делаем шаг в только что завоеванное с таким трудом жизненное пространство, глубоко забираем в легкие опьяняющий тонкий эфир, а потом с некоторым виноватым упреком оборачиваемся к нашему незадачливому слуге, как раз поднимающемуся с пола: «Мол, что же ты нас удерживал?», однако тот чертыхаясь и отплевываясь демонстративно смотрит в сторону: догадываемся ли мы, что делает он это, как и подобает образцовому старому слуге, единственно из благородного побуждения – чтобы мы сами не догадались, что он боролся с нами только для вида?
Первый друг детства. – Любая гармония рождается из хаоса, это знали уже древние эллины, но задача состоит в том, чтобы прочувствовать эту великую истину на собственном опыте: я убежден, что наша российская провинциальная жизнь является одним из великолепных образчиков первородного хаоса, – так есть ли там гармония, и если есть, как она возникает?
Кажется, когда я учился в третьем классе, учительница по литературе попросила меня остаться после уроков и наедине сообщила мне, что некий мой одноклассник очень хотел бы со мной дружить, но не решается сделать первый шаг, – так не пошел бы я ему навстречу? тот мальчик плохо учился, отличался уединенным нравом, но был мне скорее симпатичен, чем наоборот, и вот я согласился, и он начал захаживать ко мне домой, мы все что-то строили, кажется, какие-то кораблики, заодно я, конечно, помогал ему в учебе, – но однажды, катаясь вечером на коньках, он нашел какую-то интересную палку, которая неизвестно чем мне приглянулась, и я очень захотел ее иметь, я стал просить моего нового друга уступить мне ее, но, наверное, просьбы мои имели слишком требовательный характер, во всяком случае он наотрез отказался мне ее давать, и я в запальчивости заявил, что он об этом пожалеет, а он в ответ лишь пожал плечами: я покатил от него прочь и весь вечер не подходил к нему, но каково же было мое удивление, когда на следующий день в классе мы даже не взглянули друг на друга, точно он стал невидимым для меня, а я для него, – и так прошла неделя, месяц, год и все последующие годы – пока мы не расстались навсегда: много бы я дал, чтобы понять, что же это за страшная невидимая сила вдруг, воспользовавшись самым пустяковым поводом, встала между нами, сопливыми мальчишками, и не позволила не только объясниться, извиниться, встряхнуться и посмеяться над случившимся казусом, как это потребовал бы от нас любой взрослый, узнай он о происшедшем, но, вызвав в нем по-видимому чудовищную и нечеловеческую гордость, а во мне столь же чудовищный и нечеловеческий тихий гнев, продемонстрировала в который раз, что чувства, из которых лепились и лепятся иные любопытные, пусть извращенные персонажи мировой литературы, не умерли, но продолжают существовать в хаотически-разбросанном состоянии повсюду и всегда, даже в российской провинции конца шестидесятых прошлого века, поводом же или сюжетной завязкой к их появлению послужила просьба нашей учительницы – она руководствовалась при этом наилучшими побуждениями – искусственным путем создать отношение, которое никак не могло бы возникнуть естественным образом.
Вот и получается, что гармонии, рождающейся из хаоса, в точности соответствует происхождение художественного бытия из недр сырой и черновиковой жизни.
Неисповедимые пути самого близкого родства
I. (Оглядываясь назад из будущего). – У какого-нибудь метрополитенового киоска, в субботу: стайка молодых парней и тут же пара девочек, все в облегающих джинсах с прорезями на коленках и свитерах, доходящих до бедер, девочки с прекрасно контролируемым восхищением слушают статного парня в черной мотоциклетной куртке и модных остроносых ботинках на скошенных каблуках, парень о чем-то с интересом рассказывает, и его по-мужски невозмутимое спокойствие никак не затрагивается полувлюбленными девическими взглядами и смехом, – он весь в рассказе.
И вот, проходя мимо него, я как-то очень внимательно посмотрел на него, а он, прервав рассказ, тоже против воли задержался на мне взглядом: он не мог знать, что причиной моего долгого взгляда была странная конфигурация в моем роду, которую, если бы она имела место в семье знаменитого человека, наверняка назвали бы либо трагедией, либо мистерий, либо проклятием.
Дело в том, что где-то к тринадцати моим годам мой отец и я вдруг почувствовали взаимное полное расхождение и, не сказав друг другу ни слова, тихо и мирно разошлись, как расходятся на улице малознакомые люди, столкнувшись и поговорив ради приличия пару минут, – и что интересно: никогда с тех пор ни он во мне внутренне не нуждался, ни я в нем, – так что о комплексе «недостающего отцовства» с моей стороны и речи быть не могло.
И ладно бы одно только это, но история почти полностью повторилась с моим собственным сыном: с той лишь разницей, что мосты в наших отношениях не были никогда до конца сожжены и родственное тепло сохранилось, однако тот факт, что, встречаясь иногда раз в месяц или два – и живя по соседству – мы ощущали такую же душевную комфортность, как будто расстались только вчера, говорит о многом.
О чем же? прежде всего о том, что родственные отношения зиждутся на тех же самых законах, что и супружеские: законах гармонии и тайного соответствия, но супруги могут разойтись, а родственники – нет, хотя мне с моим отцом это удалось, быть может, благодаря моей эмиграции, – однако желаю ли я аналогичного развода с моим сыном? ни в коем случае, хотя очень страдаю от невозможности дальнейшего сближения; больше же всего меня смущает то обстоятельство, что не однажды я встречал в жизни мальчиков и парней, ровесников моего сына, которые тянулись ко мне сильнее, чем мой сын, и инстинктивная симпатия к которым тоже местами осиливала мое отцовское чувство.
Вот в этом состоянии душевной размягченности и раздвоенности, как мне кажется, я и засмотрелся на того парня в мотоциклетной куртке и остроносых ботинках, а он, точно прочитав мои мысли, забыл на время о своем рассказе: впрочем, что я говорю? тогда еще мой сын не родился, ну и что из этого? как будто это что-то могло изменить.
II. (Дилемма). – В самом деле, чтобы до такой степени отец был равнодушен к сыну, а сын к отцу, и оба не только не страдали от взаимного отчуждения, но принимали его как подарок судьбы (в том смысле, что им просто очень хорошо было друг без друга, и совсем не так хорошо, когда они были вынуждены по тем или иным причинам встречаться), так что они даже избегали плохо говорить друг о друге (что неизбежно повело бы к разного рода недоразумениям, в которые под давлением людского окружения пришлось бы волей-неволей вносить ясность, для чего опять-таки им нужно было бы интенсивней заниматься друг другом), а при немногочисленных встречах их разговор начинал изобиловать дипломатическими нюансами (во-первых, потому, что не было практически ни единой темы, на которую у них были бы мало-мальски сходные взгляды, а во-вторых, потому что любой спор мог повести к обострению, которое тоже никому было не нужно), – итак, в подобную конфигурацию самых близких на земле людей я сам никогда бы не поверил, если бы не испытал ее на собственном двойном опыте: себя как сына и себя как отца, и весь вопрос только в том, как же все-таки следует вести себя в такой судьбоносной ситуации, – можно, например, отнестись к ней как к родовому проклятию со всеми вытекающими отсюда мрачными последствиями, но можно увидеть в ней и слишком явную улыбку какого-то неизвестного Устроителя всех наших дел, какое бы имя Ему ни дать, – самое же лучшее, как мне кажется, это верить в равноправное существование обоих моментов, и с молитвенным уважением чтить каждый из них.
III. (Пожизненно прикованные к галерам). – Когда мужчина и женщина пробуют организовать совместную жизнь, и их попытка не удается, в этом обычно не видят ничего удивительного, когда же против всякого ожидания обнаруживается – разумеется, после долгих-предолгих лет совместного принудительного существования – что и самые близкие родственники, такие, скажем, как отец и сын, абсолютно «не подходят друг другу»: в том смысле, что у них совершенно разные интересы, что они прекрасно могут уживаться друг без друга, что ни один из них не является настоящим авторитетом для другого, а тем более примером для подражания, что каждый втайне представляет себе иного «идеального» отца или сына, в чем они даже наедине с собой не готовы признаться, и что, как следствие, между ними не может быть ни откровенной (тайной или явной) вражды как последнего признака глубокой взаимной связи в ее обратном и трагическом варианте, ни полного обоюдного равнодушия как верного признака кармической – а значит и космической – непричастности, – итак, в подобных исключительных случаях мы имеем дело с редчайшим феноменом экзистенциальной игры на высочайшем бытийственном уровне: потому что, действительно, что может быть, с одной стороны, для человека первичней закона кровного родства? но с другой стороны, что может быть игривей его же собственного (закона) опровержения на примере родного отца или сына?
Психологическим эквивалентом вышеописанного феномена является, как правило, глубокое, как Маракотова бездна, и тонкое, как игла, ощущение взаимного и пожизненного недоумения по поводу своего самого близкого родственника: как же такое могло произойти? не сон ли это? и если сон, то как от него проснуться? а если не сон, то как с этим жить дальше?
И какой бы вывод ни был сделан, печать подобного недоумения невозможно ни понять, ни тем более стереть до конца: она будет сопровождать «ознаменованного» человека до скончания дней его, наравне с печатью первородного греха, но если последняя, как утверждают добрые языки, была все-таки вовремя вскрыта и упразднена Спасителем, то вот вторая уже, по-видимому, никем и ничем смыта быть не может.
И единственный выход из этой безысходной ситуации, быть может, состоит в том, чтобы раз и навсегда перестать, наконец, метаться в поисках выхода, а просто сесть и улыбнуться над собой: кто знает, не является ли такая улыбка единственным эликсиром против проклятия собственной закомплексованности? и не тень ли подобной улыбки играет на лице Будды в бесчисленных его скульптурных и живописных изображениях?
Причем, что интересно, никто из современников великого Реформатора эту загадочную улыбку на его лице не примечал, зато все люди искусства не сговариваясь начали ее производить.
Оставив тем самым вопрос навсегда открытым.
IV. (Все дороги ведут в Рим). – Когда я думаю о том, что моя мама не удосужилась ни разу за сорок лет навестить меня в Германии – если не ради сына, то хотя бы ради внука – когда я припоминаю, с какой неохотой она спрашивает по телефону о моей жене или теще (которые, между прочим, прекрасно к ней относятся) и в то же время всякий раз прибавляет: «Ну у тебя-то все хорошо в семье?», желая очевидно услышать в ответ: «Ну как тебе сказать – все бывает…», чтобы опять пригласить меня к себе в Саратов, меня одного… когда она подолгу и с ностальгической старческой зацикленностью рассказывает об одном и том же: о былом и давным-давно распавшемся заветном треугольнике семьи, треугольнике, состоящем из отца, матери и сына, треугольнике, в котором, осмысливая его трезво и задним числом, не было по сути живого места, и когда я все-таки должен сказать, что она меня по-своему очень любила, чему тоже имеется множество подтверждений, (правда, любила – и отправляла меня против воли ежегодно в пионерские лагеря, любила – и все-таки отвела в милицию, когда я с приятелями снял с поезда несколько арбузов, любила – и с таким трудом дала согласие на выезд), – короче говоря, подводя все вышесказанное, как и полагается, к общему знаменателю, как тут не вспомнить о природе духов в буддийской интерпретации (в данном случае духе или ангеле родительской любви)?
Она (интерпретация) утверждает, что, несмотря на безграничные возможности в смысле преодоления времени и пространства, сфера воздействия любых духов принципиально ограниченна, хотя и в разной степени, – отсюда и вытекает, что если у какого-нибудь отдельно взятого духа материнской любви слабые крылья, то он не может воспарить, как бы сам того ни хотел, и любые упреки здесь попросту неуместны: приняв на веру такую космическую конфигурацию, снисходительней начинаешь относиться и к своим ближайшим родственникам, и к людям, и к себе самому.
Если же, напротив, проникнуться ощущением вечной и неизменной природы человеческой души, а также прямо вытекающей отсюда полной ответственностью за каждый жизненный шаг, то тяжесть чувства вины, рождающаяся, например, из слабости любви, подобной вышеописанной, становится физически невыносимой.
И тогда невольно приходится смотреть на себя и на все вокруг себя тем самым предельно выразительным, но и предельно страшным взглядом, каким смотрят на зрителя наши православные иконы.
V. (Последняя схватка). – Как страшно разваливается тело под давлением возраста и болезней! и как трогательно сознание сопротивляется этому неумолимому природному процессу! ведь нет же и не может быть, кажется, в человеке ничего такого, что было бы вполне независимо от клеток, тканей и органов, а это значит, что любое их недомогание тотчас передается душе и духу, что бы под ними ни понимать, – и поэтому когда человек мужественно сопротивляется болезням, старается отогнать от себя раздражение и депрессию, пытается оставаться оптимистичным и доброжелательным к людям и к жизни, мы его уважаем и перед ним преклоняемся.
Нам кажется, что кроме как силой воли и мужеством невозможно противостоять разрушению плоти, и что в этом самом противостоянии заключается вся суть и сила духа, – все это несомненно так и есть на самом деле, но остается все-таки на душе некий едва фиксируемый сознанием оттенок, как бы привкус тончайшего психического дискомфорта, и сие субтильное чувство, если как следует в него вдуматься, коренится в нашей врожденной вере, что между духовным и материальным не просунуть и волоса, а значит, само состояние тела еще прежде и красноречивей воплощает заключенный в нем дух.
Иными словами, здесь имеется в виду древняя истина: «В юности мы имеем лицо, подаренное нам возрастом, а в старости то, которое сами заслужили», то есть насколько благообразно мы состарились, как мало у нас появилось безобразных морщин и до какой степени черты лица сохранили одухотворенное выражение, – вот что самое важное и вот что является первым признаком духовности.
А если этого нет, если тело разрушилось так, что свет духовности едва тлеет в нем, как последний уголек в бесформенной куче дров, и выражается только в отчаянном и жалком крике: «Я, душа, все-таки существую, но не имею ничего общего с этим телом!», – то это, конечно, тоже духовность, но как бы уже второго порядка.
Поэтому когда моя мама, случайно проходя мимо зеркала, задерживается перед ним взглядом и видит там все еще благородные черты лица, видит осанку головы, напоминающую Марлона Брандо – а ведь в юности этого сходства не было и в помине – видит все еще живые и теплые карие глаза под высоким и почти безморщинистом лбом – хотя волос на голове почти не осталось – и все это, несмотря на девяностолетний возраст, несмотря на то, что от болей в суставах она не проспала в последние десять лет ни одной нормальной ночи, несмотря на то, что она шагу не может сделать без крика или стона, – итак, видя все это, она должно быть чувствует мгновенный и малый прилив некоей невольной гордости за несомненное и всеми замечаемое достоинство, которое сохранило ее тело в смертельной борьбе со старостью и болезнями, и которое поддерживает ее и дает силы жить дальше.
Но так ли это на самом деле, я точно не знаю, потому что никогда ее об этом не спрашивал.
VI. – (Во всем есть свой смысл). – Для каждого внутренне созревшего события существует его собственное и как бы для него одного предуготовленное время, как оно существует для всякого плода, так что любое «слишком рано» или «слишком поздно» чревато, как мы знаем по опыту, неизбежными и удручающими последствиями недо– или перезрелости.
И нигде, пожалуй, этот простейший из всех универсальных законов бытия не проявляется с такой очевидной ясностью, как в любви: действительно, одним из основополагающих смыслов жизни человеческой является обретение настоящей любви – об этом едва ли не девяносто девять процентов всех фильмов и романов – но каждый из нас слишком хорошо знает, как это не просто, а для иных людей и практически неосуществимо, и сколько попыток нужно предварительно сделать, прежде чем мы, подобно гетевскому Фаусту, сможем от души сказать: «Остановись, мгновение, ты – прекрасно», чтобы, умножив это счастливое мгновение на предложенные нам житейские ситуации, получить долгую и гармоническую семейную жизнь.
Но как универсальные космические законы перестают действовать в отношении феноменов, стоящих на более высоком бытийственном уровне, или, точнее, их действие усложняется специфическими факторами, характерными для данного уровня, так элементарная закономерность недозрелости или перезрелости плода, в зависимости от времени его срывания, может быть перенесена в сферу человеческой любви только с большими ограничениями.
Это надо понимать так, что никакие предварительные опыты по «женской линии» нельзя признать до конца лишь «неудачными попытками», но в каждом из них таится великий скрытый смысл, хотя и остающийся по воле обстоятельств в тени даже на протяжении всей жизни: смысл этот, в частности, заключается в том, что та женщина, с которой вы были в связи короткое время и браку или многолетнему отношению с которой не «покровительствовали боги», все-таки по-своему любила вас во время этого вашего недолгого совместного «предварительного опыта», все-таки надеялась на вас как на будущего супруга и отца или отчима ее нерожденных или уже рожденных детей, и все-таки примеривалась к вам с точки зрения «вечной любви», а вот последняя и заключительная ваша женщина, с которой вы и создали, наконец, союз, «благословенный на небесах», если бы вы ее встретили раньше и при других обстоятельствах, быть может, даже не взглянула бы на вас, – да так оно и было бы на самом деле!
Говорю по собственному опыту: шанс для меня, русского человека, в семидесятые годы прошлого века выехать за границу – а без этого я не мог уже жить! – не превышал шанс угадать в лото шесть правильных цифр, и то обстоятельство, что судьба смилостивилась надо мной и послала мне девушку, благодаря которой я осуществил мечту моей жизни, но каким путем? путем мефистофельской сделки «любовь за выезд», ибо мы никоим образом не были созданы друг для друга, и все-таки, будучи слабыми людьми, под давлением обстоятельств попытались из формального брака, который только и должен был быть между нами, создать брак настоящий, в который она долгое время верила, я же не верил никогда, – итак, это обстоятельство, несмотря на изначальную приговоренность нашей связи, я оцениваю высоко и в какой-то мере сохраняю пожизненную благодарность первой моей жене за то, что она полюбила меня «на заре нашей юности» и многим для меня пожертвовала, тогда как – и это я знаю точно – вторая моя жена, безукоризненное в любой мелочи и абсолютно счастливое отношение с которой началось четвертью века позже, в первой молодости меня бы никогда не полюбила, а может быть даже и не заметила, – вот что значит: всему свое время! но все-таки не совсем в том плане, в каком мы говорим о времени сбора урожая яблок.
VII. (Amor fati). – Моей любимой падчерице пошел уже тридцать второй год, она только что закончила вечернюю гимназию и давно уже одна, потому что вследствие какой-то причудливой игры природы ей суждено было на всю жизнь остаться в душе ребенком, – и никакие «мальчики», никакая работа и никакое обтачивание годами не в состоянии изменить этого судьбоносного обстоятельства: какой-то внутренний механизм (который иначе как кармическим не назовешь) с неизменностью космического закона руководит всеми ее поступками, определяет основное ее душевное настроение и в конечном счете оформляет ее жизнь, отводя ее все дальше и дальше от основного предназначения взрослой женщины: создавать собственную семью, рожать и воспитывать детей, и подталкивая, наоборот, назад, к прежней и «забуксовавшей» навсегда дочерней роли, – любыми правдами и неправдами до последнего прилепляться к материнской семье, быть и жить там, видя свое главное жизненное предназначение в заботе о матери и ее втором муже, то есть обо мне, ее отчиме – причем подобную заботу, нужно сказать, она способна была бы осуществлять поистине идеальным образом и до скончания дней наших – но жизнь оказалась безжалостна к ее невинной незрелости, и один из законов жизни, состоящий в том, что на Западе дети должны жить самостоятельно и по меньшей мере отдельно от родителей, проехался по ней как колесо телеги по муравью, – и вот совсем недавно, после операции, которая точно по иронии судьбы была совершенно ненужной и как будто только для того и сделана, чтобы на месяц подарить ей искомый и драгоценный статус детскости, – итак, пожив у нас две недели, она опять отправилась в свою однокомнатную квартирку, что на расстоянии двух остановок метро от нашей, чтобы там заниматься непонятно чем, и было невыразимо грустно сопровождать ее туда, хотя и пребывание ее в нашей гостиной тоже отдавало субтильным тягостным чувством: все-таки и прекрасная ее светлая квартирка пустует, и вместе жить нам в одной квартире ни к чему и почти противоестественно, и образ вечной дочки, что никак не хочет становиться самостоятельной взрослой женщиной, точит сердце ее матери и моей жене, – короче говоря, у всех нас в разной степени осталось ощущение одновременного присутствия в душе двух равносильных и до щемящей остроты противоречивых чувств, а это, как в свое время показал Гамлет, больше всего на свете отнимает способность к действию, да и все наши совместные семейные деяния точно по странному совпадению остались в прошлом, – но что я хочу сказать? наверное, это так и должно быть, что люди рано или поздно перестают совершать поступки, которые могут серьезно изменить их жизнь, и либо ничего уже не делают, либо машинально отправляют однообразный обряд жизни: однако если даже тогда, в самый благоприятный момент, на пике трансформации жизни в бытие, не суметь увидеть в них увековеченных, как насекомые в золотой капле янтаря, пусть скромных, но вполне художественных персонажей собственных жизненных биографий, то уже больше и никогда не увидеть – но ведь это ужасно!
VIII. (Все течет, ничего не меняется). – Я не однажды обращал внимание на то, что когда я случайно встречался с моим сыном на улице, причем он первый видел меня, а я его нет, то он – это было видно по характерному застывшему на несколько мгновений размышляющему выражению в глазах – несколько медлил, прежде чем окликнуть меня, моя же падчерица при любых, в том числе и могущих обернуться для нее некоторым конфузом обстоятельствах, обращалась ко мне мгновенно, без какой-либо рефлексии и с самой сердечной улыбкой на лице: из этого я делаю вывод, что в ситуации иной и далеко не безобидной, более того, чреватой опасностью для здоровья и жизни, мой сын еще как следует подумал бы, рискнуть или не рискнуть ради отца и какими это грозит последствиями, тогда как моя падчерица пошла бы ради своего отчима на все, за исключением, пожалуй, готовности сразу и на месте отдать свою жизнь, – но кто же такое может требовать или ждать? еще и поэтому я так склонен верить в буддийски понятую карму: потому что, живи я среди древних римлян с приблизительно тем же характером, что и теперь – а это значит, что я должен был быть богатым и влиятельным человеком в те страшные и славные времена, иначе я просто не мог бы себе позволить иметь тот характер, который я имею – итак, моим полноправным наследником я сделал бы чужую дочь, но никак не родного сына, римские императоры, да и их приближенные так поступали на каждом шагу, – а ведь сколько бунтов, войн и просто заказных убийств произошло на этой почве! и тем не менее все случилось бы именно так, как здесь описано: но тогда ни одна даже самая малая йота безумных страстей человеческих не исчезла из этого мира, я это чувствую по себе! вот только радоваться или печалиться этому обстоятельству, я не знаю.
IX. (Самая большая удача в жизни). – Это, конечно, заполучить идеальную тешу, но что такое идеальная теща? та самая пожилая располневшая женщина, которая знает жизнь как свои пять пальцев и которая доказала это свое великое знание не какой-нибудь сомнительной эрудицией, а тем, что вырастила и воспитала одна двух дочерей, причем таких, что одной вы просто восхищаетесь со стороны, а на другой даже женились, и ни разу не пожалели о своем судьбоносном поступке, далее, на которую вы, быть может, в свое время даже не обратили бы внимание, как и она, впрочем, на вас, и которая, наконец и самое главное, когда собираются вместе она, вы, ее дочь и ваша жена и ее внучка, а ваша падчерица, сидя в центре «семейного портрета в интерьере», то есть будучи одновременно и мамой, и бабушкой и тещей, все-таки непонятным образом гораздо больше напоминает тешу, нежели маму и бабушку.
А доказательством тому является ваш собственный опыт зятя, когда вы с приятным удивлением, еще не веря до конца свои глазам, замечаете, как о ваше взаимное друг о друге уважение, но еще больше об ее несокрушимое добродушие, точнее, почти слепой инстинкт видеть во всем сначала хорошее, а потом уже все остальное, как волны о скалу, разбиваются и ваши расхождения в религии (она принадлежит к старому поколению и потому насквозь православная, а вы как прогрессивный человек склонны к буддистам и йогам), и ваша разность в отношении к людям (она выросла в большой семье, ценит и любит общение, ваша же семья числом была минимальной, да и люди, просто как люди, по большей части действуют вам на нервы – имеете на то полное право!), и еще тысячи других и мелких несоответствий типа вашего упорного нежелания желать за столом «приятного аппетита» (или он есть или его нет), или говорить перед уходом ко сну «спокойной ночи» (в фильме «В джазе только девушки» подобное пожелание означало, что тот человек скоро заснет навечно), или при чихании произносить «будь здоров» (вместо того чтобы строго и неодобрительно посмотреть на чихающего: ведь сколько микробов он выбросил в окружающее пространство!) – короче говоря, вся эта ваша почти юмористическая и вместе довольно твердая демонстрация собственного и сугубо индивидуального стиля жизни при минимальной готовности пойти навстречу «старому человеку» представляет собой некоторое – и сознательное с вашей стороны – испытание для гордого и трогательно-старомодно-авторитетного характера тещи, испытание, которое, нужно сказать, она с честью выдерживает, и которое едва ли не более важно для вас самих: видя ее доброту и покладистость, вы и сами становитесь добрей и покладистей, – а не это ли в конечном счете самое главное в жизни?
В замкнутом круге вечного странничества.
I. (Всего лишь повседневные уроки неэвклидовой геометрии). – Итак, все в мире движется в едином направлении, но бесконечная прямая, куда бы она ни отправлялась, рано или поздно замыкается на саму себя: таким образом описывается виртуальная окружность, которую мы никогда вполне физически не ощущаем, но помимо которой наш космос решительно не в состоянии вообразить.
В самом деле, и небесные тела и само мироздание в целом мы не можем помыслить иначе, как по образу и подобию шара, – тем самым вполне удовлетворительно решается знаменитая антиномия конечности – бесконечности Универсума: ведь сколько бы ни скользить – уже мыслью, но никак не космическим кораблем – по краю космоса, никогда не натолкнешься на какой-нибудь предел, но само скольжение Мысли или Духа будет совершаться по какой-то окружности, означающей предел нашего мышления и знания на данный момент: диаметр гигантского шара, в котором мироздание и мысль человека о нем слились воедино, будет, очевидно, непрестанно увеличиваться, но принцип вряд ли изменится.
Точно так же мы уезжаем, чтобы возвратиться домой, так Гете сказал насчет отпусков: перефразируя его мысль, можно заключить, что мы рождаемся, чтобы умереть, однако, строго говоря, мир, из которого вышел младенец, ничего общего не имеет с тем миром, куда по всей вероятности войдет старец, и если бы речь шла о чистом и последовательном возвращении к первоисточнику, то мы должны были бы, достигнув определенного возраста, возвращаться назад, как в известном романе Скотта Фицджеральда, то есть от старости в зрелость, оттуда в юность, дальше в детство, из детства в младенчество, и наконец в зародышевую клетку, а затем в чистое ничто.
Но мы все-таки уходим в старость и разве что, проделывая этот тысячу раз пройденный путь, обнаруживаем, что все, что мы осуществили в жизни, было не столько свободным творческим созиданием, сколько высвобождением того, что было заложено в нас с детства, как семя в растении, а это как раз и значит, что, уходя в старость, мы в каком-то очень глубоком и подспудном смысле возвращаемся в детство.
Да, мы знаем, что мы смертны, что наши испытания и страдания когда-нибудь раз и навсегда закончатся и что то тело, в котором накапливаются болезни и боли, которое обезображивается с годами и как бы невольно нас компрометирует, тоже когда-нибудь исчезнет с лица земли, – но одновременно и с той же самой искренней целеустремленностью мы замедляем нашу смертность, цепляемся до последнего за жизнь, предпочитаем любые болезни и боли их исчезновению, то есть смерти.
Находясь в смертельной опасности, мы приближаемся к самым ужасным мгновеньям нашей жизни, каковые символизируют нож убийцы, падение лайнера или пасть крокодила, ужасней этого вроде бы ничего быть не может, но, приближаясь к ним, мы, как однозначно показывают опросы людей, стоявших на пороге, как им казалось, неминуемой смерти, и оставшихся в живых, одновременно приближаемся и к переживанию неописуемого блаженства, заменяющего в последний момент ужас, как в один голос свидетельствуют те же очевидцы.
Мы ценим любовь, на словах признаем ее высочайшим на земле благом, мы от всей души хотим верить той религии, которая, можно сказать, в математической зависимости от степени осуществленности любви в этой жизни определяет нашу посмертную участь, – и однако одновременно количество любви в нас как бы тоже есть своего рода математическая постоянная, мы не можем давать больше любви, чем это нам дано от рождения, и даем ее обычно тем людям и постольку, которые и поскольку либо вызывают нашу естественную симпатию, либо сюжетно вплотную к нам примыкают, каковы родственники, друзья, женщины и тому подобное.
В первые минуты великой влюбленности мы заглядываем в глаза любимой женщине – и видим там, наряду со взаимной любовью, еще и некое неописуемое в словах волшебство, – и вот оно-то, это самое волшебство, одновременно с развитием отношения начинает необратимо сходить на нет, и нет решительно никакой возможности остановить исчезающее на глазах волшебство влюбленности.
Мы в интимных связях теснейшим образом привязываемся к особам противоположного пола – таков, казалось бы, великий смысл половой любви – но одновременно и параллельно та же самая физическая любовь по самой своей природе, постепенно и неизбежно ведет к ослаблению чисто человеческой близости, а то и к ее полному разрушению, – и только те пары могут стать счастливыми исключениями из этого печального правила, которые научились великому искусству любящего управления человеческим началом начала полового.
Даже став буддистами, мы стремимся к освобождению от желаний, но одновременно мы всего лишь очищаем душу и сердце для более тонких и чистых желаний, которые, подобно сновидениям, спят в общечеловеческих архетипах, так что полное отсутствие желаний – как и жизни, расцветающей на их основе – по-видимому просто онтологически невозможно.
Испытывая сострадание к страдающим мира сего, мы замечаем, что страдание безбрежно, как мировой океан, и что ежеминутно на свет божий рождаются для страдания миллионы живых существ! да, мы ощущаем искреннее сострадание ко всем, кто страдает, но одновременно испытываем и некоторое глубочайшее метафизическое недоумение, которое возникает на почве осознания неизбежности страдания как такового, и как следствие бросает некоторую тень сомнения на само чувство сострадания.
Узнавая по телевизору или из газет о какой-нибудь очередной чудовищной катастрофе, мы искренне сочувствуем жертвам, но одновременно испытываем и некоторое постыдное любопытство, которое идет рука об руку с сочувствием, невольно его компрометируя, и это давно уже известно и принадлежит человеческой природе, а лучше всего об этом сказал римский поэт Гораций: «Сладостно наблюдать с надежного берега за терпящими в бурном море кораблекрушение», – и тем не менее килограммовое любопытство не упраздняет граммового сочувствия: эти нравственно мнимо несовместимые чувства все-таки в нас прекрасно уживаются.
Мы постоянно надеемся на удачную личную судьбу, но параллельно на каждом шагу наталкиваемся на необозримое множество чудовищных несчастных случаев: сознавая, что такое могло бы вполне случиться и с нами и что мы, положа руку на сердце, не заслужили лучшей по сравнению с неудачниками доли, мы все-таки одновременно продолжаем в глубине души просить «наших» богов о поддержке, а заодно и самодовольно верить, что наша карма чуть лучшая по сравнению с ними.
Мы нуждаемся в людях и потому с таким сладостным самозабвением растворяемся иной раз в толпе, но одновременно мы склонны достигать так называемой «критической точки общения», после которой толпа невыносимо раздражает нас и мы, чтобы не сойти с ума, должны остаться наедине с собой.
Мы непрестанно разочаровываемся в посторонних людях, но одновременно догадываемся, что иными эти люди быть не могут, именно потому, что они – посторонние, и тогда мы поневоле примиряемся с ними, но наше разочарование в них до конца все-таки не исчезает.
Мы стараемся искренне забывать обиды и даже прощать их, но одновременно замечаем, что никакие конфликты в жизни не проходят бесследно и что, искренне стремясь к восстановлению добросердечных отношений с былым оппонентом или врагом, мы все-таки наталкиваемся на невидимую границу, показывающую, что дальнейшее улучшение общения невозможно, и тогда вместо углубления отношения начинается недоуменно-болезненное движение психики по замкнутому кругу.
Мы на протяжении всей жизни только и делаем, что обустраиваем родимый очаг: семью и дружество и как бы накапливаем тепло на узком и тесном, окружающем нас участке жизни, но одновременно мы движемся к финалу, где этот очаг будет неизбежно разрушен и в таком странном, самоупраздняющем движении не находим ничего предосудительного.
Мы очарованы бесконечным разнообразием мира, но одновременно замечаем, что сами суть то окно, через которое мы видим мир: окно это постепенно запотевает и покрывается пылью, – и мысль, что мы всю жизнь видели не мир сам по себе, а всего лишь пейзаж из грязного и запотевшего окна, все чаще нас навещает, хотя ничего не меняет.
Как следует узнав себя к середине возраста, опробовав собственные сильные и слабые стороны, у нас обычно появляется ощущение, что жизнь сложилась не так, как она должна была бы сложиться, нам кажется, что в иных условиях мы раскрылись бы полней и самодостаточней, но одновременно в глубине души мы все больше убеждаемся, что все вышло именно так, как и должно было выйти и что иначе быть не могло, так что все самое существенное в нас эта наша жизнь с преизбытком выставила наружу.
Так что в итоге, родившись мы двигаемся во времени к расцвету жизни и далее к ее концу, то есть мы с каждым шагом приближаемся и к жизни и к смерти: казалось бы, взаимоисключающие координаты и разные пути, но нет – это именно один и тот же путь, потому что приходится допустить, что, идя к смерти, мы одновременно идем и к нашему следующему рождению, – и путь жизни уподобляется кривой, замыкающейся на себя, что и требовалось доказать.
Вот почему так часто приходится наблюдать, как люди в компаниях с добродушным выражением лица и несколько натянутой улыбкой, как бы извиняясь заранее за произносимую глупость, радуются тому, что они сумели опять «убить время», то есть заполнить бессмысленное с их точки зрения время жизни, – и если вдруг откровенно и совершенно неуместно в этот момент намекнуть им, что время жизни драгоценно, потому что строго ограничено и что когда-нибудь они, быть может, об этом пожалеют, но будет поздно, они – и к вашему и к собственному – удивлению, с этим тотчас же согласятся, но зададут вам сразу встречный и каверзный вопрос: «А что же нам было делать?»
И обязательно сопроводят его тем испытывающим, не вполне уверенным в себе и все-таки слегка ироническим взглядом, который, поверьте, поставит все точки над i в этом сложном вопросе.
II. (Великая метафора возвращения на старую квартиру). – Если Будда действительно прав и мы обречены рождаться снова и снова, пусть в разных обличьях, и ничто не может не только упразднить, но даже просто ослабить этот великий космический закон, и мы на самом деле уже не раз приходили на эту землю, и просто не можем вспомнить, когда, где и как именно это было, – короче говоря, если все это действительно так и никак иначе, то сама невозможность вспомнить о прежних инкарнациях, по-видимому, только и спасает нас от безумия осознания тысяч и тысяч нанизанных друг на друга, подобно пестрым бусинкам, жизней.
Потому что все эти жизни, будучи связаны таинственным законом кармы, психологически для нас никак не связаны, и – всего лишь в качестве гипотетического примера – чем больше мы бы о них узнавали, тем абсурдней они бы нам казались, так что всего лишь узнание того факта, что наша мать, которая в силу предвечной раскладки ролей, должна быть нашей матерью и никем больше, была когда-то… да кем угодно, но только не нашей матерью, мгновенно и радикально обратило бы весь этот мир в абсурдный спектакль: недаром тень абсурда лежит на нашей жизни, и мы эту тень смутно улавливаем боковым зрением.
Но если бы наша память вдруг раскрыла скобки наших предшествующих существований, и тень абсурда, разросшись и поглотив привычные контуры бытия, выступила бы на сцену мира во всем своем сумасшедшем великолепии, то каждый из нас увидел бы себя в роли человека, покинувшего рожденьем дом родной и на протяжении всей жизни к этому дому родному возвращающемуся, и окончательное возвращение означало бы смерть.
Это как если человек после долгих странствий возвращается на свою старую родительскую квартиру, он намерен стучать в дверь до тех пор, пока ему не отворят, – и просить у отца с матерью прощения, если надо, на коленях, за то, что он забыл про них или же умереть на пороге родного дома.
Но, миновав лестничный пролет, отделявший подъездное окно от родительской квартиры, он знакомой двери не найдет, а на месте квартиры, из которой он когда-то, давным-давно вышел в мир, будет зиять сплошная каменная ниша, и ради пущего правдоподобия будет еще, наверное, пахнуть известкой.
И тогда блудный сын пойдет по лестнице наверх: в надежде, что он ошибся этажом, он отсчитает тысячу ступеней, а потом, вымотавшись и потеряв ощущение времени, присядет на холодный пол, он забудется и начнет вспоминать, как когда-то выбегал по этой лестнице во двор, как писал нецензурные надписи на стене, как ходил в родной сад, как ездил в город, чтобы посмотреть новый фильм.
И припомнится ему, как это обычно бывает в столь важную минуту, еще множество иных, не идущих к делу подробностей, не сможет он только вспомнить одного: когда же именно, на каком этапе своего возвращения на родину он сам умер и это будет самым неприятным во всей истории.
Да, действительно, возвращение только тогда полное и окончательное, когда человек покидает родные края надолго, а то и навсегда, не надеясь, а может быть даже втайне и не желая возвращаться, и вот после как минимум двух десятилетий, подчиняясь настойчивому требованию обстоятельств – тут и мольбы родителей «увидеться напоследок», тут и непреодолимое любопытство соотнестись хотя бы один раз с друзьями и приятелями (как они распорядились жизнью? и чего в ней достигли? и в чью пользу вышло соревнование судеб?), тут и уникальная возможность посмотреть, как насиженные места, будучи символом мира как такового, изменились за двадцать лет – человек этот, наконец, решает возвратиться, но делает это не торопясь, оформляя свое возвращение по всем правилам искусства: он, во-первых, приезжает в родной город не с обычной, западной стороны, а с противоположной и восточной, потому что там у них с отцом и матерью был когда-то сад, и в этот сад он приходил работать с весны по осень еженедельно в течение долгих-долгих лет, а однажды даже застал в саду отца с любовницей, короче говоря, поскольку сад оказался самым незабываемым и тоскливым его воспоминанием, и еще поскольку он странным образом связывал их развалившуюся семью, а также поскольку сад стал со временем и в европейском далеке воплощать с его точки зрения всю российскую сновидческую реальность, – постольку он через Европу, Америку, Японию и Сибирь возвращается в родную квартиру именно через сад, и в нем предварительно встречается с давно живущими в разводе отцом и матерью – он даже поставил условием своего возвращения приезд их в сад в установленный день и час – а потом, молча посидев за самодельным столом, выпив и водочки, вкусив и колбаски и нехитрый салат из только что собранных овощей – новый владелец сада за скромную плату предоставил сад в полное распоряжение его прежних владельцев – они идут уже на старую квартиру, где он родился и вырос и в которой проживала теперь одна мать.
И там их ждут многие из тех, кого он знал до отъезда, и стол накрыт яствами, и чтобы передать друг другу все накопленные за двадцать лет впечатления, не хватит, кажется, и года… и вот они окунаются воспоминаниями в прежнюю жизнь как в омут, все глубже и глубже – и то сказать: лишь она, эта былая жизнь до отъезда на Запад ему только и снилась, тогда как его хваленое существование заграницей, в котором он якобы «души не чаял», не приснилось ему ни разу! – и кажется уже нашему великому возвращенцу, что былые участники его довыездного жития-бытия так плотно его обступили, что из их смертоносного кольца ему уже не выбраться, что и речи нет о том, что ему нужно рано или поздно возвращаться в Европу, где у него тоже семья: жена и сын и кое-какие новые знакомые, и работа, да и вообще: новая жизнь, куда там! незаметно, под шумок и стопочки! стопочки! стопочки! строятся планы его женитьбы на девушке, с которой они сидели когда-то за одной партой и которая умудрилась так ни разу и не выйти замуж (поистине знак судьбы!), и она сама жмется к нему за столом, а все либо отводят глаза, либо понимающе им подмигивают, а кроме того со всех сторон заводятся странные, многозначительные, неслыханные, безумные разговоры о том, что «человек только для того и уезжает, чтобы возвратиться», и вот уже его первая учительница: старушка, которую он еле узнал, подымает дрожащей рукой тост за «того, кто нашел в себе силы наконец вернуться в родимое лоно», а полковник внутренних дел (давно в отставке), занимавшийся когда-то его выездом, с расползшимися до неузнаваемости от выпивки и старости чертами лица предлагает выпить за «человека, который сыграл особую роль в истории нашего города, которого в свое время мы выпустили заграницу с дальним умыслом: чтобы в один прекрасный момент он сам и добровольно вернулся, продемонстрировав всему миру, что как ни хороша для русского человека заграница, а по большому счету лучше отчизны для него в мире ничего нет и быть не может», и следом родной его отец, почему-то метая на сына недоброжелательные взгляды и в неприятных подробностях пересказав, как они с матерью на протяжении десятилетий уговаривали его хотя бы раз посетить родину («ну точь-в-точь тащили его из Европы как больной зуб изо рта»), добавляет, «что пусть заграницей хорошо жить, зато умирать нужно только там, где родился».
И вот тут уже наш герой по-настоящему настораживается, нехорошее предчувствие (которое он всю жизнь имел: потому, наверное, и не хотел приезжать) пронизывает его до костей, и он решает бежать: сию же минуту и под первым благовидным предлогом он покидает родную квартиру, но застольники, конечно, его не хотят отпускать, пытаются удержать и даже бегут за ним, но он все-таки в последний момент вырывается и захлопывает за собой тяжелую дверь… куда теперь? скорее в аэропорт, благо паспорт и деньги при нем, а вещи… до вещей ли теперь? и вот он бежит сломя голову вниз по лестнице, но что за чудо? вместо двух лестничных пролетов он насчитывает пять, десять, двадцать, тридцать… спускаться дальше ему уже страшно и он возвращается назад, по пути, впрочем, его осеняет спасительная мысль: здесь было когда-то окно, да, вот оно и подле него лежит лунная полоса – светлая и ровная, настолько слившаяся с подъездным интерьером, что, кажется, отделить ее от пола можно разве лишь отбив ломиком верхний слой, а какая огромная луна висит над землей! и в лунном свете перед ним коснеет знакомый двор без единой людской души, сплошь залитый лужами, в которых без особых искажений, придавленный луной как пресс-папье, отражается слитный силуэт дома, тополей и сараев и в них же, нисколько не портя пейзажа, застыли старые газеты, стаканчики из-под мороженого и прочий мусор.
И вот он разбивает первое и внутреннее окно, отодвигает раму, собирается таким же способом расправиться и со вторым внешним, как вдруг… кулак его с размаху натыкается на стенку, смяв и продырявив картон: какой ужас! это было не настоящее окно, а всего лишь безукоризненно выполненная декорация дворового ночного лунного пейзажа, приклеенная каким-то шутником в каменной нише… откуда она взялась? кто был автором рисунка? когда и как окно подменили нарисованной копией? и, главное, с какой целью? все это были вопросы, на которые только пронзительная щемящая боль в сердце да смутное сознание сгущающейся над ним безнадежности были ответом.
И тогда, цепляясь за жизнь, он со стыдом плетется на старую свою квартиру, откуда только что сбежал: он теперь намерен стучать в нее до тех пор пока ему не отворят, и просить у отца с матерью на коленях прощения или умереть на пороге родного дома, но, миновав лестничный пролет, отделявший подъездное окно от родительской квартиры, он знакомой двери не находит: квартира, из которой он несколько минут назад выбежал, непостижимым образом отсутствует, а вместо двери зияет сплошная каменная ниша и пахнет известкой.
И тогда, тихо заплакав, он идет наверх, без цели и без смысла, просто потому что физическое движение было последним посланным ему Провидением отрадой: шагать или бежать, то вверх, то вниз, отмеривая ступени – он насчитал уже больше тысячи! – было все же легче, чем стоять на месте… в конце концов вымотавшись и потеряв ощущение времени, он приседает на холодный пол: наверное, он ненадолго сумел забыться, потому что ему показалось, что он идет в свой родной сад, но деревья, обрамляющие аллею, стоят голые и корнями наверх.
Припомнилось ему, как это обычно бывает в столь важную минуту (и как уже предположено выше), и множество иных, не идущих к делу подробностей, зато не мог он вспомнить лишь одного: когда же именно, на каком этапе своего возвращения на родину он сам умер, – и это было самое неприятное во всей истории… – да только тогда и при таких условиях возвращение становится полным и окончательным.
Однако как нельзя сразу и наобум совершить какое бы то ни было великое достижение, в том числе даже такое и всем, казалось бы, доступное как идеальное возвращение на родину, но к нему (достижению) надлежит прежде долго и терпеливо готовиться, так точно последнему и окончательному возвращению обязательно предшествует своего рода генеральная проба, и она может выглядеть, например, таким образом: молодой человек, покинув отчий дом, скитается долгие годы с какой-нибудь бродячей актерской группой, а потом, возвратившись домой, застает отца разбитого параличом и почти лишенного памяти, однако у старика хватает все же сил кротко упрекнуть сына в долгом отсутствии и даже ворчливо попричитать, как трудно было ему, одинокому старику, содержать дом и вести хозяйство, а сын его, устыдясь своего бесплодного отсутствия, возьми да и скажи отцу, что он никуда не уезжал, а все это время был здесь, при отце, тот только запамятовал, ему, сыну, мол неудобно вдаваться в подробности отцовского недуга.
И вот случилось чудо: отец поверил сыновней истории (память-то у него стала точно у малого дитя), а вслед за ним, дабы не огорчать больного старика, биографическую поправку усвоила и прислуга, а уже за ней, сначала шутки ради, потом по привычке и весь город: постепенно факт двадцатилетнего отсутствия молодого человека в городе как-то незаметно стерся в коллективном сознании его обитателей, и вот уже злые языки начали поговаривать, сколько терпения и почти женской покорности нужно иметь, чтобы в продолжение добрых двух десятилетий ни на шаг не отойти от престарелого отца, пожертвовать ему юношеской свободой и устройством семьи: поистине такие свойства характера подходят женщине: жене, дочери, подруге, сестре, – но чтобы ими обладал юноша, будущий мужчина и наследник отца – обыватели сомнительно качали головами.
И вот наконец молва о безвыездном житии-бытии сына в четырех стенах отцовского дома доходит до старика-отца, и видит тот скрепя сердце, что люди правы, что не должно мужчине жить подле другого мужчины, точно женщине, даже если это отец родной, но надлежит ему свой путь в жизни проторить, собственный домашний очаг выстроить, семью создать, детей взрастить, и когда придет час, скромно, но с достоинством указать отцу на достигнутое в жизни: то есть ввести его в дом свой и, подведя жену и детей для благословения, просто сказать: «Вот, отец, плоды трудов моих, пусть их немного, зато все честное, доброе, прочное, и всем этим я обязан силе семени твоего, а потому да послужит содеянное мною умножению чести твоей и восстановлению памяти в потомстве, как в свою очередь все достигнутое тобой послужило во благо доброго имени отца твоего».
И так невыносимо тяжко стало на душе старика-отца, что позвал он сына своего к себе и, хотя и знал, что не следовало бы ему этого делать, горькими сомнениями насчет городской молвы как бы перед ним исповедался.
Сын же, как легко догадаться, обрадовался несказанно перемене в образе мыслей отца своего и с сердца его точно камень претяжелый упал, и стал он, сначала робко, но с каждой минутой воодушевляясь, рассказывать отцу историю своей жизни, потому как и ему было в ней чем гордиться: ведь снискал он как-никак, совершенствуясь с годами в трудном, но благородном ремесле лицедейства, славу первого актера в той земле, где странствовала труппа, и сам бургомистр здешней столицы наградил его почетной медалью и даже предложил организовать городской театр, но иное было у него на уме, ибо в сердце его, терзаемом укорами совести, созрело уже непоколебимое решение возвратиться в дом отчий.
Да, вот как все было по правде, ничего он от отца родного не утаил, отец же слушал его и слезы у него наворачивались на глазах: он ведь думал, что сын его все это выдумал, чтобы скрасить последние его часы, – и тогда, не желая огорчать любимого сына – он-то понимал, что изменить ничего нельзя – он сделал вид, что поверил ему и поцеловал на прощанье в лоб, сын же его, безмерно растроганный, однако, стараясь казаться спокойным – он безудержным волненьем боялся ускорить кончину отца – сказал только: «Подожди минутку, отец, я сейчас вернусь», и побежал в подвал, где у него в походном сундуке хранилась та самая памятная бургомистрова медаль (он прежде стеснялся показать ее отцу)… поднимался он назад веселыми прыжками, преодолевая разом несколько ступеней, вертя увесистой золотой цепью на руке точно крохотной цепочкой и насвистывая песенку шута из шекспировского «Короля Лира», одной из любимейшей его пьес.
Когда же он вошел в отцовские покои, то увидел, что отец его мертв, и похоронил он отца своего, и остался в доме его, и вел хозяйство так умело, что приумножил доход от виноградников и масличных деревьев… и семью успел он завести на старости лет, и родился у него сын, и в положенный час поведал ему старик-отец историю своей жизни: «Поскольку я стар, – сказал он молодому человеку, – то надлежит тебе, продолжая семейную традицию, отправиться в путь дальний, но чтобы ты не повторил моих ошибок, тебе нужно оставаться в чужеземных краях так долго, чтобы все прежде знавшие тебя окончательно разуверились в твоем возвращении: лишь тогда докажешь ты людям, а главное себе самому, что жизнь не театр, и что любую настоящую роль в жизни можно сыграть один-единственный раз», – вот только после подобного мудрого напутствия и только учтя пробный опыт отца своего, молодому человеку удалось, наконец, совершить многотрудный подвиг полного и окончательного возвращения.
III. (Место и время рождения). – По логике вещей они никак не могут быть делом совершенно случайным, и то обстоятельство, что вы, рождаетесь, например, в городе, где никогда не произошло ни одного мало-мальски значительного исторического события, и где само его местоположение располагает к такой невероятной концентрации чувства тихого уюта и ощущения беспросветной тоски, что, кажется, если не щипать себя время от времени за руку, то нельзя понять, живешь ли ты в бдении или во сне, который почти ничем от бдения не отличается – такие сновидения есть, и каждый может подтвердить их существование на собственном опыте – итак, это обстоятельство, в «Гамлете» громко названное «трагедией рождения», неизбежно запечатлевается и в вашем характере, и в вашей судьбе как родимое пятно или Каинова печать: и неспособность избавиться от места и времени рождения, хуже того, обнаружение последствий его и в чертах характера, и в образе мышления, и в стиле почти уже сложившейся автобиографии, и даже во внешности – так обнаруживают раковые метастазы – она, эта неспособность с одной стороны напоминает отчаянные и безуспешные попытки вытащить себя за волосы из болота, с другой же стороны понуждает человека, если у него есть хоть капля ума и вкуса, схватить бумагу и карандаш, чтобы хотя бы несколькими профильными штрихами обрисовать собственное трагикомическое положение, ибо другого пути к спасению – самому настоящему и буквальному спасению, тому, о котором истово молятся старушки в церкви – нет и не может быть, – ведь только через очищение самосознания достигается спасение, а что такое это очищение как не амбивалентное стремление навсегда оправдать и вместе упразднить на веки вечные место и время собственного рождения?
Но если вы, не дай бог! склонны усомниться в кармическом предназначении места и времени рождения, то судьба вам обязательно пошлет еще и некоторые другие цементирующие факторы своей безусловной правоты, скорее всего по части самого близкого родства, например, бабку по матери, которая никогда не будет обращаться к врачам, всю жизнь свою будет лечиться травами и умрет не дожив нескольких лет до гордого девяностолетнего возраста от старческой слабости, – при этом она не устанет в продолжение жизни терроризировать свою дочь, то есть вашу мать, будет следить за каждым вашим шагом, пока вы еще ребенок и ранний юноша, а также станет пожизненно враждовать с вашим отцом, как впоследствии выяснится, потому что он отказался с ней переспать, когда она еще была неотразимой соблазнительницей, а ее дочь – неопытной глупышкой, далее, она умудрится, как выяснится позже, быть дворянского рода, но, когда вы тайно решите сбежать на «землю обетованную», начнет без устали бегать по кабинетам вашего стоглазого «Серого дома», чтобы любыми путями сорвать ваш выезд за границу, кроме того, когда вам удалят гланды в тринадцатилетнем возрасте, она откажется покинуть больницу и проведет две ночи под вашей больничной кроватью (это чтобы продемонстрировать извечную противоречивость человеческой натуры), ну и чтобы завершить ее скупой портрет: когда в середине семидесятых выйдет в прокат нашумевший фильм «Мужчина и женщина», она потребует запретить его по причине развратного влияния на молодежь, да и не будет случая, чтобы, увидев на улицу девчонку в коротенькой юбке, она не бросилась бы на нее, как тигрица, с обвинениями, подноготную которых она так хорошо знала по собственному опыту, – умирать же она будет ослепнув и оглохнув, лежа на ваших письмах из-за далекого кордона, выезд куда она так и не сумела предотвратить, и вот тогда-то первое, что вам придет в голову в качестве вступления к ее некрологу: столько чудовищной, необъяснимой дисгармонии, сколько уместилось в ее худеньком, до последнего месяца жизни подвижном тельце, хватило бы, пожалуй, наверняка на десятки людей, но самое поразительное даже не это, – самое поразительное то, что никому из действующих лиц всей этой бесшумной драмы, по жанру и, главное, по атмосфере более близкой кошмарному сновидению, нежели бдящей про себя и о себе жизни, а также никому из ее случайных или неслучайных зрителей даже в голову не придет хоть немного удивиться о происходящем и задуматься о нем, так что для всех вас, получается, ее (то есть вашей бабки по матери) явление в мире было самым обыкновенным событием, – и если представить себе, что каждый житель вашего города хотя бы в той или иной степени похож на вашу бабку по матери – а исключить это до конца никак нельзя – то отсюда и будет прямо вытекать тот дух призрачного, сновидческого, почти потустороннего, хотя и прикидывающегося до последнего реальным, настоящим и воистину существующим, бытия, которое окутывает со дня основания и по сей день ваш чудесный и уютный город, так удобно расположившийся на самой, пожалуй, великой русской реке.
IV. (Вечное возвращение). – Если вам на склоне лет вдруг покажется, что вы родились не в той стране, в какой следовало бы – потому что вы не можете представить себя в ней полноправным и счастливым гражданином – и не в той семье, в которой следовало бы – тоже по причине тонкой дисгармонии, сделавшей невозможным чувство постоянной и взаимной любви между вами и вашими домашними – и если это ваше странное убеждение постепенно станет вашей второй натурой и вы будете себя в нем упрекать – еще бы! ведь получается, что вы в жизни являетесь тем самым знаменитым танцором, которому, как говорится, яйца мешают, но ничего с собой поделать не сможете, – успокойтесь, еще не все потеряно! вам всего лишь следует задуматься над законом великого контраста: ведь согласно этому закону понять столь основополагающие вещи, как соотношение собственной сущности со страной и семьей, в которых она призвана раскрыться, можно лишь пережив их полную противоположность.
А это значит, что вам все-таки удалось, как бы вы это ни скрывали, познать и другую страну и другую семью, – и уже из этой, зеркально отраженной перспективы, вы осознали то, что осознали: но если так, значит, вы все же под конец жизни нашли то, что искали – ведь счастливая находка была бы невозможна без неблагоприятного исходного пункта: то есть, иными словами, для того только вы и родились там, где родились, чтобы переехать туда, где вы сейчас живете более менее покойно и счастливо, и для того только вы имели первый и несчастливый брак, чтобы создать второй и вполне гармоничный, – но тогда следует с тем большей благодарностью отнестись и к городу, где вы увидели свет, и к семье, которая дала вам жизнь, и к первой жене, с которой все было не так, как должно было быть, и даже к вашему ребенку от нее, с которым у вас тоже нет, не было и никогда не будет полного взаимопонимания.
Короче говоря: не для того вы родились на этот свет, чтобы сделаться оплотом чего бы то ни было (в данном случае страны или семьи), а родились вы на этот свет для того, чтобы стать вечным странником по жизни (и даже без религиозного пристанища, которое это странничество идеальным образом оправдывает), – в самом деле, разве можно сделаться истинным странником, родившись там, где надо?
И весь вопрос только в том, обрели вы на склоне лет и при «втором заходе» надежную гавань или это всего лишь очередная временная пристань? потому как, чтобы стать «вполне своим» в любой гавани, в нее нельзя приплыть откуда-то издалека, но в ней нужно родиться, – то есть, иными словами, тень предположения Ницше о «вечном возвращении» ложится на вас, и смутная догадка, что вам отныне всегда будет суждено рождаться не там, где нужно, зато еще при жизни с избытком компенсировать последствия не вполне «удачного» рождения, – она, эта догадка, никогда уже не позволит вам ни слепо надеяться на «природную доброту» матушки-жизни, ни тем более однозначно отчаиваться в ней.
II. Метафизика взгляда
Осенний пейзаж с человеком. – Радости и страдания естественно принадлежат этому миру, как свет и тьма, но если радости по отношению к центру человеческой личности являются своего рода луковицей, слои которой нужно убирать одну за другой, чтобы добраться, наконец, до заветной сердцевины, то страдание, истинное и глубокое страдание, подобно пучку света в темном подвале, мгновенно освещает его потаенное дно, – так что, заглянув нечаянно в глаза воистину страдающего, поймав его обнаженный и стыдящийся своей наготы взгляд, почувствовав в нем вопрос, на который вы не можете дать ответа, осознав собственную толстовскую вину без вины виноватого живого человека перед умирающим, а главное, увидев этого человека не в образе луковицы с бесконечными слоями каких-то вечно сменяющихся мыслей, чувств и настроений, а в его двух абсолютно центральных ролях: вчера еще живого, и нынче, уже умирающего, – да, драматичней этого взгляда ничего нет на свете.
Он напоминает брешь в полусломанном старом доме, когда во дворе лежат кучи щебня и камня, дальние стены еще стоят, но передняя, с улицы, уже проломлена, и в ней видна планировка комнат, однако не прежняя, милая и чарующая, обставленная мебелью и декорациями, как в былые славные дни, а сломанная, безобразная, зияющая пустотой, провалами, пылью и полуразрушенным камнем.
И все-таки символика органической жизни в конечном счете осиливает символику жизни неорганической, математическим доказательством чего является одно и то же из года в год поздней осенью переживаемое сложное и возвышенное ощущение… как его описать? когда фонари между деревьев напоминают старинные лампы с абажурами, когда даже безоблачное небо кажется ближе, чем то же небо в облаках и тучах, но весной или летом, когда стволы деревьев черны от сырости, а листья перед тем, как сморщиться и упасть, обретают удивительную красоту и трогательность и падение одинокого листа, кажется, слышно в соседней улице, – да, в такие волшебные вечера пейзаж с деревьями вдоль дороги и фонарем посередине напоминает декорацию камина, – и вся природа, а с нею и весь мир в первый и в последний раз в году становятся интимными, домашними, – и, конечно, можно было бы сказать, что страдать и умирать в это время гораздо лучше и легче, чем в другие месяцы, точно так же, как страдать и умирать лучше и легче дома, чем в больнице, – но ведь это само собой разумеется.
А вот сравнение себя с деревом – в том смысле, что дерево, очевидно, не чувствует боли, когда теряет листья, и даже не испытывает трагедию, если ему отрезают ветви, – так почему же мы так страдаем и переживаем за болезнь отдельного органа, хотя без сожаления расстаемся с собственными ногтями и волосами? – оно, это сравнение, после внимательного созерцания осеннего ландшафта раз и навсегда входит в наше сознание, укрепляется в нем и растет дальше подобно юным побегам: но куда же? в каком направлении? очевидно, в том единственном и достойном звания человека, которое заключается в признании существования в жизни человека – явной, но еще более тайной – некоего ствола, который никоим образом не идентичен с человеческим телом и даже с его мыслями, чувствами намерениями, и потому когда эти последние, то есть все телесное и все душевное, под воздействием времени начнут сморщиваться и осыпаться, подобно осенним листьям, для самого по себе ствола это не имеет абсолютно никакого значения, – и более того, этот естественный процесс является как раз самым надежным залогом будущего предстоящего неизбежного тотального обновления.
В самом деле, подобно тому как только конкретные выражения тех или иных неприятных черт характера человека в поступках и словах оказывают на нас решающее эмоциональное воздействие, тогда как сами черты характера, будучи первопричиной этих слов и поступков, не вызывают нашего прямого отторжения и мы их с шекспировской широтой взгляда на жизнь принимаем и даже вполне оправдываем, то есть когда нам говорят, что тот или иной человек скуп, ревнив, завистлив или злобен, мы понимающе киваем головой, и лишь когда нам вплотную приходится сталкиваться с красочными проявлениями скупости, ревности, зависти или злобы, мы с отвращением отворачиваемся, – так точно с некоторым гербарийным пристальным любопытством склонны мы засматриваться на высохшие и мертвые ветви и сучья еще живого растения, но уже высохшие и мертвые листья на тех же ветвях и сучьях вызывают в нас некоторое тонкое и необъяснимое раздражение, и мы инстинктивно тянемся оборвать их, – чтобы продолжать как ни в чем ни бывало любоваться профильной оголенностью умерших веток без листьев, – быть может, последняя чем-то напоминает рассказ о человеке вместо самого человека и потому только нам особенно близка.
Вот почему и взгляды беспощадно страдающих людей становятся предельно выразительными не тогда, когда они страшно и пронзительно кричат о своем страдании, а тогда, когда они (люди), напротив, делают все от них зависящее, чтобы показать, что они о нем (страдании) забыли и даже пытаются жить, точно его с ними нет, – и вот эта полная непричастность страданию, причем мнимая или искренняя, совершенно неважно, если она правдоподобно сыграна, точь-в-точь как у животных способна умилить до слез.
Что нас особенно трогает. – Все-таки что там ни говори, а только в глазах человека, который всю жизнь свою прожил без поддержки какой-либо религии, а теперь умирает, по-прежнему полагаясь на одну только жизнь, то есть отдаваясь полной и абсолютной неизвестности, без уверенности достичь какого-либо берега – безразлично, какого – всей ослабевшей психикой настраиваясь на прыжок в Неведомое, в чем бы Оно для него ни заключалось, – да, только в глазах такого человека вы увидите иногда отсвет той невероятной трогательности, которую вы редко встретите на лице истинно верующего человека, зато почти всегда узрите во взгляде умирающего животного.
И причина этой умиляющей трогательности заключается в том, что жизнь, хотя и хлещет нас страданиями немилосердно, странным образом не унижает нас, тогда как в панацеях мировых религий, обещающих нам спасение от страданий и от самой смерти, есть некое субтильное унижение, которое довольно трудно выразить, но которое все-таки всеми нами отчетливо ощущается, – вот всего лишь из естественного отсутствия такого унижения и происходит вышеописанная трогательность.
Подобная трогательность сквозит иногда в лицах стареющих женских знаменитостей, когда они, сняв грим, хотя и шокированы истиной неприукрашенного лица, все-таки предпочитают открыть ее (истину) себе и людям, нежели скрывать ее под фальшивой маской.
В защиту скромности. – Не правда ли: любой слишком нескромный взгляд в нашу сторону не потому в первую очередь вызывает у нас мгновенный и инстинктивный отпор, что как бы вскрывает нашу душевную наготу и в нее болезненно впивается, подобно иным злобным насекомым – хотя и это тоже – а потому, что претендует подсмотреть поистине самое главное в нас, то есть как бы наше существо и нашу душу: но ведь это невозможно даже для нас самих, не говоря уже о посторонних?
И вот это категорическое несогласие с выносимым нам на глазах приговором, в чем бы последний ни заключался, как раз и выражается нашей аллергической реакции на любой слишком нескромный взгляд в нашу сторону, тогда как забота об интимной душевной гигиене идет уже потом, – итак, сначала духовное, а за ним уже физиологическое, но никак не наоборот: соблюдение иерархии от Высшего к Низшему превыше всего.
Клятва верности. – Для того, чтобы оставаться верным себе, нужно помнить основное выражение своего лица и по возможности придерживаться его, – но что такое «основное выражение лица»? как его определить? от чего оно зависит и какие мускулы в нем задействованы? ведь анализировать линию губ, разрез ротовых складок, расширение ноздрей и угол бровей есть все-таки мелочное по большому счету занятие, – все дело, значит, в выражении глаз, оно и оформляет пластику лица.
Обращает на себя внимание: встречаясь с людьми, которых мы не видели долгие годы, перелистывая по случаю любезно предоставленные нам чужие семейные альбомы, где заботливо собраны фотографии всех возрастов, а главное, вспоминая себя самих в младенчестве, мы наталкиваемся на одну и ту же закономерность, а именно: если взгляд человека в позднем возрасте напоминает его же собственные ранние фотографии, то это всегда и без исключения тот самый взгляд, в котором отражены самые существенные черты его характера, если не сказать, души, – и вот с таким человеком обычно можно иметь дело; плохо, когда человек изменился настолько, что в нем уже нельзя найти его прежнего и характерного.
Казалось бы, мы для того и приходим в этот мир, чтобы развиваться, и чем круче и дальше кривая нашего развития, тем лучше для душевной эволюции, однако на деле оказывается как раз наоборот: чем идентичней выражение глаз у младенца и сорокалетнего человека, тем чище, достойней и, между прочим, симпатичней представляется нам этот последний, а когда о человеке в возрасте говорят: «ты совершенно не изменился», то это и вовсе следует понимать как комплимент в редчайшем умении пронести хрупкое и волшебное зерно детства сквозь невзгоды лет и прозу созревания.
Вот почему для того, чтобы понять себя, мы обращаемся к своему детству: река жизни течет от истока к устью и мы, подчиняясь космическому закону возраста, от рождения двигаемся к смерти, но наше взрослеющее и набирающее с каждым годом мудрости сознание, подобно форели в горном ручье, тихо плывет в обратном направлении: от будущего в прошлое и от зрелости к детству, – там и только там, в лучезарном и поистине кажущемся нам безначальном детстве спрятаны ключи от нашей судьбы, и записаны, подобно школьным шпаргалкам, ответы на те вопросы к жизни, которые мы будем ей задавать по мере осуществления нашей биографии.
Мы спрашиваем себя, почему так, а не иначе сложилось наше отношение к женщинам, а ответ лежит в нашем самом раннем и часто бессознательном восприятии девочек; мы спрашиваем себя, отчего у нас такая склонность к компромиссам, вплоть до досадной трещины на фасаде собственного достоинства, а ответ заключается в некоторой трусоватости, когда мы еще в семилетнем возрасте избегали драк «один на один», предпочитая искать союза с сильными ребятами; мы спрашиваем себя, отчего мы стали или не стали религиозными людьми, а ответ состоит в том самом первом впечатлении, который на нас произвел храм Божий и в особенности служба в нем, – и так далее и тому подобное.
Как правило, наши возможности обозримы уже в детстве и из них, как ясень из семени ясеня, произрастает древо жизни любого человека; просто естественное состояние ребенка – это некоторая отрешенность от повседневности, в которой живут его родители, а он, ребенок, как будто только участвует, – ребенок лишь одной стороной живет в повседневной жизни, а другой своей стороной – в том волшебном или полуволшебном мире, которое создает его неопытный ум и свободное пока еще от пут обыденности воображение.
Конечно, чем меньше развито воображение ребенка, и чем больше у него склонность к практической жизни, тем недоступней для него волшебные переживания, но все-таки, думается, какой-то минимум взгляда на жизнь как на некую тайну свойственен любому малышу, и кто знает, быть может полное отсутствие названной перспективы в младенческом возрасте как раз и есть основная причина самого непонятного людям поступка: самоубийства, – также и самоубийство случается обычно в позднем возрасте, но корни его лежат тоже в детстве. Вспомним толстовского Сережу Каренина, глаза которого светились чудесным смехом, даже когда он сам старался казаться серьезным, – это нормальное состояние ребенка, но вспомним также и обратное соотношение глаз и лица: глаза Печорина не смеялись, когда сам он был вполне весел; ясно, что таков же и портрет Лермонтова, и трудно себе представить, чтобы в детстве наш великий поэт был иным; нет, также и в возрасте Сережи Каренина Миша Лермонтов был как его будущий Печорин: с вечно несмеющимися глазами, – но с несмеющимися даже в детстве глазами в мир приходит либо демон, либо прирожденный самоубийца, – вот Лермонтов и был как раз тем и другим одновременно.
Итак, по этой самой чудесной зачарованности «непонятно чем» мы и отличаем детей от взрослых, и она всегда отражается в первую очередь во взгляде ребенка, – так что если человек сумел хотя бы йоту ее пронести сквозь жизнь, мы сразу узнаем его на фотографиях, отделенных десятилетиями, но при условии, что на них запечатлено основное выражение его лица.
Если же основное выражение не схвачено фотографом или если ребенок сызмальства был чужд волшебной струи и развивался исключительно по линии практических интересов, – вот тогда его узнать на фотографиях разных лет действительно очень трудно: но в той же мере затруднительно решить, кто же он все-таки такой с фантастической, парадоксальной, но в конечном счете единственно верной перспективы «замысла Божьего о нем».
Есть ли у души глаза? – Фантазируя о чертах лица и пропорциях тела, мы склонны изменять их мысленно в свою пользу: увеличивать рост, сбавлять объем живота, утончать форму носа, поднимать лоб и опускать подбородок, вообще выправлять явно выраженные аномалии, но при этом нам не приходит в голову, что с каждым таким изменениям может непредсказуемым образом измениться наша личность: нам все кажется, что это произойдет только тогда, когда мы посягнем на автономию глаз, – и потому в наших фантазиях об иных и предпочтительных физических пропорциях мы инстинктивно никогда не касаемся наших глаз.
И наверное мы правы.
В самом деле, из всех частей тела и черт лица глаза и источаемый ими взгляд обладают максимальной степенью неопределенности и незаконченности, иными словами, какое бы выражение в них ни доминировало, не только невозможно проследить его до конца и запечатлеть в словах, но найдется всегда еще множество побочных оттенков этого взгляда, каждый из которых при изменении обстоятельств и настроения души способен сделаться на время доминантным, – и вся оптическая магия человеческого взгляда на протяжении жизни поистине столь же многообразна, как любой ландшафт, меняющийся поминутно в зависимости от солнечной интенсивности, облачной среды, времени года и суток.
Но незаконченность как важнейшее бытийственное измерение отличает не только взгляд, но и феномен искусства, да и само мироздание в целом: правильно задуманные, но незавершенные роман, драма или эпопея весят на весах искусства гораздо больше, чем с блеском отделанные мелкие вещицы.
«Замысел "Ада" Данте, – как глубокомысленно подметил Пушкин, – есть уже плод великого гения», и если бы от «Божественной Комедии», «Фауста», «Илиады», «Войны и мира», «Гамлета», «Братьев Карамазовых», «Обломова», «Процесса», «Мастера и Маргариты» и прочих им подобных гигантов остались не просто уцелевшие куски, но даже всего лишь внятные наброски, мы бы и тогда относились к ним с тем особенным духовным пиететом, который мы никак не можем натянуть по отношению к мелким вещам, сколь бы безукоризненны в чисто художественном плане они ни были.
Точно так же когда мы смотрим в ночное небо и видим мерцающие звезды на расстоянии световых лет, быть может давно угасшие, а свет от них пока еще в пути, когда при этом мы невольно задумываемся о Творце мира, заранее догадываясь, что найти его будет не так-то просто, – разве тогда нам не припоминается вышеприведенное высказывание Пушкина о Данте: замысел мироздания уже есть плод чьего-то гения? и разве этот замысел в нашем восприятии не остается всегда именно незаконченным: во-первых, потому, что само мироздание в непрестанном саморазвитии, а во-вторых по причине нашей принципиальной невозможности постичь мироздание во всей его целостности?
Правда, когда от храма Аполлона остается пара колонн – это, конечно, маловато, но когда в том же храме недостает лишь пары колонн, его магия от этого только выигрывает, по крайней мере для нас, дальних потомков эллинов, а пожалуй и всего лишь их благодарных зрителей, – также и здесь искусство является самой точной моделью мироздания, а кроме того, что еще важней, также и моделью нашего первичного и глубинного его восприятия, и в этом смысле допустимо предположить, что если и есть в человеческом теле орган, который более других отражает или, лучше сказать, выражает образ души, в существовании которой нам вместо веры так бы хотелось иметь полную уверенность, то это конечно глаза и их взгляд.
И вот они-то снова и снова намекают на объективное существование души, но никогда не предоставляют нам полной в том уверенности: душа в нашем интуитивном постижении всегда и при любых обстоятельствах остается незаконченной и неопределенной.
Обращает на себя внимание: тело ощутимо подвержено изменениям времени, в том числе и обрамление глаз – веки, ресницы, окружные морщины и впадины, однако сам взгляд старению почти недоступен, основное выражение его, правда, существенно меняется с возрастом, но это именно не старение, а возрастное изменение, так что у старцев с развитым сознанием взгляд и по шкале витальности не уступит взглядам молодых людей: мудрость здесь вполне уравновешивает юношескую энергию.
Вот почему тело рано или поздно обращается в прах и смешивается с землей, а глаза просто раз и навсегда закрываются и их взгляд уходит в действительность, которую мы называем гипотетической, то есть такую, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть: но не в такую ли гипотетическую действительность уходит и наша душа? а точнее, не в ней ли она изначально пребывает?
Ведь наша жизнь обращается рано или поздно в прошедшее время, уподобляясь вороху сухих листьев осенью, тогда как наше ментальное тело, оставляя минувшую жизнь, устремляется в астрал, а оттуда в следующее будущее, которое тоже обратится когда-нибудь в прошлое и стало быть ворох сухих листьев; у нас всегда, таким образом, есть прошлое, которое недвусмысленно указывает на тщетность любого существования, но у нас всегда же есть и будущее, которое неизбежно толкает нас к новой жизни.
Нельзя тем самым понять ни себя ни жизнь, отталкиваясь только от прошлого, но еще меньше можно понять себя и жизнь, настраиваясь на одно только будущее, они повторяются, сменяя друг друга, и так было, есть и будет вечно.
Как можно преодолеть ощущение торжественного покоя прошлого? но еще больше бессмертную тоску будущего и непреодолимую к нему тяготу? для этого надобна недюжинная и постоянная внутренняя работа, нужно неустанно держать перед умственным взором неминуемый финал жизни – болезни, старость и смерть, нужно постоянно видеть и переживать жизнь как ворох сухих листьев, нужно загадывать и дальше: как последующая и послеследующая и сотая и тысячная жизнь кончатся болезнью, старостью и смертью, – и миллионная по счету жизнь превратится в ворох сухих листьев, нужно задействовать все силы фантазии, нужно представлять, как мы обретем статус какого-нибудь светоносного существа, которое способно будет преодолеть пространство и время, – но и тогда астральные болезни и астральная старость не прекратят подтачивать наш светоносный образ.
Иными словами, чтобы обрести полную независимость от времени, надобно восстановить в душе неизменяемое сознание, как будто все явления, возможные во времени – читай земной жизни – пережиты до конца, то есть до той метафизически предельной душевной сытости, когда желание заново испытать их в какой-либо вариации полностью и необратимо отсутствует, иначе говоря, вырвано из души с корнем, – и вся беда здесь только в том, что, по всей видимости, такое психологическое состояние, поистине самое религиозное из всех возможных, реально недостижимо, к нему можно только приближаться, им можно восхищаться, о нем можно мечтать, но воплотить его в собственной жизни вряд ли возможно.
Впрочем, это как будто удалось Будде и многим его последователям, но и тут доказательств нет никаких и, точно так же, как в христианстве, вера подводит подо всем жирную финальную черту.
А до тех пор в любом разочаровании скрыты семена надежды и радости, разочаровавшая женщина толкает нас в объятия другой женщины, за болезнью следует выздоровление, а если даже болезнь заканчивается смертью, то разве не от смерти ожидается самое радикальное обновление? и пусть прожитая жизнь обратилась в ворох сухих листьев, под спудом уже зачинаются клейкие ростки.
Итак, что же первичней: молодая зелень, обращающаяся по осени в сухой мертвый ворох? или этот ворох, обусловливающий по весне новую зелень? на все можно смотреть как на обреченное когда-то закончиться: черепом и костями, но на все можно смотреть и как на обреченное когда-то снова начаться: нежной клейкой зеленью и улыбкой младенца.
Обе точки зрения одинаково правы, и если бы Будда указал нам только на кучу опавших листьев как итог и символ жизни, он не далеко ушел бы от умнейших Лермонтова и Шопенгауэра, но Будда предлагает нам нечто большее: он предлагает нам – оставаясь в пределах образов природы – перестать быть деревом, вечно сбрасывающим осенью и надевающим весной листву, и стать небом, раскрывающим свою безбрежную, бездонную и особенно поразительную по красоте синеву именно весной и осенью, на фоне еще не одетых или уже разодетых деревьев.
Небо – универсальный символ буддийской ниббаны и у него тоже есть своя психология, как есть она и у дерева, но элементарная интуиция подсказывает нам, что, хотя дерево по-своему абсолютно совершенно, небо все-таки выше и значительней его, а главное, как-то больше соответствует природе и назначению человека: без дерева прожить можно, но трудно, без неба прожить никак нельзя.
Метафизике и психологии неба соответствует и основная музыкальная тональность нашей жизни, ибо поскольку первоосновы бытия не существует, так как любая первооснова пребывает в комлементарном созвучии со своей противоположностью, то и для человеческого восприятия ясная лазурь и ночное звездное небо выступают не только символами бытийственной первоосновы, но и ее адекватными выражениями, так что любой феномен, увиденный, помысленный или пережитый на фоне самого светлого или самого темного неба, начинает поистине звучать, и более того, приобретает сразу наиболее выразительное звучание.
Плющ на фоне лазури, античная колонна, обвитая плющом, на фоне лазури, католический ангел или надгробный памятник на фоне лазури, – все это смысловые музыкальные аккорды по возрастающей, апогейный же изгиб эта, быть может, самая главная тональность нашей жизни достигает, когда вся прожитая жизнь представляется на фоне лазури, и тогда о ней можно сказать следующими стихами. —
Слышишь, мой друг, как пред дальней дорогой сердце волнуется близкой тревогой? ясна лазурь и опор лишена, станет нам пристанью только она: в ней все, что было и вечно пребудет, может быть, будет, а может, не будет, в ней суждено нам и вечно пребыть: может быть, быть, а быть может, не быть.Вот аналогом лазури в человеческом теле как раз и являются глаза, а то обстоятельство, что, как сказано было в самом начале, из всех частей тела и черт лица глаза и источаемый ими взгляд обладают максимальной степенью неопределенности и незаконченности, только подчеркивает целомудренность ее природы: как будто наша душа, не желая, чтобы ее увидели с улицы, задвинула в окне занавески.
Классики не ошибаются. – У нашего Пушкина есть любопытная фраза: «У души нет глаз», она настраивает на весьма своеобразный лад, для сравнения – портрет слепого из лермонтовской «Тамани». – «Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельма подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям…»
В самом деле, «что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?», однако Лермонтов прочитал, его слепой и без глаз поразительно зрим и почти зряч, тогда как пушкинские персонажи и с глазами производят безглазое впечатление, а между тем люди не сговариваясь как будто условились в том, что если и есть в человеке душа, то выражается она только в глазах: недаром, чтобы постичь самую суть человека, мы смотрим ему в глаза и все животные, чтобы узнать и познать нас – насколько им это дано – тоже смотрят нам в глаза.
И лишь Пушкин выразился в обратном направлении, почему? такова была его стилистическая манера: чрезмерная энергийная заряженность не позволяла увидеть портрет в детали, как не позволяет сверхсильное эмоциональное волнение остановиться взглядом на многих подробностях сразу, зато Пушкин умел создавать лик вещи в энергийном облаке, лик вместо лица, здесь до иконописи один шаг, – поэтому стилистически Пушкин православен как никакой другой художник, а психологически далек от православия тоже как никакой другой: еще одна, между прочим, антиномия, которая может послужить эпиграфом к нашей исконной культурной и исторической загадочности.
При чтении Пушкин производит сильнейшее впечатление, но едва томик отставлен в сторону, впечатление от него убывает, точно туман рассеивается на глазах или как будто у волшебника Карла срезали бороду, а все потому, что у «нормальных» писателей описываемые миры пахнут, как живые вещи и оттого запоминаются, тогда как Пушкин подобен гениальному парфюмеру из романа Патрика Зюскинда, который мог улавливать все запахи мира, а сам не имел ни одного, – пушкинский художественный космос как бы приподнят над землей и изъята из под него его плотская, пахнущая субстанция.
Вещицы Пушкина – энергийные сгустки, пластически очерченные до внятности телесных форм, они световоздушны, а их субстанция суть заряженный субтильной энергией воздух, причем световая моделировка идет от содержания, сокровенный же фон образов черно-белый, графический, пушкинское творчество голографично по духу, и оттого является величиной переменной, – Пушкин может казаться одним (подавляющему большинству русских) самым гениальным художником, а другим (почти всему миру в переводах, но и в оригинале великолепному Синявскому) тем самым королем, который почему-то оказался голым, и обе стороны будут по-своему правы.
В то время как у писателей-реалистов на описываемых мирах можно ходить и плясать, у Пушкина за строкой вообще ничего не стоит, опереться на него нельзя, не ровен час – упадешь, потому что все «стоящее за строкой» Пушкин вобрал в строку и тем самым начисто упразднил задний план, его фон точно гигантским волшебным шприцем оказался втянут в план передний, вплоть до полного их отождествления, пушкинские образы, употребляя термин А. Ф. Лосева, эйдосны: пусть это не идеи Платона, но эйдосные персоналистические сгустки, – как бы некая «золотая середина» между платоновскими идеями и поздним реалистическим портретом.
Образы Пушкина духоносны и духовидны, естественно поэтому, что «обыкновенным» наблюдением, «обыкновенным» мышлением и «обыкновенным» творческим процессом их не создашь, а только вдохновением – почти на грани того, что русская церковь и русские святые называли «веянием Духа Святого», то же очевидное обстоятельство, что Пушкин с его помощью вызывал к жизни любые образы – в том числе и откровенно демонические – опять-таки подытоживает, как равно и предвосхищает русский сюжет: ну как, в самом деле, «божественной любви и милосердию» не встретиться здесь лоб в лоб с «демонической ненавистью и братоубийством»? этот сюжет уже присутствует в зерне в Евангелиях, его воплотит в жизнь католическая церковь, его будет смаковать Достоевский, и его утвердит в апокалиптическом масштабе русская революция.
Итак, есть ли душа, и если есть, то есть ли у нее глаза? рассуждаю так: мы все в жизни играем роли и кроме этого по сути ничего не делаем и делать не можем, и все-таки, как бы безукоризненно ни сыграл человек свою роль и как бы ни был он непредставим помимо ее, витает над ним некий неразложимый ни на какие составные остаток его существования, и заключается он в смутном, но очевидном для всех предположении, что возможна была альтернатива, была возможна какая-то иная роль, какая именно – мы никогда об этом не узнаем, и рассуждать о ней – самая праздная на свете вещь, просто была возможна альтернатива, и все, – так подсказывает нам интуиция.
А если так, то существует, просто должно существовать и некое метафизическое человеческое лицо, которое играет предназначенные ему роли, что это за лицо – мы тоже никогда не узнаем, и рассуждать о нем тоже есть самая праздная вещь на свете, просто оно, это наше метафизическое лицо, возможно, и все, – так подсказывает нам наша интуиция.
И вот это самое метафизическое наше лицо, играющее наши жизненные роли, и есть наша душа, точнее, поскольку это лицо, строго говоря, только могло бы быть, могла бы быть и наша душа: душа пребывает, таким образом, всегда в гипотетическом измерении, поэтому ее никогда не могли обнаружить, но так как вероятность есть всего лишь особая и пограничная форма реальности, то о ней говорят и думают как о чем-то вполне реальном, просто при этом забывают любое высказывание о душе поставить в сослагательное наклонение.
Пушкин же об этом никогда не забывал и потому догадался, что у души нет глаз, – вот почему, музыкально откликаясь на эту благую пушкинскую весть, мы склонны, читая его, непрестанно делать паузы, я не знаю другого писателя или поэта, при чтении которого так неудержимо тянет отложить книгу в сторону – и погрузиться в «беспредметную задумчивость» или это лишь моя личная склонность и к Пушкину не имеет никакого отношения? не знаю, но только заметил я за собой, что в паузе от чтения вообще и Пушкина в частности как-то сразу и насквозь постигаются все основные вопросы жизни: в том смысле, что раз и навсегда вдруг понимаешь, что любое серьезное и глубокое размышление ни к чему, собственно, не ведет и вести не может, а закономерно оканчивается метафизическим тупиком, то же размышление, которое приводит к каким-то окончательным и однозначным выводам, просто недостаточно серьезно и глубоко, однако само по себе размышление, если оно идет от глубин сердца, драгоценно, ценить его, любить и по возможности практиковать – также и этому учит нас Пушкин.
Бурный, мятежный, противоречивый, зачастую циничный и местами развратный, он, как известно, в процессе писательства преображался, становясь поистине благородным и просветленным, – и вот читая его мы идем как бы по его стопам, и если на его челе – мы это знаем доподлинно – покоилась в творческие часы печать особой духовной красоты, то смутный оттиск этой печати мы с удивлением обнаружим и на наших лицах, если взглянем на себя в этот момент в зеркало.
Право, мы ни о чем вроде бы не думаем – а в глазах столько глубокого и самодостаточного размышления, словно мы решаем главные проблемы бытия, и далее, в той же плоскости, – мы не совершили никаких прекрасных поступков, не прославились актами милосердия и самопожертвования, а между тем совесть наша спокойна и чаша жизненного опыта полна, точно мы прожили десять жизней, – и нет в этой чаше ни сладкой приторности, ни ядовитой горечи, а есть лишь один тонкий, уравновешенный, напоминающий по вкусу березовый сок, нектар бытия.
Наверное, это великий грех – находить в иллюзии жизни едва ли не большую отраду, чем в самой жизни, но что тогда сказать о тех, кто саму жизнь назвали великой иллюзией? и как знать, быть может только пребывая в вымышленных мирах, мы впервые по-настоящему у себя дома, потому что сама наша жизнь подобна книге, которую мы пишем и читаем одновременно и, быть может, вся задача искусства только к тому и сводится, чтобы научить нас, наконец, этому поначалу необычному (потому что бесполезному) и субтильному, но по сути совершенно точному и единственно верному взгляду на себя и свою жизнь, когда же мы это поняли, потребность в буквальном и кропотливом восприятии искусства отпадает.
И тогда достаточно взять книгу в руки, перечитать пару страниц, а то и вовсе лишь пару строк или только задуматься, отложив книгу в сторону, и задуматься даже не о содержании книги, а о чем-то другом, о своем и близком, или о чужом и дальнем, неважно, просто задуматься, без какого-либо содержания, смысла и цели: великая эта, если присмотреться, задумчивость, – так читал и задумывался Пушкин.
В самом деле, если когда-нибудь, спустя сотню или тысяч лет, мы сумели бы чудом восстановить в сознании эту нашу теперешнюю жизнь, она, быть может, тотчас и вызвала бы в нас эту самую великую и беспредметную задумчивость, ибо ничего другого и никаких иных чувств она просто вызвать не может: в самом деле, жизнь была нам дана как самый таинственный и драгоценный дар, и вот этот дар исчез бесследно и необратимо, как будто его и не было, как это осмыслить? можно ли это осмыслить? а если нельзя, так что лучше вовсе об этом не думать.
И вот подготавливаясь заранее к этому великому и последнему подведению итогов, мы инстинктивно все чаще и чаще во второй половине жизни отвлекаемся от чтения и вообще любого восприятия искусства – спасаясь в паузу: поистине, если она нам не поможет, то уже ничто не поможет, но она помогает и только она одна, и когда мы в паузе целиком и полностью, нам кажется, что мы куда-то смотрим, ничего не видя.
На самом же деле мы все видим, никуда не смотря, – так смотрит по Пушкину наша душа, у которой нет глаз.
Точно ли человек произошел от обезьяны? – Вопреки мнению Пушкина, что у души нет глаз, мы по-прежнему убеждены, что если и есть в человеке душа, то выражается она во взгляде, в чем же еще? мы постоянно смотрим друг другу в глаза – как будто стремимся заглянуть в самую душу, – и хотя знаем заранее, что взгляд слишком подвластен сиюминутным настроениям, что он вполне зависит от ситуации, что не может быть в нем больше, чем просто соотношения черт характера и ситуации, мы все-таки, хотим того или не хотим, пытаемся в нем увидеть саму душу или ее синонимы, каковы самость, внутреннее Я и т. п.
Действительно, все самые важные решения жизни один человек сообщает другому глядя в глаза, и если он отводит взгляд, значит что-то не так, немыслимо, например, чтобы мужчина, признаваясь женщине в любви, смотрел в сторону, и точно так же плохи его дела, если женщина отвечает ему отводя глаза.
С другой стороны, если один из любовников все-таки находит в себе силы, глядя прямо в глаза, сказать, что любовь закончена, отношение между ними, перестав быть любовным, может сохранить на всю жизнь своеобразную чистоту, ровность и прочность, – и хотя ни забыть, ни простить отказа в любви невозможно – так уж устроена человеческая природа – тем не менее между партнерами остается несокрушимое уважение и даже полное взаимное доверие, да, как это ни странно: несмотря на то, что один человек причинил другому самую острую экзистенциальную боль, именно на него, причину и источник боли, можно в трудную минуту положиться, – пусть до этого на практике никогда и не дойдет.
Вообще любая глубокая эротика начинается со взгляда и взглядом же заканчивается, только половое влечение, идущее от глаз, есть самое чистое и длительное, но то же самое влечение, вызванное исключительно телом, грубо, недолговечно и напрямую соседствует с порнографией, – а китайские эзотерики даже рекомендуют испытывать оргазм, глядя друг другу в глаза, что, правда, чертовски трудно и неестественно, но способно и в самом деле, как подсказывает интуиция, повести к каким-то важным и далеко идущим душевным трансформациям.
Даже ненависть, струящаяся из глаз в глаза, не так страшна и опасна, как та же ненависть, расправляющая змеиные кольца в спину и помимо прямого зрительного контакта: да и все положительные чувства, сопровождаемые взаимным взглядом, усиливаются, тогда как чувства противоположные и отрицательные, выраженные в искреннем взгляде, ослабляются, – они ослабляются потому, что, будучи темными и скрытными по своей природе, инстинктивно избегают открытого взгляда, как избегают света вампиры.
Каждый по опыту знает, как трудно лгать, глядя в глаза, и столь же нелегко зрительным контактом выражать симпатию, если человека терпеть не можешь, когда связь между людьми глубокая, то при внимательном и беспричинном взгляде друг на друга они испытывают некоторую приятную неловкость, которая обычно сопровождается вопросом: «Что-нибудь не так?» – именно такие взгляды запоминаются на всю жизнь, – и кажется иной раз, что подобный немой диалог глазами, пройдя через всю жизнь даже подзабывших его участников, не остановится перед самой смертью и, сорвав ее печати, посетит своих (уже) астральных хозяев, заново, вызвав в них то вечное и поистине великое Недоумение с большой буквы, которое равным образом характерно как для земной, так и для неземной жизни.
Да, безусловно были, есть и будут люди, которые не только не скрывают своего бешенства и злобы, но прямо-таки не стесняясь стараются показать их во взгляде, – что же, можно только повторить: во-первых, любые эмоции, даже самые отрицательные, выражаясь в глазах, приобретают законченное выражение, а во-вторых, они неизбежно – и именно при данных условиях – истощаются, причем одно, если присмотреться, не противоречит другому: если боль, злоба, ревность, откровенная недоброжелательность, зависть, ненависть и прочие эмоции с отрицательным знаком настолько сильны в человеке, что он не стесняется выражать их в прямом и открытом взгляде, значит тому и быть, значит, чувства эти неслучайны и принадлежат к его характеру, а быть может и его судьбе, – и тем самым они должны быть так или иначе выражены и изжиты, потому как выше и значительней кармической драмы в этом мире ничего нет.
Также и здесь великий Шекспир (или тот, кто творил под его именем) показывает нам путь: его Макбет, коварным убийством короля сжегший все мосты и потерявший место под солнцем, не способный – в отличие от Раскольникова – покаяться, вынужден идти до конца: от злодейства к злодейству, пока не будет убит сам, – и тем не менее мы почти против воли уважаем его больше, чем Раскольникова, почему? может быть потому, что догадываемся интуитивно, что Макбет, даже будучи нераскаянным и нераскаявшимся убийцей, не отводил взгляда, как отводил его Раскольников, поистине шекспировский герой предпочел людскому суду суд божий – или, точнее, провидения, – а на это способны немногие.
Зло, очевидно, было, есть и будет, иные считают его тенью добра: в том смысле, что злые дела, чувства и мысли долго не могут удерживаться в душе по причине вторичной и раздробленной своей природы и потому рассыпаются со временем прахом, это отчасти верно, но бывает, увы! и наоборот: когда люди, подлаживаясь под других, пытаются делать что-то привычное и хорошее, но скоро осознают, что созревает в их нутре совсем иное и темное зерно, и что развить это зерно в чудовищный плевел есть их прямое и страшное призвание, – имя таких людей у всех на устах.
И то обстоятельство, что у таких людей есть литературные прообразы – как бы их вневременные родители, покровители и боги – показывает, что в моральном срезе проблема добра и зла не решается, зато она вполне удовлетворительно решается в эстетическом плане, доказательством чего является практически все западное искусство, – у него и ищите ответа, но бывает, что за ответом ходить далеко не надо и сама повседневная западная жизнь наставляет вас на путь истинный.
Например, если вы встретите человека, совершившего неблаговидный поступок, а то и злодейство, и он не только не отведет взгляда, но станет смотреть на вас прямо и без стеснения, и не будет в его взгляде никаких угрызений совести, более того, если он сам начнет спрашивать вас глазами, с какой стати вы уставились на него так дерзко и неприлично и чего вы от него хотите и, не получая ответа, уже слегка станет морщиться от вашей недопустимой назойливости, главное же, если вы будете читать в его глазах полную уверенность в собственной правоте и ничего не сумеете против нее возразить, кроме как приоткрыть от удивления рот и слегка выпучить глаза, – да, вот тогда, пожалуй, вы усомнитесь в тех казавшихся вам незыблемыми законах, что, во-первых, душа выражается во взгляде, что, во-вторых, она вообще есть и что, в-третьих, существуют в действительности вечные понятия добра и зла.
Подобные духовные опыты можно делать на каждом шагу на Западе и редко в России: но что из этого вытекает? прежде всего то, что происхождение человека из обезьяны, в котором склонен в глубине души сомневаться русский человек и в котором втайне не сомневается человек западный, не только не заключает в себе ничего для нас постыдного и унизительного, но делает нас поистине возвышенными живыми существами, хотя, с другой стороны, иные наши качества вызывают по закону контраста сильнейшую аллергическую реакцию, – не такова ли матрица наших многовековых отношений с Западом?
Страх перед куклой. – Карлики и малые дети начинают внушать подлинный ужас, когда они способны совершить зло, во-первых, не имеющее видимой причины, а во-вторых, далеко превосходящее границы обычного человеческого воображения.
Карлики – это особый вопрос, но дети суть существа, по самому своему природному определению неспособные накопить жизненный опыт, достаточный для хладнокровного убийства, каузальность в детских злодеяниях полностью отсутствует, – и потому если оно все-таки имеет место, то кажется нам поистине сатанинским, феномен хоррора входит в мир, но любопытно, что последний характерен только для западной и преимущественно англо-саксонской цивилизации, а наша русская культура – за исключением одного-единственного Гоголя – понятия о нем не имеет, напротив, дьявольский ребенок и даже кукла как ребенок в ребенке суть запатентованные герои западных хоррор-фильмов, причем на высочайшем качественном уровне, а удавшееся качество, как известно, всегда свидетельствует о несомненной экзистенциальности изображенного феномена.
У нас же, русских, злое дите дальше хулигана и бандита не пошел, стало быть подлинным хоррором у нас и не пахнет, да и на практике я ни в западных, ни в российских детях подлинного хоррор-зерна никогда не примечал, есть ли они вообще на житейском уровне? может быть и нет вовсе, – откуда же тогда возникли хоррор-ребенок и хоррор-кукла в западной литературе и кинематографии?
Я думаю, что они возникли из глубочайшей проблематичности существования души у западного человека; приглядитесь к лицам русского и западного человека: когда смотришь очень внимательно в глаза русскому человеку, то как бы он ни хитрил, как бы ни вилял и как бы ни отводил взгляд, остается твердое ощущение, что, идя по этому взгляду, как по извилистому пути, вовнутрь иглы, рано или поздно придешь к его душе, в чем бы она ни заключалась; когда же смотришь в глаза западному человеку, то как бы искренне он ни смотрел на вас при этом, ощущение существования души, стоящей за его взглядом, не то что бы упраздняется за ненадобностью, но остается под громадным вопросом.
И нельзя никоим образом сказать, недостаток это или достоинство, потому что вместо души открывается какая-то великая безграничная одухотворенная Пустота, которая любые наши возвышенные и прекрасные представления о душе с избытком компенсирует, – правда, из такой Пустоты может в виде исключения вытекать и хоррор; это не значит, что он на самом деле вытекает, просто – может вытекать и все; ведь Пустота – духовный источник поистине любых проявлений жизни, вот детский и кукольный хоррор оттуда и вышли: пока как возможности, но возможность есть ведь не что иное как особая форма реальности, и слава Богу, что она не достигла житейского уровня, – самолюбиво удовлетворившись вполне удавшимся художественным жанром.
Слепые люди. – Их лица по причине отсутствующего выражения глаз выглядят почти всегда для нас, зрячих, отчуждающе и безобразно, но при всем этом вызывают в нас все-таки безотчетные сочувствие и сострадание, причем столь интенсивного порядка, что слезы сами наворачиваются на глазах.
Иной раз приходится видеть несчастья неизмеримо большего масштаба, а глаза не плачут, в чем причина? причина, думается, в кратковременном исчезновении привычной иерархии в оценке вещей: ведь когда мы смотрим в глаза другому человеку, мы встречаемся – или думаем, что встречаемся – с его душой, а душа эта по самому своему определению настолько сложный и многогранный феномен, что мы вынуждены поневоле на него настраиваться и под его воздействием даже перестраиваться, то есть все наши психические чувства – коим нет числа, а еще пуще производным от них возможностям – никогда не выступают в своей исконной целостности, но как железные опилки в магнитном поле, в зависимости от контакта, выстраиваются в определенном и структурированном порядке.
И вот все это опускается во время наблюдения над слепым человеком, то есть вместо того чтобы отдаться сложнейшему конгломерату осмысления чужого страдания и своему отношению к нему – кто этот человек? каким образом постигло его горе? заслужил ли он его? не кармической ли оно природы? как он его переносит? могу ли я ему помочь? как он будет реагировать на мою помощь? нужна ли она ему? не притворяется ли он, желая моей помощи? не использует ли он меня? и так далее и тому подобное – итак, вместо всей этой невидимой, обременительной, мелочной и по большому счету унизительной работы, предшествующей практически любому акту альтруизма, в нас вдруг возникают сочувствие и сострадание в их чистом, незамутненном, исконном виде: как если бы вместо золотого песка, который нужно еще отмывать и отмывать, явился слиток золота.
Да, когда мы смотрим на слепую женщину, которая, чтобы прокормить своих кошечек, выходит с собакой на улицу петь и даже пытается совершенствовать свое пение профессионально, – мы испытываем ощущение, будто наши сочувствие и сострадание к ней на мгновение отделились от всех прочих чувств, налились плотью и кровью и, точно наскоро выструганные папой Карло, выглянули боязливо из души: немного неуклюжие, неприспособленные для жизни, но вполне самостоятельные, то улыбчивые, то плачущие, а главное, монументальные в размерах.
И в этом есть что-то буддийское: так можно сочувствовать только существам из другого мира, так мы сочувствуем животным, так мы сочувствуем иным особенно полюбившимся литературным персонажам, – и если бы я во время греческого отпуска увидел где-нибудь в пещере истекающего кровью циклопа, которого бы заживо поедали муравьи и мухи, но который бы нашел в себе силы взглянуть на меня единственным своим глазом, то, я думаю, каким бы нечеловеческим ни был этот его предсмертный взгляд, я не сдержал бы слез.
Как и глядя на ту слепую женщину.
Центр и периферия. – Именно глаза и характерный их взгляд оправдывают зачастую дисгармонические и даже неприятные черты лица, более того, находясь под влиянием глаз и взгляда, мы не можем и не хотим представлять себе иное, более гармоничное и симпатичное лицо, и наоборот, ничто так не портит и без того неблагоприятные черты лица, как усталые и болезненные глаза.
Глаза показывают резервуар тонкой энергии в человеке, но главное – это то, что когда мы смотрим человеку в глаза, нам кажется, будто мы нащупываем его психологический и метафизический центр, и ничто так нас в этом не убеждает, как именно твердый, уверенный и характерный для данного человека взгляд, тогда как, напротив, взгляд бегающий и неуверенный в себе настораживает нас и предупреждает о том, что на такого человека положиться нельзя.
Однако все обстоит не так просто, опыт показывает, что как раз люди с твердым, характерным и уверенным взглядом, за которым должен скрываться, казалось бы, неизменный психологический и метафизический центр, на самом деле оказываются опаснейшими игроками, предателями и оборотнями; игроками – потому что в крупных играх, таких, как власть и деньги, нельзя иметь только одно лицо и один взгляд, это ведет к проигрышу, а значит, лицо и взгляд должны быть холодными и непроницаемыми; предателями – потому что верность одним людям и идеалам может войти в противоречие с интересами и даже просто внутренним развитием человека, и вот тогда он вдруг меняет идеалы и начинает служить другим целям и людям, зачастую такой переход имеет скрытый инкубационный период, ему лучше всего соответствует маска на лице, но не клоуновская, конечно, а с твердым лицом и уверенным взглядом; наконец, оборотнями – потому что в одном и том же человеке уживаются инстинкты и склонности настолько несовместимые между собой, что когда они проявляются в полной мере, мы имеем перед собой как будто двух разных людей.
Итак, все говорит о том, что в нас существует как бы несколько равноправных центров, но мы инстинктивно закрываем на это глаза и пытаемся свести их к единому понятному и обозримому центру, – кстати говоря, мастерское и правдоподобное воплощение произвольного множества таких несоприкасаемых взаимно персональных центров и есть главная черта великого актера, и мы где-то внутренне сродни им, но нам не хватает внешней выразительности, наше нутряное двойничество остается смазанным, а когда нечаянно проявляется, уголовные хроники кричат о самых чудовищных преступлениях.
И тем не менее, когда мы задумываемся о себе, нам кажется, что в нас есть некий психологический центр, из которого вытекают все наши чувства и поступки, каков он? прежде всего на ум приходит характер, который по Шопенгауэру неизменен, так, но разве можем мы сказать заранее, как мы поведем себя в той или иной экстремальной ситуации? кроме того, наш характер меняется с возрастом, причем настолько радикально, что в зрелом человеке иной раз едва узнаешь прежнего юношу.
Затем идет пол, половая и теневая жизнь человека – вкупе с его эротическими фантазиями – настолько непохожа на его общественную и всем видимую, что лучше не искать в них единства: уже тайно мечтая о других женщинах, лежа в постели с женой, мужчина разрывает себя надвое, точно лопата дождевого червя, и никакие ухищрения философов не в состоянии упразднить эту исконную природную двойственность человека, – когда в семьях, живших на протяжении трех десятков лет «образцовой супружеской жизнью», разыгрываются трагедии и кошмарные сценарии масштаба Шекспира или Чикатило, это всего лишь верхушка айсберга, я думаю, что и каждый из нас, честно заглянув в себя, обнаружит в глубине души кое-какие мысли, намерения и фантазии, которые, если бы им суждено было в полный голос заявить о себе миру, разрушили бы то законченное представление, которое имеют о нас общество, друзья и близкие, а может быть и мы сами.
Однако, с другой стороны, я не знаю никого, кто так вот просто бы заявил о себе: да, во мне живут разные и несовместимые люди, каждый убежден, что, несмотря на потрясающую противоречивость натуры – которой все мы склонны гордиться и по праву: ведь чем противоречивей, тем мы глубже и интересней – в нас все-таки присутствует тайное и внутреннее единство, которое вполне может залегать на недоступной глубине, но оно есть, а если есть, до него можно дотянуться, то есть при желании мы всегда можем себя понять и объяснить, только почему-то на протяжении всей жизни мы как-то забываем это сделать, однако убеждение в возможности исчерпывающе познать себя остается, – и эта тайная уверенность в возможном раскрытии тайны и вместе как бы пожизненное неиспользование великой возможности даже лежат в основе нашего игрового восприятия жизни.
Как любое живое существо на земле, когда ему хорошо, затевает игру, так человек, подобно котенку, играющему со своим хвостом, играется с самим собой: то есть со своей заветной тайной, своей душой, своим богом и своими богами, своим бессмертием и своим полным уничтожением; да, человек играется и его игра зовется жизнью, но в то же время ничего серьезней этой игры нет и не может быть, и потому его игра всегда заканчивается одинаково, то есть смертью.
Короче говоря, там, где есть подлинная антиномия, там есть и условия экзистенциальной игры, а поскольку все в жизни глубоко антиномично и сама жизнь есть не что иное, как воплощенная, живая антиномия, – постольку игру можно смело считать главной и единственной философией жизни: вот одним из аспектов жизни как игры и является наше, можно сказать, врожденное убеждение в наличии психического центра при полной невозможности найти и зафиксировать, – это вместе и основная музыкальная тональность нашего восприятия мира.
В самом деле, с точки зрения новейших достижений физиологии мозга душа – как мифическое имя психического центра – только соприкасается с мозгом, но не живет в нем: как радио ловит разночастотные звуковые волны, но не воспроизводит их, так мозг быть может только отражает душевную жизнь человека, не создавая ее, – уже здесь мы наталкиваемся на неразрешимое противоречие, однако упорно пытаемся разрешить его и не допускаем мысли, что разрешение задачи в принципе невозможно.
Но это нас не останавливает: если решение проблемы не было найдено до сих пор, то это не значит, что его не существует, оно пока отсутствует, но мы ищем отсутствующее решение и будем искать его до скончания лет, – добавление, что мы его никогда не найдем, конечно, так и вертится на языке, и мы в глубине души согласны с ним, но от поисков своих не отказываемся, потому что не искать – значит перестать жить, а вместо этого только существовать, ибо жить – значит стремиться к последним границам и дальше.
Однако стремление само по себе, помимо цели и в чистом виде нас тоже не устраивает, цель же, причем любая цель, относительна, стало быть для души неудовлетворительна, – здесь опять неразрешимое противоречие, следствием которого становится то самое всепоглощающее и неустранимое ощущение загадочности мира, к которой мы рано или поздно, но неизбежно приходим в результате наших искренних поисков.
Итак, математически доказанная отсутствующая природы истины мгновенно делает наш мир изначально и неизбывно загадочным, – разве эта загадочность не компенсирует с избытком отсутствие последних истин? ведь как только мир становится в наших глазах вполне и во всех своих самых крошечных нюансах загадочным, тернистый путь познания прекращается, но до тех пор, пока эта загадочность остается громким и неубедительным сравнением, вместо того чтобы стать первичной психологической реальностью, нужно идти дальше, вот вам и вся мировая мудрость, а для уяснения ее два наглядных примера: все те же Пушкин и Лев Толстой.
Почему Пушкин невзлюбил Энгельгардта и Александра Первого, хотя добровольно преклонился перед его сыном-преемником? как мог он написать довольно пошлую эпиграмму на свою любимую героиню? не страшна ли и не поучительна хрестоматийная бездна между Пушкиным-поэтом и Пушкиным-человеком, досконально проанализированная В. В. Вересаевым? но и без этого: разве каждый из нас, безусловно восхищаясь «светлым гением» Пушкина, не ощущает некоей непроницаемой темной сердцевины в нем? но сделаем ли мы отсюда вывод, что в Пушкине жило несколько людей? нет, не сделаем, потому что это никуда не ведет, будем ли искать святое объединяющее начало всех известных нам пушкинских ликов? да, обязательно будем, но найдем ли его? вряд ли, – чего же тогда мы достигнем? как чего? разве понять и прочувствовать великое отсутствие человеческого центра, да еще на примере великого человека, не есть самое ценное духовное достижение?
Кстати, нигде иллюзорность человеческого Я не выявляется с такой очевидностью, как в художественном образе: образ есть как бы бесконечное приближение к некоему условному центру, который тем для нас конкретней и ощутимей, чем безусловней он отсутствует, – вот этот самый парадокс и лежит в основе творчества.
Романический персонаж точно так же не имеет центра, как и обыкновенный человек, но соотношение центра и периферии у вымышленных героев и живых людей совершенно разное: если в искусстве характер выписан в нескольких основных чертах и показываются только те ситуации и прочие действующие лица, которые с ними созвучны, то в жизни дело обстоит абсолютно противоположным образом: ситуации и взаимодействующие лица настолько необозримы, что наше Я в них просто тонет: не в том суть, что Я не существует, мы об этом никогда и не думаем, но стоит нам попытаться объяснить себе и другим, в чем же оно, наше Я состоит, как мы сталкиваемся с неимоверными трудностями.
В искусстве эта трудность, повторяем, искусно преодолевается выборочностью описываемого: то, что описывается, как бы изначально имеет центр (Я), а само описание подобно бросанию пучка света на мрак, то, что в свете, вполне нас убеждает, но при этом мы забываем о бездне мрака, окружающей световые пятна; таким образом, мрак – это все, что просто оказалось за строкой, а за строкой, как мы сами понимаем, оказывается девяносто девять и девять десятых жизни любого описываемого персонажа.
Попробуем представить себе, что делал герой до, после и в промежутках между описанными сценами – и мы будем потрясены бездонным черным пятном, зияющем в самом центре любого произведения искусства, но мы о нем почему-то не думаем и даже подчас не догадываемся о его существовании, – наслаждение от искусства как раз и зиждется на полном забвении «темной сердцевины» и одновременно на иллюзии «абсолютного света».
Эта иллюзия означает вот что: мы убеждены, что описываемый мастерским художником мир настолько самодовлеющ, закончен и осмыслен в себе, настолько он исключает какие-либо неясности, недоразумения и противоречия, и настолько по отношению к нему не возникает у нас вопросов, которые мучают нас своей неразрешимостью, когда мы имеем дело с живыми людьми – все те же кардинальные вопросы о добре и зле, боге и смерти, совести и смысле жизни – что мы даже не задумываемся, что же все-таки происходит за пределами творчески воссозданной действительности.
А за ней буквально ничего не происходит, роман нас целиком и полностью убеждает, но со всем тем, что вне его, он ничего общего не имеет, – вот здесь уже мы имеем образец многомерной реальности: когда действительность нас захватывает целиком и полностью на какое-то время, а потом отпускает и перестает для нас существовать или же она может входить в нас и из нас выходить, и это для нас само собой разумеется, хотя, если взглянуть трезво и со стороны на положение вещей, оно может и должно свести с ума, – ведь получается, что мы шагаем из романа в роман, или из искусства в жизнь и наоборот, точно проходим из одной комнаты в другую, так что, получается, действительность является образной по самой своей природе, а искусство по существу не отличается от действительности.
Иными словами, любой из нас, желая приблизиться к «объективному» и космическому центру, лишь создает свой собственный центр и к нему постоянно приближается, а на прямой философский вопрос: есть ли центр? приходится ответить: и есть и не есть одновременно, – другого ответа нет и быть не может.
В самом деле, мы никогда не останавливаемся на постулате принципиального отсутствия Я, но всегда предлагаем то или иное решение вопроса, и если оно не вполне удовлетворительно для нас, мы утешаем себя скорым усовершенствованием решения, – и решение усовершенствуется, так или иначе, и все встает на свои места, а то, что наша точка зрения постоянно меняется, и параллельно существуют и меняются еще миллионы и миллионы других подобных точек зрения на один и тот же предмет, нас нисколько не смущает, мы считаем это нормальным.
А все потому, что архетип центра неистребимо заложен в нашем сознании, и мы его осуществляем – каждый на свой лад, поскольку же форма центра едина, а содержания различны, постольку возникает естественное противоречие: идя от собственной периферии к своему центру – путь этот называется внутренним развитием – мы не замечаем, что другие люди проделывают тот же самый путь, но приходят к совершенно другим результатам: отсюда все споры, все недоразумения, все конфликты и все войны, и наоборот, в осознании универсального параллелизма всех душевных координат состоит единый корень сближения между людьми.
Если я нахожу, принимаю и одобряю аналогию внутреннего развития между моими, мне хорошо понятными мотивами и поступками, и мотивами и поступками других людей, на первый взгляд для меня совершенно непонятных и ничего общего не имеющих с моими, тогда и только тогда есть возможность истинного нравственного примирения и сближения между нами.
Итак, художественный персонаж не имеет лица, если образ удался, мы зримо представляем его себе в том смысле, что заранее можем предсказать, как он поведет себя в той или иной ситуации, характер героя пластически (или музыкально, как у Достоевского) очерчен ясно: его не спутаешь ни с каким другим, если вещь экранизирована, мы безошибочно определяем, правильно ли подобран актер или не совсем правильно, довольно часто на месте актера, играющего знаменитого литературного героя, вообще нельзя представить никакого другого, – и тогда мы склонны утверждать: у персонажа лицо актера, но это не так – возвращаясь к литературному произведению и прямо сравнивая персонаж с актером, его играющим, мы все-таки вынуждены признать: да, в кино или в театре лучшего исполнителя нет и не может быть, однако, строго говоря, его лицо – это все-таки не лицо персонажа, просто потому, что последний не имеет лица.
Но как человек – ведь персонаж тоже человек – может не иметь лица? здесь тайна литературного творчества, которая проливает самый скрытый, но и самый пронизывающий свет на загадку человеческой сердцевины: мы живем и действуем так, как будто она есть – из нее исходят волевые наши побуждения, на них, как на нитку, нанизываются наши мысли, интуиции, чувства, слова, а из них уже выпестовывается наш характер, и как итог всего этого сложнейшего психического конгломерата высвечивается взгляд: но что он такое? если бы человек сохранял один-единственный характерный взгляд – который мы и сочли бы с полным правом самовыражением души – или если бы несколько самых характерных и разных наших взглядов мирно бы уживались между собой, не портя и не нарушая целостности характера… но так ли это на самом деле?
Наше лицо и наши глаза могут выражать сколь угодно несовместимые между собой психические побуждения и даже поступки – мы всегда будем искать спрятанное за ними «глубочайшее душевное или духовное единство»: и не только искать, но, как ни странно, неизменно находить его, а это значит, что центр, любой центр, в том числе и нашей личности, безусловно есть, но есть как черная дыра, куда невозможно проникнуть, и в то же время есть как самая обыкновенная периферийная повседневность, о которой не хочется даже задумываться по причине ее серости и незначительности.
И выражают этот центр в первую очередь наши глаза, взгляд которых, с одной стороны, как бы манифестирует психологический или душевный центр, а с другой, кардинально меняясь соответственно ситуации или настроению, тут же его упраздняет, – человеческий взгляд поэтому самым наглядным образом демонстрирует основное положение философии отсутствия: душа существует, но существует как иллюзия, и все-таки иллюзия есть единственный способ существования души, а кроме этого ничего нет, но что еще нам надо?
Философия общения с портретом. – Леонардо да Винчи как мыслитель был совершенен только с кистью в руке, Моцарт и Бах лишь сочиняя музыку, Лев Толстой и Кафка только в писаниях, Эйнштейн лишь размышляя над законами Вселенной, тогда как ни один мыслитель в чистом виде, не исключая Шопенгауэра, не был совершенен именно как мыслитель, – вот любопытное подтверждение замечанию Канта о плодотворности опоры чистого разума на сферу опыта, и здесь же объяснение тому очевидному и все-таки очень странному обстоятельству, почему нас так непреодолимо раздражают портреты великих людей и так радуют их зарисовки как бы случайно и со стороны.
Дело, наверное, в том, что взгляд вовне или вовнутрь великого человека, не встречающий сопротивления, подобно снежному кому, пущенному с горы, склонен обрастать невероятным величием и значительностью, даже если он старается оставаться скромным, но тот же самый взгляд, обращенный на малые и повседневные вещи мира сего, почти уже не отличается от взгляда любого простого смертного… точно ли совсем не отличается? вот если бы в сложнейшую компьютерную программу задать творчество гения и предложить два портрета: один его собственный, а другой принадлежащий постороннему, но с одухотворенным лицом, способен ли будет компьютер отличить оригинал от подделки? ведь как часто носителями подлинно великого являются сравнительно невзрачные люди! и наоборот, необыкновенно выразительные лица нередко вовсе лишены творческих задатков! но что же из этого вытекает? для начала то, что дух и материя сопряжены столь тесно, что, очевидно, не могут существовать друг без друга: однако попробуйте определить закономерности их сопряжения! вот взгляд, подобно зеркалу, и отражает как некоторую бездуховность «чистого духа», так и непостижимую одухотворенность материи.
С другой стороны, когда некто из наших знакомых, а тем более близких болен неизлечимой болезнью, то есть практически обречен, и часы его или дни буквальнейшим образом сочтены, тогда как песок в наших песочных часах еще сыплется и сыплется, убаюкивая нас и дальше сладкой неопределенностью смертного часа, – да, в эти моменты мы искренне сочувствуем умирающим и одновременно невольно радуемся тому, что нам еще «жить и жить», – но как только эти люди ушли в мир иной, в нас тотчас поселяется довольно странное, неотвязчивое и, я бы сказал, вещее ощущение, что вот, мол, они главное дело жизни сделали и сделали, кажется, хорошо, а нам все это еще предстоит, и неизвестно, справимся ли мы с ним или все получится скомкано и кое-как.
И тогда какая-то непостижимая добрая зависть к ушедшим навсегда закрадывается в душу и уже ее отныне не покидает: мы, с одной стороны, завидуем умершим, но и от нашего положения еще живущих тоже не отрекаемся: во-первых, потому, что оно также представляет кое-какие выгоды, а во-вторых, потому, что умереть мы все равно успеем, однако, с другой стороны, неотвратимость смертного часа и смутное, но твердое сознание, что в конечном счете речь идет только о том, чтобы «хорошо умереть» и больше ни о чем, продолжают делать свое «черное дело», – то есть вводить в душу еще большую неопределенность.
Строго говоря, если бы мы с феноменальной легкостью не умудрялись находить для себя те или иные «смыслы жизни», которые мы обустраиваем поистине как дома – если дальше материального уровня мы не пошли – или как ладьи – если мы поверили в бессмертие души и пытаемся оснастить ее для посмертного плавания наилучшими мыслями и побуждениями – то наше так называемое «внутреннее развитие» должно было бы состоять только в увеличении вышеназванной неопределенности в прогрессии либо математической, либо даже геометрической, – в полном согласии с великолепным советом Пикассо, что людям прежде всего следует учиться находить уют и спокойствие в самой изначальной стихии полнейшего неуюта и беспокойства жизни.
И вот тогда, бросая спонтанный взгляд на какой-нибудь портрет давным-давно отошедшей в «мир иной» знаменитости, которая «заставила себя уважать и лучше выдумать не могла», мы чувствуем подтверждение вышеприведенного хода наших мыслей, и вместе всю глубочайшую ложность концепции опоры на великих мира сего, на их славу и вообще на вековечное стремление человека оставить после себя след: по той простой причине, что все эти люди, сумевшие оптимально оправдать свое пребывание на «этом месте и в это время», и тем самым невольно подталкивая нас следовать за ними, упраздняют или по крайней мере пытаются упразднить ту великую неопределенность, на которой, как на ките, стоит человеческая жизнь, – и все более ясное осознание которой является единственной задачей нашего душевного созревания.
Поэтому совсем не лишнее было бы, метнув на знаменитость в рамке полный скрытого упрека взгляд – зачем, мол, ты по причине своего веса пытаешься говорить за нас? – еще и коротко погрозить ей пальцем, ни в коем случае, однако, не «дрожа от злобы», как это сделал незадачливый пушкинский Евгений, чем и навлек на себя справедливый гнев Медного Всадника.
В противном же случае, если совсем не оказывать портрету великого человека некоторое сопротивление, он начнет приобретать над нами определенную магическую силу, вовлекая в орбиту собственного сюжета и отвлекая нас от нашего и кровного, что в общем-то крайне нежелательно.
Важный нюанс. – Есть некая тонкая разница между фотографией или портретом, обведенными траурной каймой, и ими же без каймы, – просто поразительно, какими разными глазами мы на них смотрим, сами быть может того не замечая: ведь когда человек умирает, сам он и все его деяния, казавшиеся прежде в каком-то смысле обязательными и незаменимыми для нас, живущих, становятся вдруг такими, что без них вполне можно обойтись (то есть хорошо, конечно, к ним обратиться и даже ничего нет важнее обращения к ним именно теперь, когда они вследствие смерти обрели как бы статус бессмертия, но это уже как посещение церкви – для души вроде бы самое насущное дело и в то же время самое неважное в контексте повседневной жизни), а вот пока человек был жив, такой подход казался немыслимым (не узнать, что сказал или сделал тот или иной влиятельный и знаменитый человек значило либо безнадежно и сознательно отставать от времени, либо уныло и упрямо демонстрировать собственную зависть или ревность к нему): опять-таки всего лишь элементарный урок на тему понимания глубочайшей значимости всего происходящего и вместе параллельного осознавания того, что мир этот не стоит выеденного яйца, – поистине, даже в школе сначала идет усвоение законов сложения и умножения, а потом законов вычитания и деления, – но кто осмелится утверждать, что первые важнее вторых?
Поэтому вполне логично, что когда мы прикасаемся к творениям истинных классиков, тех, кто жил десятки или сотни лет назад, названный эффект предельной важности ими созданного искусства и одновременно предельной же его необязательности достигает своего апогея: в самом деле, каждый, думаю, подтвердит на собственном опыте, что ничего нет более великого, нежели приобщиться хотя бы на минуту к этим практически единственно несомненным для нас экспонатам «живой вечности», и в то же время подобное приобщение не играет абсолютно никакой роли ни для нашей личной жизни, ни для успешного и плодотворного участия в жизни общества, ни тем более для устремления к жизни высшей и религиозной.
Мысленный разговор с самим собой обыкновенного любителя живописи перед иным мастерским портретом. – «Почему я не могу оторвать от него глаз?». – «Не знаю». – «Верю ли я в его буквальную жизнь?». – «Нет». – «Считаю ли, что художник его только выдумал?». – «Тоже нет». – «Хочу ли я войти в реальное общение с портретом?». – «Пожалуй, нет». – «Желаю ли раз и навсегда исключить такой фантастический контакт?». – «Скорее всего нет». – «Допускаю ли я душевное, духовное или иное существование портрета в какой-нибудь потусторонней или просто недоступной мне реальности?» – «Вряд ли». – «Исключаю ли я его категорически?». – «Ничего подобного». – «Приглядываясь внимательно к портрету, не нахожу ли я в нем свойств, скрытых во мне самом?» – «Как будто нет». – «Полностью ли я уверен в моем отрицании?» – «Ни в коей мере». – «Хочу ли я полностью или частично войти теперь или же после моей смерти в измерение портрета?» – «Не хочу». – «Вполне ли я уверен в этом моем желании?» – «Не вполне». – «Отражает ли портрет тайну жизни?» – «Не думаю», – «Значит, он не имеет к ней никакого отношения?», – «Не могу сказать», – и так далее и тому подобное.
А вот та тихая и неуловимая определенность, что притаилась, как тень, между разного рода и в целом куда более отчетливыми неопределенностями, – оно и есть, пожалуй, душа как портрета, так и тех, кто замер перед ним в созерцании, то есть нас самих: или, другими словами, никакой живой человек не может смотреть на нас так, как смотрят на нас с полотен самые удавшиеся портреты, но нельзя утверждать и того, что портрет в точности отражает ушедших из жизни людей, – так кто же тогда герой портрета?
Последний урок литературы. – Когда я смотрю на классические портреты Пушкина и Лермонтова, а они всегда одни и те же во всех официальных учреждениях: от средней российской школы до мюнхенской Толстовской библиотеки, всегда висят по соседству, всегда хрестоматийно-поучительны и всегда призваны продемонстрировать убийственную унылость отечественного преподавания литературы, – так вот, всякий раз, глядя на них, я вспоминаю ясновидящую фрау Кирхгоф: ту самую, у которой не однажды бывал Пушкин и один раз Лермонтов, и которая предсказала Пушкину любовь и славу народную, скорое получение денег и продвижение по службе, две ссылки, фатальную женитьбу, а самое главное, опасность от белой лошади, белой головы и белого человека (портрет Дантеса верхом), – Лермонтову же она предсказала одну только скорую неизбежную смерть.
Это были два классических предопределения, мало чем отличавшихся от знаменитых литературных предопределений из «Песни о вещем Олеге», «Фаталиста» или первой главы «Мастера и Маргариты», где получивший предсказание герой делал все, чтобы избежать его, но кармический приговор настигал его с другой и неожиданной стороны: таков композиционный стержень жанра предсказания как такового.
Итак, фрау Кирхгоф ясно предостерегла обоих поэтов, и когда из туманного будущего начали проступать четкие образы их убийц: «белого человека с белой головой на белом коне» для Пушкина и «человека, не умеющего стрелять» для Лермонтова, оба поэта, помнивших о предсказании, должны были догадываться, что близится их последний час, однако они не только с готовностью, но даже с некоторым усердием, если не сказать: со страстью пошли ему навстречу: Пушкин – чтобы испытать судьбу, Лермонтов – тоже, но заодно и покончить с жизнью.
Недаром госпожа Кирхгоф допустила в случае Пушкина возможность долгой жизни, если он не погибнет на тридцать седьмом году, тогда как для Лермонтова никакой альтернативы не существовало.
Почему? да потому что Пушкин совсем не так искал смерть, как Лермонтов, и жизнь любил иначе, нежели Лермонтов, но в обоих случаях, получив предсказания, оба поэта сделали все, чтобы его осуществить: Лермонтов с фаталистической готовностью отправился на дуэль, сделав со своей стороны все, чтобы она оказалась смертельной (неоднократные провокации противника, а также выстрел в воздух), Пушкин же не только не стрелял в воздух, но, будучи уже смертельно ранен, приподнялся и, укусив снег, сделал ответный прицельный выстрел: точь-в-точь как Долохов при дуэли с Пьером Безуховым, так что один шел на смерть, но, в случае победы на дуэли, был готов жить дальше, а другой, если и готов был дальше жить, то только для того, чтобы снова и снова испытывать жизнь в ее, пожалуй, самой таинственной конфигурации со смертью: конфигурации предопределения.
Это ясно читается в портретных лицах и в первую очередь взглядах Пушкина и Лермонтова, – и весь вопрос только в том, догадались ли бы мы о таком прочтении, если бы не знали о финале их жизней, или не догадались.
Предопределение. – В лермонтовском «Фаталисте» высказывается предположение, что судьба человека, написанная на небесах, читается также в его глазах, вот этот замечательный абзац.
«В эту минуту он (Вулич) приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я (Печорин) пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его: я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться».
Полное подтверждение правоты Лермонтова мы видим в портрете инфанта Филипе Проспера работы Веласкеса 1659 года: там изображен двухлетний мальчик из королевской семьи, он в парадном костюме, все в нем исполнено аристократического достоинства, мальчик опирается на спинку стула, лицо его бледное, а глаза большие и меланхолические, – и в них читается тот самый «странный отпечаток неизбежной судьбы», в котором «привычным глазам трудно ошибиться».
Этот ребенок действительно умер через два года, а его художник через год; зафиксировано также, что о скорой и неизбежной смерти портретируемого инфанта высказывались люди, не знавшие его биографии, – так что можно в этой связи говорить о посланце или ангеле Смерти, предвещающих ее приход, но можно ограничиться и замечанием, что само выражение глаз выполняет иногда ангельскую функцию, отводя тем самым реальное существование ангелов в привычную для них область мифологии.
О пользе строительных лесов. – Посещая мюнхенскую Старую Пинакотеку, я всегда задерживаюсь перед работой Ван Дейка, изображающей фламандского художника Теодора Ромбо с его женой Анной ван Тилен и дочерью Марией.
Мушкетерское лицо живописца, умный взгляд и обаятельная самоуверенность, сквозящая и в позе и во всем облике, не только не отталкивают зрителя от портретируемого, но располагают к нему и настраивают на открытый диалог: Теодор Ромбо ищет контакта с анонимным наблюдателем, уверенно его находит, и мы остаемся убеждены, что в этом постоянном, искрометном и, можно сказать, первозданном общении состоит суть характера приятеля и коллеги Ван Дейка.
Совсем другое дело его жена Анна: от нее буквально невозможно оторвать глаз и в невольном соперничестве с мужем за внимание созерцающих она одерживает полную и безусловную победу, но каким образом эта обыкновенная на первый взгляд и скорее даже непривлекательная женщина умудряется приворожить к себе зрителя, остается тайной.
Думается, секрет ее притягательности заключается в ее взгляде, впечатление от него довольно сложное, и иначе, как посредством сравнения, это впечатление описать невозможно.
Так вот, выражение ее взгляда таково, будто мы, зрители, подглядываем за Анной в замочную скважину и видим ее обнаженной, она же точно знает, что мы за нею подглядываем, но глазами даже не упрекает нас, а как бы обращается к нашей совести, спрашивая, совместимо ли такое наблюдение с чувством собственного достоинства: не столько ее собственного, сколько нашего, – мы, таким образом, чувствуем себя вуайерами, не являясь таковыми.
И в этом главное своеобразие взгляда Анны, – а теперь остается только убрать вспомогательные леса: замочную скважину и обнаженность модели.
Автопортрет Дюрера 1500 года. – Поза, пропорции лица, волосы и некое непередаваемое величие во всем облике сразу напоминают Иисуса Христа, независимо даже от симметрии композиции, подчеркнуто темного колорита красок, поворота анфас и правой руки, поднятой к середине груди как бы в жесте благословения, о которых говорят историки искусства.
В сущности, если настроиться на ставшую модной в наше время идею Страшного Суда как итогового самосознания умершего человека, как ясное узрение в астрале собственных ошибок и прегрешений, как вообще заключительную оценку прожитой жизни в плане использования или неиспользования данных тебе возможностей, – и все это без угроз и насилия со стороны астральных воинств, но на основании собственной глубочайшей внутренней потребности, – да, в таком плане знаменитый автопортрет Дюрера мог бы трактоваться в качестве любопытной и чрезвычайно оригинальной манифестации судящего Христа: жаль только, что художник никоим образом не намекнул на возможность подобной интерпретации.
Но есть и другой важный аспект его автопортрета, присмотримся к нему поближе: правый глаз модели смотрит мимо зрителя, а левый прямо в него, однако, внимательно приглядевшись к правому глазу и переведя взгляд на левый, кажется уже, что и левый глаз глядит мимо зрителя, вместе с тем, после секундной паузы, заново попытавшись войти в портрет, создается прямо обратное впечатление: будто левый глаз смотрит на наблюдающего, а вслед за ним и правый.
Так создается элементарная магия портрета, зиждущаяся на его изначальной психологической неопределенности, и в основе ее лежит эффект зеркала: в самом деле, когда мы всматриваемся в собственное зеркальное отражение настолько внимательно, что весь посторонний комнатный аксессуар перестаем замечать и более того, концентрируясь на глазах, перестаем постепенно видеть даже прочие партии лица, – нам начинает казаться, что из зеркала на нас выдвигается посторонний человек, пусть бесконечно знакомый, но все-таки в каком-то неуловимом, но очень важном нюансе также и совершенно чужой.
И вот если бы этот двойник не возникал в результате малых, но непрестанных творческих наших усилий, если бы он не исчезал, когда последние прекращаются, если бы он не являлся плодом нашего внимательного созерцания в зеркале, то есть если бы он вдруг оказался вполне независимым от нас, – это означало бы по сути прямое вступление в жизнь хоррора: действительно, здесь в визуально-физиологическом плане мы имеем генезис феномена двойничества, – недаром Э. По, О. Уайльд, Р.-Л. Стивенсон, Гоголь и Достоевский, а вслед за ними жанр хоррора в лучших своих образцах показали, что названный феномен принадлежит к краеугольным столпам человеческой культуры, философии и психологии.
В автопортрете Альбрехта Дюрера мы видим упомянутый генезис на молекулярно-клеточном, так сказать, уровне: художник смотрит как будто в зеркало, а из невидимой прозрачной среды в него тоже всматривается таинственный двойник, и если не пытаться конкретно охарактеризовать двойника – что неизбежно поведет к огрублению темы – но оставить все на уровне взаимного и первозданного, так сказать, созерцания, то это и будет, пожалуй, главным, хотя и чрезвычайно трудно поддающимся описанию впечатлением от дюреровского шедевра.
Какой был взгляд у воскресшего Иисуса? – Если, во-первых, жизнь и бытие подобны верхнему и нижнему конусу песочных часов, если, во-вторых, песок, то есть жизненная энергия, постепенно и непрерывно пересыпается из верхнего отсека в нижний и жизнь таким образом переходит в бытие, так что бытие следует понимать двойственно: и как прожитую жизнь и как ее самосознание, и если, в-третьих, жизнь отлагается в памяти, но зафиксировать все события жизни, не говоря уже обо всех переживаниях и мыслях, невозможно, да и память с годами ослабевает, – то в таком случае бытие, понятое как проживаемая и прожитая жизнь в целом, а также как суммарное самосознание человека, есть всего лишь образ и как таковой неподвластен никаким измерениям, недоступен разуму и органам восприятия и все же абсолютно реален, но его реальность именно образного, то есть художественного порядка.
Тогда что же, собственно, происходит с итоговым или предсмертным самосознанием? оно, судя по всему, уходит в смерть, проходит сквозь игольное ушко смерти в качестве ментального тела, а далее, как утверждают тибетские буддисты, оно, все еще располагающее ментальной квинтэссенцией земных чувств, усиленных всемеро, оглядывает мысленно свершившуюся жизнь, – и что же оно видит?
Оно видит, во-первых, что прежде было человеком и человек этот был незакончен и не сказал еще последнего слова о себе; оно видит, во-вторых, что ситуация существенно изменилась после смерти человека; оно видит, в-третьих, что своей кончиной человек как бы искупил «первородный грех», хотя не обязательно в библейском смысле; оно видит, в-четвертых, что субстанция человека из жизненной и житейской сделалась бытийственной и образной; оно видит, в-пятых, что умерший в самом буквальном смысле сделался образом самого себя, живого и прежнего, и о нем нельзя теперь сказать, где он, что он, как он и сколько его, оно видит, в-шестых, что умерший не подлежит никаким измерениям, и что он настолько по ту сторону каких бы то ни было человеческих мерок и критериев, что, проживи он дольше и добейся больше, он существенно ничего бы не выиграл, а проживи меньше, ничего бы экзистенциально не проиграл; и оно видит, в-седьмых, что со смертью человек стал полнотой собственных возрастов, не потеряв ни йоты от своего персонального существования и в то же время не будучи в состоянии и йотой его практически воспользоваться, – и так было, есть и будет со всеми людьми, а не только с ним одним.
Так как же должно смотреть сознание человека, умудрившееся пройти сквозь игольное ушко смерти, на эту свою прежнюю жизнь, в которую оно не может снова войти, и к которой не в силах даже прикоснуться, которую бесполезно осуждать, и из которой нельзя сделать никаких полезных выводов, потому что все неизбежно повторится с незначительными вариациями, с которой нельзя отождествиться и без которой невозможно существование самого сознания?
Мне кажется, вполне можно себе представить, что такое Сознание смотрит на жизнь с тем невероятно субтильным и поистине неземным удивлением и в то же время с той нежной, целомудренной, материнской бережностью, каковые мы ясно читаем в лице воскресшего Иисуса работы Рембрандта 1661 года.
Опасность игры «не от мира сего». – Есть актеры, во взглядах которых сквозит нечто «не от мира сего», – быть может, это наиболее интересные мастера своей профессии, на Западе их не больше десятка, в русскоязычном пространстве, впрочем, о таких актерах приходится говорить в единственном числе: это, конечно, наш незабвенный Иннокентий Смоктуновский.
Среди публики и критики у него статус «небожителя», однако коллеги из Ленинградского БДТ, где он играл якобы лучшую роль в своей жизни – князя Мышкина по «Идиоту» Достоевского – относились к нему, как он сам признавался, почему-то с раздражением и даже враждебно, неужели одна только недоброжелательная зависть? или, может, рвущийся из души крик о том, что «король-то – голый»? как это понимать? только так, что Смоктуновский не был с ног до головы гениальным актером – как, например, Евгений Евстигнеев – но у него имелась гениальная струнка, одна-единственная, – на ней-то он и въехал в лицедейское бессмертие.
Гамлет, кн. Мышкин, Порфирий Петрович – да, это на самом высоком уровне, тут и спорить не о чем, но все эти три роли, каждая по-своему, были музыкально озвучены той самой единственной заветной стрункой, для прочих ролей требовались иные лады и тембры, не знаю, были ли они у Смоктуновского, может, и были, а может, и ничего больше не было, – но он настолько оказался заворожен собственной – действительно, уникальной на фоне тогдашнего российского театра и кино – манерой игры, что, очевидно, незаметно для себя приобрел черты монументальной и маниакальной самоуверенности, которая и стала, подобно двойнику, всегда и везде сопровождать его игру, – отсюда то очень тонкое и все-таки очень дурное «заигрывание» со своей ролью, кокетничанье с ней и как бы подтрунивающее наблюдение над ней в зеркале и подмигивание ей: «как же бесподобно я тебя играю!» по-моему, не заметить этого нельзя – тем удивительней, что, насколько мне известно, никто до сих пор не осмелился высказаться публично на этот счет.
Мне этот феномен очень напоминает критику Львом Толстым Шекспира и особенно его блестящий разбор «Короля Лира»: вообще, Толстой обладал безукоризненным художественным вкусом и именно по этой причине в качестве математического доказательства ущербности Шекспира как художника выбрал не «Макбета», не «Отелло», не «Ромео и Джульетту», и даже не «Гамлета», а именно «Короля Лира», где, действительно, бессмысленной тарабарщины, но обязательно с претензией на абсолютную гениальность, не счесть.
Феномен Смоктуновского, оставляя в стороне вопрос о масштабе, напоминает отчасти феномен Шекспира: и там, и здесь – моменты гениальности, достигающие границ человеческого духа как такового, но там же и здесь – следующие за этой гениальностью, как тень, непостижимые провалы в искусственную риторику, полное несоответствие слова, жеста и поступка ситуации, невероятная и ничем не оправданная вычурность и преувеличенность диалогической канвы, и как следствие, самоуничтожение крупными мазками намеченного характера без того, чтобы на месте геростратовского деяния осталась хотя бы чистая музыка потустороннего, как это имело место в виде исключения в «Гамлете».
Опять-таки, Лев Толстой это почувствовал – и оставил «Гамлета» в покое, вообще, наш великий старик никогда ни в чем главном не ошибался, и если бы он увидел игру Смоктуновского, он высказался бы о ней в том же духе: как о гениальной, но с досадными и действующими на нервы провалами, – такова именно ее тональность в двух словах.
Наверное, Смоктуновский сыграл Гамлета лучше всех, превзойдя даже великого Лоуренса Оливье, но я почему-то убежден, что были и есть артисты (западные), которые, возьмись они за эту роль, не уступили бы Смоктуновскому, то же самое я сказал бы и о роли кн. Мышкина; и разве лишь насчет Порфирия Петровича очевидно, что сыграть его мог и должен был во всем мире один Смоктуновский, высочайший комплимент для актера: как для Вронского есть один Вас. Лановой, для Анны Карениной одна Татьяна Самойлова, для кн. Андрея один Вяч. Тихонов, для Майкла Корлеоне один Аль Пачино, – и так далее и тому подобное.
Что же касается прочих ролей Смоктуновского в русском кино – от «Берегись автомобиля» до «Очей черных» и дальше – то это, как хотите, сплошное недоразумение: потому что ни Шекспир, ни Достоевский не смогли органически вписаться в нашу российскую действительность, а ведь актерская натура Смоктуновского, как стакан водой, была занята до краев только ими двумя.
И быть может бессознательной реакцией актера на эту ограниченность своего сценического репертуара, реакцией на отсутствие или недоработанность любых других струн, кроме той самой единственной и гениальной, реакцией на собственную внутреннюю некритическую удовлетворенность от того, что он нашел и воплотил то самое – «единое на потребу», – да, быть может, неосознанной физиогномической реакцией на все это и стала та мастерски запрятанная и все-таки для всех очевидная, равным образом натуральная и все же глубоко наигранная, искренно снисходительная и вместе вызывающе высокомерная нота во взгляде Иннокентия Смоктуновского, нота, которая с удовольствием прощается зрителем, пока актер остается на высоте, но начинает невыносимо раздражать, как только он по тем или иным причинам эту высоту теряет.
Ведь общее правило гласит: чем выше восхождение, тем болезненней падение, и чем гениальней взгляд актера, тем меньше он терпит искусственность как следствие самовозвышения и ненужной игры с собой, – только излишняя, сидящая в крови нашего русского брата театральность испортила гений Смоктуновского, но не это даже страшно: страшно то, что никто этого не заметил.
«Мне отмщение и аз воздам». – Иные актеры сумели сыграть свою роль так, что исполнение ее другим актером попросту непредставимо: таких ролей в мировом кино не так уж много, гораздо чаще мы имеем ситуацию, когда даже наилучшим образом сыгранная роль допускает возможности собственного обогащения или интересной вариации, если будет сыграна альтернативным и равным по мастерству актером.
В этой связи мне прежде всего приходит на память образ дона Корлеоне из «Крестного отца», его сыграл Марлон Брандо, и сыграл так, что иного Корлеоне нам трудно представить, но все-таки он есть, и это, конечно, Лоуренс Оливье, которому еще прежде была предложена роль крестного отца, но он вынужден был от нее отказаться, поскольку был занят в другом фильме; по большому счету Брандо органичней вписывается в роль, нежели Оливье, но не подлежит сомнению, что английский актер внес бы туда такие нюансы, что у нас бы голова пошла кругом, – да, Лоуренс Оливье на такое способен.
А вот на роль Майкла Корлеоне никакой другой актер, кроме как Аль Пачино, даже близко не пригоден, и это, хочешь не хочешь, абсолютная вершина в аспекте исполнения данной именно роли, – так вот наша Татьяна Самойлова, играя Анну Каренину, должна быть поставлена рядом с Аль Пачино: наивысшая награда, неизмеримо превосходящая любого Оскара.
Лев Толстой недаром поставил эпиграфом слова из Евангелия: в романе речь идет о женщине, которая изменила мужу по любви и наказала себя, бросившись под поезд, – здесь глубочайшая метафизика самоубийства, состоящая в том, что человек судит себя за мелочь и что любой другой человек ему его грех простит, и Бог простит, но он сам себе его не прощает – и наказывает себя; плюс к тому автор судит свою героиню еще и за талантливую преизбыточность жизненной энергии, которая, согласно Шопенгауэру, не может не источать из себя греховность, как не может не благоухать цветок.
Действительно, Анна Каренина без преувеличений самый сложный женский образ в мировой литературе, в нем, как в глубоководной реке, множество подспудных течений, роман звучит как баховская полифония, причем внешний драматизм сведен до минимума, кроме того, над «Анной Карениной» веет подлинный дух эллинской трагедии, – иначе как объяснить вещие и одновременные сны Анны и Вронского, вещее предчувствие Анны, вещее предзнаменование ее гибели на железной дороге?
Нельзя также не отметить бесчисленные психологические нюансы высочайшей художественной пробы, как, например. – Анна изумительная мать, но такая ли она любящая мать, как Долли и Кити? Долли заметила фальшь во всем семейном складе Карениных: как вообще могла Анна Облонская с ее искренностью и талантливостью до такой степени не по любви выйти замуж и жить с мужем как ни в чем ни бывало? Анна невинно кокетничает с Левиным и умышленно жалит Кити одной лишь возможностью своего женского обаяния на ее мужа! Анна мстит не только себе, но и своему любовнику, она подсознательно желает забрать Вронского с собой: ведь он ее смерть никогда себе не простит и не забудет, так сможет ли он сойтись с другой женщиной? и так далее и тому подобное.
Чтобы сопрячь воедино все эти разнородные мотивы, надобна чрезвычайно многострунная тональность образа, – здесь и некая теневая, странная, упрямая иррациональность в сердцевине характера Анны, здесь и субтильный демонизм, склонный идти одновременно в двух противоположных направлениях, здесь и желание причинить боль себе и ближнему, здесь и вызов обществу, – иными словами, в великолепную и роскошную симфонию образа Анны вставлена тайная мелодия Настасьи Филипповны.
И вот эта самая темная, глубинная, грациозная, великолепная, обаятельная, и по-женски и по-человечески щедрая, непредсказуемо-свободная, слышащая поступь рока, с которым она в тайном родстве, и тем не менее только слегка, как у Моцарта, демоническая, – да, вот эта самая иррациональность всегда и в любой сцене сквозит во взгляде Татьяны Самойловой: поэтому она и оказалась поистине единственной актрисой, способной адекватно сыграть образ Анны Карениной, а неадекватно сыграть ее могут сотни других актрис.
Находки экранизации. – Иной незабываемый актерский взгляд способен пролить неожиданный свет на роль, которую исполняет этот актер, а через роль и на саму вещь, в которой играется данная роль, и если вещь эта не просто какой-нибудь увлекательный фильм, а экранизация самого Гомера, то удачно найденный взгляд того удачного актера можно поставить на одну ступень с сотней томов исследований, пытающихся пробраться к сути одного из самых великих и загадочных классиков и, что еще труднее, показать нам, «простым смертным», в чем эта суть состоит.
Потому как, если по-честному: кто в наше время читает Гомера? и много ли было людей на земле, которые от корки до корки прочитали оба его эпоса? и что от того, что они их прочитали? поверили они в эллинских богов? почувствовали ли они их незримое присутствие даже во время современных греческих отпусков? а что, если тяжесть слога и стиля и обилие чужеродных деталей настолько отпугнули и продолжают отпугивать случайных и отчаянных читателей Гомера, что им уже не до богов и до бессмертных героев?
Вот тут-то и приходят на помощь современные мастерские экранизации великого классика, но они должны быть именно современными и именно мастерскими, их задача до смешного малая и вместе до умопомрачения огромная: всего лишь заставить поверить нынешнего зрителя в реальное существование древних богов и героев, а кроме этого ничего не нужно, вселение такой веры в нашем «компьютерном до мозга костей» сознании есть, казалось бы, психологически акт немыслимый и невозможный, но если он удается, то становится источником самого настоящего эстетического наслаждения.
Что же до гомеровских поэм, то они в этом сложном деле возрождения древнего искусства играют роль, аналогичную тому пресловутому неподъемному камню, который всемогущий бог создал: но может ли он сам его поднять? то есть в художественном пространстве «Илиады и «Одиссеи» мы душой и сердцем верим в реальное существование эллинских богов, однако выйдя за его пределы, мы можем в них и усомниться.
И то обстоятельство, что кино стало настоящим посредником между исчезнувшими культурами и нынешним коллективным сознанием, не должно нас смущать: в конце концов это единственное, в чем наш незабвенный Владимир Ильич оказался прав, – но разве это так уж плохо?
Итак, «Одиссея» в экранизации Андрея Кончаловского и «Илиада» в экранизации Петерсена под названием «Троя», в чем основная разница между ними? именно в отношении к эллинским богам: если Кончаловский уравнивает богов и людей в своем творческом решении, то Петерсон начисто изгоняет богов из своей концепции, художественный результат у обоих режиссеров приблизительно одинаковый и очень высокий, но ведь для самого Гомера боги одинаково важны как в «Одиссее», так и в «Илиаде», – как же это понимать?
А вот так, что в эпосе об Одиссеевых странствиях боги как будто оказались более надышанными лукавством, волшебством и почти человеческим очарованием, тогда как в эпосе о войне ничего, кроме ревности, воинственности и властолюбия, мы о богах не узнаем, то есть в «Илиаде» сравнительно с «Одиссеей» боги из-под пера самого Гомера вышли в какой-то мере несколько более плоскими и односторонними, поэтому-то, наверное, без них и оказалось возможным спустя две с половиной тысячи лет вовсе обойтись.
И вот, перечитывая наугад неизбывно таинственные страницы обоих эпосов – такими они останутся для людей навсегда – я с удивлением удостоверяюсь в том, что боги «Одиссеи» и в самом деле как будто обаятельней и по-человечески ближе богов «Илиады», о них интересней читать, и на них любовней и охотней останавливаешься бездумным внутренним взором, когда книга отложена в сторону и душа скользит по прочитанному – но еще больше и глубже по непрочитанному – подобно лермонтовскому «парусу одинокому».
Но чей же это взгляд помог совершить сие столь малое и вместе столь великое открытие? у кого в глазах сияло столько неподдельного волшебства, надышанного лукавства и любовного очарования, что обладательницу его хочется назвать еще и Музой экранизации? догадаться нетрудно, это исполнительница роли богини Афины в фильме Андрея Кончаловского – Изабелла Росселини.
Два взгляда. – Допустимо принять хотя бы в качестве гипотезы, что в общем и целом англо-американское кино относится к франко-итальянскому, как хорошая проза относится к хорошей поэзии, и как в прозе каждый жест, каждое слово и каждый взгляд, несмотря на свою индивидуальную выразительность, имеют еще и композиционное значение, и лишь потом и по мере участия в общем замысле разыгрывают собственное игровое пространство, так в поэзии дело обстоит как раз наоборот, и поэт обычно рассказывает о своем внутреннем мире, потому что кроме этого ему сказать нечего, – вот и французам как бы нечего рассказать зрителю по сути, а то, что они рассказывают, имеет целью эмоционально растрогать зрителя, – так что, в сущности, французские фильмы обращены либо к юному зрителю, который еще не знает жизни, либо к зрителю пожилому, который все уже знает, а от кино ждет кратковременного забвения от проблем жизни, либо – и это самый худший вариант – к зрителю поверхностному, сентиментальному или, наоборот, интеллектуальному, – и потому, как сказано, впечатление от лучших французских фильмов именно как от пережитых в юности стихов: они не идут дальше поверхностного потрясения.
Так в финальной сцене очень неплохого французского фильма «Двое в городе» Ален Делон, прежде чем его уложат на гильотину, бросает последний взгляд на своего ментора и друга Жана Габена: в нем и йота отчаяния, и йота страха, и йота скорби, – остальные же девяносто семь процентов его субстанции состоят только из того, что он просто – последний и это, конечно, потрясает.
Не уступает ему и ответный взгляд Габена: долгий, потухший и бесстрастный, но не равнодушный, а только пытающийся намекнуть, насколько в данной ситуации неуместно любое привычное сочувствие и утешение.
Как дважды два четыре. – Кажется, никто в Голливуде не уделяет столько внимания работе актеров с глазами, как режиссер Серджио Леоне, – о своем любимом актере Клинте Иствуде он сказал: «У него только два выражения лица – одно в шляпе, а другое без шляпы», – но этого достаточно! о другом актере Чарльзе Бронсоне Леоне заметил, что тот своим взглядом может остановить поезд, – и тоже в точку; зрителям минутами показывают их глаза – и нисколько не надоедает, разумеется, причина тут в первую очередь в остром сюжете, а долгие взгляды героев как бы замедляют и плюс к тому кристаллизуют драматизм ситуации: взглядовые кадры точно паузы, в которых центральный конфликт с неподражаемой оптической ясностью замирает, подобно насекомому в янтаре.
И как идеи, по мысли Платона, являются сущностными сгустками земных событий, так взгляды героев у Серджио Леоне воплощают стержневую и как правило смертельную коллизию, а поскольку зритель, как и любой человек, существо прежде всего духовное, то и покидает он зрительный зал прежде всего с впечатлением о глазах персонажей, их он уже не забудет никогда в жизни, – и хотя, конечно, финальные дуэли чертовски интересны и без них не обойтись, все-таки взоры дуэлянтов во время дуэли, но также и до нее суть та пуанта, которая по величине художественного эквивалента – о силе воздействия уже не говорю – не уступит никакому классическому искусству: итак, взгляд как центр тяжести современного актерского искусства на Западе, – и только потом идут уже жест и слово.
А не наоборот, как может подумать человек, не сведущий в тонкостях актерской игры.
Запретный плод всегда сладок. – Опустошенный и бесцветный, с провалом вовнутрь и в пустоту, бесновато-одиозный и все-таки фанатически убежденный в собственном роковом избранничестве взгляд Гитлера перед финалом.
И вампирически насыщенный коварством и вероломством, масляно отсвечивающий беспредельной мстительностью, на редкость поражающий злопамятством, подобно Медузе-Горгоне обращающий в окаменевший страх любое человеческое побуждение и всегда один и тот же, неподвластный возрасту взгляд Сталина.
Оба взгляда – квинтэссенции их демонических сущностей, таких родственных и разных, – которая из них предпочтительней? можно ли здесь вообще говорить о какой-то предпочтительности?
С точки зрения Жизни вряд ли, потому что оба настолько радикально выступили жрецами Смерти, что говорить, что они что-то сделали для Жизни, равнозначно кощунству: разумеется, что-нибудь да сделали, но какой смысл калякать о миллиграммах Добра, когда на чашку Мировых Весов плюхнулись тонны Зла?
Строго говоря, Сталин был к Жизни с большой буквы чуть ближе, чем Гитлер, доказательство здесь прежнее и вечное – связь с женщинами: у Сталина, несмотря на весь ужас любовных отношений, связь эта все-таки была и связь эта была довольно крепкой, а у Гитлера связь с женщинами в сексуальном смысле держалась на гнилой нитке, хотя женщины были от него без ума, миллионы немецких женщин, но это другое, – не мужским обаянием привлекал Гитлер женщин, а темной магией самоубийственного для себя и своей страны избранничества.
Стало быть, не с позиции Жизни обоих можно и нужно судить, а с позиции Зла и Смерти, и то обстоятельство, что последняя имеет столь же ярко выраженную эстетику, не подлежит сомнению, причем эстетика эта не мертвая и формальная, а живая и экзистенциальная: она как чешуя, облегающая некое опасное, но не лишенное обаяния чудовище и имя этому чудовищу – магия Смерти; не побоимся сказать, что отдаленный отблеск великой Римской империи лежит на Третьем Рейхе, а один из величайших духовных вождей человечества, Парамаханса Йогананда, и об этом мало кто знает, даже объявил Гитлера реинкарнацией Александра Македонского.
Итак, магия Смерти, – уже во взгляде удава сквозит та страшная притягательность, которая начисто парализует жертву, Редьярд Киплинг в своей замечательной «Книге Джунглей» пошел еще дальше, показав, как не только жалкие обезьяны окаменели под магическим взглядом удава Каа, но даже его друзья, сильнейшие звери, медведь Балу и черная пантера Багира, почувствовали, как глаза змеи начали помимо воли парализовывать их волю.
И конечно же, сравнение Гитлера с таким удавом напрашивается само собой, но оценка немецкого фюрера в таком ключе – это уже совсем иное, нежели суд над ним как массовым убийцей миллионов невинных людей, в такой оценке начинает незаметно брать верх эстетический критерий, который мало заботится о морали; да, холокост – это одно, его никто не отрицает, а блестящий и холодный, как сталь, миф о посредственном художнике, венском бомже и просто больном и неудавшемся человеке, который, подобно Золушке, сделавшейся принцессой, стал непонятно каким образом вождем великой нации и более того, являясь во всех отношениях любителем – случай, кажется, единственный в истории – сумел сыграть в ней роль, сопоставимую с самыми почетными, независимо от знака, – куда еще идти дальше? – итак, этот миф, заигравший сатанинскими гранями, – совсем другое дело.
И так уж получилось, что образ убийцы шести миллионов евреев и тридцати миллионов неевреев по крайней мере в сознании среднего европейца прекрасно уживается с образом человека, который как бы двенадцать лет находился под личным присмотром Предопределения с большой буквы, а это в общем-то и большой стаж и большая честь, и если Предопределение разыграло с помощью фюрера дьявольский сюжет, – так от этого оно стало еще интересней.
О «недостатках» же немецкого фюрера – приходится брать это слово в кавычки, настолько оно странно в данном контексте – все знают, но что сказать о его «достоинствах» – и здесь без кавычек тоже не обойтись? причем достоинствах не условных и зависящих от возраста, национальности или склада характера, а, так сказать, абсолютных и общечеловеческих, с которыми согласился бы в глубине каждый из нас? есть ли вообще такие?
Рассуждаю так: если кто-то взял чужую жизнь, то, согласно вечному и неизменному закону мировой справедливости, в который раз и лучше всех провозглашенному Шопенгауэром, он должен взамен отдать свою, а если человек забрал миллионы чужих жизней, то оправдать его – не нравственно, тут вообще никакого оправдания нет, но хотя бы эстетически и косвенно – может только собственная мужественная смерть, – ведь и поныне раздается: «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!», то есть еще среди гладиаторов только тот имел шанс спасти жизнь и снискать симпатии зрителей, кто не боялся смерти. Макбет, свершая чудовищные преступления шел в одном только направлении – к собственной насильственной гибели, он где-то даже внутренне искал ее, это чувствуется между строк, убив короля, он как бы потерял свое «место под солнцем» и отныне единственной формой существования для него сделалось неумолимое приближение к смерти, – такова композиция и внутренняя музыка шекспировской трагедии. Сходные мотивы улавливаются в судьбе Гитлера: также и он был внутренне непричастен «живой жизни», зато тайно был обручен с фрейдовским «инстинктом к смерти», Гитлер должен был не только сам погибнуть, но и увести с собой свою страну, и еще миллионы других жертв, так нужно было Смерти, чьим служителем он являлся; тем не менее, поскольку страх смерти был ему как будто чужд и он сумел покончить с собой, это выгодно отличает его от другого знаменитого тирана – нашего Сталина, который, правда, привел свою страну к победе, но жизней увел с земли куда больше Гитлера, причем – немаловажный оттенок – если Гитлер уничтожал только своих врагов, а лояльный по отношению к нему человек мог на него положиться как на самого себя, то Сталин в основном уничтожал своих друзей, что вообще с точки зрения нравственности, любой нравственности, никоим образом непростительно. Также и Нерон во многом оправдал свои преступления, бросившись на меч или по меньшей мере приняв постороннюю помощь, люди, способные сделать харакири, вызывают наше великое уважение, а то и безотчетное восхищение, – и оно распространяется на повседневность, – когда приходит пора многодневных, многонедельных или многолетних мучений от старости и болезней, тот или та, кто выпивает с улыбкой смертоносный снотворный коктейль, кажется нам ближе и величественней тех, кто страдает до последнего издыхания: вот эта простенькая на первый взгляд готовность добровольно покинуть жизнь, что ничего уже, кроме бесконечных болей и унижений собственного достоинства дать не в состоянии, – она-то в нашем сознании продолжает граничить с чудом, потому что, уходя раньше времени из жизни, человек лишается не только страданий, но и некоторых субстанциальных ценностей, как то: еще несколько дней иметь близость родных, еще несколько дней видеть небо и деревья в окне, еще несколько дней просто жить.
Кроме того, как принято думать, преждевременный уход умаляет уверенность в астральном приюте, потому что «там» как будто не любят своеволие, получается, что уходящий преждевременно совершает как бы нечто почти невозможное, – и потому возвышается неизмеримо в наших глазах.
Но удивляемся мы также и тем, кто сумел преодолеть инстинктивный страх перед смертью, даже если это великий злодей: ведь почему-то с громадной долей вероятности кажется, что Сталин на месте Гитлера, загнанный в угол, все-таки не покончил бы с собой, но – бежал бы, бежал бы, бежал бы… куда? скажут – некуда, почему же? допустим, в ту же Южную Америку, с пластической операцией и новым паспортом, Гитлер вполне мог бы выбрать такую жизнь, то есть хотя бы попытаться, но он выбрал добровольную смерть.
Да и прежде, при многочисленных – кажется, больше десятка – покушений на него он не особенно упрекал свою личную охрану, будучи убежден, что люди все равно не в состоянии уберечь его, но исключительно Провидение, что оно и делает, по его мнению; Сталин, к слову сказать, в случае покушений на его драгоценную жизнь, да еще многократных, не только казнил бы всю свою охрану, но и добрался бы до их родственников, до их соседей, до их сослуживцев.
Опять-таки, все познается в сравнении, а значит и бесновато-одиозный взгляд на эстетических весах весит чуть больше коварного взгляда, – это, между прочим, косвенно доказывает судьба Евы Браун, которая добровольно ушла с Гитлером в Смерть, накануне совместного самоубийства сделавшись официально его женой; у Сталина, несмотря на гораздо больший, судя по всему, сексуальный потенциал, сравнительно с Гитлером, такой Евы Браун не было да и не могло быть, – вот в чем все дело.
Иными словами, как невольный артист на подмостках Истории Гитлер все-таки бесконечно превосходит Сталина, и это бесспорный факт, – обо всем же остальном можно спорить.
Сверяясь в зеркале. – Многотомные сюжеты о Будде и Иисусе: человек бегло их просматривает и, задумчиво почесав затылок, ставит обратно на полку; как ему жить? вся беда в том, что он знает об этом и без них и почти никогда не ошибается, хотя, если бы его спросили, как он догадался о своем жизненном предназначении, не спрашивая духовных вождей человечества, он бы, наверное, смутился, не зная что сказать.
Между тем мимолетный взгляд на себя со стороны – и как правило, в зеркало – ставит тут все точки над i: человек не может себя представить вождем человечества, но и покорным учеником, заглядывающим в рот учителю, он тоже себя не мыслит, он не видит себя ни во главе армии, ни за фортепиано, ни в дипломатических кулуарах, ни в роли Дон Жуана, ни за операционным столом, – и все это написано на его зеркальной физиономии с монументальной неоспоримостью Моисеевых скрижалей.
Короче говоря, не прочитав ни единой философской строки, человек каким-то непостижимым образом догадывается, что отношения между людьми, народами и даже самими чертами характера в человеке определяются исключительно законами гармонии, почему и провозгласили издавна музыку не только верховной из искусств, но и тайной устроительницей любого космического порядка, так что если, например, некто желает вам зла или просто к вам недоброжелателен, вы легко доискиваетесь до причины: обычно все дело в несовместимости характеров, отсутствует опять-таки гармония, которая в жизни не менее важна, чем в музыке, – иной раз ведь с очень добрым человеком сойтись труднее, чем с обладателем крупного недостатка: его изъян вас почему-то не раздражает, а бывает, вам даже странно приятен.
Вообще как часто люди общаются не за счет своих добродетелей – на них они не продержались бы и полчаса – а как раз за счет своих недостатков, и как органично, как естественно подобное общение! люди в меру сплетничают – и все в порядке, но стоит кому-нибудь завести разговор на слишком «высокую» тему – и все идет к черту! вот вам и решение вопроса о мнимом первенстве абсолютной доброты, – итак, светоч добродетели или религиозный кумир нам по большому счету безразличны, нам куда симпатичней наш добрый приятель или друг детства, а почему? да потому что мы интуитивно чувствуем: случись бы нам встретиться с тем светочем или кумиром, он бы нас на пушечный выстрел к себе не подпустил или в крайнем случае акцептировал бы нас исключительно при условии безоговорочного духовного ему подчинения, – да так только и было в истории.
В жизни мы, таким образом, подбираем себе друзей и приятелей – а судьба в том же композиционном ключе подбирает нам родственников – точно по такому же принципу, по какому к главному герою в романе подбираются второстепенные персонажи, а сам главный герой подбирается соответственно к основному замыслу произведения, и далее, как по цепочке, к персонажам подбираются их биографии, к биографиям – разного рода коллизии и обстоятельства, к тем и другим – диалоги, монологи, пейзажи, авторские отступления, и так далее и тому подобное.
И потому, съев бутерброд с колбасой и бросив на ходу жене, чтобы она его не дожидалась к ужину, наш герой отправляется к приятелю: он еще не знает точно, чем они там с ним будут заниматься, но тот факт, что подобное времяпровождение доставит ему больше удовольствия, чем все то, к чему его стали бы под разными соусами принуждать заниматься любые законодатели внутреннего развития, а главное, что он с приятелем просто смотрится лучше и естественней, чем в любом другом амплуа, не вызывает у него ни малейших сомнений.
Ведь в зависимости от того, насколько мы, сознательно или бессознательно, оцениваем несостоявшийся личный контакт с той или иной великой (и как правило уже умершей) персоной, устанавливается и наше к ней отношение: одних мы заведомо любим, поскольку легко представляем себя с ними в дружелюбных или даже приятельских отношениях, других просто уважаем, потому что интуитивно чувствуем между ними и собой дистанцию непроходимого размера, а третьих тайно недолюбливаем, так как догадываемся, что и они нас никогда бы не сумели полюбить.
Здесь же и корни так называемой тайной недоброжелательности: казалось бы, встретились люди, переговорили и разошлись, и ничего ровным счетом между ними не было, никаких дел и событий, а между тем недолюбливают они друг друга страшно и вроде бы без видимой причины, но это только на первый взгляд, причина есть и причина серьезная: они нутром чувствуют, что, случись им конфронтировать в иной ситуации и при иных условиях, разгорелся бы между ними смертельный конфликт, – сюжетная основа человеческих взаимоотношений, таким образом, очевидна.
Опять-таки, наш скромный герой мог бы проверить безукоризненную правильность своего поведения сверяющим взглядом на себя со стороны, но даже это ему не нужно, он безошибочно действует вслепую, вопросительный взгляд на себя со стороны – и, как правило, опять в зеркале – понадобится ему лишь в том случае, когда возникнут первые серьезные сомнения на свой счет, – и вот вопрос о том, что лучше: иметь такие сомнения или не иметь их, есть поистине основной вопрос философии, и только потом уже идут праздные рассуждения о том, объективен мир или субъективен.
III. Прикасаясь к мирам иным
Люди и животные
I. (Фантастическая метаморфоза). – Человека, в особенности незнакомого, мы оцениваем прежде всего по глазам, по характерному взгляду, – и точно так же по глазам и никак иначе мы оцениваем любое животное.
Допустимо ли сравнивать человека с животным? каверзный вопрос, потому что практически нет такого физического или психологического качества, которое было бы у человека, и которого не было бы у животных, так что даже спросив себя, есть ли у животных душа, мы, внимательно взглянув в глаза собаке или кошке, вынуждены ответить, несмотря на противоположные заверения иных мировых религий: если у человека есть, значит и у животных она есть, а если у человека нет, то нет ее и у животных.
Но тогда где же пролегает тот таинственный водораздел между людьми и животными, существование которого все мы молчаливо признаем, однако при конкретизации которого наталкивается всегда на неимоверные трудности?
Я думаю, что водораздел этот – смерть, и не в том плане, что животные не чувствуют приближения смерти – они чувствуют ее острее людей и реагируют на нее столь же драматично, как люди – но животные, как мне кажется, не в состоянии воспринимать в высшей степени загадочную и антиномическую природу смерти.
Что было бы, если бы люди уходили в смерть как животные? есть такое заболевание: дети к четырнадцати годам завершают цикл жизни, становясь старичками и старушками, примерно как в той «Сказке о потерянном времени»: у них сморщивается кожа, повсюду появляются морщины и необманчивое стариковское выражение проступает на маленьких и по существу все еще детских личиках; жить таким детям остается один-два года, медицина им помочь не в силах, болезнь их называется прогерия, – редчайшая болезнь, приходится она на одного из нескольких миллионов жителей планеты, но регулярно приходится.
Природная аномалия? положим, но разве многим от нее отличается конец тех, кто умирает в раковых корпусах или в домах для престарелых? скажут: здесь принципиальная разница, в одном случае финал, предначертанный самой матерью-природой, а во втором чудовищная аномалия. Тогда проделаем мысленный эксперимент: допустим, что болезни и старость не заканчиваются тем, чем они заканчиваются, то есть смертью, а становятся как бы последней ступенью перед метаморфозой: превращением человека в обезьяну или жабу, змею или насекомое, льва или крокодила, сообразно склонностям характера и кармическим заслугам, и допустим, что процесс этот естественный, закономерный и неизбежный. Так что же – согласились бы мы с таким финалом? но не согласиться значит попросту покончить с собой, – и почему-то думается с цинической долей достоверности, что мы позволили бы матери-природе проделать над собой любой опыт, но при условии, что она сделает это мастерски, то есть убедительно, правдоподобно и без альтернатив, что делать! мы по натуре своей великие приспособленцы, мы покорно идем по пути, предначертанному нам разного рода мировыми законами, и если бы путь этот не оканчивался смертью, а вел бы к дальнейшим перерождениям: от высоко одухотворенных животным к менее одухотворенным, потом к рептилиям и далее к насекомым… что же! мы, очевидно, проделали бы и такой путь, более того, мы привыкли бы к нему, как привыкли идти из века в век по проторенной дорожке от рождения к смерти… тем более что в час, когда нам суждено будет принять облик чужеродного существа и низшей твари, мы будем уже наполовину тем, чей облик должны принять.
Всего лишь милосердие матери-природы: ведь страдающий обычно так привыкает к своему страданию, что сострадающий ему, кажется, страдает больше, чем сам страдающий, а наши родные и близкие сопровождали бы нас в нашу метаморфозу, как сопровождают они нас теперь в смерть, то есть ухаживали бы за нами как за особо полюбившимися животными: тем более, что они знали бы наверняка, что и их ждет та же участь.
Я думаю, что при таком жизненном финале в людях было бы даже больше тепла, любви и сострадания, нежели при нынешнем окончании жизни смертью, потому что все стадии метаморфозы были бы телесные и зримые, тогда как смерть уводит человека в полную неизвестность: это все равно что сравнить любовь матери к своему ребенку с любовью человека к Богу, который по определению – невидим и непостижим, в первом случае – максимум конкретности, во втором – максимум абстрактности.
Разумеется, христианская любовь претендует на конкретность, не уступающую материнской любви – здесь даже своеобразный «гвоздь» христианства – но мы говорим не об избранных святых, чей опыт именно вполне конкретен, исключителен и неповторим, а о все тех же «простых смертных», у которых насчет Всевышнего обычно нет никакого конкретного опыта, а есть лишь разного рода домыслы и догадки.
Смерть в своей заключительной стадии упраздняет любые узы родства, которыми живет как человечество, так и животный мир, и потому умирающий человек, как бы он ни был искажен болезнью или старостью – это все еще проходящий стадии метаморфозы, а стало быть привычный своему окружению человек, но умерший человек – это уже феномен, вышедший за пределы любой метаморфозы и вошедший в измерение, недоступное живущим, – такого феномена в мире природы и животных не существует.
Итак, монументальная альтернатива – понятая, кстати говоря, всего лишь как реинкарнация в ее обнаженном виде – не состоялась, ее место заняла смерть, как она нам дана испокон веков, – ведь существо смерти для нас состоит в абсолютной и потому великой и таинственной – неизвестности, а развилки дальнейшего пути, уходящего в ничто, реинкарнацию или царство Божие, гипотетичны, уверенности ни в чем нет, вера становится важнейшим духовным качеством, – и вот из великой и таинственной неизвестности смерти, как из безвидной основы, исходят, тут же поселяясь в человеческой природе, великий и таинственный страх и великий и таинственный ужас, великое и таинственное мужество и великое и таинственное достоинство, великие и таинственные страсти и великое и таинственное беспокойство, великое и таинственное отчаяние и великая и таинственная надежда, великая и таинственная сила и великая и таинственная слабость.
Короче говоря, все, что так или иначе связано со смертью, несет на себе печать величия и тайны, чего нельзя сказать о гипотетической метаморфозе, описанной выше, – смерть, таким образом, является наиболее художественным вариантом финала жизни, и более того, все прочие варианты на ее фоне выглядят более-менее беременными субстанцией хоррора: существует, например, роман (и фильм) Скотта Фицджеральда о некоем Бенджамине Баттоне, родившемся стариком и развивавшемся наоборот во времени, от старости к юности и детству, так что он умер грудным младенцем на руках своей жены и в его смерти было тоже что-то от хоррор-жанра.
Итак, поскольку жизнь и смерть изначально и органически взаимосвязаны, постольку тень смерти «присно и во веки веков» лежит на жизни, а музыка смерти в качестве основной тональности инкрустирована в музыку жизни, – и вот этой тенью и этой музыкой является как раз вечное томление, разлитое по жизни во всех ее без исключения проявлениях, да, именно так: жизнь в ощущении людей – это вечное томление по неопределенному, с разной степенью интенсивности и в разных тональностях, а человеческий взгляд это вечное томление с зеркальной точностью всего лишь отражает, тогда как у животных восприятие жизни несколько иное – и потому у них в глазах подобного томления в глазах нет и в помине.
Вот вам и главная разница между человеком и животным, и постигается она прежде всего во взгляде в глаза человеку и животному, – ну, а то обстоятельство, что не во всяком человеческом взгляде читается двойная печать жизни и смерти, есть всего лишь досадная издержка, издержка, которую каждый из нас должен по возможности избегать.
II. (Кот). – Когда я с постели иногда бросаюсь завтракать, а мой любимый «британский короткошерстный», души во мне не чающий и смысл жизни, кажется, видящий только в нашем любовном общении, и потому безусловно предпочитающий процесс поедания своего корма ласкам и разговорам со мной, – так вот, когда этот кот, лежа на комоде, видит, как я, не пожелав ему еще даже доброго утра, сразу бросаюсь к еде и к кофе – правда, в свое оправдание, больше к кофе, чем к еде – он смотрит на меня тем суровым, тусклым, неодобрительным и все-таки бесконечно снисходительным к человеческим слабостям взглядом, – который плотностью и полнотой бытия, из него зримо исходящей, невольно заставляет меня на минуту забыть о вещах более легковесных, умственных и потому сомнительных, каковы, например, все те вопросы, которыми я занимаюсь выше и ниже.
И это, может быть, не так уж и плохо.
III. (Собака). – Она стояла на мосту с тоскливым и прибитым видом, несмотря на повторные окрики хозяина, она никак не могла отказаться от удовольствия тщательно и всесторонне меня обнюхать, и взгляда ее – снизу вверх, извиняющегося, слегка заискивающего, жалобного и до боли искреннего можно было бы даже устыдиться: вот, мол, кто она и кто я, и какая бездна пролегает между нами – если бы она не рассматривала меня в первую очередь как любопытно пахнущий предмет.
И вот хоть на короткое время оказаться таким любопытно пахнущим предметом, на которого взирают с благоговейным любовным вниманием, точно в первый день творения, вниманием настолько пристальным, что, глядя в собачьи глаза, вы забываете все на свете, и в то же время вниманием настолько ненавязчивым, что вы, зная, что о вас в следующую минуту навсегда забудут, чувствуете себя свободным, как ветер, свободным, как вы никогда не были свободны среди людей, – да, в этой мимолетной встрече с миром животных есть что-то абсолютно первобытное и даже, я бы сказал, райское, хотя не обязательно в библейском смысле слова.
Тем более, что появляется странное, непонятное, но вполне ощутимое блаженство полноты общения, точно вы встретились и поговорили с человеком, которого не видели двадцать лет: только в одном случае полноте общения сопутствовали минувшие годы, а в другом – считанные минуты, однако результат почти один, – вот в такие именно минуты не умом одним, а всем нутром своим начинаешь понимать, почему люди нас так часто разочаровывают, а домашние животные практически никогда, – и хотя из этого никак не следует, что животных нужно любить больше, чем людей, мы все-таки, точно назло кому-то, упорно продолжаем это делать.
IV. (Один шаг). – Просмотрев в интернете ролик с леопардом, который будучи, наверное, очень голодным, прицепился к дикобразу, во что бы то ни стало решил разделаться с ним, получил множество уколов, потом все-таки ухитрился схватить его снизу и, вывернув наизнанку, долго держал за горло на весу, так что тот, конечно, испустил дух, однако аппетит у леопарда очень скоро прошел, и от болезненных проколов он сам вслед за своей жертвой отправился к безымянным духам животного царства, – итак, в который раз став свидетелем того, что в природе, несмотря на ее первобытную красоту и образцовую для нас, людей, гармонию, нет по сути ничего кроме борьбы за выживание, причем борьбы не на жизнь, а на смерть, да еще продолжающейся ровно столько, сколько отпущено жизни тому или иному животному, – да, засвидетельствовав заново сей вечно повторяющийся спектакль, я вспомнил о главной заповеди Будды, гласящей, что именно страдание и смерть, поистине безраздельно царящие на земле, призваны вызвать инстинктивное сочувствие в человеческом сердце, сочувствие же должно пробудить любящую доброту, а поскольку страдание и смерть субстанциальны, то есть вечны и непреходящи для всех живых существ, постольку и основанная на сочувствии любящая доброта ко всем живым существам должна быть тоже вечной и непреходящей: да, здесь нравственная сердцевина всего буддизма, и тем не менее, несмотря на ее предельную внутреннюю красоту, я вынужден был заметить – пока только для себя самого, хотя, как мне кажется, очень многие люди согласятся со мной – что игра жизни и смерти именно в природе, где кроме нее на самом деле ничего больше нет, и вправду в человеческом сердце вызывает поначалу безусловное сочувствие, но дальше это чувство, как иная река, может раздваиваться, и один ток сочувствия – географически находящийся в азиатских регионах – движется ко всеобъемлющей буддийской любящей доброте, а другой его ток – протекающий через психику всего прочего человечества – впадает (так река впадает в море) в общее, громадное и неопределенное ощущение некоторого непостижимого и, я бы сказал, величественного недоумения от происходящего на земле и, в частности, в природе, – а вот от этого уже недоумения до некоторого благородного удивления (чему? да все тому же универсальному и безжалостному закону жизни и смерти) поистине один шаг: сделав этот шаг, мы точно возвращаемся после долгих странствий в родную гавань, и ничего уже не нужно больше искать или выяснять, все стало раз и навсегда ясным и очевидным.
Но что? как что? тот самый спектакль, что был упомянут выше, – он и стоит в центре творения, а эпизод с леопардом и дикобразом был всего лишь малым актом его, – и хотя лицезрение наше окружающего мира, как ни крути, напоминает жестокие римские зрелища и даже отдает некоторым цинизмом, особенно на фоне той самой великолепной буддийской любящей доброты, хотя мы вечно в глубине души будем его немного стыдиться, и хотя философия игры может иным показаться самой примитивной из всех возможных философий, все-таки никто и ничто не в состоянии вытравить до конца из нашей души эту первичную и глубочайшую интуицию.
Так что тот шаг от сочувствия к недоумению – поскольку следующий шаг, к почти уже эстетическому удивлению, сам по себе слишком легок и в каком-то смысле необратим – есть, быть может, самый малый, но вместе и самый значительный, самый решающий для всего нашего дальнейшего духовного пути шаг.
V. (Сравнение, которое не хромает). – Хотя игуана может часами пребывать в бездвижном состоянии, которое у людей зовется умственным отдыхом или медитацией, и хотя характеры людей имеют морфологическое сходство с животными, все-таки затруднительно утверждать внутреннее родство между этими ящерицами и медитирующими людьми, – но еще более затруднительно категорически отрицать его: именно по причине полной невозможности заглянуть вовнутрь немигающей игуаны или замершего в глубокой задумчивости человека; в конце концов мы вынуждены, как и обычно, выносить решение на основании внешнего облика вещей, – и вот естественная и легкая допустимость сравнения задумавшихся или медитирующих западных людей с игуаной и одновременно полная недопустимость сравнения ящерицы с людьми, выросшими в буддийских или индусских регионах, – оно, это двойное сравнение, и демонстрирует косвенно тонкую, но очень существенную разницу между обоими духовными мирами.
VI. (Соперничество). – Это качество всегда и без исключения довольно страшная вещь: оно уже между супругами работает как мина замедленного действия, оно в состоянии разрушить любую дружбу и погубить на корню любое живое и теплое чувство, оно разрушительно во всех областях жизни за исключением, быть может, спорта, оно явилось причиной многих войн, и оно же, как поговаривают злые языки, было главным мотивом отпадения Люцифера от Бога, – в мире животных центральную роль соперничества можно наблюдать на примере приручения львов и тигров: действительно, если, с одной стороны, собака сама по себе не может быть злой, когда хозяин ее добрый, и если, с другой стороны, змею приручить невозможно по причине змеиной ее природы, то укрощение тигров и львов неизменно стоит на обоюдоострой грани, то есть сохраняется риск смертельного нападения на человека, будь то укротитель или посторонний, а все потому, что львы и тигры – в отличие, например, от более слабых хищников, таких как пантера или леопард, которых можно воспитывать без страха для жизни и которые способны реально впитывать в себя человеческую любовь и (только) вместе с нею ощущение естественного превосходства людей над животными – так вот, тигры и львы чувствуют себя в первую очередь не друзьями и тем более не подчиненными человека, а его врожденными соперниками, и ничто не может устранить до конца в них это царственное и вместе ужасное настроение души: сам образ человека понуждает их нападать на него снова и снова, даже если они сыты и нет угрозы потомству, в случае же их приручения запоздалое и внезапное осознание нанесенного их природному достоинству оскорбления чревато гибелью для всякого, кто оказывается в этот критический момент в их непосредственной близости.
VII. (Прискорбный случай). – Недавно произошедший в зоопарке Цинциннати (штат Огайо) и нашумевший на весь мир случай, когда служители зоопарка вынуждены были застрелить семнадцатилетнего самца гориллу по кличке Харамбе, потому что тот около десяти минут таскал туда-сюда нечаянно упавшего в его вольер трехлетнего мальчугана, показывает, во-первых, что миф о Кинг-Конге не высосан из пальца, но основан на глубокой внутренней правде: чудовищная обезьяна, оказывается, может иметь чуткое и благородное сердце, во-вторых, он (случай) подтверждает исконное недоверие Маугли к людям, а также великолепно развитую из него (недоверия) шопенгауэровскую философию, провозглашающую как нечто само собой разумеющееся общее нравственное превосходство животных над людьми – речь идет о большинстве, но не об исключениях – (не было никаких признаков того, что обезьяна намеревалась убить малыша, быть может она даже пыталась его уберечь от толпы), в-третьих, случай этот косвенно доказывает правомерность буддийской гипотезы о шести бытийственных мирах: в том смысле, что нравственные и духовные качества, определяющие специфику того или иного мира, не обязательно соответствуют его морфологическому единству, так что даже среди особенно сильных животных существует, например, разделение на враждебных человеку (львы, тигры и крокодилы) и дружелюбных к нему (те же гориллы), и, наконец, в-четвертых, он (случай) демонстрирует чрезвычайно тонкое и всегда висящее на шелковой нитке равновесие во взаимопонимании как между людьми, так и тем более между людьми и животными.
VIII. (Божественное в природе). – Оно сказывается не в безусловном превосходстве Высшего над Низшим в том или ином живом существе, а в той (обычно малой) мере, в какой Высшее преодолевает Низшее, не изменяя и тем более не упраздняя собственную природу: поэтому в тигре, живущем в братском сожительстве с козлом, или в львице, воспитывающей юную антилопу как своего детеныша, следует без всякого преувеличения признать черты подлинной святости, – но больше всего их в той змее, которая подружилась с брошенным ей на съедение хомячком: вот почему, наверное, мир животных мы заключаем в сердце целиком и полностью и без каких-либо ограничений, тогда как на первый взгляд идеальный и запредельный мир разного рода святых, чудотворцев, подвижников и духовных учителей нами интуитивно воспринимается хотя и с восторженным удивлением, но одновременно и с некоторым нутряным сомнением, точнее, с идущей из глубины души насущной потребностью как следует разобраться в этом чрезвычайно важном для нас деле: то есть какова природа этих выдающихся людей? в чем заключается их Высшее и где залегает их Низшее? а главное, какова у них степень преодоления Высшим Низшего? однако поскольку удовлетворительно ответить на все эти ключевые вопросы принципиально невозможно по причине исключительной сложности рассматриваемого феномена, постольку некоторая (и втайне радующая нас) затруднительность в осуществлении последнего и решающего выбора – подобно Дамоклову мечу – висит над нами, и мы продолжаем как ни в чем ни бывало жить между обоими мирами как сидеть между двумя стульями.
IX. (Плывя против течения). – Животные всегда естественны и грациозны, животные лечат, животные не способны к беспричинной жестокости, животные умиляют и ужасают, но в них никогда нет чувства пошлости, животные умирают целомудренно, забираясь перед смертью в такие дебри, где их трупы человек не может обнаружить, – по этим и еще многим другим сходным причинам нельзя, кажется, не предпочитать инстинктивно людям животных, и мы так и делаем, часто не отдавая себе в том отчета, – но тогда нам приходится каждого встречающегося на пути человека сравнивать с чем-то (точнее, кем-то), что (или кто) как бы заведомо выше его, то есть мы парадоксальным образом попадаем в положение судьи, вынужденного и даже обязанного произнести некий приговор над обвиняемым, причем факты говорят не в пользу последнего (это ведь все те же наши извращенные предпочтения, о которых говорилось выше).
Однако фактов этих тем не менее явно недостаточно для вынесения справедливого обвинительного приговора (все-таки мы сознаем, что нельзя основываться на личных чувствах, да и хороших людей вокруг предостаточно, не говоря уже о родственниках, друзьях и приятелях), – и как добрый и честный судья в сомнительных случаях традиционно высказывается в пользу подсудимого – здесь жесткая юриспруденция приобретает даже некоторый оттенок благодати – так мы на каждом шагу склонны в любом встречном-поперечном находить качества, за которые его можно если и не полюбить, то по крайней мере уважать и даже проникнуться к нему теплой симпатией.
И неизвестно еще, поступали бы мы также, если бы изначально исходили из безусловного и непоколебимого обратного предпочтения животных людям, – итак, здесь, как и везде, находит себе лишний раз подтверждение общая закономерность: только плывя против течения, можно достигнуть высокой цели – ведь последняя по определению пребывает в верхнем, а не в нижнем измерении, в истоках, а не в устье, в начале всех начал, а не в конце их.
Гносеология гномов. – Я не однажды обращал внимание на тот факт, что выражение лиц у малорослых людей, как правило, угрюмое, но выразительное, они избегают наших взглядов, однако, если нам случится встретиться глазами, выдерживают наш взгляд и смотрят на нас до тех пор вопросительно и исподлобья, пока мы первые не отворачиваемся с некоторым смущением.
Нам трудно представить себе их внутренний мир, мы не можем вообразить их мыслей и чувств, нам практически невозможно догадаться, какая у них профессия и чем они занимаются в жизни, и есть ли у них семья, и каковы их отношения с родителями, собственными детьми и между собой, – все это для нас тоже «книга за семью печатями»; нам, разумеется, никогда не придет в голову спросить у них, который час или как пройти туда-то, и они нас тоже никогда ни о чем не спрашивают, – мы живем с ними на одной земле, но как бы в параллельных мирах, точно с инопланетянами, хотя встречаемся регулярно, пусть и не часто.
Итак, мы ничего о них не знаем, но, если бы нас спросили об их мировоззрении в целом, мы, пожалуй, сказали бы, что эти люди скорее всего никогда не думают о жизни в целом, но всегда о ее частностях, – и это, быть может, только и отличает их от нас, «простых смертных» и обыкновенных людей; когда же человек не думает о жизни в целом, трудно себе представить, чтобы он понимал, что такое смерть, ибо поистине смерть должна быть всего лишь оборотной стороной жизни в целом.
А там, где нет ни жизни, ни смерти, нет и развития, нет жизненных фаз; нам и в самом деле невозможно себе представить таких людей как малыми детьми, так и глубокими старцами, – они точно родились малорослыми крепышами с обильной растительностью и угрюмым выражением лица, просто в детстве они были очень малыми экземплярами описанной породы, а потом, с годами лишь увеличивались в размерах, не меняясь нисколечко по существу, точно маленькие матрешки исчезали постепенно в более крупных.
По этой же самой причине нам трудно вообразить их смерть, кажется, что они либо живут вечно, либо в один прекрасный момент таинственно и бесследно исчезают из этого мира: без смертельной болезни, без предсмертных страданий, без погребений и вообще без всего, что касается «последних вещей».
А ведь сами они, должно быть, тоже незаметно, но пристально наблюдают за нами, и наверняка успели обратить внимание, как важны для нас эти «последние вещи» и как вся наша жизнь незаметно вращается вокруг них, – и что же они должны думать на этот счет? завидуют ли они нам, что мы обречены рано или поздно все это оставить? непостижимо ли это для них? кто знает? или выражая ту же мысль в стихотворной балладе.
Средь нас были странные дети, что в детстве хотели остаться, — и вздумали помыслы эти, как в сказке, от них отделяться. Им грустно казалось смириться с серьезностью будней житейских — куда как приятней резвиться в привольных полях Елисейских! Там демоны, люди и боги танцуют, играют на флейте, а здесь мамы с папами строги, как будто и не были дети. Там нет ни рожденья, ни смерти, там жители в юность одеты, и даже заядлые черти сияют там радостным светом. И как под удобным предлогом спектакль покидают в антракте, покинули мир – но пред Богом предстали в решающем акте. И что же: похожим на хохот сквозь щель в Преисподнюю дверцы, а может на ангельский шепот, идущий от самого сердца, сказал им таинственный Голос: «Я в лоно Мое не приемлю до срока не вызревший колос: вернитесь на грешную землю и снова живите как дети, хоть облик и будет ваш жуток, не ангелам быть же в ответе за ваш неразумный поступок! Я сделаю смерть недоступной для вашего малого роста — но с жизнью, как страстью преступной, бороться вам будет непросто! Идите и сказку верните душою черствеющим людям, и жертву собой принесите: за это мы вас и рассудим». Изрек – и вот бывшие дети, что мило под солнцем резвились, в невиданных прежде на свете волшебных существ превратились, и – гномами разными стали, и так же, как люди, старели, и жить, вероятно, устали, но смерти найти не умели. Лишь ножкой стучали о ножку, да глазками злобно косили, когда мимо них по дорожке людей на плечах проносили. И глядя с враждой безыскусной на бледную в лицах их краску, все думали с завистью грустной, что скрылись те в лучшую сказку.Подвиг аргонавтов. – Если бы немецкие футболисты выиграли чемпионат Европы 2016 года, то их можно было бы отчасти сравнить с легендарными эллинскими аргонавтами, отправившимися в незапамятные времена на поиски Золотого Руна: прежде всего в том смысле, что как последние вынуждены были в конце концов сразиться с драконом, охранявшим сказочное сокровище, так точно первым в четвертьфинале пришлось одолевать с давних пор висящее над ними «итальянское проклятие» (еще ни разу в официальных турнирах немцы не могли победить итальянцев), которое, как хотите, а уже по определению является феноменом, не вполне поддающимся рациональному определению, – и действительно, хотя немцы были лучше итальянцев абсолютно по всем футбольным показателям, хотя итальянцам не удалось создать ни одного истинно голевого момента, это проклятие как величина таинственная и не вполне земная все-таки сопротивлялось до последнего, используя то опытнейшего защитника Буатенга, непонятно почему поднявшего обе руки в штрафной, в результате чего мяч задел его руку, был назначен пенальти и итальянцы сравняли счет, то бесчисленные малые погрешности немецких форвардов, не позволившие им в регулярное время увеличить счет, то, наконец, феноменальные и по сути необъяснимые слабости сразу трех опытнейших нападающих Германии, Озиля, Мюллера и Швайнштайгера, не забивших пенальти, – короче говоря, названное «итальянское проклятие», подобно фантастическим противникам в саге об аргонавтов, боролось с людьми до конца, и все-таки чисто человеческие борцовские добродетели и чисто человеческая воля к победе, в данном случае воплощенные в лице немецкой сборной, одолели их: в полном согласии с учением Будды о том, что, с одной стороны, есть все-таки в этом мире «вещи, о которых нашей философии не снилось» («Гамлет»), однако, с другой стороны, они не абсолютны, они зависимы от других вещей и они преходящи, то есть, в качестве примера, могут быть побеждены людьми, что и произошло как в мифической древней Элладе, так и в реальной нынешней Франции на чемпионате Европы по футболу 2016 года.
Немой диалог из камня. – Все мы привыкли к тому, что там, где Высшие Силы – там и истина, положим, последние подразделяются на Светлые и Темные воинства, но уже одно это бросает некоторую тень на первые и просветляет некоторым образом вторые, потому как неужели не ясно, что любые противоположности онтологически равноценны и внутренне дополняют друг друга? как день – ночь, холод – тепло, правая рука – левую, добро – зло, женщина – мужчину, верх – низ, энергия – материю, и так далее и тому подобное.
Архангел Михаил, пригвождающий Сатану, ничего на самом деле не достигает, поскольку дьявольские семена не могут так вот запросто исчезнуть из этого мира: исчезая, они дают новый кармический посев, и более того, энергии Белого Братства, истребляя и подавляя Темные Силы, только преображают, а быть может и усиливают последние, это вам подтвердит любой физик: во-первых, силы действия и противодействия равны, а во-вторых, ничто не исчезает, но лишь изменяется.
Итак, мы любуемся прекрасным ангелом из камня, торжествующим над драконоподобным чудовищем на бесчисленных фасадах католических церквей – а жизнь идет своим чередом, и в ней ни на йоту не уменьшается общий вес зла, как ни на йоту не увеличивается и суммарный вес добра.
Зато духовных и прочих приключений хоть отбавляй, взять хотя бы подвиги Жанны д'Арк, событие само по себе совершенно уникальное в европейской истории: чтобы крестьянская девушка, понятия не имевшая ни о военном искусстве, ни о политике, ни о дипломатии, стала во главе французской армии, да еще разгромила англичан, – тут без вмешательства духовных чинов явно не обошлось! являлись ангелы на самом деле Жанне или это было колоссальное самовнушение, математически недоказуемо но, имея на выбор обе эти версии, следует все-таки предпочесть первую как наиболее правдоподобную, – наверняка ангелы являлись Жанне буквально, как привидения Свидригайлову, и помогли ей в ее судьбоносном начинании.
Любопытная вещь: быть может в первый и в последний раз ангельские чины выступили против англичан, обычно они всегда были на их стороне: чего стоят многочисленные сообщения английских и германских военных летчиков во время обеих Мировых войн о том, как ангелы помогали англичанам сбивать германских асов; все это удивительно и прекрасно, и мы где-то тоже в глубине души за англичан и на стороне ангелов, но, положа руку на сердце: что же это за Абсолютная Истина, которая выступает на стороне одной нации против другой? и как бы мы ей ни симпатизировали, мы все-таки вынуждены признать: да, это может быть Истина очень высокого уровня, но никогда не Абсолютная Истина, – последняя просто не может быть пристрастной, то есть полярной, а поскольку все в мире так или иначе состоит из противоположностей, значит Абсолютной Истине в мире места нет; с другой стороны, истина на то и истина, что она везде, всегда и во всем, но везде, всегда и во всем она может только отсутствовать и никогда – присутствовать.
Это мы уже, полярные и ограниченные существа, каждый на свой лад и в меру сил, переводим истину из субстанции отсутствия и оригинала безмолвия в присутствующие измерения и на условный, многозначный, человеческий язык.
А есть еще эльфы и гномы, которые, например, в Исландии живут почти на равных с местным населением и без их согласия не проводятся никакие строительные работы в той местности, где предполагают их местожительство; далее, тибетские буддисты убеждены, что в каждом кубометре комнатного пространства живет миллион невидимых живых существ (не микробного, но астрального свойства); наконец, в Англии, оказывается, имеется в продаже географический Атлас Привидений, где указаны все являющиеся или однажды явившиеся призраки.
Кроме того, для всякого непредвзятого наблюдателя очевидно, что те же самые астральные силы по всей видимости покровительствовали до поры до времени Адольфу Гитлеру: в том смысле, что охраняли его косвенно от многочисленных покушений, коих, согласно современным исследованиям, было несколько десятков: случаем и удачей тут никак не отделаешься, и сам немецкий фюрер был убежден в том, что рука Провидения простерта над ним; правда, у астральных сил – назовем так простоты ради все, что далеко выходит за пределы нашего разумения – были на Гитлера определенные планы: они, очевидно, явно не хотели преждевременного окончания войны, им почему-то очень важно было, чтобы Германия была полностью разгромлена и начала с нуля, что же, план сам по себе весьма глубокомысленный и разве что в жертву ему были принесены миллионы людей, но ведь не нам судить! правильно, а великий и неоспоримый Парамаханса Йогананда объявил Гитлера даже реинкарнацией Александра Македонского: факт, который не каждому известен, – нет, какова все-таки честь для организатора холокоста! вот вам пример действия иерархий Света и Его служителей.
Кстати, как раз в перспективе осмысления участия Небесных Иерархий во Второй Мировой войне в частности и в истории вообще кафковский «Замок», а заодно и «Процесс» приобретают совершенно новый смысл и некое пророческое значение, – эта субтильная ирония над самими небесными иерархиями! причем отнюдь не в переносном смысле! недаром сам Кафка завещал сжечь свои произведения, и недаром по характеру и по состоянию здоровья он был как бы «не от мира сего»: в его странной анатомии и еще более странной судьбе было что-то такое, что смутно намекало на глубочайшее недовольство им и неблаговоление к нему тех Сил, которые мы привыкли считать самыми светлыми, самыми добрыми, самыми ангельскими, – и мне почему-то кажется, что Кафка это отчетливо сознавал: он ведь показал нам, что в поведении, а быть может и самой сущности духовных чинов есть нечто такое, чего по большому счету не должно быть, и европейская история – вообще любая история – на каждом шагу подтверждают эту кафковскую концепцию.
Итак, демоны хорошо смотрятся только на фоне божественности и святости, бесы выигрывают, когда искушают великого человека и особенно праведника или святого: в Евангелиях это центральный драматический сюжет, да и в легенде о Будде его конфронтация с демоном Марой играет великую роль; когда же бесы заняты собой или мелкими людьми, они и сами мельчают, – таков простой закон контраста, одинаково неотъемлемый как для искусства, так и для религии.
В самом деле, где всего страшней, но и величественней нечистая сила? да, в церкви и при церкви, готические соборы недаром украшались химерами, архитектура приобретала от этого дополнительную выразительность, а темные силы радовались, что обрели, наконец, поистине вечное место под солнцем: из-под отеческой опеки божественного их уже никто отныне не посмеет изгнать, и они правы! темные силы сделались поистине тенью света, его изнанкой и оборотной стороной.
Правда, пришлось смириться с сюжетным каноном: они (бесы) навсегда вроде бы побеждены, таков неумолимый финал, – архангел Михаил пригвождает к земле победоносным копьем сатану, и вот мы уже имеем хорошо знакомый Happy End, который не обязательно свойствен художественному шедевру, а как правило даже ему порядочно противоречит, потому что сама жизнь показывает его надуманность. Итак, финал – финалом, но финалу предшествовали зачин и действие, а это значит: во все времена и во всех культурах, исповедующих Бога, мрак и зло восстают против света и добра, снова и снова, – и они должны быть всякий раз заново побеждены, и побеждаются, а это слегка напоминает тысячу раз проигранный на сцене школьный спектакль, – да, беда в том, что Иисуса уже нельзя помыслить помимо бесов и людей, так или иначе бесами одержимыми, а такими по логике христианства становятся все люди, не принимающие Христа; просто хорошими и добрыми людьми христианство не интересуется, между ними как бы нет звучания, музыки там нет.
Стоит только спросить себя: где больше музыки – у кающегося и обращающегося к Христу страшного преступника или обыкновенного человека, который всю жизнь никому не сделал дурного, зато родным и близким, как подобает, давал теплоту и помощь, но и к религии никакого отношения не имел? наш великий и незабвенный Федор Михайлович давно уже ответил на этот каверзный вопрос, – действительно, музыка все решает, и только она одна, в отличие от слов, не обманывает: преступник, мечущийся между церковью и плахой, хорошо смотрится и звучит, тогда как простой и добрый неверующий смертный бьется о мировые религии, как пробка о стекло: никакого звучания там нет; вообще, диссонанс, если он мастерски выражен – как у позднего Моцарта – и есть музыкальный образец полярности, а на полярности стоит наш мир.
В который раз: день и ночь, мужчина и женщина, жизнь и смерть, тело и душа, грех и святость, и так далее и тому подобное, – все это вполне нормально, а если нормально, значит нет и не может быть в одном начале ничего дьявольского, но тогда и в другой противоположности не может быть ничего божественного: таков ощутимо-пронзительный глас Будды из глубины веков, глас, утверждающий, что любая подлинная духовность прямо пропорциональна упразднению какой бы то ни было полярности; есть над чем задуматься, а плюс к тому вот еще какой психологический шедевр буддийского толка бросается здесь в глаза: Будда обращает наше внимание на то, что заниматься одним добром и идти лишь к свету не только предосудительно, но и опасно, потому что кармический маятник, достигнув апогея, начинает падать в другую сторону.
Это следует понимать таким образом: человеку, всю жизнь занимающемуся только добрыми и богоугодными делами, может все это чертовски надоесть и даже наверняка надоест, таков психологический закон, которому он не может сопротивляться, и поневоле, не в этой жизни, так в следующей, обратится он к противоположной деятельности, то есть станет творить зло и полюбит мрак: просто чтобы испытать иное и обратное, – и так вечно: туда-сюда, от добра ко злу, и от зла к добру, чаще же всего имеет место изначальная укорененность добра и зла в человеческой душе, – так что, творя добрые дела, человек вполне может испытывать при этом злые чувства, а делая зло, может ощущать самое искреннее раскаяние, даже не понимая, как он на такое способен и почему вообще делает то, что он делает, – все творчество Достоевского опять-таки посвящено этой теме.
Мы видим, таким образом, как простой нюанс буддийского мировоззрения, которого Мастер и касался-то лишь в том случае, если его об этом спрашивали, стал целым творческим кредо одного из величайших мировых писателей, – вот что значит научиться взвешивать гениев! но что из этого следует? а то, что любое зло, даже самого микроскопического размера, проходя сквозь игольное ушко смерти, мгновенно и неизбежно обретает природу ужасного, – и в мир приходит хоррор.
Разумеется, чтобы выявить ужас в чистом виде, нужна некая его творческая – а значит, мастерская, чтобы не задеть важнейшего принципа правдоподобия! – обработка, точь-в-точь как в соотношении искусства и жизни: поэтому, если спросить себя, присутствуют ли зерна хоррора в житейской действительности, то следует, конечно, ответить утвердительно, речь ведь идет именно о зернах и ни о чем другом, – зерна эти рассыпаны по миру как семена неведомых загадочных миров, отталкивающих и притягательных одновременно, примеры? сколько угодно: те же случаи экзорцизма, явления призраков, иные сновидения, предсказания скорой гибели каким-нибудь ясновидцем, атмосфера древних замков, серия необъяснимых смертей, иные нестандартные и зловещие люди, и так далее и тому подобное.
Обращает на себя в который раз внимание, что все по-настоящему ужасное, во-первых, вращается около феномена смерти, во-вторых, содержит обязательный намек на посмертное существование, и в-третьих, заключает в себе добавку некоторой субтильной зло-вещности, недоброжелательности или по меньшей мере просто отсутствия элементарной доброты и открытости.
Вам могут являться призраки ваших умерших родных, это вполне нормально, но стоит какому-нибудь призраку двусмысленно и зловеще улыбнуться, как хоррор тут как тут, и более того, любое странное и необъяснимое поведение астральных пришельцев, тех, кого вы хорошо знали и любили в жизни, любое отклонение их от ожидаемого нами в них любовного и доброжелательного излучения, – все это мгновенно может настроить нас на атмосферу тончайшего хоррора, да так и происходит во многих классических фильмах ужасов, но как будто, к счастью, не происходит в жизни, – хотя могло бы происходить.
Вот хоррор-жанр и додумывает по сути на свой лад древнейшую мечту человечества: о бессмертии души в более-менее земном облике и переселении ее в мир иной приблизительно в том виде, в каком мы его привыкли встречать в жизни; оттого-то готические соборы всегда будут удивлять нас полчищами химер, со всех сторон выглядывающих, выползающих и вылетающих из каменного фасада; здесь сокрыта гениальная идея: божественный дух, поселившийся внутри собора, поневоле выталкивает злых духов наружу и прочь, ибо существовать вместе они не могут, то есть слишком близко не могут; так в гоголевском «Вие» на исходе третьей ночи нечисть с наступлением рассвета не успела уйти в родные пределы демонического мрака и, наподобие гербарийных бабочек на иголках, в остановившемся движении замерла невиданной и недоступной обычно человеческому взгляду чудовищной коллекцией ада.
Неудивительно поэтому, что в мастерских, обычно располагающихся во дворах великих готических соборов, часто можно наблюдать полуразрушенные скульптуры ангелов и демонов: какой-нибудь анонимный реставратор оставил их рядышком друг против друга, – и вот стоят они, горемыки, в вечном и странном соседстве, и нет уже между ними давным-давно смертельной вражды, но они мирно уставились друг на друга безглазыми ликами.
И кажется, если бы им суждено было вдруг ожить, подобно Буратино под стамеской старого Джузеппе, они перво-наперво подмигнули бы друг другу, а потом, сознавая, что они вынуждены враждовать до скончания века, но победить друг друга не могут по причине изначального положения вещей, тем самым напоминая артистов, играющих смертельных врагов, – они по-деловому принялись бы обсуждать подробности очередной предстоящей сцены.
Так что подобно тому, как океанская глубь всегда спокойна и безмолвна, тогда как на поверхности ее бушуют штормы, этот немой диалог глазами в гримерской вдали от сценических битв, является истинным и глубочайшим прообразом взаимоотношения Добра и Зла, – хотя в жизни, как и полагается, они пребывают в состоянии непримиримой вражды.
Если смотреть на вещи с ангельской внимательностью. – В знаменитом фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином» есть эпизод, где ангел, пристально наблюдая за человеком, видит, как тот бросается с крыши дома, – и смотрит ему вслед с выражением во взгляде, которое можно охарактеризовать как внимательность, одна только внимательность и ничего кроме внимательности.
Правда, на секунду взгляд ангела изображает шок, ужас, сострадание и некоторое смущение от невозможности вмешаться, но тут же возвращается к своей основной тональности пристального созерцания: действительно, немецкий режиссер признался, что самым трудным для него было отыскать единственно правильное выражение лица ангела, когда его подопечный совершает самоубийство, бросаясь с высоты на землю.
Вообще, эти два ангела в костюмах и с бюрократическими лицами в первый момент напоминают кафковский «Процесс» и только неизменная, невероятная и поистине неземная внимательность в глазах убеждают нас, зрителей, в их неземной природе: человек так за страданием своих ближних наблюдать не может, если бы он внимательно смотрел, как ближний его бросается с небоскреба, не желая и не стараясь ему помочь, мы бы назвали такого человека садистом и с возмущением от него отвернулись, – ангелу же его сверхчеловеческая внимательность прощается и мы даже не задумываемся о том, в состоянии ли он был помочь тому несчастному самоубийце, да и хотел ли вообще помочь ему.
Странным образом эта чистая и безграничная, то есть по сути метафизическая внимательность, неспособная к какому-либо спасительному деянию скорее всего убеждает нас в ангельской природе обоих странных наблюдателей из фильма, и даже вопреки церковному учению об ангелах-спасителях, потому что уж слишком часто люди, имеющие за плечами по меньшей мере одного ангела-хранителя, благополучно кончают с собой или гибнут от бесчисленного множества случайных причин: спрашивается, а где были в этот момент их ангелы-хранители и что они делали? ответ может быть только один: они наблюдали, – но за чем же они наблюдали и почему не вмешались вовремя?
Они наблюдали, надо полагать, как жизнь конкретного человека, заканчиваясь ужасным страданием – хотя неизвестно, как это страдание переживалось самим страдающим – перетекает в его бытие, и не вмешались они потому, что перетеканием жизни в бытие оправдывается любая жизнь, а более глубокого смысла, нежели упокоиться раз и навсегда в бытии, жизнь не имеет и иметь не может, – таков великий смысл ангельской внимательности: и понять ее вполне, а тем более приобщиться к ней, оставаясь человеком, а значит не переставая до конца сочувствовать и помогать людям, но уже с этой бесконечной внимательностью внутри помощи и сочувствия, точно внутри иглы, очень трудно, если вообще возможно, и здесь Вим Вендерс вплотную соприкасается с Буддой.
Действительно, страдание, вопреки Будде и Шопенгауэру, не формирует нашей общей оценки жизни: только под влиянием определенных обстоятельств и только в продиктованных этими обстоятельствами пределах наше жизненное пространство деформируется до такой степени, что мы остро осознаем разницу между прежними и «нормальными» условиями жизни и новыми и «ненормальными», – переживание этой разницы и есть страдание.
Ребенок выходит на свет чистый, невинный, напитанный субтильной витальной энергией, полный светлых надежд и благих начинаний, а уходит из него стариком высохшим и сморщенным, энергийно высосанным, опустошенным и всегда как будто в чем-то виноватым или по меньшей мере исполненным смутного разочарования и горького удивления насчет того, какую странную штуку с ним сыграла жизнь, и если не учитывать разницу в сознании ребенка и старика, то этот очевидный и повторяющийся от века спектакль дает вполне оправданный повод сказать жизни четкое и бескомпромиссное: «Нет», лучше всех его произнесли Будда и Шопенгауэр, к слову сказать, два человека, жизнь которых, от первого и до последнего дня, не считая нескольких неизбежных шероховатостей, была абсолютно удачной и счастливой.
Так вот, если бы не было в мире бытия, а была одна только жизнь, выводы этих двух уникальных гениев остались бы неоспоримыми, известна крылатая фраза Шопенгауэра: «Постучите в гробы и спросите их обитателей, хотели бы они снова вернуться к жизни, и они вам наотрез покачают головой», – однако это не совсем так, спросите любого старика – самого больного, кого возят в инвалидной коляске и чью слюну подтирают с полу, кому постоянно колют морфий и кого забыли его ближайшие родственники: жалеет ли он о своей жизни? хотел бы он ее сию минуту прекратить? или глубже: желал бы он, если б было возможно, вообще не прожить ту жизнь, которую он прожил? совсем не родиться? и вы увидите, что он не сможет сказать ни «да», ни «нет»: только подчиняясь минутному хорошему самочувствию, он ответит вам: «Да, мне хорошо жить», и только под влиянием сильнейших болей или сгустившейся душевной депрессии он скажет вам: «Нет, я хотел бы тотчас умереть».
Зато в более-менее ясном состоянии ума этот старик, как и почти любой человек, уверяю вас, не будет в состоянии произнести никакого окончательного суждения насчет того, что лучше: жить или не жить? все познается в сравнении: человек, родившийся в бедности и с болезнями, гораздо больше смиряется со своей жизнью, чем тот, кто стал бедным и вдруг заболел, иные заключенные после долгих лет тюрьмы настолько отвыкают от свободной жизни, что предпочитают после отбытия срока жизнь с поблажками, но в пределах тюрьмы, хотя другие приговоренные невзирая на чудовищные наказания и даже риск поплатиться жизнью постоянно совершают попытки к бегству; не испытавший страсти не может понять трагедии Ромео и Джульетты, а напрочь чуждый соблазна власти и славы вряд ли постигнет судьбу Макбета; одни готовы выдержать любые испытания и не откажутся добровольно от жизни, даже будучи привязаны к кислородной подушке и пищеварительному зонду, тогда как для другого дать слово и не сдержать его настолько невыносимо, что он стреляется в висок или делает себе харакири, – короче говоря, почти все в мире для одних может являться источником радости, а другим доставлять страдания и даже вести к смерти, поистине, и радости и страдания жизни относительны, а критерием тех и других являются наш характер и наше самосознание.
Не по теме здесь говорить о страданиях абсолютных, к каковым можно смело отнести пытки или погребение заживо, но, окидывая мысленным взором кое-какие известные нам представления об аде, как то: путешествия туда Данте и Вергилия, короткое посещение Аида Одиссеем, суждения Церкви о преисподней, учение Будды о шести мирах и аде как неблагоприятнейшем из них, остроумное высказывание Ж.-П. Сартра о том, что «ад – это другие», и прочее в том же роде, нам придется сделать вывод, во-первых, о глубочайшей неоднозначности ада, во-вторых, о существовании его в разных и параллельных мирах, и в-третьих, в качестве логического заключения, о его художественной природе.
И как страдание, доведенное до адских пределов, требует для своего самовыражения адекватный жанр, и таким жанром является только хоррор и он один, так страдание обыкновенное и житейское наполняет собой все известные нам «жанры» бытия, и ни в каком из них не имеет права полностью отсутствовать, в самом деле, с легкой руки Достоевского мы не только привыкли к страданию, но и научились видеть в нем некий высший смысл, жизнь без страдания точно суп без соли: он пресен и не аппетитен, мы окружены страданием, как птица воздухом, и чувствуем себя в нем, как рыба в воде, нельзя вымести страдание из жизни, как сор из избы: в нем есть свой великий смысл.
Каждый из нас страдает по-своему и в разной степени, но, положа руку на сердце, все мы в глубине души благодарны судьбе за страдания: они очищают нас так, как не может очистить никакая радость, раз их испытав, мы от них никогда не отречемся и отныне воспринимаем их как самые важные и поучительные события нашей жизни.
Такова человеческая психология: все легкое и безбольное проходит мимо нас как воздух, напротив, боль, трудность, потеря, разочарование оставляют на душе, как и на теле, неизгладимые рубцы, раны да и просто мелкие шероховатости, из которых, как искусным резцом, выпестовывается наша индивидуальная, ни на кого не похожая биография и судьба, – итак, страдание неотделимо от жизни, добровольно, правда, на него никто не согласится, но потом, поневоле испытав его, никогда от него уже не отречется.
Нынешняя эзотерика отыскала даже судьбоносные указания во всех решительно заболеваниях, почти каждый раковый больной благодарен своей страшной болезни: она открыла ему иной и высший смысл жизни, и даже не смысл – саму жизнь он стал чувствовать в отведенные ему последние часы, дни, недели или месяцы так, как никогда не чувствовал, будучи здоровым, он стал видеть жизнь как человек, у которого удалили глазную катаракту, стал слышать ее, точно слух его утончился многократно, стал ощущать ее, как будто сняли с него кожу… да и жертвы аварий переживают «туннель и свет» и больше уже не имеют страха перед смертью, и нет вообще такого трагического события, в котором нельзя было бы при желании обнаружить его великое оправдание.
А ушедший двадцатый век принес человечеству страдания, о которых оно не подозревало, двум его величайшим разновидностям – сталинскому и гитлеровскому террору – поставлены в литературе памятники, читайте «Колымские рассказы» Варлама Шаламова или «У нас в Аушвице» Тадеуша Боровского: там люди настолько привязаны к своему лагерному аду, что единственное, чего вы там не найдете, – это серьезного возмущения своим положением (которое так свойственно нам во время чтения), а также стремления уйти из ада любым путем, то есть в первую очередь наложив на себя руки, ибо иного пути, собственно, и не было (что опять-таки посоветовали бы несчастным обитателям ада мы, дотошные читатели).
Что говорить! также и для обитателей старческих домов или безнадежно больных подняться с постели и добраться до туалета – занятие столь же значительное и всепоглощающее, похожее на подвиг, как для Суворова переход через Альпы, и еще неизвестно, так ли уж различен онтологический вес обоих подвигов: везде, таким образом, мы наблюдаем одну и ту же закономерность – чем горше и дольше мы страдаем, тем сильнее свыкаемся с нашими страданиями и тем плотнее с ними срастаемся, так что, перефразируя Кафку, если палкой ударить по нашему существенному страданию, удар придется не только по телу, но и по душе.
И кто знает, быть может для того, чтобы в полном освобождении от страданий увидеть главную цель жизни, нужно было до поры до времени вовсе быть не причастным страданию, чтобы вообще не возникла эта бессмертная и губительная привычка: ценить и любить жизнь благодаря ее существенному страданию, а также уважать и быть благодарным страданию за то, что оно есть эссенция жизни, – это именно и случилось с историческим Буддой: возьмем ли мы легенду о нем или попытаемся извлечь из нее реальную биографию, вывод будет один – юный Будда не узнал никакого страдания, не узнав страдания он, не успел привыкнуть к нему, а не успев привыкнуть к нему, он не постиг его субстанциальных ценностей.
Действительно, Будда в юности никогда не болел, никто не смел обидеть его, у него были прекрасные родители, жена любила его без памяти, он имел все, что нужно для счастливой, безоблачной жизни, конфронтация с двоюродным братом Девадаттой началась позже, – и вдруг это столкновение с болезнью, старостью и смертью, которые он увидел со стороны, и по всей видимости не в результате трех легендарных выездов в сопровождении своего возничего, а просто по мере наблюдения за повседневной жизнью, – и вот они-то его потрясли так, как нас потрясает первый интимный контакт с женщиной, или первое прослушивание моцартовского Реквиема, или первое осознание, что мы тоже когда-нибудь умрем.
Но какой он сделал из этого вывод? любой другой на его месте человек, даже самый мудрый, стал бы додумываться до последних причин и, найдя их, на этом успокоился бы, потому что последние причины залегают всегда в космическом положении дел, а изменить его человеку не дано, Будда же поступил иначе: он не смирился с неизбежным, а попытался неизбежное преодолеть, хотя удался ли ему его подвиг, есть опять-таки вопрос одной только веры.
Поскольку страдания, согласно Будде, принадлежат жизни и от жизни неотделимы, постольку пришлось избавляться от самой жизни, и вот это освобождение от жизни – от любой жизни – оно и есть самое оригинальное в учении Будды, вот Будда уж точно вместе с водой выплеснул из ванны и ребенка, хотя все до него старались сохранить ребенка, то есть жизнь, и выплеснуть из ванны воду, то есть страдания и смерть: Будда показал, что это невозможно, и тем самым настолько всех удивил, как нравственно, так и метафизически, насколько удивили людей, каждый по-разному, Эйнштейн своими научными или Франц Кафка своими литературными открытиями.
Итак, страдание было, есть и будет, но всякий раз, когда оно заканчивается или даже ослабевает – а не ослабевать и не заканчиваться, хотя бы со смертью, оно просто не может – перетекая из болезненного жизненного опыта в опосредованное и сравнительно безболезненное сознание, осмыслясь им, трансформируясь и становясь неотъемлемой частью характера и биографии, – всякий раз в такие судьбоносные часы и минуты выковываются метафизические звенья той бытийственной цепи, которая крепче любых житейских оков привязывает нас к земному существованию, отчего и получается, что почти любой человек, прожив даже самую страшную жизнь и умирая в самых страшных муках, умирает все-таки в последнем изъявлении своей воли не навсегда – чтобы никогда больше не быть причастным жизни – но как бы частным образом: сбрасывая с себя лишь ту оболочку, которая в данный момент исчерпала себя, страдает и не может дальше жить.
И если жизнь человека, как был убежден Монтень, сводится все-таки к стремлению получать удовольствия, то в тех ее фазах, в которых, как кажется, кроме страдания вообще ничего нет, удовольствие – если вообще можно говорить о таковом – должно заключаться единственно в созерцании себя со стороны, в фиксации себя как страдающего существа, в ощущении, что люди и боги смотрят на него и видят, как он мужественно переносит страдания, – и вот эта оправданная гордость, смешанная с состраданием самому себе, смутное сознание, что он – страдающий герой, на которого смотрят зрители, быть может не от мира сего, – да, если и есть в последней степени страдания какое-то удовольствие, то оно может заключаться только в этом странном и остраненном сознании и ни в чем другом.
Согласно опросам девяносто девять процентов самоубийц, уходя из жизни, хотели избавиться не от жизни вообще, а только от своей неудавшейся и невыносимой жизни, то же самое можно сказать о всех людях, умирающих естественной смертью: когда нет уже сил не только встать с постели, но пошевельнуть рукой и дальше – языком и веками, а в последнем пределе нет сил сделать даже последний вздох, тогда, конечно, умирающий приветствует смерть и не желает возвратиться к жизни, оно и понятно: в его состоянии в жизни делать нечего, – но стоит его освободившемуся и мало-мальски отдохнувшему в астрале сознанию припомнить узловые моменты жизни, как например: иные незабываемые впечатления детства, первую влюбленность, очарование природой и искусством, близость домашних животных, семью, друзей, да и просто свой неповторимый путь в жизни, как притяжение жизнью делается опять неотразимым, и вступает в свои права неумолимый закон реинкарнации.
Так что, строго говоря, еще неизвестно, чем человек больше притянут к миру: бытием или жизнью, но поскольку бытие неотделимо от жизни, так что жизнь является всего лишь формой существования бытия, – постольку каждый из нас рождается и живет посреди «океана страданий»: страдания наши нами поминутно сначала прочувствуются, потом принимаются, а затем осознаются как наши же узловые биографические фазы и наши бытийственные точки опоры: мы живем в конечном счете для того, чтобы жизнь трансформировать в бытие, и пусть жизнь полна страданий, но в бытии их нет, точнее, они обретают там художественную природу, потому что любое настоящее, становясь минувшим, попадает в компетенцию памяти, фантазии и особенно врожденного инстинкта идеализации жизни…
Выше было отмечено, что даже раковые больные в подавляющем большинстве своем рано или поздно – но никогда сразу! – признают в своем заболевании смысл, при помощи которого они научаются видеть жизнь с иной стороны и в ином измерении, – мне довелось, однако, наблюдать исключение из этого правила: моя первая жена умерла от рака в пятьдесят три года, ее болезнь была безнадежной, врачи дали ей максимум полгода жизни, но на протяжении всего этого времени не было ни единой минуты, когда бы она хоть на йоту смирилась бы со смертью, приостановив борьбу с нею: больно и страшно было видеть этот вечно затравленный страхом взгляд и тупую, упрямую надежду, шедшую рука об руку со страхом.
Решительно все альтернативные способы лечения были перепробованы и много денег выброшено на ветер, а за два дня до смерти врач-онколог сказал, что эта изнурительная борьба, сократив немного время жизни, придала ей (жизни) определенный смысл: нельзя ведь так вот просто лежать в постели и ждать смерти, нужно либо бороться со смертью, как со смертельным врагом, либо примириться с нею, как с таинственным другом, но бороться легче, чем примиряться: таким путем идет большинство раковых больных в мире.
И вот вдруг совсем недавно я наткнулся в прессе на любопытную статью: некая француженка по имени Валери Милевски (45 лет) изобрела фантастическую профессию – в клинике Луи Пастера в Шартре она вот уже несколько лет записывает биографии безнадежно раковых больных, иные из них насчитывают пару страниц (пациенты умерли после одного-двух собеседований), другие дотягивают до средних книг (их авторы прожили несколько месяцев), иногда пациенты пишут сами, а г-жа Милевски обрабатывает их мемуары, в самых тяжелых случаях она записывает жизненные истории со слов больных.
Люди в последние отведенные им часы пытаются разобраться в свершившейся и практически завершенной жизни, которая лежит перед ними, как на ладони, в большинстве случаев они хотят сообщить что-то очень важное о себе своим детям и внукам: объяснить себя и тем самым оправдать иные свои решения и поступки, они хотят наладить диалог, который будет продолжаться над их могилой, диалог, обращенный как в прошлое, так и в будущее, диалог, уже не подвластный смерти, диалог, в котором, как мошка в янтаре, увековечен его автор.
Но внутри диалога всегда открывается монолог, люди незаметно приходят к себе, начинают лучше понимать себя, задумываться о себе, многие впервые, – говорить о том, что они научились схватывать суть собственного характера, улавливать сопряжение его с обстоятельствами, местом и временем своего рождения, догадываться о глубочайшей закономерности сложившихся в жизни отношений и прочее в том же духе, было бы порядочным преувеличением, но когда отец оставляет своей шестилетней дочери рукопись с посвящением: «Для Марии, роман моей жизни», а дочь понимает, что это написано для нее одной и краснеет от счастья, или когда повар, которого уже месяцы кормят через зонд, рассказывает, как мать в далеком детстве испекла для него шоколадный торт и под влиянием этих воспоминаний берет кекс со стола и начинает его есть, а у присутствовавшей рядом жены прорываются слезы, – да, тогда кажется, что никакого, собственно, преувеличения нет, а есть лишь попытка говорить об одном и том же, но другими словами, и кто знает, быть может это отношение между отцом и дочерью через оставленное слово рано ушедшего отца окажется полноценней и значительней несостоявшегося отношения в привычном и многолетнем контакте? и быть может шоколадный торт из далекого детства так связал умирающего повара с его матерью и женой, как ничто в жизни никогда их троих не связывало?
Читая мемуары обреченных на близкую смерть людей, невольно ставишь себя на их место, и тогда думаешь – многое произошло не так, как хотелось, но теперь им, наверное, открывается, что все было как надо: в том смысле, что иначе не могло быть, а раз так, то и сожалеть не о чем, и исправлять ничего не нужно, да и улучшить что-либо невозможно, разве что в фантазии, но теперь не до фантазий: все хорошо, и если бы они прожили еще десять лет, то дописали бы к книге несколько новых глав, однако написанных не зачеркнули бы, да и всегда ли роман лучше рассказа?
Итак, жизнь как жанр, а человек как литературный персонаж? утверждать это было бы порядочным преувеличением: никакая реальная жизнь не сравнится с литературой, потому что люди, жившие на самом деле, оставляют после себя всегда некоторую никогда не заживающую боль, которую не знают люди вымышленные, то есть литературные герои, иными словами, только персонажи воплощают чистое бытие, тогда как реальные люди достигают уровня разве лишь трансформированной жизни, – разница тонкая, но существенная: жизнь и бытие антиномичны, поэтому сливаться они никогда, нигде и никак не могут, они могут лишь сближаться, – и примирение неизлечимо больных с жизнью и судьбой путем написания автобиографии есть одно из таких предельных сближений: дальше идти в этом направлении нельзя, дальше идет только художник, который создает вымышленного персонажа, заболевшего, скажем, раком и задумавшего в последние дни и месяцы написать мемуары.
Стоит повторить: никакая надежда на потустороннюю жизнь через написание мемуаров создателями новой терапии не пробуждалась, а также никакое лечение через них тоже не преследовалось, цель заключалась единственно в успокоении пациентов, снятии страха и попытке заполнить оставшееся в жизни малое время истинно осмысленной деятельностью, а такую найти в данных условиях очень и очень непросто, – но она нашлась, и результаты финальной терапии, которую иначе как глубоко художественной по духу и букве, не назовешь, просто потрясающие: пока люди работали над своими рукописями, осмысляя прожитую жизнь и расставляя в ней заключительные персональные акценты, они успокаивались, и у них не было и в помине того затравленного неистребимого страха в глазах, который я читал поминутно во взгляде моей первой жены, и разве что была грусть, когда дописывалась последняя глава автобиографии, но в тетрадях предусмотрительно оставались в конце белые листы: для возможного продолжения, неважно, в каком смысле.
И мне кажется, если бы я присутствовал при творческой терапии, предложенной Валери Милевски, если бы я там стоял, невидимый, как ангелы из фильма Вима Вендерса, наблюдая самым внимательным в мире взглядом, как люди, приговоренные к скорой смерти, отчитываются перед собой и перед другими людьми за свою прожитую жизнь, я бы увидел в глазах пишущих ту же самую, родственную моей, ангельскую внимательность: она отличает любого подлинного художника, ведь что делает художник? только трансформирует жизнь в бытие, но то же самое делает и болезнь, то же самое делает смерть, – а кроме этого они ничего больше не делают.
Что же касается ангелов в привычном понимании, то, подводя итоги, можно предположить, что если они не успели или не сумели вовремя приобрести великое свойство с предельной внимательностью проникать в существо (земных и потусторонних) вещей, так и оставшись на полусказочном уровне непричастности болям и радостям, страданиям и любви, смерти и преображению, а также вытекающей отсюда бессмертной и блаженной игры со стихийными элементами, которые упорно приписывает им народная молва, – тогда естественно и закономерно, что, не в силах удовлетвориться своей глубоко чудесной, но недостаточно экзистенциальной деятельностью, они время от времени и в порядке кажущегося нам странным и непонятным исключения совершают бросок в принципиально иное для них измерение, аналогичное нашей смерти, – и бросок этот состоит в безумной с точки зрения ангелов любви к человеку, мужчине или женщине, в зависимости от кармической предрасположенности (что тоже приписывает им народная молва и что происходит в фильме Вендерса), – ясно, что такая любовь лишает ангелов их крыльев и бессмертия, но то, что они приобретают взамен, никак не может быть меньше того, что они имели: а вот больше ли оно, чем та великая космическая внимательность, о которой говорилось выше, это большой вопрос.
Запредельный друг. – Представление о том, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель, приставленный к нам свыше, причем не как великолепно обученный английский батлер или профессиональный тело (и душе)хранитель, а как наш самый лучший, пусть и невидимый, более того, принципиально недоступный никаким органам восприятия друг, который, однако, знает нас лучше, чем мы сами себя знаем, знает нашу кармическую родословную, знает планы Всевышнего о нас, знает, конечно, и образ нашей смерти, – и который, зная все это, продолжает, согласно своему космическому предназначению, но также влекомый таинственной и предвечной личной симпатией к нам, внушать нам самые высокие (из доступных нам) мысли и побуждения, продолжает помогать нам принять самые правильные (в сложившейся ситуации) решения, продолжает, главное, всегда и при любых обстоятельствах любить нас (даже там и тогда, где и когда нас любить сердцем практически невозможно, так что мы сами от себя со стыдом отворачиваемся), – итак, подобное представление, будучи высоко поэтическим и глубоко православным в религиозно-жанровой своей, если так можно выразиться, интерпретации, все же с большим трудом доходит до нашего сознания, а до сердца и вовсе как будто не доходит.
И все это по причине чувственной невозможности представить себе, что же все-таки делает, о чем думает и как чувствует себя ангел-спаситель, когда его подопечный, например, невыразимо страдает по ничтожному и даже смешному поводу или сам причиняет другому невообразимые и незаслуженные страдания, что, как известно, происходит в жизни на каждом шагу.
Ведь нигде больше, как у того же о. Сергия Булкагова и его великих предшественников, отцов Восточной Церкви мы не встречаем такого искреннего и всесторонне обоснованного онтологического оправдания ангельского бытия ангелов: тут и убедительные теологические аргументы, тут и тонкое психологическое правдоподобие, тут и невероятные поэтические красоты.
Но вот в чем беда: все это только тогда нас по-настоящему убеждает, когда прилагается к мирной, тихой, индивидуальной и по возможности возвышенной жизни людей, и напротив, совершенно не убеждает, когда речь заходит о войнах, унесших миллионы жизней, или о концлагерях, или о регулярных терактах, жертвами которых делаются невинные люди, да и просто когда мы приглядываемся к окружающей жизни как она есть, – а она у нас всегда перед глазами: хаотическая, раздробленная, непонятная, «без царя в голове» и вообще без каких-либо идеалов, не говоря уже о церковно-православных воззрениях.
А ведь если бы мы имели столь же правдоподобное во всех отношениях – теологическом, психологическом и поэтическом – описание поведения наших ангелов-хранителей в описанных выше критических ситуациях, наши тайные сомнения насчет существования этих прекраснейших и важнейших для нас существ были бы, быть может, раз и навсегда устранены: вот что значит художественная сторона религии!
И что еще здесь особенно интересно: бытие Всевышнего гораздо легче, нежели ангельское бытие, гармонирует со всей этой тотальной и раздражающей уши дисгармонией жизни, на первый взгляд абсолютно со своим Творцом не имеющей ничего общего! спрашивается, каким образом?
Да хотя бы провозглашением непреодолимой дистанции между Им и нами! хотя бы римским представлением о том, что Он смотрит на нас, любуется нами и, несмотря на уготовленную нам быть может печальную или даже трагическую участь, уже придумал для нас следующий за видимой развязкой невидимый «счастливый конец»! и наконец, хотя бы предоставлением каждому живому существу такого продолжения его жизни, к которому он сам внутренне склоняется, что и провозглашает, между прочим, закон кармы.
И разве такое не может быть? еще как может!
А вот существование ангелов-хранителей так или иначе зачеркивает великую дистанцию между Творцом и творением, так или иначе не допускает грандиозный римский момент лицезрения нас как актеров, так или иначе сводит на нет и фундаментальный закон кармы, – короче говоря, существование ангелов-хранителей знаменует собой, к сожалению, очередное, бесчисленное по счету и очень резкое несозвучие религии с повседневной жизнью, принуждая человека опять и в который раз сделать для себя труднейший, потому что исключающий выбор.
Но какой выбор правилен? разумеется, тот, который одобрил бы сам Всевышний: а разве можно себе представить, чтобы Он был на стороне религии и против повседневной жизни, которая воплощает сам изначальный, предустановленный и неостановимый ход вещей, то есть сердцевину творения, – а вот церковь, причем любую церковь, сердцевиной творения назвать никак нельзя.
Диспут об ангелах. – Замечательный русский философ Лев Шестов, рассуждая о творчестве Достоевского, цитирует одну «мудрую древнюю книгу», где сказано: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не родиться, и еще сказано в этой книге: ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь покрыт глазами, и случается, что он слетает за душой человека слишком рано, когда еще не настал срок человеку покинуть землю, и тогда удаляется от человека, отметив его однако некоторым особым знаком: оставляет ему в придачу к его природным, человеческим глазам еще два глаза, – из бесчисленных собственных глаз, – и становится тот человек не похожим на прочих: видит своими природными глазами все, что видят все прочие люди, но сверх того и нечто другое, недоступное простым смертным, – видит глазами, оставленными ему ангелом, и при том так, как видят не люди, а «существа иных миров»: столь противоположно своему природному зрению, что возникает великая борьба в человеке, борьба между его двумя зрениями.
Шестов имел в виду внутреннее преображение Достоевского после вынесения ему смертного приговора, а вышеприведенная цитата принадлежит Ивану Бунину, который в своей книге «Освобождение Толстого» как бы поправляет Шестова, указывая, что двойное зрение гораздо больше характеризует Льва Толстого, нежели Достоевского: получается, что ангельский дар видения запредельных вещей Толстой получил изначально и без того, чтобы когда-либо находиться на грани смерти, – по этому поводу Вас. Вас. Розанов ядовито заметил, что Лев Толстой прожил по большому счету пошлую жизнь.
Впечатление же от Достоевского такое, что не пронзительно зрячий и зоркий открывает нам новые пути, а напротив, какой-то жуткий слепец с факелом бродит в подземельях души, и неровный, причудливый, пугающий свет факелов, прорезающий мрак то в одном направлении, то в другом, высвечивает в подземных туннелях тени людей вместо самих людей: мир Достоевского вполне можно сравнить с гомеровским Адом, куда попал Одиссей и где нет уже и не может быть ни отчетливых лиц, ни психологически ясно очерченных характеров, ни привычных человеческих взаимоотношений, – да и откуда и как им быть там, где существенно сдвинуты первоосновные для земной жизни законы причинности, времени и пространства?
И все-таки личность в Аиде каким-то таинственным образом сохранена, и когда мы, под влиянием тех или иных религий, да и просто задумываясь о последних вещах, спрашиваем себя, каков человек «там», после прохождения через заветное игольное ушко, – то ответ Достоевского всем своим поздним творчеством, не может не запасть в душу.
Вот только ангел (или демон), посетивший его на Семеновском плацу перед самой (несостоявшейся) казнью, если и был «покрыт глазами», то глазами закрытыми или, во всяком случае, полуприкрытыми: страшный, шокирующий образ, больше походящий на демона, нежели на ангела, но ведь это так и должно быть, потому что только такой – и, кстати говоря, прекрасно представимый оптически ангел – в точности воплотил бы высший и критический момент в процессе человеческого и творческого перерождения Достоевского.
Тогда как среди множества раскрытых глаз ангела, посетившего Льва Толстого в момент его рождения, должен был быть хотя бы один смешливый и дерзкий и как бы говорящий: «кому хочу, тому и раздаю дары сверхчеловеческого узрения, и никто мне не указ», – и вот, искренне поверив в логику вышесказанного, приходится допустить, что подобные ангелы существует на самом деле; в самом деле, кто в состоянии это опровергнуть?
Дети света или полумрака? – Всякий, кто пересекал Альпы в поезде или в автомобиле, знает, что такое многокилометровый туннель в горах, сколь неуютно и напряженно передвижение в нем и какое облегчение вызывает выезд из него на свет божий.
Да, Свет, только Свет, и ничего, кроме Света, Свет – это «наше все», Свету противостоять невозможно, к нему нельзя не стремиться и, хотя Свет и тьма в природе распределены более-менее равномерно и один, как заверил нас господин Воланд, не может существовать без другой, мы все-таки продолжаем инстинктивно отдавать предпочтение Свету перед тьмой.
О том, что Свет бывает утомителен и долгое пребывание в нем может буквально свести с ума («Посторонний» А. Камю), мы как-то не думаем: в сущности, ведь мы больше всего любим гармоническое соединение света и тьмы, скажем, в виде сумерек, – но разве звездная ночь не потрясает нас своим величием больше всякого Света?
Как бы то ни было, принято полагать, что Свет и есть Бог, а кроме того – и это, пожалуй, самое важное в Свете – он воплощает образцовую конфигурацию антиномий как таковых: его волновая и квантовая природа равным образом неслитны и нераздельны, а это уже формулировка, знакомая нам по определению Святой Троицы.
Вообще, дальше антиномий человеческий разум идти не может, здесь предел, а вместе с ним и захватывающее эстетическое совершенство предела: даже нефизик может почувствовать именно художественное обаяние ньютоновских формул, но в еще большей степени эйнштейновских и параллельно формул квантовой механики, и даже нефизик догадается, что Эйнштейн и творцы квантовой механики (Бор, Паули, Гейзенберг и др.) относятся к Ньютону примерно так, как проза Фр. Кафки относится к романам какого-нибудь Чарльза Диккенса: не умаляя одних и не возвышая других – элемент эвристики и парадокса отделяет вторых от первых, но разве мы виноваты в том, что он нас магически притягивает и будет, наверное, всегда притягивать?
Как раз вчера я был на лекции, посвященной границам материи: оказывается, на сегодняшний день наши знания «нормальной материи» соответствуют пяти (!) процентам, девятнадцать (!) процентов приходятся на «темную материю», и семьдесят шесть (!) на «темную энергию»; «темная материя» и «темная энергия» потому так и называются, что мы ровным счетом ничего о них не знаем, но они есть, должны быть, потому что иначе не объяснить так называемый коэффициент «плотности Вселенной»: в момент Первовзрыва он составлял пять процентов, а теперь составляет сто процентов, недостающие девяносто пять процентов очень волнуют астрофизиков, это для них первостепенная величина, почему именно – нам не понять, но приходится им верить, потому как все они в этом мнении едины, – короче говоря, дело обстоит так, что либо «темная энергия» и «темная материя» будут в ближайшее время найдены и как-то определены, либо придется изменять все основные законы физики и астрофизики.
Быть может, мы стоим перед кардинальным обновлением физики, наподобие прорывов Ньютона, Эйнштейна или Бора, и почему-то думается, что если такой прорыв будет совершен, антиномическая модель света сыграет в нем решающую роль, – вот погодите: антиномия вечного и бесконечного существования мироздания и вместе возникновения ее из первовзрыва будет когда-нибудь постулирована, я в это твердо верю.
Итак, Свет как жизнь, Свет как Бог, Свет как модель мироздания, – и даже умершие клинической смертью и возвратившиеся к жизни в один голос сообщают нам, что после темного туннеля их ждал Свет, и Свет был блаженство, и в Свете истаял страх перед смертью, и от Света не хотелось даже возвращаться в жизнь, – но ведь это означает, что люди после кончины неудержимо летят к Свету, как бабочки на огонь! в высшей степени оправданное сравнение, потому что, судя по всему, после недолгого блаженства их неминуемо ожидает последующая инкарнация, – а чем она чревата для подавляющего большинства людей, сообщают нам ежедневно бульварные газеты.
Свет в конце туннеля, таким образом, играет как бы роль маяка, к которому тянутся потерпевшие кораблекрушение – умершие, Свет точно гигантский генератор жизненной энергии, а также распределитель душ по бесконечным кармическим направлениям, но что с ними потом будет, куда их поведут, точнее, куда они сами пойдут, лунатически подвластные силе и обаянию Света, какую новую роль станут играть в новой жизни, – на это уже притянутые к Свету никакого влияния не имеют и иметь не могут, ибо жребий брошен, и назад пути нет, – кто добровольно отдал свободу воли за «чечевичную похлебку» пусть даже высочайшего блаженства, физического и духовного, не может сетовать на возможные непредсказуемые последствия такого шага.
Так ли это на самом деле? кто знает? и тогда – что угодно, но только не Свет, лучше идти куда угодно, но только не к Свету: сказать, правда, легче, чем сделать, но мы ничего не выдумали, в сущности, это и есть путь, предлагаемый Буддой, и сам он тоже никогда не упоминал о Свете как последней цели человеческого развития и образами Света предпочитал не пользоваться, как бы сознавая их неотразимую соблазнительную мощь – тогда как редкая религия обходится без световой символики – Свет для Будды был обыкновенный феномен, наравне со тьмой, и разве чуть выше тьмы, потому что чуть ближе к ниббане, но Свет еще далеко не ниббана, есть о чем задуматься.
Зато тибетские буддисты, в отличие от сторонников тхеравады и вслед за неоплатониками, уделяют колоссальное внимание духовному Свету, – закономерно, впрочем, что они и не стремятся к ниббане, предпочитая ей вечные реинкарнации ради избавления всех живых существ от страданий.
Действительно, решение основных наших проблем мы видим в будущем, так уж устроена наша психика, мы всерьез задумываемся о последующей нашей реинкарнации или, проникаясь противоположными учениями, воображаем себе нашу жизнь в астрале после смерти: темный туннель, блаженный свет в конце его, любящие родственники, и так далее и тому подобное, – все это вполне возможно и даже очень вероятно, но ведь все это уже было! и не один раз! был и туннель, был и свет, были и родственники, а потом – наша теперешняя жизнь: как будто ничего не произошло, и ничего с нами прежде не было, так это надо понимать.
Вот где сказывается некоторое легкое превосходство буддизма над христианством: первый описывает жизнь как магический круг, из которого нет выхода, потому что мы сами в глубине души не хотим из него выходить, – но превосходство это все-таки именно эстетического порядка, не больше и не меньше, поэтому мы и назвали его легким, в том смысле, что оно просто более правдоподобно, но совсем не обязательно абсолютно истинно, напротив, также и в его сердцевине имеется слабость, как бы критическая точка, и эта точка – реальная возможность возникновения мира из Первовзрыва, то есть из Ничто, но тогда и вечный круговорот рождений и смертей невозможен.
И как перспектива вечности материи требует своего адекватного воплощения в мире духовном и осуществилась она в буддизме, так точно ее антиномическое представление об абсолютном начале и абсолютном конце тоже требует своего оптимального мифически-религиозного самовыражения, которое нашло себя в христианстве, – и все таким образом встало на свои места.
Поэтому когда приходит на нашу грешную землю сын Света, то есть человек, в котором нет ничего, что не было бы чистым Светом, которого мысли, чувства и поступки настолько пронизаны любовью к Богу и человеку – правда, следует сразу сказать, только к тому человеку, который сам целиком и полностью обращен к Богу – что людям, живущим привычной жизнью, неловко и странно в его присутствии, но они точно знают, что пришел сын Света и что подобные посещения случаются, возможно, раз в тысячелетие, они знают это и по интенсивнейшему излучению сына Света, которое ни с каким другим не спутаешь, и по способности его творить чудеса – он не однажды исцелял людей от неизлечимых болезней, он воскрешал людей умерших, он угадывал все мысли окружающих людей, он видел безошибочно их будущее, он влиял на волю людей и понуждал их совершать определенные, желаемые им, поступки, наконец, когда пришел его час, он добровольно покинул собственное тело, и являлся не однажды любимым ученикам своим не только в духе, но и специально для них создавая свою плоть из атомов, – итак, когда приходит на землю человек, подобный Парамахансе Йогананде – ибо речь была, конечно, о нем – и говорит людям, как нужно думать, чувствовать и жить, чтобы не только приблизиться к Богу, но и навсегда соединиться с ним, а люди по тем или иным причинам не следуют за ним, хотя и точно знают, кто к ним пришел, – да, вот тогда и происходит, присно и вовеки веков, то самое вечное и неизменное отделение зерен от плевел, о котором говорил и Иисус Христос, – потому что когда Истина явлена воочию, целиком и полностью, без каких-либо ограничений, поправок или сомнений, а человек Истине не следует, то он сразу оказывается не где-то неподалеку от Истины или в какой-то независимой от Истины экзистенциальной сфере, а в лагере врагов Истины, так что ему только кажется, будто он пребывает в прохладном и приятном Полумраке, тогда как на самом деле он уже вступил во Мрак.
И тут все дело в том, что природа Света бескомпромиссна, так что тот, кто отрекся от Света, никогда уже чистый Свет не достигнет, а вот Мрак предполагает бесконечное число компромиссов и заигрываний со Светом, то есть неограниченную палитру онтологического Полумрака.
В этом Полумраке как своего рода отдаленном от адского центра Мрака Чистилище мы и пребываем, что подтвердил один из учеников Парамахансы Йогананды, Свами Криянанда, а в миру Дж. Дональд Уолтерс, произнеся следующее: «В борьбе с теми, кто хотел бы служить свету, самую большую надежду Сатана возлагает на такую мысль, которую он пытается внушить людям: «Всё зависит только от вас самих. Зачем смотреть на Бога? Зачем уповать на какую-то великую силу, превосходящую ваши собственные силы? Зачем смотреть на других в поисках вдохновения? Ведь все – точно такие же люди, как и вы. Только в самих себе можно найти силы сделать то небольшое благо, которое вам дано сделать».
С этим чувством, нельзя не признаться, мы и живем.
Однако внутри себя – продолжает тот же Уолтерс – мы слышим глас Божий, который говорит: «Бедный маленький человек! Кто ты, что думаешь, будто можешь сдвинуть камень, лист, песчинку без Меня? Мне, а не тебе, принадлежат и власть и сила! Чем больше вы открываете сердце и ум как каналы для Моего света, тем больше истинной силы вы получаете. Помогая другим, на самом деле вы передаёте им Мою помощь. Утешая их, вы передаёте им Моё утешение. А, когда вы даёте им любовь, знайте, что именно Моя любовь наполняет ваши сердца и касается их. Сохраняйте же сознательный настрой на Меня, чтобы нести то великое благо, которое Я Сам поручаю вам нести».
С этим чувством мы хотели бы жить.
Когда умершие плачут. – Неужели и в самом деле между Светом и Тьмой, между божественным и сатанинским существует тайный параллелизм? намеков на него в земной жизни слишком много, чтобы так вот просто закрыть глаза на этот странный парадокс: вот и Гамлет говорит, что «в небе и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости, Горацио», – а ему-то уж можно верить.
На одну из таких параллелей – пусть неприметную, пусть ровным счетом ничего не значащую и тем не менее чрезвычайно любопытную – я сам наткнулся совсем недавно, читая и перечитывая моих любимых авторов.
Когда Парамаханса Йогананда, это полное и совершенное воплощение божественной любви, мудрости и света, совершил – под видом инфаркта! – махасамадхи, то есть добровольно покинул свое тело, оно, вопреки физическим законам, еще долгое время оставалось неподверженным тлению; вот что сообщает мистер Харри Т. Роув, директор морга в Форест-Лоуне: «Отсутствие каких-либо видимых признаков разложения тела Парамахансы Йогананды является самым исключительным случаем за все время нашей работы. Не заметно никакого физического распада. Такое состояние полной сохранности тела не имеет примеров в анналах нашего морга. Внешний облик Йогананды по состоянию на 27 марта, когда гроб накрыли крышкой, был таким же, как и 7 марта. Он выглядел 27 марта таким же свежим и совершенно нетронутым разложением, каким был в ночь своей смерти».
Как тут не вспомнить самого страшного нашего классика! – «Такая страшная, сверкающая красота! Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалось страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови».
Дж. Дональд Уолтерс, ученик Йогананды в своей автобиографической книге «Путь» сообщает. – «Тело Мастера доставили в Маунт-Вашингтон и бережно положили на кровать. Один за другим, мы в слезах склоняли перед ним колени»; «Сколько тысячелетий потребовалось, – изумлялась мисс Ланкастер, глядя на него с тихим благоговением, – чтобы создать столь совершенное лицо!»; «После того как мы вышли из комнаты, одна Дая Мата осталась у тела Мастера. Когда она неотрывно смотрела на него, на его левом веке показалась слеза и медленно скатилась вниз на щеку. С нежностью она поймала ее носовым платком».
К счастью, слеза скатилась с левого глаза Мастера, но с точки зрения космического противостояния вечных противоположностей это и не могло быть иначе.
Сиамские близнецы
I. – Только при прощании с каким-то человеком, но также событием или фазой жизни отчетливо чувствуются все те собственные ошибки, слабости и недочеты, из-за которых общение (с человеком) или пребывание (в событии и фазе) заметно утеряли тот свет, что вами в них должен был быть обязательно привнесен, и более того, вместо света вы привнесли туда мрак и вы сами это отчетливо осознаете: вы как бы не сдали решающего экзамена! и вы не сдали бы его снова и снова, если бы ситуация повторилась! хуже того, вы не сдали бы его никогда, потому что жизнь как таковая и прощание с жизнью суть разные и быть может несовместные вещи, – пока вы живете, вы невольно грешите, смутно чувствуете, что грешите, с улыбкой машете рукой: мол, как-нибудь образуется! и так до судьбоносного момента прощания… но как же тогда все вдруг меняется! откуда берется, например, этот ясный, чистый, идущий из глубины сердца и в то же время поистине неземной свет, который вам открывает глаза на все то, что вы должны были сделать, могли сделать и все-таки не сделали, а исправить уже ничего нельзя? и ладно бы только этот частный и конкретный суд над завершенным отрезком жизни, но за ним следует новый отрезок жизни, в который, зная наверняка, что и он когда-нибудь завершится прощанием, можно было бы, исходя из предшествующего опыта, внести гораздо больше света… но опять вместо света туда вносится мрак… почему? не потому ли, что привнесение в житейскую действительность чистого света сопровождается обычно странным, настораживающим и отпугивающим чувством, будто вы в какой-то мере перестаете жить, – да, все вроде бы стало лучше: и вокруг, и внутри вас, а жизнь как будто везде поубавилась, – и вот тогда, как при нехватке воздуха делают жадный, судорожный и по сути неконтролируемый вдох, вы с некоторым сознательным ожесточением забудете ослепительно-светлые уроки прощания, чтобы просто вернуться к прежней и привычной жизни, которая, увы! никогда не бывает и не может быть слишком светлой.
II. – Сидя у окна больничного холла, вы смотрите на деревья во дворе, голубое небо и плывущие по небу белые облака: классический летний пейзаж! и одновременно прислушиваетесь к анкетным опросам новоприбывших: все они, оказывается, уже были здесь, пройдя химиотерапию, и ко всем, очевидно, рак возвратился: со всеми вытекающими отсюда последствиями! и тогда вы поневоле начинаете воспринимать то, что слева от вас, как страну рая: просторную, светлую и распахнутую во все стороны, а то, что от вас справа, как область ада: узкую, темную и запутанную, с этажами, коридорами, палатами, операционными залами и моргом… стоп! но ведь этот ад вам вовсе не чужд и не посторонен, он принадлежит вашей жизни точно так же, как и рай деревьев, неба и солнца… так как же получилось, что они, рай и ад, сделались неотделимыми друг от друга, и что, полюбив один и сжившись с ним, вы рано или поздно вынуждены повстречаться и с другим, а оказавшись в последнем, останетесь все-таки до последнего причастным и первому? и разве страдание, настоящее, неизбывное страдание не перевешивает по большому счету любую радость? конечно перевешивает: как можно по тяжести сравнивать камень и воздух? но тогда почему желание избежать ад так глубоко залегает в человеческой природе? и глубже него лежит только внутренняя неготовность оставаться вечно в раю… да, вы чувствуете это здесь и теперь и на собственном примере: в тот момент, когда вы, утомленные больничным интерьером, выходите в сад, садитесь на лавочку, полной грудью вдыхаете теплый летний воздух, закидываете безумный от горя взгляд в голубое облачное небо… да, именно в этот момент боги рая незаметно кивают духам ада, указывая на вас, и последние ставят против вашего имени галочку: теперь у них на вас еще больше прав.
III. – С возрастом все труднее найти в магазинах подходящую одежду, и тогда все больше ценишь собственную и поношенную, с возрастом все труднее общаться с новыми людьми, и тогда общаешься со старыми и привычными, с возрастом все труднее находить в себе новые мысли, чувства и вообще какие бы то ни было новые возможности, и тогда остаешься с прежними и отработанными, – и рождается с возрастом перед твоим слезливым старческим взглядом печальный, но по-своему грандиозный образ твоего же медленного и постепенного укладывания в гроб собственной прожитой и все еще проживаемой жизни: главное здесь не делать ложных компромиссов и не искать во что бы то ни стало новых путей, которые, быть может, снискали бы тебе грустно-одобряющую улыбку посторонних (и в основном молодых) людей, зато и сделали бы тебя в твоих же глазах немного смешными, – ведь что происходит на самом деле? ты отвергаешь из оправданной гордости любые полу– и четверть возможности, предлагаемые жизнью, и шаг за шагом спускаешься во мрак, в глубине души не переставая верить, что он тебя выведет к свету: но разве не сказано как будто специально по этому поводу, что тот, кто хочет воскресения, должен принять смерть?
Пара слов о князе мира сего
I. – Когда Микеланджело говорит своему Давиду: «Иди!», потому что тот вышел из-под его резца настолько живым, что кажется даже странным и непонятным, почему он замер в бездвижимости, то в этом повелительном восклицании наряду с манифестацией высочайшего искусства – последнее всегда и неизменно стремится превзойти саму жизнь по части иллюзии собственной жизненности – мы явственно ощущаем нечто сатанинское: магия, достигшая апогея и переступающая заветную черту, таинство, готовое взорваться от грандиозного и сверхчеловеческого напряжения воли, жизнь, стоящая на пороге упразднения своей органической основы и перехода… вот именно: во что? ведь не в умерщвлении жизни состоит существо дьявольского начала, и не в остановке ее, а наоборот: в резком и провокационном рывке вперед, в кардинальной попытке придать жизни какие-то новые и неслыханные сверхвозможности, сверх-энергии, сверх-формы, но такие – чувствуем мы сердцем – которые с жизнью несовместимы и от приятия которых жизнь неизбежно гибнет.
II. – И вот тогда уже нам приходит в голову догадка о том, что здесь дьявол борется с жизнью, но не прямо, а косвенно и хитро: играя на беспредельных внутренних возможностях жизни, заманивая ее на грань последних рубежей, чтобы там, где она празднует апогей своего самовыражения, расправиться с нею ее же собственными руками; и вот тогда уже мы с особым и пристальным вниманием прислушиваемся к Будде, который на каждом шагу ограничивает жизнь, проповедует «искусство недеяния», видит только в преодолении любого желания – а без желаний нет жизни! – путь к совершенству (известна его радикальная рекомендация не иметь к жизни ни положительного, ни отрицательного, ни даже нейтрального отношения), показывает, что лишь живя так, как будто все желания полностью и с избытком удовлетворены, можно от них избавиться.
III. – И вот тогда уже мы иными глазами смотрим и на гетевского «Фауста» с его столь близкими нам высокими, неутолимыми и по этой самой причине демоническими устремлениями, и на раковую опухоль, которая воплотила в себе нашу тайную мечту о биологическом бессмертии, и на традиционную тему магического, то есть попросту дьявольски-живого портрета у Э. А. По, О. Уайльда, Лермонтова и Гоголя, и на дышащие глубочайшей экзистенциальной тревогой и скорбью романы Достоевского, «Гамлет», Библию и Евангелия (а откуда их скорбь и тревога? не от слишком ли очевидного допущения, что не упразднение человеческой индивидуальности в смерти проблематично, а проблематична, напротив, его принципиальная неуничтожимость смертью), и на то, что именно те религии, которые настаивают на индивидуальном бессмертии, несут в своем метафизическом чреве зерно хоррора, и пусть слова их светлы и преисполнены самых лучших побуждений: любви, надежды и милосердия, за словами зыблется пронзающий душу мрак (он главное, в нем и сокровенный колорит, и задушевная музыка, и скрытая суть, колорит и музыка – вообще душа любого явления, но не слова о нем).
IV. – И тем не менее, возвращаясь к удивительно-закономерному восклицанию Микеланджело и заново прорабатывая всю вышенамеченную цепочку, связывающую искусство, дьявола и жизнь, нужно все-таки признать, что если первое и последнее звенья суть самодовлеющие и несомненные, то третье и промежуточное звено куда более призрачно и иллюзионно, но упаси нас бог сделать из этого вывод, будто в подобной призрачности и иллюзионности нет вообще никакой реальности!
V. – В самом деле, то обстоятельство, что более девяноста процентов участников добровольного эксперимента, в котором людям предлагалось всего лишь собственноручно подтвердить сделку с дьяволом, наотрез от этого отказались, хотя они категорически отрицали существование дьявола, – это обстоятельство свидетельствует, думается, не столько об атавизме древнейших суеверий, сколько о присутствии в людях интуитивного гамлетовского знания о том, «что есть в этом мире вещи, которые нашей философии не снились», и которые без преувеличений находятся в положении мамонта, электрического тока или комплекса неполноценности, коих мы тоже не видели и никогда не увидим, однако существование коих вынуждены все-таки признать.
VI. – Когда во время мессы, состоявшейся 15 сентября 1897 года в церкви пресвятого Сердца Господнего в Риме и посвященной страждущим в чистилище душам, вдруг по необъяснимым причинам возник пожар, а после его потушения на алтаре обнаружили выжженное в камне чье-то лицо с печатью невообразимых страданий, когда в Мантуе (северная Италия) в 1731 году настоятельнице здешнего монастыря Изабелле Фарнари во сне явился облик умершего монаха по имени Оттавио Панцини, и он просил ее молиться за него, так как он испытывает в чистилище невероятные муки, а проснувшись, Фарнари увидела на своей простыне прожженную ладонь Панцини, когда, далее, 5 июня 1894 года в женском монастыре пресвятой Клары в местечке Бастиа Умбра, что недалеко от Перуджии, женщинам-монашкам явился образ умершей недавно монахини по имени Мария, признавшейся, что монашеская ее жизнь была неискренней, и она сохранила все свои мирские привычки, и эта ушедшая в иной мир сестра-Мария просила сестер молиться за нее, и в качестве доказательства тоже оставила выжженный отпечаток своей руки на постельном белье, – итак, когда нам ничего другого не остается, как поверить на слово этим сногсшибательным фактам – они ведь тщательно проверены Ватиканом и хранятся в его особом отделе среди тысяч им подобных (!) – то как же быть с другими аналогичными источниками, наподобие, следующего?
VII. – Вот буквальный перевод отчета парламентского советника города Бордо Пьера де Ланкра (р. 1533), которому французский король Генрих Четвертый поручил исследовать в Лабуре, что в западных Пиренеях, распространившиеся там сверх меры ведьминские шабаши и сатанинские мессы. – «Жанетта де Абади, жительница Сиборо, шестнадцати лет от роду, призналась, что видела там дьявола в образе черного отвратительного мужчины, с шестью рогами на голове, с хвостом и двумя лицами… она не однажды с ним совокуплялась, причем его член чешуйчатый и причиняет боль, а семя его (как и всех мужских участников мессы) холодно и никогда не ведет к беременности… от совокуплений Жанетта испытывала (несмотря на боль) невероятное наслаждение, носящее отчасти волшебный характер, следы его ощущались даже во время ее рассказа… далее, она своими глазами видела, как множество малых демонов без рук зажгли громадный огонь, бросили туда ведьм, но те не имели боли, и дьявол сказал им, что так же точно не познают они боли, проходя сквозь адский огонь… еще она видела, как ведьмы превращались в волка, собаку, кошку и других зверей, помыв руки от котла, и возвращали себе по желанию прежний образ, причем во всех местах помимо шабаша они оставались невидимыми и вокруг них было только свечение… прочие участники черных месс высказались, что наслаждение на них так велико, что ему не может противостоять ни один мужчина или женщина… там были и дети… отец там дефлорировал дочь, мать лишала невинности сына, брат совокуплялся с сестрой… там было столько людей, сколько звезд на небе… но ни у кого из них не было чувства греха, никто не считал, что совершает злое дело… напротив, все они полагали, что грех не допускать человека до подобных удовольствий… участники месс все как один ходили по воскресеньям в церковь и были убеждены, что попадут в рай… дьявол творил там множество чудес… одно из них заключалось в том, что ведьмы, приговоренные к пыткам и казни, не только не проливали слез, но даже от страшных мук испытывали наслаждение, и не могли дождаться, когда же смерть соединит их наконец с сатаной… попутно они не могли понять, почему же общение с дьяволом, дающее одни радости и наслаждения, преследуется по закону…», – и так далее и тому подобное?
VIII. – Конечно, фантастические видения сатанистов можно объяснить влиянием наркотиков или наваждения, но можно предположить, что, например, только в окрестностях Сиборо, только в тридцатых годах шестнадцатого века и только с названными членами сатанинской секты в виде строжайшего исключения – хотя далеко не единственного – произошли все те сверхъестественные события, о которых рассказала Жанетта де Абади, – и даже если она кое-что преувеличила, а что-то и вовсе выдумала, тем не менее, как говорится, нет дыма без огня, и нечто из ее рассказа было самой буквальной правдой, – но в чем состоит это «нечто», мы никогда не определим, и как и почему вышло оно из недр преисподней, мы тоже никогда не выясним, – как будто, впрочем, явление Призрака Гамлету так уж многим от вышесказанного отличается.
IX. – Вообще, когда человек свершает злодеяние настолько странное и чудовищное, что одной психологией его объяснить трудно, встает вопрос о серьезнейших психических аномалиях, но только в случае полного помрачения рассудка мы готовы признать такого человека умалишенным, – если же он не раскаялся искренне и от души в своих поступках (даже не обязательно в религиозном смысле) и в тоже время какая-то скрытная, преступная, непонятная и по-своему очень разумная воля продолжает в нем жить, что может выражаться и в избежании зрительного контакта, и в хитром подсматривании за нами, и в упорном молчании, и в непонятных речах, и в жутких смешках, – короче говоря, всегда и без исключения склонны мы в подобных случаях предположить, что в человека вошел сатана, и в тоже время никогда и ни при каких обстоятельствах мы дальше нашего предположения не пойдем.
X. – Но ведь этот принципиальный философский момент гипотетического существования сатаны как раз и выразил великолепный Роберт-Луис Стивенсон в своей гениальной новелле о двойнической природе человека: в самом деле, доктор Джекилл и мистер Хайд живут в нас на уровне возможного, то есть как бы в виртуальном измерении, они буквально есть и не есть одновременно, – они есть, потому что мы ясно иногда чувствуем их незримое в нас присутствие, но они и не есть, потому что прежде чем их рассмотреть, нужно вообще их вызвать из небытия, а для этого надобна страшная кармическая участь, не дай бог! так что пока только смутные тени сквозят в душе подобно отражению в ночном зеркале: тени эти и есть наши загадочные двойники, они вполне реальны, и все-таки они не в силах материализоваться дальше уровня теней – по той счастливой причине, что наша теперешняя судьба сугубо человеческая, и силы Ада не имеют над нами никакой власти.
XI. – И потому как нельзя сказать, является ли человек метафизическим единством или комбинацией тех или иных физических, психических и духовных качеств, так невозможно в принципе решить, существуют ли на самом деле демоны, а если существуют, то еще труднее определить, когда именно они вошли в человека, в каком виде и в какой степени, что они в нем сделали, когда вышли они из него, куда ушли и где были до вхождения: так что когда, например, речь идет о загадочной эпидемии, поразившей южнороссийские регионы, но распространенной как будто и в Северной Америке, суть которой состоит в том, что в людях годами живут какие-то споры, червяки и насекомые, причем прямо под кожей и уничтожить их почти невозможно: они улезают назад, в ткани быстрее мчащегося за ними пинцета, к лекарствам они невосприимчивы, школьная медицина отказывается с ними бороться, а причиной эпидемии могут быть как генетическое манипулирование сельскохозяйственных растений, так и разного рода проклятия и заклинания, – да, тогда дьявольская природа заболевания напрашивается сама собой.
XII. – Нужно видеть кадры с клещами, шныряющими по человеческому телу, точно фантастические жуки по древесной коре, – что за странная проглядывает в этих существах интеллигентность! как невообразимо их свободное существование в человеке с точки зрения привычных биологических закономерностей! как живо напоминают они въяве воплотившийся хоррор-фильм! без каких-либо преувеличений, – и как решительно невозможно отрешиться вполне от этой странной, чудовищной перспективы, хотя столь же невозможно и всерьез принять ее: иными словами, мы остаемся убеждены, что здесь что-то нечистое и дьявольское, но это «что-то» ни к коем случае нельзя конкретизировать: не потому, что кто-то запрещает, а потому, что как только начинаешь развивать эту тему, она обращается в абсурд и зачеркивает саму себя, – получается парадоксальный эффект: лишь когда громадный знак вопроса стоит над онтологическим существованием демонического элемента, последний обнаруживает максимум воздействия, но по тому же принципу создается и любой мастерский хоррор-фильм: чем больше в нем намека и настроения, тем сильнее он выигрывает, тогда как излишняя конкретизация его принижает и губит, – но ведь точно так же обстоит дело и со всем «божественным»! есть над чем задуматься.
XIII. – Когда мы улыбаемся над изящной остротой, в нашей улыбке проскальзывает нечто мефистофельское: эта характерная змейка в партии губ, эта умная, но где-то сродни блеску шпаги, искра во взгляде, по тональности мефистофельская улыбка напоминает увертюру Россини к «Севильскому цирюльнику», а физиологически она сходна с подступающим оргазмом, – что она хочет сказать? быть может то, что человек, поднимаясь над миром животных (не в последнюю очередь благодаря тому же смеху, к которому животные, как известно, неспособны), не имеет вместе с тем никаких претензий на прочие, сверхъестественные и «божественные» миры, каковы бы они ни были, и в этих мирах, как свидетельствует суммарный психологический, религиозный и эзотерический опыт, тоже нет смеха, – да и во сне, состоянии наиболее близком к астралу, легко плакать, но трудно смеяться… действительно, карнавальная маска наших суженных глаз и разошедшихся в улыбке скул вместо лица помогает преодолеть ненадолго притяжение мира, и мы попадаем в блаженное царство ниббаны, хотя совсем не буддийском смысле, – итак, Мефистофеля по праву можно назвать патроном Комического, подобно тому как каждое ремесло в Средневековье имело своего покровителя-святого, а человек по убеждению Мефистофеля есть всего лишь человек, homo sapiens, – не больше, но и не меньше: так говорит Гете и так же вторит ему Антокольский, – каждый, кто видел и помнит скульптуру Мефистофеля, согласится со мной, что все попадающее в сферу смеха или улыбки автоматически изымается из гипотетического общения с Богом, как бы Его себе ни представлять: никакая религия не терпит улыбки над собой, а тем более смеха.
XIV. – Вот почему, кстати говоря, целесообразно различать сатану и дьявола: только первый суть апологет зла и как таковой прямо перекочевал из церковной традиции в современный хоррор-жанр, тогда как роль второго в мироздании, а также творческом процессе гораздо более тонкая и сложная: дьявол прежде всего – великий провокатор и соблазнитель, и в этой своей коронной функции постоянно мечется между Богом и людьми, являясь как бы директором и главным режиссером передвижного театра под названием Мировая История, – в самом деле, коль скоро люди выдумали Бога, они не могут обойтись без дьявола, потому что слишком уж много содеяно зла и горя на земле, – с кого спрашивать?
XV. – Есть два вполне удавшихся дьявола в литературе: Мефистофель и Воланд, причем Воланд все-таки предпочтительней Мефистофеля в художественном отношении, Мих. Булгаков, правда, предпочитает именовать своего героя сатаной, но ни Воланд, ни Мефистофель ко всему тому мировому и реальному злу, которое успело испытать человечество, никакого прямого отношения не имеют и иметь не могут: они попросту несозвучны с ним как образы, – или вы пишете о пытках, массовых казнях, концлагерях и бессмысленных страданиях – и тогда прощайте великолепные Мефистофель и Воланд, или вы занялись этими последними – и тогда дело оканчивается буквально несколькими жертвами, которые еще к тому же свою участь отчасти заслужили, здесь искусство, а там жизнь: просьба не путать, – и если Мефистофель воплощает провокацию как таковую, демонстрируя, что в ней-то и заключается существо дьявольского начала, то онтология Воланда, несмотря на поразительную многомерность булгаковского романа, на удивление проста: Воланд символизирует и воплощает само наше земное бытие, как оно нам дано испокон веков и помимо исключительных и пограничных феноменов типа веры и святости, – да, наш мир, действительно, построен на вековечном и неупразднимом никем и ничем соседстве света и мрака, добра и зла, а если так, если устранить мрак и зло не возможно, то само молчаливое признание такой невозможности уже заранее и автоматически делает нас если и не участниками свиты Воланда – но это только потому, что нас туда не приглашали – то по крайней мере ее одобрительными зрителями.
XVI. – Не забудем – те, кто выбрали путь Света, искренне верят в его полную и окончательную победу, мы же – сознаемся честно – не относимся к их числу, мы безусловно восхищаемся Воландом и даже где-то втайне любим его, да, именно любим, как любим мы наше серенькое житие-бытие с его взлетами и падениями, с радостями и страданиями, а главное, с тем самым необходимым чередованием света и тьмы даже в лоне природы, без которого жизнь на земле немыслима, и оставить все это ради чистого Света? – в романе такой шаг сделал один-единственный человек, ученик Иешуа, но ведь он нам не пример, и к тому же он – случайно ли? – далеко не самый симпатичный герой романа, что говорить? в художественном пространстве «Мастера и Маргариты» вопрос стоит ребром, как и в Евангелиях: чтобы пойти за Иешуа, нужно бросить отца и мать, – тогда как Воланд здесь гораздо снисходительней, – и если бы нам предоставили категорический выбор между Иешуа и Воландом, мы бы выбрали… страшно даже сказать, кого.
XVII. – Параллельно наблюдаются совершенно иные энергийные манифестации сатаны, каждому известно, что в Ватикане существует даже особый отдел, специализирующийся на борьбе с реальным вторжением дьявольского начала в человеческую психику, это так называемые экзорцисты: специалисты по изгнанию дьявола из человека, есть даже прекрасный хоррор-фильм на эту тему, но как бы ни была глубока и загадочна затронутая тема экзорцизма, стоит ее сравнить с тематикой «Фауста» и «Мастера и Маргариты», как громадная разница в бытийственных измерениях той и другой просто бросается в глаза: экзорцизм, хотя проникновенен и страшен, все же по сути своей слишком буквален, а стало быть неизбежно приземлен, тут, как и везде, все дело в личном отношении, – пока он нас лично не коснулся, подлинного, то есть духовного интереса у нас к нему нет и быть не может, или этот интерес несколько извращенный по сути, – напротив, именно духовный интерес к Мефистофелю или Воланду с нашей стороны как бы естественен и первичен, он сопровождает нас в нашей земной жизни и от нее неотделим, как пол неотделим от человека.
XVIII. – Причем мы вовсе не убеждены, что Гете и Булгаков все только выдумали, нет, не выдумали! – это вам подтвердит всякий обладающий мало-мальски развитым художественным вкусом, но тогда получается: оба персонажа существуют на самом деле? при этих словах подлинный любитель литературы опять болезненно поморщится, выходит – ни то, ни другое! и никакое доскональное исследование тут ничего не изменит: великие персонажи искусства не выдуманы, но и не существуют как факты, они есть, но они отсутствуют, – и это не изящный развлекательный парадокс и не диалектический фокус, это, если присмотреться, тот онтологический винт, перефразируя Льва Толстого, на котором мир крутится, – в самом деле, если вообразить себе загадку жизни в виде сложнейшего математического уравнения, где в виде иксов и игриков задействованы все известные нам метафизические величины, то стоит лишь на их место поставить феномен отсутствия, которое не есть ни бытие, ни небытие, ни единство того и другого, ни отрицание такого единства, и тем не менее вполне конкретно, даже превосходя ощущением реальности саму действительность, – как уравнение решается само собой и даже вполне удовлетворительным образом.
XIX. – Так что если Фауст, этот сверхчеловек в немецком и классическом значении слова, а значит и в какой-то мере прообраз всех ученых-исследователей, философов, полководцев и государственных деятелей, более того, символ и реклама грядущего капитализма, задумал дойти до границ человеческого бытия и для этого ему понадобился дьявол-Мефистофель, тогда как и Леонардо да Винчи, и Эйнштейн, и Ник. Тесла тоже достигли названных границ, однако нечистая сила им не потребовалась, если о Паганини ходили слухи, что дьявол помогал ему в скрипичном мастерстве, тогда как но по отношению к Моцарту и Баху такая помощь была бы несуразна, как для коровы седло, если, далее, художник из гоголевского «Портрета», как и сам Гоголь, еще склонны были сетовать на отсутствие поддержки Господней – а с ними и Пушкин, нуждавшийся во вдохновении как силе, живущей отчасти в душе творца, отчасти как бы за ее пределами – тогда как ни Льву Толстому, ни Фр. Кафку никакая поддержка свыше или со стороны была не нужна, то есть они просто садились за стол и писали, как другие приходят утром в бюро и работают, и если, наконец, средневековые алхимики могли еще искать помощи сверхъестественных существ, тогда как самые выдающиеся открытия естество знания были все-таки сделаны исключительно человеческим гением, – то из этого следует, что между самыми субтильными духовными феноменами и человеческими домыслами о них, что называется, не просунуть и волоса, и вопрос о самостоятельном существовании иных сложных явлений, помимо участия в них человеческого духа, не может быть решен принципиально, – и больше всего это касается при роды и образа дьявола.
XX. – Итак, подытоживая, в чем состоит существо дьявола? Вот пять голосований на эту острую и сложную тему, – первое голосование: существо дьявола состоит исключительно в провокации, – говорит Гете своим Мефистофелем; второе голосование: существо дьявола заключается в принципиальном космическом равновесии мрака и света, и более того, в некотором фактическом преобладании мрака над светом на уровне земного бытия, – спорит с ним булгаковский Воланд; третье голосование: ум, изящество, обаяние, светские манеры, смелость, ловкость, мужество, владение множеством искусств, умение везде и всегда и во все игры играть и выигрывать, склонность ко всякого рода авантюрам и приключениям, готовность ради этого пожертвовать добрыми человеческими взаимоотношениями и даже самим привычным миропорядком, невероятное умение привлекать к себе людей и союзников, – таков вывод Р.-Л. Стивенсона на примере старшего Джеймса Дьюри из «Владетеля Баллантрэ», о котором его автор сказал так: «Владетель Баллантрэ – это все, что я знаю о дьяволе»; четвертое голосование: беспредельные физические и душевные возможности при вопиющем издевательском равнодушии к конечной цели их приложения, то есть самая опасная и смертельная игра в богоподобие, – вариант, предложенный Достоевским в образе Николая Ставрогина.
XXI. – И, наконец, пятое и последнее голосование: сатана с фрески Луки Сигнорелли 1501 года, – это дьявол с крылами и рогами, лысый, с громадным, напоминающим Луи де Фюнеса, носом, и большими ушами, неестественно длинными губами, скошенным подбородком, с опущенными веками, в полноватом, без мускулов, теле и в полуоборот к зрителю: даже если отбросить фантастические рога и крыла, это будет все-таки изображение сатаны и никого другого, хотя, собственно, в лице его нет ничего нечеловеческого, напротив, все сугубо «человеческое, слишком человеческое».
Где же здесь сатанинская основа? почему это существо иначе как дьяволом нельзя и помыслить? тонкость тут в опущенных долу глазах, – хотя невозможно до конца представить себе их выражение, в общем и целом не вызывает никаких сомнений, что, если бы он их поднял, выявилось бы воочию, что сатанинская сущность данного лица состоит именно в том, что оно не признает и не допускает ничего хотя бы мало-мальски возвышенного в мире: в этом сатане нет ни демонической злобы, ни демонической ревности, ни демонической зависти, ни демонической ненависти, нет вообще ничего демонического, – зато со всем тем, что, пребывая в земной жизни, пустило свои корни в иные миры, – а это, по глубокой мысли Достоевского, любая мелочь нашего земного бытия, если додумать и дочувствовать ее до конца, – он будет бороться не на жизнь, а на смерть, – и потому единственное, что мы можем прочесть в его лице и опущенных долу глазах, это – демоническое неприятие всего, что хоть как-то возвышает человека, делает из него тайну, придает его жизни смысл, выходящий за пределы простой статистики.
Короче говоря, сатана Сигнорелли вышел самым что ни есть современным и актуальным: в нем и дух интернета, в нем и динамическая меркантильность нашей цивилизации, и в нем, самое главное, мертвая душа плюрализма как такового, когда любая иерархия ценностей, еще прежде чем возникнуть, уже лежит на земле тысячами равноправных осколков: в самом деле, почему что-то должно быть наверху, что-то в середине, а что-то внизу? по какому праву? так пусть лучше все валяется на земле! главное же – не верить ни во что Высшее и даже не сомневаться в том, что верить совершенно не во что, а остальное приложится.
Любопытно, что сам Мефистофель немыслим вне Бога, Воланд также отводит Свету подобающее ему место в космосе, наконец, Джеймс Дьюри и Николай Ставрогин, хотят они того или не хотят, подвигают окружающих их людей как к добру, так и ко злу, и в любом случае к каким-то выдающимся, экстраординарным поступкам, решениям и мыслям, мы видим, что вокруг них вовсю бурлят страсти и творится жизнь, – и только вблизи сатаны Сигнорелли нет ни Бога, ни света, ни тьмы, ни добра, ни зла, ни споров о них, ни даже самой возможности их, нет ни великих поступков, ни судьбоносных решений, ни амбивалентных мыслей нет вообще ничего, кроме всеобъемлющего и мертвящего «дважды два четыре».
Так что эти опущенные долу и глядящие вниз, в символическую бездну, глаза, вкупе с лысой головой, большими ушами, носом и губами, а также скошенным подбородком, – да, быть может этот необычный портрет запечатлел как никакой другой внутреннюю сущность самого для нас страшного и загадочного существа.
Бесы
I. – Наша аллергическая реакция на того или другого человека – причем, как правило, не имеющая под собой реального и серьезного обоснования, на то она и аллергическая – пожалуй, и есть самый верный признак того, что в нас вошел демон, а точнее, мелкого масштаба бес: действительно, всякий раз, когда мы на деле теряем контроль над собственными мыслями, чувствами и поступками, и вместе с тем полностью убеждены, что стоит нам только по-настоящему захотеть и чуть-чуть постараться, как этот контроль над собой будет в нас мгновенно восстановлен, – да, именно тогда и, наверное, только тогда в нас входит нечистая сила: та самая, с которой люди сызмальства имеют дело и в которой точно также испокон веков сомневаются, причем оба момента – глубочайшего и реальнейшего соприкосновения и столь же неистребимого сомнения в нем идут рука об руку, и это понятно: пребывание между небом и землей, точно сидение между двумя стульями, как раз и есть отличительная черта бесов, они не в состоянии воплощаться до уровня людей, но и долго оставаться на ментальном уровне им тоже по-видимому трудно: мешает элементарное неуемное любопытство и мешает врожденный провокаторский инстинкт постоянно сталкивать живые существа с высшей ступеньки на низшую.
А еще как гетевский Мефистофель не делает по сути ничего такого, что не было бы изначально и молча одобрено его патроном – Господом-богом, и тем не менее всегда и везде остается самим собой, то есть до мозга костей дьяволом, так человек иной раз может высказывать чрезвычайно глубокие истины, однако эти истины – то ли потому, что они должны быть сказаны в другое время и другими людьми, то ли по тому, что их лучше вообще не высказывать – приобретают звучание больше дьявольское, чем человеческое: к таким истинам может относиться вскользь брошенное замечание, что большинство простых людей, обращающихся к буддизму или другим восточным религиям (как, впрочем, и западным) и практикующих под наблюдением настоящих Мастеров, все же очень быстро достигают своих границ, не знают, что им делать дальше (хотя часто не показывают вида) и в итоге выглядят неестественно, так что непроизвольно хочется им посоветовать «заниматься своим делом в жизни» (а как же тогда быть с поиском Высшего?).
И еще к таким истинам может относиться убеждение в том, что жизнь склонна предоставлять людям максимум художественных возможностей, а это значит, что если, например, какие-то люди лучше всего на свете умеют сочувствовать родным и близким, а также заботиться о них с невероятным терпением и самоотверженностью, то судьба и предоставляет им зачастую эту возможность с блеском сыграть свою коронную роль: «награждая» их любимейшего родственника каким-нибудь смертельным заболеванием (ну не кощунственно ли такое предположение?): в том и в другом случаях произносящий подобные глубокие «истины» отчетливо ощущает, как он сам, точно спотыкнувшись, соскакивает с более высокой онтологической ступеньки на более низкую.
Ночные облака. – При слушании почти любой хорошей музыки у нас непроизвольно рождается в душе та самая знаменитая «светлая печаль»… о чем мы в этот момент тоскуем? о том, кем были или хотели быть, но никогда не стали? о своих имевших место, но еще больше неосуществившихся любовях? или о детстве как той волшебной стране, однажды выйдя из которой уже нельзя возвратиться? о том ли, что нам рано или поздно придется покинуть эти милые и обжитые места? или о том, что еще безотрадней, пожалуй, было бы оставаться в них на вечные времена? мы тоскуем в конечном счете о том, что жизнь всегда задает нам очень серьезные вопросы, наподобие вышеприведенных, на которые мы ответить удовлетворительно никогда почему-то не можем, так что эта светлая печаль или просветленная грусть есть адекватное выражение в душе онтологической неопределенности жизни: она (то есть печаль или грусть) скользит по краю нашей души наподобие белых облаков, что плывут и тают в голубом небе.
Но когда чарующая неопределенность жизни вдруг заменяется острейшим противостоянием добра и зла, когда черное бездонное страдание подступает к повседневности, дошедшей до края, когда неизмеримо превосходящие человеческие возможности космические силы показываются на горизонте, – тогда нет уже места ни легкой печали, ни светлой грусти, тогда немота, безмолвие и оцепенение сковывают душу, и какое-то странное отчаяние парализует инстинкт действия: точно во сне вас душат подушкой, а вы не можете пошевельнуть пальцем.
И все же ни страх, ни ужас не торжествуют вполне в этот момент над вами, их тень, правда, носится где-то поблизости, но преобладает ощущение какого-то непостижимого, с трагическим надрывом, величия мироздания, которое выдавило из своих пор казавшуюся вам прежде «божественной» экзистенциальную неопределенность жизни, заменив ее чем-то невообразимо громадным, тяжелым, значительным, внутренне несовместимым и нераздельным одновременно, иными словами, в мир вошла страшная – потому что без слов и без звуков – музыка монотеистической религии.
И вот тогда уже ваша прежняя и итоговая, как вам казалось, мысль о жизни, мысль, принявшая когда-то светлый образ белых облаков, тоже кардинально меняется: настраиваясь на новую музыку, она также становится двойственной, темной, безжалостной и безнадежной, она предает гуманистические идеалы, как это сделали когда-то Шекспир и Достоевский, а может и любой по-настоящему великий творец, она делается игралищем противоборствующих смертоносных Энергий, – и в этом своем радикально преображенном облике она напоминает уже не полдневные облака, а ночные: те, которые скользят не под лазурью, а под великой звездной твердью, и не на фоне отуманенного ласкового солнышка, а на фоне сияющей бледной желтизной мертвой луны, – и тогда о них можно сказать стихами.
Как истлевшие мощи веков к трубам ангелов Судной весны проплывают гряды облаков в безотрадном сиянье луны. Стоит чутким забыться лишь сном — в сновиденья скользят облака: словно в зеркале бледно-ночном надвигается тень двойника. Точно демонский конный отряд, обходя полуночный обрыв, черной мессы свершая обряд, роковой завершает прорыв.Этот блуждающий взгляд повседневного человека. —
Сколько же в нем скрытого демонизма! но чтобы понять его природу, нужно обязательно припомнить гоголевский «Портрет»: как же он внутренне близок «Вию»! да, Чертков, ночью рассматривающий портрет и Хома, что не в силах оторвать взгляда от панночки в гробу – это абсолютно одно и то же психологическое состояние.
«Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его…», и далее, несколькими строками ниже, Гоголь подчеркивает «странную живость» старика на портрете: это уже доминанта всех без исключения гоголевских мертвецов. Любопытны рассуждения Гоголя об искусстве в этой связи: «Но здесь однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете, было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза!.. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство». И дальше Гоголь пускается в размышления, каким путем мог художник написать такой портрет, у него две возможности: либо рабски подражать натуре, либо брать предмет «безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним», – но с этим вряд ли можно согласиться: ведь рабское подражание натуре вообще ничего путного в искусстве не дает, а тем более так не создашь портрет сверхчеловеческой, магической силы, впрочем, и обратный вариант: писать портрет не сочувствуя модели, но исходя из внешней, пусть и благородной идеи, тоже бесперспективен, – во второй части новеллы Гоголь, опровергая себя, рассказывает как был создан портрет.
Итак, Гоголь противоречит сам себе, провозглашая рецепт великого искусства: «Во всем находить внутреннюю мысль и пуще всего стараться постигнуть высокую тайну созданья»: так автор портрета, иной и христиански просветленный, назидает своего сына, но мы с ним категорически не согласны, потому что мысль – мыслью, а все-таки самое главное в искусстве именно его пронзительная жизнь, и если она превосходит реальную жизнь, тем лучше, а если она от дьявола, то и тогда предпочтем мы ее «божественным», но недостаточно живым альтернативам, впрочем, это уже чисто гоголевская проблема, да разве еще проблема шедшего по его стопам Достоевского. Очевидно, что на гоголевских героях, как и на персонажах Достоевского, лежит печать потустороннего: они живы как живы иные сновидения, или как призраки, или как ожившие мертвецы, – и все-таки, положа руку на сердце: какой художник не предпочтет написать пусть и дьявольский портрет, зато в котором, рассматривая его «чудные глаза», с ужасом замечаешь, «что они точно глядят на зрителя»?
Так глядит на нас Леонардова Джоконда и так глядят на нас рембрандтовские и схожие с ним портреты, но вот что любопытно: среди подобных живых лиц немало работ малоизвестных, а то и анонимных мастеров, я сам в восьмидесятых годах прошлого века, скоро по приезде в Мюнхен, видел в витрине одного антикварного магазина сходную картину: это был тоже старик, но в приличной европейской одежде, похожий на еврея и с тем же пронзительным взглядом, который буквально вонзался в наблюдающего и от которого невозможно было оторваться, – как сейчас помню: картина эта стоила тысяча восемьсот немецких марок я ее не купил и до сих пор о том жалею, она скоро исчезла с витрины. Уж не тот ли самый гоголевский художник ее написал? по духу и стилю – тот же самый, непонятно только, почему его имя неизвестно миру и почему его картина не украшает музеи мира. Итак, магическая жизнь портрета – одна художественная концепция, но есть и другая, вот как ее описывает гоголевский художник после многолетней святой жизни: «Чувство божественного смиренья и кротости в лице пречистой матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, – все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатление было магическое». Здесь, конечно, описан Рафаэль, и если Гоголь награждает его своим любимым эпитетом «магический», то во сколько крат больше ту же характеристику заслуживает Леонардо да Винчи! взгляд Джоконды настолько входит в сознание созерцающего ее, что, кажется, он уже исходит из глубины сознания самого наблюдателя: всепронизывающий и почти параноический взгляд, в котором, однако, нет ничего ужасного, как и в помине нет той «странной живости, которую бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы».
Итак, Гоголь преувеличивает, но в его преувеличении есть смысл и смысл этот состоит в предположении Гоголя, что пронзительная «мертвецкая живость» и есть первичная характеристика действительности: пока не озарена будет жизнь «светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли», до тех пор она будет томиться этой «странной живостью».
Отсюда до «Мастера и Маргариты» – один шаг, ибо также и Воланд как воплощение единой, всемогущей и всепронизывающей Живости правит миром, а Свет, именно чистый беспримесный Свет, в котором и глубокий разум, и любовь, и гармония, и смирение, и кротость, и все прочие великие добродетели и великие идеи – не есть ли добродетели только идеи? – Он, этот Свет, не от мира сего, и такого Света в мире – раз, два и обчелся. Присмотритесь к людям на улице или в городском транспорте: все они по-своему дьявольски живы, но совсем не так, как живы персонажи великих произведений, – последние умышленно неконкретны, вы никогда не сможете вычислить их облик с фотографической достоверностью: между мимикой, взглядами, словами, поступками и сокровенным нутром героя оставлено полое пространство, оно заполняется осмысленной энергией, которая идет от общего замысла, от композиции, – итак, важен не столько персонаж сам по себе, сколько его роль в сюжете. А у живого человека нет особенного сюжета или мы просто его не видим, повседневный человек представим в любой ситуации, в отличие от художественного героя, повседневный человек в принципе способен на любые слова, любые мысли, любые ощущения и любые поступки, – отсюда его странная живость.
Образ же, в противоположность живому человеку, во всех отношениях существенно ограничен: стоит Анне Карениной не к месту почесать колено – и бесподобный образ идет к черту, а казалось бы: что тут особенного? поистине любой человек и любая женщина может почесать колено, но нет, Анне Карениной это не дано, – поэтому в ней есть великая жизнь, но нет этой странной живости.
Еще и поэтому мы говорим, что персонажи бессмертны, тогда как живые люди обречены на смертность: обратите внимание, сколько текучей, разнообразной и несводимой к единому и сущностному знаменателю живости в повседневном человеке! но ровно столько же в нем и смертности! и та и другая буквально запечатлены на нем Каиновой печатью, сопровождая его на каждом шагу в жизни, – больше же всего смертность человеческая как таковая, во всей своей торжестве и славе, без каких-либо дурных нюансов и в самом лучшем значении этого слова ощущается в пивных садиках и ресторанах, но и просто на улице: все эти слова и ужимки обыкновенного повседневного человека, в особенности же его взгляды, по-клоунски пританцовывающие к любой ситуации, – разве на них не лежит печать смерти? и разве печать эта не бросается в глаза, подобно громадной неоновой рекламе на вечерней улице?
Посмотришь на такого человека «розановским» глазком – и сразу все становится ясно: да, этот человек просто должен умереть, рано или поздно, и другого выхода у него нет, – совсем иное дело – литературные герои: их принадлежность смерти проблематична и читая о них, у нас совсем не возникает ощущения, будто они непременно должны умереть, может быть, да, а может быть, нет, кто их знает.
Итак, живость живого человека – от бесчисленных и взаимоисключающих друг друга с точки зрения искусства чувств, мыслей и побуждений, – разумеется, искусство тоже кишит глубокими и «противоречивыми» психологическими решениями, но насколько они там подготовлены и продуманы! если герой по сюжету должен совершить адюльтер, то автор на это обязательно тонко намекнет, а если он по замыслу верен жене, то так тому и быть, – а вот в «живой жизни» человек может смотреть на любимую жену и думать одновременно о приподнятой юбке какой-нибудь сидевшей недавно против него женщины в метро, и это совершенно нормально и в порядке вещей, отсюда и «странная живость» в его глазах, и так на каждом шагу. Так что если художественную концепцию Гоголь довести до ее логического завершения, то выйдет вот что: человеческая личность в своей основе естественно и незлостно демонична, потому что абсолютно противоречива, несводима к какой-либо единой облагораживающей идее и по сути непостижима разумом, – а это и есть тот самый обыкновенный, утробный, бытовой демонизм, который лучше всех выразил Ж.-П. Сартр в одной-единственной фразе: «Ад – это другие».
Как часто мы пытаемся найти логику в поведении людей, которых, как нам кажется, мы знаем «насквозь и глубже», – и не находим, и очень тому удивляемся, а логики здесь и в самом деле нет, потому что посреди людей и в центре каждого из них зияет так называемый «черный ящик»: это, как сказал бы Будда, есть отсутствие в человеке самостоятельной субстанции, будь то независимого от земного времени и обстоятельств Я, или независимой от неземных факторов души, ничего этого на самом деле нет, но все это мы почему-то ждали и ждем, как в других, так и в самих себе, – и, получая вместо ожидаемого «бессмертного образа» «черный ящик», мы невольно проецируем первый на второй.
Здесь и залегают корни бытового демонизма, одним из величайших художественных исследователей которого и был наш Гоголь, а выражается бытовой демонизм сполна уже в обыкновенном, блуждающем и странно живом человеческом взгляде: который и стал главным героем гоголевского «Портрета».
Хотя справедливости ради нужно сказать, что в жизни любого человека бывают минуты, когда сочувствие к ближнему или просто доброе и теплое чувство осиливают всякого рода суетливые ужимки, – например в том же самом пивном садике, если посреди него кому-то станет вдруг плохо, люди забудут о своей монументальной блуждающей живости и на их лицах отразится, по слову Гоголя, «внутренняя мысль» и она же «высокая тайна творенья», – беда, однако, в том, что это прекрасное состояние в людях, достойное кисти Рафаэля, обычно не держится слишком долго, и уже через каких-нибудь четверть часа, когда инцидент исчерпан, и пострадавший покинул пивной садик – сам, с приятелями или на «Скорой помощи» – все возвращается на «круги своя» и «странная живость» повседневного человека опять берет верх над его же глубоко спящей в нем и, увы! редко просыпающейся «божественной гармонией», – итак, все сводится всего лишь к великому вопросу о длительности: светлые мгновенья спорят с унылой рутиной, и спор этот продолжается на протяжении всей нашей жизни, и ничего нет более важного для нас, чем этот вечный спор, но чем и как он закончится и какое будет после него принято решение, человеку знать не дано, да и зачем нам это знать?
Ласковые к нам боги. – Нет никаких сомнений в том, что осознание повсеместно и ежеминутно свершающегося в мире страдания как чего-то такого, что не тем даже страшно, что человек сам по себе страдает – на самом деле для любого человека, родившегося и выросшего не в буддийских регионах, с точки зрения обретения высшего смысла жизни нет ничего легче и естественней, чем страдать – а тем, что любое страдание по буддизму тонко обессмысливает и того, кто страдает, и то или что, по поводу чего страдают, то есть по большому счету через страдание обессмысливается в своей основе вся земная жизнь (наш Федор Михайлович должен перевернуться в гробу при таком известии), – итак, это осознание страдания есть, безусловно, сердце буддийской медитации.
И действительно, укоренившись в нем, как дерево укореняется в земле, очень скоро, естественно и неизбежно достигаешь состояния глубочайшего успокоения, – однако вся беда западных людей (к которым в первую очередь причисляю и себя самого), во что бы то ни стало пытающихся приобщиться к буддизму и серьезно практикующих медитацию, состоит в том, что рано или поздно и скорее рано, чем поздно (уже через каких-нибудь полчаса), у них в глубине души и почти против воли рождается некое чрезвычайно тонкое и весьма приятное беспокойство, которое, если проникнуть в него до конца, является своего рода предостерегающим предчувствием: в самом деле, ведь если страдание как последняя цель духовной жизни раз и навсегда исчезнет из души медитирующего (опять-таки говорю лишь о западных людях, об истинных буддистах нам судить не дано), то с ним вместе исчезнет и вечный покой (ниббана) как сладчайший плод освобождения от страдания.
И потому, чтобы заранее обеспечить для себя некий резервуар страдания как тот драгоценный эликсир, из которого посредством сложного преображения – в нем как раз суть медитации! – только и можно добыть психологическое блаженство полного успокоения или отрешения или освобождения или как их еще ни назови, медитирующий западный человек инстинктивно стремится оставить дверцу в мир слегка приоткрытой: чтобы оттуда время от времени шел ток воздуха, а с ним волнующие запахи, одним из которых может стать – и на каждом шагу становится – запах женских духов, запах женского тела, сопротивляться которым совсем уже невозможно.
Впрочем, невозможно для большинства других людей, и невозможно для нашего медитирующего западного человека, каким он был прежде, – теперь же он, отдадим ему справедливость, научился не следовать мирским соблазнам, но какой ценой! ценой сомнительного преображения субтильных и всегда в той или иной мере соблазнительных веяний жизни в блаженный покой медитации, то есть вместо того чтобы раз и навсегда отрешиться от волнующих образов бытия, имя которым легион, на чем настаивал Будда, люди западной цивилизации втайне используют последние в качестве «тонкой пищи» для своей медитации.
Но поедающий ту или иную пишу, как известно, сам в каком-то смысле становится ею, – и тогда страдание как прежний и вечный, можно сказать, даже закадычный приятель подобным и не совсем праведным образом медитирующего человека садится невидимкой и в прихотливой позе в кресло рядом с усердно замедляющим дыхание в позе Лотоса подопечным, скрестив или небрежно вытянув ноги и с иронической улыбкой на лице: «Ну что нам с ним делать?» – говорит его немой и красноречивый взгляд, обращенный к (буддийским) божествам, а те из заоблачных высей, пожимая плечами, отворачиваются или делают вид, что не замечают всей этой комической сцены, и лучшего ответа с их стороны, увы! нельзя представить.
И колесо рождений и смертей продолжает вращаться дальше, но уже с полным согласием на то всех действующих лиц, – нет, какая все-таки гармония разлита кругом!
Эльфы и листья. – Только ли от притока невидимой жизненной силы чутко оживают по весне листья? а может еще и по причине подпевания весенней симфонии вездесущих эльфов в синих и безбрежных высях? только ли вследствие накопленной из земли влаги забывают листья жажду на протяжении многонедельной засухи? а может еще и оттого, что это изящные эльфы отвлекают их своими ловкими танцами в зное солнечных дорожек? только ли от теплого ветерка слабо и блаженно трепещут листья летом? а может еще и лучистые взгляды эльфов, купающихся в чистых облаках, подталкивают их к едва заметным колебаниям? и наконец: только ли от прекращения растительных токов поздней осенью начинают тихо опадать листья? а может еще и холодные вздохи эльфов, загрустивших о предстоящем уходе до следующей весны с подмостков природы, сдувают их с почерневших ветвей?
Очевидно, что в подавляющем большинстве своем люди склоняются к первому и естественному объяснению, но это лишь тогда, когда речь идет о листьях в целом, – если же, в виде исключения, присмотреться очень внимательно к какому-нибудь отдельно взятому листу, как от рассуждений о человечестве когда-нибудь переходят к личности и судьбе конкретного человека, и проследить его (то есть листа) жизнь от клейкого молочного зеленого ростка до последней стадии пожелтевшего, скорчившегося и со следами заморозок вдоль прожилок, то вторая и в общем-то сказочная интерпретация его жизненного цикла покажется даже более правдоподобной, чем первая, потому что только она в состоянии передать все те живые и неповторимые оттенки в ежегодно повторяющейся метаморфозе листа, которые человеческое восприятие фиксирует сразу и насквозь как самую первичную данность, – и пусть существование эльфов самих по себе остается под вопросом, зато то обстоятельство, что с их помощью стало возможным почувствовать и описать жизнь растения, как это и приблизительно невозможно при исключительно естественнонаучном взгляде на него, можно считать неоспоримым и доказанным, – а это и есть, пожалуй, самое главное.
Здесь же и генезис любой мифологии, любой сказки и вообще любого искусства: они и только они одни в состоянии сопрягать жизнь и судьбу отдельного живого существа с незыблемыми законами бытия.
Вещи и люди. – Иногда каждому из нас приходится быть одному: не потому, что рядом не оказалось человека, который мог бы нас понять, а поняв, и простить, нет, не поэтому, а потому, что никакой человек и даже никакое живое существо не смогли бы выдержать столько холодной и отчужденной задумчивости, которая сквозит иногда в нашем взгляде, когда мы думаем, будто увидели, наконец, жизнь без иллюзий и без прикрас.
Этот взгляд – как будто стараешься проникнуть вовнутрь иглы, однако продолжаешь скользить по ее блестящей поверхности, быть может, подобный взгляд был у Иннокентия Смоктуновского, когда он играл князя Мышкина, а может и нет, неважно, – так или иначе, этот взгляд лучше всего выдерживают предметы неодушевленные; и потому надо быть им за это благодарным, а значит, относиться к ним по меньшей мере как к домашним животным или еще лучше – как к близким людям, то есть проявлять к ним любящую доброту и не расставаться с ними до последнего, – пока мы сами не уйдем туда, откуда они нам смогут только сниться, – и не обижаться на них, если в один прекрасный момент мы вдруг догадаемся, что и вещи давным-давно смотрят на нас как на одну из них, то есть как на одушевленную вещь, – не оттого ли, если пристально наблюдать за ними, нам кажется всегда немного странным, что они молчат и не двигаются?
В поисках объяснения этого любопытного феномена нам придется допустить, что вещи притаились и делают вид, что не замечают нашего пристального за ними наблюдения, и лишь при более внимательном размышлении мы поневоле вспомним ту простую истину, о которой не уставал повторять еще Будда, а именно: что мы сами не более, чем вещи, только бесконечно более сложные, вещи, состоящие из «агрегатов» тела, ощущений, восприятий, представлений и мышления.
Их комбинации беспредельны, но суть от этого не меняется; да, мы – одушевленные вещи, не больше, но и не меньше, и то, что обыкновенные, то есть неодушевленные вещи об этом давным-давно догадались, есть всего лишь элементарная логическая закономерность, а наша так называемая индивидуальность ничего ровным счетом не доказывает, потому что и любая решительно вещь, любое растение и любое животное, любой минерал и любой пейзаж, даже любая минута дня и ночи в конечном счете неповторимы, а стало быть и индивидуальны, – оттого-то и выходит, что мир, понятый как «факультет ненужных вещей» (Ю. Домбровский), продолжает оставаться по крайней мере столь же великим и загадочным, как и мир, сотворенный Господом-Богом.
Итак все без исключения суть вещи, – музыка Баха: изумительная духовная вещь, без которой дня нельзя прожить и которая упраздняет за ненадобностью многие другие, подобные ей духовные вещи; ночное звездное пространство: еще более колоссальная, потрясающая, но совершенно чужеродная нам, людям, вещь; время: самая непостижимая в мире вещь; мироздание предвечное: одна очень странная вещь; мироздание, возникшее из Первовзрыва: другая и не менее странная вещь; многочисленные гипотетические измерения реальности: вещи не для нашего ума; гномы и эльфы: вещи между воображением и действительностью; любовь: вещь, которую каждый понимает по-своему; секс: вещь, которую каждый испытывает приблизительно одинаково; буддийская медитация: самая сложная и субтильная в области человеческого сознания вещь; болезнь, старость и смерть: три общеизвестные, родственные между собой вещи; свет: вещь; и тьма: тоже вещь; кастрюля: самая обыденная в мире вещь; и оригинальная мысль: тоже вещь, но не совсем обыденная; далее, человек в пределах одной жизни: одна вещь; а человек, взятый в крутовороте своих инкарнаций: другая вещь; и тот же человек, пребывающий после смерти вечно в астрале: третья вещь; так что и мысль, утверждающая возможность этих взаимоисключающих решений: вещь; как и другая, настаивающая на их невозможности мысль: тоже всего лишь вещь, – итак, все без исключения суть вещи.
И в этом нет ничего унизительного, напротив, под вещью мы подразумеваем всего лишь замкнутый на себя феномен и по этой причине внутренне вполне завершенный: не имеющий, строго говоря, ни начала, ни конца, – ведь начало и конец суть только формальные условия существования завершенного в себе феномена, сам же по себе феномен безусловен, и оба эти антиномических момента – условный и безусловный – сводят с ума человеческий ум, потому что они, собственно, не его ума дело и постичь их нельзя.
Ведь ясно, к примеру, что мы не могли бы существовать без наших родителей, но наша сущность от них независима, и сколько ни рассуждай на эту тему, дальше сказанного в этих двух фразах не пойдешь, – то есть все в мире, с одной стороны, возникает и исчезает, как облако в полдневной лазури, но и все в мире, с другой стороны, вечно и неизменно, как то же облако, запечатленное на полотне мастерской кистью.
Поэтому вещи не нуждаются ни в объяснении, ни в оправдании, их странно отрицать и еще более странно утверждать, они скромны, как полевые цветы, но и исполнены собственного достоинства, как незабвенный граф де ла Фер-Атос, так что и субъект и объект вкупе с их игривыми вариациями суть не более, чем мнимо противоположные вещи, а мир, из них состоящий, есть факультет ненужных или нужных вещей, без разницы, ведь обыгрывание названия чьей-то книги – тоже пустая по большому счету вещь.
И вот когда все вокруг в пробужденном сознании становится вещами: решительно все, без какого-либо исключения, тогда и наступает состояние, при котором кажется, будто не к чему больше стремиться, потому что любое стремление вкупе с его результатом есть всего лишь вещь, без которой можно вполне обойтись, но можно и не обходиться, потому что жизнь без стремлений – если она вообще возможна – тоже не более чем вещь, хотя и самая субтильная и загадочная.
То есть в состоянии медитации приходится постоянно и заново освобождаться от жизни как таковой, проявления которой, как легко догадаться, беспредельны, – и это освобождение сродни плаванию против течения, и вот оно-то, быть может, только и делает медитацию тем, что она есть по сути, то есть точечным круговоротом самых субтильных душевных энергий.
В самом деле, ведь все, что нам суждено достигнуть при напряжении всех наших сил и в пределах этой нашей жизни, есть уже и заранее обыкновенная вещь, и никогда она не будет больше и значительней той вещи, которая есть у нас сейчас, то есть нашего теперешнего состояния, пока мы ничего не достигли и ничем в жизни не стали, – и точно так же не о чем нам жалеть, потому что то, что мы потеряли, есть лишь вещь, равная всем вещам, которые у нас остались, все суть вещи, как же мы раньше об этом не догадывались? и потому, пытаясь скрыть это слишком явное внутреннее превосходство вещей над нами, мы, вместо того, чтобы самим стать тем, чем мы есть на самом деле, то есть вещью, подстраиваем вещи под себя: например, игриво представляем себе, будто они вот-вот сдвинутся с места или оживут под нашим пристальным взглядом.
Это, конечно, своего рода магия: так волшебник Сокура из прекрасного фильма о седьмом путешествии Синдбада оживлял скелет; здесь корень дьявольщины, но здесь же и механизм веры во все Высшее, потому что жить в мире вещей не только не просто, а очень даже трудно, точнее, почти невозможно, – в мире вещей можно только медитировать: о чем? да о тех же вещах, о чем же еще? но тот, кто хочет жить, не удовлетворяется одной медитацией, и потому он вынужден разрушать святые скрижали вещей, чтобы из их чрева на свет божий вышла иллюзия, будто люди и животные, боги и демоны, духи и инопланетяне, и вообще все, все, все – есть что-то иное и большее, чем просто вещи.
Вот жизнь и есть эта иллюзия быть больше, чем просто вещью, но в иные моменты – странные, необъяснимые, гамлетовские моменты – жизнь, точно помня о своем возникновении из вещи, вдруг замирает в чьем-нибудь особенно внимательном и пристальном сознании, отражаясь в остановившемся зрачке как вещь, – и тогда наступает состояние великого, последнего и необратимого удивления; быть до такой степени удивленным значит видеть жизнь и все в жизни как вещи, то есть в аспекте чистого бытия.
Беда лишь в том, что это нисколько не мешает нам жить дальше и как ни в чем ни бывало, а тем самым происходит накопление «факультета ненужных вещей»: ведь каждое мгновение жизни создает тысячи новых вещей, и весь вопрос только в том, будут ли они когда-нибудь до конца осознаны, если будут – хорошо и тогда мы испытываем блаженство великого и последнего удивления, если же нет – тоже не страшно, поскольку неосознанность жизни есть точно такая же вещь, как и полная ее осознанность, – первая не мешает второй и может существовать сколько ей угодно.
Для меня же лично нет и не может быть лучшего подтверждения всего вышесказанного, нежели моя бабка по отцу: все свои восемьдесят с лишним лет она провела в крохотной комнатушке площадью в одиннадцать квадратных метров, сидя весь день у окна, выходящего во дворик, либо лежа на громадном старинном сундуке, при этом туалет находился во дворе и нужно было спускаться по скрипучей деревянной лестнице (она жила на втором этаже), которая зимой обрастала льдом, закупаться же она выходила раз в два дня, жила на крошечную пенсию давно умершего мужа, сама никогда не работала, в юности слыла красавицей, вплоть до глубокой старости сохранив стройную осанку и безукоризненно правильные черты лица, при этом она была до такой степени тихим и незаметным существом, что никто никогда не слыхал от нее не только громкого или грубого слова, но не примечал за ней какого-либо заметной и выходящей за пределы сидения у окна, лежания на сундуке или закупания продуктов сопровождающей эмоции или самостоятельной, хоть как-то поднимающейся над описанными жизнепроявлениями мысли, – ничего этого не было и в помине, однако странным образом ее облик и весь образ ее существования не вызывали ни презрения, ни даже доброй насмешки: как будто и в самом деле некто по ту сторону нашего мира задумал на ее примере продемонстрировать великое и непостижимое для человека равенство перед лицом вечности всех феноменов бытия, в том числе и феномена самой простой и обыкновенной вещи.
Набросок к портрету одной слепой женщины
I. (Лотерея). – Одни утверждают, что судьба капризна к людям, другие – что она жестока, третьи – что она коварна, четвертые – что она вообще к ним равнодушна, не исключено, что еще кто-то утверждает на ее счет совсем иное и противоположное, – и все-таки все они гораздо более правы, чем те, кто думает, будто у судьбы вовсе нет никаких качеств.
Чтобы разобраться в этом сложном вопросе, стоит обратиться к проблематике магнитных, но в еще большей степени гравитационных полей, которые остаются до сих пор непостижимыми для человеческого разума, – как известно, Эйнштейн всю вторую половину своей жизни посвятил разгадке тайн гравитации, но безуспешно, и нынешние астрофизики дальше захватывающих дух гипотез в этом отношении тоже не пошли, а между тем события вокруг Бермудского треугольника и знаменитый Филадельфийский эксперимент намекают на особую роль этих феноменов в решении проблем будущего: как будто зафиксированы даже случаи, когда люди, оказавшиеся в магнитном поле, были катапультированы в прошлое и будущее.
Но если это и не так, то в любом случае воздействие физикальных полей способно пролить свет на понимание кармы с буддийской точки зрения; в самом деле, что происходит с человеком, когда он умирает? согласно Будде, пять агрегатов – тело, восприятия, ощущения, мысли и сознание – из которых состоит любой из нас, разрушаясь, вступают в новое соединение; на первый взгляд все очень просто, демонстрация закона причины и следствия в чистом виде: как бильярдный шар, ударяясь о другой шар, передает ему свою кинетическую энергию, так все то, чем мы были в этой жизни, разрушается и исчезает в конечном счете, но остается результат суммарной нашей деятельности на всех уровнях, именно так, то есть и так называемое «ментальное тело» или «душа» умершего, переходя в астрал, не может там пребывать «вечно», но тоже рано или поздно развоплощается, делаясь всего лишь чистым следствием всех прежних воздействий, и вместе становясь причиной новой жизни.
Однако, как показывает опыт, связь между двумя (даже) соседними реинкарнациями настолько свободная, что, если бы нам показали двух людей, относительно которых абсолютно точно было бы известно, что один является перерождением другого, мы бы наверняка сказали, что это два совершенно разных человека, и наоборот, в жизни мы на каждом шагу встречаем людей, внутренняя близость которых прямо бросается в глаза, хотя об реинкарнации здесь и речи быть не может; вообще, закон кармы таков, что в него невозможно не поверить, он убеждает сразу и до конца, и осиливает он соперничающую концепцию «вечной жизни» не только логически, но и психологически, изнутри, – закон кармы кажется нам убедительней и правдоподобней, нежели вечная жизнь в астрале, а так ли это на самом деле, другой вопрос.
Что происходит «на самом деле» – нам вообще не дано знать, кроме интуитивной убежденности и еще какого-то странного, завораживающего критерия «правдоподобия», – который нельзя ни утвердить ни отвергнуть, и который действует на нас точно так же, как действуют великие образы искусства: а вдруг и в самом деле «последние вещи» имеют не логическую или философскую, а художественно-образную природу?
Буддисты говорят, что раз мы есть, значит и были, и будем, казалось бы, логика на их стороне: с какой стати мы есть один-единственный раз, а потом – вечная жизнь? однако, с другой стороны, вечный круговорот жизни ставится под сомнение фактом (или, точнее, гипотезой) абсолютного начала Вселенной – Первовзрывом и фактом абсолютного начала жизни на нашей планете.
Так что остается одна художественная убедительность, но и ее одной, если присмотреться, больше, чем достаточно, ведь художник не просто «швыряется» образами, нет, он их тщательно обрабатывает, заботится о них, напитывает их любящей добротой, дает им жизненное (композиционное) пространство, следит, чтобы они не мешали друг другу, как не мешают друг другу малые и большие небесные тела, вращаясь один вокруг другого, – и если уж одному персонажу суждено погибнуть от руки другого или что-нибудь в этом роде, так ведь и в космосе происходят чудовищные катаклизмы, и гибнут и заново возникают целые галактики; значит, так надо, и любой хаос тотчас начинает высвобождать из своего чрева гармонию, а любая гармония стремится опять в материнское лоно хаоса, и все это ни много, ни мало, – космические сюжеты, что же еще?
Возьмем биологию, там, оказывается, до сих пор не выяснено, как же именно произошли роды и виды, самовоспроизведение их каждому понятно, а вот как они все-таки возникли впервые? поэтому принято различать первичные и вторичные причины, последние – это когда из крокодила произошел крокодил, а из черепахи черепаха, а первые – это когда неизвестно откуда впервые появились крокодил и черепаха, и вот они-то, первичные причины, или генезис как таковой, пока не найдены, и будут ли когда-нибудь найдены? позволительно усомниться.
А все оттого, что между причиной и следствием залегает так называемая онтологическая щель, вот благодаря ей-то первичная причина по отношению к следствию играет роль условия, то есть она не предопределяет следствие, не верховодствует над ним, а всего лишь является условием его существования: онтологические щели, пронизывающие мироздание, точно поры пронизывают кожу, как раз и ответственны за то, что буквально все в мире, и в первую очередь любой генезис, носит в глубочайшей мере творческий характер.
Здесь и корни одной любопытнейшей особенности нашего восприятия космоса, – в самом деле, когда есть всего лишь условие, но из него является сложный феномен, который прямо к этому условию не сводится и рождается как бы сам по себе – да так оно и есть на самом деле! – то мы, слегка шокированные призраком беспричинности, склонны тотчас приписывать его возникновение творческой воле Высшего Начала; любой феномен, формируясь под воздействием заложенных внутри него каузальных структур, обретает свой индивидуальный облик всегда посредством отклонения от них, механизм же отклонения сам по себе чрезвычайно прост, но на нас он действует наподобие непрерывно сбывающейся демиургической сказки.
Цветы флоры, расцветки фауны, цветовые оттенки человеческого глаза, – все это, к примеру, феномены, как единодушно свидетельствуют биологи и психологи, не обусловленные никакими естественными причинами, и не служащие каким-либо биологическим целям, но представляющие из себя, как показал, в частности, Адольф Портманн, простую форму существования некоторых субтильных феноменов – в данном случае пигментационного фактора – в световоздушном пространстве, – тем самым получается, что природа, не являясь в собственном смысле художником, выступает как художник, а мир в целом, не будучи демиургом и понятия о нем не имея, представляется, однако, человеческому сознанию так, как будто в сердцевине его незримо пребывает демиург.
Возвращаясь к проблематике кармы: сходным образом правомерно допустить, что мы «настоящие» по отношению к нам же «будущим» играем роль условия, это означает, что какие бы кармические заслуги мы в этой жизни ни обрели, конечный результат их может и должен от них отклоняться, быть может, слегка, быть может, значительно, недаром буддизм постулирует нелинеарное действие закона кармы, – в том смысле, что наши поступки и побуждения проявляются, скажем, не в следующей жизни, а гораздо позже, и в соединениях, о которых мы понятия не имеем; концепции нелинеарной кармы и отклонения от причины, будучи разноприродными, сходны, однако, в главном: обе они постулируют практически художественную природу кармы, – и вот как это может происходить.
Допустим, что все мы инстинктивно стремимся к высшему, светлому и доброму, допустим, далее, что наши благородные стремления подкрепляются еще и соответствующими делами, что весьма существенно, тогда шансы наши на обретение в следующей жизни более высокой и благодатной формы существования серьезно увеличиваются, но остаются по-прежнему только шансами, это необходимо подчеркнуть: точь-в-точь как в лотерее, когда мы заранее знаем три или четыре шара, и какой-то определенный выигрыш нам обеспечен, он и соответствует вполне нашим реальным кармическим заслугам, однако остаются еще два или три шара, и вот они-то и воплощают универсальное отклонение следствия от первичных причин, в данном случае от наших кармических заслуг.
Иными словами, сколько бы добрых дел мы ни наделали и какими бы великими они ни были, мы не можем знать, что нас ждет, и можем только гадать, – но какой толк от гаданий? потому что последние и решающие два-три шара «инкогнито» принадлежат Его Величество Случаю, а если кому-то это словцо не по душе, то, пожалуй, и некоей таинственной Закономерности, только уж о ней, пожалуйста, ни слова! ведь она и в самом деле ничем не отличается от случая.
Поэтому стремиться к Высшему надо, и делать добрые дела тоже надо, в этом все согласны, – но уверенности в том, что это нас спасет или возвысит, у нас нет и быть не может, и в этом тоже все как будто согласны.
Кстати, Нобелевскую премию по физике за 2008-й год получили ученые, доказавшие, что на уровне элементарных частиц господствует тенденция соскальзывания с каких бы то ни было устойчивых гармонических состояний.
Сюда же и живущее в сердце каждого из нас убеждение, что идея аптекарского воздаяния по заслугам примитивна и недостойна звания человека, недаром истинные буддисты совершенно равнодушны к тому, что ждет их после смерти, а сама забота об этом безошибочно показывает, насколько тот или иной человек еще не буддист, – поистине если и есть в мироздании Высочайшая Инстанция, отмеривающая заслуги, то вознаграждает она лишь тех, кто меньше всего думает о вознаграждении, вот уж этого убеждения из человеческого сердца изъять невозможно, а значит, оно о чем-то говорит, уж не о самом ли главном?
Как часто замечал я, что именно те, кто отгадал все шесть шаров в лотерее, даже забыли, что участвовали в розыгрыше и сам лотерейный билет заполнили в спешке и случайно, как бы мимоходом, их нередко потом разыскивали, чтобы сообщить им, что они стали миллионерами.
Итак, мы начали с магнитного поля, а потом заговорили о карме, так какая же все-таки связь между ними? пожалуй, следующая: быть может, любая наша мысль, любое намерение и любой поступок тоже входят в загадочную область кармического преображения, подобно вхождению феноменов в сильнейшее электромагнитное поле, то есть и там и здесь результаты опыта принципиально непредсказуемы и можно говорить лишь о вероятности результата, как в лотерее, – вот почему заслуга не думать вовсе о заслугах есть, по-видимому, величайшая из заслуг.
II. (Что сказал бы арбитр изящного). – А кроме того, и это важно подчеркнуть, даже буддийское учение о карме мы воспринимаем в конце концов как шедевр искусства, точь-в-точь как иные страницы из «Войны и мира», ничего ведь лучшего на эту тему – то есть о сопряжении нынешней нашей жизни и следующей – сказано не было, и потому мы этому верим, но тоже как бы не совсем в буквальном смысле, как мы верим в существование Андрея Болконского и Анны Карениной, – и там и здесь центральные феномены отсутствуют, однако их отсутствие, вследствие его удачного и убедительного творческого самораскрытия, вторгается в нашу жизнь острее и пронзительней любой реально и обыденно «присутствующей» вещи.
Заострим этот момент: нет ничего благородней буддийского учения о реинкарнации, но и оно в последнем пределе недоказуемо! ощущая воистину каждое движение души и тела как мать предстоящих в будущей жизни душевных и физических побуждений и одновременно как ребенка, рожденного аналогичными побуждениями в жизни предшествовавшей, мы создаем мыслимо совершенную на земле этику и вместе ею живем и дышим, вспомним слова просветленного гималайского йоги Миларепы: «Я давно научился воспринимать эту жизнь и последующую как единую жизнь и потому потерял страх перед смертью», – итак, на строгой космической каузальности стоит весь буддизм.
Но возможна ли она на самом деле? универсален ли вообще причинно-следственный канон? нет, оказывается, не универсален: микрокосмос элементарных частиц ему неподвластен, да и макрокосмос, охватывающий Галактики и различные временные измерения, по-видимому, тоже, – только серединный срез космоса, проанализированный еще И. Ньютоном, зиждется на неизменных каузальных закономерностях, здесь же, как легко догадаться, и критическая точка буддийского учения об инкарнациях, ибо где каузальность, там и реинкарнации, и наоборот: где закон причины и следствия ослаблен, там и «Ахиллесова пята» концепции реинкарнации, математическое доказательство последней, таким образом, отсутствует и не может не отсутствовать.
Зато с какой любовью, с каким утонченным мастерством и с какой сверхчеловеческой творческой силой это отсутствие в буддизме облекается в плоть и кровь! какими трогательными и предельно правдоподобными подробностями оно на каждом шагу пропитано! и как хочется ему поэтому верить! и как, войдя раз в него, уже невозможно из него выйти и в нем усомниться! лучшего сравнения, как опять-таки с удавшимися литературными персонажами, здесь не придумаешь, да и к чему стараться?
Вообще, как все пути ведут в Рим, так, с какой бы стороны ни рассматривать буддизм, он неизменно будет обнаруживать глубочайшее родство с самым высоким искусством, возьмем, например, такой аспект: согласно Будде реальной субстанции, объединяющей все проявления бытия – как равно и соответствующего ей в человеческой психике ощущения – не существует, зато есть множество нереальных, то есть попросту выдуманных человеком субстанций, как то: бог, абсолют, идея, монада монад, полное тождество, мировая воля, бытие, ничто, всепронизывающая пустота и прочее в том же духе; все они прежде всего образы и ничем иным, как образами быть не могут, однако мы прекрасно знаем, насколько сложна, противоречива, загадочна и в конечном счете магична сама по себе природа образа, – последний живет и дышит исключительно благодаря таланту своих авторов-философов, и в этом плане ничем не отличается от классических образов искусства.
Нужно еще показать, что философский образ не только вышел из той или иной умозрительной головы, но до такой степени объясняет земную жизнь в ее существеннейших проявлениях, что мы склонны поверить, что он на самом деле неотделим от жизни, что без него жизнь совершенно перестает быть и казаться, тем, что она есть на самом деле, и что поэтому данный философский образ как бы извечно присутствовал во чреве жизни и бытия, а философ только открыл и показал нам его, – да, вот тогда мы имеем подлинную и великую философию, ту самую, которая ничем принципиально не отличается от искусства; таких философий мало, а пожалуй только одна – шопенгауровская, все же прочие напоминают – хоть и в разной степени – романы Достоевского, которые, будучи даже несомненно гениальными, все-таки с начала и до конца выдуманы их автором, а вот сказать о романе, что все в нем от первой до последней строки было на самом деле, как мы говорим об «Анне Карениной» или «Мастере и Маргарите», – такое впечатление производит лишь философия Шопенгауэра.
И пусть все это недоказуемо, пусть на историю философии принято смотреть совсем иными глазами, – все же после таких рассуждений остается самое главное, – то, что было в душе и в сердце до них: а именно, постулат образной природы любой духовной деятельности, и как человек, которому не лежат романы Диккенса, никогда не станет читать их и превозносить, так точно человек, который заподозрит даже в идеализме Платона некоторое отсутствие веяния живой жизни, а в христианстве некоторый чувственный и психологически извращенный надрыв, несмотря на всю очевидную и исключительную гениальность обоих названных феноменов, никогда не сможет по-настоящему и от души ими увлечься и их полюбить.
Постулат образности философских и тем более сверхфилософских понятий все решает, возьмем в качестве примера образ первоосновы бытия: это один из центральных образов философии, – как странно, парадоксально и в то же время абсолютно закономерно: человек выдумал ее, но убежден, что она существует сама по себе и независимо от него, образ первоосновы бытия вдохновлял умнейших людей во все века и практически во всех цивилизациях, образ этот получил разнообразнейшие воплощения, зачастую внутренне несовместимые, тем не менее никто как будто этому не удивляется и все считают, что так оно и должно быть, более того, вживаясь в определенную ее манифестацию, мы начисто забываем о всех прочих, а обращаясь к тем «прочим», мы незаметно перестаем думать о той, в которой только что пребывали, совместить их все в общем и объединяющем представлении невозможно.
А потому приходится опираться на точные науки, ища у них подсказки, вот если бы было найдено универсальное Поле, объединяющее параметры гравитационного, электромагнитного, вакуумного и всех прочих полей, – да, это и был бы реальный Прообраз космического единства, Эйнштейн всю вторую половину своей жизни искал его, но не нашел, не найдено оно как будто и до сих пор.
Самое простое и парадоксальное решение вопроса, предложенное тибетским буддизмом – признать всепронизываюшую Пустоту первоосновой бытия, а медитацию на этой пустоте соответственно первичным и центральным переживанием, и если, как показывает опыт, Пустота не бывает чистой и абсолютной, но всегда Пустотой от чего-то, то и медитация на Пустоте выигрывает в интенсивности тем больше, чем меньше она чурается своей противоположности, то есть мира, и не об Абсолютной Пустоте приходится в конечном счете медитировать, а о пустотности мира; но тем самым даже медитация есть в глубочайшем смысле творческий и не чуждый образов – хотя и в аспекте отказа от них – процесс; вообще же параллели между буддизмом и художественным творчеством достаточно очевидны, вот иные из них.
Как художник верит в описываемую им художественную действительность, так Будда верил в то, что страдание, преходящность и несущественность суть основные качества жизни.
Как читатель живет одновременно в двух мирах – полного доверия художнику и вместе ясного сознания, что всего того, что у него описано, нет, не было и не могло быть на самом деле, так человек, инстинктивно тянущийся к буддизму, но не умеющий принять его до конца по причинам, может, кармического свойства, тоже живет в двух мирах – с одной стороны сознания, что если и есть на свете то, что принято называть Истиной, то один только Будда нашел и выразил ее, а с другой стороны опять-таки допущения, что даже истина Будды имеет значение только для уверовавших в нее и ее окончательно принявших.
Далее, та вечная и неразрешимая дилемма, которая органически возникает из соотношения ученика и учителя, а именно – чему же все-таки первому учиться у второго? той ли истине, что открыл учитель или самому поиску истины? иными словами: чему учит нас Будда? на первый взгляд освобождению от страдания, но присмотревшись как следует к характеру Будды, почему-то убеждаешься, что если бы не он, Будда, открыл буддийскую Дхамму, а кто-то другой, то Будда продолжал бы искать другую и обязательно свою истину, и не успокоился бы, пока не нашел ее, – равным образом художник нам ничего не навязывает, но лишь помогает думать и сопереживать, а значит сокровенный завет искусства для нас: оставаться самим собой и ни в коем случае не впадать в соблазн быть для кого-то учителем, а для кого-то учеником.
Кроме того: как для буддизма все в мире равноценно, так в удавшемся произведении не бывает плохих или хороших кусков, но все куски – лучшие.
А также: поистине вдохновение, не прекращающееся ни на секунду объединяет буддийскую медитацию и творческий процесс.
Равным образом: как в удавшемся произведении искусства мы верим подчас самым фантастическим вещам (Ф. Кафка), так в буддизме мы склонны принимать на веру даже такую недоступную опыту и недоказуемую разумом гипотезу, как учение о реинкарнации.
Или еще: как в состоянии даже самой глубокой медитации в сознание легко заходит внешний мир и так же легко из него выходит – подобно воздуху в пространстве – так по ходу творческого процесса с той же легкостью могут меняться существеннейшие компоненты произведения.
Кроме того: как буддизм, развенчав любое волшебство жизни, не только не сделался от этого сухим и непривлекательным, но выиграл многократно в загадочности и как бы «всосал» отвергнутое волшебство жизни в себя самого, так великое искусство, отвергая громкие слова, понятия и образы, и в особенности насчет потусторонней жизни, в частности, ее чудо и тайну, тоже само как бы ими насквозь пропитывается.
Не забыть и следующее: центральное учение Будды об отсутствии Я прямо означает отношение к себе как собственному художественному персонажу.
И, наконец, самое главное: уход в ниббану, этот апогей просветления, как он описан Буддой, чрезвычайно похож на выход образа из души художника, – откуда он пришел и куда уходит, никогда нельзя определить точно, и как ниббана предполагает колоссальную внутреннюю работу, не сводясь к ней, так долгий, мучительный и счастливый труд над образом венчается финалом, не имеющим не только никакой практической цели, но как бы лишь служащим поводом к созданию вещи.
Между прочим, недавнее открытие гравитационного излучения (не путать с силой гравитации), окончательно подтвердив гипотезу о природе Вселенной как живого тела, постулировало заодно и невозможность так называемой Абсолютной Пустоты, то есть Пустота, являясь по всей видимости все-таки Первоосновой бытия, может быть резервуаром виртуальной энергии, может быть носителем светоносной разумности, может быть игровым пространством кармы, может быть источником и средоточием сколь угодно тонких материй, но она не может быть именно Абсолютной Пустотой, – между тем жизненное дело исторического Будды как раз и состояло в радикальном освобождении от круговорота жизни (причем в любой ее форме) и смерти, а значит достижении в конечном счете той же самой Абсолютной Пустоты, которую он именовал ниббаной и которой, судя по всему, быть не может.
И вот это самое стремление к Невозможному, будучи иррациональным корнем всякого религиозного чувства, в буддизме достигает апогея, попутно обогащаясь как невероятно убедительными и тонкими психологическими нюансами, так и точным анализом масштабных картин жизни, короче говоря, поэзия, эпос, психологическая проза, а также редчайший феномен «обратного течения», которое так замечательно воплотил в своем творчестве непревзойденный Франц Кафка, воедино слились в религиозном творчестве Будды… вот и говори после этого, что он не художник.
III. – (Могут ли боги отчаиваться?) – Но возвращаясь к образу судьбы в ее кармическом варианте: представим себе, что мы хотим жить только во благо других людей или живых существ, а наша собственная жизнь лишь постольку исполнена смыслом и значением, поскольку мы используем ее ради названной цели; предположим, далее, что индивидуальная жизнь не оканчивается смертью, но главные ее мотивы и намерения, подчиняясь универсальному закону причины и следствия, способны реинкарнироваться, создавая новых людей и новые судьбы.
В таком случае каждое наше бескорыстное деяние во благо других живых существ необоримо повлечет за собой лучшую карму, очередное рождение с лучшим здоровьем, лучшими талантами, в лучшей семье и с лучшим жизненным концом, – но нам это все по сути не нужно, более того, если возможно – а в космосе нет ничего невозможного – мы с удовольствием и от души отказываемся даже от законно приобретенных кармических благ в пользу тех, кто видит их ценность и жаждет их.
Но нужно войти и в положение богини Кармы, справедливо или почти справедливо распределяющей кармические дары: она их нам дает, а мы от них отказываемся, и чем искренней мы от них отказываемся, тем больше заслуживаем новые и лучшие, но мы и от них отказываемся; судьба, и она же богиня Карма – предположим простоты ради их тождество – в отчаянии и не знает что делать, она не ожидает такого поворота и бросает нам вслед – в следующую жизнь – еще большие блага, все те же, что у нее в распоряжении, как то: здоровье, успех, таланты, долгую жизнь, семейное счастье, высокое положение в обществе и прочее, других у нее нет, но она привыкла, что и от них люди с ума сходят, и все готовы ради них отдать, а тут какая-то несуразица выходит.
Мы отказываемся от того, от чего никто никогда ни при каких условиях не отказывался, то есть мы втайне как бы упраздняем собственную природу, а заодно и некоторые первоосновные космические закономерности, в том числе и те, которые лежат в основе самой природы богини Кармы, то есть мы своими абсолютно бескорыстными деяниями как бы подпиливаем сук, на котором она сидит, и это, наверное, не может ей вполне нравиться.
И вот тогда она, всемогущая богиня-Карма, в последнем отчаянии начинает нам вслед бросать самые лучшие блага, имеющиеся в ее распоряжении: сначала вперемежку и в надежде, что среди них окажется объект нашего тайного вожделения, а потом все сразу, ибо она вконец отчаялась и не понимает, что, собственно, происходит; но после того как мы образцово выдержали все испытания и нашли в себе силы и мужество отказаться от всех решительно ее даров, вместе взятых, ей, по-видимому, ничего другого не останется как, поглядев в нашу сторону слепым и пристальным взглядом – причем нам трудно отделаться от впечатления, что богиня вовсе не так слепа, но лишь разыгрывает из себя слепую, чтобы тем тщательней за нами наблюдать, – махнуть рукой и мстительно прошептать потрескавшимися от знойного солнца губами: «Да не хотите, так и не рождайтесь вовсе, оставайтесь, к чертовой матери, вечно в нерожденном состоянии, нужны вы мне больно».
IV. (Один хоррор-фильм как учебное пособие). – Ясно, что любой художественный образ занимает онтологическое пространство, которое нам трудно понять и описать, но там всегда есть возможность разрубить «Гордиев узел», сославшись на природу авторского вымысла, – сложнее, когда сама действительность в иных своих проявлениях практически ничем не отличается от художественного образа и мы, не в силах ни принять ее, ни отвергнуть, остаемся в некотором глубоком недоумении: а это происходит всякий раз, когда сверхъестественное вторгается в область повседневной действительности, причем форма вторжения обычно более-менее сюжетна и напоминает осмысленное событие, но как бы с пропусками: неизвестно откуда взялось и чем закончилось, непонятно какой смысл и какие выводы отсюда следует сделать, непредставимо ни как выдумка, ни как реальность, – в сущности, самым лучшим художественным прототипом подобного вторжения является шекспировский «Гамлет», разумеется в анализе Л. С. Выготского, ну а уж от «Гамлета» через бесчисленных посредников в прошлом и будущем тянутся сюжетно-композиционные нити прямиком к нынешнему хоррору, да вот вам пример.
В одном знаменитом хоррор-фильме группа молодых людей собирается лететь в Париж, но некий парень, главный герой, не только предчувствует, но ясно видит – феномен ясновидения не подлежит сомнению – предстоящую аварию лайнера: он и несколько других молодых людей вслед за ним заблаговременно покидают самолет, последний взлетает и тут же обрушивается на землю, все пассажиры гибнут, казалось бы – счастливое избавление?
Не тут-то было, оказывается, все пассажиры кармически были обречены на скорую смерть – такое тоже возможно, и вот молодые люди, покинувшие лайнер, гибнут один за другим, причем Смерть, поистине еще более главный герой фильма, находит самые фантастические способы уничтожить оставшихся в живых пассажиров: неодушевленные вещи оживают и становятся орудиями смертного приговора – а вот это уже достаточно неправдоподобно.
То есть общий замысел фильма от этого не страдает, но все же между первой ее частью – ясновидением предстоящей катастрофы – и второй – безжалостной охотой Смерти за оставшимися в живых молодыми людьми – есть некоторая тонкая и художественная разница в пользу первой части, потому что она вполне идентична с первичной реальностью, тогда как вторая часть фильма представляет собой некий фантастический вариант, который, будучи возможен в принципе, совершенно невозможен в том виде, в каком он показан, и это немного коробит изысканное ухо и наметанный глаз зрителя, – не то что бы фильм не удался вовсе, но тут наглядно показаны границы хоррора как феномена искусства.
В этой связи следует обратить внимание на то, насколько субтильны и ненавязчивы в подавляющем своем большинстве аргументы и факты в пользу того или другого философского или религиозного варианта посмертного бытия, и как выгодно они отличаются от тематики вышеописанного хоррор-фильма – аналоги последнего мы находим в иных примитивных ритуалах иных племен и народов – так что именно по этой самой причине мы от них отворачиваемся: но там, где разработка посмертного бытия достигает уровня самого высокого искусства – как мы видим на примере христианства и буддизма – там отвернуться от нее не так-то просто, непосредственное воздействие ее на нас так сильно, что противостоять ему практически невозможно или надобно быть от природы совершенно глухим к жанру посмертного бытия, который, приходится признать, принадлежит искусству на тех же правах, что и роман, трагедия или эпопея.
Потому что будем все-таки смело исходить из того, что кармический приговор иным людям существует в действительности, а также из того, что ясное предварительное узрение его другими людьми тоже существует в действительности, только вот исполнения приговора в такой пластической завершенности, какую нам демонстрируют иные хоррор-фильмы, в действительности не существует, а без этого нет хоррор-жанра, – то есть получается, что тот или иной ужасный сюжет как бы намечен в недрах бытия, однако в редчайших случаях он разработан в деталях, как правило, везде мы имеем темные пропуски – онтологические щели – которые люди заполняют на свой страх и риск, сообразно собственным предчувствиям, мировоззрениям, симпатиям и антипатиям: первооснова бытия, таким образом, всегда говорит с человеком на языке возможностей и никогда на языке фактов.
Однако возможность на то и возможность, что человеческий дух почти вынужден ее реализовывать: таков способ существования человеческого духа, и таков же способ существования самой возможности, реализация возможности – в чем бы она ни заключалась – дает искусство и не может не быть искусством, а поскольку между возможностью и ее реализацией остается пропуск – онтологическая щель – постольку на уровне реализации одной и той же возможности, то есть в нашей земной действительности, могут и даже должны быть внутренне несовместимые противоречия, – наиболее ярко этот самый момент несовместимости мы наблюдаем в концепциях реинкарнации и «вечной» астральной жизни после смерти, каждая из которых представляет настолько убедительные аргументы в пользу своей и единственной правоты, что решительно невозможно определить, на чьей же стороне истина, а истина, очевидно, для каждого человека своя и заключается в том пути, который он проходит, путь же человека есть суммарный вектор воли, кармы и некоей сюжетной задействованности в высшем и навсегда непонятном для нас плане, то есть, например, уже одна несокрушимая вера в реинкарнацию или необратимую астральную жизнь может реально создавать ту или другую, о чем как раз неустанно и твердят их апологеты.
V. (Несколько обманчивое утешение). – Все-таки нельзя не сознаться, что когда мы садимся в самолет и видим вокруг себя одних стариков и инвалидов, у нас как-то странно и непроизвольно начинает сжиматься сердце: это происходит оттого, что мы в глубине души допускаем, просто вынуждены допускать возможность крушения лайнера, и вот мысль или, точнее, тайная интуиция о том, что Господь-Бог скорее приберет к себе старых и увечных, нежели молодых и здоровых, которым, как говорится, еще жить и жить, – это всеобщее и почти врожденное убеждение действительно склоняет нас к тому, чтобы видеть вокруг себя в самолетной каюте людей молодых и счастливых, а еще лучше – детей, самое же лучшее – грудных детей.
И когда все-таки случается это ужасное событие, крушение лайнера – а случается оно хоть и сравнительно редко, зато с досадной математической неизбежностью – итак, после парализующего шока при известии об авиакатастрофе, после часов и дней коллективного траура, а может быть уже и во время их для всех людей, верующих во что-то Высшее, снова и в который раз встает вопрос о том, как же это Высшее могло допустить гибель не просто даже множества людей, а именно детей и младенцев.
И тогда невольно напрашивается мысль об индусской богине Карме, которая как будто бы по части распоряжения людскими жизнями – так подсказывает нам всего лишь интуиция – чуть более гибкая инстанция, чем Бог, и потому она может таинственным образом взаимодействовать с его величеством Случаем: например, не сразу предоставлять людей с плохой кармой в объятия предстоящей авиакатастрофы, а предавать их сначала случаю, а вот тот уже с присущей ему абсолютно бесчеловечной жестокостью – на то он и случай! – сажает их в тот самый самолет с последним рейсом.
Таким образом Карма в наших глазах до последнего сохраняет свое человеческое лицо, потому что ведь как хотите! а представление о том, что у младенца или ребенка настолько плохая карма, что им, едва родившись или пожив несколько лет, пора уже уходить, и таких людей в самолете довольно много, – оно вполне убеждает ум, но не до конца убеждает сердце, тогда как приведение приговора о смертной казни в исполнение именно случаем одинаково убеждает как ум так и сердце, – тем более, что значение его величества Случая в космогонии и природе вещей, как утверждают современные ученые всех мастей, настолько велико, что воспринимать мир совсем помимо случая в наше время как-то даже недостойно порядочного человека.
Отсюда вытекает, что человек с истощившейся кармой может уйти не сразу, но в течение довольно долгого времени, и это чертовски гуманно! в конце концов случай на то и случай, что он играется с человеком как ему заблагорассудится, но это игра, если присмотреться, в виде строжайшего исключения гораздо человечней, нежели мгновенное отрезание Парками нити жизни.
Вот почему, протискиваясь в тесном проходе самолетной каюты в поисках своего места и видя вокруг себя множество детей, не следует предаваться обманчивой иллюзии о полнейшей гарантии удачного полета: на то он и случай, что все может случиться.
IV. В ожидании Годо
Видение боковым зрением. – Начиная со второй половины августа в средних европейских широтах в воздухе появляется тонкая, но внятная нота холодного дыхания приближающейся осени, никаких изменений в небе или в растительности еще нет, но холодное дыхание начало уже постепенно разливаться в природе, и вместе с ним, как его сказочное сопровождение, повылезали из теплой и влажной земли первые грибы: так рыцарей и волшебных красавиц сопровождают в сказках добрые карлики.
Какая трогательная черта у наилучших грибов: они растут в стороне от человеческого глаза, но в то же время неподалеку от него, так что далеко от дорог и тропинок вы не встретите ни белых, ни маслят, ни поддубников, но и просто бредя по проторенной лесной тропе, вы их не приметите: нужно именно отойти в сторонку, приложить глаз к земле и с любовью начать их искать, – только тогда они откроются любовному взору.
Какое же это изумительное событие: найти матерый гриб! ведь такой гриб не ягода – что-то в нем есть от диковинного, сказочного существа и поистине, если бы вдруг выяснилось, что карлики, гномы, эльфы и кобольды способны – ну, хотя бы в целях развлечения или конспирации – принимать вид самых матерых съестных грибов, я бы нисколько не удивился и только похлопал бы в ладоши.
И нет к тому же в собирании и поедании грибов никакого греха, ведь все-таки что там ни говори, а охота – это самое настоящее убийство «братьев наших меньших», хотя и смахивающее слегка на благородную дуэль, но только слегка, и даже рыбалка далеко не так безобидна, как кажется: кто посмеет утверждать, что рыбы совсем не чувствуют боли, пусть первым бросит камень.
Напротив, аккуратно срезать колоритного карлика, оставив в земле корневище, – это значит принять дар Матери-Земли: акт почти религиозный, потому что человек в обмен на вкуснейший и полезнейший продукт должен отдать дарующей Земле свою любовь и восхищение: неужели есть такие горе-грибники, которые собирают плоды «только чтобы пожрать»? не верю, не хочу верить.
И вот когда я собираю грибы, я забываю про все на свете, взгляд прикован к мшистой земле, бродя по ней, точно управляемый спрятанным в глубине под опавшими листьями мощным магнитом, так что иногда даже пробивается досада: не замечаю природы, не вижу просвеченной солнцем кроны деревьев, – а что может быть прекрасней на земле?
Но тут же сам себе улыбаюсь: все вижу и все чувствую, но как бы боковым зрением, слухом, осязанием, обонянием, – и как знать, быть может, так вот исподволь и случайно проникаешь в тайны бытия куда глубже, чем прямо и в упор их запрашивая.
В самом деле, разве не приходят к нам самые лучшие мысли и прозрения именно тогда, когда мы не насилуем их «волей к познанию» и даже вовсе о них не думаем? то есть где-нибудь в толпе или по ходу какого-нибудь ну совершенно не имеющего к процессу мышления отношения мероприятия: так любая великая музыка, услышанная случайно и по ходу, действует на нас куда сильней, чем в концертных залах, так походя подслушанный в общественном транспорте разговор о «последних вещах» – подобное хоть редко, но случается – западает нам на сердце глубже писаний иного философа, и так развалины древнего храма потрясают нас основательней безукоризненно сохранившихся памятников древности.
Боковое зрение и мирочувствие вообще, пожалуй, есть самое верное и глубокое, и нигде оно так ненавязчиво и очаровательно не дает о себе знать, как именно при поиске грибов, ну а если, в заключение, попробовать взглянуть «боковым зрением» на мир в целом, то выйдет, наверное, вот что.
Отсутствие конечной цели, изначальной причины и несомненного смысла всякого существования не начертано, подобно гигантскому транспаренту, большими светящимися буквами на входной двери бытия, но разлито в нем тонким благоухающим запахом и звучит в каждой поре бытия подобно услышанной нами во сне музыке, которую мы потом вспоминаем весь день и не можем все-таки вспомнить, а в плане оптическом действует на нас примерно так, как крошечная звезда в мутном ночном небе, которую нельзя увидеть прямо на нее глядя, но можно лишь заметить отведя взгляд чуть в сторону и придав ему некоторую отрешенность.
Это очень похоже на созерцание истины.
Вековой отчет. – В самые просветленные минуты жизни, когда все, что видишь вокруг, ты можешь проследить до его начала, а также в обратном направлении, до его предположительного конца, когда попутно всплывают в сознании забытые воспоминания детства и юности, но они уже не производят в твоей душе того особого и неповторимого волнения, тоньше которого в мире для тебя ничего не было, а ты их просто фиксируешь и додумываешь: мол, так было, есть и будет с тобой и всеми другими людьми, когда засыпают в душе угрызения совести за поступки, в которых невозможно не раскаиваться, но нельзя также всерьез и искренне раскаиваться, потому что иначе быть просто не могло, а обида на людей за то, что они такие, какие они есть, а не такие, какими мы хотели бы их видеть, истаивает «как сон, как утренний туман», когда душа в итоге делается прозрачной, как весеннее небо, и любой феномен бытия, даже самый чужой и далекий, кажется вдруг родным и близким – стоит только протянуть руку и коснешься его – а любая проблема, прежде томившая своей неразрешимостью, становится вдруг понятной, как простейшее математическое уравнение, и все, что с вами было, есть и предположительно будет, представляется до странности знакомым: точно роли, сыгранные в любительском школьном театре, – да, именно в эти светлые и вдохновенные минуты, когда, кажется, можно вжиться в самую тонкую пору бытия, почувствовать самое незаметное биение его пульса и уловить самое приглушенное его дыхание, – вот тогда-то по странной прихоти природы не хочется вдруг во что-либо вживаться, до чего-либо дотрагиваться и что-либо улавливать, и более того, стараешься даже отступить на шаг, чтобы не дай бог не коснуться до всей этой плещущейся у тебя перед носом живой жизни… почему так происходит?
Настоящее всегда кажется нам вполне реальным, но едва оно обращается в прошедшее, как к нему примешивается некий привкус сновидческого элемента: мы, конечно, сознаем, что все это «было на самом деле», но возможность взглянуть на минувшее с нескольких перспектив обращает былую «твердокаменную» стихию жизни в «зыбучую и плавающую» субстанцию бытия и ничего с этим нельзя поделать: мир всегда воспринимается нами и как реальный и как фантастический одновременно.
Синтез обоих видений означал бы абсурд, но, поскольку реальная и нереальная стороны бытия не способны полностью сливаться, синтез как таковой невозможен, и абсурд как онтологический феномен остается не более чем остроумной идеей: в том-то и дело, что настоящее никогда полностью и до конца не трансформируется в прошедшее – если бы это случилось, жизнь навсегда бы остановилась и мы, как персонажи чистого и беспримесного бытия, упокоились бы в одновременном и беспристрастном осознании всех его бесконечных возможностей, без какого-либо желания пережить одну из них.
В сущности, это и есть психическая сердцевина так называемого «просветленного» взгляда на мир, к которому стремятся буддисты и индусы, однако такое состояние, по-видимому, невозможно: по причине постоянного присутствия настоящего измерения, – отсюда и вытекает неизбежность возвращения из любого самого высокого и «неземного» состояния всякого «просветленного» человека в прежнюю и грешную жизнь.
Итак, наше прошлое вполне действительно, поскольку мы его пережили во всех подробностях, и в то же время достаточно нереально, поскольку живет отныне лишь в наших воспоминаниях, которые сами по себе ненадежны, субъективны и полностью зависят от свойств памяти и тела: мы знаем, каким магически-изменчивым калейдоскопом предстает в нашем сознании прожитая жизнь, – и это при полном здоровье, что же говорить о повреждениях тела, а тем более мозга, незамедлительно ведущих к фатальным искажениям «нормального» восприятия окружающего мира? в сущности, жизнь настолько многомерна, что наши органы восприятия отражают лишь ее крохотную йоту, да и та, обращаясь во вчерашний день, становится наполовину сновидческой.
Здесь источник как онтологической непривязанности к жизни (чего же привязываться к тому, что, как вода, утекает сквозь пальцы?), так и полностью ей противоположной магической очарованности жизнью (как не тянуться из последних сил к этому вечному источнику непостижимого волшебства?): итак, мы ясно осознаем, что в прожитое и минувшее невозможно проникнуть по существу ни душой, ни духом, о более «низких» инструментах познания и говорить нечего, – наши пережитые возрастные фазы брезжат в дымке прошлого, как таинственные острова, к которым, раз их посетив, нельзя снова вернуться: они принадлежит как будто нам, более того, они плоть от плоти наши, они главные составные нашего личного бытия, неотделимые от нас, как телесные органы, и вместе с тем они как-то странно остранены от нас, точно посетившие нас сновидения, которые вполне могли бы присниться и другому, – да, они уже не наши или наши и не наши одновременно, – и эта парадоксальная, но до хирургической остроты живая диалектика томит и волнует душу.
Как обозначить это довольно глубокое и тонкое душевное переживание, которое, несмотря на его экзистенциальный вес, столь же обыденно и повседневно, как утренний завтрак и хождение на работу? как описать его антиномическую сущность? как определить его место в человеческом микрокосмосе? это можно попытаться сделать через принятие отсутствия того, что ищешь, к чему стремишься и что полагаешь лежащим в основе бытия, да, именно так: то, что с нами было и что были мы сами, отсутствует, как и то, чем мы будем, тоже отсутствует, и уж тем более отсутствует то, что мы есть теперь, игра слов? ничего подобного.
Спросим себя: что мы есть на самом деле? самый простой, казалось бы, вопрос, но и самый трудный, потому что мы никогда не найдем на него ответа, но в то же время, положа руку на сердце, мы и никогда не смиримся с тем, что ответа нет; вместо этого мы скажем себе: да, это очень трудно, но если как следует покопаться, если напрячь все силы ума, опыта и интуиции, если опросить всех друзей и знакомых, если справиться у мудрых мира сего, что они думают и думали на эту тему, – да, тогда уж мы обязательно выясним, кто мы есть на самом деле.
Забудем это, друзья: мы это никогда не выясним! все будет так, как сейчас, то есть все самое главное о себе мы никогда не узнаем, зато у нас всегда будет чувство, что узнать это можно, просто пока это знание отсутствует по тем или иным причинам, зависящим от нас или независящим, неважно, отсутствие не так страшно, страшнее небытие: вот чего изначально нет, того никогда и не будет, а отсутствующее когда-нибудь, да явится, когда именно? неважно, скоро, или нескоро, через год, или через миллион лет.
Что-то глубоко успокоительное есть в феномене отсутствия и в то же время глубоко ироническое: словно вместо того, чтобы больно ударить нас по голове, кто-то ласково над нами подсмеивается, мол, сколько ни старайся, результат один, главное, чтоб мы сами были более-менее довольны и не отчаивались, ведь когда иллюзия сливается с действительностью, философия по существу заканчивается, потому что становится всего лишь одним решением, а таких решений много, и все они претендуют на абсолютность, – но поскольку упразднить они друг друга не могут, оставаясь взаимно несовместимыми, постольку они в каком-то смысле отсутствуют, вот и все, а если и присутствуют, то лишь в качестве метафизических вариантов, и мы предпочитаем тот или иной из них не потому что он истинен как таковой, а либо потому что он нам внутренне, психологически близок, либо по причине колоссального на нас воздействия, – и в том и другом случаях мы имеем дело с чисто художественными критериями.
На эту тему есть одна любопытнейшая пьеска, как она называется, вы уже догадались, любезный читатель, в ней ни у кого из действующих лиц не возникает сомнений, что Годо существует, да, существует, но как он выглядит, какого возраста, какой у него характер и, главное, какую роль он играет в судьбе героев и, наконец, придет он или не придет, – на эти вопросы мы не получаем никакого ответа: Годо в драме загадочно отсутствует, раз и навсегда, отсутствует необратимо и с вескостью классической «черной дыры», причем отсутствие не означает, что его нет, – если бы его вообще не существовало, нельзя было бы его ждать, но Владимир и Эстрагон его ждут, они ждали его еще до начала действия, они ждут его на всем протяжении действия, и они продолжают ждать его, когда действие закончено: само ожидание Годо и есть как бы главный и единственный внеличный персонаж драмы.
Как же мы похожи в этом отношении на героев Беккета! мы ведь тоже на протяжении жизни все чего-то ожидаем: обычно того, что никогда не явится в нашу жизнь, хотя попутно мы ожидаем и многое другое: то, что в конце концов является и без этого жизнь тоже немыслима, – но все-таки первое и метафизическое ожидание того, что заведомо к нам не придет, относится ко второму и практическому, а именно того, что безусловно и тысячу раз сбудется, примерно так, как выдающийся герой романа относится к реальным персонажам какой-нибудь заводской стенгазеты, иными словами, ожидаемое только тогда по-настоящему ожидаемое, когда оно навсегда остается ожидаемым.
Итак, Годо отсутствует на протяжении пьесы, но все прочие ее персонажи живут одним только его незримым присутствием, и если экстраполировать эту парадоксальную ситуацию на нашу жизнь, то что же получается? правильно, с точки зрения разума и грубых органов восприятия о феномене отсутствия говорить бессмысленно: всюду наткнешься на его присутствующие противоположности и невольно усомнишься: не лучше ли синица в руках, чем журавль в небе? какой смысл рассуждать о каком-то мистическом отсутствии, когда все вокруг так или иначе присутствует, с разной степенью очевидности?
И тогда об отсутствии в чистом виде говорить даже как-то неудобно, да многого тут и не скажешь, – но одно дело исходить из мира феноменов как так или иначе присутствующих, и совсем другое дело наблюдать и осознавать, как все они выходят из субстанции отсутствия и возвращаются в нее, и более того, как они вечно и незримо в ней пребывают.
Если внимательно наблюдать за собой, то можно заметить, что самые существенные и, так сказать, судьбоносные мысли и поступки, исходят всегда из самых невидимых областей души: их невозможно отследить ни на психологическом, ни тем более на биологическом уровнях, они не подчиняются законам наследственности и не могут быть объяснены с точки зрения характера, – и вместе с тем это самые глубокие и характерные проявления человеческого существования.
Какое бы из них мы ни взяли, мы обнаружим в его сердцевине некую сокровенную темную точку, как бы малую «черную дыру» нашего микрокосмоса, откуда все выходит, куда все возвращается и из которой можно плясать как от печки: переживая, а потом заново осмысливая и описывая данное отношение в десятках смысловых акцентов и миллионах подробностей, – но саму точку нам постигнуть не удастся, на то она и «черная дыра», что вход туда нам заказан: это и есть в нашем понимании отсутствующий мир, и чем пронзительней мы осознаем его, тем дерзновенней наши попытки проникнуть в таинственную область и тем глубже мы на самом деле проникаем в нее.
Но механизм «черной дыры» подобен горизонту: мы к нему стремимся, а он от нас убегает, между прочим, астрофизические «черные дыры» – образцовый пример феномена отсутствия в нашем понимании, ведь это сжатые остатки состарившихся звезд, замкнувшихся на себя, когда у них иссякла энергия, любая материя, оказавшаяся вблизи черных дыр, притягивается ими и исчезает, куда? ответа нет, поскольку исчезнувшая материя никаким измерениям не подлежит, есть ли она? может быть, поскольку не исключено, что она может вернуться обратно через «белые дыры» или акты сотворения вроде великого Первовзрыва, но может и никогда не вернуться, стало быть спрашивать о том, есть она или не есть, праздное дело, она просто отсутствует и все, – и нам хотелось всего лишь обратить внимание, что вышеприведенная и всем известная квантовая модель вполне распространима и на наш обыденный мир, мы буквально окружены «черными дырами».
Только последние смотрят на нас не устрашающими полуночными провалами, а нежным и загадочным взглядом Джоконды, этот образ перед глазами у всех, психология модели исследована досконально, а поди-ка схвати ее целостный смысл, то есть хотя бы тот же пронзающий душу безбровый взгляд, но он остается непостижим, – и раз он до сих пор не разгадан, значит и никогда не будет раскрыт, ибо времени было достаточно.
Но тут-то и собака зарыта: пока мы смотрим на портрет, нам кажется, что тайна его принципиально постижима, стоит как следует присмотреться, стоит привлечь все известные материалы, стоит посоветоваться со специалистами, стоит подождать столетие-другое, уж кто-нибудь, а довершит великую работу, – не может быть так, чтоб нельзя было докопаться до сути, нужно дальше стараться, и ждать, чего ждать? ждать, когда придет понимание сути, суть – это Годо из драмы Беккета, и мы ждем Годо.
Словечко «отсутствие» тем еще особенно хорошо, что психологически мгновенно попадает в точку: не так-то просто отыскать понятие или образ, которые так сразу и так исчерпывающе способны были бы выразить и описать нашу бытийственную ситуацию, то есть главное в ней, – действительно, «отсутствие» есть термин на первый взгляд сугубо повседневный, в жизни мы его на каждом шагу употребляем: кого-то где-то когда-то нет, и вот мы о нем говорим: он отсутствует, хотя говорим ли мы так? редко, мы предпочитаем обойти это странное слово, мы выражаемся: «Да нет его пока» или: «Он задержался, но скоро придет» или: «Мы не знаем, где он», а вот выражение: «Он отсутствует», хотя предельно точно описывает ситуацию, звучит как бы «не от мира сего», – казалось бы, семантический оттенок, но в нем вся суть.
Итак, допустим, что некто отсутствует, он должен явиться, но не является, мы ждем его, ждем час, день, неделю, месяц, год, ждем десятилетия, ждем, наконец, всю жизнь, но он, этот некто, все не приходит, читатель, конечно, догадался: это опять-таки знаменитый беккетовский Годо, его тоже ждали на протяжении всей пьесы, но он не пришел, в финале драмы ее герои продолжают ждать Годо и, судя по всему, будут ждать его столько, сколько им отпущено в жизни времени, но Годо по всей видимости все-таки не придет, спрашивается, есть ли он вообще? конечно, допустимо усомниться в его существовании, это очень тонкий подход, однако полностью отрицать его существование мы не имеем права: Годо именно отсутствует и здесь вся «соль» вещицы.
Точно так же мы всегда чего-то ждем от жизни, одни ждут многого, другие малого, но если кто-то скажет, что он вообще ничего не ждет от жизни, то ему вряд ли можно до конца верить, «немножко играется», – скажем мы о таком человеке: в самом деле, оглянувшись по сторонам, мы не найдем ни одного человека, который бы ничего не ждал от жизни.
Пожалуй, только буддисты, причем истинные – их можно буквально по пальцам пересчитать – действительно от жизни ничего не ждут, и эта позиция настолько неожиданная и парадоксальная, настолько «не от мира сего», что ее со стороны даже и понять нельзя, в нее нужно окунуться с головой, как в море, а для этого необходимо иметь особый дар, быть может, еще более редкий, чем музыкальный талант, а пока его нет, приходится оставаться в ролях Владимира, Поццо или Эстрагона, и – ждать Годо!
А это значит: встречать каждый день с надеждой, что он нам принесет хотя бы чуточку больше, чем день вчерашний, и хотя этого, как правило, не происходит, хотя последующий день оказывается иной раз хуже предыдущего, хотя из будущего накатываются на людей очень часто события, стирающие их с лица земли и хотя, даже если этого не происходит, завтрашний день ничего нам особенного не дает, кроме как приближения на день часа смерти, мы все-таки продолжаем с некоторым неизменным, как иные математические постоянные, радостным и волнующим трепетом ожидать каждый новый день.
Что, собственно, происходит? ничего особенного, мы просто ждем Годо, и никто и ничто – ни мудрый Будда, ни неотвратимый смертельный финал, ни даже на сто процентов верное предсказание, что нас скоро ждет большое несчастье (если бы мы получили такое), не отвратят нас от простого и вечного ожидания завтрашнего дня, что бы тот нам ни принес, – и это несмотря на то, что, если бы этого завтрашнего дня не было в нашей жизни, мы поистине ничего бы не потеряли, а может быть даже и выиграли бы, скажем, в кармическом отношении: в том смысле, что, не сделав в этот «завтрашний» день какого-нибудь дурного поступка, мы улучшили бы нашу карму, но мы упорно и с неизменной, пусть и малой радостью встречаем каждый завтрашний день, а все почему? только потому, что завтра может прийти Годо.
Но он не приходит и тем не менее игра продолжается: снова и снова утром мы воспринимаем наступающий день не так, как он нам будет казаться вечером, здесь-то и сокрыта изюминка жизни: в начале дня мы имеем интуитивную уверенность, что Годо придет, вечером того же дня мы стоим перед выбором: сказать себе, что Годо нет – и покончить с собой или стать буддистом, оба варианта вполне реальны, и немало людей им следуют, однако подавляющее большинство людей продолжают все-таки ждать Годо, уже в глубине души догадываясь, что он не придет ни завтра, ни когда-нибудь, вообще никогда не придет, и все-таки продолжают его ждать, почему? да просто потому, что нельзя иначе, жизнь по определению есть ожидание Годо.
Однако ждать того, кто заведомо никогда не придет, значит принять его отсутствующий характер, тут тонкость и парадокс: мы не отрицаем существования Годо, нет, кто-то когда-то где-то его видел и рассказал другим, а те еще другим, а те еще другие совсем-совсем другим, и так эта цепочка – как в игре в сломанный телефон – дошла до нас, и мы приняли игру, она нам понравилась, потому что очень уж напоминает наше любимое занятие – жизнь, а без ожидания Годо жизни нет: стоит нам сказать, а главное, поверить в то, что Годо нет на самом деле, как пьеса под названием «живая жизнь» мгновенно делается невозможной, декорации рушатся, актеры не знают, что им говорить, режиссер и суфлер в отчаянии разводят руками, занавес падает, сцена проваливается, зрители в ужасе встают и оглядываются, театр на глазах разваливается, а вместо него – чертов лес, и некуда уйти.
Нет-нет, такого нельзя допускать, нужно до конца верить, что Годо придет, неважно, когда, главное – придет, и тогда драма жизни запускается опять, проигрывается заново, как ни в чем ни бывало, глядишь – часики снова пошли, тик-так, тик-так, тик-так, мы ждем Годо, вчера, сегодня, завтра, он, правда, по-прежнему не является, но это-то и хорошо: черт знает, как бы мы себя повели, если бы он вдруг явился, небось, смутились бы, покраснели, отвели бы глаза в сторону, не знали бы что сказать.
И вообще, его приход совершенно ни к чему, он только бы разрушил привычный ход вещей, к которому мы так привыкли и с которым нам ни за что не хочется расстаться: не нужны нам ни просветление, ни окончательное освобождение, все это слишком высоко и не нашего ума дело, нам главное – просто жить, то есть – ждать Годо, – и мы продолжаем его ждать.
И вот это самое постоянное, строго говоря, ежесекундное ожидание от жизни чего-то такого, чего она нам никогда не даст, потому что дать не в состоянии, и есть сокровенная сердцевина жизни, ее тайная изюминка, мы по-настоящему и полной грудью живем лишь тогда, когда ожидаем Годо, в том или ином виде, каждый на свой лад, ожидаем по-разному: спокойно или с нетерпением, сознательно или бессознательно, тайно или явно, – и вот подробный отчет нашего ожидания Годо и есть наша биография.
И даже умирая, мы ждем от смерти в принципе того же, что ждали от жизни, что говорю? мы ждем от смерти гораздо большего, нежели от жизни! от смерти мы прямо ожидаем, что из ее загадочного чрева наконец-то выпрыгнет долгожданный Годо, в виде окончательно проясненных ответов на тайну посмертной жизни, но также – и заодно – на тайну земного бытия: да, мы почему-то уверены, что перед, во время или на худой конец сразу после смерти явятся, наконец, ответы на все вопросы, которые мы задавали себе в течение жизни, и то обстоятельство, что это ожидание тоже было напрасным, косвенно доказывает наша теперешняя жизнь: потому что ведь она по логике вещей не первая и не последняя, а одна из многих, и умирали мы стало быть не одну сотню раз, в каком образе – неважно, и помним ли мы об этом – тоже неважно, и все-таки снова и снова смерть представляется нам самым великим таинством: как если бы Годо стоял уже за углом или за соседним деревом, и нам достаточно приподняться с подушки, последним усилием повернуть голову – и вот перед тем, как мы навсегда закроем глаза, мы увидим, наконец, то, ожиданием чего была наполнена вся наша жизнь.
Нет, конечно, мы успели за жизнь сделать миллион дел, но это все как бы между прочим, нельзя ведь ждать Годо сотни лет сложа руки, с ума можно сойти от скуки и бездействия, слишком уж много времени оказалось в нашем распоряжении, оттого и приходится что-то предпринимать, каждый знает по опыту, что невозможно и двух дней выдержать, чтобы чем-нибудь не заняться, хотя если бы этих двух дней не оказалось в нашем распоряжении, мы бы и не додумались до наших занятий, – вот вам и гносеология «миллионов дел».
Мы творим историю, создаем искусство, обустраиваем быт, но при этом мы все-таки не забываем о главном: об ожидании Годо, ибо в нем-то и скрыта эссенция жизни, только пока мы помним о Годо и живем его ожиданием, мы живем настоящей жизнью, и наоборот: живя ею, мы ждем Годо, любая религия тем-то для нас и интересна, и потому только так нас магически притягивает, что претендует на точное описание Годо, она как бы патентирует для себя приход Годо, – но, описывая конкретный приход Годо, она на самом деле убивает его.
Мы симпатизируем религиям за то, что они активно и испокон веков интересуются приходом Годо, но где-то в глубине души мы им – то есть всем религиям, в том числе и мировым – не доверяем, догадываясь, что каждый человек обязан ждать своего Годо, даже при том неблагоприятном, но весьма вероятном случае, что мы почти уже догадались, что Годо наверняка не придет: да, наверное он не придет, но мы его все-таки ждем, и будем ждать, до скончания века, в этой жизни и во всех последующих, ожидание прекращается, когда мы говорим себе, что Годо нет вообще, что он на самом деле не существует, – это делают буддисты и еще иные самоубийцы.
Да, только таким путем уничтожается в зародыше исконное волшебство жизни и ее неотразимое очарование: то, что Годо никогда не придет, и то, что его нет, суть две принципиально разные вещи, между этими двумя возможностями, казалось бы, не просунуть и волоса, а тем не менее их разделяет онтологическая бездна, здесь дьявольская разница, можно было бы в который раз сказать вместе с Пушкиным.
Вечное отсутствие Годо, помноженное на его неискоренимое ожидание, с одной стороны, и умная, тонкая, понимающая улыбка насчет того, что его не было и нет с другой, разделяет людей на «простых смертных» и буддистов, ибо жизнь есть игра, а в основе любой игры лежит готовность принять себя в роли комического актера, даже когда у тебя рак и ты оказался в инвалидном кресле: вот мол, ждал Годо – а заполучил рак и конец всему, такова заключительная самооценка всех играющих в жизнь, хотя они ее, конечно, интерпретируют иначе: вместо Годо выступит тотчас какой-нибудь «высший смысл», – буддист же улыбается не над тем, что все ждут Годо, а над тем, что не ждать его по сути нельзя, и что люди не виноваты в том, что ждут его, но все-таки само по себе ожидание Годо вот этой самой неподражаемой буддийской улыбкой пресекается раз и навсегда.
Однако мы, стоит повторить, не буддисты, мы продолжаем ждать Годо в каждой мелочи жизни, и знаки его предстоящего прихода залегают для нас в повседневной жизни, как золото в золотом песке, пусть и крупицами, а благодаря им целые куски земли приобретают особую ценность: это, правда, не такие ювелирные драгоценности, как крупные бриллианты, изумруды, рубины и сапфиры, – им в нашем сравнении соответствуют также более «крупные» ценности масштаба Бога или бессмертия души, но все-таки и так называемые «мелочи жизни» представляют для людей вечный и живой интерес, да еще какой! и потому Годо для нас продолжает существовать, но он отсутствует, точь-в-точь как в пьесе Беккета.
И уж совсем под занавес: никакой человек не может быть осмыслен и даже реально прочувствован в единстве своих возрастов, положите перед собой фотографии, отделенные десятилетиями, вспомните себя ребенком, юношей и взрослым человеком: что связывает всех этих столь близких и вместе бесконечно далеких людей? безусловно, что-то связывает, но это такая тонкая нить, которую можно рассмотреть лишь под микроскопом.
Вот почему искусство никогда не прослеживает человека от колыбели до могилы, но всегда берет те или иные жизненные фазы, в которых образ максимально выпукл и характерен, оставляя прочие фазы в тени, другого пути у искусства просто нет.
Вместе с тем в зародыше, как в семени, сокрыт весь поздний характер человека, а может быть и весь его жизненный путь, но тогда что же это такое – единство человека в его возрастных фазах? оно вроде бы есть, но «схватить» его не только рукой, но даже разумом или тем более органами чувств никак невозможно: что же, быть может, предмет, который мы ищем, действительно существует на самом деле, но существует не как спрятанная в комнате вещь, которую принципиально можно найти, а как Годо, которого мы ждем, но который никогда не придет, а мы его все-таки продолжаем ждать.
И если Годо на самом деле существует – а мы не имеем никакого права сомневаться в этом – то его единственное занятие состоит, по-видимому, в том, чтобы втайне за нами подсматривать, потому что другой роли у него в жизни нет и быть не может: попробуйте представить для него что-нибудь другое! не выйдет, – и если вообразить себе, так сказать, метафизический портрет Годо – который, конечно же, точнее и тоньше психологического – то им может быть только… но читатель уже догадался: между прочим, если рассматривать репродукцию Джоконды при свете настольной лампы, то отводя ее от портрета, то приближая, вы отчетливо обнаружите вместо женщины лицо гермафродита, да и у Годо по странному совпадению нет никаких ярко выраженных признаков пола.
И потому мне всякий раз настойчиво представляется такая правдоподобная сценка потусторонней жизни.
Когда мы умрем, то, по всей видимости, после туннеля, по которому нам придется пробираться со страхом, усиленным в астрале, как говорят тибетцы, в семь раз, нас конечно же встретит безбольный и блаженный Свет в конце туннеля, – и в нем мы упокоимся на некоторое время.
А потом, очнувшись, мы, судя по всему, разойдемся в разных направлениях, соответственно пройденному жизненному пути и заложенным в нас кармических задатках: иные из нас очень скоро вернутся в земную жизнь, а другие очутятся перед закрытыми дверьми Рая, где, заложив руки за спину и гремя громадными ключами, будет расхаживать взад-вперед Петр.
И тут же, наверное, присоединится к ним еще одна группка только что прибывших душ, и откуда ни возьмись очутится в самом центре их некий смуглый, длинный и тонкий мужчина с орлиным носом, неправдоподобно длинным подбородком, безгубый, но с доходящей до ушей саркастической улыбкой и чрезвычайно серьезным, вдумчиво-пронзительным взглядом, который, подобно гиду, уже миллион раз обслужившему туристов, станет негромко и терпеливо объяснять:
«Да вы поймите, ребята, Тот, кого вы ждете, к вам не выйдет, ни сейчас, ни завтра, ни через год, ни через миллион лет, он никогда к вам не выйдет, вы можете ждать Его или расходиться по уготованным вам обителям, это ваше дело, только умоляю вас, выслушайте меня до конца. Я люблю правду и чувствую даже некоторую обязанность поделиться ею с вами, итак, вы спросите, как все это получилось, очень просто: вначале Он души в вас не чаял, и чудеса вам являл, и знамения, и пророков вам посылал, даже сына Своего единородного не пожалел; а уж как были счастливы те, кто поверил в Него до конца! но и те, кто не верил, тоже были счастливы, хотя не так, как первые, те же, кто были несчастливы, были на самом деле счастливы, и только думали, что несчастливы, не сознавая своего счастья.
Короче говоря, был на земле настоящий Рай, а кто его не видел, тот просто слеп был или бревно имел в глазу, но потом пошло-поехало: чем больше Он себя людям являл, тем сильнее те от Него отворачивались, короче говоря, страшно сказать, но сложилось у нас всех здесь наверху впечатление, будто Он вам, придурошным людям, своим присутствием наскучивал, и мы просто обязаны были Его внимание на этот прискорбный фактик обратить, – Он от этого очень воскорбел и разочаровался, и стал от вас постепенно отходить, да чем дальше отходил, тем больше интереса и почтения с вашей стороны обнаруживал. Загадочность Его отсутствия вам почему-то очень по душе пришлась, вы с ума стали сходить от экстаза, Его же это ваше чудовищное извращение потрясло и совсем доконало, и тогда Он решил уйти от вас окончательно, быть может, в тайной надежде, что это вам как раз больше всего понравится, – короче говоря, теперь уже для вас поистине нет разницы, есть Он или Его нет, и так, наверное, лучше всего как для Него, так и для вас, понимаете, ребята? вы уж, пожалуйста, не обижайтесь.»
А души подле нас, неловко переминаясь и обмениваясь недоверчивыми взглядами – уж больно им не понравилось, что говорит этот противный человек – будут посматривать украдкой и с надеждой в сторону Петра, но тот, демонстративно гремя ключами, будет продолжать ходить взад-вперед, делая вид, что не замечает их вопросительных взглядов.
Метафизика взгляда шахматного короля. – Каждый помнит, как в «Мастере и Маргарите» Воланд с котом играют в шахматы: волшебные фигуры, волшебная доска и два волшебных игрока, какой интересной должна была быть их партия! недаром Коровьев шепчет Маргарите, что ей ни в коем случае не следует прерывать ее своим вмешательством, а шахматные журналы многое бы дали, чтобы ее напечатать.
Быть может, судя по участию Воланда – а ведь он мог все или почти все – партия эта была на уровне Алехина или Капабланки, с другой стороны, учитывая поведение кота, нам как-то это трудно себе представить: слишком уж тот ломался, кривлялся и фокусничал, короче говоря, все это воландовское волшебство для настоящего шахматиста не стоит и ломаного гроша, ведь настоящий шахматист заворожен только красотой и глубиной шахматной мысли и больше ничем, – и он тысячу раз прав!
Ибо как все-таки наша жизнь похожа на шахматную партию – по стилю, в плане занимательности и, главное, с точки зрения смысла! в жизни ведь всегда должен быть какой-то смысл, даже если кто-то вздумает отрицать его, поведите такого человека на казнь: он тотчас заупрямится и закатит истерику, – вот и получается, что сохранение собственной жизни для такого человека уже есть первая и главная цель жизни, затем идут секс, любовь и семья, сюда же обустройство быта, профессия, признание людьми, затем тысячи мелких привычек, страстей и желаний, способных заменить первичные жизненные роли.
В шахматах тоже есть свой особый смысл и сводится он к тому, чтобы дать мат противнику, невзирая на собственные потери, так что в материальной жертве, как заверит вас любой шахматист, заключается вся красота игры! нет, какова параллель с жизнью! разве «идеальные» мотивы не одерживают здесь верх над «низшими» инстинктами? и разве не очевидно, что на каждом шагу люди жертвуют жизнью ради чего-то для них более «высшего», как то: семьи, детей, любимой женщины, родины, собственного достоинства, лучшего посмертного бытия и так далее и тому подобное?
Вот названные факторы в буквальном смысле и играют роль шахматного короля, и из нацеленности на него, зачастую невидимой и подсознательной, разыгрывается вся партия жизни, причем позиция и качество «короля» неоднозначны, они могут меняться в течение жизни: в молодости они одни, в зрелости другие, а в старости третьи, – в юности мы можем покончить с собой из-за неудачной любви, а двадцать лет спустя будем умудренно улыбаться и качать головой на этот счет, самих позиций может быть несколько, и они способны меняться местами в зависимости от ситуации, возраста или внутреннего развития.
Скажем, человек безумно любит женщину или детей своих, но ему нужно уходить на войну, ради кого он пожертвует жизнью, если потребуется, до поры до времени не ясно ему самому, он еще сам не знает, кто его «король», – но проходит время, человек этот вернулся с войны, дети его выросли, женщина ему изменила, наступает черед и ему уйти в мир иной, – и вот вдруг его последним и решающим «королем» становится надежда на будущую жизнь, и он уже думает только о боге, хотя прежде ни разу и в церковь не заходил: вера в загробную жизнь, таким образом, стала заключительным «королем» этого человека.
Так происходит на каждом шагу в жизни, и более того, только так и происходит, и как без короля нет шахмат, так без некоего высшего, хотя, быть может, и непрестанно меняющегося смысла нет индивидуальной жизни, однако смысл этот настолько различен для каждого человека, настолько он колеблется и перекрещивается даже в пределах единой биографии, что затруднительно сказать, кто же все-таки «король» и как он выглядит.
Да, королевский трон вроде бы всегда на месте, то есть в душе человека, а вот самого «короля» как будто нет, чья-то смутная величественная фигура в плаще и со скипетром на голове неслышно заходит, садится на трон, сидит там, а потом незаметно уходит, и никогда не удается разглядеть как следует черты его лица или выражение глаз.
Кто не обращал внимания: тень короля Гамлета действует на нас куда сильнее, чем подействовал бы тот же самый король в жизни? и вот, находясь под неотразимым обаянием этой Тени, мы пытаемся воссоздать ее живой облик, – мы думаем: раз есть тень, должен быть и живой человек, который ее бросает, но тут нет строгой логики: мы сами воздвигли королевский трон в своей душе, сами посадили туда быть может несуществующего короля, сами уверились в него, – неудивительно, что рано или поздно рождается стремление побольше о нем узнать.
Таковы, кстати говоря, гносеологические корни любой философии, но ни в коем случае не естественных наук, ибо последние всегда ставят перед собой какие-то частные и конкретные цели, и, как правило, их достигают, естествознание живет «присутствующей» жизнью, и в ней оно чувствует себя, как рыба в воде, и как та же рыба, очутившись на песке, мечется и задыхается, так сходит с ума естествознание, когда оно, переступив собственные границы, замахивается на решение «вечных вопросов» бытия.
Особенно наглядно это можно проследить на примере астрофизики: занимаясь Вселенной, она вплотную подходит к вопросу о начале и конце ее, а это уже проблема метафизическая, то есть такая, однозначное решение которой в принципе невозможно, конечно, любая метафизическая проблема – это по сути всего лишь духовная игра и больше ничего, буддизм так прямо на это и указывает, – но что проку признавать или не признавать правоту буддизма, если вся практически наша западная духовность стоит на принципе игры – и ничего другого не знает и знать не хочет?
Да, так было, есть и будет: пустой трон в душе, и чья-то величественная тень восседает на нем, наверное, это король, кто же еще?
Но рассмотреть его поближе, а тем более потрогать невозможно, с тенью не поиграешь, зато ею можно восхищаться и на нее можно молиться, а это главное, – и пусть король как субъект отсутствует, неважно, нам нужна его роль в жизни.
Может, даже это и хорошо, что он как личность отсутствует, а то чего доброго застанешь его невзначай дремлющем в полночь на троне: он очнется испуганно, под горностаевой мантией старческая сморщенная кожа, глаза усталые и испуганные, руки подрагивают, а под скипетром седина и испарина, – и обоюдно нам придется, встретившись взглядом, смущенно отводить глаза, как некстати эта встреча! какая великая тайна оскорблена! и как справиться отныне с постигшим нас разочарованием?
Так благоговейно рассуждаем мы о душе, но нас невольно коробит, когда кто-то претендует сделать с нее фотографию или, еще хуже, показывает нам ее законченный облик, точно музейное чучело, так славим мы бога: тем искренней и сильней, чем меньше мы знаем его сущность и его природу, так мы влюбляемся отчаянно и безнадежно: в той самой степени, в какой не постигли еще истинный характер обожаемого субъекта или жестоко в нем ошиблись, и так пожертвовать жизнью ради отчизны помогает нам больше всего коллективно-романтическое к ней отношение, но никогда не индивидуально-критическое…
Итак, куда бы мы ни двигались и в какую бы сторону ни развивались, мы точно идем по узкой анфиладе с затемненными окнами, а перед нами открываются одна за другой двери, ведущие в комнаты, где нас ждут поочередно ответы на какие-то очень важные вопросы, и следующее пространство обычно загадочней предыдущего, и в каждой новой комнате как будто скрыта более глубокая тайна, но в конце концов любое пространство, которое мы успели посетить, запоминается нам только так и постольку, как и поскольку в нем отсутствовало то, что мы в нем искали увидеть.
Так что когда мы, подобно принцу Просперо из «Маски Красной Смерти» Э. По, пройдя «через голубую комнаты в пурпурную, через пурпурную в зеленую, через зеленую в оранжевую, оттуда в белую, а из белой в фиолетовую» – последнюю и заключительную, символизирующую наше предсмертное пространство, подводим итоги прожитой жизни, то все, к чему мы пришли, становится аналогом все того же шахматного короля: в каком-то смысле вся жизнь наша пожертвована ради него, но есть ли он на самом деле, этот наш шахматный король? и все тот же знакомый «привратник с длинной жидкой черной монгольской бородой», видя, что мы уже отходим, кричит изо всех сил, чтобы мы еще успели услыхать ответ: «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для вас одних. Теперь пойду и запру их».
И это уже не кафковская Притча о Законе, а реальное положение вещей, просто то ли дело в оригинальном гении Ф. Кафки, а то ли в самом жанре искусства, но только основной парадокс жизни и смерти здесь угадан и подмечен тоньше и пластичней, чем в любой философии, включая шопенгауэровскую, и как в Средневековье города и ремесла имели своих покровителей среди святых, так духовным покровителем философии отсутствия самых высших и последних ценностей бытия, если хотите, является безусловно Ф. Кафка, читайте его «Процесс» и его «Замок»: чтобы самое главное в них так вот дерзко, начисто и необратимо отсутствовало, – такое вы не встретите ни у какого другого писателя, не говоря уже о философах, основателях религий и прочих духовных деятелях.
И вот в полном согласии с духом и буквой Кафки мы, хотим того или не хотим, продолжаем лелеять в душе нашего шахматного короля, – под какими только масками он нам не является! чаще всего, однако, мы понимаем под ним так называемый потаенный «нерв жизни», до которого нам почему-то обязательно нужно коснуться, а без этого жизнь – не жизнь и как будто напрасно прожита, и сопровождает нас от рождения до могилы это странное, необъяснимое, неустранимое и по большому счету парадоксальное чувство: будто вот-вот коснемся мы, наконец, заветного нерва жизни, в чем бы последний ни состоял.
Сначала нам казалось, что это были первые неизгладимые впечатления детства, потом юношеские приключения, затем встреча с женщиной, и следом семья, работа, общение с людьми, узнавание жизни и прочая повседневная метафизика, а параллельно книги, природа, домашние животные, ну, а под занавес, как и надлежит финалу, мы встречаемся со смертью, – вот она-то уж наверняка раскроет перед нами все тайны, которые скрывала от нас жизнь, но какую бы сторону жизни и смерти мы ни зацепили, всегда, везде и при любых обстоятельствах обнаружим мы в себе и вокруг себя одно основное умонастроение, или, как говорят музыканты, «главную тональность», а именно: точно мы тихо плывем над бездной, а самой бездны нет.
Вот уже и сделаны вроде бы решающие опыты жизни, и ни в одном из них не обнаружилась бездна, и нигде не произошло прямого соприкосновения с сокровенным нервом жизни, а ощущение того и другого осталось, – и сопровождает оно нас поистине от колыбели до могилы; как тут не процитировать великого и проницательного Эдгара Аллана? – «Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлекший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем», и следом, на примере Лигейи, alter ego автора поясняет свою мысль таким образом. – «И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, что уже постигаю его, – и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня».
Вот и особенность взгляда шахматного короля состоит в том, что он как бы постоянно отводит от вас глаза, и чем настойчивей вы пытаетесь заглянуть в них, тем искусней он отворачивается от вас, а точнее, непрестанно поворачивается к вам в профиль, так что вы оба взаимно кружите друг вокруг друга, причем в центре, как и подобает, движется вокруг своей оси шахматный король, ну а вы уже, как и принято у подчиненных, вращаетесь и вокруг его оси, и вокруг своей собственной.
Эта слава мирская. – В жизни мы всегда живем чем-то большим, чем оно есть на самом деле: в том смысле, что любой феномен, к которому в данный момент приросли наши сердце и ум и который определяет здесь и теперь наше жизненное пространство, для посторонних не имеет, может быть, никакого значения, да и для нас самих по мере обращения в прошлое порядочно уменьшается в размерах, – и, пожалуй, самым ярким выражением изумительно сокрытого в недрах бытия космического закона, заключающегося в том, что мы в вещах повседневных и метафизических видим всегда и неизменно больше, чем они есть на самом деле и этим «больше» живем и дышим, является слава.
Поистине нет ничего, что бы доставляло нам такое загадочное, магическое и по сути религиозное наслаждение, какое доставляет нам слава, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что это наслаждение – не более чем мыльный пузырь: ведь размышляя о славе, мы невольно верим в то, что она является чем-то большим, чем просто мнением тысяч и тысяч людей, причем часто мнением некомпетентным и заимствованным.
Мы молча исходим из того, что за славой стоит некий феномен объективного и сверхчеловеческого порядка, и пусть реальность, которую отражает слава, не обязательно тождественна божественной – это даже нежелательно по многим причинам – но она обязательно бесконечно возвышается над чисто человеческой сферой, занимая ту промежуточную область между людьми и богами, которая до сих пор наименьшим образом скомпрометировала себя, и потому в наибольшей степени претендует на некое туманное, но почему-то всерьез всеми принимаемое бессмертие, которое даже в религиях исчерпало себя, зато в литературе и искусстве по-прежнему пользуется непоколебимым авторитетом.
Спросите любого гонящегося за славой человека, что бы он предпочел: реальное бессмертие собственной души или бессмертие своего имени, – и он по меньшей мере задумается, так что и придя к нему через неделю за ответом, вы застанете его все еще погруженным в глубокую задумчивость: слава, таким образом, есть лишь наглядный пример того, что мы живем всегда большим, чем оно есть на самом деле, но иначе и быть не может, потому что «то, что есть на самом деле», определить и измерить нельзя, – мы сами наполняем его смыслом и значением, точно пузырь воздухом.
Спросите также любого любителя искусства: что такое искусство? и он вам ответит, что искусство есть некая неописуемая до конца в словах, но в конечном счете вполне реальная сфера: то есть, говоря философским языком, искусство онтологично, хотя и не в том плане, в каком онтологично, скажем, ночное звездное пространство, – скорее, понимание искусства в человечестве сродни восприятию эллинами их мира богов.
Да, внутренний мир искусства – это поистине «Олимпийские вершины» и «Елисейские поля», куда попадают только творцы классического искусства и лишь на короткое время заглядывают его читатели, зрители и слушатели, а то обстоятельство, что сакральное пространство художественного творчества есть всего лишь суммарное восприятие миллионов и миллионов человеческих мнений и разве что плюс к тому еще его монументальные увековечивания и классификации, наподобие гражданского кодекса или международного права, так что поистине никакой иной онтологической реальности за этим нет и быть не может, – вот этот важный момент как-то ускользает от нашего внимания.
Молчаливое и всеми сознательно или бессознательно принимаемое допущение, что мир искусства имеет некоторое вполне независимое от людских мнений существование, и есть то большее, которым живет и дышит искусство, в особенности классическое, тогда как без этой своеобразной, нигде и никем прямо не сформулированной, но молча всеми признаваемой независимости искусства от любых субъективных мнений последнее погибает мгновенно и на корню: допущение, что чтение «Фауста» ничем принципиально не отличается от чтения бульварной газеты, означает смерть искусства.
Между тем вся тонкость здесь состоит именно в том, что оба вывода одинаково верны: создаются, таким образом, две параллельные реальности с равноправной онтологией, и человек, верящий в объективное значение искусства, кует себе одну судьбу, а не верящий в него – другую: не только в земной жизни вера и неверие реально определяют биографию человека, но быть может и за ее пределами, – так что между искусством, религией и любыми другими жизненными ценностями, в которые нужно обязательно верить и которыми нужно обязательно жить, нет никакой принципиальной разницы.
Когда мы не можем отвести восхищенных глаз от той или иной картины в музее и тут же наблюдаем полное равнодушие к той же картине других посетителей, или наоборот, когда мы слушаем музыку, вызывающую у нас позыв к зевку и тут же, рядом, наблюдаем людей, у которых та же самая музыка едва не вызывает слез восхищения на глазах, мы испытываем инстинктивное раздражение и ощущение внутреннего превосходства, – да, вот это самое нутряное раздражение на восхищение посторонних людей от искусства, которое мы не признаем, и одновременно демонстративное выражение восхищения искусством, которое мы признаем и любим, – эта двойственность говорит о многом.
Прежде всего она говорит о том, что искусство есть религия аристократов духа: самая утонченная из всех религий, но все-таки религия, а значит и стоит она прежде всего на вере.
Внятный шепот в ночи. – Вживаясь в художественный мир полюбившегося романа, мы на время забываем – причем неизбежно забываем – что у него есть автор и что каждая деталь этой кажущейся нам абсолютно самостоятельной романической действительности на самом деле выдумана и тщательно обработана, – так воспринимаем мы литературу в детстве и в юности: автор нас как-то особенно не интересует, мы можем вполне обойтись без него, что он за человек, какие у него привычки, когда жил и какой он национальности – нам почти неважно, главное – его вещь так написана, что мы от нее не можем оторваться, – и вот параллельно мы точно так же опьянены миром, не можем от него оторваться и нам по существу безразлично, есть у него автор – творец – или нет.
Но проходят годы, мы взрослеем, литература и мир по-прежнему нас магически притягивают – может ли быть иначе? – однако, наряду с прежней очарованностью ими, у нас появляется уже и более-менее серьезный интерес к их авторам, мы с удовольствием читаем биографии наших любимых писателей, смакуем иные психологические детали, узнаем, как были написаны излюбленные наши романы, мы обнаруживаем – хотя об этом и вначале уже догадывались – что художественные миры, по которым мы бродили, как по экзотическим джунглям, кем-то сотворены, но сотворены так мастерски, что у читателя остается непосредственное чувство, будто они существуют сами по себе и независимо от автора, – вот эта самая психологическая антиномия лежит в основе онтологической природы искусства, и весь вопрос только в том, имеем ли мы право перенести ее на окружающую нас действительность.
Ведь если мы, с одной стороны, всего лишь действующие лица в космической драме бытия, а с другой стороны, та же Анна Каренина, как мы хорошо знаем, не могла ничего знать о своем творце Льве Толстом, то из этого с абсолютной логической необходимостью вытекает, что и мы как персонажи мирового спектакля не можем войти ни в какое реальное соприкосновение с нашим создателем, – и потому, подчиняясь лучшим и благороднейшим наитиям сердца, мы просто говорим: «Кто-то нас там ждет и все».
В сущности, того же мнения были Исаак Ньютон, провозгласивший, что орбитальная гармония Солнца, планет и комет не могла возникнуть сама по себе, далее, философ и естествоиспытатель Лейбниц, прямо заявивший, что это Всевышний завел «часы мира», и наконец Эйнштейн, обогативший высказывание Ньютона очень тонким замечанием о том, что, проникнувшись мыслью о физико-математических закономерностях, буквально пронизывающих Вселенную, нельзя не прийти к допущению существования Творца, а это значит, что, исходя из естественнонаучного взгляда на мир и его генезис, очень даже естественно и даже закономерно предположить источник вселенской гармонии за пределами самой Вселенной.
Разумеется, гипотетический Творец Ньютона, Лейбница и Эйнштейна глубоко избранен по своей природе, то есть, отвечая духовным запросам человеческой элиты, он никоим образом не удовлетворяет душевные потребности так называемых «простых людей», – этим, как известно, занялась мировая церковь, она создала для широчайших слоев населения такого Бога, которого можно себе по-человечески понять и даже зримо представить: такому Богу можно молиться и на такого Бога можно надеяться в последний час, а это главное.
Итак, некоторая принципиальная неопределенность насчет существования или несуществования нашего Создателя всегда и без исключения идет нам на пользу, тогда как полная уверенность в Его существовании или несуществовании всегда и без исключения идет нам во вред, – вот эта самая категоричность в ту или иную сторону, с тем или другим знаком, как ни странно, вместо того чтобы привносить в мир тонкую и высшую жизнь, на самом деле притормаживает или даже убивает ее.
Так что если ввести себе за правило ежедневно перед отходом ко сну выходить на балкон – в любое время года – и, внимательно и беспристрастно заглянув в ночное звездное пространство, спрашивать себя: есть ли Бог? или Его нет? и тут же, не теряя ни секунды драгоценного времени, прислушиваться к тому, что ответят нам наши сердце и интуиция – по-видимому единственные глашатаи истины – то ответом нам все же будет тихий, но довольно внятный шепот о Его глубочайшем и непостижимом отсутствии, и вместе парадоксальное наитие, что так оно и должно быть, что более глубокого и загадочного универсума, как с вечным отсутствием его создавшего Творца, не придумаешь, и что все-таки нужно искать Его и к Нему стремиться: всю жизнь и все жизни, по мере сил и во славу Того, чье однозначное бытие или небытие несовместимо с ошеломляющим величием Универсума и несозвучно лицезрению звездного неба, – потому что, как мы точно знаем, одна музыка нас никогда не обманывает, а тем более музыка Баха, которая едва ли не в единственном числе вполне созвучна вышеописанному переживанию.
Поэтому то, что нам не дано было в этой жизни, но что нам больше всего хотелось бы иметь или, точнее, чем мы могли бы обогатить, как нам кажется, общечеловеческую жизнь, – это и есть, по-видимому, сюжет нашей будущей жизни, но это не значит, что так оно и будет на самом деле, просто этот сценарий прочтут «где надо», и – утвердят или – не утвердят, а совсем без сценария являться нельзя: засмеют, – вот внимательный и беспристрастный взгляд в ночное небо делает из этой гипотезы почти математическое доказательство.
Поэзия и правда
I. (Два неба). – Все-таки представление о звездной полночи как храме после службы, когда и слабо перемигивающиеся звезды, и бледная мертвенная луна, и слабый ветерок, и пронзительное вокруг безмолвие, – все это напоминает о недавно свершившейся мистерии, но ее участники куда-то внезапно и бесследно исчезли, – так вот, такое представление гораздо поэтичней, чем аналогичное представление о той же полночи как воочию – то есть в очах души по Гамлету – свершающейся мистерии: с ангельскими иерархиями на хорах, с органной гармонией сфер, со сводчатыми потолками разворачивающихся под разными углами и в разных масштабах экзистенциальных измерений, с демонскими кариатидами ежесекундно происходящего в космосе зла, с алтарем матушки-Земли, на котором приносится снова и снова в жертву плоть живых существ, и с бесчисленными жителями разнообразных астральных миров в качестве невидимых зрителей.
И точно так же образ ясной голубой лазури, которая станет нам последней пристанью, потому что уже теперь, глядя в нее, мы до глубины души взволнованы отсутствием в ней каких-либо опор, и сравнение со смертью, в которой тоже упраздняются любые жизненные опоры, приходит само собой, – да, этот звенящий образ лазури, навевающий нам странное, непостижимое, мистическое состояние бытия в аспекте собственной возможности, то есть пребывание в лазури-смерти как антиномическое «может быть я существую, а может быть и не существую», – он, этот образ безоблачной лазури кажется нам тоже куда поэтичней, чем любые другие и, главное, вполне конкретные представления о посмертном существовании человеческой души.
И вот, если бы как дважды два четыре было доказано, что, собственно, ничего в представлении о звездном небе как опустошенном после службы храме или в образе лишенной опор лазури как последней пристани человека, – итак, ничего в этих двух символа нет истинного, а есть одна лишь чистая поэзия, – можно ли было бы в таком случае, перефразируя Достоевского, сказать: лучше я останусь с поэзией, чем с истиной? наверное, можно, потому что решительно невозможно доказать, что подобная поэзия не имеет к истине никакого отношения.
II. (Двойное небо). – Лицезрение неба, причем в любое время суток и при любой погоде, вызывает в нас непроизвольно чувство непостижимого величия, и хотя наша повседневная жизнь практически ничего общего с метафизикой неба не имеет, все-таки небо остается ее фоном: без неба любое решительно жизнеотправление напоминало бы жалкий театральный акт – чего стоило бы одно закрытое полутемное помещение – и не было бы вокруг нас ни единого предмета, который – без небесной бесконечной перспективы – не был бы аналогичен театральному реквизиту, и никто из наших ближних или дальних не казался бы нам человеком в собственном смысле этого слова, то есть свободным существом с великой, потому что неопределенной, и неопределенной, потому что великой, судьбой – которую гарантирует опять-таки одно только небо – но все люди как один представлялись бы механическими куклами-актерами, сплющенными и задавленными своими так легко предсказуемыми посредственными ролями… короче говоря, небо, будучи основой и условием нашей жизни и нашего бытия – что не совсем одно и то же – является плюс к тому еще и последним критерием истины: любой нравственный, а тем более метафизический вопрос находит свой по крайней мере интуитивный ответ в зависимости от того, созвучен ли он небу и в какой степени созвучен, – чем больше созвучия, тем больше истины, совсем нет созвучия, полностью отсутствует и истина, и если буддизм так великолепно гармонирует с просветленной лазурью, то христианство по тональности родственно ночному небу, как видите, все сходится, и конечно же самые наши противоречивые чувства, мысли и интуиции «подсказкой» неба не только не упраздняются, но усиливаются до возможного предела, демонстрируя тем самым, можно сказать, каноническую правоту антиномического подхода к загадке жизни, одним из примеров которого могут послужить следующие стихи.
Где в сини бледной и пустой вдали от суетно-земного все дышит чудной простотой и ощущением иного, откуда реют облака в изнемогающем покое, как бы не слишком, а слегка благословляя все мирское, и все стекается куда в щемящей ноте ожиданья — там… сердцу близка и чужда мысль, что за смертью нет страданья.III. (Напрасное занятие). – Любой феномен, рассматриваемый как объект, то есть со стороны и посторонним сознанием, неизбежно подчиняется законам пространства, времени и причинности, а подчиняясь им, приобретает законченный образ какой-нибудь чашки на полочке: все с ним и до конца ясно, – но тот же самый феномен, понимаемый как субъект, то есть как он сам себя и окружающий мир воспринимает собственным внутренним сознанием, не знает и не признает четкой разделенности пространства, времени и причинности: например, он принципиально не в состоянии осознать свое рождение или смерть, он, далее, не уверен, что его точно не было в той или иной произвольно выбранной точке пространственно-временной парадигмы и он, наконец, не представляет себе, чтобы закон причины и следствия соблюдался в отношении его в полной мере и без каких-либо отклонений, хотя, с другой стороны, по привычке в течение жизни принимая на веру мнение прочих субъектов на свой счет как объекта, а также поневоле перенося собственное «объектное» видение внешнего на свою «субъектную» сущность, он, то есть себя сознающий субъект, воспринимает себя одновременно и как объект, из чего вытекает полнейшая путаница и неразбериха, – и вот любая последовательная философия настаивает на чистоте разделения субъекта и объекта, а любая последовательная религия призывает даже жить одной этой разделенной чистотой, однако насколько это трудно, а быть может даже и практически невозможно, показывает жизненный опыт так называемого «простого смертного», то есть любого из нас, а все почему? да опять-таки по причине антиномической природы субъекта и объекта, которая неслиянна и нераздельна, так зачем же пытаться их разделять? это все равно что лить воду в ведро с дырявым дном: напрасное занятие, от которого целиком и полностью отказывается, пожалуй, одно только искусство.
Главный парадокс искусства. – Подобно тому, как в сказках персонажам ставятся богатырские задачи типа «пойти туда – не знаю куда и принести то – не знаю что», причем герои блестяще справляются с этими, казалось бы, невыполнимыми в принципе поручениями, так мы, жители повседневного и отнюдь не сказочного мира, на каждом шагу, даже не замечая того, осуществляем отнюдь не менее фантастическую затею, а именно, мы «смотрим туда – не знаем куда и видим там то – не знаем что», и делаем это мы всякий раз, когда всего лишь… принимаемся за чтение.
Как и почему такое происходит? в своем блестящем эссе о «Бесах» Достоевского о. С. Булгаков проницательно замечает, что главный герой романа Ник. Ставрогин страшно и необратимо отсутствует: и не потому, что он не удался автору, а потому именно, что вполне удался, – если присмотреться, однако, то такова главная особенность любого художественного образа и разве проявляется она не с такой очевидностью, как в вышеназванном романе Достоевского.
Присмотримся к любому толстовскому персонажу, скажем, из «Войны и мира», ведь принято считать, что более «живых», то есть житейски плотных и вполне правдоподобных героев в мировой литературе как будто нет, однако стоит спросить себя: что делал кн. Андрей в течение года между помолвкой и несостоявшейся свадьбой с Наташей? якобы был заграницей, как сообщает Толстой – абсолютно пустая и ни к чему не обязывающая информация: на самом деле кн. Андрей в этот промежуток художественного времени от нас так же далек, как какая-нибудь «черная дыра» в гипотетическом «параллельном» универсуме, мы не можем даже представить себе, что делал, думал и чувствовал кн. Андрей все это время.
Мы вообще не в состоянии представить себе, что делает, думает и чувствует любой персонаж между двумя соседними сценами, он точно проваливается в ничто, когда автор перестает о нем говорить, и возникает из ничего, коль скоро автор им опять занимается: в то же время это не абсолютное Ничто, из которого, согласно библейской гипотезе, возник мир, а как бы относительное и имманентное бытию ничто, вкрапленное в тончайшие поры бытия в самую его сердцевину.
Иными словами, это – пауза.
Писатель с каждой новой сценой и каждой новой главой проясняет и углубляет намеченные персонажи, но такой ситуации, в которой бы автор знал поведение своего персонажа на сто процентов заранее и до его творческой разработки, просто не существует и не может существовать, – вот почему в тех паузах посреди вещи, в которых персонаж отсутствует – потому что повествуется о других героях – автор находится практически в полном неведении относительно своего детища.
Сходным образом, задумываясь о возникновении жизни во Вселенной, нам поначалу приходит в голову, что она возникла случайно, но что такое случай? он есть наименьшая вероятность того или иного события, однако, с другой стороны, событие это просто не могло не произойти, потому что в бесконечности времен и пространств Вселенная преспокойно ждет и дожидается рано или поздно воплощения любой, даже самой маловероятной возможности: тем самым случай, будучи антиномией любой закономерности, тоже становится своего рода закономерностью, в жизни вообще любые антиномии смыкаются и как-то очень легко взаимодействуют между собой, настолько легко, что у той же концепции бесконечности мироздания, на которой стоял весь древний мир, в наше время нашелся весьма убедительный с физико-астрономичемской точки зрения антипод генезиса мироздания из Первовзрыва, а происходит это по той простой причине, что антиномическая природа бытия, будучи для разума самой непостижимой – потому что иноприродной разуму – является уже по сути своей образной и художественной.
Наш ум по природе своей не в состоянии вместить в себя концепцию вечного и бесконечного существования материи и одновременно ее возникновения из случая и Первовзрыва, да оно и не нужно, достаточно допустить эту антиномию, чувственное ее представление невозможно, равно как и ее удовлетворительное умственное понимание, итак, между случаем и необходимостью залегает пауза, та самая пауза, которая составляет сердцевину любого художественного образа: в том смысле, что художник не знает и не узнает никогда до конца свое кровное детище, и вот мы, читатели, интуитивно чувствуя этот момент, также не особо напрягаем воображение, чтобы воссоздать в уме зрительный образ персонажей.
Каков парадокс: мы требуем от автора, чтобы он создавал свои художественные миры «как в жизни», то есть максимально правдоподобно, а сами по мере восприятия искусства это правдоподобие опускаем, нам важна лишь основная мелодия действия, тогда как бесконечные его подробности во все стороны нас нагружают и утомляют, особенно при чтении детективных романов это заметно: мы «глотаем» целые куски, чтобы поскорее узнать, «чем все закончилось».
С классическим искусством дело обстоит, правда, несколько иначе: там мы смакуем иные мастерские детали, коих не счесть – на то она и классика – однако тоже за счет опускания или забвения других и быть может не менее мастерских нюансов, потому что все взять от книги нельзя, не позволяют возможности ума и воображения.
Вот почему в детстве и юности, когда сюжет и финал для нас были важнее обставляющих их подробностей, мы буквально «глотали» книги, тогда как в зрелом возрасте, когда все сюжеты и все финалы – причем не только в книгах, но и в жизни – нам более-менее известны, мы склонны минутами, а то и часами задерживаться на каких-то особенно полюбившихся нам страницах, – и чтение как таковое прекращается, уступая место созерцательной паузе во время чтения, – но куда мы смотрим во время таких пауз? мы смотрим поистине «туда – не знаем куда», и что мы там видим? мы видим там воистину «то – не знаем что».
И вот это, может быть, и есть первая и последняя истина восприятия искусства, но большинство людей, не догадываясь об этом и сетуя на себя за «потерянное время» и «ослабевшее воображение», пытаются, растормошив себя, вернуться к прежнему и адекватному, то есть вполне внимательному и чувственному восприятию искусства: тем самым, отойдя от истины, они опять возвращаются к поиску ее, – но ведь это тоже неплохо: как видно, между теми, кто обрел истину, и теми, кто все еще ищет ее, нет особой разницы.
Как будто могло быть иначе.
Тихий приют вечности. – Разговор оборвался (собеседника вызвали к телефону) – и человек, временно исполняющий обязанности какого-нибудь мелкого служащего, всей мыслящей частью своего существа больно ударился о то вакуумное пространство, которое явилось внезапно на месте прерванного диалога и которое повелительно требует возбужденного хождения взад-вперед по комнате с периодическим выглядыванием из окна: в этом состоянии человек не замечает того, что происходит на улице, не может сосредоточиться на какой-нибудь мало-мальски любопытной мысли, не в силах что-то вспомнить или что-то предположить, не может принять какое-либо даже самое простенькое решение, в этом состоянии человек вообще по сути выключен из многосложного круговорота бытия, не получив взамен какой-либо стоящей физической или духовной компенсации, точнее, он ее просто не сознает, ибо он – в паузе, а пауза – это все: пауза есть то крошечное колесико в механизме любого решительно феномена, от мироздания в целом до расстояния между соседними долями секунд, без которого этот механизм попросту не может работать.
Примеры? сколько угодно: пауза, во-первых, настолько незаметно, но радикально разделяет людей, что, даже зная их насквозь, мы их до конца все-таки не знаем и никогда не узнаем; во-вторых, персонажи в тот момент, когда автор перестает о них сообщать, проваливаются в паузу, точно исчезают в «черной дыре»; происхождение родов и видов на земле испещрено, в-третьих, непроходимыми паузами, которые называются мутациями; случай, в-четвертых, тоже пауза закономерности, но разве происхождение мира не случайно?
«Моцарт считал, – пишет итальянский дирижер Рикардо Мути в своих записках о Верди, – что самое главное в музыке, это пауза между звуками», и это в-пятых; а к тому, что именно в паузе между вещами следует искать объяснение вещей, приходят теперь единодушно как передовые ученые-естествоиспытатели, так и современные метафизики, это уже в-шестых; и в-седьмых, пауза есть самая настоящая кантовская «вещь в себе»: пока мы живем полной жизнью, паузы еще нет, мы даже не догадываемся остановиться посреди «вечного движения», задержать воздух и удивиться осенившему нас внезапно осознанию несотворенности всех вещей, но как только мы, однако, задумываемся над этой несотворенностью, паузы уже нет, она неизбежно заменяется той или иной умственной конструкцией, коих в коллективном человеческом сознании плавает великое множество.
В состоянии вечной паузы живут кошки: недаром им приписывается святая домашняя мудрость и астральное видение вещей, а лучше всего, стоит повторить, природу паузы демонстрирует чтение в позднем возрасте: мы склонны отвлекаться от книги и задумываться ни о чем, причем все чаще и дольше, однако от этих отвлечений мы получаем почему-то едва ли не большее эстетическое наслаждение, нежели от самого чтения, и это великая тайна как чтения, так и паузы посреди него: так кошка, направляясь в спальню, почему-то задерживается в коридоре, оборачивается, смотрит на вас долгим многозначительным взглядом, а потом сворачивает в кухню – и для нее оба маршрута одинаково важны и неважны.
В юности, как уже сказано, подобное восприятие было невозможно: не только намеченная книга должна была быть прочитана до конца, но и главные события жизни – прежде всего на тему любви, семьи и профессии – должны были быть исполнены, власть судьбы, богов или просто первоосновных человеческих инстинктов была в том возрасте абсолютно неодолимой, нельзя было отвлечься от сценария и хоть немного задуматься над играемой ролью: да, пауза в те дальние-дальние годы была невозможна.
Но слишком долго задумываться во время паузы тоже нельзя: умственная конструкция, подобно Мефистофелю, тотчас предлагает свои услуги, однако от нее следует благоразумно отказаться, долгое пребывание в паузе посреди жизни чревато созданием философии жизни, а долгое пребывание в паузе во время чтения грозит возникновением объяснения текста, – и то и другое никуда не годится.
Всмотритесь повнимательней в глаза кошки и сравните их, заглянув в зеркало, со своим собственным взглядом, когда вам только что пришла «умная мысль» насчет мира или книги: вы будете удивлены, обнаружив, что в кошачьих глазах куда больше мудрого спокойствия и тишины, чем в ваших, но что это доказывает? наверное, прежде всего то, что мудрость может существовать помимо мыслей и, может быть, только помимо и вопреки мыслям существует.
Такова мудрость кошек, буддистов и иных простых людей, умудрившихся не прочитать в своей жизни ни единой книги, но мысль и мудрость все-таки не исключают друг друга, ведь мудрость по отношению к мысли находится в положении превосходного родства: она мать или старшая сестра мысли, и потому мудрость инстинктивно протягивает руку мысли, давая ей возможность подняться до себя, однако условие достижения мудрости для мысли не простое: она должна соединиться со своей противоположностью, то есть, отправившись в одном направлении, мысль призвана, пронзив пространство и время, выйти к себе самой с другой стороны, соответственно поменяв знак, – это и есть простейший механизм возникновения антиномии.
Выйдя на поиски смысла или последнего обоснования жизни и не найдя его – ибо найти его значит лишь произвольно выставить ту или иную субъективную умственную конструкцию – возвратиться к себе самой, то есть, описав мировоззренческую окружность того или иного диаметра – чем больше он, тем глубже сама мысль – замкнуться на себя и образовать точку как исходный пункт и вместе центр антиномии, – таков судьбоносный, то есть извне и свыше предуказанный путь мысли как духовного феномена: эта точка и есть пауза в вышеописанном смысле, и где бы мы ни были, на каком бы уровне бытия ни пребывали, – всегда есть возможность преобразовать мысль в антиномию, то есть из зодчих какого-нибудь умозрительного культа – чем по природе своей являются наши мысли – сделать геометрические координаты чистого бытия, – каковы в основе своей антиномии.
Соответственно, привыкнув мыслить антиномиями, не нужно уже всякий раз отправляться в кругосветное умственное путешествие, имеющее целью, выйдя из одной точки, возвратиться к ней с другой и противоположной стороны, достаточно помнить и твердо знать об этом мировом законе, а память и твердое знание о нем сами гарантируют нам неизменное пребывание одновременно во всех таких путешествиях, будь то в прошлом, настоящем или будущем: находясь в срединном антиномическом срезе восприятия мира, мы получаем несомненную онтологическую уверенность его постижения, не затрачивая на то ни малейшего умственного усилия, – это и есть субтильное состояние вечного пребывания в метафизической паузе, но для того, чтобы упокоиться в нем, необходима предварительная колоссальная умственная работа, надобно научиться видеть и переживать мир в антиномиях.
А пока ждешь собеседника и взад-вперед нетерпеливо ходишь по комнате, выглядывая периодически из окна, разве это можно сделать? нет, конечно, но догадаться смутно все-таки можно! и вот, предчувствуя сие великое открытие, которое, быть может, перевернет навсегда жизнь, но в то же время не делая из этого громкого спектакля, по принципу: все великое тихо, просто и скромно, человек инстинктивно пытается найти адекватный этой судьбоносной ситуации актерский жест, – как правило везде, всегда и у всех людей жест этот состоит в показе некоторого недовольства во взгляде при возвращении собеседника и возобновлении прежнего разговора с ним.
Учитель и ученики
I. – Все-таки жизнь каждого из нас подобна решению уравнения с несколькими неизвестными: последних не настолько много, чтобы уравнение было изначально неразрешимым, но в то же время и не так мало, чтобы уравнение решалось легко и просто, неизвестных ровно столько, сколько нужно для каждого отдельного человека: у одних их больше, у других меньше, но в любом случае они есть, – и человек мучительно пытается заменить загадочный икс конкретным житейским содержанием.
Как тут не вспомнить тупую и мучительную мольбу во взгляде вызванного к доске ученика? тот забыл ответ, хотя прекрасно подготовил домашнее задание, но одноклассники не могут ему помочь, потому что уравнение, написанное на доске, оказалось на голову сложнее проходимой темы, да и сам учитель краснея видит, что записанная им задачка никогда не приводилась в школьных учебниках, и вообще непонятно, откуда она взялась и кто ее автор.
Уравнение в общем-то не такое уж и сложное, просто оно чуть-чуть отличается от всех ему подобных в школьной программе, и вот в наступившей тишине весь класс как единое человеческое существо углубился в решение странного уравнения, – и только слитное выражение торжества и разочарования во взгляде всего класса как единого человеческого существа при разрешении задачи в который раз продемонстрирует парадоксальное отношение человека к Истине как к чему-то такому, что нельзя искать, но нельзя и не искать, нельзя найти, но нельзя и не найти.
Значит ли это, что Истина отсутствует: ныне и присно и вовеки веков, но без Нее, этой отсутствующей Истины, нам нельзя жить: ныне и присно и вовеки веков? да, значит, потому что то, что отсутствует, заведомо существует, а значит его нужно искать и можно найти… стоп! не совсем так, скорее, то, что отсутствует, правда, существует, но найти его нельзя, ибо оно отсутствует субстанциально, зато искать его можно, – а ищут ли его проницательными глазами Льва Толстого или тупо-умоляющим взглядом незадачливого ученика у доски, не играет никакой роли.
И разве что эстетика поиска у них немного разная.
II. – «Вы же прекрасно понимаете, молодой человек, что раз существуют вещи, причем такие сложные, как мы с вами, то должен существовать и Тот, кто их сделал», – сказал Учитель с той бесконечной теплотой во взгляде, которая, казалось, учла все возможные возражения и которая поэтому готова изливаться на Ученика без каких-либо ограничений, присно и вечно, подобно солнечной теплоте и свету. – «Да, вы правы, дорогой учитель, Творец должен быть, но ведь все дело в том, что для творения разницы между бытием и небытием творца никакой нет, потому что оно, творение, и по природе Творца, и по природе творческого акта, и по собственной природе так же мало может знать о своем создателе, как знала Анна Каренина о Льве Толстом», – для вида немного задумавшись ответил Ученик, – и во взгляде его появилась та ответная, притворная и не уступающая учительской теплота, которая лучше все прочих факторов демонстрирует изначальное, затаенное и непреходящее соперничество между Учеником и Учителем.
И сколько бы ни продолжался подобный диалог, метафизический его финал – то есть вполне соответствующий внутренней логике – заранее известен: это знаменитый безмолвный поцелуй Учителем Ученика как триумф Парадокса, – только он один может положить конец этому всем давным-давно надоевшему, а больше всего самим его участникам, спектаклю, а до тех пор пока это не произойдет, Учитель и Ученик, продолжая разыгрывать знакомую наизусть сцену, будут оставаться намертво друг к другу вечным сюжетом учительства привязанные, – точно каторжники к галерным веслам.
III. – Что дал миру Будда? медитацию? но она была до него, учение об освобождении от страданий? но от них нельзя освободиться, – вот и получается, что Будда дал миру свой оригинальнейший сюжет и больше ничего.
Не иначе Иисус Христос: что он дал миру? любовь? но во имя его пролилось больше крови, чем во имя всех его противников, путь к Богу? но он у каждого свой и разный, – так что остается один лишь колоссальнейший сюжет с тысячей возможных трактовок и больше ничего, – но человеку ничего другого и не надо.
Это все равно что я читаю полюбившуюся книгу и воображением настолько переношусь в мир героев, что на некоторое время забываю о повседневности: так большинство людей идут в церковь и под воздействием торжественной храмовой атмосферы тоже забывают на час будничную жизнь, – но чтобы жить воистину религиозной жизнью, нужно в повседневности думать, чувствовать и поступать точно так же, как в церковном храме.
И однако никто никогда и нигде не смог отождествиться вполне с вымышленными героями, спрашивается: а возможна ли в таком случае полноценная религиозная жизнь, подразумевающая также полное отождествление обыкновенного человека с героем его религии? нет, точно так же невозможна, и вышеприведенное сравнение остается в силе, причем во всем объеме, так что как нельзя сопереживать произведению искусства и при этом творчески и по-своему не переиначивать его в соответствии с собственными духовными потребностями, так невозможно окунаться в какую бы то ни было религию и при этом не вносить в нее хоть какие-то индивидуальные нюансы: и то и другое просто физически неосуществимо, и это даже очень хорошо, так было всегда и везде, и так будет испокон веков: аминь.
Так что если отбросить всю конкретную и для каждого человека разную окраску Высшего, которая разъединяет людей и вносит бесчисленные недоразумения и оставить само лишь Высшее, то это и будет служение отсутствующему Богу, – да, только в таком Боге у человека нет сомнений, тогда как, напротив, в любом конкретном Боге у человека есть сомнения, да еще какие: отсутствующий Бог есть таким образом онтологически вполне реальный Бог, но только при условии, что у человека инстинкт движения к Высшему первенствует над всеми прочими.
И один из благих даров отсутствующего Бога человеку – тот малый прирост судьбоносного опыта, который неизбежно возникает на исходе жизненного пути, которым не с кем поделиться, который нельзя перетащить на «тот свет» или в будущую жизнь, и который поэтому настолько никому не нужен, что он становится поистине бесценен: как в том смысле, что не имеет никакой цены, так и в обратном значении, что цена его абсолютна и ни с чем не сопоставима.
И как по следам на песке догадываются о том, кто прошел по нему, так по одному этому благому дару следует предположить, от Кого он, – вот оттенок вечного и неутолимого ожидания в глазах человека, ожидания на протяжении всей жизни, практически всегда, везде, в любой ситуации и при любых обстоятельствах, ожидания чего-то или кого-то, которые заведомо не явятся, но их все равно будут ждать, ожидания, которое не заканчивается даже смертью, ожидания того, что жизнь не может дать, но без чего жизни вовсе нет, – да, этот самый оттенок в глазах человека и есть, пожалуй, печать отсутствующего Бога, по крайней мере одна из них.
О том же свидетельствует и знаменитая картина Исаака Левитана.
Над вечным покоем безмолвного свода уходит земля в бесконечную даль, плывут с облаками усталые воды и дышит простором глухая печаль. На срыве утеса худая церквушка прикрыла от ветра косые кресты: одна ты над миром, родная старушка, не зябко ль тебе – небеса-то пусты? Лишь пара деревьев, трава да могилы, да тусклая синь над холодной рекой, лишь треск угольков, изнемогшие силы, да свода вечернего вечный покой.IV. – Искусство начинается там, где кончается строгая каузальность, и кончается там, где начинается отсутствие какой бы то ни было каузальности, – так, обойдя земной шар, вернуться к исходной точке есть по-своему чистое искусство, и от рождения через смерть прийти к новому рождению тоже есть своего рода чистое искусство: в том плане, что и там и здесь нет никакого практического смысла.
И точно так же самым возвышенным взглядом мы признаем тот, который, обозрев печали и радости, триумфы и падения, рождение и смерть, вечное стремление к чему-то и вечную от стремления усталость, и так далее и тому подобное, – короче говоря, самый возвышенный взгляд все это понял раз и навсегда… но что же дальше? принял ли он это? отвергнул ли? как можно все это принять? но как можно все это и и отвергнуть?
И вот, следуя логике взятого на себя непосильного обязательства, самый возвышенный взгляд на мир невольно пытается изобразить состояние, совмещающее в себе приятие и неприятие мира, – сама по себе эта попытка настолько грандиозна, что ее следует безусловно признать основанием любой подлинной духовности, но все ограничивается, как и обычно, одной лишь попыткой, ибо дальше идти некуда, приходится откатываться назад: нельзя ведь раз и навсегда запечатлеть на лице тот самый возвышенный из всех возможных взгляд и вечно носить его на лице своем.
Чужие и незнакомые люди приходят и уходят, – и в отношении к ним, основанном и без того на естественном уважении и этикетной вежливости, еще можно кое-как сохранять тот монументальный образцовый взгляд, но когда имеешь дело с людьми, которые обитают с тобой на едином и малом совместном пространстве и, главное, на протяжении многих десятков лет, – о чем-либо монументальном здесь не может быть и речи.
Так что ученикам как своего рода «домашним» основателей мировых религий все шишки и доставались, – короче говоря, следует предположить, что в глазах Будды или Иисуса, когда они судачились с учениками, не было ничего возвышенного: во всем допустимо сомневаться и только в этом можно быть полностью уверенным.
Путь к солнцу в полуночи. – Должно быть обязательно сознание некоего тонкого болезненного унижения: такого тонкого, что иной менее чувствительный человек его вовсе не почувствует, и в то же время настолько болезненного, что и во сне, кажется, ощущаешь от него свербящую душевную боль, должно быть, далее, обязательно сознание того, что самые заветные мечты ваши о жизни не осуществились по причине вашего характера, ваших талантов и вашей физической конфигурации, а значит они не осуществились раз и навсегда, и должно быть еще обязательно сознание удивительно благоприятного стечения обстоятельств, благодаря которому вам несмотря ни на что удалось достичь целей, о которых вы даже не мечтали, и которые, если вдуматься, продвинули ваше внутреннее развитие дальше, чем это сделали бы сбывшиеся заветные мечты.
И вот тогда, при условии одновременного задействования всех трех вышеназванных факторов, открывается возможность полной невозможности следовать стезями привычной жизни: нельзя отныне идти ни вперед, ни назад, ни в сторону, никуда, – и это есть состояние как бы ввинчивания вовнутрь иглы: ведь душевная работа не прекратилась, а поля деятельности для нее вовне нет никакой, – и вот это самое упрямое и необратимое ввинчивание вовнутрь игры не может не быть некоторым обращением к Богу: ведь Последний, как добрый волшебник Гудвин, предлагает каждому свой собственный путь, но ваш путь пока не путь мудрости и не путь радости – наиболее проторенные пути к Богу – скорее, это путь доверия, свободы и благодарности, когда вы только-только начинаете приходить от мира к Богу и Он, боясь вас спугнуть, не хочет оказывать на вас ни малейшего давления, – короче говоря, этот путь, сам по себе скромный и незаметный, лишенный каких-либо великих красот и небывалых подвигов, все-таки напоминает одно из прекраснейших явлений в природе, а именно: внезапное расцветание горных гималайских кактусов в ночи при лунном свете.
Молитва
I. – Восхождение. – Кто не помнит шокирующей сцены из фильма «Андрей Рублев» А. Тарковского, когда безоружные люди, запершись в церкви от окруживших их татар, неистово молятся Богу о пощаде, но их все-таки сжигают заживо? выходит, их молитва не была услышана? как знать: ведь эти люди молились о спасении и, хотя они пережили, судя по всему, ужасные предсмертные минуты, за ними последовало ощущение неописуемого блаженства, что доказывают опросы умерших клинической смертью и возвращенных к жизни.
Стоит только в это как следует вдуматься: при клинической смерти мозг отключен и никаких переживаний с научной точки зрения быть не может, однако они есть – и еще какие! вот вам и вполне научное доказательство того, что смертью жизнь человеческая не заканчивается и более того, опросы людей, находившихся в состоянии ожидания ближайшей и неминуемой гибели, показывают, что все они в последние минуты испытывали не только внезапное исчезновение страха и ужаса, но и появление вместо них тоже всеобъемлющего ощущения блаженства.
Вот это самое блаженство – о котором нельзя, правда, сказать, сколько оно продолжается и что за ним следует – с полным правом можно рассматривать как космическое услышание молитвы, с какой люди обращаются к Высшим Силам в тяжелые и особенно предсмертные минуты, причем услышание это происходит еще прежде самой молитвы и даже независимо от нее, – можно ли представить более превосходную благодать?
Правда, человек все-таки молится об осуществлении некоего конкретного желания, и исполнение его, действительно, равнозначно с естественно-научной точки зрения чуду, да, человек молится чуду «Господи, сделай так, чтобы…», но чуда обычно не происходит, а человек продолжает молиться: кому? получается, что Тому, кто сейчас не откликнулся на его молитву, но, быть может, откликнется в следующий раз, или в послеследующий, или через год, или в конце жизни, или на худой конец после жизни, или в жизни следующей, или послеследующей, – но не может быть так, чтобы молитва человека, если она искренняя и идет от сердца, осталась неуслышанной, такого просто быть не может, все может в жизни случиться, но только не это.
В глубине души человек знает, что любая его молитва будет наверху услышана и исполнена во благо молящегося, просто последнему не дано знать, что значит для него во благо, обычно молитва начинается с громких и ненужных слов, продолжается тихими и важными, а заканчивается всегда отсутствием любых слов, то есть молчанием и безмолвием, но уже в тот момент, когда человек высказывает Богу свое заветное желание, он чувствует, что желание его где-то по большому счету праздное и, сознавая, что скрыть от Бога ничего нельзя, сразу поправляется: мол, да, желание мое само по себе пустячное, но ведь Ты сам создал меня таким, что иной раз от исполнения или неисполнения одного-единственного пустячного желания зависит вся жизнь моя и все мое счастье.
Это потом, когда все обратится в прошлое, и человек увидит всю прожитую жизнь свою как сюжет, предложенный Богом, но написанный им самим, увидит, что и предметом его молитвы был всего лишь критический поворот в его судьбе, причем от неисполнения молитвы поворот этот только выиграл в экзистенциальной тяжести и выразительности, – вот тогда человек перестанет раз и навсегда обижаться на неисполненность его молитвы, и тогда только он поймет, что молчаливый диалог с Богом, не имеющий ни начала, ни конца, – единственное, что хотел и хочет от него Бог, а молитва и без того всегда присутствует в таком диалоге, присутствует в той самой благородной и вместе доступной всякому психологической форме, когда от души и больше всего хочется дать именно тому, кто НЕ просит: кстати, один из заветов великого романа «Мастера и Маргариты».
Вообще, чем легче побуждение души, тем больше его экзистенциальный вес: любой поступок, даже самый благородный, оставляет след на земле и о нем, в зависимости от перспективы, судят по-разному, – сколько в мире было прекрасных, благородных поступков, но поступков злых, бесчеловечных, чудовищных и преступных было наверняка не меньше, если не больше.
Слово легче, чем поступок и, будучи прямым орудием воли, оно удивительно легко способно управлять человеческими делами, – даже высказывая самые простые и ясные для всех истины, оно нередко ведет к двусмысленности и недоразумениям, не говоря уже о призывах, декларациях, внушениях, агитации, прямой лжи, провокации, недосказанности и тому подобное, опять-таки: много прекрасного в мире было содеяно словами, но едва ли не больше было теми же словами разрушено, оскорблено, спровоцировано или опошлено.
Легче и тише слов безмолвие, оно же и самое безупречное во всех отношениях: во имя безмолвия не было еще совершено ни единого преступления, безмолвие никого еще никогда не унизило, но многих и многое возвысило и облагородило; не следует путать безмолвие с молчанием, молчание есть всего лишь отсутствие речи и в иных случаях молчать нельзя, безмолвие же суть полное отсутствие слова и поступка и вместе их зачинающее лоно: все выходит из безмолвия и возвращается в него, оно – центр бытия и мироздания, и чем в большей степени мы его в себя впитываем и им наполняемся, тем сами ближе становимся к центральной точке Вселенной.
Итак, истина есть всего лишь вопрос геометрии: чем дальше от центра к периферии, тем удаленней от истины, уже само словцо «отсутствие» отдает своеобразной магией: оно безоговорочно принимает мир и все, что в мире, но одновременно выстраивает иерархию, которая пронизывает весь космос снизу доверху, а точнее, от периферии к центру, – и вот на периферии оказываются вещи присутствующие, а в центре вещи отсутствующие, и чем дальше мы отходим от окружности – а отходить от нее можно только к центру – тем в большей степени все то, что мы успели испытать, почувствовать и осмыслить в жизни, заменяется не чем-то высшим, потусторонним или божественным, а всего лишь собственным своим отсутствием, но это отсутствие по странному совпадению оказывается вместе и самым высшим, и в хорошем смысле потусторонним, и в идеальной интерпретации божественным.
Логика и чистота такого космического порядка вещей настолько поразительны, что им трудно сопротивляться, когда же весь мир становится для человека отсутствующим, цель индивидуального развития достигнута: сознание дошло до центра и слилось с центром, дальнейшее движение – от Низшего к Высшему – невозможно: на буддийском языке это зовется просветлением, – мир для просветленного сознания не исчезает – куда ему исчезнуть? – но продолжает существовать в аспекте собственного отсутствия.
Однако означает ли это, что всю жизнь нужно безмолвствовать? нет, не обязательно, хотя это, наверное, была бы далеко не самая худшая жизнь, в конце концов разве мало людей, всю жизнь проведших в медитации? но в любом случае на полное и окончательное безмолвие, как на последнюю цель, направлено любое индивидуальное существование, хочет оно того или не хочет (скорее не хочет, потому что склонно с первого до последнего часа что-то делать и что-то говорить).
Да, каждый из нас знает по опыту: когда умирает какое-либо живое существо, безмолвие от его былого существования становится настолько веским и многозначительным, что никакие слова и никакие дела этого существа не могут сравниться в своем непостижимом и пронзительным на нас воздействии с заключительным его отсутствием, дела и слова призваны только оттенить спящее в их недрах безмолвие, как оправа оттеняет драгоценный камень.
Так точно слова в молитве обрамляют ее бессловесную и безмолвную суть, ибо все в этом важном деле сводится только к тому, что Кто-то нас там обязательно ждет, а Кто именно, мы в точности не знаем и никогда не узнаем, а если так, если увидеть Того, Кто нас ждет, нельзя ни внешним взором, ни даже внутренним, то во время молитвы мы инстинктивно закрываем глаза лица и стараемся по возможности прикрыть еще и «очи души»: только полное закрытие глаз и очей создает предпосылки для молитвы, которая будет свыше услышана.
Поэтому когда в наше окончательно просвещенное время, обращаясь по сторонам, мы видим, во-первых, только потрясающую многомерность бытия, которая, как в наставленных друг на друга зеркалах, уходит в иные и прежде всего посмертные измерения, из чего прямо следует невозможность остановиться на каком-то одном из них – но как же тогда верить и во что? – когда, во-вторых, мы замечаем, что все по-настоящему сильные и выдающиеся духовные Мастера независимо от окраски – христианские ли они по духу, или буддийские, или приверженцы йоги – продолжают верить в собственное предназначение с удивительной и непонятной «просвещенному» уму односторонностью, как и сотни, и тысячи лет назад, и когда, в-третьих, становится очевидным, что искренняя, сопровождающаяся интенсивной внутренней работой вера реально улучшает состав крови, реально снабжает ткани тонкой энергией, реально побеждает раковые клетки – на все это существуют достоверные статистики, – итак, когда мы все это видим и пытаемся свести к общему знаменателю, вопрос об отсутствующем Боге находит, наконец, свой единственный и вполне удовлетворительный ответ: лишь когда Высшее непостижимо отсутствует, но безусловно существует, человек отправляется на Его поиски (ведь то, что перед глазами, искать незачем), и то, что он обретает в конце пути, никогда не имеет законченного в себе облика, никогда не дает гарантии на обретение последней истины и никогда поэтому не освобождает от дальнейших поисков, зато всегда идентично с собственной судьбой, а так называемые «знамения», по которым мы судим о достижении Бога – разного рода преодоления естественного порядка вещей, называемые еще чудесами – есть, быть может, всего лишь яркие жанровые признаки одной и наиболее распространенной эпопеи о преодолении человеком собственных границ и восхождении к Запредельному.
II. – Трансформация. – Никто не знает, когда входит в человеческий зародыш душа и когда она покидает его безжизненное тело; никто не знает, есть ли эта душа некое сверхличное единство или просто расхожий синтез бесчисленного множества психологических качеств; никто не знает, когда человек решает изменить ближнему своему, и никто не знает, когда он принимает решение скорее погибнуть, чем совершить измену; никто не знает, какова природа любви: человеческая или божественная; никто не знает, когда заканчивается детство и начинается юность, заканчивается юность и начинается зрелость, заканчивается зрелость и начинается старость; никто не знает, до какой степени смерть подобна сну и в чем состоит различие между ними; никто не знает, нужно ли вполне освобождаться от чувства страха или последнее имеет какое-то важное бытийственное назначение; никто не знает, нужно ли радоваться болезни – с кармической точки зрения – или печалиться о ней; никто не знает, подыскивает ли интуитивно каждый из нас наиболее подходящую для себя роль, потом на протяжении жизни ее непрестанно отшлифовывая и совершенствуя ее, или эта роль была изначально предназначена ему свыше; никто не знает, выбираем ли мы сами своих родителей, место и время рождения или это скорее неуправляемый космический процесс; никто не знает, перестанем ли мы после смерти вовсе быть или отправимся в астральный мир или примем облик какого-то нового живого существа, – короче говоря, никто никогда ничего ни о чем самого главного не знал, не знает и не будет знать, но решительно все, что нам представляется мало-мальски существенным, есть по природе своей прохождение вовнутрь иглы, то есть, во-первых, радикальный, во-вторых, не поддающийся контролю, в-третьих, неуловимый, и в-четвертых, совершенно неизбежный переход, после которого мы по меньшей мере перестаем быть тем, кем были до означенного перехода, а по большей мере даже перестаем сознавать последний.
И вот, отдавая себе ясный отчет в том, что есть в мире периферия: это то, что пока остается без изменений, и есть центр: это то, что проходит вовнутрь иглы, далее, видя на собственном опыте, что такое разделение на периферию и центр безбольно рассекает и любого из нас, и, наконец, по причине преобладающей во всех нас периферийной «массы сознания» испытывая врожденное пожизненное беспокойство, а пожалуй и страх, и ужас перед всякой серьезной предстоящей трансформацией, мы… да, мы обращаемся к Богу с просьбой остановить или замедлить прохождение вовнутрь иглы.
Не таков ли в конечном счете смысл любой нашей молитвы?
Но Бог отвечает нам: «Единственное, что я могу для вас сделать, это изменить диаметр иглы».
Не таков ли смысл любого – бывает, конечно, и чудесно измененного – хода вещей после молитвы?
И вот, слегка озадаченные таким Его ответом, не в состоянии понять, будет ли нам от Его вмешательства хуже или лучше, мы остаемся, подобно пушкинскому Председателю, до скончания дней наших погруженными в глубокую задумчивость.
Слушая Баха
I. (Акустика нескончаемого пробуждения). – Все-таки на склоне лет, подводя итоги, в том числе касающихся восприятия искусства, приходится признать, что реального мира, который бы его музыка так или иначе воспроизводила, не существует, а это значит, что великий Иоганн-Себастьян создал свой собственный творческий универсум, непохожий ни на какой другой, и все же принципиально ничем от них не отличающийся.
То есть онтологические права Баха и, скажем, Шопена или Чайковского, равны, хотя нам трудно отделаться от ощущения, что первый озвучил первозданную геометрию реального и глубинного космоса, тогда как второй и третий сотворили всего лишь великолепные субъективные творческие миры, но не больше.
Да, мы продолжаем думать, более того, мы чувствуем каждой клеткой нашего существа, что музыка Баха и Моцарта озвучивает, пусть в разных тональностях, душу реального и единого для всех, то есть как бы вполне «истинного» универсама, в то время как музыка всех прочих композиторов озвучивает их собственную душевную реальность, однако доказать это мы решительно не в состоянии и более того, по трезвому размышлению мы вынуждены признать, что между Бахом и Моцартом с одной стороны, и прочими музыкантами с другой, нет никакой принципиальной разницы.
Что касается Баха, то при слушании его музыки всегда и неизменно создается ощущение пребывания в центре, на какой бы периферийной точке мы ни находились, – в самом деле, она исполнена страсти: но чьи это страсти? людей? богов? астральных существ? внутреннего мира человека как такового? затем, она дышит просветлением – но в нем нет ничего религиозного и даже сверхчеловеческого, правда, она настолько возвышенна, что если бы Господь-Бог писал музыку, он писал бы ее как Бах, но ведь это не больше чем сравнение, далее, она и помимо Господа-Бога представляется «гармонией сфер», однако и это всего лишь метафора, ибо что общего у Баха с Первовзрывом, который тоже должен так или иначе соотноситься с «гармонией сфер» и которого изъять из космоса не только физикально, но и метафизически уже невозможно? и наконец, она почти принуждает поверить в существование некоего изначального, великого и объективного «космоса», которому Бах придал только язык, однако вслушивание в безмолвие звездной полночи подсказывает нам, что если и есть у космоса язык, то это именно тишина и безмолвие, а все остальное – сугубо человеческие интерпретации, даже если имя им – баховская или моцартовская музыка.
В итоге приходится остановиться на том, что Бах просто как никто до и после него умел, рассказывая о любой мелочи, оставаться в центре и все, – но где же этот центр? где то реальное или виртуальное пространство, откуда любая мелочь происходит и куда она возвращается? парадокс заключается в том, что такого центра «объективно» не существует ни в мироздании, ни внутри человека, и тем не менее человек вынужден его постоянно допускать: в макрокосмосе это на сегодняшний день по мнению большинства физиков и астрофизиков Первовзрыв, а в микрокосмосе от начала века – и здесь ничего не изменилось по сей день – наше Я, так что без допущения центра никакая жизнь невозможна, однако сам центр постоянно смещается.
И вот если мысленно выставить в один ряд все центры, на которые была ориентирована наша жизнь в разных ее фазах, то выйдет сначала некая сюжетная кривая, состоящая из центральных жизненных узлов, а потом, когда обнаружится отсутствие какого бы то ни было всеобьединяющего начала, прочие и вспомогательные центры вполне сольются как с периферией, так и между собой: центр и периферия, таким образом, взаимно упраздняются, а то, что остается – это и есть наша биография, которая воспринимается тем реальней, чем меньше мы задумываемся об отдельных ее узлах и связках.
Но только во внимательном и страстном самосознании, рождающемся в равной мере как из головы, так и от сердца, а также направленном равным образом как вовнутрь, так и вовне, исчезает начисто разница между внешним и внутреннем, важным и второстепенным, духовным и материальным, – и тогда даже в дуновении ветерка и журчанье ручья склонны мы видеть и осознавать явления, равные по своему значению возникновению мира и исчезновению цивилизаций: вот музыка Баха и есть это непостижимым образом озвученное внимательное и страстное человеческое самосознание.
По этой самой причине в баховской музыке нет абсолютно ничего такого, что мы могли бы назвать мечтательным или сновидческим: она действительно является озвученным и нескончаемым духовным пробуждением.
II. (По образу и подобию ему одному доступных фуг). – Все самые важные для нас события совершаются на духовном уровне, однако происходят в контексте времени, пространства и причинности, то есть, с одной стороны, «царство Божие вроде бы и внутри нас», но с другой стороны оно как будто пользуется окружающим миром – так художник использует краски, слова, звуки или мрамор – и не может иначе, – то есть получается, что мы в подавляющем большинстве своем относимся к Богу как к Творцу, вполне довольны этим прохладным и великим отношением, а подлинной близости к Нему мы инстинктивно страшимся, потому что чувствуем нутром, что она чревата настолько радикальной и необратимой трансформацией нас самих, но также и возлюбленного нами окружающего мира, что ни о какой уже привычной и милой нам повседневной жизни отныне речи быть не может.
И потому мы идем на любые ухищрения, лишь бы только сохранить искомое соотношение творения и Творца, – например, мы готовы поверить в то, что главные настроения души нашей – своего рода тональность музыкального произведения – соответствуют тем самым «семнадцати мгновеньям весны», которые определили профиль нашей прежней жизни, и вместе уже являются полузаконченными мелодиями нашей будущей жизни, составляющими тоже ее биографический абрис, а то досадное обстоятельство, что все может сложиться иначе, нисколько не упраздняет реальной возможности на одной этой глубокой интуиции строить всю насущную жизнь; мы готовы поверить, далее, и в то, что со смертью, став полнотой собственных возрастов, мы как бы замыкаемся на самих себя, однако в таинственный кокон свершившегося и вечно длящегося бытия нам так же трудно проникнуть, как Льву Толстому войти в будуар своей Анны Карениной; мы готовы, кроме того, поверить в кармические странствия нашей самой тонкой духовной субстанции, проследить которые невозможно, потому что истоки их сокрыты во мраке прежних жизней, – так что, выныривая, подобно дельфину, из одного бытия в другое, мы забываем предшествующее и не имеем понятия о будущем, а настоящая минута, даже раздвинутая в целую жизнь, повисая между прошлым и будущим, только усиливает впечатление жизни как сновидения; мы готовы поверить также в закон кармы, обусловливающий наше рождение в той или иной семье, посреди той или иной нации и в то или иное историческое время, закон, который сам по себе неумолим и является естественным сюжетом нашей жизни, а сюжет изменить нельзя, его нужно просто прожить и изжить и как можно лучше и качественней (то есть художественней), ведь он неподвластен нравственному воздействию и изменить судьбу так же трудно как собственное лицо; и мы готовы поверить, наконец, всего лишь следуя логике вещей, в то, что как персонажи в романе остаются до конца верны своему характеру, так человек должен быть верен основному выражению собственного лица, и все самое «лучшее, доброе и светлое» ему следует делать до той критической степени, пока оно соответствует физиологическому отпечатку души его, помня, что все, что выше этого – задача последующих инкарнаций, а потому – дабы сократить до минимума число последних – никогда не жертвовать Высшим ради Низшего, каким бы соблазнительным ни казалось второе и сколь бы скучным ни представлялось первое.
Итак, мы готовы поверить во все вышесказанное и еще в сотню других подобных тонких и невидимых Вещей, и для нас это (при условии, что мы больше всего на свете любим так называемую духовную жизнь) даже сравнительно легко – так верим мы, что за днем вчерашним последовал день сегодняшний, а за днем сегодняшним последует день завтрашний – но мы решительно не готовы поверить в то поистине «единственное на потребу», что из далекого Творца мгновенно делает Бога живого и даже Отца нашего Небесного: признание того простейшего и очевидного для любого «познавшего Бога» факта, что этот мир наш есть не больше и не меньше как всего лишь Его мысль (или множество мыслей), «подмороженная» до уровня плотной субстанции, – но тогда ведь невозможно всерьез этим миром заниматься, как мы это привыкли делать испокон веков.
И Бог все это терпит, оставаясь для нас Творцом, но внутренне желая более близкого к нам отношения.
И мы терпим, втайне предпочитая тяжкую жертву болезней, старости и смерти еще более тяжкой для нас жертве полного отказа от мира.
И музыка И.-С. Баха укрепляет нас в нашей сугубо гностической позиции.
И так было, есть и будет до скончания века.
Амен.
V. О скольжении по неуловимой грани между тем, что называют сном, и тем, что принято именовать явью
Феномен актера. – Когда я вспоминаю о главном завещании тибетских и дзен-буддистов, а именно, о том, что все мы в своей основе и изначально, так сказать, от века, просветлены, – у Будды, правда, волосы встали бы на голове от таких слов, настолько они противоречат всему, чему он учил! а значит, нет ничего в жизни такого, в чем бы мы внутренне, по существу нуждались, что нас сделало бы лучше, выше и чище, или, наоборот, что мы могли бы безвозвратно потерять, – смерть ведь забирает у нас лишь то, что нам по сути не принадлежит, оставляя как раз то, что поистине наше, – итак, когда я, проникнувшись этим глубочайшим будцийски-антибудцийским настроением, вижу, что желать, собственно, нечего, и терять нечего, и страдать не от чего, – для тибетских буддистов страдание есть иллюзия, и от такого утверждения у Будды вторично встали бы волосы на голове! – так вот, когда я, ясно осознавая все это, продолжаю все-таки как ни в чем ни бывало и дальше что-то желать, о чем-то сожалеть и от чего-то страдать, и вместе вижу, что все вокруг меня точно так же живут, жили и будут жить, – итак, когда я, видя и сознавая все это, вынужден прийти к выводу, что мир наш, может быть, и в самом деле просветлен в своей основе, и одновременно пребывал, пребывает и будет пребывать во мраке непросветленности, так что дико и нелепо даже представлять, что может быть иначе, и что космос наш когда-нибудь вдруг сделается просветленным, и воцарятся на земле Добро и Свет, а Страдание прекратится, и не останется в мире ничего темного, загадочного и противоречивого, – так вот, проникнувшись вполне этими чрезвычайно мудрыми настроениями, я вспоминаю всякий раз итоговую ремарку всей жизни и творчества Шекспира.
Ремарку о том, что мир – это театр, и мы в нем – актеры, не больше и не меньше, и все сразу встает на свои места, потому что феномен актера, способен, как будет показано ниже, пролить свет на кардинальный вопрос о том, что нас ждет после смерти, а на него мы уже имеем по крайней мере два противоположных, но в равной мере убеждающих ответа.
Подразумеваю буддизм и ясновидение Эм. Сведенборга: им можно на слово поверить, тогда как множество других аналогичных гипотез приходится отбрасывать, поскольку на каком-то этапе внутреннего развития сердце и ум перестают им верить: так отбрасываем мы со временем не вполне убедительные художественные образы, но буддизм и Сведенборга выбросить из души трудно, как трудно вытеснить из сознания наиболее удавшихся в искусстве персонажей.
Итак, согласно Будде, нет ни бессмертной души, ни Бога, зато есть вечный космос, великое множество богов и бесконечная цепь реинкарнаций, – это одно; Эм. Сведенборгу дано было беседовать с ангелами и они ему поведали, что Бог есть, и есть вечная духовная жизнь, и к ней приобщается любой человек, прожив на земле один-единственный раз, – это другое.
Как быть? куда идти? представим себе, что духовный человек, вечно живущий в астральном мире, – это человек-актер, то есть любой из нас в аспекте тех ролей, которые нам суждено сыграть в этой и прочих жизнях.
Ведь в том мире, как утверждает Сведенборг, нет смерти, нет памяти о ней, смерть там невозможно сознавать, точь-в-точь, как во сне, где тоже нет смерти, а есть лишь страх перед ней, – так что когда нам снятся люди, которых давно нет в живых, у нас никогда во сне не бывает чувства, будто они умерли, и это говорит о многом: когда мы засыпаем, связь с внешним миром становится настолько тонкой и зыбкой, что сравнение со смертью делается более-менее оправданным.
И вот человек умирает, но умерев, не в состоянии осознать, что он умер, однако не может он осознать и того, что заново родился, что снова прожил жизнь, что потом опять искал в бардо новое материнское чрево и так далее и тому подобное.
И множество жизней проходит перед духовным оком сновидца, поистине точно во сне, и каждая новая жизнь привносит массу разнообразнейших нюансов в его бытие, и в то же время как будто никаких существенных изменений спящий не замечает: в самом деле, сколько снов мы увидели в течение жизни – разве они хоть что-то в нас изменили?
Итак, нескончаемые инкарнации как роли пребывающего в вечности человека, если и не правда, то хорошо придумано, не правда ли? ведь и во время игры актер точно так же забывает о себе как человеке; сходным образом, живя повседневной жизнью, много ли мы помним о нашей сокровенной духовной природе? когда же мы вспоминаем о ней, то невольно забываем наши роли, – так уж создан мир.
И то обстоятельство, что в глазах актера, закончившего сцену и тут же, без какого-либо перехода бросающего шутку в съемочную группу, или делающего раздраженное замечание в адрес какого-нибудь коллеги, или капризно требующего кофе, или еще что-нибудь в этом роде, – да, повторяю, то обстоятельство, что в эти решающие моменты перехода из одного мир в другой в сознании актера нет ни малейшего следа какой бы то ни было великой метаморфозы, хотя для зрителя эти миры должны казаться абсолютно несовместимыми и непроходимыми, – здесь-то и соль любого искусства, – итак, в этой поразительной трезвости актерского взгляда, как ни в чем ни бывало шныряющего туда-сюда по онтологически разнородным мирам, – именно в ней-то я и усматриваю косвенное подтверждение моей парадоксальной гипотезы.
Риск не совсем удачного пробуждения. – Еще Кафка заметил, что момент пробуждения после сна есть самый рискованный в человеческой жизни, и он, как всегда, прав: подумать только, – еще вчера вечером мы оставили этот хорошо знакомый нам мир и ушли в мир иной: фантастический и сновидческий, – и кем бы мы там ни были и какое бы сознание мы в нем ни имели, у нас в продолжение сновидения не было ни малейшего сомнения в том, что все, что с нами происходит – реальная действительность.
И вот наступает пробуждение, то есть вчерашний, привычный и плотный ландшафт земного бытия надвигается на нас, подобно земле на корабль, когда после долгого плавания вдруг рассеивается прибрежный густой туман, – и все вещи, точно живые игрушки, протанцевавшие ночь напролет по мановению волшебника, опять замерли и, прикинувшись неодушевленными, хотят как ни в чем ни бывало скромно войти в наше сознание и занять там прежнее, подобающее им место.
Но как быть с тем миром, в котором мы только что побывали? был ли он всего лишь прихотью сновидческого воображения? или мы на самом деле в кораблике ментального (сновидческого) тела посетили заморские (читай: астральные) земли, а теперь возвращаемся из путешествия домой, как бессмертный Одиссей? но разве Гомер оставляет хоть какое-то сомнение в том, что все эти циклопы, волшебницы, сирены, боги и демоны, с которыми так или иначе соприкоснулся самый великий в мире путешественник, абсолютно реальны? как реальны для нас, скажем, тапочки, стоящие у кровати.
И точно так же по крайней мере сомнение в нереальности сновидческого мира входит тонкой иглой в наше повседневное сознание, не покидая его на протяжении дня, а вместе с ним и под его воздействием мы обнаруживаем в себе некоторое ничуть не менее субтильное сомнение в реальности внешнего и дневного мира: оба великих сомнения как раз и обеспечивают постоянное, бесшумное и незаметное раскрытие и закрытие той таинственной Двери, которая с лицевой стороны – Жизнь, а с тыловой – Смерть.
И если вообразить себе эту Дверь живой самостоятельной сущностью, то, кажется, все ее надежды, усилия и все тайные знаки, которые она нам подает, сводятся к тому, чтобы убедить нас в том, что она – не торжественная храмовая дверь, открывающаяся и закрывающаяся два раза в жизни – в моменты рождения и смерти – а обыкновенная комнатная дверца, распахивающаяся и захлопывающаяся всякий раз, когда мы… засыпаем.
Вот из легчайшего сомнения в нереальности сновидческого мира, как равным образом из столь же субтильного и параллельного сомнения в реальности нашего мира как раз и возникло искусство, его душа – это именно самосознание человека, который только что проснулся и, находясь под влиянием сновидений, не готов видеть мир так, как видит его человек, не придающий снам никакого значения.
В то же время, как мы помним, он лишь сомневается в абсолютной «реальности» так называемой привычной действительности: если бы он в ней вовсе не сомневался, у него не мог бы возникнуть взгляд художника, а если бы он совершенно не сомневался в ее «нереальности», этот взгляд не мог бы долго удерживаться в его душе, – и вот нужна именно тончайшая грань, состоящая из двух сомнений, чтобы по ней, как по острию ножа, заскользило художественное творчество.
В этой связи вообразим себе человека, который пошел на философскую лекцию, посвященную последним вопросам бытия, и лектор, очень умный и начитанный человек, представив вкратце самые глубокие точки зрения на этот счет, конечно же не преминет под занавес остроумно заметить, что всем им обще некоторое затруднение в однозначном ответе на особо интересующие нас вопросы, как то: кто мы такие? какова субстанция бытия? есть ли в нем начало и конец? существует ли Бог? и тому подобное.
И когда начнется заключительная дискуссия, кто-нибудь из зала чрезвычайно тонко заметит, что раз так, то и всю нашу жизнь можно уподобить сну Господа-Бога, тогда как мы сами себя и других видим в только в Его сновидениях и только через них, и более того, существование наше возможно лишь до тех пор, пока Он спит, – это ведь совершенно логично, а стоит Ему проснуться, как все мы, подобно любым сновидениям, тотчас обратимся в туман, в ничто, и перестанем попросту быть; и, конечно же, другой слушатель возразит, что кто-то уже высказывал эту мысль, но не сможет вспомнить, кто именно, а докладчик, тоже подзабывший, им обоим понимающе улыбнется.
Тем временем следующий субъект с задних рядов, лохматый и обязательно в солнцезащитных очках (он угрюмо стучал в продолжение лекции пальцами по столу) иронически заметит, что «сниться Господу-Богу – это слишком громко сказано, можно Бога заменить и каким-нибудь фантастическим великаном, спящим посреди Альпийских гор».
Публика начнет приятно улыбаться, а какая-нибудь вздорная молодящаяся женщина, давным-давно разведенная, без детей и от нечего делать каждый день посещающая разные лекции и доклады, войдя в струю иронического подтрунивания и над темой, и над лектором, и над всей мудростью человеческой подытожит звонким девичьим голоском: «Господа, не то ведь важно, кому мы снимся, а важно то, что мы всего лишь снимся, кому именно – вопрос вторичный, может быть, Богу, а может и великану, а хотите, так и карлику, дело тут в принципе, нет, предлагаю даже официально проголосовать, что все мы, здесь присутствующие, снимся какому-нибудь безобразному карлику со злобным взглядом под мохнатыми бровями, квадратной челюстью и трубкой в зубах, – прошу тех, кто согласен со мной, поднять руки».
И все шутки ради проголосуют, за исключением того человека, о которым мы вначале говорили: ему все это покажется немного странным и непрофессиональным, он ведь не за этим пришел на лекцию, и тогда он в знак протеста преждевременно покинет помещение, чтобы покурить: после этой сумасшедшей лекции ему больше всего на свете захочется курить, а сигарет при нем как назло не окажется.
Но, выйдя из подъезда, он заговорит лишь с теми первыми тремя прохожими, которые к его досаде окажутся некурящими, и тогда взгляд его упадет на спящего в мешке человека на пороге антикварной лавки, и, забыв осторожность, он примется тормошить бомжу, чтобы попросить у него сигаретку.
Каково же будет его удивление и ужас, когда глазам его предстанет внезапно высунувшаяся из брезента громадная квадратная голова со всколоченными волосами, злобными маленькими глазками и потухшей трубкой в уголке скошенного рта! и как сольются воедино удивление и ужас, когда он обнаружит, что человек, приподнявшийся на локтях из спального мешка и рассматривающий просителя с сердитым недоумением, – самый настоящий карлик!
И вот тогда-то, пораженный страшной догадкой, человек побежит назад, в подъезд, по широченной винтовой лестнице, – в старомодную квартиру на последнем, перед мансардами, этаже, где происходила лекция: он, наверное, захочет предупредить публику и докладчика.
Надо ли говорить, что, добравшись с одышкой до нужного этажа и остановившись перед знакомой дверью, он увидит ее открытой и колеблющейся от сквозняка, но никаких людей в помещении не будет, да и вместо стульев и кафедры там будут стоять лишь малярные ведра и кисти, а от недокрашенных стен будет исходить крепкий запашок побелки?
И это будет означать, что тот человек не совсем удачно проснулся, и ему понадобится немало времени и сил, чтобы выяснить, когда же точно закончился его сон и началось его бдение.
Крик бога-Пана в российской провинции. – Когда под июльским жарким полднем какой-нибудь худой и полуголый подросток с сочком на плече где-нибудь на пустынной окраине какого-нибудь глухого провинциального российского городка, бродя по щиколотки в сочной булькающей грязи обмелевшего после месячной засухи пруда, что-то в ней пристально высматривает, а из под ног его со звучной оттяжкой, точно живые пробки, выпрыгивают громадные лягушки, когда и жуки-плавунцы, и мухи, и элегантно-хищные стрекозы суетливо теснятся вокруг темной зеркальной влаги, когда непонятные птицы тоскливо кричат в бездонном солнечном мареве, когда настоящее, прошлое и будущее, подобно сверхплотной материи, слились в одно бесконечно малое и непрерывно длящееся мгновение небытия, и когда поэтому трудно решить, видишь ли ты этот пейзаж наяву или он тебе только снится, – да, в этот странный полдневный час, если взглянуть подростку в его выцветшие светлые многозначительно-бессмысленные глаза, многое поймешь и о многом догадаешься.
Поймешь, что жизнь проходит, точно мелеет река, оставляя после себя чистое бытие, и догадаешься, что наше повзрослевшее сознание, изумленно бродя по этой странной, непонятно каким образом возникшей мели, обнаруживает на дне жизни множество любопытных вещей, которых прежде, прямо имея с ними дело, не замечало, и на которые теперь смотрит совершенно иными глазами, – и вот, желая сверить эти новые для вас прозрения, вы обратитесь к бредущему в темном свете подростку, но, заметив ваш пристальный вопросительный взгляд, он вместо ответа только улыбнется краешком губ и пойдет дальше.
И это будет означать, что вы опять ошиблись, и тайна жизни как была, так и есть и останется «за семью печатями», просто у вас появится некоторая вас возвышающая иллюзия, будто вы как во сне сорвали эти печати, впопыхах прочитали священный текст, а потом, точно опасаясь кого-то, запечатали пергамент и сделали вид, что ничего не было.
Так оно, впрочем, и произошло на самом деле, потому что, даже сорвав печати последней тайны, ни ум, ни воля, ни память не в состоянии справиться с текстом, и в душе после подобных «духовных прорывов» остается всегда и неизменно ощущение, точно такой прорыв вам приснился, – но о том, что приснилось, можно ли утверждать, что оно было на самом деле?
Записки сумасшедшего. – Если наш Петр Чаадаев, объявленный сумасшедшим по классическому принципу: «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», – в самом деле, что стоит его патриотическая, исполненная любви и стыда критика в сравнению с ужасом и отвращением маркиза де Кюстина перед страной, которую он впервые увидел и которая сделала все, чтобы ему понравиться, но, увы! не понравилась? – итак, если этот стоящий в нашей культуре особняком человек, в одной из своих записей тонко подметивший, что то, что мы привыкли понимать под смертью, есть всего лишь отсутствие чистого и ясного осознания общих закономерностей жизни, прав, то, значит, мы мертвы в течение двадцати трех с половиной часов в сутки, если не больше, потому что и сон наш, в котором обычно не происходит какого-либо путного осмысления жизни, тоже есть своего рода смерть.
Эта простейшая буддийская истина никогда не могла бы прийти в голову русскому человеку, даже самому умному и мудрому, – так уж он просто устроен, – и чтобы русский человек до этого додумался, он должен был быть именно немного сумасшедшим, – но был ли таковым Чаадаев на самом деле, остается, к счастью, под вечным вопросом.
Почему нельзя будить спящего человека. – Обращали ли вы внимание, что у людей, длительно пребывающих под палящим солнцем без разумного ему противодействия (читай: наших туристов), и тех, кого только что вырвали из глубокого сна, – один и тот же взгляд: мутный, подавленный, измученный, тоскливый, как будто что-то пытающийся понять или вспомнить – и все-таки бессильный добраться до источника собственного беспокойства и глубочайшего неблагополучия.
Отчего это происходит? по-видимому, оттого, что ощущения реальности и сновидения настолько тесно переплетены в повседневности, что разграничить их часто не представляется возможным.
Испанский режиссер Луис Бунюэль приводит в своих «Мемуарах» один приснившийся ему сон: Бунюэлю снится его отец, тот сидит за кухонным столом и лицо его серьезно, он кушает медленно, мало и почти не говорит; «Я знаю, что отец умер, – вспоминает Бунюэль, – и тихо говорю матери и сестре, сидящим подле меня: «Мы не должны ему об этом напоминать». Не только глубоко мистическое в католическом духе, но и вполне кинематографическое сновидение: Бунюэль его и ввел в слегка измененном виде в свой поздний фильм «Призрак свободы». Также у великого Эм. Сведенборга изображение потустороннего мира чрезвычайно близко бунюэлевскому сну: в своем знаменитом трактате «О небе и его чудесах, и о преисподней, как они были мною услышаны и увидены» Сведенборг описывает бревенчатый дом с двором и собакой, снаружи туманный зимний вечер, обитатели дома давно умерли и перешли в астральный мир, но потусторонняя их жизнь столь же прозаична и безысходна, как прежняя земная: и дом и собака и вечер и зима и люди и общее настроение – точно описание старого голландского натюрморта, все здесь насквозь земное, изобилующее точными деталями, и в то же время нездешнее, потустороннее, как будто из Гамлета или со страниц Достоевского. После смерти, – утверждает Сведенборг, – каждого из нас ждет вполне индивидуальная участь, которая окончательна и необратима, – можно ли верить шведскому ясновидцу? во всяком случае он увидел и описал в подробностях знаменитый стокгольмский пожар, находясь в сотнях километрах от столицы, есть и многие другие, столь же потрясающие примеры его ясновидения. Какой контраст с представлениями тибетских буддистов, утверждающих, что умершие за редчайшими исключениями пребывают в астральном мире максимум сорок девять суток, после чего их ждет неминуемое перерождение в соответствии с их кармой! и какая еще более резкая несовместимость с убеждением самого Будды, считавшего, что между последним сознательным мгновеньем предшествующей жизни и первым сознательным мгновеньем жизни последующей не просунуть и волоса! Известно, что Пушкин с присущим ему «протейским» даром великолепно воспроизвел дух и манеру Сведенборга: в пятой главе «Пиковой дамы» он описал явление умершей старухи, вполне созвучное эпиграфу из той же главы, но, в отличие от шведского мистика, оставил вопрос открытым, явилась ли старуха Германну во сне или наяву, – это он сделал просто потому, что был до мозга костей поэт, буквальное изображение посмертного бытия всегда в той или иной степени умаляет художественный эффект. Также в «Душах чистилища» – лучшей новелле во всей мировой литературе с моей точки зрения – Проспер Мериме не позволяет нам однозначно решить, видит ли дон Жуан де Маранья свои похороны на самом деле или только в воображении. О лермонтовском «Мне снился сон: в долине Дагестана…» и говорить нечего: там смерть лирического героя завернута в упаковку тройного сновидения – и все ради большего искусства. Зато из прозы Фр. Кафки, кошмарной и сновидческой по сути, начисто изгнан элемент сна, более того, мы явственно чувствуем, что, приснись Йозефу К. его гротескное преследование со стороны невидимого Закона, это намертво убило бы кафковское искусство. Итак, мы видим, что искусство с удовольствием обыгрывает сюжет сновидения, но в общем и целом этот сюжет идет ему скорее во вред, чем на пользу: есть вещи, о которых говорить не принято. Субстанция слитности сна и реальности лежит также в основе около– и послесмертных переживаний: оказывается, умерев, осознать, что ты умер, далеко не так просто, как кажется, а пожалуй, что и очень трудно, быть может, так же трудно, как во сне осознать, что тебе все только снится, – каждый из нас знает это по опыту и когда мне, например, снятся родственники, которые давно умерли, у меня никогда нет во сне чувства, что они уже ушли из жизни. На это и упирают тибетские буддисты, они особенно подчеркивают важность сновидений: до тех пор пока мы не научимся осознавать и контролировать собственные сны, считают они, у нас нет власти над своей реинкарнацией, ибо состояние умершего человека в бардо – то есть в астральном мире – принципиально то же, что и во сне, утверждают тибетские буддисты, – поэтому они и создали «йогу сновидений»: продуманную практику опознавания собственных снов, столь важную при умирании и в особенности после смерти в бардо становления. Вообще, нельзя не заметить, что во сне проявляются существеннейшие черты нашего характера, пусть в самых невероятных и несовместимых с повседневностью обстоятельствах, меняется характер – меняются и сновидения: как в лучшую, так и в худшую сторону, и чем сновидения связней, чем в большей степени мы руководим их сюжетной конвой, а не она нами, и чем меньше в нашем ментальном теле зависимости, заботы и страха, тем благополучней совершается наше развитие (спросите у тибетцев – они знают), так что степень контроля над сновидениями можно без особого риска отождествить с коэффициентом внутреннего развития человека. А причина здесь в субстанциальной нераздельности действительности и сновидений: последние иллюзионны только по отношению к первым, но если мысленно воссоздать сложный и недоступный нам мир снов, воссоздать его со всеми расползающимися по магическому пространству причинами и следствиями, а также пусть непредставимыми, но весьма вероятными внутренними закономерностями, то он, этот сновидческий мир, по всей видимости будет в точности соответствовать нашему миру, который, кстати говоря, нам самим нередко представляется безумным и сомнамбулическим.
Если же еще учесть и тот факт, что по мере превращения настоящего в прошедшее оно – настоящее – тоже напитывается сновидческой субстанцией, понимание сновидений как особой реальности, а нашей действительности как своего рода «замороженного» сновидения становится даже очевидным и неизбежным. Вообще, перед особенными событиями – такими, как далекое путешествие, операция, и прочее – та действительность, которая была для нас повседневностью, а теперь должна следовать своим путем, но уже без нас – ощущается отчасти как сновидческая и как бы в замедленной съемке с выключенным звуком, зато потом, когда мы сели в самолет или легли на операционную койку, она и вовсе начинает отсутствовать: сновидения суть таким образом как бы промежуточная сфера между временными отрезками бытия.
Поэтому всякий раз, когда что-то поистине отсутствующее – как, например, прошлое до нас или без нас – восстанавливается в памяти, оно сначала воспринимается нами в сновидческой дымке, и лишь потом, когда эта дымка рассеивается, оставляет впечатление зыбкой реальности, в которой вещи и события как бы плавают, – но это плавание мы склонны приписывать скорее особенностям нашей психики, чем самим вещам и событиям: последние сохраняют свой неизменный status quo.
И только на юге, под воздействием солнечного марева, впечатления внешнего мира, будучи восприняты человеческой психикой, тотчас растворяются во всеобъемлющей световой мгле, снова из нее появляясь и опять в ней исчезая, не оставляя в душе глубокого следа: здесь основа восприятия мира как вечно сменяющих друг друга сновидений, так что неудивительно, что буддизм возник именно на юге, на севере для него нет почвы, – действительно, в нашем климате любая реальность, не зная враждебного ей солнечного марева, без труда осиливает сновидческую субстанцию космоса, загоняя ее в ссылку: ночные сновидения. Но как невозможно естественным образом покинуть этот мир бдения без того чтобы не войти в мир сновидений, так ощущение сновидческой субстанции бытия, будучи не в силах победить чувство онтологической и исторической реальности (как это происходит в Азии) и вместе не будучи в состоянии выйти из нее, порождает ту самую южную тоску, которая так характерна для наших южно-европейских стран в летние полдни и которая является прямым и непосредственным выражением двумирной – сновидческой и бдящей одновременно – природы бытия.
Этим и объясняется глубочайшее сходство взглядов людей долго и, главное, праздно находящихся под палящим солнцем, и тех, кого только что вырвали из глубокого сна, – вот почему так желательно следовать Льву Толстому, который старался никогда не будить спящих людей.
Любопытное открытие. – В 1955 году немецкий исследователь фон Шуман доказал, что Гомер был действительно слепцом, как ему это удалось? оказывается, очень просто: фон Шуман проанализировал сны, описанные в «Илиаде» и «Одиссее», и на том основании, что в них преобладает слуховой и осязательный элемент, зато оптический почти отсутствует, сделал вывод, что подобные сны мог описывать только слепой человек.
В самом деле, каждый из нас подтвердит, что в памяти от людей остаются в первую очередь их взгляды, однако в сновидениях взгляды почти отсутствуют, и тем не менее во сне мы все видим столь же ярко и красочно, как наяву, – гомеровские миры, стало быть, подобны сновидческим, не оттого ли они почитаются колыбелью европейского искусства?
Вообще есть художники, чье творчество мы воспринимаем как бы в перспективе чистого прошлого, независимо от того, являемся ли мы их современниками или нет: таков Гомер, но таков же и наш Пушкин, недаром он сказал, что у души нет глаз, – это эпиграф ко всему Гомеру.
Закономерно в этой связи, что прошлое часто сравнивают со сновидениями, – с той, правда, разницей, что прошлое признается реальностью, тогда как реальность сновидений остается под сомнением: поэтому, когда мы думаем о прошлом, у нас в глазах появляется выражение отрешенной задумчивости: последняя, подобно главной тональности в музыке, остается и при размышлении о потрясшем нас сновидении, но при этом обогащается массой жизненных оттенков, – и все-таки центральный момент осознания самых запоминающихся снов состоит в том, что сны эти, приснившись и как бы тем самым оказавшись в прошлом, могут тем не менее повториться в той или иной вариации в нашей будущей жизни, быть может, земной и повседневной, а быть может, посмертной.
Вот почему они гораздо сильней и значительней любого прошлого, как личного, так и коллективного, – потрясающие сновидения действуют на нас в первый момент точно так же, как предсказания будущего с той лишь разницей, что сновидения приходят и уходят, а предсказание остается, и его острое жало мы постоянно чувствуем перед собой, – вот если бы в повседневной жизни сбывалась хотя бы малая часть сновидений, мы относились бы к ним с тем возвышенным пиететом, которого они безусловно заслуживают, но сновидения только тогда входят в нашу жизнь, когда мы их порядком подзабыли, оттого об их пророческом воздействии на нас мы имеем всегда лишь смутное впечатление.
Впрочем, его интенсивность от этого нисколько не страдает: недаром мучительную тревогу и беспокойство, буквально написанные на лице только что проснувшегося под влиянием исключительного сновидения человека, ни с чем не спутаешь, – эти тревога и беспокойство имеют оттенок «не от мира сего», и всегда сопровождаются тем легким раздражением во взгляде пробудившегося сновидца, с каким он реагирует на приближение ближнего или друга: даже если эти последние привносят в его жизнь явное облегчение от пережитого шока.
Действительно, мы привыкли только повседневность воспринимать как подлинную реальность, то есть в идеале день нынешний, потому что завтра может для человека вообще не наступить, однако и вчера уже приобретает фантастические очертания, и чем дальше мы памятью забредаем в минувшее, тем полнее оно впитывает в себя сновидческую субстанцию, так что не хватает лишь фантастических образов, чтобы почувствовать себя окончательно в сновидении.
Да и в самый первый момент пробуждения нас удивляют привычные комнатные предметы, нам непонятно, что они вообще есть, это чуть позже, когда разум проснется, возможно будет ответить на любой вопрос, но во всякой пограничной экзистенциальной ситуации – как то: засыпание и пробуждение, внезапная потеря сознания, обморок от страха, смертельная опасность и наконец умирание – невозможно решить, какой из миров по обе стороны границы реальный и какой сновидческий.
И потому «пройдя свой путь до половины», как сказал Данте, и оглядываясь на прошлое, инстинктивно пытаясь уяснить для себя логику собственной судьбы, ничего кроме великого Недоразумения как той бесконечно малой точки, где, как на окружности, постоянно соединяются, догоняя друг друга, сон и бдение, обнаружить нельзя, но это хороший знак, он указывает на близость истины, потому что вечный и беспробудный сон есть безумие, а для того, чтобы постигнуть чистую и беспримесную реальность, нужно по меньшей мере одиннадцать месяцев медитировать в крошечной пещере, как утверждают гималайские йоги – а им уж точно можно поверить – и другого пути окунуться в истинную реальность нет, хотя, конечно, есть, но они, эти пути к так называемому просветлению или освобождению, столь же тернисты, как и названный.
Так что нам, простым смертным, суждено до скончания дней мотаться в утлом суденышке нашего тела в океане безбрежного бытия между Сциллой того, чего вроде бы нет, и Харибдой того, что вроде бы есть.
Воображаемая остановка маятника. – Когда между очень близкими родственниками разъединение, подобно движению маятника, достигает нижнего предела, то есть когда эти люди не только не в состоянии что-либо совместно предпринять, но им уже и сказать нечего взаимно, и они вынуждены избегать друг друга, а встретившись как можно дольше молчать или по крайней мере уклоняться от самых важных разговоров, но когда в то же время они не чувствуют взаимной ненависти или вражды, что соответствовало бы взлету маятника в противоположную сторону, – вот тогда, если один из них узнает (обычно через третье лицо) о смерти другого, то, быть может, придя домой, он достает семейный альбом и невольно задерживается взглядом на той или иной фотографии, где он и его умерший родственник засняты вместе.
«Что за странный снимок, – думает он, – откуда эта трогательная близость, которую мы потом на протяжении жизни друг к другу не испытывали? или здесь запечатлен момент единственный в своем роде? а что, если этот момент перевешивает всю остальную жизнь? что, если судьба нас соединила только ради одного этого эпизода, увековеченного любительской фотографией? и где он теперь, мой брат по крови? а вдруг он ждет меня? в самом деле, разве не слышно со всех сторон, что родные и близкие встречаются после смерти, и даже неизбежно, из века в век? и все-таки мы с ним абсолютно разные люди и проживи мы жизнь заново, все было бы точно так же… а потому, если нам все-таки суждено встретиться на том свете, то пусть лучше я не увижу его лицо, так напоминающее мне все наши раздельно и несуразно прожитые годы, а он мое! пусть смутный неопределенный облик будет вместо его лица – и наоборот – и пусть новая, нежданная и безграничная любовь, которой, якобы, так славен посмертный мир, заполнит для меня его опустевший образ, а для него мой! и это будет поистине щедрой божественной заменой нашему опостылевшему земному общению! да будет так».
Стоп! но так ведь именно уже происходит в наших сновидениях: людей, к которым мы вдруг испытываем вспышки нежнейшей и необъяснимой любви, мы обычно не видим в снах, но почему-то твердо знаем, что это они, – что за ослепительный и совершенно неземной способ общения! намекает ли он на то, что ждет нас всех после смерти? или, наоборот, посмертные фантазии питаются лишь обманчивой амброзией сновидческого опыта? кто знает… придет время – и все сами узнаем, стоп! оно уже для каждого не однажды приходило, и ничего мы до сих пор не узнали, – а маятник продолжает раскачиваться, и любая его остановка означает только шокирующее (ужасом и радостью одновременно) осознание собственной полной неподвластности смерти.
Путешествие вовнутрь иглы. – Первозданная антиномия бытия, при обнаружении которой, как при вспышке молнии, с ослепительной ясностью открывается сущность всех феноменов, состоит в том, что, с одной стороны, любые невероятные вещи, случающиеся с нами в жизни, в нашем первичном восприятии не вызывают у нас никакого удивления, а с другой стороны, именно самые повседневные, обыденные, комнатные вещи в первый момент после пробуждения вызывают у нас странным образом именно чувство непонятного и острого удивления.
То есть когда, например, в толпе мы встречаем человека, как две капли воды похожего на того, кого мы хорошо знали и кто уже умер, мы в первый момент воспринимаем это как привычный и давно известный нам факт: «Смотри-ка, тот человек, оказывается, жив», хотя потом, конечно, бодрствующее осознание берет верх: «Как же я мог подумать, что он умер?», дальше идет привычное разложение по полочкам: «Нет, это по-видимому всего лишь похожий человек», и в заключение все встает на свои места: «Надо же, а мне было показалось…»
С другой же стороны, когда проснувшись мы окидываем взглядом комнатные предметы, то мы некоторым образом удивлены, что они вообще есть, но без того, чтобы на их месте мы ожидали или представляли что-то другое, и здесь великую истину первого впечатления подтверждает сама природа сновидения: ведь и в снах у нас никогда не бывает чувства, будто приснившийся нам человек давно умер, хотя по жизни это именно так.
Итак, парадоксальным образом мы в первый момент не удивляемся умершему человеку, гуляющему по улице, но удивляемся по пробуждении привычному спальному интерьеру: чтобы разобраться в этой изначальной антиномии бытия, следует вспомнить, что хотя мир и объективен, объективность его все же в значительной мере сновидческого порядка и, например, этот дом, в котором я живу более десяти лет, о котором теперь рассуждаю и который вижу сквозь деревья (и видят все прочие люди, поскольку у них сходное с моим зрение), – это не тот дом, который видят кошки, собаки и прочие животные, и тем более не тот дом, который воспринимают астральные существа и быть может воспринял бы я сам после смерти, и совсем уже не тот дом, о котором будут вспоминать все видевшие его, когда он по тем или иным причинам перестанет существовать.
Иными словами, в бесконечном континууме времени и пространства столько обликов этого дома, что вопрос о его сущности («вещи в себе») сам собой отпадает, так что так называемая «объективная действительность», безусловно, существует, но лишь в форме бесчисленного множества субъективных взглядов на нее. То есть получается, что человек от рождения до смерти как бы «плавает» в собственном, непрерывно меняющемся психосоматическом пространстве, последнее многопланово, поскольку зависит от органов восприятия, а они могут быть феноменально развиты, как у гениев, и к тому же, накладываясь друг на друга, усиливаются в арифметической, а то и в геометрической пропорции, но даже «плавая» в таком пространстве и не в силах выйти за его пределы, мы по-прежнему убеждены, что основные его параметры объективны, да так оно и есть на самом деле, но лишь для нас и тех, кто смотрит на мир нашими глазами. Любопытно в этой связи спросить: объективны ли наши сновидения? объективны ли пейзажи астральных миров, куда попадают умершие или, лучше сказать, пережившие клиническую смерть? объективно ли, наконец, видение мира лишенными тех или иных органов чувств, в том числе и умалишенными? Ведь ребенок во время болезни видит и переживает свою детскую комнату и склонившуюся над ним мать наверняка не так, как видят и переживают ту же сцену врач и посторонние наблюдатели, а тот же самый малыш, умирающий через восемьдесят лет, быть может, видит и свою бывшую детскую комнату, и мать, склонившуюся над ним, и того врача, но видит одновременно и то помещение, в котором он теперь умирает, видит уже и провалы в стенах, видит столпы света в них, видит таинственные туннели меж них, видит и тени и забытые видения и чьи-то лики, – не то человеческие, не то ангельские, не то демонские, словом, видит, многое такое, чего не видят прочие присутствующие, – так спрашивается: чье видение объективней и реальней?
Объективней – в смысле наличия доказательного объекта – конечно, то, что видят врач и другие нормальные, здоровые люди, а то, что увидел и унес собой умирающий, – это как сокровенное переживание художника, оно принадлежит одному ему; и как переживания художника – справедливо это или несправедливо – признаются превосходящими переживания обыкновенных людей, так с еще большим правом следует признать переживания умирающих и детей тоже многомерней переживаний тех, кто находится в промежуточной между ними полосе жизни.
И как будто догадываясь об этом, как будто вспоминая о том, что было на заре жизни, как будто предугадывая, что будет в ее закате, мы в самый первый момент пробуждения ото сна имеем одно и то же, общее для всех, ощущение: ощущение некоторого субтильного удивления от того, что вместо провалов в стенах, вместо столпов света в них, вместо таинственных туннелей и смутных ликов, словом, вместо всего того, что мы уже бесконечное множество раз видели и будем видеть в разных вариантах, остались одни лишь комнатные предметы: одновременно и бесконечно нам знакомые и немного чужие, – потому что мы привыкли их видеть задействованными также в иных измерениях.
Но из этого прямо вытекает, что люди на самом деле ни рождаются, ни умирают, ни существуют вечно, но просто – пребывают, причем нельзя сказать, где и как они пребывают, потому что любой вопрос относится к жизни, тогда как бытие начинается там, где заканчиваются какие бы то ни было вопросы о жизни, – и отрывочные эпизоды их пребывания мы отмечаем то в сновидениях, то в так называемой повседневной жизни.
А самое первое впечатление – будь то искреннее удивление, когда мы встречаемся с обыденными вещами, или, наоборот, чувство давнего знакомства, когда мы вдруг соприкасаемся с вещами невозможными и необъяснимым – оно, быть может, как раз и выражает адекватно характернейший взгляд человеческой души, которая так именно всегда и на все смотрит, но лишь в своей абсолютно первичной бытийственной субстанции, тогда как, попадая в различные пертурбации, одной из которых является наша земная жизнь, она, то есть душа, естественно, на нее, то есть жизнь, реагирует – вторыми и последующими впечатлениями.
Фантазия или прозрение? – Когда в снах мы буквально каждую ночь переживаем чувства, мысли и ощущения, которых не знали в бдении (и лишь потом, проснувшись, мы как-то запросто решаем, что это именно наши чувства, мысли и ощущения и ничьи другие), когда наше внутреннее развитие весьма и весьма опосредованно отражается на сновидениях (то есть нам снятся сны, ничего общего не имеющие с господствующими во время бдения настроениями и планами), и когда, главное, исходя из этого важнейшего и непрерывно свершающегося на протяжении всей жизни опыта мы не в состоянии даже представить себе, что сновидения когда-нибудь могут прекратиться (в том числе и со смертью: не здесь ли корень любой веры в потустороннюю действительность?) или изменить свой (противоположный любому бдению) характер, – не возникает ли тогда в нашей душе, подобно ослепительной вспышке молнии при полуночной грозе, пронзительная догадка о том, что наша жизнь развертывается одновременно в обоих антиномических измерениях: бесконечного перерождения и параллельного пребывания в астральном мире?
Тем более что каждая из собственных черт характера, взятая сама по себе и соотнесенная произвольно с прочими физическими и душевными качествами, позволяет представить себя практически любым существом во Вселенной и в любом ее временном срезе, но чем внимательней мы отслеживаем сущностную связь наших психологических качеств, тем ограниченней комбинация их игровых возможностей, так что в конечном счете никого кроме себя самих, как мы стоим теперь перед зеркалом, почесывая затылок, мы представить себе на нашем месте не можем.
И точно так же, но в обратном порядке: чем длинней и связней наши сновидения – а это, согласно тибетским буддистам, величайшим знатокам сновидений, есть самый верный признак правильного духовного развития, – тем в большей степени наш эмпирический характер становится зримой одеждой обнаженного и беззащитного ментального тела (субъекта сновидений), то есть образ жизни в бдении все больше уподобляется образу жизни в сновидении.
Но из этого следует, что не только сновидческий ландшафт обретает по мере нашего внутреннего созревания черты знакомых нам земных пейзажей, а сновидческие тени делаются похожи на зеркальные отражения близких нам и понятных людей, но и наоборот, сама наша земная жизнь, которую мы прежде считали плотной и самодовлеющей, приобретает вдруг до некоторой степени призрачные, расплывчатые контуры, и не то что бы у нас появляется чувство, будто она нам снится, но между состояниями сна и бдения нам уже, действительно, все труднее видеть принципиальную разницу.
Граница между сном и бдением – и она же грань между астральным и земным бытием – размывается, а точнее, она всегда была размытой и неопределенной, и нужен только соответствующий уровень сознания, чтобы это понять.
И как никакой, даже самый малый квант не в состоянии проникнуть сквозь мельчайшую сетку материи, но, чтобы пройти через нее, он должен поменять свою структуру из квантовой на волновую, так никакое наше качество – неважно, психологическое или духовное – не может пройти сквозь игольное ушко смерти, не поменяв свое более-менее самостоятельное и квантовое существование на иную и гораздо более субтильную волновую субстанцию отношения.
А это значит, что мы как таковые не можем пройти через смерть: слишком плотна преграда, но через смерть как сквозь сито пройдут и наше отношение к женщинам, и наше отношение к природе, и наше отношение к людям, и еще тысячи и тысячи иных и гораздо более тонких, подобных паутине, отношений, – вот они-то, образовав суммарную кармическую волну, и создадут по всей видимости очередную нашу инкарнацию, причем с такой же ошеломляющей простотой и надежностью, с какой электромагнитные волны проходят сквозь стены.
Однако на уровне снов никакой переход не нужен: там все наши основные отношения были, будут и есть в первозданном естестве и целокупности, – поэтому нам могут сниться и мы прежние, и мы будущие, и мы чужие себе, и мы себе близкие и родные, да так оно и происходит каждую ночь.
А стало быть, подытоживая вышесказанное, подлинная духовная эволюция может заключаться в том, чтобы максимально сократить расстояние между миром снов и миром бдения, хотя каков из этого выйдет конечный результат, нам, простым смертным, знать не дано.
Разумеется, об этом можно было бы спросить у мудрецов, но ведь и там неукоснительно действует один прекрасный духовный закон: кто знает, тот молчит, а кто говорит, тот не знает, – так что единственное, что допустимо предположить в качестве любопытной и правдоподобной гипотезы: все мировые религии так или иначе по-своему правы.
Иными словами, посещая три года спустя кладбище, где покоится близкий человек, и заметив вблизи какую-нибудь трехлетнюю девочку, нельзя быть уверенным, что тот, к кому мы пришли, не глядит в этот момент на нас исподлобья из-под детских локонов, как нельзя быть уверенным и в том, что он не наблюдает за нами из своего астрального измерения и не читает наши мысли, тогда как мы, в свою очередь, его видеть не можем и мыслей его прочесть нам тоже не дано: таковы пока правила игры.
Смутный же синтез обоих несовместимых состояний мы имеем как раз в сновидениях, – и это уже с физиологической и психологической точек зрения вполне очевидная истина и остается только метафизический момент постулата: но его можно опустить за ненадобностью.
Брат и сестра. – Если во время ночного сна наше самосознание как гипотетический центр привычной в состоянии бдения личности обретает попеременно множество невообразимо разных воплощений, так что мы в продолжение сновидений можем ощущать себя практически любыми – реальными или воображаемыми – существами, причем нас это совершенно не удивляет, из чего логически вытекает, что наша сновидческая реинкарнация ничем в принципе не отличается от классических перевоплощений, которые уже свершались в прошлом и быть может свершатся в будущем, и которые, если взглянуть на них по прошествии достаточно долгого времени, ничем по сути не отличаются от короткого фантастического сновидения, если, далее, во время ночного сна нам снятся наши давно умершие друзья, знакомые и родственники, однако факт смерти не играет в сновидениях никакой роли, и мы общаемся с умершими так, как будто они живы, или как будто мы сами уже умерли, и если, наконец, во время ночного сна следуют также фазы без сновидений, оставляющие в сознании ощущение абсолютной пустоты, иногда с пугающим оттенком, а иногда с нюансом всеобъемлющего блаженства, – да, вот тогда древнее как мир сравнение сестры-смерти с братом-сном любому здравомыслящему человеку должно показаться не просто любопытным и всего лишь мало-мальски правдоподобным, но поистине единственным, позволяющим хоть что-то узнать о том, тайну чего сама природа вещей позаботилась хранить как зеницу ока.
И как наилучшим образом спрятанная вещь должна почему-то лежать у всех нас на виду и посреди слегка беспорядочного скопления других похожих на нее вещей – Шерлок Холмс даже имел точно такой случай в своей практике – так быть может разгадка самой великой для людей тайны смерти заключена в самом обыденном явлении жизни: наших сновидениях.
Последние ведь не только воочию показывают все три основные, предложенные мировыми религиями, альтернативы «жизни после жизни»: астральную действительность, бесконечный круговорот реинкарнаций и абсолютную пустоту, из которой, однако, все исходит и в которую все возвращается, но и на деле – и каждую ночь! – демонстрируют живое взаимодействие этих на первый взгляд полностью исключающих друг друга решений посмертного бытия.
Но как в той же новелле Артура Конан Дойла один лишь Шерлок Холмс мог найти валяющееся на столе посреди ненужных бумаг важнейшее письмо, а без великого сыщика оно, наверное, и по сей день лежало бы ненайденным на прежнем месте, так подавляющему большинству людей даже в голову не приходит искать загадку смерти в природе сновидений, а те немногие исключения, что каким-то образом догадываются о местонахождении тайны, все-таки роются там только для вида, не веря, что ларчик открывается так уж просто, и что то, что они ищут, у них давно перед глазами.
Сон в летнюю ночь. – Когда вы, скажем, в начале восьмидесятых годов прошлого века поздним июльским вечером в каком-нибудь южно-немецком городе Мюнхене в помещении какой-нибудь Толстовской библиотеки слушаете какой-нибудь любопытный доклад, посвященный актуальному положению в России, и докладчик, какой-нибудь солидный господин с азиатскими чертами лица, в солнцезащитных очках, не выпуская трубки изо рта (он ею то стучит по пульту, то плавно водит в воздухе, то мягко погружает в предполагаемого оппонента), камня на камне не оставляет на политическом курсе Горбачева, хотя и считает справедливости ради нужным заметить, что свое дело этот «лучший из парт-аппаратчиков» (цитата) сделал и в историю вошел, а «вот только войдет ли вслед за ним туда его многострадальная страна, это большой вопрос», и этой эффектной фразой заканчивает свой доклад, но очков не снимает, трубку опять сует в рот, достает из кармана шелкового пиджака узорчатый кисет и, не обращая внимания на аплодисменты, идет вон из зала, чтобы покурить перед прениями и поболтать в узком кругу людей близких и избранных, а лекция его всем нравится (лектор вообще отличается простотой, занимательностью и остротой изложения, таковы же и его книги, в частности, самая известная из них: насчет обстоятельств смерти нашего всеми уважаемого и многими до сих пор любимого, хотя вне всяких сомнений жесточайшего и коварнейшего из людей тирана), лекцию с удовольствием смакуют и обсасывают, и лекции готовы бы придать гораздо больше значения, однако все присутствующие как назло прекрасно осведомлены о том, что докладчик состоит на службе американцев (а значит получает хорошую мзду за свои старания), и потому никого не удивляет, что в докладе явно чувствуется, во-первых, тон иронического неодобрения «перестройки и гласности» (не гласность, а свобода слова! не перестройка, а строительство заново!), во-вторых, нескрываемое ожидание их скорейшего и неизбежного краха, и, в-третьих, слишком уж явная и потому несколько комическая обида на то, что страна обошлась без советов тех, кто «лучше всех ее знал», – что делать! изменения в стране пошли сверху, а не снизу (хотя так оно всегда на Руси и было), и тем более не сбоку, от умной и всезнающей нашей Трехволновой Эмиграции, – так вот, возвращаясь к самому началу, когда с вами, любезный читатель, происходит любопытный эпизод, подобный вышеописанному, знайте, что этот счастливый и безоблачный период вашей жизни, увы! в точности соответствует духу и букве того занимательного доклада, то есть все вы, находящиеся в помещении той самой памятной библиотеки, и недалеко от нее, в окрестностях города, и более того, в пределах всего так называемого ближнего и даже дальнего зарубежья, – все вы нашей российской матушке-Истории только снитесь, но отчаянные и безумные попытки не только остаться во сне, но и доказать себе и другим, будто сновидения могут существовать на равных правах с бодрствующей действительностью, – да, эти героические и трогательные вместе попытки составляют, судя по всему, сущность русского эмигранта, ими он будет оправдываться перед Господом-Богом, а поскольку вся земная жизнь есть сон Господний – говорю это без какой-либо иронии – постольку у нашего брата-эмигранта есть хорошие шансы выиграть «партию жизни».
VI. О художественной природе бытия
Самая серьезная игра. – Хотя жизнь есть игра, да еще со смертельным исходом, хотя это, судя по всему, есть последнее слово о жизни, и в мире природы, да пожалуй и в человеческом обществе философия смертельной игры, кажется, не вызывает уже сомнений, – все же в глубине нашего сознания, – там, где под разными углами падения и отражения встречаются все вопросы и ответы «проклятого бытия», – да, выражение «игра» там, где речь идет о жизни и смерти, представляется нам несколько легкомысленным, и мы почти против воли заменяем его понятием экзистенции: нам упорно продолжает казаться, что жизнь серьезней игры.
Так что даже видя, как все живое приходит и уходит, наблюдая, как мировые войны, землетрясения, цунами, вулканы и наводнения, точно корова языком, слизывают целые поколения, а на их место приходят и уходят другие поколения, понимая, что все это совершенно нормально и иначе быть не может, – даже при всем этом мы остаемся убеждены, что дух и стихия игры, хотя и пронизывают все поры бытия, суть его, к счастью, далеко не исчерпывают.
И вообще, мы смотрим на мир глазами Джоконды – то есть чистой и беспримесной игры – только пока мы молоды, здоровы и более-менее удовлетворены жизнью, когда же настоящее горе стучится в двери нашего дома, нам уже не до игры, и тогда рембрандтовский взгляд на мир становится нам ближе и понятней, а поскольку горе, как подметил еще Шопенгауэр, психологически всегда осиливает радость, нам рано или поздно приходится признать, что мир как будто намеренно создан так, чтобы невозможно было докопаться до любых его первопричин и первооснов.
Усвоив для себя эту истину, мы приобретаем необманчивую путеводную нить, которая обязательно приведет нас в конце концов туда, где заканчивается любое умственное развитие, а заканчивается оно там, где мы встречаемся с так называемыми антиномиями: ведь что может быть естественней и непостижимей того простого факта, что все есть игра и вместе – не только игра? и если игра, то кто с нами играется? эволюция? эллинские боги? а если не только игра, то кто стоит за ней? единый Бог? карма?
Уже при такой простейшей постановке вопроса мы видим, что все четыре названных космических фактора могут быть вполне реально задействованы, но как именно и в какой пропорции, сказать решительно невозможно, однако поразительна сама возможность их онтологического взаимодействия, которое в нашем восприятии приближается к чуду и даже вплотную сливается с ним.
Вот это самое средостение Естественного и Чудесного было бы невозможно, если бы не было элемента бескорыстной игры, лежащей в самой основе мироздания, а раз так, раз без игры обойтись нельзя, то нет в мире нет ничего, что не было бы достойно игрового взгляда, но теплота или холод игры – вот в конечном счете истинное мерило конкретного к нему, миру, отношения.
Или, выражая ту же мысль в стихах.
На фоне сказочных пород над бездной, точно на параде, на чуждый ей земной наш род она глядит – и в этом взгляде пред нами явно налицо во всей двусмысленности странной вечно русалочье лицо в своей палитре многогранной. Жест полных пальцев на руке на орган женский намекает — и, точно сумрак в тростнике, улыбка в складках губ играет. Но если близко поднести к ней свет простой настольной лампы, как дух, томимый взаперти, старуха выйдет из-за рампы. А может, панночки слеза из мглы волшебных отдалений ее подернула глаза лукавой прелестью томлений? И как средь чисел полный ноль для нас осмыслить очень сложно, так для нее любую роль представить в жизни невозможно. Как будто медный купорос разлит в аквариуме света — и на внимательный вопрос нет и не может быть ответа.Точнее, ответ заключается в том, что Жизнь и Бытие вечно стремятся друг к другу как своим антиномическим пределам, и когда доходят до цели, рождаются величайшие шедевры человеческого гения, – это мы видим на примере Будды и леонардовой Джоконды; в самом деле, полузакрытые глаза Будды – в них угасло все живое, там нет и следа привычных эмоций, мыслей, побуждений, и все это было бы нам страшно и непонятно, если бы из глаз Будды не исчезло точно также все так или иначе связанное со смертью и намекающее на приход ее, – то есть, Жизнь, упразднив себя, но тем самым победив, наконец, и саму царицу-Смерть, обратилась в чистое Бытие.
И наоборот, когда кусок холста и краски, предметы в общем-то сами по себе неодушевленные, рукой Мастера превращаются во взгляд, заключающий в себе так или иначе все известные в просвещенном человечестве оттенки и настроения, причем не обязательно в их положительном аспекте, – что они есть, – но скорее в отрицательном, – что они в модели отсутствуют, – но тем выразительней печать такого отсутствия, – да, подобный взгляд может символизировать Жизнь в ее непричастной Смерти чистейшей манифестации.
Таков опять-таки взгляд леонардовой Джоконды.
Как это было. – У индейцев из племени йуку есть странный обычай: рассказчик племени, поведавший слушателям самую древнюю легенду их рода, должен отвернуться от них и, повернувшись к тому мифическому месту, откуда якобы исходит легенда, сказать ей: «Это было на самом деле», иначе, как гласит обычай, легенда может проглотить как рассказчика, так и его слушателей.
Но ведь так оно и есть на самом деле: пока мы не поймем, что жизнь наша сложилась полностью удачно, как бы она ни сложилась, душа наша будет пребывать в некоторой глубочайшей обеспокоенности; тут очень важно, чтобы перед смертью каждый мог сказать о своей жизни: «Это было на самом деле», то есть должно быть необманчивое чувство, что из того, что было предоставлено человеку, он сделал самое лучшее, – тогда и жалеть не о чем, и мечтать не за чем, все встает на свои места, как в хорошем романе, и человек, как главный герой его, обретает уверенность, что он хорошо сыграл вверенную ему роль.
Итак, обязательно должно состояться полное удовлетворение прожитой жизнью, даже если в ней не оказалось ничего особенного, это и очень просто и очень трудно одновременно, но если оно свершилось, в мир входит ощущение явленного чуда; ведь сущность чуда заключается в его полной внутренней завершенности и самодостаточности: фантазия не перелетит его, рассудок его не объяснит, разум перед ним добровольно смирится, сердце не пожелает большего, интуиция с ним втайне согласится, и вера на него возрадуется.
И все будут счастливы и довольны, но только при условии, что чудо укладывается в жанр повседневной жизни, что оно в данном случае и делает, – и вот о таком именно чуде все в один голос свидетельствуют: «Это было на самом деле», тогда как о прочих повседневных вещах – на которых не лежит печать полной законченности – люди склонны говорить: «Это просто было», – чувствуете тонкую, но великую разницу?
Это происходит тогда, когда человек не вполне удовлетворительно сыграл свою роль, то есть не до конца осуществил собственные возможности, и вот у него появляется странное чувство, будто его жизнь ему приснилась, и чувство это тоже передается окружающим, а о сновидении трудно ведь сказать: «Это было на самом деле», но о нем как раз говорят: «Оно как будто было».
Отсюда, между прочим, и проистекают те смутное беспокойство, сомнение, и неуверенность, которые неукоснительно ведут к желанию заново сыграть неудавшуюся роль, то есть снова и лучше прожить жизнь, – и надобны либо громадное признание со стороны людей, либо порядочно преувеличенное самосознание, чтобы признать свою прожитую жизнь вполне удавшейся вопреки тайному голосу сердца, – вот этот самый тихий голос из глубины души и вызывает у большинства из нас неизбывную свербящую боль: настолько незаметную, что стыдно, кажется, даже обращать на нее внимание, и в то же время настолько щемящую и неизлечимую, что хочется закричать от ужаса, – но вместо этого мы только молча про себя улыбаемся, – точно известный суфлер из-за дерева изобразил ироническую гримасу.
Это произошло еще в Раю во времена Адама и Евы, и с тех пор наш взгляд обрел необозримую палитру оттенков: от ужаса до смеха, что отличает нас от животных, у которых в глазах преобладает одно-единственное, адекватное их сущности выражение, – иными словами, человек стал актером, что и было, быть может, сердцевиной грехопадения, а осознание пола явилось лишь его логическим следствием.
«Мир – театр, а мы актеры на подмостках его». – Действительно, нельзя лаконичней и весомей выразить суть человеческого существования на земле, чем это сделал Шекспир или тот, кто писал под его именем, в приведенной выше цитате, подтверждение ее правоты мы находим на каждом шагу: просто поразительно, до какой степени наша жизнь, взятая в самых существенных своих отношениях, напоминает произведение искусства.
Что такое любая философия, религия или эзотерика? не что иное как эмоционально-интеллектуальное волеизъявление того или иного лица; почему мы придаем ему столь неподобающе-высокое значение? потому что забываем опять-таки шекспировскую истину о тождестве жизни и актерской игры; что она означает? только то, что любой актер, в том числе и главный, не может сделать больше, чем просто хорошо сыграть свою роль, последняя состоит из поступков, диалогов, монологов и пауз между ними, пожалуй, знаменитейший из монологов – это гамлетовский «быть или не быть», однако никому и в голову не приходит назвать это философией, – по отношению к именитым мыслителям мы именно это и делаем.
И напрасно, тем самым искажается перспектива: во-первых, мы нагружаем себя ненужным умственным грузом, который с трудом сами несем пошатываясь на протяжении жизни, с каждым годом теряя (память что сито) якобы драгоценные толики познания, так что к старости от него остаются жалкие крохи, вполне сравнимые с заученными когда-то и ныне почти забытыми цитатами из классиков; во-вторых, мы мучаемся, то и дело оглядываясь по сторонам, чтобы выяснить, насколько взваленные на нас философские системы или, лучше сказать, обломки от них, соответствуют «реальному положению вещей»; и в-третьих, мы начисто лишаем себя возможности по-настоящему понять самих авторов: как часто какая-нибудь характерная деталь из их жизни расскажет нам больше об их сущности, нежели все ими написанное.
Конечно, пока читаешь Шопенгауэра, невольно думаешь: да, если на философском языке можно выразить «истину», то великий немецкий пессимист это несомненно сделал, но рано или поздно книгу его снова ставишь на полку, а с годами берешь все реже – таков закон зрелости – и что же? каков итог? пара метафизических мелодий в душе остаются навсегда, это верно, – но точно ли воля есть «вещь в себе»? точно ли вся жизнь от начала до конца разворачивается в ключе страдания? не является ли зачастую страдание как раз самой великой ценностью бытия? и точно ли радости настолько отрицательны, что их нельзя чувствовать: полно, мы ценим и теплоту и доброту и отзывчивость… а если мироздание конечно? и как быть с взаимозависимостью материи и энергии? да и что такое «умопостигаемый характер»? и с какой стати искусство воплощает прекращение воли и чистое созерцание, хотя оно есть все с начало и до конца – субтильное воление?
Ведь то обстоятельство, что любая великая радость граничит с великим страданием и как правило переливается в него, не только не останавливает человека, но является как раз источником того самого онтологического волшебства, наличие которого делает жизнь неотразимой для нас, ибо не только в радости сокрыто Кащеево яйцо страдания, но и наоборот, в страдании спрятано не менее могущественное Кащеево яйцо радости, так что, например, для смертельно больного человека уже ослабление боли является источником подлинного блаженства.
Вот почему анализ жизни Шопенгауэром, несмотря на уникальный гений философа, глубоко неверен в своей основе: основная тональность жизни – не страдание, а та магическая привязанность к жизни, от которой нам не дано освободиться и которая плетется равным образом из нитей радости и страдания; когда же жизнь перетекает в бытие – а это происходит ежесекундно по мере замены настоящего прошедшим – то страдание и вовсе теряет свое болезненное жало, более того, его яд становится лекарством, – перестрадавший человек приобретает убеждение, что он познал жизнь и смысл жизни.
Таким образом, «вечное возвращение» Ницше есть куда более верный эпиграф к жизни, нежели страдание Шопенгауэра, – и вот уже шопенгауэровская философия, как и все ей подобные, «плавает» в гипотетическом океане иных и многих философских ответов на загадку жизни, – зато пудель философа, его соперничество с матерью, нападки на Гегеля, а также квартира, которую он демонстративно предоставил войскам для наблюдения и расстрела революционеров 1848 года, – эти и прочие детали, подобно зарисовке мастерского художника, остаются в нашем сознании навсегда.
И вот тогда мы расстаемся с любимым философом как персонажем одного – или многих, в зависимости от перспективы – мирового спектакля: этот персонаж, правда, много и в точку сказал, но мы, претендуя на безукоризненный эстетический вкус, смакуем также и прочие детали, быть может даже наслаждаясь ими больше, чем нескончаемыми философскими монологами, потому что знаем наверное: последней истины в его писаниях все-таки нет, зато есть претензия на абсолютную философскую истину.
Вот эта наилучшим образом обоснованная претензия быть «первым среди равных» в области философии суть характернейшая черта Шопенгауэра как образа, подобно тому, как, скажем, утонченная жестокость, елейная тихость, осторожность и склонность к риску и авантюре, опасная для противников осмотрительность и продуманное бесстрашие, аристократизм, хотя не во всем, внутренняя неспособность к любви, но лишь к влюбленности, а также трогательная и нежная дружба, опять-таки распространяющаяся только на трех людей в мире, редкостная скрытность, вплоть до амфибийной потребности жить в двух мирах одновременно, являются образными координатами великого Арамиса.
Итак, мир – это театр, да, Шекспир тысячу раз прав: не смыслом живет человек, а той ролью, которую он в жизни играет, играет же он всегда роль, к которой больше всего способен, – а пресловутый смысл жизни тогда только выступает на первый план, когда делается опять-таки содержанием того или иного монолога, то есть в том случае, если человек полагает, что лучше всего он может не жить, а рассуждать о смысле жизни, и тогда он играет роль философа или религиозного деятеля, а вся его философия, какой бы гениальной она ни была, есть всего лишь гигантская реплика из спектакля под названием: «выражение культуры такого-то народа в таком-то времени» и все.
Ведь когда входишь во вкус Древнего Рима, то предсмертные слова императора Августа: «хорошо я сыграл свою роль? тогда похлопайте мне» становятся как бы лейтмотивом этой великой, кровавой и красочной эпохи, но когда читаешь о жизни Будды, Миларепы, Франциска Ассизского или преп. Сер. Саровского – то разве впечатление настолько уже иное? разве не та же там гениальность, но уже иного и духовного порядка? и тем не менее, поскольку христианская или буддийская духовности так же неотделимы от личности и судьбы их святых, как художнический талант от корифеев искусства или воинский дар от полководцев, постольку любое проявление в том числе и религиозной гениальности принадлежит в конце концов к сценическому оформлению ее (гениальности) роли: под последней подразумеваем мы судьбу личности и ее значение для общества.
К примеру, если эпиграфом ко всей древнеримской истории можно поставить знаменитые слова «что есть истина?» – настолько эта эпоха была проникнута духом сомнения в существовании единой и абсолютной для всех правды – то в буддизме, как и в христианстве, сходный эпиграф звучит иначе: «вот истина!» – настолько немыслимо там сомнение в найденной единой и абсолютной для всех правде, – однако пафос утверждения последней истины без тени сомнения и готовность следовать ей до конца суть тоже своего рода роль.
Например, нынешние исследователи докопались до явной неспособности юного Готамы Шакьямуни играть ту роль, которая ему предназначалась от рождения: для того времени быть правителем республики Шакья – эту должность принц Сиддхартха должен был занять после своего отца – значило образцово владеть мечом, стрелять из лука, управлять лошадьми и боевыми слонами, а также уметь постоять за себя в рукопашной борьбе, однако именно к этим искусствам будущий Будда не проявил ни малейшей склонности, дело дошло до того, что будущий тесть потребовал от него доказательств мужских способностей, прежде чем он отдаст за него свою дочь, легенда, конечно, гласит, что Будда блестяще справился со всеми испытаниями, но на то она и легенда, чтобы ей не доверять, – а куда более вероятно, что уже с ранних лет юный Сиддхартха догадывался, что ему уготована судьбой иная роль: быть может центральная в истории человечества, как догадался? да точно так же, как Моцарт догадался, что быть ему в этой жизни великим-превеликим музыкантом!
Сходным образом блестящий Ренан пишет, что не признавали Иисуса ни в родной семье, ни в ближайшем окружении, но чувствовал он в себе один-единственный великий дар, одно-единственное великое Слово, да и самолюбие сказывалось, что вполне естественно, – и вот уединился он среди своих учеников, тех немногих, что видели в нем то, что он сам хотел в себе видеть, и на этой крошечной сцене, поддерживаемый всего-то парой десятков актеров, сумел он сыграть тоже уникальную для человечества роль.
Мне вообще неизвестен случай, чтобы человек добровольно отказался от какого-либо великого таланта, разве что в пользу другого и еще более интенсивного для себя таланта.
Опять-таки, Будда интуитивно нашел свой путь: открыл великую Дхамму, основал два монастыря, изобрел тысячи оригинальных медитаций, мог ответить на любой вопрос, связанный с его учением, – но точно также И.-С Бах мог играть на всех инструментах, плюс к тому импровизировал часами, кроме того, он до тонкостей разбирался в органе, скрипке и клавесине, и сам же их починял, – короче говоря, полное и совершенное владение материей там и здесь, оно, кстати, само по себе и помимо творческих свершений есть уже немаловажный критерий принадлежности к избранной роли.
И наоборот: ну мыслимо ли, чтобы Леонардо или Цезарь, Моцарт или Наполеон, Шекспир или Эйнштейн – перечислять можно до бесконечности – сделались буддистами или пламенными христианами? иметь склонность к религии и попутно ею интересоваться – это одно, но пойти таким путем – совсем другое, ибо чтобы пойти этим путем, нужно пожертвовать всеми прочими талантами, а к этому уже никто из действительно талантливых людей не готов, да может быть это и не нужно, потому как сама судьба того не хочет, а если бы хотела – то заранее, от рождения лишила бы человека мирских талантов и наградила его сверх-мирскими, – я убежден, что стать настоящим буддистом есть редчайший дар, вполне сродни музыкальному.
Итак, что за странная и вместе оригинальная роль – всеми силами упразднять в душе и кармической судьбе любые прежние, настоящие и будущие бытийственные роли! более того, само представление о роли как таковой! но достиг ли Будда своей цели? вот в чем вопрос, если достиг – то и радикально зачеркнул все бывшие до него и все будущие свершения человечества, отличающиеся от его собственных, а если не достиг, то сам оказался исполнителем пусть самой глубокой, оригинальной и загадочной – так и хочется сравнить его с Гамлетом – но опять-таки «всего лишь» роли.
Стало быть попытку максимально осуществить заложенные внутри возможности следует признать краеугольным камнем любого человеческого действия: поэтому одни пишут книги, другие соблазняют женщин, третьи ведут войны, четвертые управляют государствами, пятые лечат людей, шестые исследуют мир, седьмые обустраивают контакт с Богом, то есть каждый делает именно то, что лучше всего может делать, – но как же быть с теми, кто не пишет, а только читает, не соблазняет, а лишь наблюдает за соблазнителями, не командует войском, а сам идет умирать, не лечит, а дает себя лечить, не исследует, а всего лишь узнает о результатах исследования, и наконец, не ищет прямой связи с Богом, а довольствуется указаниями тех, кто якобы разбирается в этом тонком деле лучше него?
Также и они, люди «следом идущей» фаланги (имя которым легион) находятся целиком и полностью во власти вышеуказанной закономерности: те, кто читает книги, стараются показать, что они разбираются в них лучше других, неудавшиеся донжуаны заводят семьи и вовсю разыгрывают роли хороших мужей и образцовых отцов, обыкновенные солдаты, если они не сумели стать сержантами, тотчас создают свою собственную и «неофициальную» иерархию, граждане исполняют свою профессию с тем же рвением, что и власть имущие, больные критикуют и меняют врачей, а своей болезни втайне приписывают значение, приблизительно равное значению для истории Пелопонесских войн, люди – неученые каким-то шестым чувством догадываются, что разного рода открытия ничего не меняют в общем и предвечном ходе вещей, так что стучать в домино на фоне самых главных и решающих событий жизни (таких как жизнь и смерть), или делать гениальные открытия, абсолютно одно и то же, и наконец, простые верующие только тем и занимаются, что спорят с другими верующими за право «обладать» истиной.
Итак, везде, всегда и на любом уровне идет ожесточенная и часто незаметная борьба за наиболее предпочтительную роль в жизни, – и вот те, кто сумели осуществить ее максимально тихим и безнасильственным образом, руководствуясь исключительно добрыми, идущими от сердца побуждениями, сорвали самый большой куш: им достался от судьбы наилучший жребий – роль безусловно «хорошего», а в исключительных случаях и «божественного» человека», – все это так, но кто посмеет утверждать, что люди, подобные Альберту Швейцеру или Махатме Ганди, не точно такие же в душе искатели приключений, как Магеллан или Наполеон?
Впрочем, чтобы осознать глубочайшее тождество жизни и игры, не нужно ходить так далеко за примерами, достаточно пристальней взглянуть на самые повседневные реалии, например, любопытно иной раз в общественном транспорте понаблюдать за молодыми людьми, живо общающимися с кем-то стоящими к вам спиной, – и вот задумываешься невольно, с кем же они говорят: с персоной одного или противоположного пола?
В сущности, если присмотреться повнимательней к выражению их глаз, ошибиться здесь невозможно: дело в том, что человек в жизни обязательно должен играть какую-то роль, будь то в плане исключительного назначения, профессии или даже просто родства, роль родства – отца, брата, сына или мужа – наиболее естественная из всех ролей, но тоже роль, а это значит, что в свои кульминационные моменты она не позволяет расслабиться, и требует некоторой подготовки: подыскать правильные слова и жесты, сохранить должное выражение лица, выдержать позу и тому подобное, – то есть повседневная жизнь становится самыми настоящими подмостками театра, как и утверждал Шекспир; в пределах же «сценария родства» самые динамические, сложные и непредсказуемые подчас роли принадлежат, безусловно, людям-актерам, связанным взаимно половыми отношениями.
Так что даже муж и жена, знающие по-человечески друг друга «насквозь и глубже», чтобы соблюсти достоинство своих едва ли не самых древних и «архетипных» ролей человечества, вынуждены думать, говорить, и поступать не так, или по крайней мере не совсем так, как они думали бы, говорили и поступали наедине, или в общении с особой одинакового пола: есть какая-то абсолютная раскованность в чертах лица и особенно во взгляде, которую ни с чем не спутаешь, – и вот она-то и позволяет безошибочно угадать, кто те стоящие к вам спиной инкогнито, с кем говорят молодые люди.
Такое ощущение, что, общаясь с особой одинакового пола, мужчина и женщина как бы ненадолго отдыхают от постоянно играемых ими «половых» ролей, – они похожи в этот момент на актера, который снял с себя грим и, став опять самим собой, начинает непринужденно болтать с каким-нибудь работником театра.
Еще раз о «голом короле». – Никогда мне не забыть одного актерского дебюта, как сейчас помню: в мае 197… года театральный кружок нашей школы поставил, наконец, «Гамлета», то есть только некоторые ключевые сцены, ибо всего Гамлета на школьной сцене сыграть невозможно.
Зачем? во-первых, чтобы добиться дополнительных субсидий от шефствовавшего над нашей школой номерного завода, во-вторых, чтобы подготовить юных энтузиастов ко вступительным экзаменам в наше славное Поволжское Театральное училище, в-третьих, чтобы приобщить возможно большее число школьников к бессмертной классической литературе, и в-четвертых, чтобы просто поразвлечь ребят, бывает же и такое.
Спектакль вышел на славу, даже пятиклашки, сидевшие в первых рядах, перестали болтать ногами, смотрели на сцену с раскрытыми ртами, а то и забывали растереть тайно вынутые из носов козюльки о тыльные стороны стульных ножек.
Но особенно всех потрясла знаменитая сцена, когда Гамлет сцепился врукопашную с Лаэртом в могиле Офелии.
Лаэрта у нас играл здоровенный детина с большим искривленным ртом, выпученными глазами, издевательски-умным взглядом и белобрысыми кудрями, у него была странная привычка без повода опускать голову на грудь и беззвучно смеяться, а если кто-то участливо спрашивал его, что с ним и не болеет ли он, детина предлагал ему послушать, «бьется ли еще его сердце», а когда сердобольный приятель прикладывался доверчиво к его груди, делал ему неожиданно «саечку», или стискивал больно громадными лапищами, или просто симулировал жест удара «под дых», и тогда тот испуганно отскакивал, словом, следовала всегда какая-нибудь «приятная неожиданность», а поскольку ребята снова и снова попадались на его трюки, он уверовал в собственный актерский талант, так что даже с учителями, когда они его отчитывали, позволял он себе иной раз с преувеличенным и театральным вниманием выслушивать их, поддакивая им чаще и охотней, чем того требовала ситуация, садясь же за парту после подобного «пропесочивания», он коротко поднимал руку, как бы для того, чтобы задать последний вопрос, но в тот момент, когда учитель обращался к нему, исполнял безнадежный жест, как бы говоря, что вопросов уже нет и быть не может.
Ну, а Гамлета играл тоже выпускник-десятиклассник, но по внешности и манерам совершенно ему противоположный: высокий и худощавый, всегда коротко подстриженный, на первый взгляд скромный, но втайне честолюбивый, этот парень старался смотреть на всех с одинаковым выражением лица: печальным и сочувствующим вместе, оно ему просто в себе больше всего нравилось, приятели считали его эгоистом и жадиной, он же упрямо сваливал все на обстоятельства жизни: отец, мол, ушел из семьи, и на его узкие плечи легли все тяготы жизни; самым удивительным в нем было его трогательное стремление преодолевать собственные слабости, – однако, опять-таки, преодоление это часто не шло дальше театрального жеста: бывало, если его просили занять на сосиски или коржик в школьном буфете, он доставал из кармана копеечную мелочь, тряс ею на ладони, а когда проситель удалялся с понимающим кивком головы, все-таки догонял его и совал в кулак тщательно припрятанную в штанах рублевку, стыдился, наверное, своих малых пороков, но не мог, а может втайне и не хотел их побороть, потому что уже видел, как они сами собой оформляются в его крошечный актерский «амплуа», – и оставалось только записаться в театральный кружок, что он и сделал.
В тот памятный день Лаэрт ткнул его тщательно затупленным концом деревянной рапиры сильнее обычного, наверное, хотел подшутить, он даже голову опустил по привычке на грудь, хотя исподтишка глаз не сводил с коллеги.
А тот, почувствовав болезненный удар в правый бок, вспомнил самостоятельно прочитанного толстовского Ивана Ильича, вспомнил, как у них сосед прошлой весной умер от рака, вспомнил часто плакавшую в последние годы мать, и, расслабленный и до глубины души «размягченный ролью», он стал думать, что удар смертелен, и что сам он скоро неизбежно умрет, у него даже слезы выступили на глазах, и он судорожно несколько раз сглотнул слюну, это было настолько неожиданно, но правдоподобно, что учительница литературы и она же ведущая театрального кружка, поднеся платок к лицу, дискретно кивнула ему, показывая, какой он прекрасный нашел жест.
И юный Гамлет, войдя в струю, хотел еще что-то показать от себя, чего не было у Шекспира и что может быть не хуже, а то и лучше дошло бы до наших провинциальных балбесов, он уже повернулся было к зрителям, полуоткрыв рот и с ужасов глядя в зал, – ну до шекспировских ли здесь слов, когда речь идет о жизни и смерти? – да как назло те же склочные пятиклашки, которым, наверное, стало скучно, возмущенно зашикали на него с первых рядов.
А ведь как же он был прав, этот наш незадачливый юный артист! он всего лишь хотел в своей игре вывести за скобки условность – сие необходимое условие любого искусства, и в то же время его вечную Ахиллесову пяту.
Но до чего же все это близко и понятно нам, искренним любителям искусства! ведь когда Гамлет узнает о том, что рапиры отравлены и понимает, что смерть его неизбежна, он продолжает говорить какие-то прекрасные и глубокие шекспировские слова, хотя, между нами и по-человечески, если забыть актера и оставить одного человека, он должен был бы замереть как вкопанный, и тогда по причине запредельности переживания в сферу мимики, слова и жеста, должно было выйти что-нибудь невразумительное, смазанное, несценическое, и в любом случае негениальное, – потому что человек в такие минуты попросту забывает о внешнем мире.
И быть может актер, который как следует вжился бы в состояние обреченного на близкую смерть героя, вжился бы так, точно он сам смертельно ранен, – да, быть может такой актер, отважившись на некоторое сознательное забвение внешнего мира и на вытекающую из него некоторую невразумительность сценического жеста, все-таки потряс бы зрителя новыми и доселе неиспробованными средствами выражения, – так или иначе… мешают слова Шекспира: их нужно произносить, хочешь того или не хочешь, а ведь есть ситуации в жизни, когда слова не нужны, вообще никакие слова, это, как правило, самые решающие, роковые, экзистенциальные ситуации, и таких ситуаций именно в «Гамлете» не счесть.
Мы имеем, таким образом, глубоко противоречивую ситуацию: с одной стороны, замысел Шекспира настолько глубок, настолько все действие пьесы скользит по грани между этим миром и потусторонним, и настолько само это скольжение подано правдоподобно, что буквально в каждый момент восприятия хочется остановить действие, чтобы как следует вдуматься в него и просто помолчать.
Да, эти малые промежутки шекспировской трагедии, во времени близкие секунде, а в пространстве напоминающие нутро иглы, – вот они-то и составляют внутреннее, метафизическое пространство «Гамлета», а также его внутреннюю, временную вечность, – вот в них-то и хочется окунуться, задержаться в них как можно дольше, но… мешают слова Шекспира, эти слова только и создают названные драгоценные промежутки, и они же не позволяют в них задержаться, каков парадокс!
И тем не менее, с другой стороны, если бы случилось невозможное, и мы бы упокоились в вышеописанном заветном промежутке, как в кресле… что получилось бы? увы! мы не постигли бы ни смерть, ни бездну, ни последние тайны бытия, словом, ничего из того, на что намекает «Гамлет», мы просто бы скатились в пустоту, рассеянность и бездумие, и быть может пожалели бы в конце концов о том, что оказались в промежутке.
Ведь прежде мы не могли в него попасть и думали, что в нем – все, а слова его только прикрывают, теперь же мы проникли в него и выползли назад – опустошенные и разочарованные, горько пожалев о том, что действие не шло равномерно своим ходом, и что не плелись искусно шекспировские слова над разного рода безднами, – мы пожалели о том, что лицом к лицу оказались перед тайной, чей лик нельзя видеть.
К счастью, это был всего лишь мысленный эксперимент, а действие пошло своим чередом, – и полились опять волшебные слова, подкрепляемые мастерской мимикой, и мы опять восхищаемся актерской игрой, и ничего, кроме восхищения, кричащего на тысячи ладов, не испытываем.
А где же тайны и бездны? они намертво застряли в словах, как мухи в паутине, неужели это так? выходит, что так, – и вот, вспоминая об этом наивном, растерянном, почти комическом и все-таки пытающемся искренне изобразить ужас предстоящей гибели взгляде нашего провинциального Гамлета и сравнивая его с игрой таких профессионалов, как Оливье или Смоктуновский, я лишний раз убеждаюсь в насквозь условной природе искусства и полной необязательности поклоняться ему.
Писательство и духовность. – Если некто, к примеру, стремится к абсолютному нравственному совершенству, но пребывает от рождения посреди многочисленной семьи, живущей мирскими идеалами, и каждый шаг такого человека вызывает только непонятное брожение в душах окружающих, недовольство и смуту меж семейных его, то это прежде всего бросает некоторую глубокую тень на идеалы самого стремящегося, – не то что бы они должны быть признаны неискренними или несуществующими, нет, зачем же преувеличивать? но нет в их сердцевине и в помине той тишины, покоя и гармонии, которые неотделимы от настоящего поиска истины, зато там есть бездна высокого, одухотворенного драматизма с неизбежным оттенком любопытства и смакования.
Такое случилось с поздним Львом Толстым, по этому поводу тибетские буддисты категорически замечают, что тот, кто вплотную приблизился к просветлению, рождается в соответствующей буддийской семье или хотя бы неподалеку от Мастера, а тот, кто оказался в семье, подобной толстовской, еще бесконечно далек от просветления.
Это не значит, что там нет духовности, напротив, во всем, что касается Льва Толстого, духовности хоть отбавляй, но это именно духовность, вызывающая драматическое возбуждение, восхищение, потрясение, а также эстетическое смакование по поводу возбуждения, восхищения и потрясения и плюс к тому сопутствующие смакованию тысячи побочных эмоций, коих общий знаменатель есть то не совсем здоровое любопытство, которое, увы! испытывают все без исключения страстные поклонники Льва Толстого.
Много ли это? мало ли? опять-таки все дело в сравнении: если сравнивать Толстого с другими мастерами слова, то очень много, если же сравнивать его с подлинными буддийскими мастерами, то очень мало: Лев Толстой был великим художником, им он и остался, даже отправившись в крестный поход на искусство.
Опять-таки все дело в перспективе, и я убежден, что не только писания Льва Толстого, но и финал его жизни никого из людей не сделал ни на чуточку лучше, в том числе и самого автора: искусство вообще не улучшает людей, это вопрос принципиальный, зато художественная завершенность толстовской жизни невероятная.
И как читали мы запоем «Войну и мир» или «Анну Каренину», так точно читаем мы с еще большим запоем историю ухода их автора из семьи и от мира, воспринимая его прежде всего как законченное эстетическое явление.
Да и не может быть подлинного нравственного преображения там, где за каждым шагом Учителя следит мировая пресса, стоит лишь задуматься: посреди российской глубинки стала разыгрываться драма шекспировского масштаба и на главного Героя ее направлены десятки прожекторов: ни один строгий взгляд в сторону из-под кустистых бровей не может уже ускользнуть от завороженного зрителя, слышен любой шепот и приглушенный кашель, все почтительно улавливается в первых рядах и добросовестно передается сидящим на задних и на галерке, а дальше тем, кто не попал на спектакль и толпится за дверью.
Нет, тут уже не до внутренней работы, которая всегда свершается наедине и в глубине души, тут не пропустить бы следующий акт: уйдет Герой от жены или не уйдет? а если уйдет, то куда? надо же, от всего своего прежнего творчества отрекся… а ведь твердо убежден был, что всех без исключения в нем превзошел, это значит – так вот просто отказался от того, к чему другие стремятся всю жизнь и более того, на создание чего уходит подготовительная работа целых поколений.
А можно ли этому до конца верить? вот в чем вопрос; ведь когда Франц Кафка перед смертью завещал своему другу Максу Броду сжечь все свои сочинения, я этому верю, как-никак предсмертное завещание, святое святых, Макс Брод мог это сделать, и никто бы его за это не осудил, – и исчезли бы в небытие рукописи, которые по своему художественному весу не уступают толстовским: да, быть может это единственный в мировой литературе автор, способный уравновесить Льва Толстого, потому как полная и во всех отношениях ему противоположность, но рукописи, как известно, не горят, – а может, действительно притаилась в толстовской сердцевине, как Кащеева игла, та самая «непрямота и неискренность», которую замечательно подметил в нем Владимир Соловьев?
Итак, я верю Кафке и не верю Толстому, ибо разные у них роли, а поступки и мотивы человека можно понять только тогда, когда угадаешь художественную специфику предназначенной ему в истории роли, которую сам исполнитель, конечно, чувствует безошибочно: Толстому важно было сыграть роль величайшего писателя плюс к тому равного Будде и Христу нравственного учителя, причем учитель шел по пятам писателя, как бы постепенно его поедая, питаясь его плотью и кровью, – гениальная по сути конфигурация.
Потому что естественная судьба художника – рано или поздно исписаться, то есть сказать все, что ему суждено было миру сказать, тут ничего нет зазорного, великий художник и должен исписаться, только графоман пишет бесконечно долго, – исписались и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Достоевский, и все, все, все, без единого исключения!
Исписался и Лев Толстой, но исписываясь он превращался не в мирного старца, мудрого философа и семьянина, нянчащего внуков, а в страстного проповедника, который выиграл и на вегетарианстве, и на благотворительной деятельности, и на разрушении Православия, и на распространении индуизма в России, и на подтачивании собственных семейных основ, – но едва ли не больше всего он выиграл на безоговорочном отрицании своего литературного наследия и художественного творчества вообще, причем вторая, учительская роль заложена была ему в колыбель точно так же, как и первая, писательская, – в виде беспощадного самоанализа, который и привел его туда, куда привел.
Хотим быть правильно понятыми: тут нет никакого умаления Льва Толстого, как можно вообще умалить такого человека? нам важно правильно понять его роль в жизни и истории, ибо роль – это все без какого-либо преувеличения, и роль человека в жизни, любая роль и любого человека, будучи, с одной стороны, делом абсолютно серьезным – ибо речь всегда идет о жизни и смерти – заключает в себе, с другой стороны, и порядочный элемент некоей предвечной экзистенциальной игры.
Ведь вся наша жизнь – игра, и смерть – тоже игра, но серьезней этой игры в мире ничего нет, вот в таком именно смысле и уход Льва Толстого из семьи был игрой, завещание же Фр. Кафки такой игрой не было, но что из этого следует, сам уже не знаю.
А доказательство здесь одно и гипотетическое: пусть каждый вообразит себе волшебную ситуацию – автор усилием воли в состоянии сделать все свои творения раз и навсегда несуществующими, пошел бы Лев Толстой на такой шаг? я думаю, что нет, а вот Кафка может быть и пошел, и этим все сказано.
И потому всякий раз, когда я всматриваюсь в маленькие колючие глаза этого величайшего прозаика мира, пытливой мыслью ввинчиваюсь в эти бесконечно знакомые серые буравчики, которые могли проникать в любую самую микроскопическую пору бытия, но могли и рассматривать мир как бы с орбиты космического корабля, когда я мысленно спрашиваю эти откровенно судящие глаза, как же можно судить людей и за что, оставаясь при этом мудрым мыслителем, – я задаю себе один и тот же тройной вопрос: можно ли по этим глазам судить о тайне личности Льва Толстого? или для этого нужно знать всю его биографию и все его творчество? или тайна личности великого человека остается всегда непостижимой, сколько бы до нее ни докапываться?
И вот что мне кажется: пока мы не убедимся, что нам никогда не будет дано решить окончательно, отрицал ли поздний Толстой искусство (в том числе и свое) вполне искренне или еще и потому, что он так или иначе все сказал (то есть исписался), а заодно таким путем входил в ранг духовных вождей человечества, то есть согласился ли бы он, если бы это было возможно каким-нибудь сказочным путем, сделать свое творчество задним числом несуществующим в сознании людей (как это завещал перед смертью Кафка) или все-таки бессмертный червь честолюбия тайно радовался и гомеровским достижениям в литературе, и писаниям достойным (или не достойным, как вы решите – читатель?) нового попутчика Будды, Сократа, Иисуса и Конфуция, – итак, пока мы не упремся в эту самую загадочную антиномию Льва Толстого, мы не поймем последнего, а упершись в нее, уже точно не поймем его, хотя, быть может, только теперь и поймем до конца.
Но в чем же это наше новое понимание должно выражаться? для начала в категорическом прекращении дальнейших поисков разгадки толстовской тайны: никакие его Дневники, никакие самые глубокие и тонкие замечания о нем людей, его близко знавших, никакие самые глубокомысленные филологические исследования не позволят уже узнать его глубже и доскональней, но все эти источники, которые живут своей жизнью и обязательно умножат наши знания об этом удивительном человеке, все же не решат изначальной антиномии, а значит и не устранят субстанциальную загадочность его личности: они, можно предположить, только обогатят ее новыми и неожиданными нюансами.
Ведь ясно и так, что каждый великий человек по-своему загадочен, то есть он снова и снова демонстрирует нам отсутствие своего душевного центра и тем самым обнаруживает решающую параллель между макрокосмом и микрокосмом, – как точно так же, впрочем, загадочен и любой другой человек, только его загадочность не до такой степени выразительна и часто требует микроскопа, чтобы вообще увидеть ее.
И вот самые проницательные глаза в мире, сверлящие нас с портрета, кажется, призваны разоблачить любую так охотно людьми сотворяемую тайну и развенчать любую столь боготворимую людьми мистику, но загадку собственной души они разгадать не в состоянии, потому что сами являются ее производной величиной.
Постскриптум. – Только с возрастом начинаешь понимать, что добро было для Льва Толстого тем самым «Архимедовым рычагом», с помощью которого он попытался религиозно, нравственно и художественно перевернуть мир: такую великую роль он себе задумал и такая великая роль была ему предназначена.
Все дело, таким образом, в том, чтобы исходить из роли, остальное приложится, а чисто по-человечески это можно и не заметить, но чисто по-человечески и понять Льва Толстого решительно невозможно.
Вот тогда-то и начинаешь смотреть на Льва Толстого – даже несмотря на его безотрадную публицистику и еще более безотрадную под конец семейную жизнь – примерно так, как должно быть смотрел по-своему равный Льву Толстому Франц Кафка на своих приятелей, когда, всеми силами подавляя тонкую улыбку на губах и лучистый смех в глазах, он читал им на какой-нибудь вечеринке свой «Процесс», который нам кажется почему-то самым мрачным шедевром мировой литературы.
От первого или от третьего лица? – Несмотря на то, что мы привыкли видеть и переживать мир от первого лица, – сколько здесь красок и звуков, мыслей и настроений, пластических образов и музыкальных нюансов, – все-таки самого главного, то есть характерного профиля собственной биографии, в таком ракурсе постичь нельзя, – его можно обрисовать только в перспективе третьего лица.
И если истинное самопознание свершается со стороны и как бы во время мысленного наблюдения за собой в зеркало, то существенное выражение собственного лица, вольно или невольно подмечаемое нами, становится верным и, главное, глубоко жизненным ориентиром нашего поведения, – в том смысле, что достаточно помнить о нем и всегда его по возможности придерживаться, а остальное приложится, потому что в каком-то смысле это и есть как бы лучшее и высшее в нас: тот священный изначальный дар природы или Бога, который ни в коем случае нельзя разменивать, – наш образ.
И когда под воздействием мелких и низших побуждений искажаются до безобразия черты нашего лица, мы имеем эстетический, а значит окончательный и не подлежащий обжалованию приговор нашим намерениям, и он выше и убедительней любой морали: здесь эстетика, как и везде, когда она не занята собой, но нацелена на живые и высшие ценности, вплотную смыкается с онтологией.
Если же черты лица, даже при вышеописанных эмоциях, не обезображиваются, значит человек и дальше может идти в этом направлении, значит, ему позволено в каком-то высшем и недоступном нашему пониманию смысле испытывать и злобу, и гнев, и зависть, и ревность, и мелочность: то есть опять-таки до определенного предела – и предел этот укажет ему его исказившееся до внятного и очевидного безобразия в один прекрасный момент лицо.
Но бывает и наоборот: когда какие-то завышенные намерения, например, заимствованные из формально и неглубоко понятой религии, тотчас выносят на лицо умиленно-слащавые и ложно-просветленные оттенки – это тоже верный знак того, что мы пошли по ложному пути, зачерпнули не из того духовного источника, который нам предназначен судьбой, – ведь когда пьешь живую воду, не может быть ничего ложного и притворного в лице, – и если принять вышеописанную философию «основного выражения лица» и систематически ее придерживаться, то, даже не найдя единственно истинного для нас пути, можно избежать множества соблазнительных и ложных, а это тоже кое-что да значит.
Так что в любом случае, приучившись смотреть на себя со стороны и от третьего лица, мы уподобляемся лайнеру, набирающему скорость на взлетной полосе, – и как лайнер незаметно отрывается от земли, так мы рано или поздно теряем биографическую нить, и хоть чуть-чуть, а переносим собственную биографию на вымышленный уровень, то есть осознаем, во-первых, что мы рождаемся, чтобы умереть: главный и общий для всех сюжет, во-вторых, мы рождаемся в определенном месте и в определенное время и точно так же умираем одним нам предопределенным образом: наш сюжет приобретает композиционные контуры, в-третьих, мы рождаемся с определенным характером и соответственно ему совершаем поступки, сходимся или расходимся с людьми, выбираем профессию: в нашем сюжете намечаются другие действующие лица, а также соответствующие коллизии, в-четвертых, соединение темперамента и характера, предопределяет наше отношение с женщинами, а потом – брак и семью: в большинстве случаев это сюжетный костяк человеческой биографии, и в-пятых, наши мысли и чувства создают почву для бесчисленных диалогов и монологов, так что, если выделить самые характерные из них, выйдет нечто вроде солидного наброска к ненаписанному роману.
Правда, справедливости ради нужно сказать, между жизнью и искусством разница принципиальная, поскольку природа их глубоко различная, – зато бытие, постоянно возникающее из недр жизни, почти уже ничем от искусства не отличается: в самом деле, что нам до чужого и выдуманного персонажа? ведь мы прекрасно знаем, что героя этого никогда не существовало на свете! может быть, он похож на нас? вряд ли, ни внешностью, ни характером, ни обстоятельствами – так уж распорядилось искусство, да и живет он зачастую в ином веке и в иной стране, однако он засел в нас, как заноза, и выходить не собирается, – как получилось, что выдуманный персонаж оказывается нам иной раз ближе многих живых людей?
Так и хочется предположить, что родственный нам художественный персонаж воплощает наши же собственные кармические качества: либо те, которые мы имели в прошлом, либо те, которые мы заполучим в будущем, – и вот эти качества залегают на такой (бессознательной) глубине, к которой повседневная жизнь не может даже прикоснуться, зато ее может задеть искусство, – потому что жизнь опять-таки всегда говорит от первого лица, и мы, живя этой жизнью, привыкли тоже говорить на ее языке.
Но есть и другой язык – язык от третьего лица и он же язык бытия и искусства, так вот, этот язык для нас не менее важен, и когда нам придется покинуть сцену жизни, итог нам подведет все-таки бытие: на языке искусства и обязательно от третьего лица, – жанров же здесь больше, чем достаточно: от надгробной эпитафии для самых простых людей до легенд и мифов, ходящих об иных знаменитых людях, – и даже если отбросить кармическую гипотезу, утверждающую глубочайшее родство всех живых существ, остается еще так называемое «метафизическое» родство между реально живущими или жившими людьми и людьми так или иначе выдуманными, – и родство это состоит в параллелизме бытия и художественного сюжета.
Сюжет нашей жизни. – На самых запоминающихся взглядах, как на гвоздях, висит сюжет нашей жизни.
Я никогда не забуду, как впервые увидел море; не забуду, как задумчиво смотрел годами в окна классных комнат во время уроков – и в этих взглядах, как насекомое в янтаре, увековечились все мои школьные годы; не забуду, как глядел на одни и те же то пыльные, то снежные, то дождливые улицы родного города сквозь немытые стекла трамваев и троллейбусов на протяжении детства и юности – и из этого странного, грустного, ненасытного смотрения тоже вышел характернейший отпечаток автобиографического времени в альбоме моей памяти; не забуду я никогда ни отчаянно-безнадежных взглядов первой влюбленности, ни пронзительно-доверчивых взглядов первой любви; не забуду я также взгляды моей матери: ласковые, почти заискивающие, ищущие сыновней любви, но вместо нее находящие просто общечеловеческую доброту, сочувствие, понимание; не забуду я и странно близкие и вместе странно чужие, наигранно веселые и холодноватые глаза отца и свои собственные, когда смотрел на него: тоже наигранные, тоже веселые и тоже в глубине безлюбовные; не забуду я и то, как всю жизнь мою любил с необычайно пристальным и страстным вниманием рассматривать повседневные мелочи: траву под ногами, переполненный мусорный ящик, витрину магазина, случайного прохожего, рекламу, пролетающую птицу, царапину на стене, высыхающую лужу и так далее и тому подобное.
Думаю, что не было в моей жизни такой пустяковины, которая бы не удостоилась внимательного и как бы увиденного «очами души» взгляда: того самого взгляда, который, согласно природе вещей, должен был бы оптически запечатывать только самые важные и решающие события жизни, – так как же получилось, что совершенно безразличные для человеческой биографии взгляды, коим поистине нет числа, ничем не уступят в скрытой, беспричинной и оттого еще более интенсивной пронзительности тем самым, сравненным с сюжетными гвоздями, взглядам?
Разгадка этого феномена лежит в художественной природе бытия в целом и человеческой жизни в частности: в каждой биографии есть действие и есть скрытая аура, окружающая действие, аура это зовется поэзией, и самые существенные наши взгляды как бы трансформируют действие в биографический сюжет, а все прочие, спонтанные и незначительные для сюжетного действия взгляды создают визуальный материал для поэтического восприятия жизни.
Действие вообще есть стержень любого произведения искусства, кто-то сказал, что в фильме должны быть начало, середина и конец – это сюжет и он должен состояться, хотя не обязательно в названном порядке, часто даже бывает, что сюжет рассказывается от конца к началу, но это не играет никакой роли, главное – чтобы сюжет был рассказан мастерски.
Также и у каждого из нас есть свой сюжет и он, увы! довольно банален – мы от рождения через зрелость идем к старости и уходим в смерть: таков в двух словах наш земной сюжет, но сколько же на него нанизано тончайших душевных настроений, сколько там музыкальных оттенков, сколько невысказанного, непонятного, мистического! вся человеческая поэзия, мистика и религия держится на этом простеньком сюжете, как на гвозде, – так история служила А. Дюма-отцу гвоздем, на которые он вешал свои блестящие романические замыслы.
Можно ли, пользуясь представившейся аналогией, сказать, что космос выдумал наиболее художественный сюжет для человека? а как же иначе? хотя на первый взгляд все выглядит несколько иначе: ведь посмертная жизнь открывает перед (умершим) человеком безграничные возможности: это, можно сказать, доказано, – ибо все, что происходит с умершими клинической смертью – а им открываются новые и невероятные измерения бытия – явно намекает на существование души, независимой от тела, мозг их не работает – неопровержимый факт, а душевная работа продолжается со сверхчеловеческой интенсивностью – тоже факт.
И вот если как следует вдуматься в то, какие тонкие и необъятные возможности астральной жизни приоткрываются перед умершими, хочется спросить себя: каково же тогда значение нашей земной жизни? почему являющийся сразу после смерти Свет так настойчиво внушает мысль о важности любви и знаний? ведь все мы кого-то и что-то любили, любим и всегда будем любить, но запас и способности нашей любви – подлинная любовь ведь идет от сердца и в самом буквальном смысле подобна поэтическому вдохновению – строго ограничены для каждого, и еще больше это касается наших знаний о мире: насколько же знания эти ограниченны, крошечны и противоречивы! но стремиться к ним, оказывается, все-таки надо.
Бесполезно подкапываться под Свет – это и есть своего рода божественный сюжет, человеку его не осилить, он иррационален: для тех, кто испытал клиническую смерть, не остается уже никаких сомнений в глубочайшей осмысленности бытия, – и пусть на их глазах землетрясение или цунами уносят в смерть тысячи людей, пусть падает с неба лайнер, пусть садист расправляется с ребенком и пусть где-то по-прежнему люди казнят невинных людей, – никто и ничто не в состоянии оспорить тот Свет и те Видения в сознании увидевшего их, – итак, земная жизнь идет своим путем, а посмертная действительность своим, они абсолютно разносюжетны, но и каким-то тайным образом взаимосвязаны, так что одни люди больше чувствуют разносюжетность, а другие взаимосвязанность: это дело всего лишь индивидуальной предрасположенности.
Однако общее ощущение таково, что тайная цель мироздания в том и заключалась, чтобы создать измерения совершенно несовместимые и вместе органически единые, то есть законченная в себе антиномия есть как бы даже венец мироздания, а поскольку человек суть воплощенная антиномия, постольку он и «венец творения»: здесь церковь кое-что угадала, просто она утверждает, что человек совершенен – и потому является венцом творения, на самом же деле он антиномичен – и по этой только причине заслуживает свой громкий титул, а будучи антиномичным, человек ровно в той же самой степени ничтожен, сколь и совершенен, – всего лишь элементарная логика, которая подтверждается жизнью буквально на каждом шагу.
Стоит только задуматься о собственных клетках и органах и о том, как зависит от них наше благосостояние: поистине мы ходим в жизни как по тонкому льду, малейшее отклонение на клеточном уровне – и человек получает страшные заболевания, а через них состояние ужаса, отчаяния и безнадежности: но в момент смерти опять – Свет, встреча с родственниками, полная осмысленность собственной жизни, астральные путешествия, а дальше – быть может новая инкарнация, быть может вечный астрал.
И всегда во всем некоторая неясность, точнее, неопределенность, которая происходит не оттого, что мы чего-то не знаем по слабости нашего человеческого разумения, а оттого, что такова, судя по всему, задумка самого космоса! складывается такое ощущение, что космос как бы сам до конца не знает, ждет ли человека астрал или инкарнация или еще что-то: человек скользит по грани антиномических возможностей бытия, и само бытие, в лице его сокровеннейших сознательных и созидательных сил, любуется этим скольжением, задумывается над ним, спрашивает себя, есть ли ему какая-либо лучшая – с художественной точки зрения – альтернатива, и само же себе отвечает, что нет и не может быть, – в конечном счете просто найдено оптимальное творческое решение.
Разумно поэтому допустить, что у космоса есть все и прежде всего любые представимые и непредставимые тонкие уровни сознания, но ему нужна антиномия – и такой единственной реальной антиномией является, как легко догадаться, что? – ну конечно же человек с его клеточной судьбой и простеньким житейским сюжетом: рождением, созреванием и смертью, – да, вот оно, то действие, на которое, как в романе, нанизывается бесконечное множество и очень тонких феноменов, наподобие наших субтильнейших душевных переживаний, и очень глобальных, каковы все главные события истории, – причем последние настолько многозначительны и самодовлеющи – наподобие «Легенды о Великом Инквизиторе», вставленной в роман «Братья Карамазовы» – что мы невольно забываем на время о первоосновном сюжете.
Но рано или поздно мы к нему возвращаемся, как возвращаются к (новой) жизни все те, кто видели Свет и хотели навсегда в нем упокоиться, только почему-то это упокоение совершенно невозможно! точно само видение Света есть какая-то невероятно мощная лирическая вставка в роман человеческой жизни, которая может быть упомянута один-единственный раз, а потом – жизнь опять идет своим чередом.
Вот почему нет никакой принципиальной разницы между взглядами влюбленных в момент объяснения в любви или объявления о разрыве и их же машинальными, все замечающими, но ничего не видящими взглядами, сопровождающими их путь домой после того самого только что упомянутого объяснения в любви или объявления о разрыве: они соотносятся как сюжет рассказа, который можно при желании передать в нескольких словах, к той остаточной массе произведения, которую нельзя изложить, не прочитав его с начала до конца, или – в нашем случае – не пережив самому, – потому что мы всегда являемся одновременно и персонажами того или иного спектакля, разыгрываемого на подмостках жизни, и его автором.
Заключительное оправдание. – В жизни каждого пишущего, не обязательно одаренного гением, зато с избытком наделенного стремлением «добраться до корня», рано или поздно наступает момент, когда он начинает думать, что только подсознательная вера в то, что каждая выкуренная сигарета, каждая опорожненная кружка пива, каждый завязанный разговор принесут запоздалые плоды и пусть неявно, но все-таки повлияют на будущую жизнь, позволяют относиться к ним с той слегка преувеличенной радостью, которую посторонние почему-то склонны воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
И примерно в то же время начинаешь все чаще, мучительней и интенсивней ощущать смешанный оттенок боли и жадности – нет, не при виде недоступной женщины – а во время размышлений над иным пережитым, что никогда и ни при каких условиях не может быть претворено в художественную субстанцию: ведь то обстоятельство, что наша жизнь есть непрестанно заполняемый черновик, где мы всегда что-то набрасываем, зачеркиваем и заново переделываем, причем настоящее удовлетворение испытываем только тогда, когда нам удается записать что-то важное и запоминающееся, в то время как дисгармония и ничтожество в оформлении собственного сюжета вызывают глубочайшее неудовлетворение жизнью, вплоть до срыва, депрессии и самоубийства, – итак, это очевидное, но не всеми сознаваемое обстоятельство косвенно подтверждается двойственным чувством особой, почти физической близости, и вместе непреодолимого, хотя по-своему одухотворенного отвращения, которое мы испытываем при пересмотре собственных интимных дневников, однажды прочитанных посторонним лицом.
Такова наша «тайная» жизнь, о которой никто, кроме нас, не знает, однако интимное еще не обязательно самое существенное, к нашему великому счастью: недаром ведь на одном только интимном и личном нельзя построить истинное искусство, – вот почему, наверное, когда в состоянии клинической смерти перед людьми проносится, как в кинопленке, вся их жизнь и во всех подробностях, они никогда не испытывают чувства стыда, во всяком случае полное отсутствие и следа духовной брезгливости в нашем рассеянно-сосредоточенном взгляде, когда мы вспоминаем даже о самых позорных наших мыслях и поступках, говорит о том, что в любых черновиках любой прожитой жизни всегда и без исключения залегают также проблески некоторой подлинной художественности.
Которая и оправдывает любую, даже самую неудавшуюся жизнь.
Вечный спор жанров. – Наша жизнь sub cpecie aeternitatis есть нескончаемый путь без цели, но как в любом пути есть множество промежуточных станций, так во всяком возрасте и во всякой ситуации у нас есть обязательно какая-то цель, и подобно тому, как, идя к еле видимой вдалеке полоске, соединяющей землю и небо, глаз видит в ней предельную для него оптически цель, но цель эта по мере прохождения пути отдаляется, и нет возможности устранить эту главную жизненную иллюзию, так мы в духовном плане движемся, ставя себе все новые и новые цели, причем одни цели рассчитаны на час, другие на день, третьи на год, а четвертые на всю жизнь, – и вот в зависимости от того, на какую цель мы внутренне настраиваемся, высчитывается коэффициент нашей мудрости: так, человек, живущий одним только нынешним днем, не может быть назван самым мудрым, потому что мудрость – это по меньшей мере настрой на целую жизнь, и только цель еще большего масштаба – на несколько жизней, во внутреннем пределе на бесконечное число жизней – вводит в игру иную и, по-видимому, предельную модель мудрости.
В самом деле, представление о том, что чем больше добра я делаю в этой жизни, тем добротней делается моя карма и тем дальше в бесконечные зоны будущего забрасывается смысловая петля моей жизни, хотя в один прекрасный момент знак деяния может поменяться с плюсового на минусовой, и тогда мне точно так же захочется совершать иные и противоположные поступки, и так поистине до бесконечности, – такое представление, безусловно, очень сложно, но где-то в самых последних глубинах души оно полностью нас убеждает, и только оно одно, между прочим, убеждает, – именно так, как убеждают поэзия Гомера или музыка Баха.
Итак, достаточно в позднем возрасте настраиваться не на приближающуюся смерть – что придает человеческой духовности и осмысленную драматическую ноту в связи с неизбежностью смерти, и эпический размах в опоре на прожитую жизнь, и лирическую остроту в плане осознания собственной неповторимости – а, скажем, на тот же возраст в следующей или послеследующей жизни, в какой бы индивидуальной оболочке мы ее ни переживали, как настрой наш существенно меняется по тональности: исчезают как по мановению волшебной палочки и лиризм, и драматизм земной жизни, а то, что остается – эпический настрой – изрядно смазывается досадным ощущением, что приходится каждый вечер ходить на один и тот же спектакль, стараясь переживать его как в первый раз.
Потому и настрой наш на настоящую, строго ограниченную рождением и смертью, жизнь куда более для нас естественен и органичен, и цель как можно лучше оформить ее более нам понятна и доступна: в конце концов вся философия и все искусство так или иначе направлены на эту цель и служат ей, – и все-таки прямо пропорционально соотношению цели к длине проходимого пути стоят перед нами, подобно верным часовым, проверенные и испытанные временем и обстоятельствами, главные жанры искусства: сначала лирика, потом рассказ, затем драма и роман, и наконец эпопея, – это еще и иерархия дыхания: от самого прерывистого и короткого к самому плавному и долгому.
Как лирика соединяет все со всем, но произвольно и разрозненно, и потому нуждается в ритме и рифме, чтобы, подобно гомеровским сиренам, убедить, а точнее, заворожить нас музыкой странного, разнородного, всегда чарующего и всегда сомнительного космического всеединства, так проза занимается исключительно взаимопроникновением духовной сферы человека с психологическим и житейским уровнями, – то есть априорная и невероятно свободная связь человеческой души с космосом, а тем более с невидимыми, но отнюдь не менее значимыми его реалиями (каковы боги или посмертная жизнь), прозой не принимается на веру, как это имеет место в лирике, но поверяется самым строгим и скрупулезным психологическим анализом, – так что когда поэт говорит очень громкие, очень красивые и очень таинственные слова о своей связи с богом или со смертью, прозаик пытается понять, что жизнь с этим поэтом сделала – или чего не сделала – после чего он заговорил такими словами.
Иными словами, приходится предположить онтологическое неравновесие жанров искусства, то есть один жанр на таинственных Весах бытия весит больше, чем другой: например, жанр прозы все-таки значительно глубже и правдивей свидетельствует о природе человека, нежели жанр поэзии, – и вот последняя, точно чувствуя эту свою Ахиллесову пяту разглагольствования о чем угодно, но только не о том, что есть человек и мир на самом деле, поэзия, как бы уже неся смертельную рану в сердце, которую еще пока не замечают другие, но сама она остро ощущает и невыносимо от нее страдает, – итак, поэзия, отчаянно пытаясь обмануть себя и других, заранее и категорически утверждает, что говорит она только о вечном и только языком богов.
Действительно, внутренний мир лирики настолько богат, настолько оригинальны и обильны соотношения человеческих чувств с космическими реалиями, что она, лирика, бросает серьезный вызов прозе с ее принципиально обыденным строем речи и мышления, – лирика говорит: я не нуждаюсь в ограничениях внешности, манер, характера и биографии человека и мне поэтому не нужно описывать его, как он есть в повседневности, но я сразу, минуя все эти скучные описания, прорываюсь к таким духовным наитиям и ассоциациям, которые совершенно невозможны в живой и привычной жизни.
Проза же ей возражает: да, действительно, были, есть и будут люди, которые любят выдумывать строчки с особыми рифмами и ритмами, среди них встречаются исключительно талантливые люди, но даже писания самых талантливых людей, если посмотреть на них с лермонтовским «холодным вниманьем», не говоря уже о том, что они обычно ничего не дают ни уму, ни сердцу обыкновенного и не испорченного стихами человека, потому что такова уж главная особенность поэзии как жанра, но они, эти писания, и в этом вся суть! очень часто не в состоянии даже как следует охарактеризовать самого их автора, и в качестве доказательства, – продолжает проза, – вот вам, пожалуйста, пара характерных эпизодов, первый эпизод.
Об одном знаменитом поэте Серебряного века его не менее знаменитый коллега сказал так: «Он кощунствовал и славословил, проклинал и благословлял, воспевал грех и святость, был жесток и добр, призывал смерть и наслаждался жизнью. Ничто у него ничем не вытеснялось, противоречия в нем уживались мирно, потому что сама наличность их была частью его мировоззрения. Свою жизнь, которая кончилась 5 декабря 1927 года, он почитал не первой и не последней. Она казалась ему звеном в нескончаемой цепи преображений. Меняются личины, но под ними вечно сохраняется неизменное Я: «Ибо все и во всем – Я, и только Я, и нет иного, и не было и не будет».
«Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожделенные».
«В процессе этого нескончаемого восхождения Я созидает миры видимые и невидимые: вещи, явления, понятия, добро и зло, Бога и дьявола».
«И добро, и зло, и Бог, и дьявол – только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе. Временная жизнь, цикл переживаний, кончается столь же временной смертью – переходом к новому циклу».
Этот человек издал десятки лирических книг, он вошел в историю русской поэзии, – но ведь слова лгут и не могут не лгать, такова уж их болтливая природа, а тем более у поэтов, выпустивших десятки сборников: ну, может ли один отдельно взятый человек написать больше одной книги хороших стихов?
Итак, слова там и тогда говорят правду, где и когда они в полной мере соответствуют жизни автора и его характеру, иначе говоря, если между личностью и судьбой человека с одной стороны, и словом о них с другой, нельзя просунуть и бумажного листа, – да, вот тогда слово хорошо, и даже необходимо, – но это, как правило, уже прозаическое, а не поэтическое слово.
В случае нашей поэтической знаменитости таким скупым словом несомненно является рассказ о трагической гибели его жены: отчаявшись получить разрешение на выезд за границу, она бросилась в 1921 году в Неву с Тучкова моста, ее тело было найдено семь с половиной месяцев спустя, а ее муж до последнего надеялся, что это была другая женщина, и жена его где-нибудь скрывается, – поэтому «к обеду он ставил на стол лишний прибор – на случай, если она вернется».
А еще более скупым, но отнюдь не менее выразительным штрихом к его портрету является меткое наблюдение над весьма своеобразным взглядом поэта: «Они полузакрыты, – сообщает коллега по перу о его глазах, – когда он их открывает, их выражение можно бы передать вопросом: «А вы все еще существуете?».
И второй эпизод. – Один очень известный русский поэт письмом к правительству освободил из ссылки другого и еще более известного поэта, не обязательно русского, а плюс к тому, когда тот оказался в Америке, другим письмом в престижный колледж, где у него были связи, помог ему там получить преподавательскую вакансию; когда же он сам захотел там ненадолго устроиться, тот поэт, которого он устроил, написал тоже письмо, но уже в правительственные американские круги, где утверждал, что у русского поэта глубоко антиамериканский настрой, и что давать ему работу в колледже никак нельзя и тот, естественно, желаемого места не получил.
Тем самым жанр прозы – в лице их переписки, интервью и комментариев – утверждает, что вышедшая на свет божий из глубин души странная смесь неблагодарности, клеветы, а скорее всего лишь глубочайшего недоразумения и взаимного отчуждения в отношениях между обоими поэтами, проливает куда больше света на личность и внутренний мир того самого сверх меры талантливого и не обязательно русского поэта, чем все его стихи вместе взятые, – и дело тут не в морали, а в элементарной многомерности и психологической сложности нашего поэта, от которой его же собственные стихи только подальше уводят, тогда как эпизоды, подобные вышеприведенному, единственно приближают.
Вообще же, эта колоритная деталь, достойная толстовского пера, ставит все точки над i, она восстанавливает искомое соотношение вещей, потому что не стихи будут влиять в конечном счете на кармическую судьбу их автора – обратите внимание, что нам никогда не снятся наши творческие детища! – а подобные характерные черты его личности, и всматриваясь в фотографии того, пожалуй, самого знаменитого поэта прошлого века, в его по-актерски нейтральные и в тоже время очень выразительные глаза, я склонен забывать все его великие, но ровным счетом ничего не дающие уму и сердцу стихи, зато никогда уже не забуду этот характерный эпизод из его биографии.
Вот что значит превосходство жанра.
Бег на месте. – Идеалы и мечты нужны, они открывают новые пути, пути ведут к целям, цели рано или поздно обнаруживают свою несостоятельность, возникает чувство разочарования и усталости, но сожаления насчет пройденного пути нет, все было правильно: и путь был пройден, и разочарование от пройденного пути обретено, – жизнь, значит, была прожита не напрасно.
И вот это мучительное, освобождающее, и горькое, и сладкое одновременно ощущение опорожняемой по капле чаши жизни вместе с безошибочным предчувствием, что ничего взамен утекающей жизни не будет и не могло быть достигнуто, а все-таки опыт ненужности любого опыта был чрезвычайно важен и его нужно почему-то делать снова и снова, – оно, это слитное сопереживание, и составляет содержание той паузы во взгляде, когда мы, собираясь умственно отдохнуть перед принятием какого-то особенно важного решения, вдруг ясно осознаем, что оно, это решение, приведет лишь к написанию еще одной страницы биографии, которую нам самим, быть может, никогда не захочется читать и перечитывать, – и все-таки она должна быть написана.
Отнюдь не опрометчичивое допущение. – Жизнь в сокровенной сути своей настолько легка, тиха и ненавязчива, настолько она ко всему старается прикоснуться без того, чтобы пытаться проникнуть вовнутрь – этим занимаются иные сокрытые в ее лоне силы и субстанции, коих предостаточно – и настолько она напоминает свет и воздух, тоже склонных пронизывать плотные и темные вещи мира сего, не привязываясь к ним, что, собственно, страданию в ней… места нет и быть не может.
Это мы уже, люди, животные, духи и прочие живые существа, не довольствуясь легким дыханием жизни и идя навстречу собственному приключенческому инстинкту, подобно корню питающему все прочие наши инстинкты, отыскиваем в жизни как в нейтральном поле чистых возможностей все более глубокие, извилистые и потаенные ходы – и вот уже в них и только в них, подобно кентаврам, обитают демоны страдания.
Взять, например, хотя бы привязанность, сопровождающую как тень любовь, – разве она не есть своего рода подземный туннель, уводящий нас от светоносной периферии в сумрачный центр, но как жить без любви? и как жить любви без привязанности? ясно, что любовь суть один из основных сюжетов жизни.
Итак, опять сюжет… однако ведь именно сюжет, практически любой сюжет как раз и привносит в нашу жизнь страдание… да, привносит, но и одновременно трансформирует его в нечто такое, что уже не есть страдание… а что же тогда?
Я думаю, что каждый, кому приходилось хотя бы раз по совести и всем существом своим осмыслить и подытожить пережитое страдание, имел странное чувство, будто он поначалу страдал воистину и страшно, как живой человек, но потом, когда страдание ушло (и тем более когда сама жизнь подходит к концу), его страдание уподобилось по субстанции страданию какого-нибудь литературного персонажа.
А такое страдание, как известно, воспринимается уже совершенно иначе… его можно принимать снова и снова и даже полюбить его, даже слиться с ним, даже не мыслить себя без него… а это уже, как хотите, может и должно иметь глубочайшие кармические последствия.
Например, если Некто, по роду своей деятельности ознакомившись с книгой вашей Кармы, предложит вам на выбор (тоже выполняя возложенное на него космическое поручение) несколько вариантов последующей жизни и в каждой из них будет свое страдание и даже порядочное, вы спокойно и без колебаний выберете то из них, которое более всего отвечает вашей внутренней природе: страдание вас вовсе не страшит, потому что в решающую минуту выбора вы воспринимаете его в аспекте его же глубочайшей художественной природы, – не так ли вращается вечное Колесо реинкарнации? думается, что именно так.
Магия перспективы. – Следует предположить, что афинский Акрополь, картины Леонардо, музыка Баха или Моцарта в свое время не казались современникам настолько гениальными, как нам, то есть все эти феномены были, конечно, по достоинству оценены, но до такой степени превозносимы современниками, как спустя определенное время потомками, они уж точно не были, и вот встает закономерный вопрос: были ли они и «на самом деле» тогда столь же гениальными, как теперь, или само время создало их гениальность, – и как же нам ответить на этот вопрос? и можно ли на него вообще ответить? а ведь он не так глуп, как кажется.
Сходным образом следует полагать, что все, чего мы достигли или не достигли в этой жизни, не могло быть достигнуто или не достигнуто в любой из так называемых прошедших жизней и не будет достигнуто или не достигнуто в каких бы то ни было будущих жизнях, однако мы живем так, как будто все, что мы делаем, думаем и чувствуем, может иметь последствия на наши последующие воплощения, а стало быть могло быть обусловлено нашими прежними существованиями, – иными словами, все законченно и незаконченно одновременно: законченно, потому что свершилось во времени и пространстве, и незаконченно, потому что продолжает осмысляться, а значит и переоформляться в сознании, так что и детство наше, строго говоря, заканчивается не юностью, а смертью, потому что лишь со смертью прекращается процесс осознания детства.
Если же пойти еще дальше и вообразить себе, что возможно осмысливать прожитую жизнь, находясь в ином измерении или спустя сотни лет, припомнив, скажем, реинкарнацию – подобные случаи ведь есть и зафиксированы документально – то это уже будет прямая параллель осознания своей жизни с чтением книги: любопытно здесь то, что подобной возможностью обычно не пользуются, но ведь редко кто перечитывает и классический шедевр, – всем как будто достаточно молчаливого признания непреходящего достоинства жизни: именно по образу и подобию классического шедевра.
Правда и поэзия
I. – Когда я читаю старую немецкую балладу, где мать спрашивает свою дочь Марию, почему та задержалась допоздна, и дочь рассказывает, что ее потчевала рыбкой некая старуха, а ту рыбку она поймала в огороде «палкой и прутом», объедки рыбы скормили черной собачке, отчего собачку разорвало «на тысячу клочьев», и на последний вопрос матери, где ей постелить, дочь отвечает: «на кладбище будешь стлать мне постельку», – итак, когда я читаю эту простонародную балладу буквально из двадцати восьми строк, мурашки невольно бегут по телу: с какой стати Мария забрела к бабке-змееварке? какие отношения их связывали? мстила ли старуха девушке за что-то или просто продемонстрировала свою колдовскую силу? и почему девушка – а может, даже девочка! – сознавая нечистоту кушанья, принимала его? все эти вопросы как будто умышленно оставлены без ответа, и складывается впечатление, что история эта не выдумана, а на скорую руку записана по живым пахучим следам недавно и неподалеку свершившегося ведьминского процесса, где какую-нибудь странную и быть может тронутую умом старуху, жившую на окраине деревни, приговорили к смерти за предполагаемое колдовство по обвинению какой-нибудь добропорядочной поселянки, чья дочь Мария отравилась непонятным образом… но странная вещь! если бы всю эту жуткую запутанную историю мастерски изложить в соответствующем ей жанре – каком именно? впрочем, это нас не касается – то полутемный свет искусства, забрезживший от неизбежного и равномерного освещения всех ее сюжетных изгибов, быть может только ослабил бы общее впечатление от нее, вместо того чтобы его усилить: да наверняка так и было бы, потому что именно по части общего впечатления эта крошечная вещица ничем не уступит даже гетевскому «Фаусту».
II. – Сходным образом, когда я узнаю о знаменитом нюрнбергском палаче «мастере Франце», лишенном, как и все палачи, по причине профессии гражданской чести, но восстановленном в ней в 1624 году австрийским императором Фердинандом Вторым, умершем 13 июня 1634 года и казнившем за свою долгую восьмидесятилетнюю жизнь четыреста человек, причем он был по тем временам вполне порядочным человеком: не прикладывался к алкоголю, прилежно ходил в церковь, уважал законы и даже, будучи параллельно врачом и целителем, излечил по собственным словам полторы тысячи человек, – итак, когда я читаю краткую биографическую справку об этом реально жившем человеке, длинная галерея персонажей мировой литературы и не в последнюю очередь сам доктор Фауст, поскольку речь уже зашла о немцах, как-то незаметно бледнеет на его фоне: в том смысле, что резкая, темная, беспросветная тайна жизни все-таки осиливает в конечном счете прозрачную тайну искусства, – но разве не сказано как будто специально по этому поводу, что «не в силе Бог, а в правде?»: конечно, все мы привыкли к тому, что правда по природе своей скорее светлая, чем темная, но это, может быть, всего лишь привычка, которая ровным счетом ни о чем не говорит.
III. – И наконец когда я, давая волю воображению, говорю, что у меня была старшая сестра, которая больше всего на свете любила сказки, и не только любила, но и свято верила в них; говорю, что однажды в излюбленном ею томике Гауфа появилась откуда ни возьмись иллюстрация к несуществующей в книге сказке, изображавшая пестро разодетых гномов посреди нашей детской комнаты! мало того, там был нарисован и я сам, бросающий книгой в переднего и на редкость противного гнома (приплюснутая громадная голова под загнутой на старинный голландский манер широкополой шляпой, коротенькие толстые ножки обуты в сапожки с ботфортами, из-под холщового плаща торчат шпага и пороховой пистолет, лицо обросло черной щетиной, а маленькие глазки так и стреляют мстительным торжеством); говорю, далее, что поразительным образом в следующую ночь в нашей детской комнате разыгралась воочию сцена, изображенная на иллюстрации: я в гневе за наглое вмешательство в нашу жизнь запустил книгой в гнома-вожака, и тот, потирая ушибленную голову и ковыляя к спасительной дыре в углу комнаты, злобно погрозил мне напоследок кулаком, пообещав отомстить; говорю, что действительно в той памятной сестринской книге очень скоро обнаружилась следующая невиданная картинка, изображавшая на этот раз суд надо мной гномов, где председательствовал сам их молодой красивый король в горностаевой мантии с очень внимательным и насмешливым взглядом, в руке у него была тонкая хрустальная трость, и он за обиду своего подданного приговорил меня к превращению в гнома; говорю, что в следующую ночь все случилось точь-в-точь как на картинке, и юный король готов был уже привести приговор в исполнение, коснувшись меня своей волшебной тростью, как вдруг вмешалась моя сестра, она упала перед ним на колени, и стала просить его о том, чтобы гномы забрали в свое царство ее вместо меня, тем более, что она по натуре своей всегда предпочитала сказочную действительность повседневной; говорю в заключение, что король уважил ее просьбу, и моя старшая сестра раз и навсегда исчезла из моей жизни, – итак, когда я говорю обо всем этом, я хочу, наверное, выразить при помощи фантастических образов нечто невыразимое, хотя и бесконечно более простое, а именно: моя сестра умерла в возрасте двух месяцев от скарлатины, когда я еще не родился на свет, но потом, в позднем возрасте и после рассказов моей матери о моей старшей и не прожившей жизнь сестре, мне часто стали сниться какие-то непонятные сказочные существа, похожие на гномов и, как это часто бывает во сне, я имел не раз твердую уверенность, что один из этих страшных гномов – моя сестра.
Рыцарь великого недоумения. – Если антология персонажей мировой литературы есть в некотором роде резервуар основных бытийственных ролей человека – что-то вроде бессознательного коллективного хранилища, но именно в художественно продуманном его варианте – то это значит, что не только в литературных образах узнаем мы себя, как в зеркале, но и наоборот, исходя из опыта повседневной и исторической жизни только и можно понять до конца того или иного всемирно известного героя, который сам по себе, в контексте вымышленного времени и пространства, представляется нам, выражаясь громкими словами, загадочным, а говоря попросту, не вполне понятным, причем выражается это часто в том, что произведение искусства, зарекомендовав себя как классическое, никому по сути не интересно, его нельзя читать не подавляя зевок, и его приходится прославлять, чтобы хоть как-то от него отделаться, – но так не должно и так не может быть, если речь идет о подлинном художественном шедевре, иными словами и в который раз: классика просто не может быть скучной.
Между тем Симон Боливар утверждал, что сервантовский Дон-Кихот есть самый скучный персонаж во всей мировой литературе, и даже Достоевский, считавший Дон-Кихота уникальным воплощением абсолютно положительного образа, а значит, единственным предшественником князя Мышкина, не в состоянии его вполне опровергнуть, так как и мы, простые смертные, в числе бесконечно множественном, воплощая тем самым Читателя как такового, не можем читать Дон-Кихота, получая от этого хоть какое-то эстетическое наслаждение, – да, профессора от литературы это могут, Достоевский как заинтересованное лицо тоже мог, но мы не можем, мы на стороне Симона Боливара, – и судьба одного совершенно необычного человека, сделавшего свою жизнь под Дон-Кихота, показывает, почему это так, а не иначе.
В ноябре 1975 года некий Валерий Саблин, будучи политруком противолодочного крейсера «Сторожевой», осуществил на корабле бескровный бунт, капитана заперли в каюте, а сам Саблин принял командование кораблем, – дальше экипажу был показан «Броненосец Потемкин», и был упомянут, конечно, подвиг лейтенанта Шмидта, а затем «Сторожевой» из Рижского порта отправился не заграницу, а… в Ленинград, чтобы, там, став подле крейсера «Аврора», начать систематические воззвания к брежневскому правительству с целью тотального и мирного оздоровления политического климата в стране.
Валерий Саблин потребовал от советских властей, во-первых, полнейшей неприкосновенности и снабжения экипажа питанием во всех портах, куда заходил бы «Сторожевой», во-вторых, предоставления ему возможности ежедневно полчаса обращаться к народу по телевидению сразу после программы «Время», и в-третьих, права на выпуск собственной независимой газеты, и все это на полном серьезе, – допускал ли он вообще возможность приказа о скорейшем уничтожении его корабля, что и сделал Брежнев? как будто нет, а ведь этот человек был вполне от «мира сего»: имел семью, хороших друзей, его ценило начальство, он сделал неплохую карьеру, его никто не притеснял, Саблин даже закончил Высшую военно-политическую Академию им. Фрунзе… но для чего? чтобы досконально ознакомиться со структурами власти, прежде чем начать борьбу с нею – для каждого, знакомого с советской действительностью, здесь напрашивается одно-единственное сравнение с тем самым «рыцарем печального образа».
Буквально в ту же ночь, кажется, 9 ноября, «Сторожевого» атаковали как с воздуха, так и с моря, первая же ракета вывела из строя двигатели, корабль стал медленно кружить на месте, шокированный экипаж сдался, капитана выпустили, он тут же выстрелил Саблину в ногу (а хотел поначалу в печень!), вскоре начался закрытый суд, который продолжался около восьми месяцев, сообщников Саблина не нашли, он действовал в одиночку и это порядочно обескуражило следствие, – в августе следующего 1976 года Саблина расстреляли.
Выяснилось, что в следственном изоляторе он делал зарисовки Дон-Кихота, воюющего с ветряными мельницами, а в последнем письме к сыну, объясняя свой феноменальный поступок, прямо сослался на горьковского Данко, вырвавшего сердце, чтобы осветить им во мраке путь для людей, – нет, какова все-таки осознанность собственной судьбы! его не поняли ни жена, ни брат, ни сын, ни друзья, ни весь советский народ, ради которого он старался, – никто, за исключением, быть может, матросов с броненосца «Потемкин», лейтенанта Шмидта, Дон-Кихота и Данко, то есть личностей либо давно умерших, либо вовсе вымышленных, ибо только они могли (бы) понять его до конца, и только для них по сути Саблин и старался, хотя внешне и по видимости Валерий Саблин вел себя так, как будто хотел что-то сделать для народа, – вот оно, фактическое доказательство вещих слов Андрея Синявского о том, что «литература важнее жизни».
И как судьба Валерия Саблина, помимо искреннего человеческого сочувствия, вызывает, после долгого и внимательного размышления о ней, чувство глубочайшего и, не побоюсь этого эпитета, великого Недоумения, Недоумения с большой буквы, Недоумения в самом лучшем значении этого слова, – так точно и образ Дон-Кихота, на который равнялся Саблин и с которым ощущал себя в непонятном, загадочном родстве, является тоже идеальным воплощением какого-то великого и, безусловно, сверхчеловеческого Недоумения, потому что в нем, этом образе, присутствуют все признаки бессмертной классической литературы, за исключением одного и, пожалуй, самого главного: магнетизма читательского притяжения.
Быть может, если бы Дон-Кихот умер в конце романа насильственной смертью, как Валерий Саблин, и из масштабной пародии на рыцарский роман выпестовалось бы эпическое странствие с трагическим финалом, Недоумение бы рассеялось, и мы читали бы Дон-Кихота, не в силах от него оторваться, – может быть, но к чему гадать на кофейной гуще? вместо этого приходится допустить, что великое Недоумение есть тоже своего рода космическая реальность, которая, как и любая (потенциально) живая бесплотная сущность, страстно ищет своего земного воплощения.
А иногда, если повезет, даже находит.
На какие мысли наводит иногда знакомство с бывшим белоэмигрантом. – Поистине только та классика вечно жива, а значит бессмертна, которая снова и снова, вдруг и помимо воли вмешивается в нашу жизнь на правах святой повседневности, заставляя нас не только считаться с нею – это бы еще полбеды! – но прямо передавать под ее молчаливое смысловое покровительство целые куски современной и на первый взгляд никакого к ней (классике) отношения не имеющей жизни, – я вспоминаю в этой связи одного восьмидесятилетнего бодрого (тогда, конечно) грузина с классическим орлиным профилем: он охотно и регулярно приглашал нас в гости начиная с 1978 года, когда мы только что приехали в Мюнхен, – зато в знак благодарности мы должны были выслушивать его трехчасовые монологи – нет, серьезно, он мог не переставая говорить день и ночь! – в которых его центральная роль в многострадальной русской эмиграции цементировалась как кирпич в середине стены, – при этом он буквально в каждой речи не оставлял камня на камне от другого своего русского эмигранта-сверстника, который, тоже покинув Россию в двадцатых годах, дослужился до чина подполковника американской армии: конфронтация между ними напоминала долгую и упорную схватку гомеровских героев, – и это неудивительно, потому что наш хлебосольный хозяин всю жизнь свою после белогвардейского Исхода прожил в Германии, держал ресторан в Берлине, в том числе и во времена Третьего Рейха, а это значило, что он неизбежно должен был так или иначе сотрудничать с гестапо – иной вариант попросту невозможен – и тогда ставка на американцев его заклятого противника по многочисленным жарким дискуссиям в Толстовской Библиотеке, что располагается и по сей день на Тирштрассе в доме и, означала категорическое отрицание всего его жизненного пути, и наоборот, начавшееся после войны противостояние России и Америки в некотором смысле бросало тень на всякого, кто так или иначе «лег» под американцев – так что именно по этой причине мы никогда не могли узнать ничего путного ни о его подвигах в Белой армии, ни о трудной германской жизни посреди грянувшего мирового экономического кризиса, ни о драгоценных деталях гитлеровского владычества, ни о великой войне, ни о послевоенном времени, ни о его многолетнем и бездетном браке с еврейкой-переводчицей, ни даже о том, что же он, собственно, делал на протяжении всего столь богатого судьбоносными событиями двадцатого века, – все заслонило напрочь гомеровское противоборство с человеком, выбравшим иной жизненный путь, а точнее, с историческим героем, которому боги истории предназначили примкнуть к иному политическому лагерю.
И все-таки я как большой любитель Гомера ничуть не жалею о безвозвратно потерянной документальной и, очевидно, колоссальной по масштабу информации: разве не сказал наш самый великий филолог – говорю это без какой-либо иронии – что литература важнее жизни?
Критическая точка в соприкосновении этики и эстетики. – Сюжетно-художественная подоснова человеческой этики наиболее отчетливо и выпукло выступает на уголовном уровне: когда совершено особенно тяжкое преступление, читай – убийство, решающую роль не столько даже в определении меры наказания, сколько, главное, в самом нашем скромном, частном и сугубо человеческом суде над преступником играют обстоятельства совершения преступления, и каждая деталь здесь буквально на вес золота.
Поистине как в умелом рассказе действие должно быть всесторонне и художественно обосновано, так в преступлении тем больше понимания и сочувствия находит убийца, чем весомей его мотивировка поступка, – недаром в криминальных романах и фильмах человек, который убил злостного насильника или садиста-убийцу, не просто не-преступник, но настоящий герой; правда, общество так далеко пойти не может, но все-таки и ему следовало бы четко различать, скажем, между насильником-убийцей малолетних детей, и грабителем банка, который, скрываясь с деньгами, машинально или обороняясь уложил полицейского.
И действительно, статистически средний нормальный психически здоровый человек проводит принципиальную разницу между ними: в конце концов грабитель убил того, кто несомненно убил бы его самого, если бы успел, да и деньги, которые он награбил, по совести, заработаны банком тоже не совсем честным путем, плюс к тому неординарная, пусть и не пошедшая на благо общества отвага, необходимая для схватки со всем полицейским аппаратом страны, стоящим на страже банков, – короче говоря, грабитель банка нами внутренне и по крайней мере процентов на семьдесят оправдан, и оправдание это несет в той же мере этический, в какой и эстетический характер, причем в этом сложном деле для нас важны именно подробности, так сказать, художественные детали: если бандит, выбегая из банка, застрелил бы на «всякий случай» еще и женщину с детьми, отношение к нему у нас кардинально бы изменилось, и тогда ни о каком нравственном оправдании не было бы и речи.
В сущности, отношение к людям, преступающим закон, в криминальных романах и фильмах мы один к одному переносим на жизнь, и неизвестно еще, кто больше прав: мы, давным-давно отождествившие этику и эстетику уголовного преступления, или государство, которое попросту мстит грабителям банков, наказывая их подчас строже, нежели садистов и насильников над детьми, – и потому, к примеру, в нашем внутреннем, идущем от сердца и потому максимально справедливом осуждении или оправдании знаменитого нашумевшего убийства осетином Виталием Калоевым немецкого лоцмана, по недосмотру коего 1 июля 2002 года разбился самолет, на борту которого были 49 детей, в том числе жена и двое детей самого Калоева, тоже решающую роль играют подробности и еще раз подробности, а точнее, одна-единственная подробность и вот какая: постучавшись 24 февраля 2004 года в дверь лоцмана, проживавшего в пригороде Цюриха, зарезал ли его Калоев сразу и без предупреждения, как утверждал прокурор, или, как объяснил сам Калоев, он сначала показал лоцману фотографию с останками жертв, а тот ее раздраженно бросил на землю, и лишь после этого оскорбленный Калоев выхватил нож.
Маленькая вариация на тему основного вопроса философии. – Если представить себе, что из бесконечного числа атомов, молекул и прочих «материальных» частиц – хотя они уже энергии, а значит полноправные духовные элементы Вселенной – возникли время и пространство, затем органическая жизнь и в конце концов, как гипотетический апогей эволюции, явилось сознание, включающее в себя – и это решающий момент – не только осмысленное отражение законов космоса, но и его (космоса) потенциальную динамику, читай: способность к творчеству во всех многообразных проявлениях, тогда преобразующая тонкая энергия сознания, накладываясь на столь же креативную мощь объективного мира, уравновешивают друг друга, и потому нельзя сказать, что мир по отношению к сознанию действителен, как равным образом нельзя утверждать и того, что он относительно него иллюзионен, вообще любые антиномии, достигнув своих естественных границ, взаимно погашаются.
Но это происходит, необходимо повторить, только при осознании схождения в бесконечном пределе любых противоположностей, а такое осознание предполагает настолько глубокое погружение в себя самого, что оно практически недоступно обыкновенному человеку, – всякое же промежуточное состояние – в котором мы и пребываем всю нашу жизнь – мгновенно и с непреодолимой силой рождает в нас либо примат бытия над сознанием, либо обратную зависимость, хотя последняя, если честно сказать, встречается гораздо реже, потому что дается нам психологически с невероятным трудом.
Зато как самое трудное порождает в конечном счете самые великие результаты, так торжество сознания над материей, помимо своей философской обоснованности, в эстетическом плане несравнимо выше обратной доминантности, – и в частности буддийское представление о том, что человеку умирая не только не приходится опасаться за потерю жизни, но его преображенное смертью сознание выпрыгивает к следующей жизни как хорошо надутый мяч из воды, и нет по сути никакой возможности избавиться от жизни – недостижимая мечта любого буддиста! – да, этот безудержный, как свето-воздушный океан, буддийский оптимизм являет собой удивительный контраст к христианству, где за мало-мальски сносное прохождение сквозь игольное ушко смерти – для начала чтобы не попасть в ад и мрачные области посмертного бытия, а там уже видно будет – нужно бороться не покладая рук, бороться всю жизнь, и все равно, как ни борись, остается вечный страх и вечное сомнение в благополучном исходе: при этом то, что определяет судьбу человеческой души после смерти, совершенно ей внеположно, а значит стоит на ступени «объективного бытия», – но это и есть триумф полнейшего безразличия – если не тайного презрения – к душе и стоящему за ней сознанию, то есть в конечном счете самый чудовищный материализм!
Профиль и анфас. – Подобно тому, как в состоявшемся искусстве образ говорит сам за себя, и у воспринимающего не возникает наивных вопросов насчет того, к примеру, существовал ли образ до того, как художник выдумал его, и будет ли существовать вечно, а главное, где именно, в какой реальности и как обстоит дело с общением между читателями и персонажами, и отчего в одних персонажей мы не верим или верим не до конца, а относительно других убеждены, что они как будто существовали от века и художник лишь открыл их для нас, но не создал, – короче говоря, только там и тогда, где и когда раз и навсегда замолкают подобные вопросы и полностью исчезает сама потребность задавать их, – да, только там и тогда мы просто и спокойно подходим к границам нашего исследования мира, как ни в чем ни бывало заглядываем, точно в бездну, за пределы этих границ, и голова у нас не кружится, потому что нам становится ясно, что и с любыми нашими представлениями о действительности дело обстоит точно так же, как с художественными образами: в той степени, в которой мы их «накачиваем» сочувствием, симпатией, заинтересованностью, да и просто молчаливым принятием их параллельного с нами жития-бытия, в той самой степени они вышеназванными качествами реально «напитываются», когда же никакой «накачки» нет, то и сами они куда-то таинственно исчезают, и до тех пор пока мы не подадим им пригласительный знак, никогда к нам по доброй воли не явятся.
В самом деле, удавшееся произведение искусства, с одной стороны, настолько самостоятельно, что прямое и буквальное вмешательство в него художника сразу и намертво его убило бы, но, с другой стороны, оригинальный автор узнается с трех строк, иногда по первой мелодии или после беглого взгляда на полотно, истинный шедевр не нуждается в опоре на автора, однако без последнего искусство тоже непредставимо: сходная двойственность проглядывает в жизни любого человека, – каждый из нас в одном плане есть «черновик», состоящий из бесчисленного множества мыслей, чувств, слов и поступков, а в другом и «высшем» плане он же суть и собственный «образ», под которым следует понимать неповторимый характер, вполне своеобразные взаимоотношения с людьми, а также индивидуальную биографию, которая, в зависимости от значимости человека или перспективы зрения, может превращаться в судьбу, а то и в провидение.
Иными словами, при поверхностном взгляде на людей мы склонны видеть в них черновики к возможному, но несостоявшемуся рассказу, роману и тому подобное, при ближайшем же и внимательном рассмотрении нам уже открываются образные контуры жанра, из чего, в частности, следует, что никакой, даже самый великий человек не может быть больше, чем просто главным героем, да и то лишь в определенном и отдельно взятом историческом контексте-жанре, – так что и соотношение нас, простых смертных, к великим мира сего, в точности соответствует композиционным и стилистическим пропорциям между второстепенными и главными героями романа, со всеми вытекающими отсюда общественными, моральными и культурными последствиями.
Итак, любой человек есть одновременно и черновик и складывающийся из него образ, в полной же мере трансформация черновиков в образный материал совершается только после смерти, – в самом деле, проживая жизнь, мы, хотим ли мы того или не хотим, оформляем собственную биографию и большего ровным счетом ничего не делаем, потому что и делать не можем, – сотворить в жизни нечто большее, чем написать стихотворение, рассказ, драму, трагедию, комедию, роман или эпопею на тему собственной биографии или, точнее, стать главным или второстепенным персонажем названных – или неназванных – жанров, все равно что вытащить себя из болота за волосы: вещь совершенно невозможная и противоестественная, так что даже в том случае, когда младенец умирает во чреве матери, от него все-таки остается упоминание в двух словах, но и оно вполне художественного порядка: в том смысле, что если, скажем, это был последний отпрыск королевского рода, то его нерождение оказалось чревато долгими гражданскими войнами и вообще порядочным изменением истории, а если это был простой человек, то его предельно ранняя кончина оставила невидимые простым глазом шероховатости в душах всех родственников, близких и дальних, кого он так и не узнал, – в конце концов разница между Чеховым и Шекспиром непринципиальная.
Как художник в дневниковых записях и черновых вариантах набрасывает пунктиром характеры персонажей, разрабатывает сюжетные перипетии, меняет местами сцены, сдвигает и раздвигает время действия, – так точно мы живем и движемся в повседневной жизни, но стоит нам внимательно взглянуть на себя со стороны, задуматься, почему наша жизнь так сложилась, как она сложилась, припомнить основные фазы биографии, вспомнить мнения о нас, людей нас знающих и любящих, а также критически к нам относящихся, представить себе иное течение жизни и скоро его отвергнуть как надуманное и несущественное, – итак, стоит нам проделать этот болезненный, но невероятно полезный для души эксперимент, как тотчас из расползающихся во все стороны черновых биографических зарисовок выступит более-менее ясная сюжетно-образная канва.
Эта канва отныне уже не сможет вполне исчезнуть из нашего сознания, она ляжет в основу наших размышлений о том месте, которое мы занимаем в этом мире, и о той роли, которую мы играем в этом обществе, ибо мысли, чувства и настроения можно менять, как перчатки, тогда как сюжет жизни так же трудно изменить, как лицо или тело: правда, в наше время пластические операции, как и операции по изменению пола, в большом ходу, но что они доказывают? только то, что люди, этим занимающиеся, не пришли еще к постижению собственной образной сущности и остались на уровне собственных черновиков, – и хотя общество все ближе подходит к идеалу принципиальной заменяемости любой составной человеческого существования – от физического органа до исполняемой в жизни роли – радоваться тут нечему: подобная замена может осуществиться только за счет полной ничтожности ее компонентов.
Вообще, пока мы смотрим на мир с точки зрения жизни, у нас всегда рябит в глазах, мы в непрерывном внутреннем волнении и ни на один вопрос, который ставит перед нами действительность, или наоборот, мы ей, у нас нет и не может быть удовлетворительного ответа, – на текущую жизнь мы всегда смотрим в анфас, выражение наших глаз постоянно меняется и любая попытка придать психологизму лица какую бы то ни было печать метафизики обращает нас к судьбам лучших портретов живописи, – а там сиюминутная жизнь остановлена магией художника, благодаря чему открылись потайные анфилады души портретируемого, о которых мы никогда прежде не подозревали и в которых можно блуждать поистине веками – ибо вечно искусство – очаровываясь снова и заново, – но лишь за счет великой условности искусства: условность портрета, в частности, в том и состоит, что нам полностью недоступны прежние и будущие временные фазы портретируемого, мы не можем представить себе, кем он был прежде и что из него будет потом, и чем талантливей выполнен портрет, тем недоступней для нас странным образом прошлое и будущее его субъекта.
Ситуация коренным образом меняется, когда тот или иной отрезок жизни заканчивается и замыкается на самого себя, становясь по субстанции уже фазой бытия, но и тогда остается некоторая стилистическая незаконченность, которая оставляет на языке привкус эстетической неудовлетворенности, последняя исчезает вполне лишь тогда, когда заканчивается вся жизнь, – только полный и необратимый финал расставляет окончательные акценты: вот почему смерть, являясь антиподом жизни, выступает одновременно главным творческим инструментом бытия, она для него как слова для поэта, как краски для живописца, как звуки для композитора, как мрамор для ваятеля.
Великим таинством смерти бытие запечатывает жизнь, придавая ей раз и навсегда тот высший и глубоко художественный смысл, который равно далек как от теологического оправдания жизни, так и от полного нигилизма, смысл этот тем более заслуживает внимания, что как-то сразу и насквозь пронизывает нас – от кожных рецепторов до самых субтильных и одухотворенных глубин нашего существа, – и вот оптическим аналогом человеческого бытия является, как нам кажется, взгляд в профиль.
Когда мы смотрим на медали и монеты римских императоров, то их профили как-то особенно легко и незаметно позволяют нам скользить по времени их правления, точно по гребню волн, раздвигая мыслью и воображением известные нам факты эпохи, мы скользим в узкой лодчонке нашего индивидуального сознания по морям и океанам минувшей жизни и, кажется, любой анфасный лик в качестве компаса задержал бы наше плавание, заставил бы остановиться на каких-то отдельных чертах характера правителя или его эпохи, но профиль… по профилю можно скользить без препятствий и сколько угодно, а в образе скольжения мы всегда безошибочно узнаем почерк бытия, которое, как последний иерархический чин, скрепляет своей подписью любое событие текущей под его невидимым присмотром жизни.
Стало быть глаза нужны нам для того, чтобы видеть жизнь, а когда жизнь проходит, оставляя после себя свой профиль – чистое бытие – глаза уже не нужны: так интересуясь каким-то историческим персонажем, мы даже просто читая о нем, инстинктивно напрягаем зрение, – нам хотелось бы его получше увидеть, правда, от него остались портреты и скульптуры, но нам этого мало, мы настолько вживаемся в него, что желаем узреть его физически, как узреваем ежедневно людей, с которыми связаны тесными житейскими узами: это происходит до тех пор, пока мы не уясним для себя окончательно историческую роль данного лица, когда же это происходит – по сути случайное, странное и, может быть, нежелательное событие – все встает на свои места и интерес к данному персонажу теряет историческую тональность, приобретая взамен художественное звучание.
Жизнь тогда уступает место бытию и процесс познания в главном заканчивается: там, где прежде неустанно работали суммарные энергии воли, ума, интуиции и воображения, теперь осталось одно только субтильное свечение и глубочайшее успокоение как их квинтэссенция, – это как если в момент кончины человека явственно увидеть выхождение из него ментального тела, явственно почувствовать, как вся прожитая жизнь его приобрела вдруг недоступное каким бы то ни было органам восприятия измерение и явственно осознать, что все произошло окончательным, необратимым и наилучшим образом.
Итак, жизнь уступает место бытию, а бытие видится уже не глазами, а «очами души», выражаясь вместе с Гамлетом, – и подобно тому как талантливый критик в нескольких фразах призван объяснить произведение искусства, то есть показать его сюжетно-образное единство, а то и попросту намекнуть на него, и больше ничего! так наилучшие мыслители, касавшиеся истории и исторических деятелей, хотели они того или не хотели – чрезвычайно любопытный момент! – прочерчивали всего лишь основную линию исторического повествования, показывали глубокие и вызревшие из прошлого исторические преобразования, намечали исторические тенденции будущего, а также обрисовывали тех или иных исторических лиц с точки зрения их места в историческом сюжете, – и больше ничего! если же еще не называлось имя главного действующего лица, а описывалась лишь его основная образная функция, напоминающая текучую и на себя замкнутую, наподобие чакр, цепь энергетических узлов, в которых преобладающие черты характера героя намертво сплавлены с некоторыми характерными тенденциями эпохи и общества, в которых жил и действовал данный герой, то это прямо можно соотнести с наброском классического образа.
Таков именно блестящий лаконичный этюд Фридриха Ницше о судьбе Сократа из «Человеческого, слишком человеческого». Вот он. —
«ДО ЧЕГО МОЖЕТ ДОВЕСТИ ЧЕСТНОСТЬ. Некто имел дурную привычку при случае вполне откровенно высказываться о мотивах своего поведения, которые были не лучше и не хуже, чем мотивы всех остальных. Сначала он шокировал, затем возбудил подозрение, постепенно был объявлен вне закона и лишен общественного уважения, пока наконец правосудие не обратило внимание на такое отверженное существо при обстоятельствах, которые оно в других случаях игнорировало или на которые закрывало глаза. Нехватка молчания в отношении всеобщей тайны и безответственное влечение видеть то, чего никто не хочет видеть – себя самого, – привели его к тюрьме и преждевременной смерти».
И если кто-то не согласен с этой поистине чистой «профильной» трактовкой судьбы Сократа, склонен углубить ее, расширить или вовсе переиначить, то это, разумеется, его святое право, но в конечном счете от него тоже будут ждать итоговую оценку, а это значит: сравнения вот с этой крошечной, но невероятно емкой и веской оценкой Ницше ему не избежать.
То есть получается, что искусство, сам принцип и дух его, уже скрыты в историческом ходе вещей, как душа в теле, и я совершенно убежден, что любой кусок истории можно обработать и подать так, как Стефан Цвейг обработал и подал нам свою великолепную Марию Стюарт, эту романтизированную биографию, абсолютно ничем не уступающую Шекспиру: пусть, правда, не с тем драматизмом, пусть не с теми отдельными красотами, пусть не с тем изумительным нарастанием напряжения, которое временами и как бы для вида замирая, предполагает в конце концов одну-единственную трагическую развязку, и пусть не с тем обильным числом приблизительно равных другу по художественным достоинствам действующих лиц, – конечно, все это прежде всего характеризует шотландскую и кровно с ней связанную английскую историю, обе они, вместе взятые, быть может, настолько же превосходят все прочие европейские истории, насколько сами уступают истории древних римлян и что интересно: такое ощущение, что из любого куска британской истории можно сделать хороший фильм, а та же «Мария Стюарт» – разве уже не готовый сценарий к еще неснятому шедевру, который ждет своего режиссера, как реальная история шотландского народного героя Уоллеса ждала и дождалась мастерской экранизации в лице Мела Гибсона?
Каков здесь главный критерий? опять-таки, эстетический, а что такое эстетика по отношению к историю? всего лишь нутряной сюжет самой истории и больше ничего, а вот как его развить и подать, сколько зарисовать действующих лиц, какие наметить побочные линии, по которым тоже могло бы пойти действие, да не пошло, на какие великолепные частности обратить внимание и тому подобное, – это уже задача историка, которая по большому счету мало чем отличается от задач художника.
Итак, чем больше историк – художник, тем лучше он и как историк, – недаром все великие историки обладают художническим талантом, а те художники, которые, в виде исключения, взяли на себя функции историков, едва ли не превзошли своих профессиональных коллег – подразумеваем в первую очередь эпилог к «Войне и миру» и ту же «Марию Стюарт» Стефана Цвейга.
Выражаясь в двух словах. – Жанр этюдно-афористического мышления испокон веков существует в нашем сознании на равных правах с казалось бы куда более предпочтительными – потому что эпическими, а значит бесконечно более интенсивными как в плане фактов, так и в аспекте их толкования – жанрами философии или развернутого исторического исследования, более того, на словах признавая безусловное преимущество последних, мы на деле довольствуемся одним первым: причем если наше нутряное сомнение в разного рода философских системах, сложных этиках или мировых религиях еще как-то можно понять и разделить – ведь сама повседневность как первое и последнее откровение мирового Хода Вещей склонна порой улыбаться над любыми, вплоть до самых великих, достижениями человеческой мудрости – то вот наше тихое, упорное и монументально-самоуверенное удовлетворение сравнительно простыми и даже схематическими объяснениями истории, которая вся состоит из фактов и событий и потому вроде бы не терпит по отношению к себе никакой примитивной интерпретации, – итак, этот нагловато-позорный на первый взгляд триумф обыденного мышления, ходя постоянно по грани банального и будучи в принципе доступен для любой базарной торговки, все-таки на поверку оказывается отстоящим ничуть не дальше от истины – если вообще можно говорить о таковой – чем любое серьезное историческое исследование, – и дело тут, конечно, исключительно в жанровом своеобразии: никакой жанр не может вполне заменить другой жанр, и как в природе нельзя утверждать, что один род или вид живых существ превосходит другой, так устоявшийся жанр, сделавшись проторенной тропой творческого самосознания, снова и снова заманивает на свою стезю тех, кто склонен идти по ней.
Так, например, снова и снова возвращаясь к трагической эпохе поражения Белого движения в России, мы видим со всей очевидностью, что и дух его был прост, чист и благороден в сравнении с провокаторскими обещаниями Ленина, и вожди его как люди далеко превосходили кровавых и цинических организаторов Красного переворота, и последствия всей этой чудовищной заварухи не идут ни в какое сравнение с альтернативным, медленным и естественным развитием России (столыпинским путем), а так называемые причины поражения Белого движения (вот они, созревшие плоды объективного исторического анализа!), полностью убеждая наш ум, нисколько не мешают нам сердцем – и быть может еще каким-то другим и более таинственным органом познания, чем сердце – верить и даже быть вполне уверенным, что невероятная энергия, высвобожденная в результате ленинского путча (она-то и решила все дело) была откровенно дьявольской по своей природной заряженности, а это уже, извините! почти притчевый подход к русской истории и отечественной ментальности, – действительно, приплетая к нашей и без того парадоксальной и многомерной проблематике «черта, спрятавшегося в детали» – не так ли точно математики добавляют иксы и игреки в свои сумасшедшие уравнения? – мы с одной стороны негласно провозглашаем загадку нашей истории и нашей ментальности неразрешимой (ибо никакой серьезный исследователь – типа Ключевского – не станет связываться с дьяволом), однако с другой стороны этот же самый черт, являясь зримым воплощением некоей тонкой и необъяснимой дисгармонии, лежащей, очевидно, в колыбели всей нашей славянской цивилизации, и проходя поэтому красной линией через всю нашу великую культуру, по крайней мере нам самим (за иностранцев мы не отвечаем) все в нас исчерпывающе объясняет, и плюс к тому еще делает наш национальный автопортрет не только правдоподобным и законченным, но еще и до такой сверхчеловеческой степени живым, что нам становится уже где-то прямо «не по себе» (вот почему самые серьезные наши исследователи – типа Гоголя – просто вынуждены были обратить внимание на сатану).
Счастливый случай. – В нашем привычном, повседневном и «эвклидовом» мире все имеет причину, но чем дальше мы отходим от «трехмерного» измерения вещей в их незримый, глубинный и по-видимому виртуальный центр, тем очевидней не то что полное упразднение причины как таковой, но как бы заметное ослабление связи между причиной и следствием, так что насчет самых первоосновных проблем бытия – таких как начало и конец мира, эволюция живых видов, посмертное бытие и тому подобное – является даже необходимость провозгласить их некоторую принципиальную неопределенность, и в этой последней можно при желании увидеть почти художественную природу.
В самом деле, когда мы вообще отказываемся от уяснения и выражения «сути вещей», ссылаясь при этом, скажем, на Творца, который по определению непостижим, а с Ним вместе и заодно непостижимо и Его творение, то это не совсем «звучит», как выразился бы музыкант – а музыкальное звучание и созвучие есть для нас, быть может, самый важный критерий истины, недаром Шопенгауэр провозгласил музыку непосредственным выражением мировой воли как «вещи в себе» – однако и когда мы дотошно пытаемся докопаться до рационального объяснения исследуемых феноменов, это тоже «не звучит», далее, «не звучит» ни чересчур абстрактный подход к делу, характерный для классической немецкой философии или схоластической средневековой теологии, ни слишком чувственное и приземленное – так называемое «материалистическое» – направление.
Но что же тогда «звучит»? да любая мысль – но лишь в той степени, в какой она внутренне пронизана духом художественности, а проще говоря, насколько в ней сокрыта та или иная духовная стилистика или стилистическая духовность, то есть, совсем уже в двух словах, если о чистом мыслителе, но также и теологе можно сказать: в нем сокрыт дух Шекспира или Кафки, Толстого или Достоевского, Баха или Моцарта, – тогда это подлинный и великий мыслитель, а если нет, тогда это предмет обоюдного интереса студентов и профессоров от философии.
Разумеется, под классических – названных и неназванных – творцов мыслителю подстраиваться не обязательно, но критерий некоей общей художественности, которая пронизывает даже сугубо философское или религиозное произведение, как свет и воздух пронизывают наше пространство, и которую тем трудней зафиксировать в словах, чем непосредственней и отчетливей она воспринимается при чтении, – этот критерий все-таки остается, доказательством чего является то обстоятельство, что читаем мы и перечитываем только тех мыслителей, которые чем-то напоминают нам тех наших любимых художников, которых мы читаем и перечитываем.
Если же мы в зрелом возрасте, не будучи профессорами или студентами – то есть людьми, которые обязаны читать какого-то автора, читать которого в общем-то невозможно, да и не нужно – берем все-таки в руки книгу, обсуждающую проблемы, далекие от повседневной жизни, но прямо касающиеся основных жизненных узлов, и получаем от нее удовольствие, то это обычно означает, что автор ее, во-первых, художник, а во-вторых – и по той же самой причине – он обрисовал положение вещей, которое с очень большой вероятностью может быть, потому что большего в этом плане достичь нельзя: вблизи виртуального центра, как сказано в самом начале, нет и не может быть ничего абсолютно определенного в плане причины и следствия, а есть лишь, как давным-давно подытожила квантовая физика, одна только степень вероятности.
Хотелось бы думать и надеяться, что она полностью совпадает с мерой – философской по жанру – художественности: в философии Шопенгауэра мы как раз имеем этот самый редкий и счастливый случай.
Апофеоз божественной легкости. – Я представляю себе, как трудно накопить столь хорошую карму, «чтобы ваша мать, будучи вами беременной, до времени родов увидела во сне, будто гуляет по лугу, срывая цветы, а когда наяву пришла на этот самый луг, то служанки разбежались в поисках цветов, а сама она задремала на траве, и тут нежданно слетелись кормившиеся на лугу лебеди, окружили спящую хороводом, захлопали крыльями, как у них в обычае, и все вместе согласно запели – словно зефир повеял над лугом, и вот она проснулась, разбуженная пением, и разрешилась от бремени, – ведь преждевременное разрешение от бремени зачастую бывает вызвано внезапным испугом, – а местные жители передают, что именно в этот миг молния, уже устремившаяся, как казалось, к земле, вновь вознеслась и исчезла в эфире – этим способом боги явили и предвестили будущую близость к ним Аполлония и будущее его превосходство надо всем земным и все, чего суждено было ему достигнуть», – да, трудно накопить столь хорошую карму для подобного чудесного рождения, – но ему это было легко.
Я представляю себе, как трудно с ранних лет, да еще обладая прекрасным здоровьем, наружностью и достатком, отказаться от мясной пищи, обуви и кожаных одежд, а также от женщин, и все это не вследствие каких-то убеждений, а по глубочайшему наитию сердца, на протяжении всей жизни и с постоянной радостью от благородной жертвы, – но ему это было легко.
Я представляю себе, как трудно, «проповедуя около полудня в Копейной роще неподалеку от Эфеса, вдруг как во сне увидеть убийство императора Домициана в Риме и пересказать его многочисленным слушателям во всех подробностях, так что и тираноубийство, и день, когда оно совершилось, и полуденный час, и убийцы, к коим он взывал, – все оказалось точно таким, как явили ему боги посреди ученой его беседы, а подтверждение случившемуся пришло со спешными гонцами несколькими днями позже», – но ему это было легко.
Я представляю себе, как трудно, уча людей в Эфесе исключительно любомудрию и тщательно избегая всякого рода мистику и эзотерику, вдруг, точно по наитию, указать на «старика-нищего с фальшивыми бельмами – при нем была сума с краюхою хлеба, одет он был в лохмотья и вид имел убогий и, понудив толпу окружить старика, приказать побить его каменьями, а когда эфесяне подивились сказанному, да и убивать столь жалкого бродягу казалось им жестокостью, тем более, что он просил пощады и слезно просил о милосердии, однако Аполлоний упорствовал, натравливая эфесян на старика и не дозволял его отпустить, – и вот, когда некоторые из них все-таки бросили в бродягу камни, тот, прежде казавшийся бельмастым, глянул пристально – и глаза его заполыхали пламенем: тут-то эфесяне поняли, что перед ними демон, и закидали его таким множеством камней, что из камней этих воздвигнулся над демоном настоящий курган, а по прошествии некоторого времени Аполлоний позвал их разобрать курган и посмотреть, что за тварь они убили, камни разобрали, но тот, кого эфесяне почитали побитым, исчез, а вместо него явился их взорам пес, обличьем похожий на молосского, но величиною с огромнейшего льва – он был раздавлен камнями и изрыгал пену, как изрыгают бешеные собаки», – итак, я представляю себе, как трудно совершить подобный поступок человеку, слывущему мудрецом и философом, – но ему это было легко.
Я представляю себе, как трудно, осуществив в ходе многолетней и многотрудной жизни сложнейший и казавшийся всем невозможным синтез Платона и Иисуса Христа, вдруг ни с того ни с сего отправиться в Трою на могилу легендарного Ахилла и не овечьей кровью, как это было принято в те времена, но индусской молитвой (!) вызвать дух главного гомеровского героя, долго беседовать с ним и узнать от него факты Троянской войны, о которых не знал сам Гомер или которые он сознательно извратил: например, что Елена, хотя и была похищена Парисом, но находилась не в Трое, а в Египте, или что от козней Одиссея погиб некий Паламед, мудрейший и храбрейший из ахейцев, – так что и великая литература и мировая история предстают в несколько ином свете, да и наши сведения о потустороннем мире обогащаются потрясающими деталями, – например, когда Аполлоний рассказывает, как «…сотрясся курган мгновенною дрожью и вышел из него юноша пяти локтей ростом в плаще фессалийского покроя – и он отнюдь не выглядел наглецом, каким иные воображают себе Ахилла: внешняя суровость не умаляла его приветливости, а красота его, по-моему, так и не удостоилась должной хвалы, хотя Гомер и говорит о ней так много – поистине, красота эта несказанна, и любое славословие не столько воспевает ее, сколько уничижает. При своем появлении Ахилл был такого роста, как я сказал, однако рос и рос, пока не сделался вдвое выше, – и вот, наконец, предстал предо мною десяти локтей, а красота его росла соразмерно росту. Волос он, как сам мне сказал, никогда не стриг, но хранил их нетронутыми для Сперхея, ибо то была из всех рек для него первая; подбородок его был окаймлен первым пушком. Обратившись ко мне, он промолвил: «Я рад встрече с тобою, ибо давно есть мне нужда в таком вот человеке. Фессалияне веками отказывают мне в заупокойных жертвах, однако я пока не удостаиваю гневаться на них, ибо стоит мне разгневаться – и ожидает их погибель злее, чем некогда эллинов Вместо этого обращаюсь я к ним с благожелательным советом: не преступать установленного обычая и не выказывать себя порочнее троянцев, которые, хотя и лишились из-за меня стольких мужей, все же приносят мне сообща и жертвы, и первины урожая, и возлагают мне оливковые ветви, прося перемирия, да только я мириться с ними не намерен! Поистине, за то, как предали они меня, вовеки не будет позволено Илиону обрести прежнее величие или достигнуть процветания, коего достигли многие древле разрушенные города: ежели и отстроят троянцы свой город, будет он не лучше, чем назавтра после взятия. Так вот, чтобы не постигла фессалян от меня такая же участь, отправляйся к ним послом и пред сходкою их говори за меня!», – да, я живо представляю себе, как трудно, более того, практически невозможно организовать подобную беседу с духом Ахилла любому избранному мира сего, – но ему это было легко.
Я представляю себе еще, как трудно не просто воскресить мертвую девушку, но умудриться попутно оставить после своего чуда благородное ощущение всего лишь возвышенной повседневности, и вот как это произошло: «Некая девица в час своей свадьбы вдруг – по общему мнению – умерла, жених неотступно шел за погребальными носилками, рыдая, что брак остался незавершенным, а вместе с ним плакал весь Рим, ибо девица была из весьма знатной семьи. Узрев такое горе, Аполлоний сказал: «Опустите носилки, ибо я остановлю слезы, проливаемые вами по усопшей», – а затем спросил, как ее звали. Многие решили, что он намерен произнести речь, какие обычно произносят на похоронах, дабы подстегнуть всеобщие сетования, однако Аполлоний ничего подобного делать не стал, а коснулся покойницы, что-то потихоньку ей шепнул – и девица тут же пробудилась от мнимой смерти: и собственным голосом заговорила, и воротилась в отеческий дом, точно как оживленная Гераклом Алкестида. Родственники ее хотели подарить Аполлонию сто пятьдесят тысяч, но он сказал, что отдает эти деньги отроковице в приданое. То ли он обнаружил в мнимой покойнице некую искру жизни, укрывшуюся от тех, кто ее пользовал, – не зря говорили, что под дождем от лица покойницы шел пар, – то ли уже угасшую жизнь согрел он своим прикосновением – так или иначе вопрос этот остался неразрешим не только для меня, но и для свидетелей описанного события», – итак, я представляю себе, как трудно осуществить этот редчайший синтез безграничной духовной силы и безграничной же мудрой деликатности, – но ему это было легко.
Я представляю себе, как трудно не просто поучать, но давать дельные государственные советы римскому императору (Веспасиану) и как еще более трудно, войдя в круг доверенных людей властителя, беспощадно его критиковать, если нужно, и при этом суметь не только сохранить голову, но и остаться уважаемым человеком, – но ему это было легко.
Я представляю себе, далее, как трудно, находясь, скажем, в Египте, как бы походя и не придавая этому особого значения, продемонстрировать глубочайшее прозрение в природу универсальных перерождений, ничем не уступая в этом плане даже самому Будде, и вот как это произошло: «Некий человек водил на веревке ручного льва – точно как собаку и зверь льнул не только к хозяину, но и ко всякому встречному, собирая подаяние на всех углах и даже в храмы его пускали, ибо лев почитается чистым, – и что правда, то правда, он ни жертвенной крови не облизывал, ни на свежуемые и разрубаемые жертвенные туши не кидался, но кормился пряниками и хлебом, да еще вареным мясом, а порою и вино пил, при этом не меняясь нравом, и вот как-то раз, подойдя к сидящему в храме Аполлонию, он мурлыкал у его колен долее, чем у прочих, добиваясь, как все полагали, подачки, однако Аполлоний возразил: «Лев просит меня изъяснить вам, чья именно у него душа, ибо в него вселилась душа Амасиса, царя египетского Саиса». Услыхав эти слова, лев жалостно и скорбно зарычал, а затем уселся и заплакал, проливая слезы. Аполлоний погладил его и сказал: «По-моему, льва нужно отослать в Леонтополь и посвятить тамошнему храму – царю, обратившемуся в царя зверей, не пристало побираться наподобие человечьего побирушки». После этого жрецы все вместе принесли жертву Амасису и, украсив зверя ожерельем и лентами, проводили его в Леонтополь с флейтами, песнями и славословиями», – вот именно, я представляю себе, как это трудно даже для иного просветленного человека, – но ему это было легко.
Я представляю себе, наконец, как трудно было уйти из жизни так, что никто так до конца и не узнал, когда и где он умер и умер ли вообще и «закончил ли он свои дни в Эфесе в 96 г. н. э., как говорят некоторые, или же это событие имело место в Линде в храме Паллас-Афины, или он исчез из храма Диктинны, или же, как утверждают другие, он совсем не умер, но, будучи столетним, возобновил свою жизнь с помощью Магии и продолжал свою работу на благо человечества», – но ему это было легко.
Самое же трудное было, исходя из всего вышесказанного, иметь все эти несомненные качества мудреца, целителя, чудотворца, предсказателя будущего и просто прекрасного и доброго во всех отношениях человека, и не сыграть в истории, культуре и религии одновременно (!) центральную или по крайней мере одну из ключевых ролей, – но ему, то есть Аполлонию Тианскому, это было легко.
И пусть не говорят мне, что его легендарная биография наполовину выдумана, – нет, как говорится, дыма без огня, зато у нас перед глазами пример человека, чья биография выдумана на две трети, если не на три четверти, и тем не менее человек этот, как древний Атлант, один несет на себе царство Божие в понимании доброй половины всего человечества, – и пришлось бы констатировать полное безумие человечества, если бы, как в случае Гамлета, в его безумии не проскальзывала некая токая разумная нить: нить эта, как легко догадаться, заключалась в том предельно простом и вместе невероятном и невозможном, но оттого еще более притягательном религиозно-духовном сюжете, а пожалуй и жанре, которые человечество во что бы то ни стало пожелало увидеть воплощенными в своей жизни, и которые античность и в том числе Аполлоний Тианский как один из ее самых блестящих представителей, дать ему уже не могли.
Искусство и религия
I. (Как две капли верный портрет). – Когда Эрнест Ренан, описывая детство и юность Иисуса Христа, упоминает, что у Иисуса было много сестер и братьев, но что в семье его не особенно любили и еще меньше уважали, когда, говоря о его образовании, французский исследователь отмечает полную необразованность Иисуса в смысле книжной мудрости, благодаря которой, кстати, только и мог возникнуть его лирически окрашенный религиозный радикализм, когда, далее, анализируя отношения Иисуса с Иоанном-Крестителем, автор утверждает, что влияние Иоанна на Иисуса было настолько колоссальное, что, по всей видимости, если бы не трагическая смерть Крестителя, Иисус быть может никогда бы не стал тем, кем он стал, когда, продолжая, Ренан вводит нас во внутренний мир своего героя, убедительно показывая ее главные составляющие, а именно: во-первых, инстинктивное неприятие семьи и вообще уз родства, во-вторых, заменяющее их (узы) отношение к Богу как родному отцу, в-третьих, готовность видеть вокруг себя только тех людей, которые полностью разделяют его взгляды (учеников), и в-четвертых, врожденную и сильную склонность к поэзии (образцы которой в Евангелиях встречаются на каждом шагу), когда, завершая жизнеописание этого центрального героя западного человечества, Ренан почти мимоходом замечает, что Иисус отказался облегчить собственные страдания на кресте испитием чаши крепленого вина, предпочитая встретить смерть в полном сознании (общая черта всех практикующих восточную духовность), что умер он всего лишь через три часа после распятия по причине хрупкого своего телосложения, а Пилат, удивленный столь скоропостижной смертью, потребовал подтверждение (знаменитый прокол копьем), и что не ученики его, а близкие женщины (в первую очередь Мария Магдалена) сохранили ему верность, присутствуя на месте казни до последнего часа, – итак, принимая к сведению хотя бы эти выборочные вышеназванные детали исторического портрета Иисуса (а их в книге Ренана великое множество и все они безукоризненно точны), невольно думаешь, насколько бы выиграл Иисус в правдивости собственного облика и прямо вытекающей из этой правдивости нашей непосредственной любви к нему, если бы церковь не возвела его в божественный статус и тем самым не исковеркала безнадежно его живой образ: поистине он стал бы для всего человечества тем, кем приблизительно является Пушкин для нас русских, и наоборот – Иисус потерял по вине церкви в сердечном приятии (которым нельзя совершенно манипулировать извне) ровно столько, сколько потерял бы наш Пушкин, если бы Синод или правительство вздумали канонизировать, скажем, его реальное воскресение, или, еще лучше, его непорочное зачатие.
Да, что там ни говори, а мужественная смерть Иисуса и его возведенное в поэзию (по жанру стихотворения в прозе) отношение к Богу как к отцу, – вот две доминанты его образа, которые буквально гвоздями врезаются в наше сознание и благодаря которым сопоставление с нашим отечественным поэтом-героем Пушкиным напрашивается само собой, причем, как это ни странно, оба лица от такого сопоставления больше выигрывают, чем проигрывают: выигрывают они «живую жизнь», а проигрывают «мертвую догму», которая не стоит даже выеденного яйца.
II. (Когда вместо духовной жизни нам показывают драму о духовной жизни). – Обычно бескомпромиссные идеалисты, то есть люди, которые свои идеи ставят выше требований повседневной жизни, причем до такой степени, что в случае их (идей и жизни) непримиримой конфронтации они безоговорочно жертвуют своим ближайшим окружением – даже если это родная семья – рано или поздно сдают свои позиции и возвращаются «на круги своя», потому что любая идея, если она не доказывается жизнью, абстрактна, пуста и не стоит того, чтобы за нее вообще чем-то серьезным жертвовать, – такая любопытная и поучительная история случилась с Дон-Кихотом, – но тут, как легко догадаться, все зависит от самой идеи: есть, оказывается, по меньшей мере два априорных представления – одно, «что нужно относиться к Богу как к родному отцу», и второе – «что все в этом мире есть страдания, а истина начинается там, где заканчиваются страдания», ради которых, как потом только выяснилось, не жалко принести любую жертву, в том числе и собственную жизнь (из этих двух идей, кстати, родились две «мировые религии»), – но это мы узнали позже и, так сказать, «задним числом», а теперь мы вдруг с удивлением обнаруживаем, что и любой йог абсолютно искренне верит в Бога и относится к Нему именно как к отцу родному, но ему за его веру не только не нужно умирать на кресте, но она рассматривается в его народе как самое повседневное явление (есть ли что-либо прекрасней этого?), – и вот тогда мы просто вынуждены заново и иными глазами взглянуть на то, что свершилось в крошечной Галилее две с лишним тысячи лет назад, а случилось там приблизительно то же самое, что и в России на рубеже последних двух веков, когда гигантская фигура величайшего в мире прозаика попыталась не только создать новую религию, но и «подвести под нее» всю творческую и личную жизнь, – да, результат этого грандиозного эксперимента известен: вместо истинной духовной жизни – которая про между прочим всегда тиха, скромна и глубока, а там, где нет тишины, уединения и глубины, нет заведомо и подлинной духовной жизни – перед неотступным многомиллионным взором человечества явилась очень глубокая и, главное, очень напряженная драма о духовной жизни, и не было уже никакой возможности отвести глаза и уши от этой правдоподобной, как писания ее автора, великолепной и интригующей коллизии, и элементарное человеческое любопытство насчет того, уйдет ее главный герой от жены или не уйдет, а если уйдет, то куда, и что с ним дальше будет, заслонило все прочие душевные побуждения, и как при восприятии любого искусства ничего уже кроме восхищения, потрясения и умиления зритель физически не мог испытывать: но что общего имеют все эти чувства с подлинной духовной жизнью?
Однако герой и автор нашей второй драмы умер в позднем возрасте и своей смертью, что всегда минус в площадной драматургии, в отличие от героя и автора драмы первой и куда более известной, оттого и популярность у них разная, – вообще же нет ничего сложнее, нежели судить об истине, когда она обретает художественную природу, а она (то есть истина) делает это незамедлительно и при первой же возможности, такова уж наверное ее сокровенная натура.
III. (Метафизика предательства). – Когда некто хочет сказать в обществе новое слово, а сильные мира сего отказываются его слушать, потому что оно, это новое слово, при неблагоприятном раскладе карт может повести к ослаблению, а то и к потери их власти, далее, когда этот некто, обладая сильным характером и поэтическим даром, уединяется, а вокруг него собираются те немногие, что склонны к протесту и одновременно чувствительны к поэзии радикального обновления жизни, и конфликт постепенно нарастает, власть ожесточается, а новатор предчувствует, что только трагическая развязка поддержит и даже спасет дело его жизни, – да, вот тогда встает вопрос о конкретном оформлении финала и, хотя устранение бунтаря дело уже практически решенное, власть все-таки ищет в окружении опасного оппозиционера человека, который бы уладил все в лучшем виде, то есть передал бы вожака без лишнего шума и без лишней крови, – и такой человек обычно находится: это всегда ученик, который не вполне согласен со своим учителем, в том числе и по вопросу о власти в стране и тех древних традициях, которые власть защищает и которые тот ученик тоже втайне признает и уважает, а учитель пытается ниспровергнуть.
И вот пытаясь найти компромисс в этом сложнейшем и по сути неразрешимом вопросе, то есть ища пути к тому, чтобы власть и почитаемый учитель сели за стол переговоров, – с тем, чтобы и стоящий за их плечами и ими выносимый на подмостки истории колоссальный метафизический конфликт тоже возымел примирительное и гармоническое решение, – в чем и заинтересован кровно тот странный и нерадивый ученик, – итак, желая устроить последний и решающий диалог между учителем и властью, тот непоследовательный ученик, очевидно, нечаянно открывает место, где временно укрывался учитель.
И того арестовывают, а потом судят и казнят, – и ученик, предавший своего учителя, падает в адские бездны, а учитель, тайно использовавший своего ученика для устройства собственной звездной судьбы, поднимается на райские высоты: нынче уже, правда, нет прямых доказательств того, так ли все это было на самом деле, но косвенные доказательства, заключающиеся прежде всего в том, что жизнь обычно идет путем максимально насыщенного сюжета, то есть действующие лица сами по себе склонны отталкиваться от ходульных героев какого-нибудь посредственного автора и приближаться к шекспировским персонажам, – да, эти косвенные доказательства иногда являются куда более убедительными, чем доказательства прямые.
IV. (Точный жест). – В поступках великих людей, догадывавшихся о том, что им суждено сыграть судьбоносную роль в истории, но внутренне чуждых и даже враждебных искусству, наблюдаются иногда жесты настолько странные и необъяснимые, что иначе как тайной властью искусства над жизнью или подспудным инстинктом отдать ему должное их не истолкуешь.
Так, например, когда Будда, приняв приглашение кузнеца Кунды, догадался, что грибы в его яствах – смертельная отрава, он попросил хозяина, чтобы часть их дали одному ему, но не ученикам его, присутствовавшим на ужине, а отведав их, Будда остатки потребовал закопать в землю со словами: «Только один просветленный в состоянии переварить их».
Здесь можно увидеть глубокую иронию и тонкий упрек в адрес Кунды, хотя комментаторы настаивают на великой тактичности Будды, так и оставившего хозяина в неведении насчет отравленного блюда; как странно: весь мир об этом узнал – один Кунда так и не догадался, отчего вскоре умер его знаменитый гость.
Правда, следует полагать, что Будда наверное знал и скором своем конце и решил воспользоваться нечаянной отравой как тем последним толчком, каким древние римляне и самураи глубже проталкивали в себя уже торчащий в животе меч.
С другой стороны, можно себе представить, как радовался обыкновенный кузнец, потчуя великого учителя, как старательно готовился он к праздничной трапезе – вот и грибков прикупил самых дорогих и экзотичных, и какое это было бы для него разочарование, если бы Будда молча встал из-за стола или прямо сказал бы хозяину, что грибы ложные.
Получается, что для того чтобы спасти честь хозяина – хотя бы на данный момент – Будда должен был отведать его яства, однако такое решение никак не укладывается в нашей голове, поскольку цена ему – жизнь Мастера; мы все прекрасно чувствуем какую-то непонятную, глубоко иррациональную красоту поступка Будды, хотя сами так на его месте никогда бы не поступили.
Тут, по-видимому, решающую роль играет то обстоятельство, что Будда чувствовал приближение смерти, то есть жить ему, судя по всему, оставалось несколько дней, – вот он ими и пожертвовал, оформив свою кончину по правилам высокого искусства: вспоминается в этой связи Петроний, но там ясная, прозрачная, пушкинская красота смерти.
В кончине же Будды проглядывает некоторая парадоксальность вполне литературного порядка, оформленная с глубоким психологизмом, – тот же самый мотив наблюдается в аресте Иисуса и прощальном поцелуе Иуды: та же бездна психологизма и художественная изюминка в самой сердцевине евангельского сюжета.
Первое впечатление: какие из этого можно сделать шедевры! будь то в кинематографии или в театре! но при более внимательном размышлении открывается, что сколько бы в них ни было режиссерского и актерского мастерства, они нас до конца не удовлетворят, – это именно метафизические сюжеты, а не психологические, ни один артист в мире не сыграет адекватно ни Будду, ни Христа, – но только потому, что названные исторические персонажи давным-давно заняли в нашем сознании место легенд, хотя в свое время они были просто людьми.
А легенду воплотить оптическими и акустическими средствами нельзя – противоречие в определении, на то она и легенда, и основным критерием метафизической легенды, так отличающей ее от любого психологического шедевра, является как раз невозможность представить, какие у ее героев были глаза и взгляд.
V. (Заручившись мнением авторитета). – Если главное духовное – но не обязательно литературное – завещание Пушкина для каждого из нас состоит в том, чтобы в одной фразе постараться выпукло и зримо выразить суть проблемы, в нескольких предложениях попытаться обрисовать самый сложный феномен, а в умной разговорной беседе исчерпывающе обсудить главные вопросы жизни и смерти, то, следует предположить, в том фантастическом и вместе гипотетическом случае, если бы Пушкина спросили, скажем, насчет основного отличия между Иисусом и Буддой, наш первый поэт, подумав, заметил бы, что один – лицо драматическое и действовавшее на узком историческом пространстве, тогда как другой – во всех отношениях фигура эпическая, прибавив еще, что все это поистине вопрос жанра и ничего больше.
И он был бы тысячу раз прав.
Ян Гус. – Когда не благообразный человек с красивыми вьющимися волосами, достойной бородой и овалом лица Иисуса Христа (таким рисовали его в романтический девятнадцатый век), а толстый, лысый и безбородый, плюс к тому в юности охотно посещавший пражские общественные бани, где женщины предлагали известные услуги, мужественно выступает против Римской церкви и, имея возможность тысячу раз спасти свою жизнь, все-таки предпочитает мученическую смерть на костре, хотя о спасении жизни путем отречения от взглядов его умоляли и лучшие друзья его, и сам король Богемский, – да, это очень трудно соединить воображением, умом и сердцем в единую картину: таким образом, чтобы внутренне понять этого великого человека – как понимаем мы наших родных и близких – нужны либо незаурядный художественный дар, либо очень хорошее знание всей его жизни, – но ни того ни другого, как это обычно и случается с персонажами далекой Истории, мы не имеем, и потому нам приходится опять и в который раз рассматривать также и эту, весьма примечательную историческую страницу, как черновик к ненаписанному шедевру: вроде бы материал для великого произведения искусства налицо, а как ни крути, преобразовать его в гомогенную художественную субстанцию почему-то не получается, и никакие красочные эпизоды из жизни великого Реформатора, никакие фильмы или романы о нем зияющих пробелов не восполняют, – вот такое именно впечатление бесчисленных и бесконечных черновиков к неосуществленным – и быть может неосуществимым в принципе – художественным шедеврам производит вся наша человеческая – и в особенности европейская – история.
Осень в зеркале. – Когда небо в октябре становится бледным, далеким и застывшим, когда тоже бледными, далекими и неподвижными кажутся облака, когда вслед за ними и воздух делается холодным и бездвижным, и листва стынет в нем, а солнечное холодное сияние облегает ее, точно невидимое стекло, когда листопад ускоряется на глазах и в городе начинает пахнуть прелой растительностью, а в городских парках открываются вдруг забытые дали и перспективы, так как с каждой оголенной веткой высвобождается невидимый прежде угол дома или часть улицы, когда вид далекого неба сквозь оголенные деревья привносит тревожную ноту, когда гудит весь день ветер и солнце то сияет с каким-то протяжным мрачноватым звоном, то сквозит в облаках, как нарисованное, когда из неба время от времени, подобно фантастической симфонии, разливаются странно неравномерные, неравноцветные и неравнозначные солнечные лучи, топя город в рефлектирующем нервозном сиянии, когда в половине шестого уже темно и темнота эта не прозрачная и звонкая, как весной и летом, а густая и выпуклая, так что и бледный половинчатый месяц на ее фоне наливается буквально с каждой минутой серебристым блеском, и небо в течение какого-нибудь получаса теряет свое светлое очарование, делаясь сначала серо-лиловым, потом фиолетовым… и тут же появляются звезды, и когда, наконец, прогуливаясь по городу и стараясь не наступать на кленовые и каштановые листья, замечаешь, что ближняя сторона тротуара темная, а дальняя светла отражениями витринного ряда, и если подует ветер, то на тусклом асфальте обязательно зашевелятся тени от ветвей или занавесок, – короче говоря, в такие дни рождается в душе один и тот же вечный вопрос, а именно: поэтическое восприятие осеннего пейзажа, ну, скажем, такого рода, как
Октябрь с чернеющих ветвей тона последние смывает, и в мертвой графике живей себя природа забывает — пока опавшая листва, дождливым сумраком томима, блестит, как мокрые дрова, на декорации камина.– или что-нибудь подобное, – итак, это поэтическое восприятие осени изначально пребывает в душе, наподобие платоновских идей, или под магическим воздействием ежегодно засыпающей природы человеческий дух заново и на свой страх и риск воссоздает его? и если есть возможность однозначно на него ответить, значит вопрос был задан не совсем правильно.
Когда падает снег. – Когда под вечер тихо падает снег и во время прогулки хочется поминутно останавливаться перед фонарями, когда мутное темное небо с высыпающимися из него мириадами снежинок окончательно слилось с землею, а это значит, что все далекое стало близким, все невозможное возможным и все фантастическое реальным, когда и дети и взрослые и животные кажутся ненадолго членами единой общечеловеческой семьи (так что если вас кто-то незнакомый толкнет в сугроб, вы примете это всего лишь за невинную шутку), а Зло вдруг представляется совершенно невозможным, пока ложится на землю снег… да, тогда вдруг чувствуешь себя точно в первый день творения – и в душе отсутствуют любые мучительные и неразрешимые вопросы существования, как например: кому лучше – умершим или живым или: почему ангелы являются хранителями нашей любви, хотя сами любить не в состоянии или: где кончается жизнь и начинается бытие, и так далее и тому подобное.
Но отсутствуют они не потому, что уже решены, а потому, что еще не заданы, то есть как бы еще не созданы, еще не вошли в мир… и какое же это блаженство – не знать их и не догадываться о них!.. вот тихо падающий под вечер снег и является, быть может, наилучшим воплощением самого загадочного из всех возможных блаженств: блаженства нерожденности.
Да, вот оно, последнее откровение: не от того, оказывается, происходит предельное блаженство, что нечто прекрасное и великое нисходит на землю – от этого тоже происходит блаженство, но как бы низшего порядка – а от того, что оно именно не нисходит, то есть могло бы снизойти, но по соображениям высшего порядка не снизошло, явив вместо собственного рождения свою нерожденность: например, в образе бесшумных, холодных и чистых снежинок.
И только когда-нибудь потом и неизвестно еще, в какой точно день или час творения и конечно тоже из вечернего снегопада – откуда же еще? – тихо и незаметно войдет в мир она, Снежная Фея, та самая, которая по образу и подобию непорочного зачатия выносит в своем чреве добро и зло, радость и боль, жизнь и смерть.
Она их пока только выносит, но ими еще не разрешилась, и все зависит только от нас: если мы посмотрим на нее с восторгом и вожделением, мир станет таким, как он есть теперь, а если мы ее не увидим – ведь кругом так темно и ничего не видно кроме снежинок, кружащихся под фонарями – она с благодарностью возвратится к первому дню творения: в то блаженное состояние, когда ее самой не было, и все тогда будет непредставимо иначе.
Но нет, все произошло именно так, как и должно было произойти, потому что загадочности нерожденности предпочли мы таинство рождения.
В невинности детских восторгов и музыке первых свиданий, в безмолвье нетопленных моргов и жести больничных страданий есть некий таинственный холод, что сказкой вдруг ожившей веет — но каждый, будь стар он или молод, открыть его тайну не смеет: то дышит в нас Снежная Фея из тьмы, как из рамы портрета, — и так же, как парка аллея, клоака им мира согрета, и каждый, любя и страдая, дыханье то легкое знает, а добрая фея или злая — о том он пусть сам уж гадает.А снег продолжает падать, припорашивая ветки, заборы, крыши, фонари, снимая с них остроту и придавая им облик и ощущение вечного покоя: не так ли точно припорашивает нас время? и нельзя даже сказать с уверенностью, что малыш в нас заменился раз и навсегда мальчуганом, мальчуган необратимо стал юношей, юноша превратился во взрослого человека, а взрослый человек когда-нибудь сделается стариком, – нет, когда тихо падает снег, перед нами открывается как будто впервые и потаенная природа времени, глубоко сходная с падающим снегом, и тогда нам становится ясно, что все наши прежние (и будущие) воплощения – от малыша до старца, включая их многие производные образы, тоже часто непохожие друг на друга – не исчезли один в другом, как малые матрешки в более крупных, а продолжают жить самостоятельной таинственной жизнью, и в любой момент по желанию можно памятью отворошить кусок этой жизни, как освобождаем мы от снега тот или иной предмет… и все-таки лучше этого не делать, потому что воспоминания возвращают нам лишь малую часть прожитой и прежней жизни, а любая составная часть, фигурируя вместо целого, неизбежно искажает и извращает последнее, даже сама того не желая.
Итак, когда под вечер тихо падает снег, великое таинство нерожденности ложится не только на то, чего еще нет, но и на то, что давно есть и почти уже завершилось, то есть на всю нашу жизнь, придавая последней ту самую искомую чистоту и целомудренность, к которым она (жизнь) всегда инстинктивно стремилась, но которые думала обрести на совсем иных путях.
Скорее всего ложные подсказки эстетического чутья. – Нашему эстетическому чутью столь же легко вообразить, скажем, реинкарнацию индусов или буддистов, насколько трудно или почти невозможно западных людей, – и пусть Будда, по его собственным словам, перерождался около десяти тысяч раз и это как будто само собой разумеется, зато в представлении о том, что Леонардо или Моцарт не однажды приходили в этот мир, чтобы, так сказать, «поднабраться опыта» и в один прекрасный момент раскрыться ошеломляющимся гением, – в таком представлении, как хотите, есть нечто насильственное и надуманное.
Так подсказывает нам наше эстетическое чутье, что оно хочет этим сказать? быть может, оно намекает нам на то, что реинкарнация вовсе не есть универсальная закономерность, а всего лишь частный случай какого-нибудь еще более фундаментального закона, о котором мы пока ничего не знаем, но который когда-нибудь будет открыт (или не открыт), однако каждый истинно практикующий восточную духовность знает по опыту, что на таком блестящем и шокирующем представлении – оно скользит вдоль и поперек души, пронзая ее и томя, как моцартовская мелодия – все-таки далеко не уедешь: чтобы преобразовать себя и даже просто почувствовать в себе биение подлинной духовной жизни, надо верить в закон инкарнации, как старые бабки верят в силу иконки, надо верить, что каждый наш поступок, каждая мысль и каждое побуждение суть одновременно прямые следствия прежней жизни и столь же несомненные причины жизни последующей.
А эстетическое чутье развивает ту же тему куда более игривей, оно не сомневается в законе инкарнации и даже подчеркивает, что факт перерождений неоспорим: многие люди вдруг говорят на мертвых языках и вспоминают повседневные детали столетней давности, которым не жившим «тогда-то и там-то» знать было совершенно невозможно, однако самого существенного – утверждает эстетическое чутье – реинкарнация все равно не затрагивает, а это: личности и судьбы конкретных людей, находящихся как бы в едином инкарнационном ряду – ведь их индивидуальности попросту несовместимы и получается, что это как бы разные люди, пусть в чем-то очень сходные по характеру или занимавшиеся сходной деятельностью, – оттого-то и живет во всех нас предчувствие, что если мы и рождались, пусть не однажды, то это все равно для нас особой роли не играет, а если нам суждено еще не раз приходить в этот мир, то и от этого как бы ничего не меняется: так подсказывает нам наше эстетическое чутье, и под его молчаливым наитием мы и живем.
Иными словами: мир многомерен, соединить его взаимоисключающие измерения по определению невозможно, поэтому остается только по очереди пластически вырисовывать для себя эти измерения, смаковать их сочные детали, оценивать скрытый в них высокий смысл и в заключение на основании тщательного сопоставления и личной склонности делать свой выбор: такова основная задача эстетического чутья, – оно «всего лишь» претендует на музыкальное постижение – глубоко диссонансной в своей основе – гармонии мира.
И вся наша жизнь, когда приходит пора подвести ей итог, представляется нам непостижимой игрой, а когда мы пытаемся ответить себе, кто сыграл с нами эту игру и по каким правилам, возникают сразу новые интеллектуальные и метафизические игры, и так без конца, – на определенном этапе развития глубочайшая и часто неосознанная потребность в игре находит свое воплощение в увлечении искусством, причем у каждого по-разному: иным достаточно дешевых любовных романов, крими и хоррора, другим надобно классическое искусство, но суть одна и состоит она на низшем плане и в поверхностном своем выражении в попытке найти с помощью других ответы на вопросы, ответить на которые принципиально нельзя, а в плане глубинном является имитацией все той же предвечной космической игры, кроме которой по сути ничего нет.
Ведь воспринимая искусство, мы как бы смотрим в зеркало самой жизни, – и как, подобно облакам в полутемном окне, проходят перед нашим мысленным взором бестелесно-плотские, невидимо-зримые и озвученно-немые образы искусства, так в реке жизни отражаются все ее судорожно трепещущие кровью и гноем явления, но суть от этого не меняется, игра она и есть игра и для того, чтобы это проверить, достаточно любого, самого великого художника «испить до конца», до того последнего глотка, после которого на вопрос: что же он нам все-таки дал? мы ничего, кроме как: восхищение, потрясение, умиление и прочее в том же духе, ответить не в состоянии, – но ведь и восхищение, и потрясение, и умиление далеко не самые высшие эмоции, есть куда более возвышенные и благородные, а сказать, что Лев Толстой или Бах дали нам что-то большее, значит солгать, потому как – и здесь величайший парадокс! – действительно не дали, и это – они! что же тогда говорить об остальных?
Да, мы смущены и по праву: все дьявольское нас смущает! по самой своей природе, – и там, где мы чувствуем это странное, монументальное, необъяснимое смущение, вызванное провокаторской заменой жизни чем-то таким, что кажется выше, тоньше, глубже и интересней жизни, но самой жизнью не является, – там перед нами тотчас встает великое искусство, а в нем и за ним – его «божественные» покровители Мефистофель и Воланд.
То, что они каким-то глубочайшим образом причастны сокровенной природе искусства, это чувствуется сразу и навсегда, сомнения вызывает разве лишь сам творческий почин: ведь дьявол вроде бы не может творить, верно, но он может вдохновлять или, точнее, соблазнять людей на творчество, уводящее их в сторону от «основного» их назначения (основного – значит нравственного), и судьбы Гоголя и Льва Толстого – математическое тому доказательство.
Но роль есть роль, она знаменуют собой игру, игра бывает разная, когда дети играют в прятки – это одно, а когда разыгрываются шекспировские драмы – это другое, – и вот миссии Будды, Сократа и Иисуса стоят как бы на уровне Шекспира, а пророческие усилия Гоголя и Толстого несколько пониже, хотя тоже с эстетической точки зрения кое-чего стоят, – почему они не дотянули до тех «трех сильных»? не знаю, быть может потому, что писательская деятельность слишком уже идет рука об руку с авторским тщеславием, а тщеславие и просветление – «вещи несовместные», как бы то ни было, приходится повторить: ничего, кроме самого великого, многопланового и субтильного восхищения нам искусство дать не может, зато оно неизменно обещает нам больше, чем может дать, а это уже характерный и безошибочный признак дьявола.
И потому только поставив на место дьявола саму жизнь, со всеми вытекающими отсюда последствиями – жизнь нас смущает, жизнь нам обещает больше, чем может дать, жизнь нас восхищает, умиляет и завораживает – мы возвращаем искусству его исконное место и значение в космосе, – да, не знает искусство и не хочет знать того великого сопряжения повседневности с «вечными вопросами бытия», которые так характерны для всякого эзотерического или религиозного взгляда на жизнь.
Например, просто жить, стремясь доставить ближним как можно больше радости и не думая о себе, это почти уже религиозный образ жизни, ему не хватает только веры в Господа-Бога и загробного вознаграждения, хотя и то, и другое, вероятно, присутствуют в той или иной мере в подсознании, искусства же здесь мало или, точнее, оно есть, но выполняет оно служебную функцию: такова, скажем, Гретхен из «Фауста», однако ведь не на ней держится гетевская драма.
С другой стороны обращает на себя внимание, что все без исключения так называемые духовные учителя, заставившие «себя уважать», не говоря уже об основателях религий, фанатически и до последней детали верили и верят в собственное учение: что за потрясающий диссонанс!
Мы, простые смертные, напитанные великим и поистине безграничным многообразием бытия, уже физически не в состоянии остановиться на каком-то одном и конкретном его образе, ткнуть в него пальцем и громко заявить: вот истина, и эта истина, подобно айсбергу, на одну видимую треть постижима в земном опыте, а на две невидимые трети требует веры! однако вышеназванные духовные учителя и основатели религии только это и делали и делают!
И так было, есть и будет: нам трудно изменить нашей скромной мирской мудрости, это все равно что предать себя, да и живет в нас тайное убеждение, что само безначальное бытие (которое старше всех богов) смотрит на себя нашими глазами, а тем не менее подлинные, великие и очевидные подвиги и чудеса жизни совершают именно они и только они – те самые, которые во что-то фанатически верят! нет, каков все-таки диссонанс! от него можно сойти с ума и я, честно говоря, не понимаю, почему люди фактически не лишаются рассудка после его полного осознания.
Получается, что пока мы живем мирской жизнью, эстетическое чутье суть едва ли не самая оптимальная перспектива: поэтому-то первое, что мы должны отбросить, если хотим отойти от мира и пойти дальше, это именно эстетическое чутье и вообще искусство как таковое, – тысячами дорог и тропинок уводят нас расплодившиеся ныне, как грибы после дождя, эзотерико-религиозные доктрины прочь от привычной нам повседневной реальности, и все они требуют от нас всего лишь одной-единственной жертвы: уничтожить в себе эстетическое чутье, отбросить искусство как самый тонкий, умный и духовный соблазн, – быть может и в самом деле наивкуснейший плод дьявола, – и ладно бы это были дешевые секты, коим нет числа, но нет, таково же и христианство в зерне своем, таков же и буддизм, – и вот искусство продолжает вечный спор с религиями, причем не в плане альтернативного времяпровождения – что лучше: пойти в церковь или почитать книгу? – а в аспекте самого прямого и недвусмысленного ответа на вопрос: что есть жизнь и в чем состоит ее общепринятая загадка.
Поскольку же разгадку жизни принято искать после ее (жизни) завершения, то, независимо от того, правилен такой подход или неправилен, нужно сказать, что дело тут даже не в том, что астральные, то есть попросту потусторонние миры существуют воистину – в этом даже сомневаться ныне как-то неприлично порядочному человеку – а дело в том, что они множественны и многомерны и в наши привычные человеческие представления никак не укладываются: на этом уровне, как и в любых запредельных измерениях, будь то макро– или микрокосмос, законы причины и следствия уступают место законам вероятности.
Оно и не может быть иначе: когда реальность в материальном плане истончается, возрастает ее тонкий энергийный потенциал, а там, где доминирует чистая энергия, возникает тенденция развиваться одновременно в противоположных направлениях, но это совершенно непостижимо для нашего ума, иначе говоря: после смерти можно отправиться в сравнительно неизменные и долговечные астральные миры, но можно реинкарнироваться, можно смутно ощутить великую трансформацию, но можно ее совсем не почувствовать, – все можно, а потому: как нет, не было и не будет такого филологического анализа, который бы адекватно постиг и выразил смысл того или иного шедевра искусства, так нет, не было и не будет такой теории, концепции, учения или религии, которая бы вполне объяснила загадку жизни.
В который раз: Будда не признавал никакого искусства, Иисус – тоже, да и любой настоящий духовный Мастер или Учитель человечества согласится с ними, в духовных книгах, правда, вы никогда не встретите явных и откровенных нападок на художников масштаба Бетховена или Баха, Леонардо или Рембрандта, Гете или Льва Толстого, но не обольщайтесь, любезный читатель! это всего лишь тактическая уловка, чтобы не отпугнуть людей.
Ибо стоит как следует вчитаться в букву настоящих духовных творений, а тем более вжиться в их дух, как становится очевидным: там не только нет соприкосновения с искусством, но они категорически несовместимы, а стало быть человек, вставший на путь просветления или достижения града Божьего, должен раз и навсегда оставить искусство, как оставляет надежду тот, кто входит, по слову Данте, во врата Ада, – и наоборот, тот, кто любит искусство и живет им, не может, по всей видимости, всерьез рассчитывать на приближение к Богу или просветление: либо одно, либо другое, а третьего не дано.
Правда, и искусство в свою очередь спешит отомстить всякого рода Мастерам и Учителям, и делает оно это довольно успешно: заявляя, что последние не столько открывают Истину, сколько играют предназначенную им роль открывателей Истины, а в таком амплуа они ничем принципиально не отличаются от всех других людей, тоже играющих какую-то роль, и пусть роли эти по значению для человечества несовместимы, – по субстанции своей они совершенно равны.
Да, каким-то непонятным образом люди догадываются, что учительство по большому счету выше, чем писательство, и сперва идут Будда, Сократ и Иисус, а потом уже великие писатели: почему это так, а не иначе, объяснить трудно, но это именно так, духовные мастера и учителя не стараются быть еще и художниками, а вот художники иногда пытаются играть роль нравственных законодателей, пример – те же самые Гоголь и Лев Толстой, – исчерпавшись как художники, они стали учить людей «как жить», причем вполне искренне, не жалея живота своего.
Эстетическое чутье нашептывает нам, далее, что между «образным» началом человека и его «астральным» телом существует как бы обратная зависимость, одно исключает или по крайней мере притормаживает другое: нам столь же трудно вообразить посмертную жизнь Моцарта или Пушкина, как невозможно отказать в ней, скажем, Льву Толстому или Ф. Достоевскому, своим гигантским по масштабу и ювелирным по точности анализа мышлением Лев Толстой с одной стороны, и страстно-публицистической деятельностью, вообще одержимым интересом к христианской проблематике Ф. Достоевский с другой, нарастили столь «плотные» астральные тела, что их поистине не в состоянии удержать никакие врата смерти! опять-таки, всего лишь опыт воображения, но может быть в нем-то все и дело.
Тогда как, напротив, весьма затруднительно представить себе посмертное существование так называемых «чистых художников», они ведь были в первую очередь мастерами своего дела, главный завет их миру – искусство, а поскольку связь между творчеством и биографией в их случае предельно ослаблена – недаром и зовем мы их «чистыми» – то и остались они в нашем сознании прежде всего неповторимыми и причудливыми образами, а вовсе не пассажирами для астральных путешествий: их могилы осеняет священная тайна, которую их посмертная жизнь, особенно в той форме, о которой нам в один голос сообщают медиумы разных толков, быть может только унизила бы: все тех же Моцарта и Пушкина мы имеем в виду и им подобных.
А Лев Толстой, не говоря уже о Будде и ему подобным творцам «чистой духовности», вообще к концу жизни упразднил искусство в пользу поисков все того же «смысла жизни», глубоко внеобразного по сути, думается, потаенная христианская струнка Достоевского тоже сказалась на его творческом стиле, последний больше даже склоняется к музыке, нежели к литературе, самое же главное: вообще ни об одном корифее искусства не существует каких-либо намеков в необозримом море Паранормального, по принципу: кесарю – кесарево, то есть образу – образное, а внеобразному поиску смысла жизни – астральное.
Да это и понятно: ведь «делать» искусство можно только в этой жизни, ибо лишь в этой жизни существует разница между возможностью и действительностью: игра между ними и есть искусство, тогда как в мире ином, очевидно, нет никакой разницы между возможностью и действительностью, но возможность там тотчас, по малейшему желанию, становится действительностью, – отсюда нутряное неприятие искусством потусторонней жизни в любом ее варианте: это, кстати, математически доказывает наше нутряное и тайное предпочтение самым великим людям и даже богам простых и близких нам людей, а то еще и наших домашних животных, – куда уж идти дальше? на словах мы, конечно, отдаем им должное, но на деле продолжаем жить так, как будто они для нас не существуют, – ну не дьявольское ли это решение самого важного вопроса жизни?
Немного филологии или символ веры. – Будучи по единому мнению отечественных знатоков словесности абсолютным выражением духа и буквы поэзии как жанра, причем в стране, практически не имевшей до него литературы, Пушкин поистине как будто вышел из Ничто и его творчество на фоне современной ему российской словесности – точно творение мира по Библии.
«Словесность наша явилась вдруг в 18-м столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной», – эту запись 1830-го года Пушкин развил в статье «О ничтожестве литературы русской» 1834-го года, – и если уж русская литература не имела традиции, то что тогда говорить о самом Пушкине? разумеется, сходство явления Пушкина с возникновением Петербурга тут сразу бросается в глаза, и там и здесь – как бы библейская парафраза генезиса бытия.
Но там, где скрыта – или отсутствует вовсе? – промежуточная фаза развития и созревания, складывается ощущение предвечности феномена, нам кажется, что Пушкин, это «солнце русской поэзии», был всегда: откуда он взялся? будто знание пушкинской родословной может тут чем-то помочь, – из Ганнибала Пушкина не выведешь, еще меньше из Державина или Жуковского, Шекспира или Байрона, Мюссе или Расина, что остается? «Как некий херувим занес он несколько нам песен райских», – но волшебный цветок моцартовской музыки расцвел из куда более плодотворного лона европейской музыки, да и значение Моцарта для человечества несопоставимо с пушкинским, и если для русских Пушкин – «наше все», то для европейцев он – полное недоразумение.
Это из дневников и рукописей Льва Толстого можно судить, как создавались «Война и мир» и «Анна Каренина», с Пушкиным этот номер не проходит, впечатление от Пушкина в целом – точно проснулся в полдень, за окном яркое солнце и слепит глаза, смотришь на свет, а в глазах темно, и это потемнение – явление объективного порядка, оно происходит оттого, что творения Пушкина слишком солнечны и слишком совершенны, – и хотя они в своей основе просты и искренни, все-таки чувствуется между строк, что сам Пушкин в созданные им образы не верил, или до конца не верил, или верил, лишь когда создавал их.
Таким образом нарушалась как бы пуповинная связь творца и творения, – ведь по нашему глубокому убеждению художник всегда должен быть связан с собственными творческими детищами, как мать с детьми, правда, если он становится со временем другим, то его отчуждение от родимых образов мы ему прощаем, так случилось со Львом Толстым, – но чтобы в те же самые дни, недели и месяцы попеременно быть то их отцом или, скажем, так, любящим отчимом, то совершенно чужим человеком или даже холодным, насмешливым циником – вспомним пушкинскую злую эпиграмму насчет его Татьяны – такое нам кажется по справедливости странным и подозрительным.
А все дело в пушкинском вдохновении: оно у него имело существенно иную природу, нежели у того же Льва Толстого, последний садился ранним утром за стол и писал – точно служащий справлял обязанности, и так каждый божий день! самая что ни есть прозаическая форма вдохновения, но породила она самые что ни есть поэтические шедевры, пусть и в прозе, короче говоря, для Толстого творчество было самой «обыкновенной» ежедневной работой, а при таком подходе человек и художник поистине слиты воедино: между ними не просунуть и волоса.
Пушкин же ждал вдохновения, как парусный корабль ветра, он зависел от него, как раб от господина, и когда, наконец, вдохновение посещало его, он чувствовал себя богом, а когда оставляло – «ничтожнейшим из детей света», в самом деле, как писал Пушкин? в «Грасском Дневнике» Галины Кузнецовой, друга семьи Буниных, есть от 22 декабря 1928 года такая запись: – «Особенно волновал его (Ивана Бунина) Пушкин, это я должен был написать «роман» о Пушкине! разве кто-нибудь другой может так почувствовать? вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновой или к Вульфу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вдохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение… да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет… но ведь этим надо жить, родиться в этом».
Быть может хорошо, что Бунин не написал романа о Пушкине, нельзя сказать, впрочем, что он не понимал Пушкина, напротив, он его прекрасно понимал: как эстетический феномен, об этом свидетельствует следующая запись той же Галины Кузнецовой от 3 февраля 1931 года. – «Заговорили о прозе Толстого и Пушкина. "Проза Пушкина, – сказал И.А., – суховата, аристократична рядом с прозой Толстого, как может быть аристократична проза Петрония, который все знает, все видел и, если и решил написать о пире, где подавали соловьиные язычки, то не унизится – вы понимаете, в каком смысле я говорю это – до изображения и описания этих соловьиных язычков, а просто скажет, что их подавали, а Толстой был слишком чувственен для этого"».
Великолепное наблюдение! и все же нужно сказать, что природа пушкинского вдохновения, а с ней характер творческого процесса, а с ними обоими сокровенная суть Пушкина как феномена были существенно иными, какими же? природу пушкинского вдохновения с исчерпывающей полнотой проследил В. В. Вересаев: разбирая, в частности, некоторые шедевры любовной лирики Пушкина, исследователь показал, что как раз там, где речь шла о подлинных и значительных отрывках (а не об экспромтах и эпиграммах), там поэту нужно было время, иногда месяцы, а иногда и годы, время прокладывало между намечающимися образами и мятущейся, вечно беспокойной душой поэта некий водораздел, как бы магическую границу, и преодолевалась она единственно художественно задействованной памятью.
Творчество Пушкина вообще есть не что иное как очищенное до последней степени самовыражение Памяти: именно так, с большой буквы, а пушкинские образы суть в первую очередь коллективные воспоминания, освобожденные от каких бы то ни было побочных напластований: отсюда легкая дымка грусти, их окутывающая, – «или воспоминания самая сильная способность души нашей, и ими очаровано все, что подвластно им?»: риторический вопрос самого поэта.
От Пушкина веет гомеровской архаикой, однако поразительно, что он стоит не в конце, а в начале своей эпохи, и вот это странное, почти мистическое ощущение, что эпоха выразила себя в искусстве, даже не начавшись, ощущение, которое мы испытываем, когда, прочитав роман, тут же возвратившись к началу, чтобы получше понять и посмаковать его, – да, и это тоже глубоко пушкинское ощущение.
Пушкин мыслил жанрами, и почти в каждом из них достиг совершенства: случай, кажется, единственный в мировой литературе, и поэтому давно висевший в воздухе вопрос Синявского: «ну какой по совести Пушкин мыслитель?» можно смело считать той решающей ошибкой, которая заставляет усомниться в его талантливейших «Прогулках» еще больше, чем сам их автор усомнился в Пушкине.
Так что Пушкин, соскочив с коня, «на котором ездил к Смирновой или к Вульфу» и «пройдя в свою комнату», отнюдь не «сразу переходил в какое-нибудь испанское настроение», а садился, наверное, в кресло, а то и прямо на кровать, в неприхотливой позе, неловко согнувшись, быть может, со скучающим выражением лица, он задумывался, покусывая перо, в расширенных голубых зрачках отражалось окно, и пейзаж в окне, воспоминания переполняли его: те самые, что, доходя до архаических краев Чаши с «коллективно-бессознательным», сами отливаются в образные слитки, – и от них происходила в душе полнота, полнота в свою очередь вызывала печаль, великая печаль всегда ведь рождается от преизбытка, но не от недостатка, а доказательство тому – ее светлый тон.
И еще внутри была бодрость, чисто русская бодрость, напоминающая первые осенние заморозки, поэта переполнял избыток энергии, однако избыток этот не растекался теперь по суетливым мятежным злободневным каналам, и не застопоривался скукой, ленью и хандрой, но распределялся равномерно по всем фибрам пушкинского существа, – и всякое частное воспоминание, мысль и чувство от соприкосновения с этим геометрически правильно разлившимся избытком быстро превращались в катартически-золотой мед поэзии, мед, который поэту оставалось, как сказочному пасечнику, лишь разлить по сосудам-формам: их мы называем литературными жанрами.
Что скорее всего приходит на память при имени Пушкина? колеблющаяся тень листьев на подоконнике, графическое изображение пера, профиль самого поэта на обложках его сочинений, – вот образы, которые мы всего охотней, всего естественней идентифицируем с духом и буквой пушкинской поэзии; Лев Толстой, например, рисует своих героев в анфас, даже если набрасывает их портреты двумя-тремя штрихами, Пушкин, напротив, изображает своих персонажей в профиль, в том числе когда дает им самые подробные характеристики.
Вот почему Пушкин таинственно ускользает от всякого четкого его осознавания, это все равно что присматриваться к человеку – а человек этот будет всякий раз, точно назло, оборачиваться к вам профилем, – в самом деле, как поэт Пушкин вряд ли превосходит Лермонтова или Тютчева, как прозаик он целиком и полностью уступает поздним нашим реалистам, как критик он разве что сеятель, как историк имеет эпизодическое значение, зато как драматург Пушкин был бы недосягаем, если бы… ну да, если бы не странная несценичность его драм, которая, вкупе с жанровой проблематичностью поздних его вещей, делает его тем, чем он и был на самом деле: великим и загадочным духовным феноменом, который однозначно невозможно оценить и чья оценка может колебаться от самой низкой до самой высокой точки, – также и в этом плане Пушкин – как и подобает эпиграфу – предвосхищает русский сюжет, по крайней мере, как воспринимают его иностранцы.
Как никакой другой поэт Пушкин выигрывает от хорошего издания, вспомним, наследие Пушкина предстает перед нами, как правило, в виде классического десятитомника: голубые аккуратные книги страниц в триста-четыреста, знакомый профиль поэта на обложке, золотые буквы на корешке, лаконичный комментарий в заключение, иной и непредставим, – берешь в руки томик, раскрываешь наугад, наталкиваешься на репродукции картин Брюллова, акварелей Репина, рисунков самого Пушкина, декорационных эскизов Бенуа, гравюр Уткина, много и других маститых имен: М. А. Врубель, Н. К. Кузьмин, И. Я. Билибин, Ф. Д. Константинов, В. М. Суриков, А. В. Венецианов, И. К. Айвазовский, Н. Н. Ге, С. В. Герасимов, Д. А. Шмаринов, А. Е. Фейнберг, И. С. Глазунов, А. А. Наумов, А. Кипренский, И. Л. Линев, Н. П. Ульянов и другие.
Кажется, вся отечественная живопись отдала дань любви Пушкину, потрудилась на ниве украшения его «памятника нерукотворного», и как она кстати – эта дань, насколько выигрывают с ней пушкинские издания, жалеешь только об одном – что мало их: гравюр, офортов, рисунков, акварелей, масляных этюдов, хотелось бы иметь их через каждые пятьдесят, двадцать, десять страниц: так хорош, так неотразимо привлекателен становится Пушкин, когда чья-нибудь мастерская рука сделает окончательно зримым едва намеченный в воздухе узор пушкинской грациозно-демиургической кисти.
Здесь сказывается экстраполированный из физики «принцип дополнительности»: ведь что там ни говори, а недаром сочинения Льва Толстого (и других реалистов) выходят в свет в подавляющем большинстве вовсе без иллюстраций, никому и в голову не приходит воспроизводить маслом или акварелью Анну Каренину или князя Андрея, а имеющиеся в этом плане иллюстрации часто вызывают только сожаление, – и все потому, что толстовский образ и без того воплощен сполна и в дубликате художественной материализации не нуждается.
Не то Пушкин: как его собственные изобразительные способности нашли свое выражение в рисунке, так художественный гений поэта осуществил себя в пределах исключительно графического образа, два-три штриха – и он готов, для создания его требуется особое искусство, иных он разочаровывает своей мнимой незаконченностью, зато какие просторы он открывает читательскому воображению! к толстовским образам ведь невозможно прибавить ни йоты, прямой контакт их с читателем поэтому непредставим, зато пушкинские герои в этом смысле гораздо более гостеприимны, типично русская черта! чего стоит одно приятельство Пушкина с Онегиным! но эта специфическая игривость имеет множество теневых сторон.
В силу превозносимого им фактора вдохновения Пушкин кажется нам медиумом, прочие поэты и писатели просто работали над своими произведениями, или просто выражали жизнь души, – Пушкин ждал вдохновения, поднимаясь с ним на высоты недосягаемые, а потом падая в пропасть; он писал о любви – но любил ли он на самом деле? он воспевал природу, которая была для него, по выражению В. В. Вересаева, безнадежно пуста, он вдохнул житейскую, надышанную теплоту в картинки русской жизни, и однако – «я разумеется презираю мое отечество с головы до ног, но мне досадно, когда иностранец разделяет мое мнение», – все это частности, хотя их можно умножать и умножать, а суть в том, что Пушкин каким-то непостижимым, роковым образом соблазнил Россию, саму русскую нацию, соблазнил, не желая того, соблазнил, невольно внушив ей причастность к солнечности, к какому-то общечеловеческому совершенству и «всечеловеческому идеалу» (Достоевский), словом, ко всему тому, к чему русские никакого отношения не имеют, – хуже того, проникнувшись Пушкиным (как Достоевский им проникся), вообще становится неясно, к чему мы имеем отношение, а к чему нет, скромное и трезвое предназначение – для начала оставаться в своих границах (духовных и материальных), а там видно будет – истаяло под лучами этого колоссального пушкинского соблазна.
И как то, что мы полагаем единым Богом, было в глазах Будды скорее великим Ангелом Света, обладающим, впрочем, реальной мощью и реальной властью, но только над теми, кто так или иначе (либо по причине веры в Него и служения Ему либо под воздействием молитв таких людей) находится в сфере Его влияния, тогда как другие люди как будто вовсе не соприкасаются с Ним, идя иными путями, – во всяком случае повседневная жизнь больше подтверждает такое положение дел, чем опровергает его, – так наш Пушкин, творя поистине из Ничего и творя, можно сказать, совершенно, невольно воплощает в сфере писательства эту демиургическую святыню православного христианства, но одновременно и ставит ее под сомнение, не относясь к своим творениям так, как истинный Творец должен был бы к ним по нашему глубокому убеждению относиться, в результате чего создается впечатление, будто Пушкин как поэт служит не столько единому Богу, сколько многим и разноприродным богам, а точнее, возможность существования двух миров, представляющихся нам абсолютно несовместимыми – автономного мира некоторого множества богов и мира единого Бога, которому все прочие иерархии подчиняются по определению – остается в творчестве и судьбе Пушкина открытым вопросом, – и это, быть может, самое главное духовное наследие нашего величайшего поэта.
Их только двое. – Скромная современная католическая церковь в пригороде неподалеку от моего дома, куда я часто захожу: там квадратный гранитный алтарь посредине, статуя Богородицы по одну сторону, громадная икона (скорее всего, копия) по другую, небольшой орган на хорах, кирпичные забеленные стены, деревянный потолок, любительские рисунки страстей Господних на стенах, распятие почти в стиле Пикассо, а перед алтарем и в углах три богатых корзины цветов.
Вчера цветов уже не было, и я мгновенно ощутил, что с цветами в церкви звучала музыка Моцарта и Баха, а без них – одного только Баха, которая, впрочем, звучит в любом христианском храме, где простота и величие не заслонены какими-нибудь второстепенными деталями.
Но может быть Моцарт – природа, а Бах – церковь?
Выхожу из храма: летнее голубое небо в облаках, деревья колышутся, травы благоухают, все просто, скромно и вечно, – и это, конечно же, снова преимущественно Бах, тогда как при виде статуй на куполах соборов на фоне пронзительной лазури, как в южной Европе, или при лицезрении сказочно чарующих руин какого-нибудь затонувшего античного города подле северо-восточного побережья острова Крит, в первоосновные баховские тона добавляются незабываемые моцартовские аккорды.
Но может быть Моцарт – человеческие отношения, а Бах – космос?
Вспоминаю все, что пережил с людьми и все мои мысли на этот счет: им созвучна музыка одного только Баха, – зато в щемящей влюбленности, в назревающем разрыве и особенно в прощании с кем-нибудь на долгие годы, а тем более навсегда – Моцарт и Бах в их непостижимом единстве.
Но может быть, Моцарт – внутренний мир конкретного человека, а Бах – организующий его микрокосмос душевных закономерностей?
Стараюсь озвучить все испытанные мною сокровенные переживания – их общим знаменателем можно назвать опять только музыку Баха, и лишь в немногих исключительных эмоциях: таких как скорбь, беспричинная грусть, взволнованная эротическая радость, предчувствие оргазма и тому подобное, – Моцарт и Бах присутствуют одновременно.
Но что же из этого следует?
А вот что: к Баху как вечному и щедрому хозяину бытия иногда заходит загадочный, непонятно откуда являющийся гость – Моцарт: тоже своего рода сценка в пушкинском духе из репертуара Мирового Театра.
Ведь должен быть Хозяин с большой буквы, и должен быть Гость с большой буквы, и Один должен иногда навещать Другого.
А кроме этого – по причине соблюдения чистоты жанра – пока ничего не должно быть.
Кафка и несть ему конца. – Как архитектура, согласно великолепному определению Гегеля, есть окаменевшая музыка, так искусство в целом представляет из себя застывший в тех или иных средствах выражения творческий процесс, творчество в чистом виде и ничего кроме творчества, а в основе его лежит закон парадокса: невозможное делается сначала возможным, а потом и необходимым.
В сущности и жизнь, как мы теперь знаем, возникла из случая, а это значит, что возникновение жизни было по сути делом абсолютно невозможным, однако чистая случайность, помноженная на бесконечность пространства и времени, дает уже необходимость, так что жизнь, возникшая из случая, и есть то невозможное, которое делается сначала возможным, а потом и необходимым, – вот почему искусство есть не подражание жизни, а выражение ее сердцевины.
Сходным образом чистая, цельная и беспредельная любовь человека к Богу и к человеку, как она провозглашается в Евангелиях, есть вещь настолько же фантастическая и немыслимая, как, скажем, юридическое преследование разного рода иерархиями – от земных до астральных – обыкновенного и по всем человеческим критериям вполне невинного человека, – и как невозможное, делаясь сначала возможным, а потом и необходимым, создает предпосылки для самого великого – потому что самого парадоксального – (то есть в данном случае кафковского) искусства, так принципиальная невозможность евангельской любви становится поначалу бессмертной субстанцией некоего сложно поддающегося жанровому определению искусства, и уже в таком только качестве начинает оказывать на людей неотразимое воздействие.
Антология мировой поэзии
I. – Когда, согласно древним индусским воззрениям, внутри привычной и всем понятной человеческой души живет другая душа: тайная, невидимая и как бы вечно спящая на груди у Господа, и вот обе души подобны двум сестрам-близнецам, настолько сросшимся в глубинном своем сознании и родстве, что все, что переживает одна сестра, живо ощущает и другая, так что по мере того, как одна из них без устали скитается по миру (оставляя в смерти бренное тело, но забирая с собой тонкие разум и чувства), то восходя в горние сферы благодаря доброй карме, то снова возвращаясь в низшие области бытия по причине ее (кармы) ослабления, другая, наблюдая за ней, и сопереживает ей до боли смертельной, и хочет одновременно ее добровольной смерти, потому что только тогда, когда исчезнут раз и навсегда какие бы то ни было телесные и духовные качества – но без них не может существовать ее младшая сестра! – исчезнет и последнее, но, увы! непреодолимое препятствие для слияния с Богом, а лишь в одном этом смысл жизни сестры старшей, – да, проникаясь благородным духом индуизма, в котором столько фантастических элементов – чего стоят сами по себе и вопреки всем физикальным законам увеличивающиеся в размерах каменные коровы, или сверхчеловеческие подвиги йогов, или чудеса очищения в едва ли не самой грязной реке мира – Ганге! – и в то же время столько жизненной теплоты и глубочайшей мудрости – разве мы физически не чувствуем в себе самих трагически-противоречивую жизнь и борьбу обеих душ-сестер? – итак, проникаясь этим живительным и чудотворным духом, мы физически не можем не ощущать в нем квинтэссенцию поэзии, и неизвестно еще, где больше последней: во всех стихах мировой лирики, вместе взятых, или в одной этой прекрасной, но чуждой европейцам религии.
II. – Когда Будда строит свое учение на том, что, во-первых, бытие преходяще во всех без исключения компонентах, во-вторых, что человек, исходя из этого, принципиально обречен на страдание, и в-третьих, что он не обладает на деле какой бы то ни было неизменной и неразрушимой сердцевиной – типа души или Я – однако, с другой стороны, нигде не сказано, что есть или должно быть в мире что-либо непреходящее, и это во-первых, далее, что человек как таковой и не жалуется вовсе на страдание, более того, находит в нем даже своеобразное удовольствие, видит в нем часто высший смысл и в любом случае не может представить жизнь свою без страдания, и это во вторых, и наконец, человек на протяжении практически всей жизни ощущает присутствие в себе некоей постоянной субстанции – назовем ее душой, Я или как иначе – а то, что она (субстанция) сама незаметно изменяется или вообще имеет магическую природу, это уже другой вопрос, – итак, когда Будда строит свое великое учение на фундаменте, который он сам же создал, но создал так естественно и искусно, что нам почти невозможно отделаться от впечатления, что этот фундамент лежит в основе самого бытия, – тогда нельзя не говорить о сотворении быть может самой великой и самой загадочной в жанре религии поэзии.
III. – Когда еврей, согласно иудаизму, после смерти погружаясь в шеол, лишается жизни, но не вечного бытия, когда смерть и мертвые воспринимаются творцами Библии и Торы как до некоторой степени нечистые феномены, потому что иудаизм есть религия вечной и абсолютной жизни, когда не в могиле и не в шеоле обретает еврей свое бессмертие, а только благодаря единоприродности с Богом, и когда, исходя из вышесказанного, вопрос о том, что же конкретно происходит с личностью умерших в шеоле, как конкретно личная субстанция умерших соединяется с субстанцией Бога и в чем конкретно заключается последняя, даже не ставится по причине своей мелочной ненужности, потому что проблема бессмертия человека в иудаизме решается на уровне чистого бытия, то есть помимо сомнительных и спорных толкований – знать-то здесь все равно ничего нельзя до конца, – да, вот тогда-то глубочайшее сходство иных толкований Торы и Талмуда с великой поэзией Кафки бросается в глаза: и как у Кафки неисследимые в своих онтологических основах, а точнее, абсолютно нелогичные и по сути невозможные Закон и Замок определяют тем не менее целиком и полностью жизнь целой деревни, целого города, а может и целой страны, так в иудаизме чистое бытие, казалось бы, приемлемое только в адекватной эллинской или индусской интерпретациях, вопреки элементарной логике обрело идентичность с национальной судьбой иудеев, так что с теологической точки зрения стало возможным утверждать, что все души израильтян, существовавшие в телах на протяжении тысячелетий, были уже в Синае во время заключения союза между Богом и народом Израиля, или, как сказал Франц Розенцвейг: «Мы евреи были с Отцом с древнейших времен, и потому не нуждаемся в посредничестве Сына», поэтому когда еврей во время службы вызывается читать Тору, его чтение всегда заканчивается благодарностью Богу, «вдохнувшему в нас вечность», – с напевом» мы живем вечно» евреи шли в газовые камеры.
IV. – Когда, следуя букве и духу Корана, личность человека состоит из тела и некоего таинственного жизненного принципа, который все мы в себе чувствуем, но о котором знать нам не дано (из чего прежде всего вытекает принципиальная невозможность каких бы то ни было драматических противостояний между душой и телом, коими так любят пробавляться иные мировые религии), когда, далее, Коран утверждает, что только Бог бессмертен и вечен, тогда как Его творение по воле Его преходяще (что вполне можно поддержать, повинуясь элементарной интуиции), когда тем не менее Коран учит, что жизнь продолжается и после смерти, и это начало нового бытия на неопределенное время, оно зовется воскресением и понимается под ним возрождение к жизни целостной личности, причем дальнейшее органическое развитие нашего прежнего жития-бытия в моральном, правовом и всех прочих аспектах переходит на бесконечно более высокий уровень, хотя сказать, каким целям служит это астральное развитие и усиление земной жизни, можно только после воскресения (до чего же искренняя и трогательно-наивная постановка вопроса! сколько здесь подкупающего простодушия, так соответствующего нашему земному опыту!), и когда, наконец, Коран даже настаивает на том, что посмертное личное сознание ничем решительно не отличается от прижизненного и разве что многократно острее его, так что человек полностью забирает на тот свет и все свои добрые дела, и злые, и вину за них, и вообще ответственность за прожитую жизнь (здесь смысл рая и ада, здесь принятие закона кармы и здесь даже созвучие с тибетским буддизмом), – тогда, проникнувшись обаянием этой исконной восточной поэзии, почему-то переложенной в форму теологического трактата, так захочется, встретившись с каким-нибудь необъяснимым явлением жизни, произнести на всякий случай, но больше из любви к чистой поэзии то самое простое и чудное заклятие против привидений и колдовства, которое у нас с детства осталось в памяти после прочтения замечательной сказки Вильгельма Гауфа:
Летаете ль вы на просторе, скрываетесь ли под землей, таитесь ли в недрах вы моря, кружит ли вас вихрь огневой, — Аллах ваш творец и властитель, всех духов один повелитель.V. – Когда бессмертие человека, согласно католической догме, заключается не в бесконечной текучести времени, где по образу и подобию реинкарнации все заново может повториться в той или иной комбинации, а состоит оно (бессмертие) в синтезе исторически обусловленной свободы человека и вызревшего исторического времени, когда наша земная жизнь мыслится не как сцена, с которой мы когда-нибудь сойдем, а как сыгранный на ней в первый и в последний раз спектакль, когда наше грешное житие-бытие не низводится до уровня залы ожидания, где мы со скукой и беспокойством ждем смертного часа, чтобы после него уже и с полным правом, стряхнув с себя прах земной, предстать перед ликом Господним и в нем упокоиться навсегда, когда благодаря свободе и делам, этой свободой порожденным, но также благодаря и божьему провидению мы и жизнь наша никогда не обращаются в прошлое, но и никогда не становятся будущим, зато «присно и во веки веков» являются как бы вечно становящимся настоящим: подобно неповторимому движению, запечатленному в камне, – тогда самое время обратить внимание на то, что католический вариант христианства в сердцевине своей является поэзией, только поэзией и ничем другим, кроме как поэзией.
VI. – Когда протестантизм, продолжая работать с проблемой «квадратуры круга», утверждает, что человек есть душа своего тела и тело своей души, а значит в смерти человек подходит к границе, которую он сам же перешагнуть принципиально не в состоянии, потому что взять тело с собой «туда» нельзя, а без тела дальнейшее существование даже «там» бессмысленно, – и тогда один только христианский Бог и только в обход всех природных космических законов может – это и есть божественная благодать в чистом виде! – предоставить ему искомое и страстно желаемое соединение индивидуального сознания и вневременного существования, – тогда тоже ни о чем ином, кроме как о высоком всплеске метафизической по духу – на манер Рильке? – поэзии говорить не приходится.
VII. – Когда заходишь в какую-нибудь российскую церквушку: белую, выпуклую, как будто надышанную молитвами и просто добрыми взглядами встречных-поперечных, с луковичными куполами, золочеными крестами и обязательно в любое время дня и года воркующими кругом голубями, когда некоторое время стоишь как потерянный посреди кадильно-иконописного неземного очарования, смутно сознавая, что нет ничего более величественного, но и более чуждого земной жизни, чем эта внутренняя атмосфера православного храма, когда еще начинается служба: такая суровая, торжественная и не от мира сего, и люди вокруг точно съеживаются и сплющиваются под ее воздействием, а в их взглядах, точно по команде, восстанавливается одно и то же слитное и в общем-то противоестественное выражение окаменевшей суеты, страха и почтения, когда ощущение и даже сама возможность любви или любящей доброты испаряются постепенно «как дым, как утренний туман», а на их место царственной походкой в человеческую душу входит мистический Ужас, чтобы там уже как на троне осесть навсегда, когда вкруг этого самодержавного деспота рассаживаются в причудливом порядке его верные слуги: здесь и слитное ощущение вечной греховности человеческой, здесь и чудо смерти и воскресения Сына Господнего, здесь и пожизненный долг за такую чудовищную жертву: долг, который по сути невозможно отплатить, и отсюда страх, благодарность, умиление, мистический восторг, бездна комплекса неполноценности, а также садизм и мазохизм в размерах прежде неизвестных и немыслимых, здесь и смирение, и молитва, здесь и торжество космического Парадокса, согласно которому поистине все силы и энергии Мрака, словно тень к предмету, прилепились с обратной стороны к Свету и запредельной Красоте православного христианства… нет, каков все-таки сюжет! после него и на его фоне, как точно подметил Достоевский, привычная жизнь начинает поневоле казаться пресной, – короче говоря, монументальная и всепронизывающая поэзия мистического Ужаса тогда делается настолько очевидной, что все прочее поначалу даже в голову не приходит, – и только потом и по мере пробуждения внутренней работы сознания на новом уровне начинаешь догадываться, что здесь происходит просто испытание человека на элементарное духовное мужество, и что именно самые заветные святыни, как это очень часто бывает, охраняются драконом.
VIII. – Когда гностики утверждают, что наш мир, безусловно в общем и целом лежащий во зле, не мог быть создан Богом, поскольку Бог по определению не может творить зло, а значит мир создан ограниченным в могуществе и уж конечно не добрым в основе своей Существом (Демиургом) – тогда как Бог продолжает существовать в мире в собственном своем качестве несотворимой тонкой животворной Субстанции, лежащей в основе света, добра и красоты, и оба на первый взгляд несовместимых между собой Начала живут и взаимодействуют параллельно, – то эта концепция любому непредвзятому уму представляется настолько естественной и очевидной, что трудно даже поверить, что официальная Церковь придерживается другой и противоположной догмы, а сами гностики-катары были Папой в шестнадцатом веке начисто истреблены, – между тем чем внимательней мы присматриваемся к миру и в особенности к каждой конкретной его вещи, тем трудней, а в пределе даже совсем невозможно строго разграничить здесь добро и зло, свет и тьму, красоту и безобразие: как тут не заметить, что гностический взгляд на мир – кстати, легший в основу бесподобного в художественном отношении «Мастера и Маргариты» – напоминает слишком многие великолепные стихи, которые на нас при первом прочтении оказывают неотразимое воздействие, но которые лучше не разбирать по строчкам, словам и деталям, чтобы не выявилась нечаянно их глубоко не соответствующая теплой и многомерной прокладке вещей однозначная и достаточно искусственная природа?
IX. – Когда для всех стало уже давно очевидным, что чем конкретней задачи познания, тем удовлетворительней они решаются, а чем, наоборот, всеобъемлющей последние, тем неизбежней антиномический их результат, то есть в прямой арифметической, если не геометрической пропорции самым важным и насущным запросам души человеческой рождаются самые неопределенные ответы на них, и ничто не может изменить этого основного закона гносеологии, – так что все известные нам философские системы, не говоря уже о мистических или эзотерических их отклонениях, суть порождения духа великой Неопределенности – а что это как не поэзия? И разве что жанры здесь не имеют ничего общего с ритмом и рифмой, – да, тогда нельзя не сделать вывод, что если есть стихотворения в прозе, то почему бы не быть высокой, умозрительной, широко развернутой, пусть зачастую малопонятной, зато всегда и заранее исключающей какое-либо однозначное решение проблемы лирике философского поиска? в конце концов от любого хорошего философского сочинения у нас в голове остается тоже лишь общее впечатление, и оно всегда музыкального порядка: где здесь разница с итоговым впечатлением от прочитанного когда-то талантливого и запомнившегося стихотворения?
X. – Когда, выглядывая из окна, мы видим в миллионный раз эти дома и деревья, эти подъемные краны и купола церквей, эти облака и прогуливающихся под ними людей, у нас в душе появляется одно и то же странное, субтильное и противоречивое ощущение: с одной стороны, все эти бесконечно знакомые нам вещи связаны взаимно почти семейной, родственной связью (что-то теплое, надышанное и трогательное есть в их осмысленно-бестолковом нагромождении: так родные и близкие толкутся на узком пространстве по случаю какого-нибудь формального семейного торжества), но, с другой стороны, нас тут же пронзает острая догадка о том, что каждая из видимых вещей мира сего обусловлена тысячью причин и при сбое хотя бы одной из них она не могла бы и наверняка не сможет когда-нибудь существовать, – отсюда глубочайшая внутренняя ранимость любой вещи, даже неодушевленной, об одушевленных и говорить нечего: иной раз просто внимательное наблюдение за ними вызывает боль на сердце, – и вот эта пронзительная трогательность вещей, обусловленная их преходящностью, начинает тонко контрастировать с возможностью их возвращения – да, они обречены на исчезновение, но почему, раз придя в этот мир, они не могут еще раз в него возвратиться? ведь для случая бесконечность времен не играет никакой роли, и все происходит как в одно мгновение, – и тогда вечность вещей приобретает уже не платоновскую абстрактную и неубедительную для сердца природу, а вполне живую и волнующую: вот таким образом понятая и прочувствованная вечность и лежит, думается, в основе нашего самого, самого, самого первичного восприятия мира, которое иначе как глубоко поэтическим не назовешь, – и лишь потом и постепенно нанизываются на него (восприятие) все прочие мысли и ощущения.
XI. – Когда от человека далекого и неизвестного остается после смерти просто сообщение о его существовании, от человека, вошедшего в информационное поле человечества, тире между двумя крайними датами, далее, от человека немного нам знакомого пара воспоминаний и отрывочных суждений, и наконец от человека близкого и родного целая жизнь, которая, будучи «с кровью» оторвана от первоисточника, начинает вести призрачное существование между небом и землей, – вот тогда, задумываясь о том, что же общего во всех этих «остатках», невольно приходишь к обнаружению некоей первичной и глубоко поэтической в своей основе связи между всем живым на земле и в «мирах иных», – а размышляя дальше об этой связи, сообразно индивидуальному мироощущению, можно прийти – и наверняка придешь! – к созданию всех мировых религий и философских систем, – ну а если дальше продвигаться на ощупь по этому тернистому пути, то, кажется, так и выйдешь на сотворение мира сего как на корень любой поэзии.
XII. – И когда (чтобы как-нибудь закончить тему), начитавшись о подвигах Будды, проникнувшись невероятной внутренней красотой его учения, убедившись, что трудней и парадоксальней этого духовного пути ничего на свете нет и быть не может – а значит, заявка на Истину подана и дело рассматривается в высших Инстанциях! – мы отправляемся по его (Мастера) стопам: то есть записываемся для начала в какой-нибудь буддийский семинар, которые повылезали в Европе точно грибы после дождя, – и регулярно посещаем его, слушаем умные доклады, прилежно медитируем на стуле или коврике, едем даже на месяц-другой в специальный медитативный лагерь и в самом дальнем пределе конечно же уединяемся ненадолго в здешнем буддийском монастыре на фоне всегда (!) изумительной природы, – но потом, когда выясняется, что во время коллективной медитации мы почему-то никогда не могли до конца подавить громкое проглатывание слюны, а в лагере ощущали странную тоску, так напомнившую нам совершенно некстати те самые, далекие и незабвенные пионерские лагеря, да и в монастыре наши соседи по кельям-комнаткам умудрились создать для нас такую атмосферу, что мы за все время нашего пребывания в святом месте не продвинулись духовно ни на шаг, – итак, когда мы все это четко и трезво осознаем и подытожим, мы поначалу будем безусловно болезненно переживать наше духовное поражение, как переживал его возвратившийся домой незабвенный странствующий рыцарь Дон Кихот, однако потом… вот именно: что будет потом? странным образом история заблуждений оказалась единственным содержанием жизни сервантовского героя, ничего другого у него не было, и если бы он не умер, а выздоровел, то ему пришлось бы до скончания дней своих жить со своими единственно правильными жизненными установками: мы, правда, разделяем их целиком и полностью, однако чувствуем в глубине души, что даже мало-мальски хорошего романа о них не написать, – и вот точно таким же прозревшими донкихотами мы возвращаемся рано или поздно из буддийских (да и любых других) приключенческих походов домой, в нашу повседневную действительность, и единственный вопрос, который отныне будет вечно висеть над нами, состоит в том, где же все-таки больше поэзии: в жизни прежней и поисковой или теперешней и оседлой?
Поэт и царь. – Деспотическая власть потому недолюбливает поэтов, что чувствует в глубине души – а у такой Власти, как и любого демона, тоже есть душа – что поэтический дар по природе своей слишком односторонен, чтобы охватить жизнь во всей ее существенной целокупности, а именно это для демона власти есть вопрос жизни и смерти: ведь ничто в мире не бывает случайным, и если в тот или иной исторической момент и в той или иной отдельно взятой стране бразды правления захватила кровавая элита или единоличный тиран, то и для этого есть какие-то глубокие исторические основания, но вывести их на свет божий, а главное, оправдать на весах бытия – то есть перед лицом вечности – может только художник, большой художник, художник большой прозы, лирическому же поэту такая задача просто не по плечу, – и вот демон власти инстинктивно тянется к таким художникам, заигрывает с ними, всячески их поощряет свершить великое таинство художественного преображения жизни, дабы самому в качестве того или иного персонажа или на худой конец в «атмосфере между строк» обрести вечное бытие.
Да, демон власти, демон-провокатор, демон-убийца знает, что перед судом морали ему никогда не оправдаться, поэтому он заранее презирает и ненавидит этот суд, предпочитая ему высший суд (прозаического) искусства, а поэтов, даже самых талантливых, причисляя к апологетам морали и, нужно сказать, не без некоторого основания: ведь поэты не могут создавать законченного образа человека, их удел творить лишь образные чувства и мысли, а это еще не все, это, как говорится, «на любителя», это очень редко проходит сквозь игольное ушко последнего преображения и оправдания жизни.
И потому когда разгорается смертоносный конфликт между оппозиционной лирикой и деспотической властью, и первая оказывается в положении голубя в когтях коршуна, не следует все-таки забывать – исключительно справедливости ради – что и на нем, этом душевно чистом и трогательно-невинном, как голубь, участнике конфронтации, лежит некая малая и, если угодно, мистическая вина (злые языки вообще поговаривают, что никакая противоборствующая сторона не может быть вполне невинной): вина однострунного озвучивания жизни.
Казалось бы психологически невозможное соединение дерзости и пошлости. – Как победный исход шахматной партии всегда и без исключения зависит от того, сумеет тот или иной игрок вжиться в дух позиции и, исходя из этого, делать ходы, которые (белые или черные) сами бы делали, если бы могли их делать, как, далее, влюбленный мужчина, ведя высокую любовную игру, ориентированную на брак и долгую семейную гармонию, будет делать не то, что хотел бы иной раз его эгоистичный и вожделеющий двойник, и даже не то, что хотела бы местами вторая и капризная натура женщины, а только то, что делало бы само их любовное отношение, если бы могло это делать, как, продолжая тему, любой выдающийся исторический деятель всего лишь олицетворяет уши, глаза, голос, руки, ум и сердце исторического Хода Вещей, не внося в него по возможности никакой отсебятины, и как, наконец, художник тогда лишь создает подлинное искусство, когда герои его ведут себя так, как будто никто их не создавал, – так дух игры, пронизывающий до последней поры тело этого мира, осуществляя как бы заодно и помимо множество хороших и добрых дел – тут и загадочное соединение души с телом, тут и эволюция, тут и почти врожденное человеку стремление к одухотворенности, тут и некоторые постулаты мировых религий – все-таки в основе своей остается первозданным или, лучше сказать, несотворимым Началом, то есть таким, которое ничем не определяется, но само все определяет, и пытаться постичь его – это все равно что опять-таки идти вовнутрь иглы: иными словами, никогда и ни при каких условиях не довольствоваться любыми посторонними и внеположными источниками Мировой Игры во всех ее бесконечных проявлениях.
А из этого в свою очередь прямо вытекает, что становящееся все больше популярным представление о том, что мы живем в матрице, то есть виртуальном мире, созданном будущими высокоразвитыми цивилизациями, это представление, основанное, во-первых, на врожденном человеку инстинкте игры и, во-вторых, на якобы неограниченных возможностях компьютерной техники, только на первый взгляд манит завораживающей эвристикой, – на самом же деле оно, это представление, во-первых, не учитывает столь же элементарного, сколь и философски необъятного постулата о том, что все в мире ограничено в своих возможностях, а значит «бабушка еще надвое сказала», будто компьютер когда-нибудь создаст мир, в точности напоминающий тот, в котором мы живем, и во-вторых оно, выше заявленное представление, сравнительно и с философией игры, лежащей в основе самой жизни, и с непостижимыми реинкарнационными играми «богини-Кармы», и с очень похожим на правду образом господа-Бога, перед взором которого мы разыгрываем наши земные спектакли во всех одному ему известных жанрах, со смертью выходя из игры, как актеры уходят со сцены, – да, нужно быть совершенно тупым и невосприимчивым к вопросам высшей эстетики бытия человеком, чтобы не увидеть вопиющую – причем именно метафизическую – примитивность концепции «искусственной интеллигенции», организовавшей для нас всю нашу жизнь и тем самым играющей с нами, сравнительно хотя бы с тремя упомянутыми вариантами первозданной космической Игры, правила которой, а тем более ее создатель для нас были, есть и будут сокрыты в дымке непроницаемой тайны, – и если наличие подобной тайны как основы бытия для поклонников «покемонов» точно «бельмо в глазу», так ведь и сам факт существования иноземных цивилизаций точно такая же гипотеза, – и воображать, будто мы когда-нибудь узнаем о представителях якобы сотворивших нас высших существ больше, чем мы знаем о господе-Боге, богине-Карме или просто им тождественной загадочной Жизни с большей буквы, есть на повседневном уровне мышления самая обыкновенная дерзость, а на уровне философского мышления самая обыкновенная пошлость.
VII. Дверь в стене
Детство во время болезни. – В раннем детстве во время болезни, лежа с высокой температурой в постели, когда за окном ласково светит апрельское солнышко и ручьи, точно пот, с журчаньем выходят из тающих сугробов, – и такая грусть струится снаружи в открытую форточку, потому что нельзя выйти погулять, и забываешься ненадолго в любимых книгах, а потом засыпаешь, снова просыпаешься, принимаешь лекарства и опять читаешь… глядь: незаметно стемнело и вот уже занавеска в лунном свете разыгралась на стене, что это? уходящая комнатная явь или начинающееся фантастическое сновидение? смутным страхом пронизано каждое душевное ощущение, а листва все напряженней льнет к ветвям, но ведь это прошлогодняя листва! выглядываешь в окно – сцена полночи мертва, как декорации к сыгранному спектаклю, – и вдруг, проснувшись посреди ночи, слыша дыхание родителей рядом, вспоминая сон и видя колебание теней на стене от занавески, точно уже знаешь, что есть на самом деле та заветная дверь в стене: ведь только что ты приоткрыл ее и, пройдя несколько волшебных ступеней, благоразумно вернулся… ты войдешь в нее как-нибудь потом, позже… все равно она никуда от тебя не уйдет.
И поверьте, когда-нибудь потом, спустя долгие-долгие годы, скорее всего поздним вечером, когда дети уже уснут и по всей детской комнате – на полу, на столике и на кровати – прилягут, точно устав от игры, в живом беспорядке игрушки: здесь будет и кот в сапогах, и свинка в юбочке, и паровозик, и плюшевый мишка, и все они в серебряной полосе лунного света, что потянется наискось через всю комнату сквозь неплотно задернутые шторы, под разными углами станут смотреть в потолок и на стены, точно думая думу свою, – да, вот тогда и покажется взрослым, тихо приоткрывшим дверь, чтобы в последний раз перед долгим ночным сном взглянуть по привычке, все ли в порядке с их детьми, – да, им покажется, что эти игрушки, цепенея волшебном наитии, хотят вспомнить, но не могут, кто же был тот странный волшебник, отнявший у них память, – ведь и завтра, когда наступит утро и игрушки оживут в детских ручонках, та же самая неизгладимая немая печаль останется на игрушечных личиках: вот ее-то, кроме самих игрушек, замечают только взрослые, которые болели в детстве, которые помнят свои мятущиеся сны во время болезни и которые до сих пор втайне убеждены, что только в тех снах видели они волшебную дверь в стене, что открывается в иные миры, в том числе и в мир игрушек.
Страж Закона. – У славного А. Конан Дойла есть короткий, но великолепный этюд под названием «Дверь в стене», действительно, нет лучшего сравнения искусства по отношению к жизни, нежели эта невидимая для большинства людей дверь в стене, которая, кажется, для пущего правдоподобия была еще обвита плющом, – и если допустимо одно и то же сравнение употребить дважды, то вот вам лапидарное и вместе самое точное описание сущности буддизма: как бы его литературный символ и герб.
Итак, есть стена, обвитая плющом, есть миллионы людей, что снуют мимо нее взад-вперед, изо дня в день, из года в год, из века в век, и есть немногие избранные, которые видят ее, открывают, и исчезают за нею навсегда, это и есть те безумцы, что решают безвозвратно выйти из магического круговорота рождений и смертей, за пределы всяческого бытия во всех его мыслимых и немыслимых формах.
Эти люди – буддисты, а куда они, собственно, исчезают, когда закрывается за ними дверь в стене? сам Будда по возможности избегал ответа на этот вопрос, а когда все-таки, уступая настойчивым просьбам монахов, давал некоторые пояснения, то почему-то выходило всякий раз, что они представляли собой предельно загадочное, предельно парадоксальное и в любом случае предельно поэтическое решение уравнения о жизни и смерти, вот некоторые тексты. – «как исчезает задутое пламя, и нельзя вообразить, каково его состояние, так же и мудрец исчезает из тела и ума, и нельзя вообразить его состояние», или. – «точно так же, Вакча, при описании татхагаты (здесь имеется в виду любой просветленный, такой, как архат), когда форма, чувство, восприятие, психические формации, сознание, при помощи которых можно его описать, оказались отброшены, татхагата, отрезав их под самый корень, сделав их подобными пальмовому пню, отделившись от них навсегда, так что они уже не проявляют склонности к будущему возникновению, – он освобожден от возможности вычислить его в понятиях формы, чувства, восприятия, психических формаций, сознания: он глубок, неизмерим: трудно дойти до его дна, как трудно дойти до дна океана: к нему неприменимо понятие вновь возникает, неприменимо понятие возникает и не возникает, неприменимо понятие не возникает и не возникает».
И так далее и тому подобное, решение уравнения, как видим, состоит в полном соответствии с конфигурацией двери в стене: архат видит дверь, открывает ее, и исчезает за нею, но нигде не сказано, что за дверью существует какое-либо метафизическое пространство, будь то рай или ад или чистилище по христианским представлениям, будь то туннель и свет, как это в один голос сообщают умершие клинической смертью и возвращенные к жизни, будь то вечные астральные миры, так странно напоминающие земные поселения и ландшафты, согласно свидетельствам Эм. Сведенборга, будь то ментальные и идеальные области бытия, предшествующие последней божественной Реальности, как это утверждают величайшие йоги масштаба Бабаджи и Парамахансы Йогананды, и будь то даже изначальная Блаженная Пустота и Дух, в которых обитают многие Будды и просветленные Существа, как считают тибетские буддисты.
Никакого такого метафизического внеземного пространства исторический Будда не признавал, то есть именно для просветленных и окончательно освобожденных людей, как не признавал он и классической альтернативы: полного небытия и ничто, ничего подобного! просто – дверь в стене открывается и снова закрывается, – и все.
Как же это напоминает ситуацию поселянина из притчи о Законе в кафковском «Процессе», желавшего во что бы то ни стало проникнуть в недра Закона, но удерживаемого бородатым привратником! – «И вот жизнь его подходит к концу, – сообщает Кафка. – Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу… как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме него, не требовал, чтобы его пропустили?», – и привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услыхать ответ: «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного, теперь пойду и запру их».
А если бы за дверью в стене был проход, куда бы он, собственно, вел? чтобы ответить на этот, в сущности, насквозь гипотетический и безответный вопрос, нужно как следует вдуматься в ту вечную и банальную истину, что все течет и все изменяется, – вот как это должно происходить: когда мы умрем, только родные и близкие будут помнить о нас, когда умрут и они, память перейдет к детям, от них – к внукам, дальше – к правнукам, и как мы не помним о третьем сверху поколении, так уже третье снизу поколение утратит начисто живую память о нас, что же говорить о четвертом, пятом, десятом, сотом поколениях? только слава и генеалогический культ останавливают этот естественный процесс тотального забвения, хотя тоже искусственным путем, – имя, облик, привычки, биография, дела – все это как мертвый кокон, из которого вылетела живая бабочка.
Но куда же она вылетела? умерев, человек мотается семь недель по астральным мирам, а потом входит в чрево новой матери, и никто его уже не узнает и сам себя он не узнает, за редчайшими случаями, когда человек вспоминает, кем он был прежде и где жил, – и все начинается сначала, преходящность вещей празднует в реинкарнации свою величайшую победу; а если все-таки душа остается в астрале? но и там она должна претерпевать какие-то изменения, пусть замедленные и незаметные, однако – вода даже камень подтачивает, это только сразу после смерти нас встречают близкие родственники, чтобы, сердечно поприветствовав, помочь освоиться в непривычной обстановке посмертного бытия, а потом и они исчезают, и нигде не сказано о повторных встречах, а тем более об общении многими поколениями отделенных друг от друга родственников.
Я представляю себе, с какими трудностями я бы столкнулся, вздумай я после смерти искать мою прапрабабушку, произошло бы наверное вот что: я спросил бы отца и мать – если они ушли до меня – где она, те, подумав, мыслью бы указали мне направление, быть может, не одно и то же, мать указала бы в одну сторону, а отец – в другую, они ведь и в жизни не ладили, так, что дело дошло до развода, но я исследовал бы на всякий случай оба направления, и множество душ, и ангелов, и еще прочих существ, о которых я не подозревал, встретились бы мне на пути, и каждому я задавал бы один и тот же вопрос, и, выслушав его, они либо испускали в знак любви свет, либо сообщали мне что-то очень для меня важное, либо провожали к следующей иерархии.
Но и там я встретился бы с затруднениями, потому как прапрабабушка моя за истекшее время настолько изменилась, что никто точно не знал, в каком духовном облике теперь пребывает и где именно находится: одни показывали бы на одно ангельское видение, другие на другое, третьи отсылали бы меня обратно на землю, четвертые в иную астральную сферу и я, наверное, был бы немного удивлен, что никто из них точно ничего не знает, а они в свою очередь были бы удивлены, что я занимаюсь подобными пустяками.
Короче говоря, дело бы наверняка закончилось полным недоразумением, так или иначе, это я уже знаю теперь, даже еще не умерев, и потому, когда придет мой час, я почти уверен, что искать мою прапрабабушку в астрале не стану, слишком уж все течет и все изменяется, а значит, и проход за дверью в стене ведет в никуда.
Стало быть, Кафка прав и для каждого существует своя и по-видимому единственная дверь в стене, параллель к буддийскому взгляду на жизнь очевидна: человек не в силах выйти за пределы отведенного ему его кармой образа мышления, чувствования и поведения, а любое его физическое и душевное движение неумолимо ведет к новой карме, создает следующее бытие и таким образом оказывается, что мы всегда находимся как бы в замкнутом пространстве, точно в туннеле или в замкнутом круге, выхода из которых по сути нет, хотя нам упорно кажется, что мы живем на свободе и под открытым небом, но это потому, что мы развиваемся, или нам кажется, что мы развиваемся, а развитие, любое развитие – это путь наверх, в небо и в бесконечность, и всякий раз, когда мы подводим итоги той или иной жизненной фазе, а тем более жизни в целом, мы убеждены, что чему-то научились и поднялись таким образом на следующую ступень, то есть как бы приблизился к Закону, пусть незначительно, но все-таки! важен принцип, а путь наш долог и тернист! и там столько еще дверей! и перед каждой из них сидит бородатый привратник! и делает все, чтобы мы остались снаружи!
Но поразмыслим здраво: если Закон один для всех, а путей к нему столько, сколько живых существ в мире, тогда говорить о Законе можно только в ключе кафковской субтильной иронии, и потому когда мы читаем сцену в Соборе, нам кажется, что там точнее, чем в любой религии или философии, описано то, что принято называть Истиной, – и все-таки мы продолжаем искать Истину у философов и духовных учителей: по инерции что ли, или из страха в художественней выдумке признать достижение последней реальности, – это как в русских сказках об Иванушке-дурачке: он всегда оказывается первым и победителем, а умные и старшие братья его промахиваются, потому что они идут к цели слишком уж прямым путем, напоминающим дважды два четыре, они как бы не учитывают маленький икс, скрытый не столько в цели, сколько в пути к ней, – икс и есть художественная природа Истины. И потому те, кто попадают в яблочко, удивляют: так удивляет любое высокое искусство и так удивляет любое духовное учение, но в той лишь степени, в какой оно пронизано духом искусства, – итак, если любое искусство удивляет и помимо удивления нет искусства, то кафковская проза – это удивление в квадрате, стоит только вообразить себе, что всякое действие оставляет след и что даже учение о том, как упраздняется карма, есть тоже своего рода карма, – и тогда даже Будда в какой-то мере становится героем кафковской Притчи о Законе.
Любопытно, что тибетские буддисты так именно и усвоили буддизм, они не стремятся к ниббане, а быть может и не верят в ее отдельное от сансары существование: в самом деле, следовать завету оставаться в этом мире – путем перерождений – до тех пор, пока страдает хотя бы одно-единственное существо, значит просто найти мыслимо наилучший предлог не покидать его, потому что мир наш по определению предполагает страдания.
Итак, получается, что экзистенциальная ситуация человека в мире настолько уникальна и неповторима, что для каждого из нас существует быть может действительно одна-единственная Дверь в Закон, невидимая и недоступная другим, идентична ли она «двери в стене»? любопытный вопрос, здесь камень преткновения всех без исключения религий и родственных им эзотерических учений, созданных и руководимых духовными Учителями: последние, судя по всему, отыскали свою Дверь и вошли в нее, но как может ввалиться туда толпа учеников? не следует ли им искать собственную калитку, как бы мала и неказиста она ни была?
Монолог перед дверью. – Все-таки наше самое заветное желание состоит в том, чтобы в жизни было что-то по-настоящему волшебное, чтобы это волшебное было инкрустировано в жизнь на правах естественной закономерности, как закон тяготения или сохранения и превращения энергии, и чтобы мы верили в это волшебное и никогда о нем не забывали.
Так это или не так, трудно сказать, во всяком случае когда я невзначай заглядываюсь на медленно падающий снег, или тихо наблюдаю за хлопочущей по хозяйству женой, или слушаю Баха, или задумываюсь о множестве многозначительных совпадений в моей жизни, или ловлю вопросительный взгляд моего кота, всегда означающий одно и то же, а именно: не пора ли нам снова поласкаться? или просто читаю какую-нибудь великую книгу, например, «Три мушкетера» или «Процесс» или «Мастер и Маргарита» – примеров очень много, – так вот, в такие минуты мне кажется, что я реально встречаюсь с волшебной стороной жизни.
В этом не может быть никаких сомнений, потому что сами глаза, мои глаза или глаза любого другого человека, который бы совершил действия, подробно описанные в предшествующем абзаце, никогда не обманывают, – а они в эти моменты приобретают выражение, о котором без преувеличений можно сказать, что оно немного «не от мира сего».
Наверное, эти глаза увидели ту самую волшебную дверь в стене, о которой так замечательно поведал нам бесподобный Артур Конан-Дойл, – но что же мы видим, открыв ее и войдя вовнутрь? мы обнаруживаем всю ту же самую родимую нашу повседневность, – и мысль, что мы нашли то, что искали, и вместе странная грусть, связанная с поиском чего-то другого и по крайней мере неповседневного, а также внушенная нам Учителями вера в то, что в один прекрасный момент, войдя в «дверь в стене», мы увидим за нею пейзаж, в котором не будет уже никакой новой двери, и наши вечные и мучительные поиски наконец раз и навсегда завершатся, и тут же тайное сомнение в том, что, случись это долгожданное событие, мы будем, пожалуй, сожалеть об отнятой у нас заветной «двери в стене», и многое отдадим за то, чтобы снова искать ее, – итак, весь этот конгломерат глубоких и противоречивых чувств показывает нам, что, «дверь в стене» всегда и без исключения приоткрывается по крайней мере в минуты обращения сознания в детство… все же прочие «двери в стене» сомнительны или индивидуальны.
Итак, классическая «дверь в стене», как мы помним, остается густо заросшей плющом прошлого и воспоминаний о нем, что же тут особенно загадочного? но так и должно быть, – жить в сказке далеко не так интересно, как жить в были, чрезвычайно напоминающей сказку, – это и есть наша жизнь, она начинается с детства, а главный дар детства – это феномен волшебства, откуда же берется волшебство?
Когда тот или иной феномен жизни, безразлично какой, мы склонны воспринимать только в его начале, не давая себе труда проследить его дальнейшее и неизбежное развитие к середине и концу, не желая увидеть его границы, а с ними и его естественные ограничения и слабости, самое же главное, когда мы заменяем ясное и четкое понимание феномена неким смутным фантазированием о нем, – вот тогда практически любой феномен жизни в наших глазах становится до определенной степени – волшебным; кто не помнит, какое впечатление в пятилетнем возрасте на нас производили обыкновенные комнатные вещи, облитые лунным светом, как волнующе билось сердце от шума проезжавших под окном троллейбусов, как всегда по-иному и в волшебном ключе мы истолковывали все то обыкновенное, что говорили нам взрослые?
Разумеется, никакой нормальный ребенок не может обойтись без сказок, но все-таки характернейшая особенность детской психологии – это потребность и умение в самой окружающей повседневной действительности находить волшебные черточки и жить ими, происходит же это, повторяем, тогда, когда явление жизни воспринимается в его начале, а додумывание середины и конца его подменяется искренним и живым фантазированием о нем, причем не обязательно ребенок верит всерьез тому, о чем он фантазирует, он совсем не дурак, ребенок скорее умно и со вкусом играется своими фантазиями, и верит в них только тогда и поскольку, когда и поскольку хочет в них верить, а когда не хочет, воспринимает мир с точно такой же серьезностью, как и взрослые.
Тем самым между восприятием действительности ребенком в счастливые часы беспрепятственного розыгрыша его фантазии и классическим восприятием взрослыми мира искусства нет никакой существенной разницы, более того, как из семени ясеня произрастает ясень, так из незамутненного детского взгляда на жизнь с годами естественно и неизбежно вызревает искренний интерес и любовь к искусству, при условии, опять-таки, что ребенок был настоящим ребенком, как это происходит? в детстве мы склонны воспринимать все явления жизни в их чистом начале, всякое начало ведь невинно и чисто, в нем нет тяжести, нет страданий, нет даже забот и огорчений, – начало как таковое не знает ни умудренного продолжения, ни тем более печального конца, чистое начало прозрачно, легко и светло, и во чреве каждого начала, как гласит поговорка, незримо пребывает волшебство.
Что такое волшебство? это в конце концов не что иное как вечная жизнь, но вечная жизнь невозможна, противоречие в определении? почему же? тот самый ребенок, став взрослым, берет в руки книгу и, хотя герой ее в финале умер, читает о нем снова и снова, и заново переживает его литературную судьбу, и это ему странным образом не надоедает, и пока он о нем читает, его персонаж жив, хотя он и знает, что тот как будто уже умер или скоро умрет.
Собственно, вот это странное, загадочное блуждание читательского сознания между, казалось бы, несовместимыми мирами, каковы жизнь и смерть героя, или раскручивание заново наизусть известного сюжета, или вообще живой интерес к вымышленной реальности, ничего общего с реальной реальностью не имеющей, – да, пожалуй, в этом и состоит волшебство творческого сопереживания.
Хотя мы проследили судьбу персонажа до конца, возможность ее сопереживания заново, снова и снова, доказывает как раз наличие чистого начала в эстетическом восприятии, а последнее, как сказано выше, всегда и без исключений таит в себе некоторое онтологическое волшебство, – стоит только задуматься: факт кончины героя или его необратимого исчезновения из поля зрения нисколько не умаляет нашего читательского, повторного и многократного его сопереживания, мы снова и снова возвращаемся к биографии ушедшего в финале из жизни персонажа, и более того, в накладывании этого финала на сюжетное действие и в особенности на зачин романа ощущаем даже особенное эстетическое наслаждение.
Здесь и главное отличие искусства от жизни: вот так, как вымышленных персонажей, воспринимать живых людей нам не дано, есть какая-то тонкая черта, разделяющая выдуманных гением художника образов от настоящих людей, – близость между ними невероятная, особенно в случае, когда живые люди давно ушли из жизни и оставили после себя колоссальный след, читай: великие и известные люди, но в любом случае наше восприятие их, несмотря на всю свою предельную субтильность и глубину – в самом деле, что может быть тоньше и глубже размышлений о былой жизни сквозь толщу веков? – все-таки фатально лишено волшебного элемента, есть над чем задуматься, – итак, волшебство вкраплено в повседневную жизнь на правах мгновений, они приходят и уходят, и их, как синицу, нельзя удержать в руке.
Вот из волшебных мгновений жизни, поданных так, что начало в них тонко и незаметно превалирует над серединой и концом, создается произведение искусства, однако восприятие его, в котором задействованы обычно все наши духовные и душевные качества, требует постоянного и напряженного труда, что в свою очередь несовместимо с ощущением благоухающего и первозданного волшебства, – вот почему, несмотря на то, что великие произведения искусства заключают в себе на вес «килограммы и тонны» подлинного волшебства, мы, воспринимающие, все-таки предпочитаем им волшебные мгновения жизни: те самые, которые пусть на короткое время, но делают наши лица и взгляды поистине прекрасными.
Тонкая разница между таинственностью и загадочностью. – Есть два взгляда на жизнь настолько разных и противоположных и в то же время настолько метафизических, но также и просто оптически родственных и родных, что, кажется, достаточно их до конца проследить, – и жизнь предстанет перед тобой как на ладони, – тем более, что взгляды эти, разбегаясь в противоположных направлениях, сходятся, как будто у них единый центр: правда, их отличают разные предметные среды, в одном случае – стекло, а в другом – зеркало, но именно поэтому, наверное, они и позволяют увидеть предмет рассмотрения с исчерпывающей полнотой.
Итак, когда я, сидя на диване, смотрю в балконное окно, вижу там облачное небо, смыкающееся на горизонте с Альпами, вижу пейзаж с двухэтажными домиками и перемежающимися деревьями, уходящий от моего дома как от периферии к центру и стало быть тоже к Альпам, вижу параллельно и в «очах души» всю на девяносто процентов прожитую жизнь, вечно ищущую какого-нибудь осмысления и всякий раз, за неимением лучшего решения, склонную обращаться в прошлое и к детству, то есть символически к тем же самым Альпам, – итак, когда я вижу все это, жизнь как таковая мне представляется глубоко таинственной.
Но как только я бросаю взгляд на зеркало на стене, находящееся к балконному окну под углом примерно в тридцать градусов и наблюдаю там почти тот же ландшафт, но в отраженном варианте, мысленно наблюдаю и прожитую жизнь, мгновенно ощущаемую в ином, противоположном, но странно близком первому ключе, итак, когда я наблюдаю в зеркале все это, – то та же самая жизнь кажется мне уже не таинственной, а загадочной.
Между таинственностью и загадочностью разница тонкая, но принципиальная.
Тайна не любит и не выносит зеркала, тогда как загадочность составляет душу зеркального отражения; тайне всегда сопутствует ощущение, будто она вот-вот раскроется, и даже если этого не произошло мы все-таки продолжаем его испытывать, загадочность же – хотя в корне ее лежит довольно незасмысловатое словцо загадка, подразумевающая обычно разгадку, но нужно ли спорить о словах? – не оставляет намека на свое прояснение; обращаясь к метафизике, мы видим, что тайна напитана «вещью в себе», в чем бы последняя ни заключалась, тогда как загадочность не хочет знать ни о какой «вещи в себе»; мир, которым правит незримый демиург, глубоко таинственен, но тот же мир, существующий сам по себе, неисследимо загадочен; темна и непроницаема по своей природе тайна, а загадочность всегда светла и прозрачна; таинственно до последних глубин христианство (если верить в его первоосновы), тогда как буддизм предельно загадочен (причем независимо от своего творца), хотя в пределах самого буддизма тибетский его вариант, провозглашающий первооснову бытия, а также промежуточное существование человека в астральном мире между соседними инкарнациями протяженностью в сорок девять дней, больше таинственен, чем загадочен.
И от романов Достоевского на нас веет вечной тревожной и темной тайной, и нам кажется, что мы ее вот-вот разгадаем, стоит поднапрячься духом, хотя этого не происходит, но попытка не пытка, – и цветет пышнейшим цветом вокруг Достоевского филология; зато в зрелом творчестве Льва Толстого никакой тайны как будто нет, так что и разгадывать-то нечего и филология там неуместна, – но быть может именно поэтому оно представляется нам глубоко загадочным.
Бах таинственен, Моцарт загадочен; осень таинственна, весна загадочна; стихи таинственны, проза загадочна; прошлое и будущее таинственны, настоящее загадочно; представление о Я, которое умудряется пройти сквозь игольное ушко смерти в виде ментального тела, чтобы продолжать свой кармический цикл, таинственно, а мгновенное преображение Я в другое Я, относящееся к нему, как причина к следствию, загадочно; таинственна, наконец, любовь, зато невозможность для иных людей не только полюбить друг друга, но даже мало-мальски сблизиться, кажется нам загадочной.
Вообще все основные проявления жизни – хотя бы по той причине, что мы в них всегда и без исключения видим больше, чем они есть на самом деле – таинственны для нас, тогда как безостаточное упразднение всякого «больше, чем на самом деле» порождает всеобъемлющую пустоту, которая парадоксальным образом ощущается нами как верх психологической загадочности: чем больше чувств, ума, опыта и интуиции мы включаем в наше понимание мира, тем таинственней кажется нам этот последний, а чем, напротив, последовательней мы отказываемся от органов восприятия, предоставляя «безответный ответ» тому, что свершается само собой и помимо них, тем ощутимей становится беспонятийная и бессловесная субстанция «чистой загадочности», сквозящая в ответе.
В детстве склонны мы были во всех явлениях улавливать их таинственную, казавшуюся нам волшебной, подоснову, и это было нормально, такова особенность любого настоящего детства, но рано или поздно детство уходит, а с ним и его невинное волшебство; однако пройдут еще десятилетия, прежде чем на смену таинственности придет загадочность, если вообще придет! и эта биографическая эпоха между той и другой, эпоха безвременья, эпоха вечных поисков, эпоха сомнений, эпоха «бури и натиска», одним словом, слитная эпоха юности и созревания, – она самая трудная в жизни человека, ее надобно еще выстоять и выдержать, без цинизма и чувства опустошенности, без страха и унизительной, чрезмерной жадности к жизни.
Когда же глубоко уравновешенная и уже не волнующая душу загадочность – потому что она выше всякого волнения – приходит на место былой и вечно томящей таинственности, и удавшаяся старость протягивает руку удачливому детству – хотя такое происходит далеко не со всеми и это тоже своего рода подарок судьбы! – тогда-то и восстанавливается в душе, раз и навсегда, как ее отныне интимнейшая и основная мелодия – то самое сложное и вместе самое простое чувство, которое и прежде нас изредка посещало, но которому мы не верили, считая его надуманным, и которое так точно выразил Б. Паскаль: «Равным образом непостижимо, что есть Бог, и что Его нет, что душа связана с телом, и что бессмертной души вовсе не существует, что мир сотворен, и что он пребывает от века, что есть первородный грех, и что его нет». (Мысли. Пирронизм. 333). Итак, мы всю жизнь искали что-то такое, что нельзя найти, и пока оставалась иллюзия, будто то, что мы искали, найти все-таки можно, поиск наш был надышан великой тайной, когда же стало ясно, что кроме поиска как такового ничего нет, да и не было никогда, природа этого поиска из поначалу таинственной незаметно превратилась в загадочную, то есть попросту художественную.
Это произошло оттого, что самое существенное, оказывается, невозможно ни вспомнить, ни тем более осознать, не говоря уже испытать, оно, самое существенное, рожденное жизнью и вскормленное ее лучшими соками, доходя до срединного среза жизни, в него как бы проваливается и оказывается наполовину уже в сфере чистого бытия, растекающегося, как по замкнутому кругу, вдоль сердцевины жизни: так невидимые энергийные чакры циркулируют вдоль позвоночника, – и вот тогда-то «вещь в себе», сквозившая нам во всех явлениях жизни и так долго мучившая и томившая нас, как fata morgana, наконец предстает перед нами в своем истинном облике – как ряд равноправных возможностей, из которых мы делаем свой выбор. Поначалу мы испытываем некоторую растерянность: ведь мы нашли совсем не то, что искали, мы ориентировались на некое глубочайшее, всеобъемлющее, парадоксальное объяснение мира, напоминающее так или иначе поэтический шедевр, а нам преподносят, как толстовскую едкую прозу, досадное множество возможных решений, или, другими словами, мы хотели тайну и бездну, а нам показали, что нет ни той, ни другой.
Зато то, что открылось нам вместо тайны и бездны, превзошло их многократно, – в самом деле, разве физическое отсутствие бездны не усиливает в нас ощущение ее близкого и повсеместного присутствия? и разве новая загадочность не превосходит былую таинственность? вообще, чем глубже мы задумываемся в начале пути над миром, тем таинственней он нам кажется, это вполне нормально, таким путем именно и нужно идти, кому же изначально все и до конца ясно, тот как будто прошел мимо жизни: восприятие тайны – всегда, везде и во всем – тождественно ощущению некоей тонкой и невидимой бездны, в которую погружено мироздание, и нужна великая мудрость, нужен эвристический духовный прорыв, нужен в конце концов буддизм – чтобы отбросить также и бездну, последняя необходима лишь в начале пути, она подталкивает путника в дорогу, манит его новыми землями и неслыханными открытиями, к концу же пути – если направление было выбрано правильно – путник убеждается, что идти было некуда и незачем, а то, что он искал, находится в его доме.
Нет, оказывается, никакой бездны под жизнью, а то, что есть, лучше всего сформулировал тибетский буддизм, – процитируем еще раз эту самую краткую и точную формулу бытия: «Ясный свет пути, описанный в учениях Мадхьямаки: свободный от четырех крайностей (не существующий и не несуществующий, не то и другое одновременно, и не ни то, не ни другое) и восьми построений (не возникающий и не прекращающийся, ни единичный, ни множественный, не постоянный и не прерывающийся, не приходящий и не уходящий). Много других учений объясняют свет пути и все они указывают на то же самое».
Итак, «вещь в себе» как сердцевинная тайна мироздания упразднилась, но тем сильнее стала действовать на нас пришедшая ей на смену загадочность жизни и бытия, ибо она принципиально неразрешима, и относительно ее бессмысленно даже задавать извечные философские вопросы, – ясно поэтому, что, дойдя до этого пограничного пункта познания, или, лучше сказать, мирочувствия, наше внутреннее развитие в главном заканчивается, дальше идти некуда и незачем, но разве это так уж плохо? значит ли это, впрочем, что отныне нужно смотреть не в окно, а только в зеркало? нет, достаточно мысленно ощущать его присутствие в любой жизненной ситуации.
Например, когда мы сосредоточиваем взгляд на каком-то предмете до такой степени, что перестаем замечать его, мы начинаем подсознательно, но довольно ясно видеть собственное лицо, хотя зеркала перед нами нет, – этот простой оптически-физиологический закон лучше всего в литературе использовал Лев Толстой, описав, как влюбленная Анна Каренина видит в темноте свои сияющие глаза.
Далее, обращает на себя внимание, что только рядом с человеком, с которым нас связывают более-менее чистые и, главное, ясные, определенные и недвусмысленные отношения, можно стоять рядом перед зеркалом и не испытывать при этом неловкого, тягостного чувства: напротив, как только рядом с нами перед зеркалом становится человек, отношение с котором не вполне определено, или оно двусмысленно, или отягощено комплексом вины или неполноценности, – так мы – но и он тоже, конечно, – чувствуем столь сильный душевный дискомфорт, что нам поневоле приходится отвернуться от зеркала.
И разве не вторит ему христианский гностик Евсевий Кесарийский: «И подобно тому как зеркала бывают более ясными, чистыми и сверкающими, чем зеркало глаз, так и божество являет себя более блистательным и чистым, чем лучшая часть нашей души… Следовательно, вглядываясь в божество, мы пользуемся этим прекрасным зеркалом и определяем человеческие качества в соответствии с добродетелью души: именно таким образом мы видим и познаем самих себя»?
Да и разве не сказал Платон: «Подобно тому как глаз, отражаясь в глазах другого, может увидеть себя, так и познающая саму себя душа должна заглянуть в иную душу и отразиться, как в зеркале, в той ее части, которая наиболее подобна божественному. И тот, кто всматривается в нее и познает все божественное – бога и разум, таким образом лучше всего познает самого себя»?
Божественная благодать, полагает Григорий Нисский, отражается в душе и становится видимой, иначе она остается так же недоступной, как невидимо солнце, если смотреть на него прямо, но его лучи мы можем наблюдать в зеркале.
А о самом Боге Григорий Палама сказал так: «Он являет Себя очистившемуся уму как бы в зеркале, сам по себе оставаясь невидимым, потому что таково свойство зеркального образа: он очевиден и его не видать, потому что никак не возможно одновременно глядеть в зеркало и видеть то, что отбрасывает в него свой образ».
Моцарт и Сальери. – Все дело в том, что как бы мы ни присматривались к жизни, она всегда предстает перед нами в профиль, и никогда в анфас, а поскольку в искусстве профиль воплощает музыка, то и почитает совершенно справедливо подавляющее большинство умнейших людей музыку величайшим из искусств, – таков первый постулат моцартовской музыки.
Далее, жизнь наша, как это знает каждый по собственному опыту, есть постоянное скольжение над бездной, но самой бездны нет, и в этом все дело, – таков второй постулат моцартовской музыки.
В этой связи следует предположить, что смерть не есть полное уничтожение человека, но лишь его полное отсутствие – скажут: различие в оттенке, а не в смысле, но в этом оттенке весь смысл – а стало быть основная и, пожалуй, единственная черта, характеризующая так называемый «смысл жизни», состоит в том, что он непрестанно ускользает, но по тому, как и в какой тональности он ускользает, можно и должно судить, насколько нам к нему удалось приблизиться, – таков третий постулат моцартовской музыки.
И если мы приходим в эту жизнь, чтобы, в конечном счете, ее когда-нибудь покинуть, то есть просто возвратиться, – возвратиться куда? в смерть? хотя, что такое смерть? она открывает множество путей, относительно которых не только нельзя сказать, какой из них истинный, но даже нельзя знать, каким пойдет любой из нас, – так вот, когда остается одно возвращение; и по аналогии, когда то же самое можно сказать о нашем прибытии в этот мир, а также о громадном и растяжимом тире между ними, то есть нашем пребывании между прибытием и возвращением, – тогда, получается, развития никакого нет, а вместо него имеет место высвобождение заложенных в нас от рождения черт характера, способностей и просто жизненного потенциала, – то есть все свершается по образу и подобию жизни дерева, которое тоже не развивается, но лишь высвобождает собственный морфологический образ, заложенный в семени, – и тогда жизненный путь наш, подобно кругосветному путешествию вокруг Земли, представляясь поначалу бесконечной прямой, на самом деле замыкается по невидимой окружности на саму себя, и любая цель поистине обращается в путь к этой цели, а сама наша биография, по мере накапливания вескости бытия и становясь судьбой – поскольку нельзя уже себя помыслить вне этой свершившейся биографии – обретает не только музыкальное звучание, но и делается в самом буквальном смысле «чистой музыкой», – таков четвертый постулат моцартовской музыки.
Кроме того, подобно тому как Данте с Вергилием, спустившись на дно Ада, вышли из него в Чистилище, идя все время наверх и не меняя направления, или как отправившись из одной точки на Запад и двигаясь строго в одном направлении, придешь к ней же с Востока, или как, дочитав роман до конца, невольно обращаешься к его началу, – так точно, придвигаясь к смерти, мы, судя по всему, приближаемся к новому рождению, – и все это напоминает конфигурацию некоей гигантской умозрительной Чаши, медленно и наподобие песочных Часов переворачивающейся, так что по краям ее струятся субтильнейшие космические энергии, – и вот в тайном ритмическом согласии с ними мы тоже то придвигаемся к Центру бытия, как бы мы его ни понимали, то отходим от него снова на периферию, потому что ни в каком центре нельзя пребывать слишком долго, хотя бы по причине вечной рассеянности, и происходит возвращение на круги своя, – во всяком случае, именно такие мысли вызывает у меня прослушивание второй и медленной части Юпитерской симфонии Моцарта, – таков пятый постулат моцартовской музыки.
Сокровенная душа любого образа в искусстве есть его мелодия, так что и полотно, и роман, и скульптура должны, прежде всего, «звучать», чтобы сдать сложный экзамен на право называться произведением искусства, но музыка есть как бы внутренний, «атомарный» ритм вещи: недаром Шопенгауэр определил музыку как царицу искусств, ведь она – выражение самой Мировой Воли; такова же и природа творческого акта как такового: он от невидимого идет к видимому, от неосязаемого к осязаемому, от безмолвного к услышанному, от немыслимого и непостижимого к тем или иным формам осмысления и постижения, и вместе с тем, параллельно и одновременно происходит движение в противоположном направлении, то есть все видимое, осязаемое, слышимое и осмысленное возвращается к своим истокам: в лоно безвидимости, безмолвия и безмыслия, – это двойное и зеркальное раскручивание в диаметрально противоположных направлениях очень характерно для иных моцартовских мелодий, – таков шестой постулат моцартовской музыки.
Самый же главный и седьмой постулат моцартовской музыки заключается в том, что когда в какой-нибудь ослепительный южный полдень где-нибудь в южной Европе заглядываешь в небо, и на фоне теплой, бездонной, пронзающей голубизны видишь ангела на куполе храма, или, плывя близ северо-восточного побережья Крита, замечаешь под собой, где-то на пятнадцатиметровой глубине останки затонувшего древнего города – как жаль, что не самой Атлантиды! – с обломанными колоннами и амфорами, или когда некто, как сообщает нам О. Уайльд в своем «De profundis», стоит у гроба сестры в башенной комнате и сквозь амбразуру окна на гроб ложится полоса света, в которой отчетливо видны танцующие пылинки, и насущный вопрос о том, где она теперь, усопшая, и куда ушла, становится таким вдруг мучительным и бесполезным, а в этот момент снаружи навевает «самый меланхолический в мире ветер», или когда, наконец, посреди тишины на нас самих нахлынут даже не воспоминания о прошлом, а как бы вся минувшая жизнь, внезапно и целиком, и тут же схлынет, как будто ее и не было, и мы не поймем, пришла ли она извне или была всегда внутри нас, и где она теперь, и можно ли ее заново вызвать усилием воли, или она приходит и уходит, когда хочет, и когда, самое главное, мы сами для себя не можем решить, что бы нам больше хотелось: войти после смерти в астральный мир, переродиться заново или загадочно существовать всей прожитой жизнью, наподобие купольного ангела посреди бездонной небесной голубизны или затонувшего города в просвеченной солнцем воде, и чтобы обязательно при воспоминаниях о нас по душам живых проносился «самый меланхолический в мире ветер», – да, в такие минуты хочется внезапно и немного театрально вскочить со стула, схватиться за голову и, закрыв глаза, начать слегка раскачиваться: правда, не так, как это делают иные верующие или умалишенные, но обязательно с незаметной и как бы уходящей вовнутрь улыбкой на лице, которая, быть может, является самым отдаленным, самым бездоказательным, но зато и самым несомненным выражением гордости за весь наш род человеческий.
Однако потом, когда первое впечатление, самое сильное и неповторимое, ослабнет, а ту музыку придется слушать снова и снова, на лице и в глазах при ее прослушивании появится некоторое злорадное торжество, как бы говорящее: «Я так и думал»; а что думал? постойте, дайте вспомнить, ах, да: тот единственный человек, который, по Пушкину, понял музыку Моцарта до конца, просто не мог не сойти с ума, – и на самом деле сошел с ума, окончив жизнь в доме для умалишенных.
Две сестры. – Если вы вздумаете посетить какой-нибудь старинный немецкий город, например, Регенсбург, и зайдете там в готический собор, почти не уступающий Шартрскому или Нотр-Дам – его строили двести пятьдесят лет, начиная с конца тринадцатого века, а какая там благородная простота интерьера, какой фугообразный порыв ввысь сводчатых потолков, какие богатейшие витражные стекла и какая великолепная наружная скульптурная отделка! – то вы поневоле окунетесь в атмосферу, которую иначе как магической не назовешь.
А если еще гид, обслуживавший немецкую группу неподалеку, ненароком обмолвится, что больше всего любит собор святого Петра зимой, в январе, когда косые солнечные лучи, преломляясь о витражную мозаику, наполняют внутреннее пространство светом, усиливающим магию в квадрате, а то и в кубе, то вам придется туда съездить и в январе.
Выходя же из собора и еще раз оглядев его прощальным взглядом, вы отметите напоследок эту праздничную, радующую душу почти детским контрастом центральную готическую концепцию духа божьего, входящего в камень сначала в виде гениальных архитектонических пропорций, а потом в обликах бесчисленных апостолов, евангелистов и святых, – и далее выгоняющего из божественного камня разных нечистых духов: боже, сколько же там химер, бесов и фантастических зверушек! их могло бы быть и больше, – и все это пошло бы только на пользу магической силе собора.
И, потрясенные магией собора, вы начнете ее развивать и варьировать: вы задумаетесь, как все это постепенно создавалось, откуда взялось тайное знание о готических пропорциях и куда оно теперь делось; вы обратите внимание, что дух готического величия буквально принуждает вас начисто забыть идею христианской любви и самого Иисуса; зато вы вспомните непревзойденного Иоганна Себастьяна и спросите себя – и других! – почему же его музыка считается высочайшим выражением стиля барокко, а не готики, хотя она по духу насквозь готическая и конгениальна зодчеству Регенсбургского собора; и быть может вы заодно припомните центральную главу из кафковского «Процесса», которая так и называется «В соборе», и которая, хоть и в ироническом ключе, но развивает тему готической магии на уровне, почти не уступающему ни Баху, ни самим зодчим собора.
Под конец же вы обязательно удивитесь, что, как это ни парадоксально, ни в лице вашей жены, ни в лицах посетителей, гидов или служителей собора, ни в вашем собственном лице, как вы это безошибочно почувствовали, не просквозило странным образом ни единого отсвета от той грандиозной магии, которая вас всех окружала: напротив, все лица как одно были унылые и прозаичные, а в глазах чувствовалось то легкое напряжение, которое означает последнюю мобилизацию внутренних ресурсов тонкой энергии.
Да, подобные манифестации сверхчеловеческого величия не только утомляют и подавляют человека, но прямо и буквально высасывают его самые субтильные энергии: все, что безмерно нас превосходит, не соотносясь с нашим сердцем, но лишь впечатляя ум и воображение, действует на нас подобно энергетическому вампиру, кто может пробыть в таком соборе дольше получаса? и с каким явным облегчением мы выходим из него, сбрасывая с себя, точно тяжелейшую королевскую мантию, всю эту магию божественного пространства и полумрака!
Но куда же мы отправляемся, потрясенные и подавленные изнутри после посещения собора? конечно же, в кафе «Золотой Крест», расположенное неподалеку от Святого Петра: изысканно-просторная, старинная архитектура, чудеснейшие торты и пирожные, уютная и благородная атмосфера, есть тоже своего рода магия – магия отдыха, кофе и тихого, ненавязчивого общения, – и быть может эта магия столь же древняя и сопровождает человека испокон веков, наравне и параллельно с магией сверхчеловеческого, божественного величия.
Одно не заменяет другого, нельзя сидеть в соборе день и ночь и нельзя постоянно, часами пребывать в ощущении готической возвышенности, рано или поздно придется спускаться и возвращаться на круги своя, так что даже сидя на соборной скамье в состоянии благоговейного созерцания, можно по прошествии определенного времени ничего особенного не испытывать, по принципу: смотреть в книгу, а видеть фигу, – да так это именно и происходит на каждом шагу в жизни.
А это значит: почти любой феномен бытия окружен магическим ореолом, но этот ореол, подобно магнитному полю, действует лишь вблизи феномена, иные феномены обладают колоссальными магнитно-магическими полями, но и они ограниченны, да еще как ограниченны! все дело, однако, в том, что, попадая в такое поле, мы на время забываем обо всем, что вне его, – находясь в соборе и отдаваясь его магии, мы почти не можем не верить, более того, не можем не чувствовать реальное присутствие Бога.
Но выходя из собора и отправляясь в близлежащее кафе, мы не можем точно также не чувствовать до некоторой степени уже как бы полное отсутствие того же Бога, казалось бы: внутреннее противоречие? ничего подобного: в соборе Бог на самом деле есть, а в кафе Его на самом деле нет, то есть, разумеется, речь идет здесь не об абстрактном Боге, а о той последней Реальности, которая напрямую задействована с нашей кармой, нашими затаенными устремлениями, а также особенностями нашего мышления и воображения, из чего вытекает, что когда мы по тем или иным причинам сообщаться с высшей Реальностью или Богом не можем или еще не готовы, Она или Он сами от нас на время отстраняются, предоставляя нам таким образом не на словах, а на деле полную свободу, – и это вполне сознательное и вполне онтологическое отстранение мы называем отсутствием.
По этой причине «объективность» божественной Реальности представляет из себя, как легко догадаться, самый сложный вопрос на земле: я думаю, что человек сам выбирает себе богов и только путем такой обратной зависимости боги получают власть над данным человеком, да он и сам рад такой власти, уверовавший человек с удовольствием и добровольно ей готов подчиниться, жизнь его при этом делается осмысленный и приобретает четкую сюжетную очерченность, а иногда ему даже оказывается помощь свыше или просто преподносятся дары не от мира сего, – сюда: чудесные явления, видения, предсказания, целительство, спасительные случайности и тому подобное, – поэтому ясно, что лишь когда мы по доброй воли отдаемся магии христианского Бога, – только тогда и Он приобретает над нами реальную власть: ту, которую мы сами хотим над собой иметь.
А в кафе как символическом пространстве, непричастном никакому Богу, этой власти уже нет, – и неизвестно, что ждет после смерти человека, который одинаково склонен чувствовать и признавать и магию собора, и магию кафе, и магию женщины, и магию морского пейзажа, и магию древних богов, и так далее и тому подобное: я думаю, ничего плохого, но христианином такого человека назвать вряд ли назовешь, однако, положа руку на сердце, разве не такой человек в душе – каждый из нас?
И по возвращении в Мюнхен я опять вынужден был припомнить Будду: ни в каком, даже самом предпочтительном и магическом состоянии нельзя оставаться слишком долго, а тем более вечно, любое состояние приходится рано или поздно покидать, как мы покинули Регенсбург: казалось бы, опять банальность, но ведь что может быть важнее опыта переноса закономерностей земной жизни, и в первую очередь столбового закона преходящности всего в мире – на феномены астрального мира? разве не таким путем осуществляется осмысление единства бытия? да и есть ли вообще другой путь? обратим внимание: только магия вселяет в нас веру – причем не умом, а сердцем – в потусторонние миры, и прежде чем окончательно поверить в них, приноравливаясь к будущему и неизбежному переселению в один из них, не лишнее задуматься как следует о природе самой магии, которая есть наш путеводитель к ним.
Вот утверждение принципиальной онтологической ограниченности любой магии и есть, думается, первый и важный шаг в этом направлении, хотя он тоже ничего не меняет, потому что захождение после Регенсбургского собора в кафе показывает воочию, как мы переживаем и осмысливаем феномены, казалось бы, внутренне между собой несовместимые: а именно так, что естественней такого перехода как будто ничего для нас нет, мы его по сути даже не замечаем, отчего и получается, что паузу между любыми двумя отрезками жизни, каждая из которых таит в себе магию, большую или малую, мы воспринимаем не как единственное состояние души, свободное от каких бы то ни было иллюзий и страхов, разочарований и надежд, суетных тревог и мимолетных радостей, а как необходимый и часто даже нежелательный отдых, перед тем как окунуться в магию очередного и следующего мгновенья.
Итак, в зерне своем жизнь и магия идентичны, – просто под магией подразумевается обычно очищенное от жизненных напластований переживание, в основе которого лежит неотразимое и зачастую необъяснимое притяжение – на физическом, психическом и духовном уровнях – к тому или другому феномену: поскольку же мы обычно безотчетно притянуты к жизни, сколь бы невзрачна она ни была и какие бы страдания нам ни преподносила, постольку жизнь в своей первооснове магична, в этом нет никаких сомнений, так что и любой, самый незначительный и «непоэтичный» повседневный предмет в зависимости от настроения и жизненных обстоятельств может оказывать на человека воздействие, которое иначе как магическим не назовешь, – и оказывает на самом деле, в чем мы убеждаемся каждодневно и ежеминутно.
Первичная магия – это когда мы снова и снова очарованы осенним пейзажем, пристально разглядывающим нас домашним котом, в который раз услышанной мелодией и увиденным кинофильмом, да и просто привычной домашней обстановкой, но есть и другая, вторичная магия – та, которая действует на нас помимо воли, в основе ее лежит тот или иной гипноз: профессиональный гипнотизер, харизматический оратор, роковая женщина – все они способны очаровать нас и подвинуть к действиям, противоречащим нашему характеру и нашей свободе, но рано или поздно их влияние сходит на нет, оставляя, как правило, опустошительные следы, ибо любая магия, осуществляемая за счет человеческой свободы, а стало быть покоряющая, насилующая – пусть и чарами – человеческий характер, есть вредная и опасная деятельность.
С этой точки зрения проблематичны и все мировые религии, ибо связь обычного человека с потусторонней реальностью настолько тонкая и индивидуальная, что, бывает, в продолжение всей жизни обнаруживается один-единственный раз: скажем, в пророческом сне, видении умершего родственника или в неподдающемся разумному объяснению стечении обстоятельств, но и этого вполне достаточно для данного человека, – если бы ему для осуществления его кармического сюжета нужна была бы более прочная и очевидная связь, она была бы ему дана, как она была дана бесчисленным святым, предсказателям будущего, духовным мастерам и тому подобное, однако большинству людей это, очевидно, по каким-то причинам не нужно.
И вот эти люди идут в церковь, там они потрясены сверхчеловеческой архитектурой, сверхчеловеческой музыкой, сверхчеловеческими словами, весь этот конгломерат искусств и легенд – сюда же и живые истории святых с их чудотворными мощами – настолько превышает душевный уровень «простого смертного», настолько внеположен его насущной жизни и судьбе и вместе настолько притягивает его к себе, что возникает уже не просто магический ток, но самый настоящий эффект околдовывания: так околдовывает человека в сказках злой волшебник и так околдовывает мужчину иная женщина, как правило, недобрая, – если бы нас околдовывал добрый волшебник или добрая любящая женщина, все было бы прекрасно, но вот беда – добрый волшебник обычно не околдовывает, а просто помогает в трудной ситуации, как и добрая любящая женщина не околдовывает своей любовью, а просто любит.
И все-таки церковное колдовство конечно же не злое, тут речь идет скорее о великом сюжете сначала одного – основателя религии, а потом связанного с ним теснейшими кармическими нитями еще многих и многих людей: святых, подвижников, художников, скульптуров, архитекторов, проповедников, писателей и тому подобное, – и вот этот сам по себе гениальный сюжет по многим историческим, психологическим, но и чисто художественным причинам был навязан огромному большинству людей: возникло странное недоразумение, как если бы среди широчайшей публики читали с кафедры Гомера, а многим людям было бы попросту не до него, люди вроде бы и восприимчивы к искусству, и догадываются, какие перлы поэзии рассыпаны на каждой странице, – но им сейчас не до Гомера, у них свои дела, да и, честно говоря, скучен им Гомер, кроме того, они первые полчаса слушали с удовольствием, ну а дальше, как говорится, пора и честь знать.
Примерно те же самые чувства без какого-либо преувеличения испытывает подавляющее большинство посетителей европейских церквей, где тут зло? зла никакого нет, ничего особенного не происходит: пришли, послушали мессу, помолились и разошлись, может быть, этого достаточно для спасения души – не берусь судить, но в конце концов соборная магия, неотразимая в первые минуты и для особо восприимчивых людей, стекает с обычных и многолетних посетителей, как с гуся вода, и неизвестно, так ли уж это плохо, потому что прямое вхождение церковной магии в повседневную жизнь проблематично: если бы оно всегда сопровождалось любовью, все было бы прекрасно, но там есть и самый настоящий тонкий хоррор, примеров коего как в католичестве, так и в православии не счесть.
И все-таки отношение среднеарифметического жителя земли к церкви можно вполне сравнить с чтением Гомера: вам читают что-то безусловно классическое и очень, очень высокое, но это не ваше и встает вечный вопрос – что же делать с истиной, которая претендует быть абсолютной, но человека лично она не касается? риторический по сути вопрос, потому что даже по части магии повседневная жизнь все-таки осиливает религиозно-церковное великолепие, житейская магия чужда какого-либо ложного величия, она не оставляет на языке никакого дурного привкуса, в ней нет ничего негативного, если оставить в стороне предостережение Будды, что она-то именно и притягивает неотразимо людей к жизни, житейская магия естественна и закономерна, как смена дня и ночи, ее ритуал, заведенный, как часы, и состоящий из отправления самых простых и обыденных обязанностей, – да, этот ритуал нам почему-то никогда не надоедает, и легко понять, почему: по причине магического его характера: но не той магии, следует повторить, которая враждебна и иноприродна нашей свободе и нашему характеру, а той, что состоит с ними в тайном музыкальном созвучии.
Мы, правда, любим иногда говорить, что магия повседневности нам надоедает, но мы при этом немного рисуемся, мы здесь слегка подражаем Онегину, Печорину и всем мало-мальски выдающимся литературным героям, хотя и это всего лишь вопрос возраста и энергии, разумеется, есть иные и внеположные повседневности энергийно-магические орбиты: любой выдающийся талант, включая паранормальный (святые и духовные Мастера) или даже сексуальный (Казанова) – не говоря уже о классических художественных, полководческих и общественных – движется, подобно планете, по таким орбитам.
Неисповедимы пути магических орбит, но всегда человек, исполняющий великую магическую роль, может вернуться к магии домашнего очага, этой последней утехе любого «простого смертного»: просто потому, что этого очага, в отличие от мировой сцены, у него уже никому не отнять, – таким образом, стоит повторить, жизнь нам никогда не приедается, хотя состоит она как правило из множества процессов, которые сами по себе, если взглянуть на них с лермонтовским «холодным вниманьем», должны приесться как холодная гречневая каша, поедаемая три раза в день в течение года, однако этого, как мы видим, не происходит, – субтильное очарование жизнью остается и притягивает нас к ней (жизни) крепче железных цепей.
Да, магия и только она одна упраздняет на корню любые праздные философствования о жизни, в том числе и самые талантливые: каково, к примеру, буддийское рассуждение о преходящности всех вещей, – в самом деле, что может быть проще, глубже, экзистенциальней и обыденней утверждения, что все в мире – от персика в вазе до богов в астральной жизни – подвержено непрестанным изменениям, вплоть до полного исчезновения феномена в привычном нам облике?
Однако разве осень, например, преходяща? она уходит, чтобы снова вернуться, и то обстоятельство, что на смену ей незаметно и постепенно является зима, никак не вызывает в нас ощущение преходящности осени, последняя скорее как книга, – вот я взял ее с полки, раскрыл на любимой странице, погрузился в магию давно известных мне сцен, закрыл книгу и положил ее на полку, можно ли это назвать преходящностью книги или чтения? то, что здесь преходит – это только мое Я, которое меняется, стареет, все реже берет книгу с полки и все меньше ею очаровывается, а когда-нибудь не только не сумеет дотянуться до книги, но не осилит и вздох.
И все же тут нет строгой логики: ведь мы говорили, во-первых, о книге, во-вторых, о книжной полке, и в третьих, о каком-то человеке, который берет эту книгу с полки и перечитывает иные ее страницы: то, что этот человек именно Я – обстоятельство случайное и к делу отношения не имеющее: не будет меня, так другой человек за меня это сделает, как брали книгу с полки, читали и клали на место до меня миллионы людей.
Магический круговорот, таким образом, свершается помимо Я или, точнее, наше Я покорно его обслуживает, – оно является просто поставщиком энергии, а также материала для всех тех бесчисленных разбросанных по жизни, отрывочных и на первый взгляд бессвязных действий, процессов и поступков, которые очень даже склонны образовывать тот или иной осмысленный в себе и всегда незаконченный, но ясно прогреваемый в контурах сюжетный набросок: что бы мы ни делали, мы неизменно выступаем одновременно в двух классических ролях: себя как творца и себя же как собственного творения, в первой роли мы разбрасываем во все стороны наши энергии – точно сеятель зерна, а во второй пожинаем результаты – все те взаимные отношения к одушевленным и неодушевленным вещам, которые без какого-либо преувеличения можно обозначить как сюжеты.
В самом деле, с иными людьми дальше поверхностного знакомства общение не идет, с другими мы с удовольствием регулярно встречаемся, с третьими у нас такая душевная гармония, что образуется дружба, а с женщинами еще характерней: в зависимости от того, какой сюжет запланирован – нами, но быть может и еще кем-то помимо нас, ибо перст судьбы на соединениях иных мужчин и женщин просто очевиден – итак, в зависимости от того, возможен ли брак или просто интимная связь или всего лишь дружба или приятельство, – да, в прямой зависимости от намечающегося сюжета выстраиваются и все наши слова, жесты и поступки в отношении данной женщины.
Также и с родственниками у нас свои сюжеты: давным-давно устоявшиеся, тесные и кровные, но зато по самой своей природе не имеющие той динамики и того коэффициента неожиданнтости, каковые характерны для сюжетов с чужими людьми.
Время и обстоятельства постоянно прерывают наши отношения, но не в силах изменить сюжета, так что даже встретившись спустя двадцать лет с человеком, с которым у нас всегда было поверхностное общение, мы, увлекшись моментом, готовы, может, перейти на следующий и более глубокий уровень – дружбы, но уже через час-другой логика сюжета отбрасывает нас на «круги своя» и мы, оправившись, удивляемся, как можно было вообще пытаться говорить искренне на слишком глубокие темы, – удивительна эта невидимая преграда, не допускающая собеседника в душу и вместе не позволяющая самому зайти в чужую! говорят, что такая же незримая таинственная преграда разделяет соседствующие моря и океаны…
Но даже в поверхностном приятельстве с мужчиной или ничего не значащем кокетстве с женщиной есть своего рода магия, пусть куда более слабая, чем в дружбе и любовной связи, но и она тоже притягивает человека к жизни, да, бывает, еще покрепче, чем магия готического собора: в сущности, люди в жизни только тем и занимаются, что выискивают для общения таких людей, стремятся к таким профессиям и выбирают такое времяпровождение, в которых был бы максимум магии, и вот, попадая в магическое поле, по сути любого порядка (например, всего лишь общаясь с другом или любящей женой) мы просто не можем до конца понимать слова Будды о преходящности вещей: слова эти отскакивают от нас, как горох от стенки, мы их нутром не чувствуем, ибо магия на то и магия, что упраздняет или, точнее говоря, замедляет преходящность вещей, – это потом, в размышлении или медитации, станет очевидным, что вы и ваш друг или ваша жена – настолько преходящи, что сами чувства дружбы и любви в значительной мере обессмысливаются, но это, стоит повторить, будет только потом, в размышлении и в медитации, если вообще будет, а пока мы с ними общаемся, никакого чувства преходящности в нашей душе и в помине нет.
А поскольку жизнь заключает в себе великое множество магических моментов, ощущать ее преходящность не так-то просто, последняя возможна только между магическими узлами, – поэтому только там и тогда, где и когда не сплелись у человека магические отношения любви и дружбы, не состоялся сильный магический талант, по каким-то причинам порвались нити житейской магии (домашние животные, уютный домашний очаг, любовь к природе, к книгам, к воспоминаниям детства и юности и пр.), – да, только там и тогда ослабляется исконная связь человека с жизнью и создается почва для самого загадочного в мире поступка: самоубийства.
Итак, подытоживая – есть два рода магии: волшебная и повседневная, первая – мощная, как океанская волна и в глубинном смысле не затрагивающая сущность человека, она внеположна его характеру и сметает его свободу с легкостью разбушевавшейся стихии, человек как правило не в силах ей сопротивляться, он попадает в воронку магических течений и крутится там, пока они его не отпустят, в «магическом Гольфстриме» он много и страшно страдает, но при этом испытывает и возвышенные, блаженные состояния, – «все, все, что гибелью грозит», – сказал об этом Пушкин.
Рано или поздно, однако, магические силы отпускают своего пленника, как нимфа Калипсо спустя семь лет отпустила Одиссея (он их пережил как семь дней), и тот выходит из страдальчески-зачарованного пространства, точно воин возвращается с войны: в его душе некоторая заслуженная гордость от неординарного испытания (не каждому дано испытать роковую любовь, рулетку до полного разорения или хождение по грани между высшей властью и гибелью) странно уживается с восприятием пресности повседневного хода вещей (как трудно после изысканных сексуальных наслаждений возвращаться к упорядоченно-равномерной супружеской жизни) и вместе сознанием тонкого унижения (все-таки что там ни говори, а высшие магические силы играли гордецом как игрушкой).
Да, что-то было «не так, как нужно», но поправить ничего нельзя, да если бы и можно было, не стал бы поправлять, потому как любая магия, в том числе и насильственная, представляется нам поначалу и по мере переживания посланием судьбы, а потом, когда она пережита и осмысляется задним числом – «сюжетом свыше», – то есть только когда этот сюжет полностью исчерпывается, насильственная магия ослабляется – и выпускает человека из своих сладостно-смертоносных объятий, но не раньше! и тогда – куда возвращается человек?
Правильно: к родной сестре «насильственной магии» – магии тихой, ненавязчивой и повседневной: той, что дает больше, чем обещает (она вообще по сути ничего не обещает), которая никогда не разочаровывает (потому что не стремится ни к какому особому очарованию) и которая держит нас на поверхности жизни, не давая утонуть в подводных безднах и разного рода смертоносных течениях.
Случается, впрочем, что и нити повседневной магии – те самые, из которых соткана жизнь – по тем или иным причинам ослабевают, и тогда человек ищет им замену, иногда удачно, иногда нет: меняя женщину, профессию, место жительство или образ жизни, человек всегда немного рискует, ибо потеряв одно, не всегда приобретаешь равноценную замену, можно очень много потерять и очень мало приобрести, – но даже в самом малом приобретении должна наличествовать та драгоценная йота качественно новой магии, которая одна только и оправдывает любые потери и изменения, и если ее нет или природа ее оказалась насквозь лживой и соблазнительной, человек окончательно проваливается в пустоту депрессий, отчаяния и самоубийства.
Только там и тогда вырисовывается этот последний и страшный сюжет, где и когда от человека разом отступают обе магии: и насильственная, и повседневная, – не только к чему-то великому и опасному, требующему напряжения всех сил, не чувствует притяжения человек (как правило по причине отсутствия или ослабления собственной силы), но и малые предметы мира сего, те самые, что незаметно заботятся о нем, любят и спасают его, как будто, точно сговорившись, от него отступили, – и вот былая, тихая и незаметная, но чрезвычайно эффективная магия повседневной жизни во всех ее многообразных деталях и проявлениях вдруг перестала действовать, точно магнит размагнитился и превратился в обыкновенную железку.
Именно в такие минуты люди добровольно уходят из жизни, в самом деле, что в первую очередь отличает потенциального самоубийцу от человека, в принципе не способного добровольно уйти из жизни? прежде всего, думается, внутренняя и нутряная непричастность жизни в самых незначительных и незаметных ее проявлениях, именно мелочи быта здесь играют решающую роль, а отнюдь не великие нравственные или философские проблемы: благодаря крошечным шероховатостям зацепливается человек за жизнь, подобно колесу, и катится по ней, – иногда он ползет, иногда идет в полный рост, иногда пробирается согнувшись в три погибели, бывает, что и взлетает ненадолго, но человек не птица, и не столько полет его опасен, сколько приземление, – и вот тогда да спасет его шероховатая поверхность жизни, за которую он заблаговременно уцепился сотней и тысячей крохотных и подчас незаметных, неосознанных для него самого привязанностей: страшно, когда зацепок вдруг больше нет, когда кругом одна пустота, вакуум, а в вакууме нельзя жить, в нем можно лишь падать и падать.
Да, мелочи сегодняшнего дня, обрывки воспоминаний о дне вчерашнем да заботы о дне завтрашнем – вот чем на самом деле живет человек, священен и его будничный ритуал в поздний вечер жизни: утреннее пробуждение, долгое разглядывание туманной мути в окне, подъем с кряхтеньем и болями, завтрак, прогулка с собакой, если позволяет здоровье и если есть собака, если же нет ни того, ни другого, многочасовое сидение перед телевизором, потом обед и послеобеденная дрема, снова сидение или расхаживание по комнате с разглядыванием вечереющей мути в окне, затем ужин, опять телевизор, и наконец бессонница и сон, – вот что обнаруживает свой вечный и непреходящий смысл, когда приближается смертный час.
Не о последних тайнах бытия думает человек перед смертью и не о том, насколько ему удалось пролить на них свет, а думает он обычно а самых пустяковых и личных вещах и живет ими до последней сознательной минуты: пока не наступит внезапное освобождение от болей при одновременной потери сил (первая фаза умирания), и не начнется развоплощение чувства пространства и времени (вторая фаза), и не исчезнет способность адекватно различать окружающие предметы при одновременном восхождении откуда-то изнутри и снаружи загадочного Белого Света (третья фаза), и не останется ничего, кроме ощущения погружения куда-то (четвертая фаза), и не погасится окончательно сознание, напоследок внятно намекнув на переход в иной мир (пятая и последняя фаза).
Вот этого последнего и заключительного ощущения растворения в чем-то Бесконечном – реально или иллюзионно, пусть каждый решает для себя – лишается, очевидно, самоубийца, он предпочитает ему скорую и радикальную смерть, смерть без умирания: нам кажется – да так, наверное, и есть на самом деле – что налагающий на себя руки лишается благодатной – потому что отсутствующей – смерти, и последняя является ему в аспекте своего грозного и устрашающего присутствия, почти как при смертной казни, поскольку же суицидент идет на свою казнь добровольно, нам это вдвойне непонятно. Но это – финал, а завязка была, повторяем, в нутряной непричастности мелочам жизни, ибо в теплой душевной привязанности к незаметным подчас невооруженным глазом деталям бытия сказывается как, пожалуй, ни в чем другом наша трогательная, сходная с миром животных, природа: не забудем, что и животные обычно не кончают с собой, разве что иные собаки, отказываясь после смерти хозяина принимать пищу, умирают от истощения, но ведь это другое!
Итак, чтобы уйти добровольно, нужно раз и навсегда порвать с опутывающими жизнь, наболевшими и мясом приросшими к сердцу мелочами, – легко сказать – порвать, кто знает, быть может как раз порвать с ними – этой интимной изнанкой человеческого бытия – и нельзя вовсе, быть может, тот, кто с ними порвал, ими никогда по-настоящему опутан и не был.
Стало быть пока во взгляде человека сквозит пусть малая йота магического очарования, он не в состоянии покончить с собой, – но нельзя допускать этого выражения роковой опустошенности в глазах ближнего, этой странной вогнутости в застывших зрачках, наподобие малой черной дыры, которая всасывает в себя впечатления мира, ничего не отдавая взамен, а заметив их в толпе, нужно тотчас подмигнуть незнакомому человеку: быть может это озадачит его и изменит ход его мыслей.
Добрая житейская магия держит мир в своих теплых и нежных ладонях, она согревает его своим дыханием и каждый из нас делом, словом, но и просто лучистым – самым лучшим по Льву Толстому – взглядом способен, обходя спорный путь морали, сделать этот мир хотя бы чуточку лучше: всякий раз, когда мы смотрим на мир таким лучистым взглядом, перед нами как будто открывается дверь в стене.
О мучительном выборе между хорошим и лучшим. – Все-таки ничто не переубедит меня в том, что есть в человеческой духовности единый и великий Поток, напоминающий Океан, и есть волшебные Острова, наподобие того, где Одиссей провел семь лет как семь дней, – разумеется, в человеческой духовности есть еще бесчисленное множество других и промежуточных морфологических напластований, но я как примитивный картограф не решусь их описывать: мне достаточно пока этого основного разделения, которое, с одной стороны, напоминает древние карты, до сих пор обаятельно и ненавязчиво выглядывающие с витрин антикварных магазинов, а с другой стороны я вижу здесь прямую аналогию с излюбленным мной пейзажем островной Греции.
В чем же главная разница между Потоком и Островами? я думаю, что существует два главных отличия, первое: вхождение в Поток знаменует собой мгновенное и безостаточное погружение в некую смысловую сердцевину мироздания, причем независимо от того, что мы под ней понимаем: так, прикасаясь практически ко всем восточным религиям, но также читая Гомера, Шекспира, Льва Толстого или Кафку, глядя на картины Леонардо или Рембрандта, слушая музыку позднего Моцарта или Баха, у нас непроизвольно возникает ощущение погружения в единое духовное пространство, без того, чтобы можно было описать, в чем оно, собственно, заключается – да это и не нужно! – тогда как пребывание на Островах идентично со столь мощным и автономным очарованием искусством, а также отдельной и замкнутой на себя темой, в нем развиваемой, что живая связь с прочими проявлениями человеческой духовности заметно ослабляется, если не вовсе исчезает, и второе основное отличие: хозяева Потока всегда ставят перед нами какой-то великий экзистенциальный вопрос, а покровители Островов никогда никакого вопроса не ставят, а точнее, они сами полностью ответили на поставленные в их творчестве вопросы.
И трудно найти лучший пример выражения в сфере искусства духа Островов и духа Потока, чем наши Пушкин и Лев Толстой: начать уже с того, как их глаза соответствуют характеру художника и более того, стилю и духу его творчества! основное выражение глаз Пушкина – глубокая просветленная задумчивость, покой и прекращение внутреннего движения или, точнее, движение по кругу, а доминанта толстовского взгляда – внутренняя страстность, поиск, преодоление сомнений и всегда движение от Низшего к Высшему.
Вечный спор между ними знаменует равноправное противостояние двух разноприродных и взаимно исключающих духовностей, а также двух абсолютно противоположных людей, разумеется, каждый этот спор решает для себя, но коллективное наше сознание – если таковое вообще существует – как будто высказалось в пользу Пушкина: сначала поэтическое, а потом и метафизическое совершенство решения Пушкиным любых художественных проблем неотразимо заворожило и до сих пор завораживает русскую публику.
За примерами далеко ходить не нужно, стоит только перечитать «Отцы-пустынники и жены непорочны…»: несколько волшебных строк – и вот вам уже дух православия во всей его первозданной чистоте и изначальном глубокомыслии, у нас сразу и непроизвольно рождается ощущение, что лучше написать о религии в стихах невозможно, и тем не менее нам досадно, что такое написал не какой-нибудь отшельник, вдохновленный собственным духовным подвигом – сочинил же гениальную «Марсельезу» совершенно посредственный также и в творческом отношении обыватель! – а человек, который тут же и на одном дыхании мог обтачивать ногти и смаковать прекрасную женскую ножку, – доподлинно это зная, мы начинаем ощущать уже некоторое трудноуловимое тошнотворное празднословие этих стихов и нами овладевает уже некоторое нестерпимое раздражение от них, – однако магическое воздействие пушкинской «Молитвы» остается, и остается убеждение, что даже чуждые искусству православные монахи могли бы с ними согласиться и соглашаются на самом деле!
И вот параллельно читаем мы и перечитываем «Отца Сергия» Льва Толстого: до чего же сильная и, главное, современная вещь! в ней и в помине нет пресловутого пушкинского совершенства, напротив, вся она проникнута невероятной духовной страстностью и кажется где-то даже внутренне незаконченной, но ведь это-то и хорошо, это ведь и есть главный признак живого искусства, – а какова ее «главная идея», выражаясь бессмертным школьным языком?
Мне кажется, вот какая: когда самые великие люди, говоря самые прекрасные слова и сопровождая их самыми прекрасными поступками, – такие как Будда, Иисус или даже на худой конец Альберт Швейцер, – итак, когда они и им подобные почему-то и быть может сами того не желая приобретают невероятную и сверхчеловеческую славу, которая от каждого последующего их слова и поступка увеличивается и растет в геометрической пропорции, так что девяносто девять процентов простых смертных, еще прежде чем они возьмут от этих великих людей хотя бы малую кроху духовной пищи или энергии для подражания, уже насыщаются этой славой, пьянеют от нее и уходят от них к себе едва ли не с впечатлением одной только этой славы и практически больше ни с чем, – да, вот это и показал Лев Толстой в своем отце Сергии, ну а уж как к этому относиться, то есть согласиться с тем, что слава есть как бы тень всего светлого и великого, или самое светлое и великое все-таки не должно иметь никакой тени, – это уже каждый решит для себя.
Итак, не духовная ли страстность делает произведение искусства поистине насущным и важным для будущих поколений? не она ли одна заражает? и не благодаря ли ей читаешь и перечитываешь вещь, без которой вроде бы вполне можно обойтись? причем страстность эта должна быть именно не «снятой», как выразился бы философ, и не преодоленной, как это мы видим у Пушкина и как того требуют иные теоретики «чистого искусства», – нет, она должна именно сквозить в каждой строке и автору вовсе даже не обязательно скрывать за ней собственные мировоззренческие взгляды.
И пусть Пушкин как художник похож на Господа-Бога: мол, он для каждого находит сочувствие и понимание, а «божественное беспристрастие» кажется признаком величайшего художника, опять-таки и здесь Пушкина невозможно оспорить – он всегда и во всем прав! – однако его внутреннюю и глубочайшую неправоту мы ощущаем в том, что он нас чем-то раздражает, другого критерия нет – и не ищите! зато вот это очень тонкое, необъяснимое и почти метафизическое раздражение, в котором мы склонны упрекать только себя самих и ни в коем случае нашего кумира, и в наличии которого даже чувствуем себя «без вины виноватыми» – я убежден, что это когда-нибудь будет центральной темой пушкиноведения, – оно все-таки наверняка о чем-то говорит.
Ведь и Лев Толстой находит для каждого сочувствие и понимание, но того самого пушкинского «божественного беспристрастия» у него нет и в помине, мы ясно чувствуем степень авторской симпатии и антипатии по отношению к героям, чувствуем, что все это «человеческое, слишком человеческое», но никак не «божественное», – и тем не менее, могу только повторить, подобная авторская позиция кажется мне в конечном счете – то есть при условии, что литературой духовное развитие человека не заканчивается – предпочтительней художественной концепции Пушкина.
Доказательств тут нет и быть не может, но вот что мне приходит на ум в этой связи: я отлично помню те времена, когда Й.-С. Баха играли в пушкинской манере, то есть размеренно, осмысленно, объемно, а главное, просветленно, – так, что глубина его музыки, выходя на поверхность, как бы замедляла и во внутреннем пределе останавливала стихийное движение звуков и баховская музыка точно запечатывалась в золотой янтарь, – так играли Баха наш Святослав Рихтер, Гленн Гульд и Альфред Брендель, и долгое время я был убежден, что это и есть оптимальное исполнение отца европейской музыки.
Но вот явились Элен Гримо и Мюрей Перайа, – и они стали играть Баха прежде всего страстно, умышленно стуча по клавишам чуть ли не до одержимости, иные пассажи граничат у них с иррациональностью, однако главное здесь не упускать из виду соборную архитектонику Целого в баховской музыке! и вот эта толстовская интерпретация Баха – никогда бы не мог такого предположить – осилила в моем сознании пушкинскую: невероятно, но после них исполнения Святослава Рихтера выглядят какими-то слегка устаревшими и даже, я бы сказал, несколько скучноватыми, они больше не удивляют, а значит самое великое искусство закончилось, – но ведь оно было, в этом нет никаких сомнений, и несколько десятилетий, начиная с шестидесятых, музыкальный мир не знал лучшего исполнителя Баха, нежели Святослав Рихтер.
Когда же я где-то наткнулся на замечание, что Будда, этот апостол и символ абсолютного ухода от жизненных треволнений, должен был быть психологически глубоко страстным и даже одержимым человеком, все встало на свои места, – теперь я ясно вижу глубочайшую музыкальную близость между этими тремя духовными гигантами – Буддой, Й.-С. Бахом и Львом Толстым, и состоит эта близость в невероятной метафизической страстности с одной стороны, а также в сотворении ею – духовной страстностью – в недрах бытия и параллельно в нашем сознании некоего Потока, раз войдя в который уже остаешься в полном убеждении, что нашел то, чего всю жизнь искал.
И пусть мне еще докажут, что Пушкин и ему подобные художники тоже в этом Потоке, нет, они скорее напоминают волшебные острова посреди него – подобные тому, где провел семь лет Одиссей, очарованный нимфой Калипсо: впрочем, разве эти волшебные острова искусства портят пейзаж? и разве Поток не выигрывает от всех этих островов, полуостровов и даже материков, его окружающих?
Между прочим, и пушкинские глаза, по свидетельству современников, производили именно волшебное впечатление, чего о глазах Льва Толстого сказать никак нельзя: ведь волшебство – это когда любое движение, даже самое благородное и субтильное, снизу вверх, превращается в уравновешенное вращение по кругу, – а может ли безостановочное восхождение от Низшего к Высшему, без какого-либо намека на магический круг, тоже заключать в себе волшебство? может быть, да, а может быть, нет, – и вот, желая во что бы то ни стало отыскать его, мы инстинктивно всматриваемся в колючие толстовские глаза дольше и пристальней, чем в очаровательные пушкинские.
Слабая попытка приподняться над собой. – Когда мечта, эта великая детская сказка об идеальной завершенности нашего Я и нашей судьбы в том виде, в каком бы мы этого хотели, рушится раз и навсегда и мы вдруг осознаем, что та роль в обществе, которую мы бы хотели сыграть в жизни, невыполнима ни при каких условиях, – в том числе и в будущих воплощениях: мы это чувствуем потому, что нечто самое существенное в нас самих препятствует исполнению этой роли и осуществить ее может разве лишь в лучшем случае некий субъект, очень похожий на нас, но ни в коем случае не мы сами, – вот тогда-то и только тогда входит в нас то великое и последнее спокойствие и отрешенность, которые никогда не посетят нас, если мы изначально имеем любимую и успешную жизненную роль и если нашим главным и судьбоносным намерениям суждено осуществиться.
Но как взгляд человеческий не в состоянии на чем-то долго сосредоточиться и вынужден переходить с одного предмета на другой, так наши только что с таким трудом обретенные спокойствие и отрешенность спустя положенное время сменяются как ни в чем ни бывало беспокойством и привычной привязанностью к вещам повседневным и все идет дальше своим чередом, – потому что мечта должна оставаться мечтой и не лежит ей никак воплощаться в действительность: как часто приходится замечать, что именно у людей с мечтательным взглядом уживаются в душе сплошь и рядом самые противоположные и часто даже извращенные настроения.
И все-таки благодарность за все хорошее в жизни – потому что все реально могли быть в тысячу раз хуже – и в то же время фактическая невозможность быть до конца счастливым: во-первых, по причине антиномической природы человека, а во-вторых, в силу элементарной солидарности с прочими живыми существами, которые всегда и везде страдали, страдают и будут страдать, – уже одно это элементарное противоречие толкает нас к тому самому единственному поступку.
Плюс к тому слишком часто встречающаяся в жизни ситуация, когда мы причиняем близкому человеку зло или обиду, причем снова и снова, даже после долгих и тщательных размышлений и почти против воли, и это несмотря на то, что мы прекрасно знаем, что угрызения совести, как тень, отныне будут сопровождать нас всю жизнь, и все-таки мы не отрекаемся от содеянного, хотя и продолжаем как ни в чем ни бывало раскаиваться в нем, – также и она, эта ситуация, подталкивает нас к тому самому единственному поступку.
Наконец приходится учитывать и тот фактор, что никакое течение жизни, никакое счастливое стечение обстоятельств, никакая благоприятная судьба, никакие люди и никакие боги не в состоянии устранить или даже смягчить оба вышеприведенных аргумента.
Один же единственный поступок, с неумолимой логикой вытекающий из всего вышесказанного, как вода вытекает из крана, есть, конечно, неумелая, но искренняя попытка сесть в позу Лотоса, закрыть глаза и хотя бы приблизительно испытать то субтильное психологическое состояние, которое Будда называл ниббаной.
Надо ли говорить, что она ничего ровным счетом не изменит, разве что покажет, что потайная дверь, через которую вы втайне мечтали скрыться, когда за вами придет «пожилая и прилично одетая старая женщина с косой», – она, эта дверь, для вас тоже закрыта?
VIII. О любви
На службе Его Величества
I. – Когда Стива Облонский обмолвился, что «женщины – это винт, на котором все крутится», он был прав только наполовину: есть еще винт, на котором крутится сама женщина, и этот винт называется Его Величество Оргазм, – тот самый великий Режиссер в театре жизни и истории, который по своей прихоти сводит и разводит мужчин и женщин, под точеной маской любви и влюбленности принуждает их к продолжению рода или, взяв в руки Орфееву лиру, вдохновляет к созданию бессмертных произведений искусства, но также параллельно и как ни в чем ни бывало Его Величество подталкивает людей исподтишка к совершению самых чудовищных преступлений, всегда оставаясь при этом «в жанре»: подобно закулисному кукловоду, Он разыгрывает с людьми пошлые комедии или занятные водевили, возвышенные трагедии или скромные, с достоинством повести, курьезные анекдоты или абсурдные сценки, а то просто строчит изо дня в день скучную прозу, – но в любом случае Его Величество Оргазм, выполняя главную, предписанную ему его невидимыми покровителями – природой, Богом, богами, таинственным ходом вещей и т. п. – задачу, умудряется еще и развлекать своих «живых кукол»: поистине девяносто девять процентов людей, будучи попеременно то актерами в спектаклях Его Величества, то их зрителями, обретают в эротическом репертуаре наиважнейшее для себя содержание жизни.
II. – В самом деле, стоит только задуматься: все лучшее, светлое и доброе в нас мы выносим навстречу людям, однако половую сферу таим от людей, точно роковую тайну, оно и правильно: корни есть корни, они должны оставаться в земле, и все же неустранимый привкус остается на языке, – «глядящий на женщину уже прелюбодействует с ней в сердце своем», – эта древняя истина актуальна и по сей день, она сродни первоосновным физикальным законам: да, что-то есть странное в том, что мы, хотим мы того или не хотим, прелюбодействуем в фантазии с незнакомыми женщинами, которые уже – и жена, и мать, и дочь, и сестра кому-то, так что зачастую не хватает только случая, чтобы фантазия стала действительностью, и что-то не менее странное есть в том, что нам так легко представить, скажем, вон ту молодую и миловидную женщину, склонившуюся в парке над детской коляской с улыбкой леонардовской Мадонны, в оргиастических конвульсиях и с искаженным сладострастием лицом, а почему? да потому что они ведь наверняка были: и конвульсии, и непохожее, мягко говоря, на Мадонну лицо, – и если последняя цель природы: создать вполне совершенную и живую антиномию в человеческом мире, она эту цель сотворением Его Величества Оргазма блестяще достигла.
III. – Для всякого очевидно: Оргазм инкрустирован в нашу жизнь на правах почти демиургических, что-то есть глубоко общее у Его Величества с Первовзрывом, из которого возникло все, ведь Вселенная могла бы существовать вечно, как был уверен Будда, а люди могли бы, скажем, размножаться таким безукоризненно прекрасным образом, что, например, только та женщина, которую полюбит мужчина особой, для нее одной предназначенной любовью, зачала бы… как? да хотя бы от энергийного настроя любовных волн… ведь как прекрасно! но нет, зачатие происходит другим путем: жизнь, как мы видим, крепко позаботилась о сохранении рода, она и в самом деле как будто допускала, что, не доставляй Оргазм человеку предельного наслаждения, он еще сто раз подумал бы, размножаться ему или нет, – тем самым Его Величество в нашем сознании уподобляется червяку в яблоке или, точнее, библейскому змею, держащему в пасти гранатовое яблоко: у нас всегда на Его счет сомнение, точно ли творение жизни посредством Оргазма – оптимальный вариант, но, поискав вокруг глазами, мы никакой альтернативы не находим.
IV. – Итак, Оргазм обладает поистине демиургической силой, Он сродни тем демонам, которым молятся и которых заклинают, чтобы заручиться их поддержкой, без благословения Его Величества любой брак и тем более всякая свободная связь попадают под угрозу скорейшего самоупразднения, спрашивается: а как следует относиться к демонам? только так, наверное, как советует буддизм: ни в коем случае не заискивать перед ними, но и конечно же их не проклинать, – да, Оргазм, как виртуозный скрипач, предлагает партнерам миллион разнообразнейших наслаждений, но лишь тот мужчина и та женщина строят свою совместную жизнь не на песке, а на камне, которые, ценя и уважая Его Величество Оргазм, все-таки не ставят Его во главу угла.
V. – В Оргазме, помимо остроты и блаженства – тоже, кстати, своего рода противоположности, если присмотреться, – присутствует некий символический элемент колоссальной значимости: когда Цезарь со своей армией перешел Рубикон, римской демократии пришел конец и история, можно сказать, пошла по другому пути, – так в жизни любого из нас бывают моменты, когда нам предстоит принять важное, но рискованное решение, которое никто за нас принять не может, однако, раз приняв его, назад пути уже нет, и вот мы, точно увлекаемые посторонней силой, делаем головокружительный бросок, двойственное чувство вхождения в неведомый туннель и падения в бездну охватывает нас, сердце замирает, дыхание останавливается, в животе опускается, а субтильный и вместе любопытствующий ужас сливается в этот момент с сумасшедшим восторгом, – и ощущение чего-то великого, но и где-то может быть преступного, опьяняет сознание, главное же – перейдена невидимая граница и пути назад нет! мгновение, когда ток семени необратим, – самое впечатляющее в Оргазме.
VI. – Его Величество входит в нас вначале тонким и сладостно-болезненным томлением, разливающимся по всему телу, затопляющим всякую духовность и сопровождающимся легкими провалами под ложечкой, потом субтильным, пронзительным и тоже без остатка заполняющим все человеческое существо вожделением, наконец самим актом, апогеем сладострастия, всегда одинаковым и всегда кажущимся неповторимым, затем коротким блаженным опустошением, и после него уже гораздо более длительным состоянием некоторой опустошенности, в которое, в зависимости от отношения партнеров, могут вливаться и любовная нежность, благодарность, умиление и восхищение, как равным образом и разочарование, отрезвление, раздражение, равнодушие и даже скрытая ненависть, – действительно, Его Величество как никакой другой феномен сливает воедино психологически несовместимые эмоции: собственно, сопряжение любви, нежности, трогательной заботы и семейного инстинкта с одной стороны, и некоей игривой, воображаемой (хотя иногда самой буквальной и болезненной) жестокости, некоего субтильного унижения, некоего странного, почти метафизического безобразия (почему мы скрываем половой акт от других людей?), даже некоего внутреннего и чисто нравственного преступления (за лишение девственности, а то и просто за измену не однажды назначалась смертная казнь, не редки и убийства из мести со стороны родственников), – оно, это сопряжение, психически усиливает и разнообразит механизм сладострастия.
VII. – Во время соития мужчине кажется, что он владеет женщиной, как господин владеет рабом, тому способствует мужской образ полового акта, и как бы нежен, хрупок и добр ни был мужчина, все же он должен хотя бы на короткое время и хотя бы в чем-то показать себя властелином, – а то и с оттенком жестокости, а то и с желанием «помучить», а то и с нюансом «унизить» любимого партнера, и так далее и тому подобное, причем не столько ради себя, сколько ради любимой (а тем более нелюбимой) женщины, – чтобы доставить ей максимум наслаждения, а также чтобы внушить ей уважение к себе как к мужчине: ощущение мужской власти чрезвычайно важно для женщины, недаром женщины покидают слабых мужчин, а если и живут с ними, то лишь ради детей и имущества, как правило, без зазрения совести им изменяя, – но главный парадокс и изюминка Его Величества состоят в том, что, даже находясь полностью во власти мужчины, почти насилующего ее, женщина в свою очередь и едва ли не в большей мере демонстрирует встречную, пусть и скрытую власть над мужчиной: ибо в эти заветные минуты он весь принадлежит ей, сам того не замечая, а кроме того, спустя короткое время, он ведь все равно бессильно будет лежать рядом с нею, а она потенциально будет готова любить снова и снова, что и подытожил Фридрих Ницше (никогда сам по сути не знавший женщин) в своей крылатой фразе: «Мужчина счастлив: я хочу! женщина счастлива: он хочет».
VIII. – Оргазменный принцип лежит, если присмотреться, в основе любого человеческого удовольствия: чего бы мы в жизни ни вожделели, мы никогда не продумываем объект нашего вожделения до конца, во всех его деталях, а, главное, в его неизбежных последствиях, – мы останавливаемся на воображаемом его апогее, который еще зачастую не существует на самом деле, но лишь в возможности, и вот мы желаемое выдаем за действительное, финал удовольствия плавает для нас как бы в сладостном тумане, он пустотен и неопределенен, но в этом-то и заключается его неодолимое притяжение, – если бы нам как дважды два показали всю подноготную нашего удовольствия, выставили бы наружу весь скрытый его механизм, а главное, обрисовали все его неизбежные последствия, то пропало бы, наверное, и само удовольствие: последнее держится именно на некоторой неопределенности, которую, инстинктивно догадываясь о ее гнилой подоплеке, мы демонстративно и с тем большим усердием именуем громким словцом «тайна»: вообще любую неопределенность мы склонны именовать тайной и тогда сладостно к ней стремиться, потому что никакого иного и более достойного стремления в жизни не существует, тайна – это все, она общий эквивалент любой религии, любого высокого искусства и даже любой настоящей философии, – корни всех трех феноменов теряются в неисследимом сумраке метафизической неопределенности: ничего нельзя до конца проверить, а тем более доказать.
IX. – Стремясь инстинктивно к полноте жизни, мужчина хочет испытать и мечту о женщине, и предвкушение знакомства с нею, и робкие начальные ухаживания, и первый интимный контакт, и роман или брак с нею, и рождение и воспитание детей, и тихую безоблачную гармонию, но также и взаимные измены, и роковые возбуждающие ссоры, и неизбежные семейные дрязги, и попеременную смену страстей и охлаждения, и развод, и новое схождение, и черт еще знает что, – и все это по возможности интенсивно и одновременно: казалось бы, немыслимая вещь… ничего подобного, не только мыслимая, но и вполне реальная! Его Величество Оргазм как раз и дарит мужчине – о женщине пока не берусь судить – чувственную квинтэссенцию всех упомянутых выше, как и равно оставшихся за строкой жизненных поворотов, определяющих парадигму отношений между полами, причем предельно интенсивно и одновременно, – так что если есть в Оргазме нечто такое, что притягивает к Нему неодолимо, помимо, разумеется, физического блаженства, то это вышеописанная Его способность на энергийном, невидимом и почти духовном уровне воспроизводить разного рода материальные и в первую очередь психические возможности.
X. – Да, тайна коренится в феномене начала, и во всяком начале присутствует волшебство, как гласит поговорка, а к волшебству у нас врожденное эротическое влечение, – однако по мере того, как начало заменяется серединой, а потом и концом, волшебство улетучивается, но никогда не исчезает вполне, потому что начало мы переносим и на середину, и на конец, так что состояние взрослости, например, это не только полдень жизни, но и начало ее новой, сознательной фазы, а смерть не только конец жизни, но и предощущение какого-то нового, загадочного начала, – когда же чувство начала полностью исчезает, человек не может больше жить и кончает с собой, хотя даже тогда, как показывают исследования, самоубийцы в девяноста случаев из ста хотят уничтожить свою жизнь, но не жизнь вообще, – вот Его Величество Оргазм и есть воплощение метафизического Начала как такового: и потому в нем столько субтильного волшебства и очарования, и потому сопротивляться ему практически невозможно.
XI. – Оргазм всегда однообразен и всегда неповторим и если принять Его однообразие и быть Ему за это благодарным, то из этого может выйти очень даже хорошая и долгая семейная жизнь, если же думать об упущенных возможностях, всегда предоставляемых Его Величеством, то так прямехонько и выйдешь к супружеской измене, – ведь Оргазм как некая математическая постоянная дает максимум наслаждения, и поэтому, осиливая в себе жадность жизни, можно смело закрыть глаза на тот крошечный икс, который путем замены партнера усиливает и, главное, разнообразит Оргазм, еще раз: учитывать икс значит постоянно оставаться в плену соблазна, а отвергнуть его значит гениально упростить уравнение жизни.
XII. – Оргазм дело нешуточное: вся палитра человеческих эмоций задействована на этом кратчайшем миге, сколько мыслей, фантазий, материальных средств, времени и энергии на него направлены! соответствуют ли они конечному результату? иной раз кажется, что тайной целью Его Величества являются лишь пути, к нему ведущие, потому что, строго говоря, если положить на одну чашу весов удовольствие от Оргазма, а на другую все те препятствия, которые мы зачастую вынуждены преодолевать, чтобы Его достичь, то вторая чаша мгновенно полетит вниз, а первая взметнется наверх, и весы к черту сломаются, – но ведь так обычно и бывает в жизни: мы ставим себе какую-то высокую и зачастую призрачную цель и ради нее проделываем трудный и долгий путь, однако в конце концов ничуть о том не жалеем: путь и был, оказывается, тайной целью, – не иначе с жизнью в целом, мы рождены только для того, чтобы когда-нибудь умереть, но долгий, запутанный, полный опасностей и открытий путь к смерти и был, оказывается, нашей жизнью.
XIII. – Его Величество по своей природе – маг и чародей, и в этом аспекте он замечательно пародирует жизнь: как жизнь в детстве и юности рисуется в радужных тонах, а под старость приобретает темный, рембрандтовский колорит, так оргазм то набрасывает, то резко скидывает с объекта вожделения волшебное покрывало иллюзии, – в самом деле, еще минуту назад возлюбленная женщина казалась нам если не богиней, то по меньшей мере самым желанным на свете существом, а теперь мы вдруг с трудом можем понять, зачем ее так упорно домогались, – нет, мы не жалеем о затраченных усилиях, не в том дело, в конце концов мы приобрели самое ценное в жизни: неповторимый отрезок бытия, но все-таки некоторое недоумение, наподобие легкого шока, остается, пройдет немного времени – и отдохнувшее вожделение, подобно лазеру, соберет разбросанные сексуальные энергии и направит их опять на новый – и прежний – эротический образ.
XIV. – Да, именно женский образ главное, а потом уже идет конкретная женщина, только эротический образ женщины интересует Его Величество, хотя, как всякий мудрый тиран, он в глубине души ценит и ее чисто человеческий облик, увы! история и жизнь полны одних и тех же примеров: очень многие женщины, не зная в жизни более высших ценностей, нежели культ Его Величества Оргазма, служат Ему «не щадя живота своего», ради мужского внимания они жертвуют честью, достоинством, родственными связями, идут на обман и предательство, иногда даже на убийство, это касается и мужчин, но у тех есть множество других альтернатив, у женщины альтернатив ее половой роли, как правило, нет, она привязана к своему полу цепями, как каторжник на галере к веслам, – но тем пристальней испытывает ее Его Величество, и в награду за то, что она все-таки отказывается быть его немой и послушной рабой, продлевает ее привлекательность.
XV. – Ибо кто не обращал внимание: женщины, которые не хотят нравиться всем и во что бы то ни стало, состариваются медленней и благородней? не в пример тем, у кого всегда пуд косметики на лице, и в особенности тем, чья страшная зависимость от мужского интереса (причем конечно же только тех мужчин, кого они сами предназначили себе в ухажеры) так идет их эротическому образу и так не подходит их человеческому лицу, – но когда пройдут годы, и образ окончательно уступит место человеческому лицу, Его Величество, как французский Король-Солнце, первый же с презрением от них отвернется: господин в душе недолюбливает слишком по-рабски преданных ему слуг.
XVI. – Действительно, эротика – это чистейшая магия, никакое другое чувство не появляется так быстро, набирая головокружительную силу и скорость, как эротическое, и никакое другое не исчезает так же быстро, от малейшей мелочи и прихоти: мы тянемся даже к испорченным женщинам, если есть эротическое притяжение, и отталкиваемся женщин с прекрасным характером, если последнее отсутствует, – отверженная повсюду, утерявшая все позиции светская женщина еще может, собравшись внутренне и преобразившись внешне – косметика, одежда, нижнее белье, парфюмерия – произвести эротический путч, покорить заново «нужного» мужчину и вернуть свое положение в обществе, – такое часто бывало в истории, правда, ненадолго.
XVII. – В эротике есть первозданное волшебство: иногда серьезное, чреватое заговорами, общественными переворотами и убийствами, иногда легкое и поверхностное, сродни цирковым фокусам, эротическая магия – в основном по части женщины, мужчин она касается лишь поскольку они ее исполнители, стоит лишь вдуматься – какая разница между только что проснувшейся женщиной и ею же во всеоружии косметического, гардеробного, психологического и духовного блеска! это первый момент, а второй – женщина орудует не сама по себе, но всегда через мужчину, как тут не процитировать вторично великого Ницше: «мужчина счастлив – я хочу! женщина счастлива – он хочет!»
XVIII. – Оргазменное ощущение Хома Брут испытывал, когда нес на себе паночку-ведьму: «он чувствовал какое-то томительное, не приятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу… он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою, он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели, он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета, она оборотилась к нему – и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось – и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности… он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение», – удивительно это слияние предоргазменного ощущения с чудесностью и переступлением некой пограничной черты в мировосприятии Гоголя.
XIX. – Когда мы вожделеем женщину, она является нам в эротической ауре, это великий обман и самообман, очень напоминающий, кстати, жанр поэзии, но на нем стоит вся жизнь: мы очень хорошо догадываемся, что представляет собой наша женщина помимо ауры, и она сама о себе еще больше знает, но часы заведены, и игра началась, – правила игры вековечны и неизменны: пока женщина в наших глазах окутана аурой эротического восхищения, она чувствует себя высшим, избранным существом, сродни богини, ей достаточно любви одного мужчины, лишь бы он смотрел на нее так, как она сама хотела бы на себя смотреть, и тогда его страсть к ней и ее обожествление заменяет ей весь мир, но на тот случай, если очарование все-таки пройдет – а оно обязательно рано или поздно пройдет, ведь нет ничего уязвимей и преходящей эротической магии! – женщина заранее заботится о следующем поклоннике, и потому инстинктивно флиртует с посторонними мужчинами, – здесь сказывается принцип зеркала: женщина любит того мужчину, который своим восхищением показывает ей, наподобие зеркала, то ее отражение, которое ей самой в себе больше всего нравится, чаще всего даже помимо мужчины, который в зеркале невидим, точно вампир.
XX. – Однако в каждом сексуальном увлечении есть некая критическая точка, как в бронированном стекле: стоит ее коснуться и партнерство, которое выдержало самые невероятные жизненные испытания, рушится в пыль и прах, опять-таки: какое другое чувство между людьми обращается мгновенно в пыль и прах? никакое, кроме самого прекрасного и очаровательного: половой любви, – она вздохами, взглядами, словами и эмоциями доходит до небес, но в один прекрасный момент какой-нибудь пустяк, какая-нибудь досадная мелочь – как правило, то именно, что прежде привлекало: оттенок в голосе, звук бритвы в ванной комнате, манера Анны Карениной держать чашку кофе, далеко отставив пальцы, и тому подобное, – все это способно точно по мановению злой волшебной палочки обратить любовь в свою противоположность, собственно, подробнейшее исследование «философии критической точки в браке» и есть главная тема толстовского романа.
XXI. – Итак, мелочей, разрушающих брак и партнерство, не счесть, но стоит за ними всегда одна-единственная и главная мелочь, а именно: неодобрение связи со стороны Его Величества Оргазма, почему Он не благоволит союзу именно между этим мужчиной и этой женщиной? быть может, Он хочет им сказать на своем языке, что их совместный путь пройден и им нужно разойтись, чтобы идти другими путями и с другими партнерами, которые важнее для их внутреннего развития? а может, Он подсказывает, что вообще пора отойти от половой жизни и перейти к духовной: случай, положим, редкий, но вполне реальный? или, может, следует вовсе не обращать внимание на шепот Его Величества и жить так, как прежде, разве что предаваясь отныне соитию не раз в день, а, скажем, раз в неделю или раз в месяц? какой ответ правилен? как и везде и всегда, только тот, который мы сами для себя выбрали, но все же не следует забывать: в Его Величестве Оргазме есть что-то глубоко провокаторское, как в дьяволе, и Его Величество Оргазм заставляет нас очень часто делать вещи, о которых мы потом глубоко сожалеем.
XXII. – Опять-таки Оргазм – самый несъедобный и неудобоваримый кусок для любых мировых религий: Он тонко иронизирует над Блаженной Пустотой, на которой зиждется весь буддизм, затем Он, точно острым мечом рассекает природу человека на человеческую и животную, повисая громадным знаком вопроса над входом в Царствие Божие, и Он же, наконец, пародирует саму смерть: вспомним «le petit mort» французов, а также Дон Гуана, этого воплощенного в литературном образе Оргазменного Начала, который прямо конфронтирует со Смертью, тайно обручен с нею и гибнет от ее руки.
XXIII. – Все это бы еще куда ни шло – вопрос о связи Его Величества с прочими метафизическими реальностями можно ставить, но можно и не ставить, однако Оргазм, как сказано было в самом начале, бросает тень и на саму женщину, свою мистическую жрицу и преданнейшую слугу, – будучи по природе своей теснейшим образом связан с женщиной и любовью к женщине, Его Величество как будто с легкостью обходится и без любви и без самой женщины, довольствуясь зачастую особами одинакового пола, куклами, животными, а то и просто элементарной мастурбацией, недаром заядлые онанисты утверждают: женщина всего лишь жалкая замена мастурбации, и они по-своему правы – в плане утонченности и интенсивности самого по себе Оргазма мастурбация вряд ли уступит половому акту, а пожалуй и превзойдет его, – так один довольно известный голливудский актер нечаянно погиб в собственноручно изготовленной петле в своем платяном шкафу: он затягивался петлей, чтобы посредством мастурбации достичь оптимально интенсивного Оргазма, известно ведь, что у приговоренных к смертной казни через повешение предсмертные судороги сопровождаются неординарной эрекцией.
XXIV. – Другое дело, что в самоудовлетворении отсутствует объект противоположного пола, а значит – целый мир женщины (или мужчины), потеря, с одной стороны, колоссальная: потому что мир другого пола, во-первых, кажется нам волшебным, во-вторых, раздвигает наше мирочувствие до размеров астрономических, и в-третьих, дополняет нас самих, показывая нам, как в зеркале, что мы есть на самом деле, однако, с другой стороны, как говорят французы, в каждом недостатке есть свои достоинства, а в каждом достоинстве свои недостатки, и нужно лишь подумать, что над чем перевешивает, – в нашем случае Оргазм от женщины безусловно перевешивает самоудовлетворение, поэтому в подавляющем большинстве случаев мужчина по-прежнему в первую очередь стремится к женщине, а женщина – к мужчине, и мир, к счастью, не выходит из своих пазов.
XXV. – Но провокаторская роль Его Величества Оргазма не исчезает вполне даже в соитии с любимой женщиной, и вопрос здесь стоит ребром: что для нас все-таки важней и первичней – любовь к женщине или любовь к нашему собственному Оргазму? легче всего сказать: и то и другое вместе, за такие гармонические ответы еще в школе ставили пятерки, но вопрос этот, как резкий свет, мгновенно освещает самые потаенные и тщательно скрываемые от постороннего глаза уголки супружеской спальни, – да, очень хорошо, когда оба компонента неотделимы друг от друга, но бывает, что между ними наметилась трещина, и что тогда? что? ну, скажем, можно еще больше любви и внимания уделять супруге, делать ей дорогие подарки, приглашать чаще в театр, считывать с губ любое желание, а потом, когда настанет заветный час, вместо большого члена показать ей… большой кукиш, – или можно пойти тайно на эротический шоу, заглянуть в Playboy, на худой конец проглотить таблетку, – иными словами, напитавшись сексуальными энергиями от других и запретных источников, можно залить ими, как топливом, Его Величество… а ради кого? ради любимой женщины, жены – вот ведь в чем все дело! разве здесь цель не оправдывает средства? и я почему-то уверен, что, если все делать дискретно и со вкусом, любая женщина предпочтет второй вариант первому, хотя этим самым только лишний раз докажет, что подобное обращение с собой она сама заслужила, и у мужчины просто нет иного выбора; сходным образом и мечта всех партнеров: испытывать Оргазм одновременно есть прежде всего мечта и идеал и как таковые они далеко не всегда совпадают с повседневным опытом, – так что если идеал воплотим в интимной жизни, можно только поздравить партнеров, если же нет, следует «семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать».
XXVI. – Стоит повторить, Его Величество капризен: жертвовать Им ни в коем случае нельзя даже ради любимой женщины, она же в конце концов от этого может и пострадать, – это как в Первой Отечественной войне, когда Кутузов пожертвовал столицей, чтобы спасти армию, так вот, в нашем случае Оргазм – армия, а женщина – столица, – и правит Его Величество бал, великий бал: Он как невидимый дирижер руководит космическим танцем, в котором участвуют все решительно женщины и все решительно мужчины, за крошечным исключением тех, кто по тем или иным причинам вышел из повиновения дирижерской палочки Его Величества.
XXVII. – А обращается Он с нею поистине виртуозно: вот поднял великий Дирижер палочку – и пары восторженно закружились, не отрывая друг от друга завороженных глаз, повел ею в сторону – и пары принялись ухаживать друг за другом, забыв все на свете, – ведь ничто так быстро и так крепко не сближает мужчину и женщину, как предчувствие совместного Оргазма, но ничто же в мире столь молниеносно и необратимо не разделяет их, как по тем или иным причинам обманутая надежда в Нем, и ослабление Его Величества есть по сути единственная причина всех разводов и расхождений, так что если бы существовала статистика, способная зафиксировать число убийств, самоубийств, увечий, а заодно и общую массу содеянного зла и причиненных страданий на почве Оргазма, вышел бы результат, сравнимый с самыми страшными войнами и эпидемиями.
XXVIII. – А Дирижер продолжает жестикулировать своей палочкой: резко опустит ее – и вот партнеры уже сливаются в сладострастных конвульсиях, снова поднимет – и влюбленные приготовились к новому танцу, однако, глядь! две трети из них успели уже поменять своих партнеров, Дирижер сделал плавный изгиб – и вот уже какой-нибудь Ромео склонил колени перед балконом какой-нибудь Джульетты, угрожающе скользнул ею, точно змею пронес в воздухе, – и вот вам толстовская Крейцерова соната, да оттенков здесь миллион! а как часто мужчины бросают жен, имущество, рискуют профессией, и ради чего? ради молоденькой девицы, которая их скоро заведомо бросит! И как часто молодые девушки, имея поклонника, который их что называется на руках носит, предпочитают смазливого и сексуального… конец здесь тоже известен! правда, лишь в первом случае Его Величество Оргазм действует от собственного лица, во втором же выставляет свою сестру – остро-щекочущую эротическую Ауру, – это мужчинам так важен Оргазм, женщины могут довольствоваться и аурой.
XXIX. – Пока Оргазм играет первую скрипку в человеке, Он всегда стремится подчинить себе сугубо человеческое в нем, по принципу: сначала – эротика и половое удовлетворение, а потом уже, для приличия и в качестве бесплатного приложения, собственно человеческий элемент, но никак не наоборот, – и в этом в первую очередь сказывается провокаторская, сходная с дьявольской, роль Оргазма, – и как Мефистофель заявил, что он «часть силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», так Оргазм, быть может, всего лишь испытывает людей: поначалу, пока молоды, они идут у Него на поводу, но с возрастом, узнав, «почем фунт лиха», они возвращаются на «круги своя» и начинают иными глазами смотреть на то, чего прежде не замечали, – мужчина или женщина, способные друг на друга просто положиться, если Его Величество предложит одному продать за себя другого, выигрывают вдруг вдесятеро, и во столько же раз проигрывают те, кто снова и снова заключают дьявольскую сделку.
XXX. – Французы недаром говорят: «Cherchez la femme», – действительно, найти свою женщину – значит обрести надежную гавань посреди бурных жизненных плаваний, в этой гавани есть все, что нужно для счастья: взаимопонимание, верность, семейный очаг, самые простые и основные удовольствия, и пусть гавань эта не вечна, пусть годы, болезнь и смерть рано или поздно заберут у вас вашу гавань спасения – все-таки она была, – и то обстоятельство, что Его Величество Оргазм не разрушил ее ценой эротического предательства, следует оценить очень высоко, и если бы, поверьте, нашелся человек, который, подобно основателям мировых религий, сумел убедить людей, что найти такую женщину есть цель бесконечно более важная, чем обрести ниббану или войти в Царствие Небесное, мир, думается, стал бы скорее лучше, чем хуже.
XXXI. – Его Величество Оргазм испытывает человеческую субстанцию не только на прочность, но и на долговечность: бессмертна ли, к примеру, человеческая душа? вопрос древний, как мир, тут поистине все как в русской сказке: вера решала-решала эту проблему, да не решила, разум решал-решал и не решил, подскочил Оргазм, дернул за ниточку – и все рухнуло к чертовой матери, – потому что оказалось, что Оргазм субстанциально и энергетически – через канал спинного мозга – соединяет головной мозг с половой системой, шире – сопрягает в единое музыкальное целое так называемое человеческое начало в человеке с так называемым животным началом, – а мыслимо ли животное начало по ту сторону жизни? представима ли бессмертная душа, наделенная сексуальным влечением? недаром сказал Бальзак: «самое ценное в любви – это ее длительность», – он имел ввиду таинственное сопряжение полового и человеческого в человеке.
Обратим в этой связи внимание еще на один любопытный оттенок: дело даже не в том, что пол как выражение подсознательного доминирует над сознанием (это после З. Фрейда сделалось общим местом), а дело в том, что человек может существовать только в облике мужчины и женщины, последние же никоим образом неотделимы от своих половых органов, ни в сем мире, ни в каком-либо ином, – а посему: сколь бы одухотворенным ни казалось лицо женщины, какая бы «божественная» улыбка ни играла на ее устах и каким бы умом ни светились ее глаза, в глубине их всех, как корень по отношению к цветку, тихо, тайно и властно пульсирует ее заветное междуножье, – и тем сильней притягивает оно мужчину, чем искусней скрыто от посторонних глаз, тогда как, напротив, истощение полового влечения к женщине, кажется, происходит прямо пропорционально лицезрению ее наготы.
XXXII. – Пол, действительно, настолько глубоко инкарнирован в человека, что именно наиболее удаленные от него и противоположные, казалось бы, по всем параметрам части тела на самом деле вызывают первичное и центральное эротическое вожделение, – это в первую очередь глаза и соответственно лицо, а лишь потом идут грудь, бедра, живот, вагина, – да, именно с глаз начинается подлинная эротика, недаром поэтому говорится о сильной любви: любовь с первого взгляда, и если глаза вызывают сексуальное влечение, обмен любовными энергиями будет долгим и плодотворным, если же первичное влечение идет от той или иной части тела, оно довольно быстро истощается, – вообще, не только истинная любовь, но и любая мало-мальски устойчивая, длительная связь начинается сверху и живет прежде всего наверху, она лишь питается снизу и нижними энергиями, – и как грех чревоугодия состоит в том, что меняются местами цель и средства: человек кушает не для того, чтобы поддерживать жизнь, но видит в еде самоцель, так грех сладострастия заключается в концентрации на сексуальных энергиях, которые тоже вместо средства к поддержанию брака или партнерства обращаются в главную цель жизни, – никогда еще, между прочим, из этого не вышло ничего хорошего.
XXXIII. – Поскольку же пол и мозг связаны спинномозговым (чакровым) каналом, постольку пол всегда представляется нам одухотворенным, а любая духовность, особенно женская – глубоко эротичной, вообще женская духовность, если женщина интересна как женщина, подобна пеньюару или тонкому платью, наброшенному на голое тело, одежда только оттеняет неотразимость наготы, духовность и образованность поэтому – тоже своего рода эротические одежды и даже сам статус замужества – своеобразный атрибут женского гардероба: так замужние женщины кажутся часто соблазнительней свободных, сюда же и запретный плод, который, как известно, всегда сладок.
XXXIV. – Эротика всепроникающа: попасть контрабандой в религию ей ничего не стоит – не те же ли самые глаза, подернутые тонкой поволокой, видим мы в бесконечных вариациях на лицах католических Мадонн? и не потому ли культ Мадонны так популярен в средиземноморском ареале? его физиологический финал нам хорошо известен: повальные монашеские оргии в прошлом и повальные монашеские мастурбации в прошлом, настоящем и будущем, – и так далее и тому подобное.
XXXV. – Его Величество Оргазм, далее, всецело определяет наше отношение к женщине, не являющейся нашей близкой родственницей: когда мы откровенно хотим войти с нею в связь, поведение наше одно, если же мы только для приличия волочимся за нею, не желая переходить границы дружбы или приятельства, совсем другое, когда мы точно знаем, что совместная постель невозможна никогда и ни при каких условиях, поведение наше третьего рода, а в случае, когда интимный контакт в принципе возможен, но не теперь, не в данный момент, а когда-нибудь потом или даже в «следующей жизни», мы ведем себя четвертым образом, и так далее и тому подобное, – итак, выражение глаз, мимика, слова, которые мы выбираем, главное же, многозначительное молчание между словами, – все определяется одним-единственным выбором: суждено нам войти в интимную связь с этой женщиной или не суждено.
XXXVI. – Оргазм есть также источник своеобразной и самоочистительной динамики в партнерстве, особенно она характерна для западных людей и, к сожалению, нетипична для русских: заключается эта динамика в том, что женщину нужно снова и снова завоевывать, хотя бы в крошечных дозах, нельзя поэтому никогда сказать: эта женщина навсегда моя, нужно постоянно работать над отношением, восприятие партнера как собственного и неизменного подтачивает любовь, точно червь дерево, и обращает свежую проточную воду в затхлый пруд, – даже в тридцатилетнем супружестве должен присутствовать хотя бы крошечный элемент досвадебной влюбленности, также и посреди самой затертой обыденности можно и нужно взглянуть на любимого человека так, как будто видишь его впервые: разумеется, не с оттенком недоумения, но тихого восхищения и благодарности, – необходимость постоянно и заново ее завоевывать есть самая тонкая одежда свободной западной женщины, и не каждому мужчине по плечу развязать ее, – только об одном этом вся многотомная эпопея об Анжелике и графе де Пейраке.
XXXVII. – Когда же все эротические одежды сняты, остаются проституция и порнография, они вечны, как мир, но увлечение ими – либо результат крайней необходимости, либо признак мужской слабости: нормальные, а тем более сильные мужчины возиться с проститутками или стимулировать себя картинками не станут, потому что тут нечего завоевывать и не к чему стремиться, здесь нет риска и нет подлинной игры, публичная женщина не имеет права вам отказать, если вы ей заплатили, а порнографический журнал еще меньше окажет вам сопротивления.
XXXVIII. – Однако и проституция и порнография, несмотря на колоссальную популярность, лежат все-таки на обочине дороги, любопытно спросить: аморальны ли они? точно ли вожделение к женщине помимо любви предпочтительней их именно с нравственной точки зрения? не играет ли тут первичную роль эстетический критерий, который, как и всегда, имеет глубочайшие онтологические корни? то есть, не очевидно ли, что страсть к свободной женщине в той степени прекрасней обладания проституткой, а тем более онанирования, в какой, скажем, Шекспир превосходит в художественном отношении какой-нибудь пошлый рассказик из того же «Playboy»? разумеется, в сердцевине подобной красоты скрыта неумолимая целесообразность: из живой страсти даже к замужней женщине может выйти ребенок, пусть и внебрачный, тогда как проститутка или журнал заведомо не родят, а именно эту основную цель, как мы знаем, Его Величество никогда не упускает из вида.
XXXIX. – Зато сколько разочарований, страданий и смертей сопряжено с нею! лубочный мир проституции и мастурбации и в помине нельзя сравнивать в этом плане с половыми страстями, – кому повредили онанизм или посещение публичного дома? разве что нравственно, зато пролитой крови в этих «грешках» нет, за исключением разве немногих патологических маньяков, убивающих проституток, типа Джека-Потрошителя, – напротив, в свободном и необъятном, как море, мире страстей, секс и смерть идут рука об руку, загляните в Сицилию или в мусульманский мир: там невинный флирт опасней, чем купание в реке, кишащей крокодилами, а связь с замужней женщиной может окончиться кровавой развязкой абсолютно в любом уголке земли и даже в наше просвещенное время.
XL. – Любопытная вещь: хотя об Его Величестве Оргазме невозможно и вспомнить, хотя память просто отказывается зафиксировать это важнейшее для человека переживание, – все-таки ради Него одного – а вовсе не ради продолжения рода – человек идет на все! но из недр любого хаоса, в том числе эротического, выкристаллизовывается какой-то порядок и тоже, как легко догадаться, эротический, – к примеру, когда мужчина и женщина живут в спокойном и счастливом браке, а со стороны вдруг является преступная страсть, – как она обществом оценивается? двояко! если это было всего лишь сексуальное развлечение, которое ни к чему не повело, кроме нарушения мира между супругами, то оно обычно осуждается общественным мнением, если же адюльтер привел к разводу и новому браку на более устойчивых сексуальных основах, он не только приветствуется, но и служит примером для подражания, – и более того, воспевается в искусстве.
XLI. – О двойной роли и двойственной природе Его Величества можно говорить бесконечно, Он подобен тому самому обоюдоострому евангельскому мечу: с одной стороны, Оргазм является незыблемым условием, носителем и незримым центром самой трогательной, нежной и глубокой связи между мужчиной и женщиной, но с другой стороны – седалищем самых чудовищных извращений и преступлений, и нет такой жертвы, которую бы не принесли любящие ради сохранения и умножения своей любви, как нет такого извращения и преступления, на которые бы не пошли женщины, но гораздо чаще мужчины ради достижения или усиления Его Величества Оргазма.
XLII. – Мужчина может душить женщину галстуком (знаменитый предпоследний фильм Альфреда Хичкока) или возбуждаться зрелищем смертной казни (во времена Великой Французской революции), может умолять женщину уринировать себе в рот или бить себя кнутом (расхожие услуги проституток), может онанировать при виде молодой женщины, лежащей неподвижно в белом платье в гробу (не менее известный фильм Луиса Бунюэля с Катрин Денев в главной роли), может даже взять себе вместо женщины мальчика, мужчину, животное или труп, – и все только ради того, чтобы потрафить Его Величеству: все это было бы в конце концов ужасно, если бы не было так смешно, действительно, Оргазм подобен шекспировскому перу: в какие только положения ни ставит он мужчину и женщину! он выдумывает для них сотни сюжетов и сюжетиков – трагических и смешных, величественных и пошлых, занимательных и скучных, сказочно-прекрасных и чудовищно-отвратительных, – так что нет в мире такого Оргазма, из которого, имея маломальский талант, нельзя было бы скроить сносный рассказик!
XLIII. – В своей основе Оргазм, конечно, связан с особой противоположного пола, это подтверждает и мастурбация: мужчина удовлетворяет себя, играясь образом женщины, почему он это делает? причин много: либо живой женщины рядом не оказалось, либо она дала «от ворот поворот», либо возбудила другая женщина – замужняя? случайно увиденная из окна поезда? актриса? но как правило всегда на данный момент недостижимая, а бывает, пробудилось комнатное донжуанство, – наедине с собой можно иметь любую женщину, только сними штаны – и трахни ее в воображении, а вот поди-ка завоюй ее – живую и настоящую, итак, причин мастурбации много, но субстанция игры с женским образом остается.
XLIV. – Дело в корне меняется, когда мы сталкиваемся с феноменом гомосексуализма: понять его абстрактно очень легко, а вот внутренне прочувствовать очень трудно, игра матери-природы – хочется сказать, так оно и есть, гомосексуализм прямо намекает на какую-то сверхчеловеческую и космическую природу Оргазма, ту самую, до которой мы докопаться никогда не сможем, впрочем, оно и хорошо: это освобождает нас от обязанности дотошно все до конца узнавать и объяснять и более того, гомосексуализм является той последней каплей, после которой мы удивленно хлопаем себя по лбу и восклицаем: «а король-то и в самом деле голый!» – действительно, то, что прежде вызывало чуть ли не благоговейное восхищение, теперь пробуждает разве что двусмысленную улыбку, и давнее подозрение всех истинных мудрецов о том, что сомнительна и неполноценна всякая любовь, зиждущаяся на половой заинтересованности, склоняется в который раз поменять свой вопросительный знак на знак восклицательный.
XLV. – Как и все в жизни, Его Величество Оргазм подвержен трем основным фазам – рождения, созревания и старения: когда Он впервые пробуждается в юношеском организме, это воспринимается почти как чудо, в самом деле – такое странное, новое, невероятное, волшебное наслаждение, уже предчувствие и преддверие которого захватывает целиком и полностью, но для того, чтобы оно свершилось, чего-то не хватает: самой малости и в то же время чего-то очень важного, ведь наслаждение можно вызвать и рукой – точно открыть краник, но тогда теряются таинство и волшебство, как их привнести в наслаждение? разумеется, посредством близости с существом противоположного пола, которых так много кругом и которые и без того, по причине одной своей половой инаковости, казались «не от мира сего»: все у них не так, как у юношей, с ними уже просто общаться – словно быть в другом, таинственном мире, а тут еще, по какому-то удивительному совпадению, самая заветная часть их тела воплощает физиологически путь к величайшему в мире наслаждению, – и вот это кажущееся поначалу космически случайным совпадение человеческого и полового действует на юное сознание наподобие самого настоящего чуда.
XLVI. – С годами ощущение чуда безвозвратно уходит, однако остается ощущение Оргазма как чего-то такого, что на короткий миг переносит нас в «мир иной», в рай, каких-то пара секунд, но и их достаточно, дело ведь не во времени, а в принципе: потому как, во-первых, если есть два мира, и один из них измеряется десятилетиями, а другой секундами, если, во-вторых, это нормально и иначе не может быть, и если, в-третьих, есть возможность, постоянно живя в одном мире, регулярно посещать другой, – значит, все в порядке и цель жизни достигнута.
XLVII. – Правда, рано или поздно приходит время, когда волшебство и ощущение «иного мира» начисто улетучиваются из Оргазма, и остается одна правдивая и неприглядная физиологическая основа: как заржавленный механизм, Оргазм начинает отправляться однообразно и со скрипом, обнаружились вдруг с шокирующей ясностью условия, при которых он возможен и при которых невозможен, которые ему благоприятствуют, а которые нет, – и вот тогда человек сам себе начинает напоминать старую, но чрезвычайно сложную механическую куклу, которую еще пока не вскрыли, но в которой и без того отчетливо прощупываются развинченные болты, торчащие пружины и потертые шестеренки, однако – поистине как в лучших сказках – если на протяжении жизни супруги не состояли послушно на службе Его Величества, но умели искусно пользоваться Его великими энергиями ради самой высокой цели – построения человеческой любви, образ куклы как по волшебству исчезает, и на полотне прожитой жизни остаются два человека: мужчина и женщина, причем их половые признаки отныне целиком и полностью поступают в услужение Господину куда более великому, чем Его Величество.
XLVIII. – Как странно загадочна природа нашей тени – она вроде бы мы и не мы одновременно, в нее можно стрелять, и нам будет только смешно, но искажения ее до безобразия для нас в то же время очень даже неприятны – так еще более заманчивы и необозримы наши собственные возможности: что мы могли в жизни сделать, но не сделали? почему мы иной раз противоречивы до неузнаваемости? можно ли говорить о нас в отдаленных возрастных фазах или экстремальных ситуациях как о разных людях – двойниках – или эту нашу непостижимую многоликость следует принять как данность? и наконец, что будет с нами после смерти или было до рождения? итак, любая тайна жизни сводится в конечном счете к простой и ясной философии своих возможностей, а поскольку последние практически неисчерпаемы – о том же самом твердит нам и современная физика – постольку и тайна жизни остается неисследимой, – и вот самую наглядную, самую повседневную, самую первичную для нас с биологической точки зрения демонстрацию игры собственных возможностей, когда мы, оставаясь самим собой, в то же время делаемся совсем другими, и по сути все время играем со своей тенью, причем игра эта настолько естественна и правдоподобна, что мы не задумываясь называем ее жизнью, – итак, такую демонстрацию игры с тенью, доставляющую нам помимо смысла и содержания жизни еще и предельное физическое блаженство, мы имеем в любви к женщине и пуповинным образом завязанном на ней механизме Его Величества Оргазма.
XLIX. – Отсюда и та самая знаменитая изюминка в Его Величестве, на которой построено все Его неотразимое наслаждение: ведь выхождение семени затормаживает, вплоть до полнейшего исключения из сферы восприятия, любое другое чувство, любую мысль, любое воспоминание, любое представление, – во время Оргазма замирает на короткое время вся наша субъективная жизнь в великом ее разнообразии: но замирает как в жаркий полдень, замирает как в моцартовской паузе, замирает – хотелось бы верить – как в смерти, и только это энергийное замирание обеспечивает механизм сладострастия, – разве не любопытно?
В каждом мужчине спит ребенок. – Что касается так называемой платонической любви в ее лучших образцах Петрарки и Данте, то все осталось бы в самом лучшем виде, если бы мы точно знали, что, вдохновляясь своей Лаурой или Беатриче, итальянские мастера при этом не совершали обыкновенный «детский грех», то есть не мастурбировали: история, правда, об этом ничего не знает, но, если бы в новейший компьютер вложить все основные данные о человеческой природе, вложить творчество обоих поэтов, вложить их психологические характеристики, а затем проанализировать все возможные варианты и предложить самый вероятный, то – согласитесь со мной, любезный читатель – компьютер выплюнул бы скорее Да, чем Нет, тем самым подтвердив ту простую истину, что никакую поэзию нельзя принимать за чистую монету: да, в основе любой поэзии, как и вообще искусства, лежит образ чувства вместо самого чувства, образ отношения вместо самого отношения, образ человека вместо самого человека и, конечно же, образ женщины вместо самой женщины, – и удовлетворяться образом жизни вместо самой жизни было бы вреднейшим и предосудительнейшим занятии, если бы мы могли в точности сказать, что такое жизнь сама по себе и помимо собственных образов: это делают, как легко догадаться, религии, но при ближайшем рассмотрении их интерпретации жизни точно так же художественны «насквозь и глубже», как и стихи Петрарки или Данте, – да, это действительно так, но лишь для стоящих в стороне и никогда для истинно верующих: последние до последнего будут отрицать художественную природу своей религии, настаивая на ее онтологической и внехудожественной первичности, но может ли она по самой своей магической и антиномической природе быть внехудожественной? или, иными словами: кто из нас всерьез воспринимает Петрарку и Данте? но и вместе с тем кто из нас не чувствует глубочайшей и почти религиозной необходимости их появления в этом мире? вот так и продолжаем мы сидеть между двумя стульями, а компьютер с усовершенствованной графикой по-прежнему продолжает шутя вырисовывать порнографические сюжеты, где главными героями являются двое очень великих и очень целомудренных на первый взгляд людей.
Утраченные иллюзии. – Когда секс лишается какой бы то ни было высокой иллюзии, как, например, достижения полного слияния с наиболее желанным в мире существом, или удовлетворения самого жгучего и самого метафизического вместе любопытства (его превосходит по части метафизичности только смерть, но к ней почему-то нет никакого жгучего интереса), или благородной привычки (идущей еще от прочтения сказок) посреди глухой и безнадежной, как лес, обыденнности снова и снова находить потайные тропинки в волшебный мир (женщины), или приключенческого завоевания некоей тщательно скрываемой до поры до времени одеждами и ревниво оберегаемой обществом, родственниками и (в меньшей степени) самой женщиной блаженной «земли обетованной», или возвышенного стремления периодически испытывать состояние, в котором в первичном и неразложимом виде присутствуют практически все основные и обычно взаимоисключающие друг друга чувства (такие как любовь и ненависть, блаженство и разочарование, недоумение и восхищение, насилие и жертвенность, равнодушие и страсть, психо-физическое здоровье и разного рода извращения, романтика и жизненная проза и так далее), или, наконец, столь же элементарной, сколь и труднейшей попытки на зыбучем фундаменте секса построить крепкое, красивое и надежное здание семейной гармонии, – итак, когда в сексе начисто отсутствуют подобные естественные и высокие одновременно иллюзии (которые очень часто, правда, рушатся под тяжестью собственной самовнушенной природы, но из этого никак не следует, что их вовсе не должно быть), – да, тогда секс становится, тем, что он – но только сам по себе – есть, а именно: трезвым минутным наслаждением.
И в качестве такового он уже ничем принципиально не отличается, например, от того же поедания шоколада.
Но в таком случае секс перестает быть движущей космической силой.
Поэтому естественно и неизбежно, что в иных (и многих) молодых людях обоего пола в наше время – потому что никакое другое время не уделяло столько сил и внимания искоренению каких бы то ни было иллюзий, как наше – должно возникнуть при таком положении дел полное равнодушие к сексу: точно так же, как иные (и многие люди) равнодушны к шоколаду.
И оно, это повальное равнодушие, уже возникло.
И даже в массовом числе.
Его последователей зовут асексуалами.
Главный инстинкт. – Нет, пожалуй, лучшего примера понять соотношение пути и цели, а тем самым и художественной природы бытия, нежели ухаживание за женщиной: женщина ведь недаром отождествляется с жизнью, и любое ухаживание имеет, как правило, простую и ясную цель – интимный контакт с нею, но когда этот контакт состоялся, безразлично, единожды или многократно, значение цели постепенно сходит на нет, а значение пути, напротив, возрастает до максимума.
Любопытно, что оргазм, это абсолютное, как скорость света в физике, воплощение цели в связи с женщиной, физически не поддается воспоминанию, то есть получается, что то, к чему мы так стремились, что казалось нам когда-то самым важным в жизни, – оно растворяется, «как сон, как утренний туман», зато остается в памяти отношение с женщиной: как мы ее впервые увидели, как образ ее лишал нас сна и учащал биение сердца, как мы познакомились с нею, какие слова ей говорили и как безумно волновались при этом, как впервые шли с нею в постель, какое взаимопонимание возникло между нами и как стали появляться первые разногласия, как явились следом и неизбежные признаки отрезвления после любовного угара, а с ними и легкая горечь, и разочарования, и быть может мимолетная улыбка над собственным чрезмерным увлечением, и как, наконец, в нас незаметно вошло аптекарское взвешивание образовавшейся после связи гармонии: хватит ли ее на прочное долговременное отношение или следует прекратить связь, – и так далее и тому подобное.
Вот что останется навсегда в нашей памяти и вот что станет навсегда очередным изгибом в линии персонального бытия или еще одним ответвлением нашего биофического сюжета, а то обстоятельство, что возникло все это и держалось долгое время на стремлении к соитию, как на шелковой нитке, – все это со временем забудется и потеряет свое значение.
Оттого-то даже самый безнадежный флирт с женщиной – то есть неминуемо чреватый рано или поздно и с той или иной степенью жесткости отказом женщины мужчине – все-таки для последнего неотразим, и это лишний раз доказывает, что человек принимает страдания наравне с радостями, и только делает вид, что во что бы то ни стало избегает первые и любыми путями стремится ко вторым, – нет, он именно стремлением к приятному заводит, точно часы, сложный и внутренне ему необходимый сюжетный механизм, в котором, как правило, неприятного куда больше, чем приятного, но это неважно, главное – завести часы и раскрутить сюжет, который, распрямляясь от энергии главного инстинкта, еще и движим с другой стороны едва ли не более существенным инстинктом самопознания, ибо нет для мужчины более ясного зеркала, чем женщина: в нем и только в нем видит он все свои слабости и недостатки, – так что вся доброта и вся красота любовных отношений не умаляется от скрытой в глубине их, подобно Кащееву яйцу, примитивной физиологической причины, но и не возвышается вследствие указанного самопознания до чего-то сверхвременного и божественного, поистине эта доброта и красота томится внутри и вокруг людей, подобно тихому предвечернему сиянию в небе, и даже не столько реально существующему, сколько нарисованному мастерской кистью, но само по себе оно от этого нисколько не умаляется.
Запредельное состязание. – Если правда, что скорпионы могут до двух лет жить без пищи, а спариваются они таким образом, что самец водит самку за клешни, и вот они ночами танцуют как одержимые на заранее выбранном месте, а потом в один прекрасный момент самец выделяет сперматозоидный пакет и самка забирает его половым органом, причем танец есть самый возбуждающий компонент спаривания и продолжается он иногда неделями! – итак, если это правда, а это, конечно же, чистейшая биологическая правда, то, взглянув на эстетику совокупления людей и скорпионов с какой-нибудь совершенно нейтральной точки зрения, например, с перспективы марсиан или дэвов, уже совершенно невозможно решить, какой из них отдать предпочтение, – даже приняв во внимание возможность осуществления в земных условиях любви между Ромео и Джульеттой в точности так, как это описано у Шекспира.
По стопам великого соблазнителя
I. – Возвращение долга. – Все-таки женщина по своей природе, вступая в связь с мужчиной, хочет иметь для себя всего мужчину: со всем его внешним и внутренним миром, со всей его будущей жизнью и со всей его свободой, – в том смысле, что женщина рассматривает избранного мужчину сначала как хорошего любовника, потом как верного мужа, следом как образцового отца (призванного обеспечить будущему ребенку и хорошее семя, и отцовскую любовь, и материальное обеспечение, и мудрое воспитание), и наконец как идеального спутника жизни: от брака до могилы.
И если она не находит того, что ищет, то есть ей попадается мужчина, относительно которого ей заранее ясно, что он не соответствует ее элементарным и продиктованным всего лишь женской природой требованиям к нему, она либо его бросает, либо, что гораздо чаще происходит, сознательно идет на компромисс, причем, будучи существом лишь на поверхности идеалистическим, а в глубине практическим «как тысяча чертей», она способна обустроить и обжить этот компромисс с таким же совершенством, с каким любое живое существо делает то, что больше всего ему лежит.
Мужчина же по своей природе, вступая в связь с женщиной, вопреки распространенному мнению, что он хочет «только одно и всем известное», на самом деле, стремясь овладеть этим «одним и всем известным», в чем, разумеется, нет никаких сомнений, тем не менее тоже, как это ни странно, желает всю женщину: со всем ее женским очарованием, со всеми ее прекрасными зачатками материнства, со всеми ее трогательными связями родства и дружбы и даже по возможности со всей ее историей жизни, однако – и здесь мы имеем коренное отличие мужчины от женщины – он желает это не на всю жизнь, как женщина, а сначала на час, на ночь, на неделю, на месяц, на год и так далее: в зависимости от того, как сложится их сексуальное отношение, то есть при условии, что музыка эротического опьянения, перенесенная один к одному на все прочие аспекты их совместного жития-бытия, не умолкнет и не ослабнет: только тогда мужчина, попутно демонстрируя свою противоположную женщине природу – быть существом практическим на поверхности и глубоко идеалистическим внутри – готов заново продлевать связь с женщиной, как работодатель продлевает контракт с работником каждые три месяца, если последний безукоризненно выполняет свои обязанности.
Однако никакой идеализм не выдерживает испытания жизнью, и рано или поздно – как правило, чаще рано, чем поздно – мужчина, войдя в связь с женщиной, то есть вкусив вместе с сексуальным обладанием и как бы всю ее «внутреннюю идею» – ведь женщина, как мы помним, рассчитывает построить с мужчиной совместную жизнь и потому отдает себя ему целиком и полностью: так, глубоко вдохнув запах цветка, мы впитываем в себя всю его сущность – оказывается в положении должника, у которого возникли сложности с возвращением долга.
Мужчина ведь знает, что в короткий час интимной связи он получил от женщины то, что она хотела бы получить от него в течение жизни, то есть вышло так, что он невольно обманул женщину, обвел ее вокруг пальца, – и в некотором извращенном смысле можно даже сказать, что идеалистический подход к жизни, как это ни парадоксально, в который раз и в данном случае при совершенно неожиданном раскладе карт оказался куда предпочтительней хваленой «практической хватки».
Конечно, совесть нашего доморощенного Дон Жуна еще некоторое время отягощает известный общечеловеческий механизм: ведь в том случае, когда мы получаем от кого-либо, кому мы считаем себя равными, больше благодеяний, чем мы можем надеяться возместить ему, то это располагает нас к показной любви, а в действительности к тайной ненависти, потому что ставит человека в положение несостоятельного должника, который, избегая встречи с кредитором, тайно желает, чтобы последний был там, где он не мог бы видеть его никогда больше.
Однако способ избавиться от угрызений совести здесь предельно прост: надобно всего лишь сделать так, чтобы женщина первая поняла, что она ошиблась в своем выборе, и сама отказала мужчине в той форме, в какой сочтет это нужным, прежде чем он откажет ей.
Есть, правда, и другой способ: изначально смотреть на женщину как на существо высшего порядка, – ведь получив благодеяние от человека, которого мы признаем выше себя, мы чувствуем, что это обязательство не является неоплатным, а охотное его принятие является честью, оказываемой тому, кто нас обязывает, и эта честь принимается за оплату.
Самое же лучшее для мужчины, пытающегося играть роль Дон Жуана, не являясь по сути таковым, это конечно пытаться совмещать в своем поведении оба способа возвращения долга: при этом дело запутывается столь незаметным, но безнадежным образом, что возникают серьезные сомнения насчет того, что в таком необозримо сложном житейском начинании, как общение между полами, может вообще существовать такое строгое и по сути юридическое понятие как долг.
II. – История одной любви. – Всем известно, что мужчина по своей природе склонен соблазнять женщину: всегда, при любых условиях и как можно чаще, а если он этого не делает, значит либо в характере его имеется некоторый «изъян», либо не хватает должного обаяния, либо нет той безграничной половой силы, которая в этом тонком деле ставит все точки над i, тогда как, напротив, при наличии всех трех условий трудно сыскать женщину, которая не хотела бы в глубине души быть соблазненной, даже зная наверное, что она – всего лишь очередной клиент из длинной очереди.
В жизни, однако, зачастую случается так, что мужчина, даже не обладая ни одним из названных признаков классического Дон Жуана, все же пытается играть его роль, разумеется, в той малой степени, которая отведена ему жизнью и судьбой, то есть он соблазняет женщину и живет с нею на правах мужа или партнера, а делает он это очень просто и хитро: поскольку у него нет неотразимого, как стихия, соединения солнечной потенции и солнечного же обаяния, он искусно заменяет их страстной и скучной влюбленностью, а потом и со временем вечной супружеской любовью.
И женщина как существо благодарное, но и, конечно, под воздействием обстоятельств – лучшего кавалера рядом нет, а жить надо, любить надо, рожать надо – отвечает нашему несостоявшемуся Дон-Жуану некоторой взаимностью, – и вот такие мужчина и женщина живут как муж и жена или как любовники, но, поскольку мужчина по-настоящему не любил женщину, а точнее, любил ее как ту, которая просто оказалась на его пути, то есть по сути, как это часто бывает в жизни, он сам себе внушил эту любовь, чтобы с ее помощью соблазнить женщину, то рано или поздно обман обнаруживается, – и наступает развод или разрыв.
И почему-то с досадной уверенностью кажется, что в тот момент, цельно или эпизодически, явно или тайно, с нижеописанными или сходными подробностями разыгрывается между ними одна и та же сцена, а именно: она смотрит на него все еще не равнодушным и уж тем более не злобным и мстительным, а как бы потерянным и почти ошарашенным взглядом, и прорывается в нем – тихо и безбольно, точно созревший гнойник – та последняя и страшная пристальность, которая, кажется, ищет и не может найти то, за что же, собственно, она его полюбила, а он ощущает в этот момент странную неприязнь, какую испытывают обычно, когда вам заглядывают в газету.
III. – На Западе без перемен. – Любовь и секс, действительно, совершенно разные вещи, и если любовь пытается сексуальные энергии поставить на службу предпочтения той или иной персоне противоположного пола, готова идти на этом пути до конца и останавливается разве что перед полным иссяканием полового влечения – потому как что же еще может разрушить великую любовь? – да и то не всегда, – то секс, напротив, зиждется на полном подчинении личного начала сексуальному, так что мужчина и женщина практически добровольно поступают в услужение собственным эротическим энергиям со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Поскольку же любая энергия всегда и без исключения создает вокруг себя некое магнитное поле, в котором все действующие лица располагаются в строго определенном порядке, как шахматные фигуры на доске, и еще немного в силу тайного стыда за предпочтение Высшего Низшему, – постольку отличительным жестом таких отношений является некоторая танцевально-пластическая, эротически-доминантная и все-таки чисто по-человечески глубоко неудовлетворительная дистанция: поэтому, например, в Мюнхене на швабинговском бульваре южные мужчины держатся обычно на некотором расстоянии от своих спутниц, как бы желая подчеркнуть самодовлеющую независимость солнечной своей потенции и как бы в назидание слепившимся в трогательных объятиях парочкам.
И вот, задумавшись над этим поучительным явлением, невольно так и смотришь по инерции им вслед до тех пор, пока кто-то нечаянно не толкнет вас в спину.
Родное и близкое
I. (Бабье лето). – Иные женщины в возрасте и особенно русские, свободные или разочарованные семейной жизнью, встречая понравившегося им мужчину, очень часто сразу, не колеблясь и без кокетства, идут с ним в постель, – и сексуальность, которую они при этом излучают, далеко превосходит сексуальность молодых девочек: но не потому, что жизнь сделала их опытней и изощренней, а потому, что они, опьяненные сознанием, что жизнь проходит и нужно успеть взять у нее то, что она им так или иначе предназначила, вкладывают в случайный и мимолетный интимный акт всю драгоценную сердцевину женской природы, а это и есть именно тайное и полное слияние человеческой любви и половой заинтересованности, – а вот окажется ли мужчина достойным их самого великого дара, или даже его не заметит, или над ним надругается, – не играет для них особой роли.
Они в этот момент бескорыстны, как мать-природа.
II. (Наше главное сокровище). – Только в эмиграции, заполучив наконец-то после долгих лет наблюдения и внутреннего созревания драгоценную возможность «сравнить и сделать вывод», вы, внимательно присматриваясь к русским девушкам или женщинам, начинаете вдруг замечать, что светлая и просторная, как классический русский пейзаж, красота, сквозящая в их глазах, не целиком и полностью и по образу и подобию молока с водой (как у западных женщин) соединяется в них с их бессмертным практическим смыслом, но, являя собой скорее незаконченную конфигурацию воды и плавающего в нем нерастворимого масла, как раз и ответственна за своего рода сознательную или даже невинную провокацию, о которой могут «спеть песню» многие, слишком многие иноземные мужья наших русских женщин: она (то есть бескорыстная, все и вся пленяющая славянская красота) поначалу забирает в плен западного мужчину – так древние монголы захватывали в плен жителей других народов – но потом, когда на сцену повседневной жизни является практическая хватка светлоглазой красавицы – а она является с печальной неизбежностью Смерти в средневековых уличных театральных сценках – то, выглядя в первый момент нежданным и незваным, как татарин, гостем, она постепенно и в геометрической пропорции набирает силу и ужас, напоминая вскочившего на лошадь хищника, – и страшный финал, ожидающий лошадь (она в данном случае символизирует якобы беззащитную красоту русской женщины, а также нежность и доверие к ней мужчины)… впрочем, справедливости ради следует заметить, что практическая хватка «нашего главного сокровища» все-таки по размерам и аппетиту скорее сродни домашнему хомячку, а это только плюс для любой женщины, потому что лишь те человеческие достоинства – и в особенности женские – мы безоговорочно заключаем в свое сердце, которые состоят в отдаленном и тайном родстве с природой животных, напротив, любые так называемые «божественные» качества людей – и в особенности женщин – вызывают наше врожденное недоверие.
III. (Пренебрежение ритмом времени). – Обычно западные мужчина и женщина сходятся лишь в определенное время и при определенных обстоятельствах, так что, случись им встретиться слишком рано или слишком поздно, они, быть может, прошли бы друг мимо друга как обыкновенные прохожие, – но если, с другой стороны, те же мужчина и женщина, раз встретившись, не сумели сблизиться, то это значит, что они не сблизились бы никогда и ни при каких условиях, – и только русские женщины как будто способны сохранять чувство любви и готовность вступить в брак на протяжении десятилетий: не за это ли их так ценят во всем мире? правда, такая идеальная любовь почти всегда держится на славе мужчины, но нельзя же иметь бочку меда без ложки дегтя!
IV. (Женщина для жизни). – Есть женщины, в которых эротическое и человеческое начала пребывают в таком совершенном равновесии, что сами они напоминают сонных и сытых хищников, бесцельно расхаживающих в своих клетках (зоопарка), но не дай бог, это равновесие нарушится и проснется зверский сексуальный аппетит, – на таких женщин приятно часами любоваться, но с ними опасно жить! есть также женщины, в чьих глазах ясно читается безумный интерес к половому началу, при этом их тело зачастую худое и непропорциональное: такое впечатление, будто неугасимый огонь страсти, никогда не оставляющий в покое их душу, вынужден питаться скудными и сырыми дровами, и никакая мужская любовь, кажется, не в состоянии его насытить, – за такими женщинами еще интересней наблюдать, а жить с ними еще опасней! есть кроме того женщины, у которых ни в лице, ни в теле нет и йоты эротического обаяния, хотя они, как правило, всегда в сопровождении неплохо выглядящих мужчин и коляски с двумя или тремя детьми, – на таких женщин вообще не хочется смотреть, потому что тайна их семейного благополучия заключается не в них самих, а исключительно в их супругах, и тайна эта, увы, слишком прозрачна и скучна! и наконец есть очень редкие женщины, чье тело почти совершенно, но именно не до конца, а едва уловимая дисгармония целиком и полностью идет на пользу их эротическому обаянию, при этом в глазах такой женщины никогда не бывает и следа испепеляющей страсти или даже сексуальной жадности, хотя и полного равнодушия к половой жизни они (глаза) тоже не знают и знать не хотят, – и как же легко дышится вблизи таких женщин! и как же они напоминают не тех прирученных хищников, что рано или поздно все равно срываются на своих дрессировщиков, а тех загадочных тигров в единственном в мире буддийском монастыре, которые никогда еще ни на кого не напали, которые питаются как будто даже часто немясной пищей и чье агрессивное поведение уже даже невозможно представить! и вот на таких женщин можно не только всю жизнь любоваться, но еще лучше прожить с ними всю жизнь.
Хотелось бы думать, что таких женщин больше всего среди нашего брата, но утверждать подобное, основываясь только на собственном личном опыте, не могу, просто не имею права, а хотелось бы.
V. (Идя по узкой тропе над обрывом). – Думаю, что со мной согласится большинство мужчин: нет ничего в мире сексуальней замкнутой, внутренне одинокой, молчаливой и всегда кажущейся необъяснимо печальной – на грани психической депрессии – женщины, способной однако, будучи уже замужем или имея постоянного партнера, вдруг мгновенно, без колебаний, искренне и страстно, без какого-либо кокетства отдаться тому или иному понравившемуся ей постороннему мужчине, – причем она делает это так, как будто она его ждала целую жизнь, как будто он ей предназначен судьбой и как будто грешок ее элементарного адюльтера по весомости своей приближается к самому великому и загадочному первородному греху.
Потом такая женщина как ни в чем ни бывало отдаляется и от соблазненного ею и ее соблазнившего мужчины, и от содеянного греха, и от себя самой, его свершившей, становясь на определенное время прежней и верной супругой, – однако, и это очень важно, ее сексуальная власть над мужем или партнером, даже узнавшими об измене – быть может еще и поэтому – только усиливается, а поскольку случившееся однажды склонно случаться снова и снова, то этот закрутившийся «круговорот измен и возвращений на круги своя», если им начинает интересоваться искусство, заканчивается обычно убийством или самоубийством, в жизни же может продолжаться до бесконечности, то есть до того естественного предела, когда участники его либо сопьются, либо начисто потеряют свою сексуальную привлекательность, либо просто заболеют и умрут.
Однако самое интересное здесь именно эта глубочайшая раздвоенность личности периодически изменяющей женщины, которая, если принять ее (раздвоенность) всерьез, означает практически полную независимость друг от друга живущей в ней на равных правах верной жены и страстной любовницы, – вплоть до того, что одна знать не хочет о другой, перед ней не отчитывается и не чувствует в отношении ее никакой вины: надо ли говорить, что по этой обоюдоострой грани в понимании и художественном оформлении образа русской женщины всю жизнь шел Достоевский? что у истоков его (образа) лежат, быть может, те самые знаменитые древние элевсинские мистерии, где, по преданию, грань между женщиной вполне святой и полностью развратной стиралась начисто? и что, действительно, если бы перед суммарным мужским созидательным гением была поставлена задача создать образ абсолютно соблазнительной женщины – как эллины или художники Возрождения создавали свои идеалы женской красоты – то он (гений), наверное, вынужден был бы прибегнуть к вышеописанному рецепту как наиболее перспективному.
Вместе с тем, с другой стороны, если все-таки не принимать названную и почти метафизическую раздвоенность русской женщины всерьез – а подобный подход тоже напрашивается сам собой – то сию же минуту и во всей своей неприглядности выявляется ее (нашей женщины) глубоко театральная природа, искусно скрывающая под талантливым кокетством расхлябанность характера, отсутствие личной и семейной чести, а также тесно связанные с ними нежелание или неспособность перенимать ответственность за зарвавшегося «эротического двойника»: надо ли говорить, что это те самые качества, которые подметил в русской женщине еще незабвенный французский маркиз со змеиным глазом? что они вполне созвучны с глубинной дисгармонией русской ментальности? и что сама эта дисгармония настолько укоренена в архаическом складе русской натуры, что воплощением ее – причем на протяжении столетий – является существо, противостоять которому (почти) никакой мужчина не в состоянии?
Прощальная благодарность или гносеология ангелов. – Наблюдаю вот уже четвертый десяток лет: западные девушки, в отличие от российских, совершенно равнодушны ко взглядам тех мужчин, кого они заранее исключили из категории партнеров пусть и в самой отдаленной перспективе, то есть даже мимолетный ответный взгляд как пустяковую милостыню не готовы они подарить мужчинам, не принадлежащим их магическому кругу.
Быть может, правда, они глубоко правы, потому как: «Глядящий на женщину уже прелюбодействует в сердце своем», но, с другой стороны, рано или поздно для любой женщины наступает критический возраст, когда среднестатистическому мужчине ее возраста просто по физиологическим причинам невозможно представить интимную связь с нею.
И женщина это болезненно ощущает, и тогда она благодарна почти любому мужчине за взгляд, который эту начинающуюся и пожизненную невозможность физического контакта с нею дискретно опровергает, – и эта ее благодарность настолько целомудренна и прекрасна, что невольно думаешь об ангелах, у которых должны быть тоже самые субтильные душевные побуждения: но вот именно таких и им подобных как раз быть не может по причине отсутствия или полнейшей незадействованности половых органов, – так что ангелы в этом отношении напоминают скорее тех строгих и безжалостных девушек, о которых упоминалось вначале.
Урок музыки и литературы. – Ко мне в отдел пришли две женщины: мать и дочь, они были удивительно похожи чертами лица, но женское очарование как дар природы и особенно возраста, ощущалось в дочери гораздо острее обычного и, казалось, зримо колебало воздух, – это очарование естественно стекало на меня, без какого-либо кокетства или тем более тайного женского соперничества: так стекает на вас густой аромат цветов.
В свою очередь и чисто человеческое обаяние пожилой женщины, сопряженное с полной искренностью, казалось, требовало с моей стороны равного внимания, – и в этом и только в этом плане соперничало с эротическим дочерним обаянием.
Что я хочу сказать? не то, что бы меня соблазняли, или я чувствовал себя соблазняемым, нет, этого не было и в помине, но я ощутил, действительно, некоторое затруднение в инструментовке собственного взгляда, когда мне приходилось быстро переводить глаза с дочери на мать и наоборот, потому что нужно ведь было не только показать уважение к обеим женщинам, но и воздать должное их женским достоинствам, по принципу: сначала женщина – женщина, а потом уже человек, пусть у одной ее женские достоинства были больше в прошлом, а у другой в настоящем.
Это-то и было трудно, здесь было что-то от виртуозной игры на фортепиано, не каждый может так играть, я, например, не могу, – но меня спасла добродушная улыбка восхищения, на манер Пьера Безухова, в равной мере относившаяся к обеим женщинам вместе и ни к какой в отдельности.
Да, кажется, я нечаянно нашел оптимальное решение, вот что значит русская классическая литература, – иногда она не уступит немецкой классической музыке.
По острию ножа. – Взгляд молодой матери, только что с любовью оторвавшийся от младенца в коляске и с удивлением застывший на лице внимательно взглянувшего на нее проходившего мимо мужчины: как же много сквозит в этом взгляде! здесь и благородная серьезность начинающего материнства, здесь и вопрос о том значении, которое придает мужчина своему вниманию к ней, здесь и обращение к самой себе, почему она вообще отвечает на это странное по отношению к ее новому положению внимание, и здесь, наконец, самая глубинная и отныне неразлучная мысль о том, правильный ли она сделала выбор с отцом ребенка, ибо ее материнское назначение – главное женское назначение – нисколько бы не пострадало от замены личности отца ее ребенка, скажем, вот этим внимательно посмотревшим на нее мужчиной, и здесь же, под занавес, тесно связанные с этой мыслью ощущения вины и стыда.
И вот эта элементарная заменяемость людей при сохранении ролей, которые они играют в жизни, в сущности, основа основ любой истинной философии человеческого бытия, – да, смутное осознание этой великой истины заметно преображает взгляд молодой женщины-матери, – в том смысле, что не дает ему скатиться в болото привычного кокетства.
И тогда, зафиксировав высокую ноту, мужчина приветствует ее, как приветствуют знаменитых актрис, не будучи с ними знакомыми: легким кивком головы и признательностью в глазах, а она ему отвечает тоже как актриса: изящным и молчаливым наклоном головы, – иначе, впрочем, и быть не может: когда в жизни соблюден высокий нравственный канон, она обязательно становится хоть чуточку а красивей.
Пчелиный инстинкт или нынешний вариант мадонны. – Часто приходится наблюдать, как красивая, да и просто сексуальная женщина несет бремя своего женского обаяния как самый настоящий жизненный и даже больше, чем жизненный, почти уже религиозный крест: с тем слегка страдальческим, гордым, печальным, замкнутым и оттого еще более неотразимым достоинством в осанке и в лице, которое показывает, что носитель его все-таки лучше всякого сверхмощного компьютера не только успел заметить и подсчитать бесчисленные тайные и явные вожделенные взгляды мужчин, но и собрать из них своеобразную «пыльцу вожделения и поклонения», а также замесить на ней горький (для большинства) и сладкий (для немногих избранных) мед сексуального благодеяния.
Вот только сама по себе привычка ни на кого не смотреть (и в то же время все нужное и важное замечать), ни от какого мужского внимания не зависеть (и в то же время только о нем втайне и помышлять), исполнять каждый жест так, как будто играешь на сцене (и в то же время с тоской мечтать о том, когда же можно будет, наконец, расслабиться), – она, эта пагубная привычка, делает так, что женщина все больше вживается в красивую роль носительницы креста (то есть сохранять неприступное достоинство для всех без исключения) и все меньше получает удовольствие, когда может положить его на пол (то есть совершить сексуальное благодеяние ради какого-то мужского исключения).
Здесь можно было бы заключить, что роль поглощает человека, и этим все закончить, но справедливости ради следует все-таки добавить, что это правда, но лишь до того момента, пока ее (роль) не сменит еще более великая роль, и ею может быть, как легко догадаться, только настоящая и большая любовь.
И если, во-первых, наша выдающаяся женщина на нее способна, а также, во-вторых, если нашелся достойный ее мужчина, то в таком случае крест недоступности не просто медленно и осторожно снимается с отягощенной спины, но радостно отбрасывается в сторону, – и «человеческое, слишком человеческое» в который раз празднует свою победу над тем, что претендует быть чем-то большим, чем просто человеческое: так в самой лучшей актерской игре роль полностью сливается с личностью актера, и так любая религиозная роль спорит с ролями общечеловеческими, втайне им завидуя и стараясь их превзойти громкостью слов и жестов, монументальностью сюжета, а также общим ходульным величием.
Кое-что о пресловутой дружбе между мужчиной и женщиной
I. (Горькое раскаяние). – Мужчина и женщина, знакомые по детству или юности, а теперь в годах и с семьями, будучи счастливыми или по меньшей мере удовлетворенными мужьями и женами, встретившись случайно спустя долгое-долгое время и поневоле возвращаясь разговорами в прошлое, когда они знали друг друга и мужчина ухаживал за женщиной – тогда они были еще парнем и девушкой – и между ними, быть может, уже «было что-то», а быть может, и не было, – так вот, в такие редчайшие минуты осознания, что жизнь могла бы пойти по другому руслу или даже просто сулила приятное развлечение, которое не состоялось и его уже не вернуть никогда, – итак, эти мужчина и женщина, как правило, готовы простить себе и другому любой промах по части интимного акта, но они никогда не простят себе и другому то чудовищное обстоятельство, что этот акт по тем или иным причинам вообще не состоялся.
И почему-то думается в этой связи, что так называемая «дружба между мужчиной и женщиной», феномен сам по себе редкий и весьма подозрительный с точки зрения психологии, только тогда возможна, когда в разнополых друзьях дремлет тайное взаимное половое влечение: настолько тайное, что они, уже живя параллельными жизнями, не хотят сами себе в нем признаться, и в то же время настолько взаимное, что они не могут до конца друг от друга оторваться.
И тогда их историю можно кратко выразить следующими стихами.
Они не любили друг друга, но лучшими были друзьями, и часто в минуты досуга делились пустыми мечтами. Себя иногда заставляли с насмешливым медлить ответом — и профили их составляли аллею с чуть видным просветом. Порою улыбкой встречались — в молчаньи, на осень похожем, и парой влюбленной казались себе и случайным прохожим. Их руки пожатьем бесплодным друг друга украдкой ласкали — они же под небом холодным какого-то счастья искали.II. (Сыр в мышеловке). – Бывают такие женщины (и реже мужчины), которые и к тридцати и даже к сорока годам остаются одни, но при этом выглядят настолько привлекательно, что многие мужчины (и соответственно женщины) не понимают, как такое возможно, и вот они снова и снова предпринимают попытки, чтобы завладеть сердцем такой «романтически одинокой женщины» (или странным образом «оставшегося не у дел» мужчины): в конце концов рано или поздно – то есть чем интенсивней их попытки к сближению, тем раньше – они начинают постигать, что «тут что-то не так» и «где-то неподалеку собака зарыта», эту «собаку» они очень скоро находят, и ею обычно являются либо порядочная степень фригидности, либо серьезный изъян в характере, либо то и другое вместе, однако подобное открытие, как легко догадаться, не способно доставить радость ни тому (или той), кто его сделал, ни тем более тому (или той), на чей счет оно сделано, – и тогда наилучший выход из положения – это остановиться в самый последний момент, сделать вид, что ничего еще не произошло, «законсервировать» и «заморозить» процесс ухаживания надолго, а по возможности даже навсегда, – и хотя такой шаг «за милю пахнет искусственностью», все-таки, как это ни парадоксально, он предпочтительней обнаружения слабости, от которой поистине оказалась зависимой целая личная жизнь – не забудем: уже д'Артаньян догадывался, что «никакая дружба не выдержит разоблачения интимной тайны», – надо ли говорить, что отношение между такими мужчиной и женщиной, сумевшими остаться на заветной черте, будут отныне и до скончания их века напоминать сцену застывшей перед сыром в мышеловке мыши, которая не может ни убраться добровольно восвояси (уж слишком соблазнительно пахнет сыр), ни смелым наскоком схватить его (она нутром чувствует большую опасность), и только умное поведение несостоявшихся партнеров (один из которых, играющий роль мыши, может, например, делать вид, будто его сыр не очень-то и интересует) способно до определенной степени не только спасти ситуацию, но и придать ей характер вполне оригинального – наполовину дружеского, наполовину влюбленного – общения?
Сцены супружеской жизни
Сцена первая, фиксирующая дискретное торжество и ту особую теплоту во взгляде, с которыми обращается женщина к своему спутнику в ресторане, после того как она заметила, что ею интересуются мужчины за соседним столиком, – когда все еще только начиналось.
Сцена вторая, когда прямо-таки физически, почти по закону Термодинамики чувствуешь, как равномерно распределяется со временем на двоих то явное превосходство, которое вначале имел над другим один из супругов, и процесс этот обычно сопровождается смущением во взгляде, когда его (процесс) замечает посторонний, – где-то в середине пути.
Сцена третья, показывающая, что как бы ни было безгранично взаимопонимание между мужчиной и женщиной, только способность долго и непринужденно вместе молчать, в том числе не глядя друг на друга, доказывает подлинную близость между ними, – в апогее.
Сцена четвертая, задерживающаяся на живом, но умеренном интересе слегка разочарованной в муже жены к постороннему симпатичному и одинокому мужчине, – интерес этот никогда не сопровождается кокетством во взгляде, но всегда тем теплым, терпеливым и постоянным вниманием к новому собеседнику, которое действует на мужчину сильнее любого кокетства, и только то обстоятельство, что замужняя женщина точно знает, что внимание ухаживающего за нею мужчины адресовано как бы не к ней одной, а ко всем женщинам, даже к женщине вообще, тогда как супружеская любовь, как бы она ни износилась, представляет из себя все-таки некоторое доказательство личной предпочтительности, – оно пока еще удерживает женщину от адюльтера, – начинается движение от середины к концу.
Сцена пятая, предостерегающая, что если жена в присутствии мужа заводит отвлеченный разговор о предохранительных средствах и одновременно с безумным от чрезмерной серьезности взглядом спрашивает, любит ли он ее, то это значит, что она в любую минуту готова совершить адюльтер, – кульминация и развязка.
Сцена шестая, где супруги иногда провоцируют ссору, чтобы достичь, наконец, дна супружеской слякоти, ибо тогда уже не может быть хуже, а может быть только лучше: иными словами, как родинка притягивает губительные для организма вещества и тем самым играет положительную роль, так полуразрушенная семья должна сохранять некоторый элемент сознательной дисгармонии, чтобы продлить свое существование, – в эти последние и считанные дни неподдельный гневный блеск в глазах во время бесконечных пустяковых ссор, а также неумеренное сострадание к самим себе, невольно делают супругов немного схожими с императором Нероном, когда тот в предверие вынужденного самоубийства воскликнул: «Какой великий артист умирает!», – предсмертная агония.
Сцена седьмая и последняя, где более-менее благополучно – то есть без лишних склок и уж тем более без ненависти – разошедшиеся супруги, начав раздельную жизнь и постепенно осознав, что судьба их друг для друга вовсе не предназначила, а значит и подлинной ревности между ними быть не может, постепенно сближаются все теснее на сугубо дружеской основе, чаще встречаются в кафе, обсуждают житие-бытие общего ребенка, и все-таки иногда осторожно заводят разговор о самом для них деликатном, болезненном и главном: «Ну а как там у тебя с твоим новым партнером?», – и вот если оказывается, что «не очень» или «так как-то все», то начинают сыпаться дельные советы, тотчас образуется теплая атмосфера искреннего (и внутренне очень приятного) сочувствия, и прямо-таки не хочется расставаться, а вот если вдруг один из них повстречал большую любовь и взаимная гармония нового отношения растет с каждым днем как падающий с горы снежный ком, да, вот тогда уже следуют совсем иные рекомендации: «поостеречься, осмотреться прежде, не лезть на рожон» и тому подобное, вот тогда уже выскакивают откуда ни возьмись неожиданные подколы насчет будущего избранника или избранницы, и вот тогда уже, если визави не прислушивается (а как правило так именно и происходит), с таким трудом подлечившаяся и окрепшая дружба между былыми супругами идет к черту.
А подайте-ка нам что-нибудь из Гете. – Извольте: в каком-нибудь мюнхенском пивном садике, летом и в душный полдень, – жена незаметно указывает мужу на упавший на скатерть пучок кислой капусты, муж деликатно оглядывается, успокоительно гладит руку жены, что-то говорит ей с улыбкой, и после этого с независимым видом продолжает поедание сосисок, причем во взгляде его невольно проскальзывает та скромная и теплая благодарность, которая лучше нажитого дома, скопленных денег и даже славно выпущенных в жизнь детей показывает, что многолетнее их супружество было не только не напрасно, но состоялось самым лучшим образом, – если это не потомство Филемона и Бавкиды, то что же тогда?
Мужчина и женщина. – Когда в мюнхенском метро я вижу жалкого пьяницу, который и двух слов связать не может, и сам не знает, чего он хочет, но мычаньем силится задать соседу какой-то вопрос, а сосед, судя по всему, иностранец из мусульманских краев, всерьез отвечает ему, и заводит с ним разговор как с равным, беспокоится о нем, спрашивает, куда он едет и где должен выходить, а потом, сам выходя, дает наставление своему соседу, чтобы тот проконтролировал дальнейшее путешествие пьяницы, – короче говоря, когда я вижу в глазах иностранца это самое простое, естественное и вместе глубоко человеческое отношение к тому, кто на данный момент не обязательно его заслужил, – право, христианский проповедник не выказал бы лучшего образца любви к ближнему, – и в то же время вижу, как все решительно женщины в вагоне, и прежде всего молодые и интересные, как по команде отворачиваются от пьяницы, или делают вид, что его не замечают, и так они всегда поступали, насколько я припоминаю и обобщаю свой жизненный опыт, а значит, и будут поступать в будущем, – итак, когда я вижу воочию эту вопиющую разницу в отношении к потерявшему слегка человеческий облик собрату мужчины и женщины, я поневоле вынужден припомнить петровскую пословицу: «Курица не птица, прапорщик не офицер, женщина не человек».
Последнее категорическое отрицание здесь поднимается даже до уровня истинно философического, – ибо в чем еще проявляется природа человека, как не в сочувствии к падшим мира сего, причем сочувствии не поучительном, сострадательном, отчужденном или высокомерном, а сочувствии, ничем совершенно не отличающемся от обыкновенного теплого дружественного общечеловеческого контакта?
И вот мужчины – пусть не все, но очень многие – к такому контакту способны, а женщины в подавляющем числе своем – нет: но почему женщины инстинктивно сторонятся людей, непоправимо нарушивших грань приличия и вышедших за пределы принятых в обществе этических норм? потому что разного рода изгои и отщепенцы и не в последнюю очередь просто пьяницы, оскорбив законы этики, задели тем самым и незримые, с этикой тайно связанные, но этикой не далеко исчерпывающиеся, эстетические каноны.
А вот с последними женщина уже связана своей половой, то есть насквозь игровой природой, а значит и самой пуповинной связью, тогда как у мужчины соединение человеческой и половой природ не такое крепкое и органичное, как у женщины, – его метко характеризует высокая антиномия неслиянности и нераздельности: давно узурпированная христианством, эта антиномия уходит своими корнями в человеческое бытие, но все-таки ближе к мужскому бытию, чем к женскому, – недаром христианство насквозь мужская религия.
Гносеологию ее можно иногда наблюдать в мюнхенском метро.
Страшный суд. – Встретив иной раз в толпе внимательный, но по-женски равнодушный и даже в чем-то осуждающий взгляд заинтересовавшей вас – не слишком, но слегка – женщины, вы вдруг с театральным ужасом догадываетесь, что все то, что не заметила в вас та анонимная женщина из толпы или, еще хуже, чем она сознательно в вас пренебрегла, – оно не есть нечто субъективное и пристрастное, но воистину в вас самих вечно присутствующее, а пожалуй и составляющее зерно вашего характера.
И более того, если вы начнете копать глубже, то поймете, что это именно то самое, что больше всего не нравится в вас вашей собственной жене, что особенно раздражает ее в критические моменты вашего отношения, ну а если вы сделаете еще один и последний шаг в этом направлении, то наверняка догадаетесь, что мгновенно увиденное в вас со стороны чужим человеком есть также то самое, что с тайным ожесточением отвергаете в себе вы сами.
И вот тогда, учитывая, что, несмотря на все другие и лучшие качества, увиденные в вас вашей супругой (за которые она вас и полюбила), та женщина в толпе никогда о вас своего первого мнения, измеренного одним-единственным взглядом, не изменит (даже если она бы узнала о вас все то, что знает ваша жена), учитывая, далее, что обе оценки – той женщины и вашей жены – в смысле объективного наличия положительных и отрицательных качеств в вас приблизительно равноценны и вам просто повезло, что вы встретили вашего адвоката вместо вашего прокурора, и учитывая, наконец, то страшное сходство, которое не однажды сквозило в глазах вашей первой и разошедшейся с вами супруги, – вот они, те самые всплывающие вдруг из жизни детали, в которых в самом буквальном смысле сидит черт! – итак, учитывая все это, вы отныне не сможете не просить Бога только о том, чтобы Он, когда придет решающий час, посмотрел на вас просто глазами второй (!) вашей жены и ни в коем случае не глазами той женщины из толпы и уж тем более не глазами вашей первой супруги.
Вот и все, а остальное, как говорится, приложится, – однако, осознав тут же всю смехотворность задачи, возложенной на Бога, вам ничего другого не останется, как, закрыв лицо руками, попросить у Него прощения… и все-таки, готов поспорить на что угодно, вы останетесь при своей просьбе, потому что ничего другого у вас за душой нет.
Триумф взаимного неприятия. – Если действительно единственным настоящим преимуществом человеческого старения – и конечно же в мужском его варианте – является неуклонный рост самосознания, тогда как все прочие аспекты возраста неизбежно обнаруживают прогрессирующий перевес страданий над радостями, и если в так называемом «идеальном браке» концепция старения как торжества внутреннего роста сознания празднует свою величайшую победу – на то этот брак и «идеальный», что в нем духовное начало все больше отдаляется от чувственного, без того чтобы презирать или унижать его, и без того чтобы естественное ослабление чувственного начала отравляло супругов тонким ядом несбывающихся тайных желаний, – тогда естественно и закономерно, что стареющий мужчина, удосужившийся столь «идеального брака» вкупе с идущим с ним рука об руку ростом самосознания, глядя на окружающих его, как цветы на лугу, молодых и интересных женщин – кто посмеет не сознаться в этом? – невольно переносит на них свой так удачно свершившийся духовный опыт.
То есть он уже при всем желании иногда не до конца в состоянии понять, как можно всерьез и на протяжении долгого времени уделять столько внимания, а тем более сходить с ума от того бесконечного множества телесных компонентов, а также тесно сопряженных с ними психологических и бытовых нюансов, из которых состоит по сути любая молодая интересная женщина, кроме которых она пока ничего другого о себе не знает, и культ которых она как само собой разумеющееся требует от увлекшегося ею мужчины.
Но что же происходит дальше? наш стареющий мужчина, сподобившийся достичь высокого уровня развития, выделяет для себя три основных компонента, взятых из его «идеального брака», и это, во-первых, возможность любить женщину, в том числе и всю жизнь, во-вторых, готовность иметь с нею детей, и в-третьих и главное, желание вступать с нею снова и снова в интимную связь.
И вот эти всего лишь три составные части его истории любви (об остальных он просто забыл) он один к одному переносит на чужую и постороннюю женщину из толпы, – все же остальное, то есть тысячи и тысячи мелочей в ней как бытового, так и сексуального порядка (которые в той или иной степени определяли также и его прежнюю жизнь), начинают производить на него вдруг непонятное, отчуждающее, странное и немного страшное впечатление, напоминая тонкую, незаметную на первый взгляд, но тем более смертельно опасную паутину для любого истинно духовного начала, в которой последнее неизбежно рано или поздно запутается и будет заживо пожрано безжалостным женским естеством.
И наш герой удивляется и радуется тому, что ему в свое время удалось не попасть в паутину, а свою «идеальную» супругу он сравнивает уже не с пауком, свившим филигранную паутину любви и брака, но с бабочкой, в блаженном и легком полете с которой он провел многие десятилетия.
Надо ли говорить, что и наша посторонняя женщина безукоризненно и «с листа» прочитывает этот проницательный взгляд со стороны? она угадывает и подлинную, общечеловеческую – и мужскую по стилю – духовность, сквозящую в нем, но она безошибочно фиксирует в нем и некую субтильную чувственность, которой по-хорошему здесь не место, которой стыдится в глубине души сам мужчина, и которая тоже коренится в его мужской природе.
И вот наша героиня из толпы инстинктивно не приемлет соединение того, что вообще по-хорошему не имеет права соединяться, то есть чувственность и духовность: она при этом всего лишь поневоле играет роль некоей безошибочной – поскольку эстетической – и быть может поэтому чуть больше, чем просто земной, великой и загадочной Инстанции, от которого не ускользает ни единая мелочь.
И потому чужой и непонятно откуда взявшийся мужской взгляд, запечатлевший на миг сие противоестественное сочетание, неприятен и враждебен ей как никакой другой.
Разбор по пунктам. – Во-первых, люди испокон веков склонны связывать себя отношением, в основе которого по самой его внутренней природе должна лежать любовь, а все прочие компоненты: такие как нежность, забота, дружба, взаимное доверие, ответственность за воспитание детей и даже сексуальная жизнь, – они как бы живут подобно листьям и ветвям высокого раскидистого дерева, питаясь соками единого ствола, и ствол этот – любовь, так что когда любовь проходит, корни дерева засыхают, и гибнет его прекрасная крона.
Во-вторых, при этом обычно происходит так, что мужчина и женщина по любви вступают в связь, и от этой связи у них рождаются дети, но спустя некоторое время их любовь не то что бы окончательно пропадает, но как бы рассеивается, подобно свету или туману, и наступает момент, когда почти уже невозможно говорить друг другу ласковые слова, дарить ласковые взгляды, а тем более обмениваться телесными ласками.
И тогда, в-третьих, мужчина и женщина должны расстаться.
Но если, в-четвертых, по тем или иным причинам они это не могут или очень не хотят сделать, и в то же время вынуждены «сохранять приличие», в образе их поведения неизбежно появляются черты того холодного спокойствия и ритуального, лишенного теплоты и жизни достоинства, которое на первый взгляд напоминает сатанинское таинство умерщвленной любви, однако при более внимательном рассмотрении – учитывая историю их любви, учитывая слабую и непостоянную человеческую природу, учитывая также характер самой любви, зависимый от множества факторов и преходящий, – итак, учитывая все это, оно (достоинство) обнаруживает куда более глубокое сходство с возвышенным обликом умершего лица, прежде чем началось разложение тела.
Потому что смерть, в-пятых, бесконечно выше, глубже и значительней дьявола.
Так что, в-шестых, только необъяснимое и постоянное внутреннее озлобление потерявшего любовь к своей жене мужчины искусственно заменяет самое глубокое в бытийственном отношении таинство умирания и смерти на куда менее глубокую, зато в художественном плане иногда более выразительную – так драма у нас на глазах кастрирует эпос! – мистерию соучастия сатаны.
А ведь положа руку на сердце – и это в-седьмых – пока мы вполне счастливы с женщиной, мы ничего общего с каким бы то ни было таинством не ощущаем, зато когда нашему счастью приходит конец, что-то похожее на предвечный ритуальный обряд Потери как таковой и Страдания как такового, действительно, мы испытываем, – есть над чем задуматься, не правда ли?
В том плане, в-восьмых, что если смерть выше сатаны, то и жизнь должна быть по большому счету выше Бога – всего лишь элементарная логика.
А если, в-девятых, мы с этим до конца не можем согласиться – и по праву – то только потому, что в глубине души предчувствуем, что наши представления о Боге столь же поверхностны, относительны и несовершенны, как и представления о Его (предполагаемом) антиподе.
Архитектура греховности
I. (Часть и целое). – Когда встречаются мужчина и женщина, между которыми может состояться прелюбодеяние, то есть интимная любовь, имеющая, как правило, причину в какой-нибудь неотразимой телесной детали – именно детали, а не общем физическом облике – и в основе своей, как правило, исключающая истинную душевную гармонию – оттого-то и связывает упорно народная молва прелюбодеяние с дьяволом, – так вот, когда встречаются такие мужчина и женщина, зарождающееся между ними прелюбодеяние подобно зажиганию костра в холодную дождливую ночь: тут и хворост сырой, и ветер мешает, и спички тухнут едва вспыхнув, – но не дай бог огню разгореться в полную силу, тогда его уже не потушить: и тогда Низшее надолго осилит Высшее.
К счастью, однако, очень часто происходит так, что какая-нибудь мелочь уничтожает пожар в зародыше, – например, будущий любовник повнимательней пригляделся к будущей любовнице и увидел в ней что-то такое, что на данном этапе, до прелюбодеяния, не должен был бы видеть, или она ему дала сигнал глазами, а он сделал вид, что не заметил его, или они просто короткое время смотрели друг на друга, без того чтобы это взаимное лицезрение опьяняло их, или еще что-нибудь в этом роде.
Короче говоря, чем искусственней и недолговечней Целое, тем безукоризненно-мелочней должны соединяться в нем до поры до времени его детали, и наоборот, когда Целое зиждется на великих принципах, составляющие его части могут быть поврежденными или даже вовсе выпадать: иными словами, когда мужчина соблазняет женщину, все в его действиях должно быть именно безукоризненно, ни одна ошибка женщиной не прощается, – а вот когда мужчина и женщина живут в многолетнем и счастливом браке, трудно в их поведении отыскать хотя бы крошечный механизм, отличающийся как раз безукоризненностью.
И в особенности того постоянного, устойчивого, культоподобного и на разные лады вибрирующего эротического интереса в глазах совершающих прелюбодеяние никогда не увидишь во взглядах мужчин и женщин, пребывающих в состоянии длительной семейной гармонии, – попробовал бы Вронский, думая о своем, посмотреть сквозь Анну, не видя ее: ему бы это никогда не простилось, а вот Левин с Кити мог бы такое себе позволить без того, чтобы их любовь хотя бы на йоту умалилась.
Так великий собор ничего не теряет, если часть его даже полностью разрушена, тогда как, напротив, какое-нибудь модное здание начинает невыносимо смотреться, когда повреждена всего лишь облицовка стены.
II. – (Странное созвучие). – Тихим декабрьским вечером, после работы, остановившись под фонарем, где особенно обращаешь внимание на кроткие и по-неземному падающие снежинки, вы не в первый раз задумываетесь об иных мучительных сновидениях, десятилетиями преследующих вас и неустранимых ни спокойным размышлением, ни медитацией, ни вообще ничем, – и вот тогда вы поневоле вынуждены предположить, что они (сновидения) в какой-то мере неотделимы от вас, как ваше лицо или походка, – и подобно тому, как Анна Каренина, видела свои блестящие глаза в темноте, вы ясно видите, что глаза ваши в тот момент странно суживаются и приобретают как бы остекленевшее выражение, вместо того чтобы с оживлением расширяться, как это бывает, когда человеку предстоит какой-нибудь важный жизненный опыт, – здесь есть, впрочем, неумолимая логика: ведь неизбежная конфронтация с собственным сновидением представляет из себя не столько соприкосновение с неким посторонним объектом, сколько погружение в собственное внутреннее бытие.
Так именно суживаются глаза женщины, когда в ее жизни появляется посторонний мужчина, который, как она уже заранее предчувствует, внесет в ее жизнь мучения и беспокойства, предотвратить которые, однако, как в кошмарном сновидении, совершенно для нее невозможно, – но не потому невозможно, что не хватает силы воли, а потому, что она в глубине души убеждена, что эротическая катастрофа есть апогей и как бы величайшее благословение свыше любой женской судьбы.
III. – (Живые призраки). – Не только замужние женщины, но и молодые девушки во все времена и во всех концах света, прогуливаясь стайками, уносят с собой заинтересованные взгляды пожилых мужчин, ясно сознавая, что любой такой взгляд есть дискретное, но красноречивое обещание некоей реальной жизненной возможности – от поверхностного сексуального увлечения до серьезной тайной связи или даже брака, – и хотя эти возможности в силу различных причин остаются невостребованными и мгновенно растворяются в вечернем воздухе, они, подобно фантастическим бактериям астрального мира, не погибают навсегда, но продолжают свою странную призрачную жизнь, энергийными квантами перескакивая от жизни к жизни, несомненным доказательством чего является то обстоятельство, что мимолетные интрижки и тайные связи между полами с большой возрастной разницей сопровождают классический брак и классическое партнерство, как какие-нибудь рыбки-прилипалы сопровождают акул.
IV. (Видение кобры). – Внезапно, слепо и по-змеиному отыскавшие друг друга в праздной толпе токи полов: они уже сплелись в воображаемом совокуплении, однако, вовремя спохватившись, взвешивают на весах реальности возможность настоящей связи, а то и совместной жизни, – но увы! такая связь обычно невозможна по причине либо разницы во времени (читай: возраста), либо разницы места (читай: живут в разных городах или странах), либо разницы обстоятельств (читай: оба связаны браками и семьями).
И как возбужденная кобра изгибами поднимается от земли, расправляет капюшон и замирает в агонии смертельной атаки: так вечный зов плоти, нечаянно возгоревшись в анонимной толпе, ползет снизу наверх, мгновенно пронзая тело и отравляя душу, – и вот уже оба желания, подобно змеям, стоят друг против друга, молча и тихо вибрируя, но никто вокруг их смертельного танца не замечает, да и сами ужаленные мужчина и женщина как будто притихли, потрясенные и устыженные.
И только взгляды их, как птицы в клетках, невинно порхают между собой, свидетельствуя то ли о давней победе духа над плотью, то ли о пустой прихотливости игры между полами, то ли просто о великом томлении самом по себе, источник которого случаен и по большому счету неважен.
V. (Вариация на тему Данте). – Спустившись на самое дно Ада, Данте и Вергилий умудрились отыскать там узкое отверстие, которое вывело их в Чистилище, а поднявшись по его окружным орбитам, они попали в Рай: тем самым конфигурация сопряжения Ада, Чистилища и Рая, то есть практически весь универсум, выстроен у Данте по образу и подобию переворачивающейся на глазах Чаши.
Соблазнившись оригинальным сравнением, можно было бы заметить, что те же самые Ад, Чистилище и Рай влюбленный мужчина видит в глазах вожделенной женщины и разве что переживаются они в обратном порядке: в самом начале взгляд очаровательной и влюбленной женщины воплощает для мужчины Рай – это когда и любовь, и нежность, и верность, и грядущее материнство, и половое наслаждение слиты в нем с первозданной гармонией настоящего момента; потом и отнюдь не для каждого мужчины тот же самый взгляд может стать преддверием Чистилища: это когда мужчина, обычно в самые интимные моменты, ясно чувствует, что он все-таки не идеал своей женщины и она может отправиться на поиски своего идеала; ну а в худшем варианте былой райский взгляд становится для мужчины истинным Адом: это когда он представляет себе, что его женщина нашла, наконец, свой идеал и дарит в интимные моменты Рай другому мужчине.
Однако здесь не учтен самый главный и решающий момент: путь в Рай по Данте начинается в повседневной жизни, потом он (путь) ведет в Ад, оттуда в Чистилище, а там уже до Рая и рукой подать, – таков же обычно и путь обретения любовного счастия: вначале первые опыты, романтическому воображению представляющиеся Раем, но неизменно заканчивающиеся адскими муками, потом переходная и чистилищная фаза их осмысления, и лишь после этого – и не обязательно для всех, но для многих – следует встреча с человеком, с которым можно построить наилучшее из всех возможных отношение: его и называют условно райским.
VI. (Ограждение от хищника). – В идеальных, то есть вполне чистых и потому очень редких отношениях между стоящими в самом близком родстве женщинами – речь идет конечно же о родных сестрах – почти всегда отсутствует какая бы то ни была эротическая игривость: то есть на словах она весьма даже в ходу, но тем радикальней она изгоняется на практике, – так что уже легчайшее кокетство, например, с мужем сестры делается табу, следствием чего могут стать такие странные, утрированные и заскорузлые поведенческие отклонения как нежелание сидеть на переднем сиденье рядом с мужем-водителем в отсутствие сестры, или крайне стесненный разговор наедине, или тем более избегание ночевки в доме сестры, если та находится вне дома, читай: в больнице (говорю это на собственном опыте), – при этом обе женщины-сестры являются, как правило, довольно опытными по части мужчин: просто удивительно это их по-житейски простое и безошибочное отношение к сексу как опасному хищнику, который в мгновение ока может уничтожить семейную гармонию, как тигр убивает козленка, и все же они ценят красоту и силу хищника и никогда не позволили бы вытравить его из жизни, – нет, его нужно только умело держать на цепи, как они считают, и все будет хорошо!
Вот она, последняя мудрость жизни.
VII. (Тень сомнения). – Когда я вижу на улице интересную женщина, то самое первое впечатление от нее обычно личное и эротическое, но если в этот момент задуматься о ней как человеке, представить, что у нее есть и дети, и мать, и сестра, и что у всех их тоже свои проблемы, и на них, как на невидимых столпах, держится их жизнь, а значит и жизнь этой женщины, то как не пожелать спонтанно и от души ей и всем ее близким добра и удачи?
И вот что любопытно: если подобные ваши пожелания отразятся в вашем взгляде и она случайно его уловит, то, поверьте, удивленная, чуткая и неизменно прекрасная благодарность появится в ее глазах прежде чем она даже осознает, что происходит.
Если же, напротив, взгляд ваш запечатлеет первоначальную и никому по большому счету не нужную – ни вам, ни тем более ей – эротическую заинтересованность, то и реакция будет однозначно сдержанной и неприязненной: это ведь все та же бессмертная человеческая пошлость! и как же люди ее остро интуитивно чувствуют!
В самом деле, смотреть на женщину и в сердце с ней прелюбодействовать – да, это конечно же не смертный грех – о каком грехе может идти речь, когда задействован важнейший природный инстинкт? – а всего лишь элементарная пошлость.
И вот мгновенно и круто ее в себе преодолевая – так, наверное, берут быка за рога – и настраиваясь на сугубо человеческое там, где половое начало его до неузнаваемости обволокло, узнаешь вдруг – и быть может впервые – Высшее в себе: то самое, следуя за которым, только и можно прийти к Богу, во всяком случае другого пути к Нему нет.
И все-таки странным образом остается сомнение: сомнение не в том Высшем внутри себя, которое так неожиданно и ясно обнаружилось вдруг на улице при взгляде на незнакомую женщину, а в том, что посредством него придешь к Богу, и сомнение это по самой своей природе – мрак, а то, в чем приходится сомневаться – свет.
Но почему же, почему мир устроен так, что даже нечто безусловно высокое и лучшее в человеке, исходящее из глубин его сердца – есть ли лучший источник? – не обязательно идентично с Богом? и вот вместе с вопросом автоматически рождается сатана, который, как и сам вопрос, разумеется, всегда пребывал в мире, но только «инкогнито и с секретным предписанием».
VIII. (Гром среди ясного неба). – Не подлежит сомнению, что в общении между людьми решающее значение имеет возможность войти в с ними при благоприятных условиях в более тесное и в идеале даже родственное отношение, то есть если, к примеру, встречаясь с женщиной гораздо нас старше или девушкой значительно нас моложе, так что любовное отношение между нами изначально исключено, мы все-таки тем не менее по какому-то странному, безошибочному и обязательно обоюдному чувству точно знаем, что такое отношение в принципе возможно – за вычетом разницы в возрасте или при иных обстоятельствах или даже в иной жизни – тогда у нас к такой женщине или девушке устанавливается совершенно иное и гораздо более глубокое экзистенциальное отношение, как если бы половой контакт был непредставим ни при каких условиях, даже если ни мы, ни она ни малейшим жестом, взглядом или словом не дали друг другу о том понять.
И вот, точно в подтверждение этой истины, бывают моменты, когда мужчина в толпе встречает женский взгляд, который особенно его тревожит: это тот самый взгляд, из которого может выйти его «целая совместная жизнь», но он тут же с некоторым сожалением или облегчением – почему-то одно здесь неотделимо от другого – осознает, что взгляд этот принадлежит не более-менее равновозрастной ему женщине, а девушке, годящейся ему разве что в дочери, и сходное невольное смущение: она ведь испытывает те же самые чувства и в той же самой последовательности, что он с тайным удовлетворением и отмечает в глазах той милой девушки, – итак, эта секунда поистине судьбоносна, потому что именно в течение ее происходит, иногда сознательно, а иногда бессознательно, выбор колоссального нравственного значения: мужчина должен для себя решить, будет ли он отныне смотреть на эту девушку как на женщину или как на родную дочь, – и от этого решения, несмотря на то, что они, судя по всему, никогда больше не встретятся, зависит многое: настолько многое, что, когда он спрашивает себя, что же именно, он ничего не может ответить и, раздосадованный на себя за невозможность ответить на самый простой, как ему казалось, вопрос, он отбрасывает слишком глубокомысленные для него функции близкой женщины или дочери, оставляя лишь роль случайной прохожей.
Это и есть то самое упрощение жизни, которое мы делаем всякий раз, когда у нас нет сил или возможностей ее усложнять.
IX. (Обретение пути истинного). – Мимолетный острозаинтересованный взгляд в толпе какой-нибудь интересной женщины, – он завораживает замужнего мужчину возможностью красивой интриги, адюльтера или даже альтернативной семейной жизни: как непохож такой взгляд на привычную палитру взгляда жены, которая все о муже знает и все в нем принимает!
В супружеском взгляде может быть что угодно, но там нет той приключенческой и вместе глубоко экзистенциальной новизны, которая так хищнически сквозит и будоражит в глазах посторонней женщины, – что делать тогда мужчине? в эту минуту надлежит ему вспомнить, что и супруга его когда-то смотрела на него подобным взглядом: теперь этого взгляда, правда, уже нет, но то, что пришло на его место, с избытком его уравновешивает.
А вот будет ли анонимная соблазнительница смотреть на него спустя годы теми же понимающими и всепрощающими глазами, какими смотрит на него его жена, это еще большой вопрос: в этом вопросе, однако, и весь ответ, – итак, идите за взглядом любящей жены вашей, как за Ариадниной нитью, и вы прямиком выйдете к царствию Божию.
Но даже если и не выйдете, все равно нужно идти этим путем, потому что другого пути для вас просто нет, или, точнее, лучше считать, что его нет: ведь путь за взглядом женщины из толпы – это не путь, а падение, хотя куда именно – в блаженство или в страдание, пока не ясно.
Но любой путь следует все-таки предпочитать падению.
X. (Любопытное указание свыше). – Когда Гермес, исполняя волю богов, сообщает Одиссею, что тот просто обязан жить с волшебницей Цирцеей как женщиной, иначе это будет расценено богами как смертельное оскорбление их соплеменницы, то в этой благой для любого среднестатистического мужчины вести сказалась, быть может, глубочайшая природа вещей, – в самом деле, и до сих пор нам кажется, что совсем не одно и то же, соблазняет ли мужчина женщину или женщина мужчину: первый случай столь же классический, сколь и тривиальный, и побеждающая соблазн женщина как правило даже выигрывает в глазах соблазняющего мужчины, не говоря уже об окружении, а вот во втором случае все обстоит гораздо сложнее, и если речь идет не о дешевом флирте или тщеславном торжестве потерявшей честь женщины над какой-нибудь своей приятельницей, мужчина, не поддающийся женскому соблазну – причем в последнем, как уже сказано, обязательно должны присутствовать черты большого достоинства, то есть женщина должна быть попросту очень серьезно увлечена мужчиной – чувствует себя отнюдь не так комфортно, как женщина на его месте, – и вот с этой внутренней и часто невидимой для других раной он отныне обречен жить до конца дней своих, и никакая благодарность супруги, никакое удовлетворенное чувство долга, никакая спокойная совесть и никакое признание людей не в состоянии полностью залечить эту рану, – самое же парадоксальное то, что, уступи он в свое время соблазну и войди в сделку с совестью, он заполучил бы, конечно, тоже некоторую душевную рану, но она, эта рана по всей видимости залечилась бы гораздо скорее, чем та, которую он приобрел, сохранив чистую совесть и верность жене или себе.
Алгебра гармонии
I. (Житейский подход). – Примерка новых ботинок в том смысле может быть сопоставлена с первым знакомством с женщиной, что от них полностью зависит дальнейшее житейское – а значит и любое другое удобство: и там и здесь следует прислушиваться к ощущению элементарного телесного (и душевного) комфорта, и там и здесь желательно избегать вычурной красоты, создающей искусственное напряжение, и там и здесь ни в коем случае нельзя уповать на то, что «будущее что-то исправит», – в самом деле, надежда на то, что ботинки, хотя теперь и немного жмут, со временем разносятся и все будет в порядке, совершенно безосновательна (они никогда не разносятся, и каждый шаг будет причинять определенное неудобство), и точно так же чувствование некоторого тонкого, но глубокого неудобства в любовном дебюте будет с годами только усиливаться, но никак не ослабляться.
Вообще многое на заре такого монументального начинания, как большая любовь, может слагаться не так, как хотелось бы, но это вполне нормально, – когда судьба сводит мужчину и женщину, она даже с удовольствием и от души подстраивает им великое множество козней (которые они должны преодолеть, чтобы оправдать доверие к ним судьбы, и преодоление которых составляет как раз содержание бесчисленных и довольно неплохих романов и фильмов о любви).
Однако уже в первом разговоре с женщиной и в самом пребывании подле нее должно обязательно хоть в малой мере присутствовать то несомненное чувство абсолютного и беспримесного, как солнечный свет, житейского комфорта, перерастающего в тихое блаженство, или наоборот, неземного блаженства, возвращающегося в житейский комфорт, из которого, подобно дереву из семени, вырастет когда-нибудь гармоническое – а значит лучшее из всех возможных – отношение между мужчиной и женщиной.
II. (Физики и лирики). – Первое: если время и пространство действительно едины, и не только на физикальном, но и на бытовом уровне, – а в этом сомневаться нынче разумному человеку как-то не приходится, – то в таком случае любые изменения феномена, происходящие во времени и вполне очевидные только по прошествии определенного времени, должны быть заметны опытному глазу еще задолго до необратимых временных изменений, – именно тогда, когда они, эти будущие изменения, подобно мушке в янтаре, застыли как бы в куске пространства, – например, в слишком непостоянном, оживленном и как бы масляном взгляде кем-то безумно возлюбленной, а самой лишь слегка влюбленной женщины.
И ничто и никто не убедит меня в том, что именно здесь, в этом взгляде и был зародыш будущего разлада между пока еще вполне счастливыми партнерами, и более того: ничто и никто не убедит меня в том, что уродливая тенденция развития этих до поры до времени гармонических отношений была неизбежна, как ход часовой стрелки, – так что умение рассматривать пространство и время в их изначальном и глубоком единстве, безусловно, очень важно для физика, но гораздо важнее для человека, желающего создать счастливую семью.
И второе: физики утверждают, что только при наличии наблюдателя и процесса наблюдения электрон, за которым собираются наблюдать, переходит из состояния невидимой энергии в состояние определенной частицы, то есть воистину возникает, – и проверить справедливость этого фундаментального закона квантовой механики очень легко.
Для этого достаточно, скажем, праздно сидя на диване, незаметно и с ласковой иронией до тех пор поглядывать на суетящуюся в домашних делах жену, пока та, долго не замечая вашего взгляда, наконец заметит его и, еще прежде чем удивиться (на длительное подглядывание) или рассердиться (за праздность наблюдения) или сделать вид, что ничего не произошло (чтобы не отвлекаться от работы), остановится как вкопанная и, в свою очередь, заглянув вам в глаза, улыбнется вдруг самой смущенной, самой польщенной и самой счастливой улыбкой.
И взгляд ее при этом сделается еще и самым лучистым, что, согласно Льву Толстому, является внутренним пределом повседневного просветления: кстати, заодно вы получите и математическое доказательство состоявшегося супружеского счастья.
III. (Далекое рядом). – Если большая любовь между мужчиной и женщиной зиждется на гармонии душевного и телесного, но участники ее на практике очень много занимаются вторым и очень мало первым, если, далее, для большой любви необходима взаимность, но степень ее по определению чрезвычайно неодинакова у партнеров, если, кроме того, большая любовь включает в себя свободное внутреннее развитие любящих, и развитие это должно быть более-менее синхронным и однонаправленным, а это, пожалуй, и есть самое трудное и невыполнимое условие, и если, наконец, большая любовь подразумевает также чистоту мыслей и помыслов, но кто же знает наверное, каковы они у людей по части другого пола? – итак, трезво учтя все эти факторы, нельзя не прийти к выводу, что так называемая «большая любовь» практически невозможна, и мы внутренне почти с этим соглашаемся… но только почти, потому что в то же время каждый из нас в глубине души ощущает также и противоположную истину, а именно, что такая большая любовь не только возможна, но и вполне реальна, и что она уже была у нас, или есть, или будет, просто говорить об этом как-то не хочется… так вот, к чему же мы клоним? только к тому, что точно так же и никак иначе обстоит дело и с любыми важнейшими для нас сверхчувственными реальностями и в первую очередь с проблемой существования Бога.
IV. (Всюду жизнь). – Все законченное в себе так или иначе умиротворенно, гармонично и прекрасно, но, как это ни парадоксально, воплощает принцип смерти, тогда как некоторая внутренняя незавершенность – настолько тонкая и глубокая, что она, подобно сейсмическим волнам, непредсказуемыми малыми толчками расходится из виртуального центра по всем реальным и периферическим направлениях, так что никогда нельзя понять, как образовалось ее начало и куда уходит ее конец, и здесь подразумевается ни много ни мало как суммарный генезис самой Вселенной, материи и жизни, – итак, она, эта незаконченность, выражает сокровенную суть и душу жизни.
А поскольку сексуальность сродни спонтанности, а спонтанность есть едва ли не характернейший признак жизни, по крайней мере на житейском ее уровне, постольку ярко выраженная сексуальность представляется нам по праву почти тождественной жизни и даже помимо своего прямого физиологического назначения.
Вот почему, кстати, когда перед среднестатистической женщиной встает вдруг выбор: привлекательный неглупый мужчина без вредных привычек, но недостаточно оригинальный и, главное, с ограниченной потенцией, или мужчина сравнительно уродливый, предположительно безнравственный, но очень потентный, она выбирает поначалу второго, и дело даже не в «половом зове» как таковом – женщина может быть склонна и к фригидности – а дело в том, что она инстинктивно предпочитает принцип жизни принципу смерти.
И лишь потом, когда обнаруживается грубая схематичность былой спонтанной сексуальности (а подобное вырождение неизбежно по причине приземленного и материального характера последней, и то, что прежде трепетало радостью и очарованием, теперь нестерпимо отдает падением и разложением), женщина глубоко разочаровывается и, если может, возвращается к мужчине первого типа.
И вот тогда, если они сумеют создать гармоническую любящую семью, та самая первичная незаконченность, о которой говорилось вначале, обязательно явится в том или ином виде: либо как невыразимая нежность и благодарность друг другу, либо как тонкая любовь к детям, либо просто как осознание некоторой чудесности их связи.
Короче говоря, эта первоосновная космическая спонтанность как принцип жизни, сбросив пробную и грубую маску сексуального влечения, покажет, наконец, свое истинное окончательное одухотворенное лицо; ну а в сфере «чистой» духовности жизненное начало сказывается, между прочим, в принципиальной несводимости к общему знаменателю как мировых религий, так и вообще любых крупных спиритуальных устремлений.
V. (По тонкому льду). – Бывает, что мужчина и женщина связаны многолетними поверхностными отношениями: либо по работе, либо в пределах приятельского круга, либо даже находясь в опосредованном родстве, – при этом они уважают и где-то даже ценят друг друга (первое обязательное условие), а также некоторая взаимная теплая симпатия имеет место (второе обязательное условие), однако искреннее и глубокое общение между ними было все эти годы почему-то полностью невозможно (третье обязательное условие), – и вот тогда, если ситуация вокруг них по тем или иным причинам резко меняется, и они вдруг оказываются один на один на малом участке жизненного пространства, точно танцевальная пара посреди огромной залы, – да, вот тогда между ними вполне возможна и даже где-то неизбежна бурная сексуальная связь, но эта последняя будет постоянно держаться на шелковой нитке и сами они окажутся в положении канатоходцев, вынужденных работать без страховки: всего лишь элементарное следствие вышеназванных трех условий.
Если же они и вовсе решат соединить свои жизни, то из этого может получиться еще более непредсказуемое отношение: ведь то обстоятельство, что не глазами свободного партнерства отыскали они друг друга, а как бы сам житейский ход вещей подтолкнул их во взаимные объятия, только на первый взгляд свидетельствует о невозможности крепкой связи между ними, на деле же все оказывается как раз наоборот: нет ничего крепче и естественней уз, предложенных нам самой жизнью, она выступает в конце концов как идеальная сваха, ее предложение и совершенно ненавязчиво и абсолютно судьбоносно одновременно, а косвенным доказательством предпочтительности выбора не от себя, а через третью и высшую инстанцию, являются, между прочим, спонтанные пробуждения эротического влечения из сугубо человеческих жестов: теплого участливого взгляда, благодарности за принесенную чашку кофе, хорошего совместного воспоминания и тому подобное, – и все-таки, по причине множества подводных камней, всегда бывших на их пути, такие мужчина и женщина обречены держась за руки идти как бы по тонкому льду, от скольжения то тесно прижимаясь друг к другу, то отдаляясь, и постоянно рискуя вследствие падения окончательно расцепить руки, а то и навсегда разминуться.
VI. (Игра в кости). – В отношениях между мужчиной и женщиной, состоящих в близком приятельстве или дальнем родстве, то есть при обстоятельствах, когда физическая близость между ними в данный момент совершенно неуместна, но в отдаленной перспективе психологически возможна, часто бывает так, что они охотно и подолгу смотрят друг другу в глаза при людях и всегда тщательно избегают встречных взглядов наедине.
Быть может, впрочем, если бы обстоятельства кардинальным образом поменялись и возможность стала для них действительностью, то они испытали бы страшное разочарование, но быть может и наоборот, из них получились бы самые счастливые супруги.
И тот и другой случай проанализированы Львом Толстым в «Войне и мире»: в первом варианте мы имеем Соню и Николая Ростова, а во втором Наташу Ростова и Пьера.
VII. (Пиковая дама). – Человеческое тело настолько сложно и настолько исполнено тонкой, но многозначительной гармонии: в том смысле, что каждый орган его и даже любая его мелкая деталь – типа пальцев, ногтей и волос – скрыто, но зеркально зеркально отражают самые затаенные и неуловимые черты характера – да здравствует физиогномика! – что, собственно, человеку не нужно желать ничего другого, кроме как иметь более-менее красивое, то есть попросту гармоническое тело, а если оно уже есть, то и поступки, и жесты, и слова вытекают из него как музыка из послушного инструмента умелого музыканта, – и тогда не обязательно иметь высшее образование, не обязательно читать множество умных книг и даже не обязательно держать руку на пульсе времени: все это второстепенное и наживное, без которого можно обойтись, если есть главное и незаменимое, – а что оно такое, исходя из вышесказанного?
В первую очередь драгоценное созвучие между половым и человеческим, – и вот наблюдая практически в любых обстоятельствах за общением между интересными мужчинами и женщинами или парнями и девушками, всегда приходишь к одному и тому же выводу: они зиждутся действительно на законах музыкальной гармонии, – там и много слов не говорится, там и паузы предельно выразительны, там речи не может быть о философской выспренности или информационном изобилии, там жесты четки и отточены как движения в танце, там не бывает бессмысленной задумчивости во взгляде.
Одним словом, на закате лет сверяя в зеркале черты собственного лица с проведенной с женщинами жизнью, обнаруживаешь полное соответствие того и другого, и тогда вся твоя биография, точно пространство в трех измерениях, перекладывается в твое же зеркальное отражение как двумерную плоскость, точно магический кристалл ложится на ладонь, – и как в предсказание будущего, каким бы безошибочным оно ни было, невозможно физически до конца поверить, так не веря собственному вынесенному приговору всматриваешься до боли в глазах вглубь зеркала… финал такого до неприличия пронзительного лицезрения известен: «В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась».
VIII. — (Праздное наблюдение). – Если и есть тайная связь между творчески-преобразовательными энергиями мужчины и его отношением к женщине, то связь эта должна быть именно жанрового порядка, – так что у лирика обычно лирический роман с женщиной, у трагика драматический, а у эпика эпический: и действительно, иные связи или браки корифеев искусства подтверждают названную закономерность, однако другие ее опровергают; но что же из этого следует? только то, что такая закономерность по всей видимости существует, не имея общеобязательного характера, – тем самым она разделяет судьбу всех решительно естественнонаучных законов, которые при всей своей доминантности никогда не распространимы на материю в целом, стало быть их отличает только степень и масштаб общеобязательности, но стоит ли обращать внимание на побочные детали?
IX. (Амбивалентность светлых глаз). – Бывает, хотя и очень редко, что юноша и девушка влюбляются друг в друга при относительной независимости от полового влечения: такие молодые люди обычно не в состоянии расстаться, они часами болтают о пустяках, не сводя друг с друга влюбленных сияющих глаз, эти опьяненные счастьем люди не замечают мира, – блаженство быть рядом с любимым, непрерывно на него смотреть и им бескорыстно любоваться настолько самодовлеюще, что подспудное стремление к половому соитию, никогда вполне не исчезая, как бы затормаживается и отступает на второй план.
Но как все пути ведут в Рим, так рано или поздно новоиспеченные Ромео и Джульетта обречены совершить свой первый сексуальный опыт, и опыт этот, как правило, редко бывает удачным по причине невозможности полностью расслабиться, ибо для этого нужно на время забыть о божественных совершенствах партнера.
И вот если влюбленные не наткнулись на этот не совсем удачный первый сексуальный опыт, как на острый и опасный предмет, не обратили на него все свое вдруг пробужденное взрослое внимание, не стали оценивать себя и свою половину в первую очередь с точки зрения свершившегося «грехопадения», не задумались также и о том, выдержит ли их совместная жизнь каждодневное испытание постелью, – короче говоря, если у них скорее осталось чувство, что они сделали трудное, но необходимое дело, после которого можно снова обратиться к привычному и любимому занятию никогда не расставаться, часами болтать о пустяках, а главное, не сводить друг с друга влюбленных сияющих глаз, то есть находиться большую часть времени в состоянии полной взаимной очарованности, – да, вот это, пожалуй, и есть то, что можно назвать самой прекрасной любовью: тут главное то, что половая жизнь не затаптывает и не подминает под себя блаженную околдованность друг другом, – как уже сказано, редкий случай, но такое бывает.
По моим скромным наблюдениям, у всех этих избранных потомков Ромео Джульетты почему-то светлые глаза, – хотя, с другой стороны, и это тоже не подлежит сомнению, самые развратные мужчины и женщины – развратные больше даже умом, чем телом – тоже по какому-то странному совпадению имеют светлые глаза.
Сидя между двумя стульями. – Если женщина полюбила вас по-настоящему, то это значит, что она вас принимает, что называется, «без остатка», то есть вам не нужно оправдываться за какое-нибудь неудачно произнесенное слово, или за сорвавшийся несуразный жест, или даже за свершенный сомнительный поступок, – да, вам все это прощается заранее, точно вы получили папскую индульгенцию, и вы невольно привыкаете к тому, что вам «все сходит», это вас балует как ребенка, вы расслабляетесь, прежние ваши «рыцарские» качества, за которые вас когда-то полюбила ваша женщина, становятся все более невостребованными и незаметно отмирают, как ненужные организму органы, а сама ваша любовь постепенно обращается в вязкую как болото привычку, – и все-таки если в этот критический момент неприличным образом встряхнуться, то есть увлечься, скажем, посторонней женщиной, показать себе и другим, что вы еще на что-то способны, выйдет по всей видимости не лучше, а хуже: скорее всего, погнавшись за двумя зайцами, вы ни одного не поймаете (читай: потеряете и любимую супругу), – но запретить вам об этом хотя бы думать никто не может, и вот, сопоставляя в уме все преимущества и недостатки связи с женщиной, которая вам все (кроме измены) прощает, которой ничего уже не нужно больше доказывать, но с которой вы в то же время не чувствуете себя достаточно молодым, увы! сопоставляя втайне такое реальное отношение с другим и возможным отношением, где вам, напротив, не простят ни единого ложного шага в сторону, где нужно будет заново себя доказывать в каждом слове, жесте и поступке, но где вы зато будете опять себя чувствовать вполне свободным живым существом посреди сплошной природы со всеми вытекающими отсюда последствиями (в том числе и риском в любой момент оказаться разорванным более сильным хищником), – итак, тщательно взвешивая обе эти вечные как мир и столь знакомые каждому мужчине, «отбывающему счастливый многолетний брак», житейские альтернативы, и не в силах остановиться до конца на какой-либо одной из них, вы обязательно будете хоть немного, а напоминать человека, который поедая рыбу мрачно и сосредоточенно смотрит перед собой, медленно нащупывая во рту мелкую рыбную кость.
В лабиринте мифов древних и новых
I. – (Старая сказка на новый лад). – Развития никакого нет, все вырастает из семени, и никакой случай не в силах изменить этого космического закона, – так что если вы, раскачивая от горя головой и потрясая руками на обломках первого брака, встретили вдруг женщину, с которой сидели на школьной скамье и которую прежде не замечали, а она за долгие годы из Золушки превратилась в принцессу: немного физически, но еще больше духовно, причем не была ни разу замужем, и вы это воспринимаете как чудо и подарок судьбы, – и вот вы уже безумно влюблены, да и она тоже, ведь и она ищет своего принца! – так вот, если все «на мази», и вы, благополучно преодолев первый «порог постели», широкими шагами шагаете к следующему порогу: устройства совместного жилища и законного урегулирования вашей связи, не обольщайтесь, дорогой друг, запомните: никакого развития нет и все вырастает из семени, – а это значит, что поскольку вы в свое время прошли друг мимо друга, значит это вполне соответствовало вашему «семени», которое не почувствовало тайного родства с семенем той, которая делила вашу школьную скамью и готова как будто бы теперь разделить и вашу жизнь.
Увы, не разделит, даже искренне того желая! но это не произойдет сразу: очарование поздней влюбленности, помноженное на любопытный опыт двух по-разному прожитых жизней, вышедших из близкого корня, еще несколько месяцев будет держать вас в блаженном ощущении на глазах воплощающейся в жизнь сказки, но когда-нибудь – и скорее рано, чем поздно – эта женщина исчезнет из вашей жизни также внезапно и чудесно, как она вошла в нее, и вы будете сначала это горько переживать, а потом скажете спасибо, потому что поймете, что она своим уходом спасла вас от нового и куда более болезненного разочарования.
Итак, сказка о Золушке состоялась, но ненадолго, так происходит со всеми сказками: они охотно читаются и живо переживаются, но с нашим привычном миром очень редко соприкасаются, а когда и в виде строжайшего исключения такое соприкосновение имеет место, мы тотчас склонны зацементировать его в привычное явление бытия: дело заведомо невозможное, – ведь соприкосновение остается соприкосновением, по меньшей мере странно на очаровательном сновидении строить прозаическую реальность, стало быть сказочный момент вас коснулся – и на том нужно сказать спасибо.
Но это вы осознаете лишь потом и задним, так сказать, числом, а в момент соприкосновения – как быть и как жить? верить ли в него и бороться за него до последнего, пытаясь «продлить очарование»? или в пророческой оторопи ожидать неизбежного конца? или просто по-мужски воспользоваться моментом и меньше о нем думать? вопрос, собственно, риторический, потому что если это происходит впервые, то разыгрываются первые два сценария, а третий вариант вообще невозможен, ну а если во второй раз, тогда… но тогда и так ясно, что мужчина будет смотреть на свою Золушку исключительно с сексуальной точки зрения, а это означает конец классической сказки и начало другой, так называемой «сказки для взрослых».
Как это странно: сексуальность вообще несовместима с великим искусством, искусства в эротическом жанре может быть сколько угодно, но это искусство никогда не бывает великим: вот ведь в чем все дело, – а может быть, стоит все-таки попробовать – и еще раз найти ту по-прежнему незамужнюю женщину, с которой вы сидели на школьной скамье, с которой имели потом красивый роман и с которой пришлось вам расстаться… а что, если снова с ней сойтись… что будет? как жаль, что я не сделал этого опыта: ведь здесь жанры жизни и сказки настолько вплотную подошли к собственным границам, что переход этих границ мог бы быть чреват каким-нибудь неординарным открытием.
Но сил уже для него нет, да и женат я вторично и счастливо, зато если кто-нибудь сумеет довести описанный выше любовный опыт до конца, пусть он обязательно сообщит об этом публично, я буду внимательно следить за публикациями подобного рода, – впрочем, взгляд с балкона на близстоящее дерево ставит и так все точки над i: если здесь прообраз всякого развития, то, вместо того, чтобы сетовать на неудавшуюся «судьбоносную» любовь, достаточно вспомнить себя и ее в школьные времена, вспомнить, какие мы были смешные и как я не давал ей иногда списывать, вспомнить, как она критиковала меня на школьных собраниях, вспомнить, главное, насколько странно и немыслимо само понятие «судьбоносности» по отношению к нам в те далекие времена… но ведь ничего принципиально с тех пор не изменилось.
И тогда придется волей-неволей улыбнуться, и улыбка эта проникнет во взгляд, и даже станет основным его выражением, а дальше она, эта всепроникающая и всепобеждающая улыбка, поднимет ваши брови, сморщит лоб, разведет вниз боковые складки рта, и в заключение обязательно заставит вас покачать головой из стороны в сторону, – и примите ради бога на веру: это и будет законченным физиогномическим выражением полного понимания того великого факта, что развития никакого нет, что все вырастает из семени, что это непреложный космический закон, и что случаю здесь места нет.
II. – Синяя Борода. – Когда пятидесятитрехлетний лаборант-химик из Аугсбурга, седоволосый полненький немец с неуверенным взглядом и неловкими движениями, в ноябре прошлого года убивает топором свою тридцатисемилетнюю филиппинку-жену, распиливает электрической пилой ее тело, прячет куски в общественном контейнере и улетает на пять недель в Таиланд, где предается сексу с местными легкими женщинами, а на суде на полном серьезе отвечает, что мотивом его злодеяния было всего лишь желание облегчить страдания супруги, ибо он собирался, оказывается, покончить жизнь самоубийством и знал наверное, что жена не выдержит подобного вдовьего горя, – итак, читая об этом, я задаюсь невольно вопросом, что сказали бы на его счет великие психологи типа Шекспира и Ницше или Льва Толстого и Достоевского… и почему-то остаюсь в полной уверенности, что ничего они ровным счетом о нем бы не сказали, так как «убивец» этот, столь же патологический, сколь и нормальный, и столь же нормальный, сколь и патологический, идет просто «не по их линии», – и то обстоятельство, что обыкновенная французская народная сказка, где-то даже примитивная по части как раз психологии ее героев, способна именно исчерпывающе (!) выразить иной раз «глубины души человеческой» – причем без каких-либо объяснений и комментариев – да, это обстоятельство действует на меня самым болезненным образом: и не потому даже, что по миру продолжают ходить тихие и неприметные маньяки типа вышеописанного Хорста (так зовут нашего подсудимого героя), а также не потому, что сказки недооцениваются людьми – как раз наоборот – но лишь потому, что только сказки западных народов можно читать с тем живым и неослабевающим интересом, с каким, увы! так трудно и почти невозможно читать русские сказки.
А ведь это, оказывается, очень важно.
III. – Нота протеста. – До тех пор пока миледи де Винтер не будет признана одним из самых выразительных женских образов мировой литературы – ну куда до нее, например, даже леди Макбет по части пресловутой демоничности! – а сам роман «Три мушкетера» не будет введен хотя бы в школьные хрестоматии и по меньшей мере наравне с «Евгением Онегиным» и «Героем нашего времени», – до тех пор так называемую «классическую литературу» не следует принимать слишком всерьез: все это выдумки людей, втайне убежденных, что классика, вопреки девизу известной телевизионной программы, должна быть все-таки если и не скучной – обратите внимание! – то обязательно хотя бы немного скучноватой, а иначе это не классика.
IV. — (Волшебное зеркало). – Несмотря на то, что глаза – один из самых сложных феноменов в мире, обобщенную и голую суть их очень легко продемонстрировать: это делают мультфильмы, которые суть одновременно идеальное зрительное воплощение сказки как таковой, ну а сказка в упрощенном, но зато и первозданном виде воплощают великую философию человеческой роли, – наверное, поэтому даже став взрослыми, мы не в силах оторваться ни от хорошей сказки, ни от ее мастерской интерпретации в мультфильме.
Что же это за философия роли? она предельно проста: смысл нашей жизни состоит исключительно в той роли, которую мы играем в жизни и просто не может быть так, чтобы человек вовсе не играл никакой роли: даже ничего не сделав или сделав все непутево, он сыграл роль бестолочи или лентяя, хотел он того или не хотел, и вот вам уже его сыгранная роль.
Плохая роль? почему же? в литературе часто бывает, что иной нерадивый персонаж куда более симпатичен, нежели подтянутый, деловой и положительный герой, а стоит первому всего лишь посочувствовать от души кошке, которую второй, по всем пунктам его уже обошедший, оттолкнет ногой или просто не заметит, – и вот вам по меньшей мере их полнейшая эстетическая уравновешенность, а вместе с нею и этическая, а вместе с ними обеими и онтологическая: так часто бывает в литературе, но едва ли не чаще в повседневной жизни.
Отсюда и вытекает великая трудность, а то и принципиальная невозможность делить людей на плохих и хороших, феномен роли не позволяет отправить одних в Рай, других в Ад, а третьих в Чистилище, хотя бы и морального порядка, – вот почему мы так стремимся сыграть в жизни роль, причем как можно более значительную: чем значительней наша роль, тем всеобъемлющей замыкает она и трансформирует нашу жизнь и тем мы не то что бы счастливей – об этом речи нет – а как бы удовлетворенней в самом глубоком смысле этого слова, и тем меньше мы ощущаем страданий.
Вообще, уменьшение, а то и полное упразднение страдания по мере исполнения важной жизненной роли – любопытнейший аспект бытия, он вполне очевиден и, подобно мощному рычагу, выворачивает наизнанку всю философию Шопенгауэра, а лучше ее, как мы знаем, человечество ничего не выдумало.
Когда найдена любимая и экзистенциально высокая роль, человек не только забывает страдания, с нею органически связанные, но ни за что на свете не променяет их на любые мелкие радости, лежащие за пределами его сюжета или роли, – поэтому, дополняя и переиначивая Будду и Шопенгауэра, следует заключить, что только то страдание подлинное и пронизывает нас, что называется, до глубины души и глубже, которое вытекает из невозможности сыграть ту роль, которую мы бы хотели сыграть: и наоборот, то явное и для всех очевидное страдание, которое мы принимаем, добровольно или вынужденно, во имя той роли, которая, кажется, возложена на нас самой судьбой – чрезвычайно важный момент! – мы воспринимаем отнюдь не как страдание или, точнее, как страдание, в котором внутренней и духовной радости гораздо больше, чем самого страдания.
Примеры? сколько угодно: мученик, погибший за веру, писатель, истощивший себя непрерывным творчеством, просто любящий человек, пожертвовавший собой ради любимого человека, и так далее и тому подобное, – и если Будда – забегая вперед и уходя назад – абсолютно все в жизни провозгласил страданием, то это только потому, что того требовала совершенно новая, неслыханная и гигантская роль, которую он для себя (и других) нащупал.
И здесь же, кстати, гносеология мечты как таковой: не той пустой и праздной мечты, которая хватается за первый попавшийся недостижимый объект, а той подлинной и тихо спящей в глубине каждого из нас мечты, которая лелеет образ наиболее нам внутренне близкой роли, роли, на исполнение которой, точно гиперболоидные лучи на пролетающее облако, направлены все наши способности и для исполнения которой нам почему-то – так уж устроен мир – всегда чего-то не хватает.
Мужчины обычно мечтают об управлении миром – это власть, или о духовном влиянии на людей – это творческая слава, или о магическом воздействии на женщин – это комплекс Дон Гуана, ну а женщины в глубине души мечтают, конечно, больше всего о принце, то есть о том мужчине, в глазах которого они сами бы почувствовали себя принцессами: это их центральная роль или, выражая ту же мысль в стихах.
В столпах солнечного мрака, словно в шапке-невидимке, вплоть до чаемого брака сероглазая пылинка в заколдованной печали, как принцесса, танцевала, но ее не замечали, а она не забывала, что с любым лучом, как принцем, обвенчаться вмиг могла бы: если б крошечным мизинцем шевельнула только слабо.Когда же маленькая принцесса становится взрослой женщиной, она, памятую о своем сказочном прошлом, обычно влюбляется в того мужчину, который своим восхищением показывает ей, наподобие зеркала, то ее отражение, которое ей самой в себе больше всего нравится: чаще всего даже помимо мужчины, который в зеркале невидим, точно вампир, – но это именно первая, инстинктивная и неопытная влюбленность, а вот когда приходит время настоящей и зрелой любви, время вынашивания плода этой любви, время окончательного выбора спутника жизни, – вот тогда, если былая принцесса усвоила также вторую и самую важную часть сказки, она выбирает себе в мужья мужчину, в чьих глазах, как в зеркале, она без осуждения и без досады, но и без особого восхищения, разве что с теплым понимающим сочувствием просто может часами смотреть на себя без косметики.
V. – (На перекрестке двух сказок). – Когда я подчас наблюдаю смущенный, слегка стыдящийся и все-таки вызывающе-прямой взгляд иных молодых девушек на мужчин, девушек в общем-то неординарных, но с заметным телесным изъяном, замечаю при этом в их взгляде и ту знаменитую тютчевскую «божественную стыдливость» за свое несовершенное тело, вижу и тайную просьбу говорящей через них сверхличной женской души простить их за это несовершенство, подмечаю и искреннее обещание отблагодарить сторицей того мужчину, который не только не заметит их мелкие недостатки, но и увидит в них своеобразное достоинство, – тогда я всякий раз припоминаю сказку о Золушке.
Действительно, невзрачная на первый взгляд девушка-падчерица стала принцессой, почему? в первую очередь, разумеется, по причине благородства характера, то есть в соответствии с внутренним положением вещей она, получается, всегда была принцессой, – но была ли она вполне совершенной женщиной?
Золушка конечно же не имела крупных телесных изъянов, но должна была иметь тот малый и скромный недостаток, который поначалу не позволял обратить на нее мужское внимание, – зато потом, когда становилось воочию ясно, что на этом скрытом недостатке зиждется каким-то образом вся ее необычайная душевная красота, эта классическая сказочная героиня уже неотразимо начинала привлекать к себе принца, и в его лице многих и многих красивых и сильных мужчин, причем привлекать в том числе и сексуально: как же иначе?
Стоит только сравнить ее с девушками, чей взгляд, вбирая в себя сознание собственного телесного совершенства, наполняется от этого горделивым вызовом миру, – да, в таков вызове есть, правда, и своеобразная одухотворенность, и благородная возвышенность, но оба этих прекрасных качества неотделимы, как правило, от надменности, от неутолимого желания сексуальной власти над партнером, от холодного равнодушия ко всем непричастным ее игре, от опасной ревности к соперницам и тому подобное.
Когда же эти черты достигают критической концентрации, возникает образ сказочной Мачехи, – той самой, что воспитывала и тиранила как Золушку, так и Белоснежку: магия власти, сначала сексуальной, а потом и сугубо колдовской, порождает и определяет Мачеху, и корни ее, как мне кажется, в изначальном, глубоком и тайном совершенстве женского тела и несовершенстве человеческой души.
А между тем легкое и почти незаметное телесное несовершенство даже прекрасно, ибо ведь если бы тело было вполне совершенно, вопрос о душевном и высшем в женщине отпал бы за ненадобностью: душа, вполне растворившаяся в теле, как бы теряет свою образную самостоятельность, однако, с другой стороны, телесное несовершенство должно быть непременно легким, иначе вопрос о кармическом наказании выступает во всей своей неопровержимой очевидности, – и тогда мы уже получаем злую и уродливую Ведьму вместо злой, но прекрасной Мачехи.
Так вот, идеальным выражением такого малого несовершенства является едва уловимый стыдливый взгляд, в котором любители метафизических глубин могут увидеть при желании расписку в изначальной греховности человеческого тела, а тем более женского, однако не следует забывать и то, что за подобной стыдливостью таится часто заветное обещание вознаградить стократно эротическим блаженством того мужчину, который великодушно закроет глаза на их крошечный недостаток, – не такова ли и знаменитая стыдливость нашей Золушки?
VI. (Одиссей и Калипсо или морфология параллельной любви). – На чудесном острове (скорее всего Гозо) посреди (тогда еще неназванного Средиземным) моря, в гроте, обвитом виноградными лозами, из которого во все стороны света вытекают четыре источника, живет вечно юная, прекрасная и бессмертная дочь титана Атланта, которому приписываются обучение Геракла естественной философии и астрологии, изобретение небесной сферы со звездами, а также построение первого корабля и плавание на нем, то есть деяния прометеевского порядка (Прометей был Атланту родным братом), явно заявляющие о намерении жить и творить собственными силами и по возможности без богов.
А поскольку такое властители мира не прощают, и еще потому, что родство обязывает – ведь сыновья и дочери как бы рождением обречены так или иначе продолжать дело своих предков – то естественно и неизбежно, что хозяйка острова тоже пребывает в вечном одиночестве, чему весьма способствует лежащая в основе ее характера благородная гордость, которая чисто психологически не позволяет ей ни столоваться с небожителями, ни сблизиться как следует с людьми.
Вместе с тем, учитывая, что отец ее сыграл сравнительно пассивную роль в восстании титанов против олимпийцев, да и сама она правящим богам покорна, ей дано свыше довольно значительное магическое пространство, в которое боги без особой надобности не вмешиваются.
Да, она обладает сильнейшими волшебными чарами, но никак нельзя сказать, что только благодаря им она околдовала Одиссея: последний проводит на ее острове семь лет, днями тоскуя о далекой отчизне, ночи же коротая в объятиях прекрасной богини, – откуда такое раздвоение? следует предположить, что великая волшебница полюбила великого путешественника как женщина может полюбить только один раз в жизни: она родила ему сына Латина, а может и еще двух дочерей, кроме того, иные даже полагают, что после отплытия любимого она с горя покончила с собой, – однако, по справедливости, может ли бессмертная богиня обрести смерть?
Как бы то ни было, Одиссей чувствует ее великую любовь и тоже ее любит, здесь мы имеем замечательное прозрение в мужскую природу: мужчина действительно может любить одновременно двух женщин – причем любовь его искренняя и настоящая – при условии, если последние отделены друг от друга временем и пространством.
Разумеется, любовь к Пенелопе изначально перевешивает, но это только потому, что в чашке весов вместе с женой были и сын Одиссея Телемах, и его остров Итака, и вся его прежняя богатая жизнь, а вот это уже никакая женщина, даже наша прекрасная и благородная героиня, не в состоянии уравновесить: она, нужно повторить, слишком одинока, у нее нет того жизненного пространства, который надобен мужчине, чтобы прожить счастливую осмысленную жизнь, и пусть она готова даже подарить Одиссею юность и бессмертие – плюс собственную любовь и верность само собой – но в их связи все-таки отсутствует история и предыстория, им нечем было бы заняться в совершенном уединении, они оказались бы вне общества, то есть не у дел.
Не так ли точно у Анны Карениной после измены мужу катастрофически уменьшилась площадка жизни, где можно было строить просторное и светлое здание новой семейной гармонии? а ведь Пенелопа – это в перспективе та же Кити Облонская-Левина: итак, гордой и смелой нимфе с острова Огигия и ее гостю не хватает долгого сюжета, то есть развернутости их чувств, по образу и подобию древесных корней, во все стороны, в прошлое и будущее, в жизнь и бытие рядом проживающих людей, в благословение, наконец, богов и так далее, а без большого сюжета какая же большая любовь?
И это несмотря на то, что у возлюбленной Одиссея хороший характер и доброе сердце, более того, во всей многострунной музыке ее поступков нет по сути ни одной фальшивой ноты, и на ее фоне суетливым фарсом кажется едва ли не все, что делают гомеровские боги, в том числе и излюбленная автором Афина, вот это да! как, впрочем, и сам Зевс со всеми его бесчисленными и предосудительными связями не идет ни в какое сравнение с Одиссеем, если бы тот обрел благодаря своей гостеприимице статус божества и сделался тем, чем родовитые дворяне являются по отношению к королю: какая бы это была великолепная как в нравственном, так и во всех других отношениях пара – и на земле и на небесах! но боги, увы! не прощают тем, кто хоть в чем-то выше их.
И потому Одиссею пора плыть дальше, но что за прелестный с художественной точки зрения заключительный штрих: его возлюбленная сама, своими руками помогает строить Одиссею плот, как должно быть в свое время, давным-давно, Пенелопа помогала мужу собственноручно обустраивать родной дворец на Итаке, – и как пожизненная супруга Одиссея была умелой ткачихой, так супруга его семи лет, подчеркивает Гомер, ежедневно появлялась у станка в серебряном прозрачном одеянии: очередной намек на то, что богиня встретила своего смертного друга слишком поздно.
Под занавес «богиня богинь», как уважительно именуют ее автор и главный герой, посылает Одиссееву плоту добрые ветры: какая символическая деталь! не из этих ли волшебных ветров спустя какие-нибудь столетия станут появляться на свет божий – при помощи самого естественного в мире колдовства творчества – многие запоминающиеся и даже центральные для литературы женские образы: такие как дантевская Беатриче или упомянутая толстовская Анна Каренина или булгаковская Маргарита? так что не забудем: их прототип – прямо из первой песни «Одиссеи»!
Но чем же закончилась вся эта история параллельной любви самого главного, пожалуй, и вместе самого нами излюбленного – хотя не обязательно любимого! – гомеровского героя? историю эту можно рассматривать в двух планах: преходящем и не подверженном необратимым временным изменениям.
Что касается первого плана, то как иные дворяне во все времена и во всех странах предпочитали гордую жизнь в уединении унижению в обществе своенравных властителей, так «гражданская жена» Одиссея быть может и по сей день живет на своем невидимом для нас астральном острове, оплакивая того, кого она больше всего на свете любила, и кто давным-давно покинул этот мир, потому что отказался принять от нее дар бессмертия: с точки зрения нынешнего суммарного человеческого знания это, впрочем, вполне возможно, но только при условии, что она не истратила до конца свою хорошую карму, – кто первый, однако, посмеет бросить камень в эту столь же благородную, сколь и правдоподобную гипотезу?
Ну а в другом и вневременном плане они обречены, по-видимому, на вечную встречу и вечное расставание, – и продолжаться это будет до тех пор, пока хоть один – непонятно откуда взявшийся – вдумчивый и ни от мира сего читатель, взяв в руки эту быть может самую великую книгу, не только внимательно и с любовью ее прочитает, но и искренне поверит в то, о чем он прочитал.
VII. (Вечная любовь). – Если вообразить себе двух молодых людей, которые встретились и полюбили друг друга «поистине до гроба» – как Ромео и Джульетта – причем их любовь продержалась всю жизнь, не утеряв ни йоты красоты и эротического натяжения – в отличие опять-таки от Ромео и Джульетты, которых от будущих и неотвратимых семейных склок, как подозревают злые языки, спасла только их ранняя героическая смерть, – так вот, если представить себе такую великую и поистине идеальную любовь, то единственным условием ее осуществления могло бы быть разве лишь то обстоятельство, что эти молодые люди, однажды встретившись, скоро разошлись, прожили параллельную жизнь, никогда больше не виделись, и разве что время от времени, украдкой от мужа, жены или партнера, вспоминали о своей великой несостоявшейся любви.
Причем даже в воображении они толком не могли бы воссоздать ее пунктирный облик, потому что на то нужны, во-первых, сильнейшее стремление реставрации прошлого, во-вторых, серьезное недовольство настоящим, а в-третьих, просто незаурядные духовные способности, тогда как ни первого, ни второго, ни третьего у них не было, – и все-таки что-то тихое-тихое, навсегда заснувшее в их полуслитых душах, и вместе парящее где-то в метафизических облаках наших неосуществленных и потому оставленных на «потом» желаний, сохранилось: и всякий раз, когда к этому «что-то» прикасаешься памятью, оно оживает, и живет странной жизнью, о которой нельзя сказать определенно, свершается ли она внутри или вне и помимо человека.
И сожаление о том, что был упущен единственный и последний шанс, надежда на то, что он все еще может повториться в следующей жизни, и смутное убеждение, что, независимо от этих двух вариантов, все всегда, везде и в любом случае происходит наилучшим образом, сливаются в простую и ясную мысль, о которой можно сказать в стихах.
Точно в шкатулку, в минувшие дни, встречу случайную скрыли они, и – не увиделись впредь никогда, ибо одна им светила звезда: так сквозь невзгоды земного пути им удалось их любовь пронести.Но можно и ничего не говорить, потому что, если бы этим людям каким-нибудь чудесным образом дано было вернуться в прошлое и повторить жизнь с той самой первой заветной встречи, они бы, поверьте мне, сделали все от них зависящее, чтобы все произошло точно так же, как в первый раз, вплоть до мельчайшей детали, – и только некоторое смущение в упрямо-отвлеченном взгляде, некоторое подрагивание губ и некоторое отведение глаз в сторону засвидетельствовали бы, что они оказались в том самом абсолютном жизненном тупике, который мы зовем обыкновенной повседневностью.
А стало быть и поиск выхода из него попросту неуместен.
VIII. (Эта страшная непогрешимость классики). – Если после долгих и настойчивых усилий вам удалось, наконец, приблизить к себе любимую женщину и вы уже строите совместные планы на будущую жизнь, если после кропотливой и многотрудной внутренней работы вы стоите перед решающим броском из мирской жизни в духовную, безразлично, в каком из ее вариантов, если после многолетней и чрезвычайно болезненной конфронтации с тем или иным человеком вы готовы не только примириться с ним, но и пойти гораздо дальше, то есть полюбить его и сделать все возможное, чтобы и он полюбил вас, если после долгих и мучительных сомнений вы вдруг твердо поверили в то, что смерть не в состоянии причинить вам никакого вреда, поскольку лучшее в вас не подчинено законам времени и пространства, а стало быть неподвластно и смерти, и если вообще в вас в той или иной области намечается какой-либо серьезный и радикальный переворот от Низшего к Высшему, – помните: конечно, такой переворот возможен и в него обязательно нужно верить и не покладая сил душевных над ним работать, – но все-таки наиболее вероятно, что с вами произойдет то же самое, что произошло с Анной Карениной во время родов, когда она, сначала поддавшись высокому внушению, решила остаться с мужем, но потом, откатившись к своему характеру, который, согласно Шопенгауэру, неизменяем, вернулась все-таки к любовнику.
И это в общем-то не так уж и плохо: ведь вы тем самым на собственном примере продемонстрировали шокирующую непогрешимость великого классического искусства, а вот поднялись ли бы вы над собой, если бы ваши намерения увенчались успехом, это еще, как говорится, «бабушка надвое сказала», – зато глубочайшее бытийственное – которое выше кровного – родство с самым выдающимся женским образом в мировой литературе, оно, поверьте, кое-чего да стоит.
IX. (Скрытый поединок). – Пушкин, если бы он вздумал писать «Анну Каренину» – почему нет? собирался же он приняться за сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» – окутал бы вину Анны мягко-влюбчивой иронией, ввел бы массу фабульных элементов, оправдывающих ее измену мужу, дал бы в конечном счете понять, что и вины-то никакой не было: в самом деле, как можно ставить в вину женщине того времени замужество не по любви, а также прямо вытекающую из него запоздалую, единственную и вполне искреннюю любовь к мужчине, который не является ее мужем?
Однако Лев Толстой именно осуждает свою Анну, но за что? ведь она – прекрасная, любящая мать с умом, сердцем и тактом, она, далее, чуткая, внимательная и доброжелательная сестра, она плюс к тому изящная обаятельная светская женщина, блистающая даже в высшем обществе за счет искренности и прирожденной естественности, и она как бы между прочим еще и образцовая жена: жена, которая, будучи выдана за пожилого и холодного мужчину и не любя его – можно ли по-женски любить Алексея Александровича Каренина? – но жертвуя ему своей супружеской приязнью и материнством, сохранила бы мужу, судя по всему, пожизненную верность, если бы… ну да, если бы не та судьбоносная встреча с Вронским.
И хотя Анна Каренина втройне правдива – как человек, как женщина и как светская женщина – преизбыток жизненных сил, грации, очарования и не в последнюю очередь эротической энергии – да, нужно назвать вещи своими именами – итак, все эти пушкинские добродетели par excellence поистине «каиновой печатью» ложатся на Анну.
И произносится над нею страшный толстовский суд: «Мне отмщение и аз воздам» – а за что? да только за то, что выше обозначенный счастливый преизбыток, допуская душевную правдивость, все-таки по самой своей внутренней психологической природе не позволяет ей (Анне) оставаться до конца правдивой: неоднократно Толстой подчеркивает, что Анна все же не до такой степени правдива, как, скажем, Кити Щербацкая, тогда как оставаться до конца правдивым есть самая главная по автору человеческая добродетель.
Но ведь это только потому, стоит повторить, что Анна просто больше женщина, чем Кити – за что, кстати, вторая втайне завидует первой – и ей от природы больше дано, из чего вытекает, что сама женственность как природный дар (и как почти все другие дары) быть может с правдивостью как таковой принципиально несовместима: это не значит, что женственность лжива, но это значит, что она пребывает в ином, нежели правдивость, бытийственном измерении, и потому с ней целиком и полностью не совместима.
Казалось бы, тут-то и проявить бы Толстому снисходительность: природа ведь! Пушкин бы и проявил! он этот момент понимал как никто, однако Толстой – нет… и дело здесь не столько в знаменитых нравственно-философских исканиях 70–80-х годов, сколько в закономерностях развития Толстого как художника.
Действительно, стихию жизнелюбия и жизнеприятия, как и лежащую в ее основе концепцию всесторонней манифестации жизни Толстой исчерпал в «Войне и мире», дальше идти в этом направлении было некуда, нужно было искать новые пути – какие?
Не без оснований можно предположить, что одним из таких путей для Толстого после «Войны и мира» стало некоторое остранение и отчуждение от жизни: колоссальные художественные возможности, в них скрытые, писатель продемонстрировал в бесподобной сцене умирания кн. Андрея, – сцена эта по праву стоит особняком в мировой литературе.
Вот примерно такое «освобождение» и такая «странная легкость», сопровождавшие уход из жизни кн. Андрея, но при описании самой жизни закономерно обернувшиеся кристалльно-холодным осуждением всего того, что принадлежит корням жизни, – этот очень сложный и вместе донельзя простой конгломерат художественных тонов и полутонов как раз и лег в основу новонайденной перспективы жизненной драмы Анны Карениной.
Как он же, кстати говоря, был ответственен и за комплексный мировоззренческий кризис позднего Льва Толстого, – потому что художник тащит за собой человека, как лошадь повозку, а не наоборот.
И вот несмотря на то, что толстовский и пушкинский творческие миры лежат в различных плоскостях, образ Анны Карениной – с ее искренностью и прямотой, обаятельной грацией и покоряющей женственностью, вкусом и тактом во всех жизнепроявлениях, – он, этот образ, заключает в себе нечто безусловно пушкинское: как характерно и многозначительно, что реальным прототипом Анны стала дочь Пушкина Татьяна Александровна Гартунг!
Нечто пушкинское: этого довольно, – здесь главная и единственная вина Анны: источник всех ее достоинств, но также и корень всех ее мелких недостатков! с присущей ему неумолимостью Толстой рисует и безжалостное кокетство Анны с Вронским на балу на глазах беззащитной Кити, и убийственную жестокость к мужу, когда страсть ее зашла далеко, и не совсем красивое заигрывание с Левиным, и нескрываемое подчас чувство превосходства над Долли…
Итак, Анна эгоистична, но не в том первобытном и первобытийственном, да еще ориентированном на интересы семьи и детей смысле, в каком эгоистичны – и едва ли не больше ее! – любимые толстовские герои Кити и Левин, Пьер и Наташа, а в том изящном и игривом смысле, который имеет своим источником преизбыток изящной и бесцельной жизненной энергии, и который так прочно идентифицируется в нашем сознании с образом Пушкина.
Образом Анны Карениной Толстой расквитался с Пушкиным и пушкинской стихией, расквитался как художник, и не потому, что лично имел что-то против Пушкина, а потому, что сам творческий путь и непрерывный поиск творческого совершенства на этом пути привели его к смертельной конфронтации с пушкинским началом.
Ясно дав понять, что Анна не только как женщина, но и как личность превосходит всех остальных персонажей романа – Левина главным героем даже не помыслишь – Толстой, однако, положил между собой и Анной, а тем самым между Анной и нами, читателями, такую страшную и непроходимую дистанцию, которая при всем нашем восхищении ею не позволяет нам ее любить и даже вполне ей сочувствовать.
И это, с одной стороны, напоминает великого Кафку, где тоже в основе феноменальной художественности лежит неуловимо тонкий парадокс, а с другой стороны, читая «Анну Каренину», нам как-то трудно отделаться от впечатления, что если и есть Творец, то Он смотрит на нас теми же глазами, что и Толстой на свою Анну, и что Он как будто не может даже смотреть иначе: такова демиургическая безусловность Толстого как художника.
И в заключение: надо ли говорить, что оба художника до конца тащили за собой людей в себе, в том числе и в свой последний путь? так что и Пушкин и Лев Толстой уходили в смерть, уходя в первую очередь от своих жен, а если точнее, они ушли в смерть именно по причинам, так или иначе заключавшихся в их персональных отношениях с женами, – и как в конфигурации толстовского ухода было что-то глубоко каренинское, так в пушкинской гибели явственно сквозит онегинский элемент: как будто могло быть иначе.
VIII. (Великая альтернатива). – Кто не помнит детские игры в гляделки? мальчик и девочка или же парень и девушка смотрят не мигая друг другу в глаза до тех пор, пока кто-то не мигнет, не отведет взгляд или не засмеется: кто первый не выдержит взгляд своего визави, тот и проиграл.
Я не помню случая, чтобы эту игру выиграл представитель мужского пола, но ведь это было давно и в российской провинции: мой подрастающий соотечественник носил в душе завышенные и заведомо невоплотимые идеалы, сам же страдал от них, не готов был за них постоять, сдавал их постепенно и в самой этой подлой сдаче ухитрялся находить тайное сладострастие, – вот оно-то в конце концов и заставляло его со смущением отводить первым глаза от девушки, проигрывая игру в гляделки.
В общем же и целом поединок во взглядах между мужчиной и женщиной – это как бы пантомима всего их будущего отношения:
Вронский всегда пересматривал Анну Каренину, – это значит, что его любовь к ней была вполне внутренне оправдана, тогда как Анна, напротив, не могла выдержать долго его взгляда: и в этом, быть может, сказывалась ее глубочайшая неправота и экзистенциальная вина.
Обычно же и как правило смотрящий на женщину мужчина уже прелюбодействует с ней в сердце своем, тогда как, наоборот, смотрящая на мужчину женщина уже зачинает от него: разница между прелюбодеянием и зачатием принципиальная, – поэтому в нашей российской провинциальной среде девушки и осиливали ребят в гляделки, – хотя, с другой стороны, в нашем национальном консервативном укладе осталось, может быть, еще кое-что евангельское, как и предполагал Достоевский, – на Западе оно давно выветрилось, да и было ли вообще?
Действительно, есть совершенно безошибочный нюанс в женском или мужском взгляде, когда обладатель его, являясь сам по себе вполне порядочным и даже истинно возвышенным человеком, сигнализирует своему визави тем не менее абсолютную и незамедлительную готовность идти с ним в постель: это совершенно нормальная вещь, она присутствует во всех временах и народах, а раз так, то и в литературе этих народов нашла она свое узаконенное место.
Вот только в почему-то русской классической литературе ей отказано во внимании: за пределами ее – скажем, в нынешней эротической российской словесности всех мастей – сколько угодно, но не в классике: в самом деле, никакую настоящую героиню отечественной классики мы не в состоянии представить извивающуюся в сладострастных конвульсиях, хотя в жизни это происходит на каждом шагу, и равным образом не увидим мы в ее взгляде той бесовской готовности к интимности, которая тоже есть самая что ни есть нормальная вещь.
Даже соответствующие сцены с Анной Карениной и Вронским оставлены за строкой, причем так мастерски оставлены, что наше читательское воображение в этом направлении начисто заблокировано, опять-таки в отличие от аналогичных сцен с участием Эммы Бовари и Родольфа: там в общем-то тоже все осталось за строкой, но там представление об умолченном не разрушает природы образов, – у нас же представление о том, что на самом деле было между любовниками, именно разрушает их образную субстанцию, – и здесь коренное отличие между русской и западной классикой.
Почему? в стыдливости ли и романтичности все дело, тесно сопряженных с инфантильностью и закомплексованностью? во всяком случае только у нас возможна та юношеская влюбленность, когда парень и девушка месяцами и даже годами (!) дружат (а точнее, дружили) без физической близости: такое было в недалеком прошлом, я сам был тому свидетелем, а до меня – мои родители, а до них – и так далее и тому подобное.
Да и вообще, разве невозможно себе представить, что влюбленные любили бы друг друга помимо интимного акта – при условии отсутствия механизма оргазма – и спали бы совершенно обнаженные в нежных объятиях? они целовались бы, обнимались бы и даже при желании могли бы совершать половой акт: это необходимо, потому что половые отличия неотделимы от образов мужчины и женщины, – однако зачатие происходило бы только в том случае, когда бы имел место спонтанный и таинственный всплеск взаимной любви, так что не мужское семя, а субтильный прирост энергии мужской любви в конечном счете приводил бы к оплодотворению яйцеклетки, – и тогда как бы должны были любить друг друга супруги, чтобы у них родилось дитя! и как бы невозможно было подделать такую любовь! и какие бы чистые мысли и побуждения должны были царить в их душах, поскольку только они, эти мысли и побуждения, являлись бы носителями субтильных духовных энергий, единственно обусловливающих оплодотворение!
Как прекрасно! и кто скажет, что такой вариант был абсолютно невозможен в космосе? я думаю даже, что если бы восторжествовала в космосе такая альтернатива любви и деторождения, то дьявол никогда не был бы выдуман, но все, увы! произошло иначе и, наверное, не хуже, поскольку не нам судить, однако сама метафизическая возможность описанной любви и зачатия, быть может, дремлющая в человеческой душе на бессознательном уровне, должна ведь к том или ином виде проявляться в жизни? так почему бы ей не проявиться в вышеописанном российском двойном варианте? какая честь для нас и оправдание! и какой славный подкрепляющий нюанс к мессианской роли русского начала в интерпретации нашего незабвенного Федора Михайловича!
Собственно, полное опровержение сей фантастической альтернативы невозможно по определению, так как уровень в данном случае задействован не житейский, а бытийственный, на каковом, кстати, и пребывает наша классическая литература, – и то обстоятельство, что почти каждый юноша, месяцами глядя на предмет своей первой любви, как верующий смотрит на Мадонну, после целомудренного свидания как ни в чем ни бывало ожесточенно мастурбирует, лишний раз только демонстрирует глубочайшую двойственность нашей российской ментальности.
Так что, подводя итоги, допустимо предположить, что и выражается она (ментальность) как в некоторой приподнятости русской души над собственной телесной природой, так и одновременно в ее глубочайшей закомплексованности, тем более что личных воплощений обеих крайностей и в жизни и в истории сколько угодно: но это значит, что однозначного решения нашей загадки не только трудно найти, но его просто нет.
И вся наша беда состоит только в том, что мы не можем придать нашей исконной загадочности того неотразимо обаятельного образа, наподобие, скажем, Леонардовой Джоконды, который бы раз и навсегда «убедил» иностранцев, тогда как подавляющая множественность нашей «тайны» производит со стороны удручающее и даже несколько варварское впечатление.
IX. (Отцы и дети или несвоевременное узрение запретного плода). – Если, во-первых, старик Болконский и папаша Карамазов суть самые яркие образы отцов в русской литературе, если, во-вторых, они абсолютно противоположны, и если, в-третьих, литература есть собирательный автопортрет нации, то отсюда с математической достоверностью следует, что возможен и их синтез, а раз возможен, то уже и есть: его просто нужно найти, и конечно же, он приютился посреди нас, как и всегда, ибо истина испокон веков – посередине, – но зачем же вообще прячется сводный сын двух корифеев русской литературы?
Затем, что он по природе своей – скорее не сын, а франкенштайновский конгломерат, и ходит он по миру инкогнито, во-первых, из уважения к авторитетам, а во-вторых, из оправданного страха ложным жестом погубить гениальный образ, – и как призраки, по мысли Достоевского, открываются только душевнобольным людям, так наш великий инкогнито показывается лишь там, тому и тогда, где, кто и когда могут его по достоинству оценить, а такое встречается чрезвычайно редко.
Последний раз, насколько я помню, явление сего таинственного персонажа имело место в семидесятых годах прошлого века: им оказался некий пятидесятипятилетний фронтовик, проживавший в нашем дворе, прошедший всю войну и награжденный орденами и медалями, в чине капитана, женившийся после войны и имевший к тому времени тринадцатилетнего сына, живший, как засвидетельствовали соседи и знакомые, в счастливом браке, но и не упускавший случая при возможности изменить жене, разумеется, продолжая ее искренне любить.
И вот развязка грянула, как гром среди ясного неба: однажды, когда он прелюбодействовал с любовницей в саду, его сын, неожиданно отправившийся туда кое-что поделать, застал своего отца, что называется, in flagranti, и отец его, в котором он через несколько лет, когда они в классе стали бы проходить «Войну и мир», должен был увидеть старика Болконского (по причине гордого достоинства, фронтового героизма и просто естественного желания найти идеал), предстал перед ним на одну минуту в двойнической личине сладострастного папаши Карамазова.
Сын это увидел воочию, когда отец его поднялся прямо перед ним из кустов смородины, с шумом ломая кусты и целомудренно закрывая любовницу от посторонних глаз: отец был совершенно обнаженный, и его пенис, от которого сын буквально не мог отвести глаз, торчал по отношению к животу под мыслимо малым углом, точь-в-точь как у мраморных сатиров, которые сын так часто видел в Малой Советской Энциклопедии.
Однако это продолжалось недолго, потому что в прищуренных глазах отца застыло то добродушно-насмешливое и вместе на редкость проницательное выражение, которое в соединении с полным отсутствием стыда от собственной наготы, а также каких-либо усилий по удержанию столь чудовищной эрекции напоминало уже не сатира, а самого великого бога Диониса, – и это безусловно божественное в отцовском взгляде лишний раз доказывало, что любой подлинный синтез двух противоположностей заключает в себе больше, чем просто их сумму.
Что старик Болконский? что папаша Карамазов? сам древний бог поглотил их обоих как благодатную свою жертву, продемонстрировав тем самым, что родство между эллинской и славянской цивилизациями пролегает на гораздо большей глубине, нежели сходство религиозного чувства, и сын-подросток, хотя и досадовал на отцовское бесстыдство, хотя и болел душой за обманутую мать, хотя и не мог втайне не позавидовать мужской силе своего отца, – сын в тот памятный день преисполнился к своему отцу новыми и неведомыми, странными и возвышенными чувствами, о которых, как легко догадаться, ни кн. Андрей как сын старика Болконского, ни тем более Иван, Дмитрий и Алеша как сыновья папаши Карамазова, не могли даже подозревать.
Вот что значит правильный синтез и прежде всего в русском его варианте, – он подобен вековому дубу, чьи корни, как и полагается, лежат в великой литературе, а ветви колышатся в повседневной жизни.
X. (Есть ли у любви пределы?) – Когда, сидя на балконе, невзначай наблюдаешь за пейзажем снаружи: с его колеблемыми ветерком деревьями, перелетающими между ними птицами, облаками, плывущими в небе и отдаленными крышами домов, и одновременно замечаешь тот же самый пейзаж, отраженный в балконном окне, когда вглядываешься в это окно и видишь в его глубине очертания комнатных предметов и одновременно продолжаешь видеть те же деревья, птицы, облака и крыши, и оба мира, реальный и отраженный, не сливаясь накладываются попеременно один на другой, в зависимости от того, на котором из них фиксируются наш взгляд и ум, – да, в этот момент, быть может, в первый и в последний раз обращаешь внимание на ту постоянно сопровождающую нас субтильную неудовлетворенность собственным отражением в зеркале, как бы хорошо мы в нем ни смотрелись – оно напоминает нам иные слишком парадные портреты – которая просто понуждает нас время от времени взглянуть на себя как бы случайно и со стороны, скажем, в окне метро или магазина, – чтобы увидеть там, правда, всего лишь мимолетную зарисовку себя самих, пусть так, но то сочувствие к себе и умиление над собой – по причине узрения в зарисовке собственной жалкости и смертности во всей ее космической наготе – быть может, придадут нашей душе невидимые крылья, полностью отсутствующие и даже невозможные на портретах чистого зеркального отражения.
Приподнявшись слегка с помощью этих крыльев над землей – а значит и над самим собой – мы начинаем ясно осознавать, что в тот момент, когда мы смотрим на себя в зеркало, нам кажется, что мы видим себя целиком и полностью, и нет в нас ничего такого, чего не было бы в зеркальном двойнике: иными словами, создается смертельное тождество между тем, что мы видим в себе, и тем, что мы есть на самом деле.
Таким тождеством нельзя жить, им можно только постепенно умирать, потому что та совершенная предсказуемость собственных мыслей, чувств и поступков, которая вытекает из полного знания о себе, и которую мы якобы наблюдаем в собственном зеркальном отражении, несовместима с жизнью, которая есть по сути своей нечто неожиданное и непредсказуемое.
И потому наш зеркальный двойник есть наш ложный образ, а мы сами только потому ему вполне не уподобляемся, что, кроме нашего взгляда на себя в зеркале: безошибочного, беспристрастного, всезнающего и судящего есть, к счастью, и другой взгляд: просто любящего нас человека, и вот этот взгляд, тоже будучи достаточно проницательным и достаточно нелицеприятным, достает из наших потайных глубин то, о чем мы, быть может, втайне догадывались, но в чем бы никогда – просто в силу законов приличия – мы себе не признались.
Этот воистину любящий взгляд приоткрывает в нас иного и бесконечно более глубокого двойника, нежели тот, кого мы наблюдаем к зеркале, – в этом двойнике есть что-то первозданное, неподвластное времени и пространству: такими мы сами себе снимся в наших счастливых снах, и такими – мы в этом втайне убеждены – замыслил нас наш Творец, да все религии практически твердят об одном и том же: чтобы наш образ, на который с любовью смотрят любящие нас люди, сделался постоянным и каждодневным, и мы сами об этом в глубине души прекрасно знаем.
Но ничего не получается, жизнь идет своим чередом, а лучшее в нас, точно заколдованное страшным карликом, освобождается лишь на мгновенья и лишь по счастливому стечению обстоятельств: кто не обращал внимания, что иные отношения, даже между близкими людьми, настолько сложны и противоречивы, что никакой готовый рецепт к ним неприменим, и что даже причиняя родным и близким людям боль и разочарования, причем изо дня в день, ничего не можешь с собой поделать и чувствуешь себя как в кошмарном сне, – и так хочется проснуться, подойти и тихо, без слов обнять обиженного тобой близкого человека, и тогда любовь победит все, – но победит ли?
Ведь нет ничего труднее, чем преодолеть себя и выказать безусловную любовь там, где слепо и страшно орудует наш характер, – а ведь последний неизменяем, как справедливо утверждал Шопенгауэр, – и все-таки каждый из нас чувствует в глубине души, что это не так, точнее, не совсем так, и характер, хотя и в незначительной степени, все же подвержен изменениям изнутри, но одной только любовью, – так ли это?
Итак, в который раз: может ли сказка стать былью? очевидно, может – и тысячу раз уже становилась: например, когда змея сживается с хомячком в одной клетке и предпочитает оставаться голодной, но не проглатывать добычу, мы имеем дело с воплощенной в жизнь сказкой, и пусть подобные случае во всех областях жизни – исключения, но они есть.
Однако исключение не может и не должно становиться правилом, и в этом все дело, тогда как все мировые религии только того и требуют, чтобы исключение сделалось правилом, – и тут вся тонкость: если бы исключение было невозможно, то и говорить было бы не о чем, но оно возможно и действительно, продолжая тем не менее оставаться исключением – здесь-то и залегает величайший и по большому счету неустранимый соблазн религий: мол, раз возможно, то и делай, пусть и в виде исключения.
И тогда в этот великий спор вмешивается искусство: помните «Анну Каренину»? ее муж все простил ей во время родовой горячки и даже согласился воспитывать ребенка от чужого мужчины, сцена любовного всепрощения между Анной, Вронским и Карениным великолепна и издалека пахнет христианским духом, – но что же из этого вышло? то, что и должно было выйти: Анна вернулась к Вронскому, а жизнь в который раз победила религию, и это была, быть может, незаметная, но метафизически решающая схватка между гением Иисуса и гением Льва Толстого, схватка, в которой последний одержал безусловную победу, потому что был ближе и к жизни и к стоящим за нею непреложным законам бытия.
То был Лев Толстой, а Пушкин?
Мы все приблизительно знаем, что такое поэзия: это когда человек немного искусственным, но обязательно возвышенным слогом говорит тоже о немного искусственных, но непременно возвышенных вещах, например, о боге или просветлении, карме или инкарнации, вечной любви или любящей доброте, и не то что бы этих феноменов в мире не существует, нет, они как будто есть, но их облик довольно расплывчат: ведь каждый из нас в иные минуты бывает убежден в бытии божием, но потом как-то незаметно об этом забывает; каждый, далее, чувствует и моменты просветления, однако они сменяются неизбежным затемнением; у каждого, если он искренне задумывается над буддийской тематикой, карма и инкарнация не вызывают сомнений, однако и несомненность их в душе тоже долго не держится; и каждый несомненно испытывает порывы вечной любви или более постоянное и «реальное» чувство любящей доброты к посторонним людям, но и они тоже уступают место иным и зачастую противоположным чувствам.
Итак, все это есть, все это минутами нас навещает, но все это рано или поздно нас снова покидает, – зато это и есть поэзия в чистом виде, как ее выразил в словах и на деле – то есть ни много ни мало как в собственной жизни – «поэт всех поэтов» и наш Пушкин: ведь мы теперь знаем, что почти все, что он воспел в своем творчестве, не имело прочной субстанции в его душе, то есть, проще говоря, он не мог и не хотел «отвечать» за каждое свое поэтическое слово.
Но разве не точно такими же «поэтами в религии» были Будда и Иисус? разве можно заметить в их поведении ту любящую доброту и ту абсолютную божественную любовь, которые они поставили во «главу угла» своих учений? разве имелось хоть какое-то теплое чувство у Будды по отношению к своим монахам, за исключением, пожалуй, его личного адъютанта Ананды? да разве этого кто-то и ждал от него? нет, все жили великой поэзией нового невероятно глубокого и парадоксального учения, и о любящей доброте никто из буддийских монахов не задумывался, ее удельный вес, думается, остался неизменен в течение тысячелетий, и каждый, кто хочет его измерить, может пойти в современный монастырь и произвести – на свой страх и риск – соответствующие измерения.
Не иначе с христианской любовью: можно сотню раз со всех сторон перечитать Евангелия – но любви как живой субстанции там не найти, зато там множество невероятно красивых и вполне убеждающих слов о любви, это и есть поэзия, – злые языки даже утверждают, что если к кому и испытывал Иисус по-настоящему теплое чувство, то это был только ученик Иоанн, аналог Ананды, да разве еще Мария Магдалена, которую многие авторитетные историки видят женой Иисуса.
Так что и сравнение Пушкина с этими двумя величайшими учителями человечества остается в силе, по крайней мере в плане роли, которая, имея сверхчеловеческую природу, естественно склонна засасывать в себя все «человеческое, слишком человеческое», – вот почему основателей мировых религий мы инстинктивно воспринимаем в первую очередь как великих художников, и когда в церкви или ашраме перед нами разыгрывают одно из их творений, мы готовы иной раз прослезиться от восторга, но прозаическая беспристрастность во взгляде истинно верующих, кажущаяся нам почти упреком в наш адрес, ясно показывает, что кто-то из нас – они или мы – роковым образом заблуждается, и что здесь происходит разделение людей по самому существенному, быть может, критерию, куда более существенному, чем пол, возраст или национальность.
И мне кажется, что если бы не было в нашей жизни регулярно заглядывающего в нашу душу взгляда просто любящего нас человека, мы были бы обречены вечно ходить за живой водой любви к колодцу не настоящему, но лишь великолепно нарисованному и мастерски обклеенному обещаниями о сверхчеловеческой любви и сверхчеловеческой любящей доброте, о чем я бы никогда не догадался, глядя на себя в зеркало, но узнал, лишь вполне осознав тихие, незаметные, любящие взгляды на меня второй моей жены в иные и критические для меня ситуации.
XI. (Мартовские иды или неотразимая магия женского взгляда). – Итак, женский взгляд оказывает на мужчину магическое воздействие, потому что пробуждает в нем двойника, который не столько зависит от мужчины, сколько от женщины: через этого самого эротического двойника мужчины женщины зачастую даже управляли миром.
Действительно, когда слабые и капризные существа, известные нам» насквозь и глубже» по их сугубо человеческим ролям матерей, сестер, дочерей и просто нейтральных жителей планеты, перенимают реальную или даже возможную роль эротического партнера, они могут стать чем-то по-волшебному непреодолимым: так невозможно бороться с собственной тенью, и нет тому лучшего подтверждения, чем та мгновенная, неконтролируемая и по большому счету постыдная для нас острая реакция на брошенный из толпы интересной женщиной взгляд на нас в тот момент, когда мы идем рука об руку с женщиной нашей жизни: этот взгляд, точно разбойничий нож, проникает в самое сердце и, в зависимости от того, случайный ли он или в нем просквозила реальная возможность связи – неважно, в этой жизни, прошлой или последующей – он продолжает еще некоторое время бередить сердце и смущать душу.
Нейтрализовать его тонкий яд, конечно, не составляет труда, но для этого надобно усилие воли и определенное самовоспитание, главное же, мы позволяем вечному соблазну входить в нас малыми толиками не потому даже, что в случае благоприятных обстоятельств мы ему уступили бы на самом деле – нет, как раз этого и не было бы – а потому, что мы внутренне убеждены, что этими пронзительно-греховными взглядами смотрит на нас жизнь, и вот, чтобы ее лучше понять, а заодно и себя самих, мы берем на себя малый грех хронического, но также и метафизического беспокойства от взгляда чужой и посторонней женщины.
Итак, что здесь происходит? когда в светлых мартовских сумерках начинают призывно и пронзительно кричать птицы, все уже в сущности кончено, наступила весна, а с нею очередное обновление природы, включая нас самих с нашей так называемой внутренней жизнью: мы опять и всем нутром прилепились к жизни, сопротивление невозможно, приговор этот окончателен и обжалованию не подлежит, да мы и сами в глубине души признаем справедливость приговора, потому что сопротивляться жизни не в силах, – это как магический момент в совокуплении, когда семяизвержение остановить невозможно, и ток сладострастия необратим.
Но неизвестно еще, чем сильнее притягивает нас жизнь: оргазмом или светлыми мартовскими сумерками, в жизни ведь и помимо женщины есть множество тонких нитей, привязывающих нас к жизни покрепче стального троса: сюда в первую очередь природа, сюда ностальгия по прошлому, сюда томление будущего, сюда искусство, сюда тяга к домашним животным, сюда приключения, сюда просто бездумное глядение в окно, сюда всего лишь дыхание, – и вот все это Будда оставил в двадцать девять лет, он ушел из родного дома даже не попрощавшись с женой и новорожденным сыном, потому что знал, как субтилен феномен прощания и как притягивает он тоже к вечному круговороту бытия, но для чего ушел Будда? что он открыл миру?
То, что вслед за оргазмом, весной и музыкой Моцарта к нам приходят измена и самоубийство, раковая опухоль и дом для умалишенных, садистские убийства и растление малолетних? об этом мы догадались бы и без него, – пусть не ко всем они приходят, но ко многим, зато ко всем приходят классические – болезнь, старость и смерть; правда, я знаю по меньшей мере трех человек, которые утверждали, что были на протяжении всей жизни абсолютно счастливы: это пианист Артур Рубинштейн, актер Жан Марэ и мать Гете, судя по всему, они и болезней не знали, и старость их особенно не допекла, к ним пришла только смерть, а если еще и во сне… но они все-таки исключения.
Так что же открыл Будда такого, о чем бы мы без него ни за что не догадались? что страдания от радостей неотделимы? или что жизнь единственный источник тех и других? нет, и об этом, если бы очень постарались, мы как-нибудь додумались бы сами, – но Будда открыл обратное течение жизни: мы знаем одно и привычное – от рождения через созревание к смерти, Будда показал нам противоположный ток бытия – от совершенного самосознания к прекращению всякого рождения и упразднению смерти, – быть может, буддизм в духовном мире и есть прямой аналог той самой антиматерии в физическом космосе, о которой так упорно твердят физики.
Тем самым Будде принадлежит величайшее открытие, сделанное человеком, но каковы его плоды? что может Будда противопоставить нашим «коренным» ценностям: оргазму, любви, влюбленности, семейной гармонии, наслаждению искусством, природой и прочему в том же духе?
А вот что: есть, оказывается, подлинные плоды медитации, их может каждый попробовать, и вкус их столь же реален, как вкус яблока, – одна из основных буддийских медитаций (ее любил практиковать сам Мастер) имеет восемь четко зафиксированных и признанных даже западной психологией ступеней-джан, последняя из которых может по желанию повести к добровольному и окончательному уходу из тела и соответственно достижению посмертной ниббаны.
Но самое интересное то, что уже пребывание на первой ступени характеризуется переполняющим душу восторгом, на второй ступени восторг дополняется превосходящим его по тонкости ощущения блаженством, на третьей ступени чувство блаженства становится постоянным, а с четвертой ступени – всего лишь половина пути, не правда ли? – блаженство уступает место настолько высоким и субтильным душевным состояниям, что мы, простые смертные, даже не можем иметь о них понятие: это состояние, как заверяют буддисты, вообще нельзя описать в словах, зато его можно испытать реально.
Нам это понять трудно: что означает, собственно, полная свобода от оргазма, от весны, от музыки Моцарта? и какое самосознание нужно иметь, чтобы оставаться совершенно незатронутым этой «тройной квинтэссенцией» жизни? буддист все это пережил, мы – нет, нам остается ему только верить… буддист отказывается от прелестей жизни не из принципа, а потому, что он нашел что-то лучшее, что-то такое, что ему дает больше, чем они, и это «больше» – полное освобождение от волшебства жизни, в чем бы оно ни выражалось, – итак, все дело в освобождении, освобождении от всего, в том числе и от Будды в конечном счете, да, буддисты даже на этом настаивают, состояние «чистого освобождения» есть высшая и последняя цель любого буддиста, и я думаю, что элементарная интуиция, которой обладает любой из нас, подскажет нам, что выше этой цели для человека ничего нет и быть не может.
Поэтому когда в светлых мартовских сумерках начинают призывно и пронзительно кричать птицы, буддист услышит в них то же, что слышим в них и мы: ведь он тоже когда-то был таким же человеком, как мы, и он конечно же оценит по достоинству неотразимую красоту и мощь пробуждающейся жизни, но ведь он постиг что-то более высокое, чем жизнь, а речь здесь идет только о выборе между высоким и более высоким, и больше ни о чем, – так что же ему выбирать? этот же самый вопрос стоит и для нас.
И все-таки ранней весне сопротивляться невозможно, что за странное субтильное томление растворено в мартовском воздухе! нельзя долго сидеть дома, трудно сосредоточиться даже на любимых книгах, разговариваешь с людьми – а мысли далеко, спрашиваешь себя – где они? и тут же сам недоумеваешь: о ком ты, собственно, спрашиваешь – о себе или о людях? спокойствия нет нигде, вместо него сплошная метафизическая тоска по неопределенному: такое ощущение, точно все семь чакр, подобно тетиве, натянуты и взаимосвязаны в это время года крепче обычного, так что и женский лик, по слову Пушкина, волнует кровь едва ли не больше в музыкальном смысле, чем в собственно половом, весной трудно находить подходящие слова – скажем, той же женщине, идешь рядом с нею, опустив голову – и молчишь, или говоришь неподходящее, а ночью, после встречи, пишешь стихи, или пытаешься писать, но даже если о стихах нет речи, настроение в душе насквозь поэтическое, смотришь на женщину – но взгляд рассеянный и нет от мира сего.
А все оттого, что женщина, будучи символом весны и жизни, настолько собрала и сфокусировала на себя пробужденные энергии души, что последние, точно волны, достигшие апогейного размаха и резко идущие на убыль, в каком-то странном ясновидческом припадке видят неизбежные последствия оргазменного триумфа жизни: они видят и душевную подавленность, видят и необъяснимую депрессию, видят и предстоящий разрыв, и опустошенность, и сомнамбулическую тоску, и рассеянность, и как их общий эквивалент – субтильное страдание без конца и без края, страдание, от которого невозможно избавиться и, что еще парадоксальней: страдание, от которого даже и не хочется избавляться, – здесь прямая параллель с воздействием наркотиков.
Быть может в первый и в последний раз жизнь в лице метафизики весны священной совершенно в открытую и в полный голос говорит нам то, о чем впервые догадался Будда: что жизнь и абсолютно все, что в жизни, есть страдание – от самого субтильного и психологически неотразимого, каковы опять-таки весна и женщина, до самого грубого и невыносимого, каковы насилия, пытки, разочарования в людях, смертельные болезни и тому подобное, – но вся тонкость тут в том, что на страдании, как на библейском ките, стоят и радости творчества, и упоение женской любовью, и семейная гармония, и чувство дружбы, и этикет чести, и долг патриотизма, то есть по сути все без исключения духовные ценности, которые мы знаем и которыми живем.
Показать, что все радости жизни и весь скрытый, теплый, светлый и мудрый смысл бытия неотделимы от страдания все равно что заявить: дважды два четыре, а с другой стороны, эти рассуждения Будды мне очень напоминают критику Львом Толстым искусства, церковной религии и государственности: и оба этих мощнейших духовных потоков как бы оттеняются и озвучиваются третьим и не менее сильным и оригинальным потоком: кафковским творчеством, парадокс? только на первый взгляд, – все три потока, не сливаясь и дополняя друг друга, гармонически взаимодействуют уже одним тем, что двигаются в одном направлении и против течения.
В самом деле, как мог Будда всерьез говорить о том, что все в жизни – страдание? ведь это же ясно любому ребенку, неужели Будда был таким наивным человеком? как мог Лев Толстой всерьез упрекать современный ему российский государственный аппарат в насилии, когда любому школьнику известно, что всякое государство, всегда и везде, основано на насильственном принципе? выходит, Толстой был наивным человеком? как мог Кафка всерьез описывать преследование своего героя неизвестно каким Законом неизвестно какого Государства по неизвестно какому Обвинению? получается, что Кафка только шутил и только фантазировал?
Нет, из-под его пера вышло нечто-то до такой степени великое и оригинальное, что мы до сих пор не можем как следует осознать, что же он такое натворил, однако сходного результата достиг и Лев Толстой, причем не только «Войной и миром» и «Анной Карениной», но и всеми своими поздними и с житейской точки зрения совершенно абсурдными публицистическими произведениями, а также своей личной жизнью, о том, что и Будда творил в том же ключе, хотя, наверное, на более высоком уровне, говорить излишне, ну а выше их всех, как легко догадаться, творит сама жизнь, используя те же самые творческие принципы, которые лучше всех выразили и воплотили названные выше Мастера.
Итак, тональность ранней весны состоит в полнейшей слитности радости и страдания, их единство настолько тесное, что нет никакой возможности отделить одно от другого: не правда ли, само беспричинное томление в мартовские сумерки у нас как-то язык не поворачивается назвать радостным? ну, в самом деле, какая в нем радость? это именно инстинкт, влекущий животных к совокуплению даже с риском для жизни и даже вопреки инстинкту самосохранения, но как бы на высшем, душевном и, пожалуй, каком-то загадочном духовном уровне.
Бросающийся с головой во влюбленность в это время года инстинктивно чувствует, что добром дело не кончится, он догадывается нутром, что стрела Амура, вошедшая в него, отравлена черным ядом, но яд этот – замедленного действия, и рано или поздно стрелу придется изымать из души еще болезненней, чем из тела, иногда она выходит вместе с жизнью, но как правило целительное разочарование в прежнем безумном очаровании врачует опасную рану до следующей весны или навсегда, – но что значит – навсегда? избавиться от фатальной склонности видеть в женщине больше, чем она есть на самом деле, не значит избавиться от всех прочих жизненных страданий, женщина в данном случае – всего лишь символ, как и сама ранняя весна – символ, они символы жизни как таковой.
И в той степени, в какой мы не в состоянии им сопротивляться и в какой нас захватывает и волнует музыкальная тональность весны, – ровно в той же самой степени мы причастны жизни, а это значит: когда приходит черед какого-либо серьезного огорчения, несчастья или катастрофы – неважно, с нами или нашими близкими, нам по-хорошему, если мы хотим оставаться до конца честными, не следует на них слишком сетовать, а нужно всего лишь вспомнить, что мы сами пригласили их к себе, когда открыли душу и тело странному и неотразимому томлению весны.
Или, выражая ту же мысль в стихах. —
Пение птиц в затихающем сумраке марта — есть что-то в нем, что не снилось, Горацио, нам: годы пройдут – и сравняют нас просто с землею, будет все так, словно в мире и не было нас, — это, мой друг, нам и слышится в криках, а птицам кажется все, что поют они лишь о любви.Вот мимолетный женский взгляд из толпы, не обещая нам не только никакой подлинной любви, но вообще ничего по сути не обещая и все же странно волнуя, красноречивей любых слов как раз и говорит нам и о нашей природе, и о нашей любви, и о несовместимости той и другой, и об их непостижимой гармонии.
XII. (Любовь к сложной женщине). – На ней стоят добрые две трети всей мировой литературы и на вершине сложности, касаясь облаков, конечно же, поздние романы Достоевского, – называть их героев не нужно, они у всех на устах, – что может быть сложней, запутанней и противоречивей их любовных отношений? они оставили далеко позади себя даже Анну Каренину и Вронского.
Но вот пришел Будда – пусть и задолго до них – и сказал, что вся эта любовь – страдание, я не знаю ничего более лаконичного и гениального на эту тему: что выдающаяся любовь к женщине – всегда в той или иной мере страдание, знали, наверное, все люди, не говоря уже о писателях, но тонкость мысли Будды состоит в завуалированном утверждении, что в конечном счете никакого особенно высшего и тем более «божественного» смысла в сложной и красивой любви между мужчиной и женщиной нет и в помине, а вся ее сложность, противоречивость, соблазнительность и вытекающая прямо отсюда некоторая дьявольская красота были всего лишь тонкой и часто бессознательной психологической игрой, призванной всего лишь обострить и усилить сексуальный инстинкт или, выражаясь поприличней, музыкально озвучить эротическую струнку.
В этом нет никаких сомнений, потому что каждый из нас испытал Достоевского и Будду на собственном опыте: в юности, пока силы играют, а мудрость стоит на нуле, мы в той или иной мере идем путем Достоевского, но рано или поздно, оглядываясь назад и вспоминая все те странные и необъяснимые мучения, случившиеся там, где должна была быть только любовь и ничего кроме любви, догадываясь о том, что мы сами доставляли предмету любви и себе самим разнообразнейшие и утонченнейшие – точно набор пыток средневековой инквизиции – мучения неизвестно для чего, точно подливали с двух сторон масла в огонь, – итак, вспоминая и осмысливая весь этот все-таки почему-то очень важный жизненный опыт, мы делаем вывод, что, хотя он и был нам в свое время насущно необходим, все же по большому счету и, главное, подводя последние итоги, ничего в нем, оказывается, кроме красивых и теперь ставших бессмысленными, страданий, не было.
А главное, там и тогда, где и когда эти страдания по тем или иным не зависящим от нас причинам прекращались и восстанавливались тишина и покой, казавшиеся нам в то время скучными и неуместными, наша любовь, окутанная этой тишиной и этим покоем, точно елка снежком, даже по сей день при воспоминании о ней сохраняет для нас свое обаяние и тайную жизненную силу, в то время как страдальческие апогеи любовных отношений, державшихся исключительно на взаимной болезненной игре, отныне ничего, кроме глубочайшего недоумения, а то и еще более глубокого, поистине, экзистенциального отвращения, не вызывают.
Вот так и закончилась эта «история любви»: по сюжету Достоевского и на музыку Будды, – но какой же вывод мы должны из всего этого сделать?
А такой, что только та любовь между мужчиной и женщиной самая предпочтительная, прекрасная и совершенная, где не было никогда особых страстей и страданий и не было сказано по возможности ни единого обидного слова – об оскорблениях, бурных сценах и тем более изменах вообще не говорю, и которая может и даже должна со стороны показаться несколько пресной и скучной, но этого не следует бояться и стесняться, напротив, это и есть «родимое пятно» всякой «божественной любви», тогда как другое и не менее существенное «родимое пятно» ее есть невыносимая для многих длительность, – которую Бальзак считал первым признаком великой любви.
Вот жаль только, что на эту тему нельзя написать гениальный роман, такая любовь могла быть у Кити и Левина, а также у Наташи Ростовой и Пьера, но поэтому обе они и остались за литературными скобками; подобная любовь – я почему-то в этом уверен – была у И.-С. Баха в обоих его браках, это как бы «песня без слов», жанр такой любви больше музыкальный, чем литературный, – да и в музыке тональность подобной любви нужно искать «днем с огнем», вы найдете ее разве лишь у вышеупомянутого великого немца.
Зато наши поиски попутно увенчались успехом: если описанная выше «самая превосходная любовь» созвучна музыке Баха, значит она и в самом деле наилучшая: о доказательстве позаботился сам Иоганн-Себастьян и поверьте мне, так позаботился, что на его фоне все эти эротически-духовные «штучки-дрючки» а la Достоевский покажутся вдруг такими жалкими и ненужными… но когда? для каждого в «свое время», и наверное тогда, когда жизнь вызреет в бытие, не раньше и не позже, а стало быть и Достоевский до поры до времени нужен людям, но в любом случае это произойдет – если вообще произойдет – ближе к финалу.
Вообще, вопрос о том, равноправны ли в жизни – как и в литературе – начало, середина и конец, чертовски важный вопрос и от ответа на него зависит буквально все: ведь чем ближе мы придвигаемся к финалу и отождествляем себя с ним, тем неуклонней Будда в нашем сознании осиливает и вытесняет Достоевского, но если за финалом следует опять начало – как бы его ни понимать – тогда все встает на свои места и Будда обретает в наших глазах роль глубочайшего философа, а точнее, величайшего музыкального интерпретатора финала как такового, хотя финалом, как мы помним, дело здесь не заканчивается и в этом вся соль! и тогда опять – да здравствует Достоевский! а вместе с ним – да здравствует любовь к сложной женщине!
Но если правда, что не хлебом единым сыт человек, а есть он по определению существо духовное, значит и заложены в душе его вечные высшие начала, которые просто не могут принципиально отличаться от идей великого Платона, однако вся беда его (то есть человека), в том, что последние (то есть платоновские идеи) не в силах существовать в так называемом «чистом виде», но всегда в нераздельной слиянности с материальным предметом, из чего с математической закономерностью следует, что человек «намертво» и поистине «роковым» образом привязан к земному миру, к жизни и в частности к женщине, которая очень часто представляется ему идеалом жизни и мира, однако на деле таковым никоим образом не является, вследствие чего мужчина, хотя и лелеет в душе образ «прекрасной Мадонны», все-таки нутром догадывается, что не только та женщина, с которой он теперь идет в постель, с образом Мадонны никак не совместима, но и вообще не встретить ему в жизни женщины, мало-мальски приближенной к высокому идеалу.
Весь парадокс, однако, состоит здесь в том, что именно женщины, стоящие у него на пути, а тем более жена и мать его детей, являются для него единственными посланными ему судьбой воплощениями той самой вечно глубине его души пребывающей Мадонны (всего лишь один из многих архетипов коллективно-бессознательного), а других нет, не было, не будет и не может быть, и мужчина тоже об этом сердцем догадывается, – вот почему во взгляде обыкновенной женщины на обыкновенного мужчину, несмотря на врожденное женское кокетство, сквозит зачастую та испытывающая серьезность (ибо речь здесь идет о выборе генетического фонда для будущих детей), которую мужчина может с полным правом отождествлять с пристальным вниманием к нему самой жизни или даже судьбы, и в спонтанном визуальном ответе мужчины на такой взгляд сказывается весь его характер.
Иные от него уклоняются, иные отвечают сексуальной заинтересованностью, то есть вопросом на вопрос, иные вежливо и беспредметно улыбаются, иные отделываются неуместной иронией, – и лишь очень немногие встречают вопросительный женский взгляд «как богатыря богатырь», то есть готовы признать в вопрошающей женщине искомую Мадонну, сошедшую с небес на землю, а скорее всего никогда в небесах и не бывавшей, что, впрочем, как вытекает из вышесказанного, ровным счетом не играет никакой роли.
XIII. (Против течения). – Если женщина по своей природе «всегда может, но не всегда хочет, тогда как мужчина, наоборот, всегда хочет, но не всегда может», то в этом плане, употребляя тибетскую классификацию живых существ, женщина относится к мужчине примерно так же, как боги, у которых все есть и которые поэтому ничего не жаждут, относятся к низшим духам (асурам или претам), которым явно чего-то существенного не хватает и которые поэтому того, что им не хватает, страстно жаждут.
И как даже при самом поверхностном взгляде на указанное положение вещей мы интуитивно предпочитаем богов всем прочим обитателям сансары, хотя и они, то есть боги, согласно тибетскому буддизму, далеки от совершенства, так женщина в аспекте соотношения желания и возможностей устроена как бы немного предпочтительней мужчины: это касается в первую очередь сердцевины общения между полами, а именно сексуального поведения.
Но бывают все-таки редчайшие случаи, когда в мужчине переворачивается искомое соотношение желаний и возможностей, и исключительная потентность выступает в нем вдруг на пару с отсутствием острой заинтересованности в интимном соитии.
И если такой мужчина входит в связь с достойной женщиной, которая, разумеется, сохранила свою «божественную природу всегда мочь, но не всегда хотеть», и если они прекрасно гармонируют еще и на чисто человеческом уровне, то, поверьте, секс между ними, несмотря на видимое отсутствие того, что мы называем «страстью», – а это значит, совершенно неторопливый и даже замедленный, улыбчивый, разговорчивый, принципиально отрицающий какую бы то ни было «святость эротики» и походящий тем самым на любой другой повседневный акт, – да, такой секс будет в эстетическом плане превосходней всех пресловутых великих страстей, о которых прожужжали нам уши почти все поэты, за исключением, правда, величайшего из них – Гомера.
Потому что не может быть никаких сомнений, что так именно совокуплялся и сам «отец богов» Зевс.
Причудливая игра света и тьмы
I. (Контрапункт сладострастия). – Подобно тому как во время интимного акта черты нашего лица безобразно искажены, тело сводит судорога, точно при эпилептическом припадке, а сами мы не похожи на самих себя: так что если бы в этот момент наши дети застали нас за этим занятием, то ни они, ни мы сами не оправились бы, наверное, вовек от подобного шока, так точно облик умершего, манифестируя торжественный неземной покой и будучи в этом плане полной противоположностью приближающегося к оргазму человека, все-таки в конечном счете производит на окружающих и в особенности на детей удивительно сходное, то есть прежде всего ни с чем не сравнимое шоковое воздействие.
А ведь в душе совокупляющихся нет ничего кроме безграничного и светоносного по своей субстанции ощущения блаженства, и это факт, – как, с другой стороны, в душе умершего тоже нет ничего кроме великих трансформаций скорее всего светоносного характера, и это пусть и не факт, но серьезная гипотеза.
II. (Неразделимые чувства). – Любую радость и любое горе можно разделить с близким человеком, и только интимную радость и ее же оборотную сторону: личное горе, нельзя до конца ни с кем разделить, – то есть получается, что сочувствие и сострадание, а также искреннее сорадование, эта двойственная подоснова любой общечеловеческой этики, перестает действовать там, где свила свое гнездо половая любовь.
В самом деле, любовное счастье слишком напитано сексуальным удовлетворением и даже самые благоволящие люди не могут и по сути не имеют права до конца ему сорадоваться, потому что это предполагает склонность и способность – сознательно или бессознательно – проникать к его (счастью) корням, ну а здесь уже, как легко догадаться, до порнографии один шаг, и точно так же, наоборот, когда речь заходит о болезненном разрыве с партнером, сочувствие со стороны подобному несчастью тоже очень быстро наталкивается на естественные пределы: ну как можно от души сострадать ослаблению тех или иных сексуальных практик, которое (ослабление) в подавляющем большинстве случаев только и ответственно за расхождение супругов или любовников? короче говоря, тайна и обаяние пола всегда зиждется на темном и непроницаемом элементе, но, распространяясь от спинномозгового канала по всем направлениям, тьма пола преображается в свет, или, точнее, в полусвет человеческого начала.
III. (Что труднее всего простить). – То очевидное обстоятельство, что люди труднее всего прощают друг другу супружескую измену, говорит об абсолютной и нерушимой связи полового и человеческого в человеке: казалось бы, измена ударяет только по половому, но нет, она именно гораздо сильнее ранит саму душу мужчины или женщины, – и сколько бы света ни было в отношениях между супругами или любовниками, пучок холодного и страшного мрака, приходящего с изменой, разгоняет его, и часто навсегда, да, это как нож в спину.
И тогда рождается вечный вопрос: а могла ли быть вообще настоящая любовь там, где произошла измена? и если могла, то это означает, что свет и тьма, как в великом романе Михаила Булгакова, не только до значительной степени автономны, но и, пожалуй, полностью – самостоятельны, а если не могла, то, как мы сами отчетливо чувствуем, некоторый досадный оттенок игрушечности мироздания начинает сквозить в нашей космологии.
И тогда, если подумать, один-единственный вариант подлинной любви приходит в голову как самый убедительный и правдоподобный: мужчина или женщина под воздействием исключительных обстоятельств и быть может только раз в жизни уже готовы изменить, но… сама судьба вмешивается и измена почему-то не срабатывает.
Такое как ни странно нередко бывает в жизни, но гораздо часто случается так, что избранные друг для друга мужчина и женщина уже до встречи делают необходимые сексуальные опыты, насыщаясь ими, так что соединившись – как правило в позднем возрасте – они вырывают у себя самих смертельное жало возможной измены, как вырывают больной зуб, – и все-таки томительное ощущение произведенной операции может оставаться в теле на протяжении всей оставшейся жизни, красноречиво напоминая о том, на какой тонкой шелковой нитке мрака держится свет любви.
Не совсем от мира сего
I. (Как же хорошо все-таки быть как все!) – Иногда кажется, что только «правильное» отношение к женщине (или мужчине) – и ничто другое! – делает из мужчины и женщины вполне «человека», всякое же другое и «неправильное» отношение превращает людей неизбежно – пусть внутренне, пусть в той или иной степени, пусть пока недоказуемо – в разного рода фантастических существ, и разве что невозможно «научно» расклассифицировать их по образу и подобию гномов, эльфов, ангелов, демонов, великанов и прочих обитателей смежных с нами миров.
Но тем не менее, основываясь всего лишь на непредвзятой интуиции, чувствуется, что когда Леонардо да Винчи смотрит на женщин как на особенно любопытных представителей флоры и фауны, когда Микеланджело бежит от них как черт от ладана, когда Чайковский в присутствии женщин не знает куда глаза девать, когда даже Лермонтов пробавляется сверхчеловеческой на поверхности и глубоко инфантильной по сути игрой в «падшие ангелы» и «печальные мадонны», когда философ Владимир Соловьев, идя по стопам нашего великого поэта, в своем мистическом романе с А. Н. Шмидт умудряется даже перейти заветную грань трагического и смешного, – итак, везде и всегда, когда мы видим подобное «неправильное» восприятие женщины, мы склонны почти против воли заподозрить его авторов в принадлежности к иным и необязательно человеческим мирам (правда, к каким именно, навсегда останется за строкой), хотя другие гиганты духа, что называется, с традиционной сексуальной ориентацией, типа Льва Толстого, Баха или Моцарта, продолжают оставаться в нашей оценке прежде всего людьми, несмотря на титанические свои достижения.
Сходным образом и на гораздо более приземленном уровне, когда мы наблюдаем, как подрастающие мальчишки, пожилые или ущербные мужчины исподтишка провожают женщину жадными и бессильными похотливыми взглядами, когда мы представляем себе (зная о том заранее), как мужчины и женщины мастурбируют в одиночку или сообща, предаются половым оргиям, занимаются классической порнографией, практикуют половые извращения, не уступающие в интенсивности, разнообразии и сладострастии смертным казням, и даже готовы отдать последние сбережения ради сложнейшей, рискованной и болезненной операции по изменению собственных половых органов, утверждая, что они «родились не в том теле», причем даже после такой операции они могут иметь половое влечение как к мужчинам, так и к женщинам, – да, вот тогда уже первоначальное представление о фантастических существах и вовсе отступает на второй план, заменяясь постепенно ощущением, что рядом с нами реально живут существа гораздо более загадочные и непостижимые, чем всякие там гномы, эльфы, ангелы, демоны и великаны.
И тогда поистине пророческая гипотеза Достоевского о том, что нет ничего более фантастического, чем самая обыденная действительность (но только при условии «неправильного» отношения к противоположному полу, следовало бы добавить), – она, эта гипотеза, кажется уже несомненной реальностью, а поскольку всегда находящиеся с нами и при нас наши же собственные половые отклонения – то есть мы сами в пограничных ситуациях или возможностях! – приводят с математической закономерностью к самым незаметным, но и самым фантастическим метаморфозам, превосходящим по результату любые порождения фантазии, постольку естественно и логично, что последние должны, так сказать, заранее упраздниться за ненадобностью, – так что недаром все эти гномы, эльфы, ангелы, демоны и великаны сызмальства и по сей день существуют исключительно в гипотетической реальности: может быть да, а может быть нет, тогда как «аномальные» в половом смысле люди, сызмальства и по сей день их с успехом заменяя, не только все плотней заполняют жизненное пространство земли, как вода заполняет сосуд, но и все больше определяют тонус жизни на этой замечательной планете.
II. (Гений места). – Когда современные ирландцы наотрез отказываются прокладывать дорогу через холм, чтобы не потревожить проживающих там испокон веков кобольдов, или когда в иных индейских племенах до сих пор оставляют на ночь в пустынном месте бутылку виски для умершего человека, бывшего в миру горьким пьяницей, а теперь, в качестве новоиспеченного духа, не дающего покоя местным жителям, пока ему не предоставят возможность хотя бы понюхать любимый напиток, или когда в нынешнем Тибете при освящении очередного буддийского монастыря в какого-нибудь празднующего мирянина вселяется местный и древний демон, так что этот прежде вполне нормальный человек вдруг ложится на острый меч, стоит без обуви на раскаленных углях или ходит по стенам, как по земле, или когда, наконец, великий Одиссей проводит на острове волшебницы Калипсо семь лет, показавшиеся ему по времени семью днями, – то эти и еще многие и многие другие, им подобные, фантастические происшествия следует воспринимать как самые обыкновенные житейские истории.
Но обыкновенные только для данного и достаточно необыкновенного места.
А косвенным доказательством подобной столь же правдивой, сколь и отчаянной гипотезы – о прямых доказательствах здесь речи по понятным причинам быть не может – является универсальный опыт подавляющего большинства мужчин, имевших в продолжение жизни любовные связи с женщинами, жившими в разных городах, – и вот тогда, если спустя долгие годы, уже будучи женатым и даже счастливо женатым, такой мужчина оказывается по воле обстоятельств в месте, где жила и по сей день проживает женщина, с которой у него был запоминающийся роман, он начинает невольно думать о ней, он вспоминает то, что было между ними, он хочет просто увидеть ее или по крайней мере узнать, как она и что она… нет, он скорее всего не отважится постучать в двери ее дома, а быть может даже не посмеет набрать ее номер: все-таки далекий призрак собственной супруги, а также еще более отдаленный образ ее супруга или партнера – ведь не может быть так, чтобы она до сих пор была одна – удерживают его… но не дай бог, если они случайно повстречаются на улице! и не дай бог, если прежние чувства не умерли! тогда адюльтер, о котором оба бывших любовника и думать забыли, начинает вдруг материализоваться в них и между ними как самый настоящий дух или гений места.
И тогда уже не их только ноги понесут их точно в трансе в какой-нибудь дешевый отель поблизости, и не их одних голоса будут взволнованно и подавленно одновременно произносить какие-то бессмысленные фразы, не их только руки станут нервно срывать с тела рубашки и брюки, платья и нижнее белье, не их одних лица в положенный момент сведет известная блаженно-отвратительная судорога, – и уж конечно не их только совесть будет расхлебывать после расставания эту неожиданную, явившуюся как гром среди ясного неба, маленькую непоправимую двойную измену.
Потому что, друзья, есть все-таки они, эти непонятные современным людям духи места! и занимаются они, судя по всему, точно такими же до умопомрачения пустяковыми вещами, как и мы, люди! что делает их для нас еще более непонятными.
Иные из них, между прочим, специализируются на провокаторском возгорании любовного желания между мужчиной и женщиной, когда-то бывшими в интимной связи, но так и не связавшими воедино свои жизни: это происходит, когда бывшие любовники оказываются в (пространственной) сфере их влияния.
Любовь или любящая доброта?
I. — Как одно искусство помогает иногда понять другое искусство. – Каждый помнит заключительный хорал из знаменитой бетховенской Девятой симфонии, не знаю, как у вас, любезный читатель, но у меня это место, да и вся бетховенская вещица вызывают довольно смешанные чувства, перво-наперво: здесь нет той последней гениальности Баха или Моцарта, которая сама по себе и независимо от чего-либо не вызывает ни малейших сомнений, но нет здесь и той поверхностной приятности и обаяния, которые свойственны подавляющему большинству музыкальных классиков и вследствие которых роковой вопрос: а обязательно ли нужно слушать эту музыку? остается раз и навсегда открытым.
Девятая симфония действительно чрезвычайно серьезна и никого не оставляет равнодушным, но что-то там не то, и это трудноуловимое «что-то» я вполне осознал, лишь внимательно и в третий раз (!) просмотрев гениальный фильм «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, – и вот после того злополучного третьего просмотра я физически не могу слушать Девятую симфонию вполне самостоятельно и помимо восприятия ее главным героем фильма Алексом, то есть я стал слушать ее отчасти как бы ушами Алекса, – помните, когда он решил проучить возроптавших против него компаньонов и угрюмый Людвиг ван со стены подсказал ему гениальное решение: во время прогулки Алекс жестоко избил их палкой, а главного зачинщика, сбросив в воду, даже полоснул ножом по руке.
И прежде еще, когда какая-то кукольная женщина пела в Молочном баре тот пресловутый хорал из финала Девятой, а один из его приятелей посмел прервать ее, Алекс ударил его палкой пониже пояса, – нет, какое все-таки благоговейное отношение питал этот брутальный Алекс к Бетховену! и как оно удивительно подходит не только Алексу, но и самому Бетховену!
Как известно, тема бетховенского хора – всечеловеческое братство, но здесь-то и «собака зарыта», казалось бы, что плохого в том, что люди стремятся к единству на основе однозначно положительных эмоций, мыслей или поступков? на первый взгляд все вроде бы в порядке, толстовская тема, помните? – «Все мысли, имеющие великие последствия, просты, и моя мысль тоже проста: если люди злые объединяются для того, чтобы делать зло, то почему бы людям добрым не объединиться, чтобы делать добро? ведь как просто», – добавляет Лев Толстой, точно не чувствуя глубокой иронии своего высказывания, а она здесь есть.
И более того, при внимательном рассмотрении становится очевидно, что здесь сокрыта провокация поистине космического масштаба, потому что, как показывает исторический, общественный и частный опыт, как только люди объединяются между собой, входят в тесный контакт и строят далеко идущие планы, начинаются большие проблемы: между ними возникают болезненные недоразумения, недоразумения перерастают в разногласия, разногласия во взаимную неприязнь и отчуждение, неприязнь и отчуждение в открытую и непримиримую ненависть, ну а от такой ненависти до войны и тотального уничтожения поистине один шаг, – и так было, есть и будет.
Потому что всякий раз, когда нарушается дистанция, этот единственный залог здорового отношения между людьми, жди беды, и беды громадной и непоправимой: ничто ведь так не нарушает предвечный закон дистанции, как принудительная любовь.
Иисус провозгласил любовь к Богу и к людям условием вхождения в царство Божие – и из этого вышли религиозные войны, инквизиция, охота за ведьмами и травля инакомыслящих, Великая Французская революция провозгласила принудительное равенство и братство – и тысячи голов полетели в корзину.
Что говорить? зачастую и супружеское сожительство – всего лишь по той причине, что супруги как будто бы должны любить друг друга – становится адом, а самое серьезное испытание для многолетней близости между мужчиной женщиной, это когда они должны проводить ночь и день вместе, то есть в отпуске, – статистика утверждает, что большинство разводов происходят именно после «счастливых» летних отпусков.
Вот почему Будда никогда не говорил о любви, но всегда о любящей доброте, здесь разница в оттенке, но в этом оттенке весь смысл: из любви вышло бесконечно много зла, преступлений, разочарований и недоразумений, тогда как из любящей доброты вышло одно только «прекрасное, доброе, вечное» и ровным счетом никакого зла, – это потому, что любящая доброта изначально предполагает целительную дистанцию, а дальше этого никакое отношение человека к человеку идти не может, здесь предел в самом хорошем смысле, как предельна скорость света.
Тогда как любовь, когда она самовольно и безответственно покидает райские пределы любящей доброты, вступая в рискованные политические союзы со страстью, ревностью, верой, предрассудками, честолюбивыми стремлениями так или иначе переделать мир или человека и прочими эгоистическими побуждениями, – она, то есть любовь, сама быть может того не желая проторяет стезю, о которой сказано: «Добрыми намерениями вымощен путь в ад».
Что же касается «Заводного апельсина», то бетховенская музыка в нем впервые звучит с тем зловещим сарказмом, который самодовольно признается в провокационном характере тенденциозно заложенного в ней гуманистического пафоса, ничуть этого не стесняется и еще плюс к тому дерзко надеется, что подвоха никто не заметит.
Слава богу, Стэнли Кубрик заметил, и объяснил нам, как слушать и понимать Девятую симфонию Бетховена, а вместе с нею лишний раз прояснил идею общечеловеческой любви и братства.
II. – Последнее испытание. – Есть великое множество образов любви: любовь страстная и обжигающая, любовь нежная и чуткая, любовь подтрунивающая и ироническая, любовь сострадающая и сочувствующая, любовь дружеская и тихая, любовь в безусловной и обоюдной опоре на веру или идеалы, любовь материнская, сестринская, дочерняя, любовь суровая и мужская, и так далее и тому подобное, так что сколько ни перечисляй, всегда будет только «в двух словах»: вопрос состоит в том, есть ли у любви общий знаменатель и если есть, то в чем он состоит?
Когда человек вдруг оказывается наедине с коброй, которая, будучи сама неожиданно потревожена, поднимается вдруг из куста перед ним в двух метрах, расправляет кольца и откидывает капюшон, приготовляясь к смертельному броску, – да, вот тогда, как показывает опыт людей, сумевших чудом успокоить змею и предотвратить неизбежное нападение, редчайший, драгоценный, феноменальный опыт, опыт, удающийся, как правило, только йогам или просветленным буддистам, – нужно продемонстрировать неординарный опыт любви.
В чем же он может заключаться?
В критический момент прямой конфронтации со змеей нельзя, оказывается, отводить глаза и нельзя их закрывать, нельзя нападать на змею и нельзя пытаться убежать от нее, нельзя совершать неконтролируемые движения и нельзя замереть в шоке испуга, нельзя деспотически диктовать кобре свою волю и нельзя проявлять полное безволие, нельзя просить ее о пощаде и нельзя предоставлять ей свободу окончательного решения о нападении или отступлении.
Но что же тогда можно?
Можно и нужно внимательно и без страха, с предельно возможной концентрацией воли и соблюдая полное спокойствие, глядя в глаза змее и уже одним этим нейтрализуя вероятный приступ параноической злобы, постараться терпеливо внушить ей, что, во-первых, опасность ей со стороны человека не угрожает, и что, во-вторых, она может, следуя своей природе, все-таки напасть на него, однако, в-третьих, это повредит ее карме и будет лучше для нее самой проявить смирение, потому что, в-четвертых, она имеет дело с живым существом, бесконечно ее превосходящим в духовном отношении, а выйти совсем за пределы космических законов, управляемых высшими, то есть духовными принципами, даже она не может, и это в-пятых, ну и кроме того, в-шестых, она сама должна это интуитивно чувствовать, потому что опять-таки перед ней находится субъект, который в состоянии сделать так, чтобы она это почувствовала.
Однако самое главное – и это в-седьмых – все вышеназванные нестандартные качества должен скреплять некий последний и решающий элемент, без которого они (качества) не возымели бы никакого воздействия, зато с которым весь этот странный на первый взгляд и причудливый конгломерат приобретает поистине свойства волшебного эликсира, способного совершить невозможное, чем и является по сути укрощение кобры.
И элемент этот есть… конечно же, не любовь – кстати говоря, феномен, посеявший в мире разного рода недоразумения, объемом своим по меньшей мере не уступающие размерам земного шара – а любящая доброта: да, только она одна, как показывает опыт немногих просветленных людей, вышедших победителями из смертельного поединка с коброй, является единственным и безусловным залогом труднейшей победы.
И вот, приняв это к сведению, начинаешь невольно пробовать подставить любящую доброту в качестве того общего знаменателя, который объединяет любовь страстную и обжигающую, но также любовь нежную и чуткую, любовь подтрунивающую и ироническую, но вместе любовь сострадающую и сочувствующую, любовь дружескую и тихую, но в той же мере любовь в безусловной и обоюдной опоре на веру или идеалы, затем любовь материнскую, сестринскую, дочернюю, любовь суровую и мужскую, и наконец вообще любовь как таковую.
И что же? сложнейшее и запутаннейшее уравнение находит вдруг абсолютно простое и удовлетворительное решение: итак, как в основе физических элементов лежат молекулы, которые сами состоят из атомов, так духовные качества могут слагаться на основе многих образов любви, но основу самой любви составляет именно любящая доброта.
И это каждый может проверить на своем собственном жизненном опыте.
III. – Мать и мачеха. – Обращали ли вы когда-нибудь внимание на глаза кошки или собаки, выкармливающей чужого детеныша? видели вы это легкое смущение в их взглядах, вытекающее из осознания случившейся с ними некоторой космической аномалии? замечали ли трогательную готовность нести свое бремя до конца и не ощущать его как бремя? а главное, чувствовали ли вы немой диалог между человеком и животным, в котором животное как будто знало, что совершает что-то неподъемное для человека, но для него это легко и этой легкостью оно как бы ставит человека в неловкое положение, которого само стыдится? словом, вся эта гамма скромнейших и благороднейших чувств, сквозящая во взглядах собаки или кошки, выкармливающих чужого детеныша, настраивает на своеобразный лад и наводит на любопытные размышления.
Итак, из всех добродетелей мы превыше всего ставим любовь, но сколько же у нее разновидностей! есть чувственная любовь между мужчиной и женщиной, однако никто и не подумает назвать ее самой превосходной, есть любовь к искусству, к природе, к своей профессии, но и они нас чем-то не устраивают; перечислив все возможные формы любви, мы наталкиваемся на любовь материнскую и на ней уже останавливаемся как на non plus ultra, – вспоминается в этой связи библейский спор между двумя женщинами, столь остроумно разрешенный мудрым Соломоном, вспоминается идеал Мадонны, вспоминается собственная мать с ее дотошной заботой.
А как прекрасно опять-таки материнство у животных! там бывает, что кошка-мать вскармливает щенка, или собачья мать – ну как ее можно назвать сукой? – воспитывает тигренка, да ведь это еще выше и прекрасней, чем выкармливать собственное потомство! выше и прекрасней, потому что – бескорыстней! да, вот оно, то самое: верхняя планка любви найдена – это заповедь Будды, гласящая, что всех живых существ надобно любить так, как мать любит свое дитя.
Звучит как пушкинский стих – блистательно и правдоподобно, но как Пушкин-человек мало что имел общего с Пушкиным-поэтом, так и в поведении Будды нигде мы не увидим матерински-любовного отношения к людям: он на равных с царями и первосвященниками, у него взаимное уважение с купцами, воинами, крестьянами, вообще со всеми мирянами, приходившими к нему за советом, но от своих монахов он ожидал только беспрекословного повиновения, и горе было тому монаху, который смел ему противоречить: был, правда, один такой, он всего лишь мысленно возразил учителю, – так Будда публично обозвал его дурнем и так отчитал, что мало никому не показалось.
Такова была поведенческая доминанта Будды и был, кажется, в его окружении один-единственный человек, к которому он действительно испытывал что-то похожее на матерински-нежные чувства – это, конечно, Ананда, его личный адъютант: прочитайте все проповеди Будды, отберите на ваш вкус из необозримого материала о Будде, на две трети легендарного характера, то, что могло бы быть на самом деле, и вам просто не смогут не броситься в глаза два его основных качества, первое – неизмеримо глубокая, но довольно прохладная мудрость, и второе – неизменно дельный совет.
Помните Атоса из «Трех мушкетеров»? – «Обычно люди обращаются за советом, – говорил мудрый Атос, – только для того, чтобы не следовать ему, а если кто-нибудь и последует, то лишь для того, чтобы было потом кого за него упрекнуть», – до нас не дошло подтверждение правоты Атоса в отношении Будды, если что-то и было в этом духе, то какой же буддийский апологет их запишет? советы Будды были неотразимы: например, одной женщине, умолявшей Будду излечить ее смертельно больного мужа, он пообещал сделать это, если она, обойдя свою деревню, найдет дом, в котором еще никто не умер, женщина обошла все дома, но не нашла такого, в который бы до нее не заходила смерть, – мудрость Будды ее настолько потрясла, что она, кажется, приняла монашество.
Правда, легенда описывает нам Будду в одной из его предшествующих жизней: где он пожертвовал себя умирающей тигрице, чтобы та прокормила и спасла от голодной смерти своих детенышей, но это опять напоминает гениальные конфронтации Одиссея с фантастическими существами, – эпос сам по себе бесподобно художественный, но без циклопов, волшебниц и богов немыслимый, мы в последних уже не верим, однако гомеровским искусством наслаждаемся, как это возможно? только так, что мы не верим в них в нашей жизни, но по меньшей мере допускаем их в том уникальном и неповторимом жизненно-игровом пространстве, которое запечатлел Гомер: да, там все это могло быть, но только там, и стоит выйти читателю за пределы магического текста, как вопросы о том, существуют ли на самом деле Полифем, Цирцея или Посейдон, тотчас обессмысливаются.
Не иначе с Буддой: легенды о нем, подчас сказочные и фантастические, все-таки не исключают того, что это могло бы быть на самом деле, однако так ли это, мы никогда не узнаем: упиваться красивыми легендами, впрочем, не царский путь, – гораздо полезней проследить, как легенда и действительность, стройно, параллельно и нисколько себе не изменяя уходят, подобно облакам, за горизонт, – и тут сравнение буддизма с пушкинской поэзией не лишено некоторого смысла: художественное совершенство и ощущение полнейшего правдоподобия в том и другом случаях просто поразительны, но еще поразительней та бездна, что разделяет стихи и проповеди с одной стороны, от биографической канвы обоих гениев с другой.
Что же касается буддийской максимы любящей доброты или материнской любви ко всем существам, то она, действительно, прямо вытекает из сердцевины учения Будды: ведь когда человек умирает, то его последующая инкарнация относится к предыдущей, как ребенок к матери, но себя мы в новом перерождении не узнаем, как не узнали ни разу мы себя в наших прежних инкарнациях, – вот и получается, что мать всегда как бы воспитывает чужого ребенка, и повседневная жизнь на каждом шагу подчеркивает этот момент: кто не обращал внимание, что чужие люди в каких-то очень важных для нас моментах нам гораздо ближе, чем самые близкие наши родственники?
Вместе с тем среди людей довольно редки очень хорошие взаимоотношения между отчимами и мачехами с одной стороны и пасынками и падчерицами с другой, напротив, уже в неприятных на ухо оттенках самих этих слов, обозначающих роли кровного полуродства, сквозит прозрачный намек на то, что людям почему-то с трудом дается этот простейший урок нравственности, с такой легкостью усваиваемый животными.
Правда, в таком случае ставится под сомнение и центральное положение в учении Будды о безусловно низшем положении животных в космической иерархии: и вот всякий раз, глядя в глаза собаке или кошке, я вспоминаю об этом противоречии и не могу его для себя до конца разрешить.
IV. — Неотразимая притягательность преходящности. – Любить человека, даже самого близкого – такого как жена или ближайший родственник по крови – все-таки можно только за что-то и наоборот, никакого человека нельзя любить просто так, ни за что, а ведь именно пресловутая полная бескорыстность любви есть то единственное качество, из-за которого любовь резко выделяется на фоне всех прочих душевных проявлений человека, и даже провозглашается ее (любви) неземная, а точнее, божественная природа.
Женщину, например, любят за красивые глаза, за волнующие изгибы тела, за приятный голос, за добрый нрав, за красивое материнство, за врожденную гармонию в отправлении повседневного цикла жизни, но главное, конечно, за то, что она сама любит и уважает того, кто ее любит и делит с нею постель и кров.
И если телесные причины любви стачиваются временем медленно, но неуклонно, и – что очень важно – совсем необязательно приводят к исчезновению любви, то душевные компоненты любовной связи между мужчиной и женщиной – и это самое главное – до такой степени подчиняются неумолимому космическому законы причины и следствия, что достаточно зачастую какой-нибудь незначительной на первый взгляд мелочи (а такой мелочью обычно становится простое ослабление любви или уважения с чьей-либо стороны), чтобы здание семейного или партнерского согласия мгновенно и страшно рухнуло, точно после внезапного землетрясения.
Все это очевидно, как дважды два четыре, – недаром половая любовь признается самой красивой, но и самой уязвимой и преходящей, – однако (и об этом почему-то не принято не только говорить, но даже и думать), не менее очевидно и то, что отношения между ближайшими родственниками: такими как отец и сын или мать или дочь, ничем принципиально от связи между мужчиной и женщиной не отличаются, то есть не отличаются в одном-единственном и главном аспекте любви.
Разумеется, любовь между мужчиной и женщиной в подавляющем большинстве случаев приходит и уходит, тогда как связь между родственниками упраздняется одной только смертью, но это именно связь, а не любовь – опять-таки дьявольская разница, выражаясь вместе с Пушкиным! – и в качестве эксперимента, к сожалению, отнюдь не теоретического: пусть попробует сын совсем не уважать отца или дочь ни на йоту не любить мать, – способна ли сохраниться тогда в душе отца или матери любовь?
Ни в коем случае! да, чувство отцовского или материнского долга останется, некоторое пожизненное и дружелюбное участие в жизни сына или дочери тоже останется, и забота останется, и сочувствие останется, и боль за них тоже навсегда останется, – кто же с этим спорит? но единственное и самое драгоценное, что цвело и благоухало между этими, казалось бы, самыми близкими на земле людьми, – оно завянет, как цветок, который слишком долго не получал воды.
И этот цветок есть любовь.
Но как же тогда быть с великой духовной сестрой любви: любящей добротой, этой фундаментальной буддийской добродетелью, которая одна, согласно Будде, непреходяща и не зависит от причины, потому что непреходяща и беспричинна сама природа человека?
Действительно, хотя бы раз проникнувшись «до мозга костей» сознанием обреченности любого человека страданиям – как часто невыносимым! – и смерти – как часто несвоевременной и страшной! – невольно начинаешь сочувствовать ему: даже совершенно чужому и может быть несимпатичному человеку.
А вот от этого универсального сочувствия до любящей доброты, по Будде, поистине один шаг, и мы его в состоянии сделать, но не делаем, потому что нам не нужно ничего вечного, и даже исчезновение любви – на смену которой ведь всегда приходит что-нибудь другое! – для нас не так страшно, как вечная любящая доброта.
V. — Гранатовое яблоко от Змея. – Только поставив вместо христианской любви буддийскую любящую доброту как идеал межчеловеческого общения и даже как мерило отношения ко всем прочим существам: как живым, так и неодушевленным, решается вполне удовлетворительным образом пресловутое уравнение загадки жизни, и дело тут прежде всего в том, что у любви есть множество антиномических и чудовищных двойников, без которых она не может существовать, тогда как любящая доброта своей метафизической противоположности не имеет, неопровержимым доказательством чего являются, с одной стороны, религиозные войны, инквизиция, преследования ведьм, иные римские папы, а также поголовная нравственная нечистоплотность христианских монахов, а с другой стороны, поразительное дружелюбие, душевная чистота и физическая невозможность какого бы то ни было насилия, наблюдаемые во всех буддийских регионах на протяжении столетий.
И если взглянуть на феномен любви в самом распространенном и общеизвестном его варианте: любви между мужчиной и женщиной, то здесь мы видим абсолютно то же самое, – интенсивность любви измеряется обычно накалом эротического влечения, но чем сильнее страсть, тем чаще она заканчивается убийством, самоубийством, насилием, тяжелой душевной травмой или в лучшем случае разочарованием и опустошением (всего лишь статистика).
И более того, у так называемой «испепеляющей страсти» просто нет иного выхода, как закончиться вышеназванным образом (такова ее внутренняя природа), тогда как, наоборот, исключительно некоторое ослабление страсти и, что весьма немаловажно, некоторое дружелюбно-приятельское, но ни в коем случае не раболепное отношение к Его Величеству Оргазму как высшему покровителю любой страсти, способствуют сохранению и укреплению любви между мужчиной и женщиной, – так что даже здесь становится очевидным некоторое благородное и благоприятное для супругов-любовников перерождение любви в любящую доброту.
Поэтому и строить семейный дом на великой страсти, а не на обыкновенном слитном половом и душевном влечении – что уже очень и очень много! – все равно что стоить дом на песке: он разрушится скоро и страшно, зато научиться видеть и ценить в женщине, с которой делишь ложе, не только ее роль жены или любовницы, но и прочие ее не менее важные бытийственные роли, такие как дочери, сестры, матери или просто гражданки и человека, означает не только укрепить и облагородить союз с этой женщиной, но и приблизиться на практике к уяснению космического положения дел, потому как еще раз: человека нельзя любить всегда и при любых обстоятельствах, но к нему можно всегда и при любых обстоятельствах испытывать чувство любящей доброты, и вот на него уже, как одежды на тело, нанизываются все прочие любовные отношения – эротическое, родственное, дружеское, восхищенно-ценностное и другие, – не таков ли именно предвечный Замысел о человеке?
И все-таки когда я думаю о том, что, с одной стороны, апогей красоты в отношениях между мужчиной и женщиной достигается в страсти, но в то же время страсть рано или поздно заканчивается в лучшем случае опустошением, разочарованием и ноющей раной, а в худшем случае убийством, самоубийством или иным тяжким и непоправимым преступлением, тогда как любовь без страсти и чище, и легче, и долговечней, а кроме того, ревность, подобно ядовитой змее, не свивает в ее сердцевине своего отвратительного гнезда, а если и свивает, то сама она, змея ревности, становится беззлобной и безобидной и даже где-то обаятельной змейкой – подобную метаморфозу наблюдаем мы воочию на примере обеих любовных пар из главного романа о любви («Анна Каренина») – когда я, далее, вижу, что чем страстней любовь между мужчиной и женщиной, тем больше они замыкаются друг на друге, и не только любовь к другим людям делается практически невозможной, но и сам окружающий мир для околдованных страстной любовью перестает существовать, тогда как, согласно природе вещей, должно быть как раз наоборот, и когда я, наконец, вижу, что малейшая мелочь, подобно Кащеевой игле, может мгновенно развалить грандиозное и причудливое, но выстроенное на песке здание великой страстной любви, тогда как скромная и светлая любовь, зиждущаяся на семье, чувстве долга и общих интересах, довольствуется, как правило, привычной и более-менее однообразной сексуальной жизнью, видя в ее удовольствиях ту математически постоянную величину, которая никогда не исчезнет, которая дана самой природой (а то и свыше), зато попытка увеличения которой путем измены чревата – это чувствует в сердце каждый – в худшем случае падением и катастрофой, а в лучшем случае пожизненными угрызениями совести, – итак, когда я вижу все это и готов уже признать в любовной страсти гранатовое яблоко, предложенное райским Змием Еве, – да, в этот самый момент и с той же самой неизбежностью является в душе сознание, что иначе не могло быть, что сама космическая конфигурация мужчины и женщины подразумевает страсть между ними, что эта страсть, в зависимости от характера ее носителей, может быть и великой, и ужасной, и долгой, и кратковременной, и притягивающей, и отталкивающей.
И хотя конец у нее всегда один и тот же и больше темный, чем светлый, больше тяжелый, чем легкий, больше безнадежный, чем подающий надежду, короче говоря, больше похожий на смерть, чем на жизнь, – все-таки, несмотря на это, страсть в той же мере бытийственно оправдана, как и ее божественная или мнимо божественная противоположность, а доказывает это тот факт, что каждый, кто обошел, победил или преодолел страсть, втайне мечтает еще раз – и уже, конечно, с другим партнером – пережить ее, из чего, в качестве последнего и фундаментального вывода, вытекает, что человек в равной мере тянется и к единому Богу, воплощением которого является общечеловеческая любовь, и к разнородным богам, яркой представительницей которых в нашем примере со страстью выступает древняя, как мир, богиня любви Афродита.
И женщины, обильно ее дарами наделенные, то есть обладающие неординарным эротическим излучением обречены пробовать его на мужчинах: снова и снова, как танцуют и звенят бубенцами в определенный час суток заведенные древним Часовщиком марионетки на нашей мюнхенской ратуше, и каждая победа над сильным полом наполняет их внутренней удовлетворенностью, к которой примешивается, однако, и некоторая скука и разочарование: все-таки в глубине души такие женщины ищут исключительного мужчину, который мог бы противостоять их чарам и тем самым оказался бы достойным их… но что из этого выйдет?
Последовательницы Цирцеи смутно предчувствуют, что не подчинившийся эротическому волшебству герой может привнести в их жизнь то, что экзистенциально выше любого волшебства, а именно: силу и слабость человеческой любви, – и все произошло так, как должно было произойти, и конечно же островная волшебница слегка опечалена прощанием, но если бы боги предложили ей Одиссея навечно… думается, она не была бы от этого счастлива, как и сам древнейший искатель приключений, хотя несомненно и то, что последний о своем мимолетном увлечении (пусть и затянувшемся на долгие годы) тоже не пожалел.
Итак, хорошо, что нас ждет дома верная жена, воспитывающая сына, но хорошо и то, что мы отправились на великую войну, обнажившую все потаенные извилины природы людей, богов и истории, хорошо, что мы остались живы и возвращаемся домой, но хорошо и то, что наше возвращение затянулось на долгие годы, потому что благодаря ему мы сделали жизненные опыты, коих хватит на сотню человеческих жизней… да, все хорошо и особенно хорошо то, что хорошо кончается.
Но что отличает великих жриц Афродиты от простых женщин, могущих дать только человеческую любовь, так это панический страх перед старостью и медленным разрушением тела как источника эротического волшебства: когда это происходит, у них появляется чувство, будто рушится не только то, что они теперь имеют, но и то, чем они когда-то обладали – а ведь это была чрезвычайно богатая событиями жизнь – и тогда они как бы остаются ни с чем, – в то время как женщины простые и смертные, теряя со старостью женское очарование, сохраняют человеческое тепло и все лучшие человеческие качества, в которых, как в надышанном тонкой энергией эмбрионе, спит и вся их свершившаяся жизнь.
VI. — Любовь и освобождение от любви. – Подводя итоги прожитых двух третей жизни, нам перво-наперво приходит в голову, что все держалось на любви или хотя бы на искренней симпатии, потому что, освобождаясь по мере возраста от каких бы то ни было принудительных отношений – наиболее яркий пример: профессия – и все больше общаясь, что называется, «от души и для души», мы и в самом деле обнаруживаем, что только там, где была любовь и искренняя симпатия, возможно продолжение отношений, которое дает смысл и радость, тогда как там, где было все что угодно, кроме любви и симпатии, теперь один лишь прах бесплодных воспоминаний.
Так значит мир стоит на любви? может быть, дай-то Бог… но задумаемся и о том, что ведь было время, когда людей – и в особенности женщин – мы любили гораздо интенсивней, чем на склоне лет, разумеется, годы идут, а силы уходят: стало быть и для любви нужны силы, все это так… однако, с другой стороны, есть ведь в самой нашей сердцевине Сознание поистине с большой буквы, которое не подвержено старению, более того, которое с годами, как доброе вино, только вызревает, напитываясь мудростью, – и вот Оно-то, это все еще наше и почти уже не наше Сознание, будучи по сути иррациональной суммой всей жизни и вместе визитной карточкой в мир иной, подсказывает нам, что хотя любовь и самая великая на земле вещь, но есть еще в мире и другая не менее великая вещь, и имя ей – просто освобождение от любви.
Освобождение без ненависти и без равнодушия, освобождение без какой-либо цели, загадочное и непостижимое освобождение… да, здесь слово подходит к своим границам, за которыми – тайна и безмолвие, потому что объяснить, что же, собственно, «произойдет» в результате полного освобождения, нельзя.
И тем не менее, если бы нам каким-нибудь фантастическим образом предоставили возможность всегда и всех любить, без малейшей альтернативы испытать освобождение от любви, мы бы тысячу раз подумали, прежде чем согласиться, а это говорит о многом: это говорит прежде всего о том, что душа Освобождения живет в нас на равных правах с душой Любви.
А как они там уживаются? да очень просто: как уживается в мире христианство с буддизмом? вот именно, как и все истинное и великое: неслиянным и нераздельным образом, отчего следует предположить, что только потому они и явились в мир в качестве мировых религий, что сызмальства соседствуют в человеческой душе, – и весь вопрос только в том, возможны ли Любовь и Освобождение в том чистом виде, в каком они провозглашены основателями обеих религий, или они могут существовать лишь в смешанных субстанциях, как это мы наблюдаем испокон веков на примере себя и своих ближних.
Надо ли добавлять, что вышеописанное Освобождение от Любви еще не есть освобождение от любящей доброты?
VII. — «Исаак и Ребекка в изгнании» позднего Рембрандта. – Я не знаю другого портрета, где старение и супружеская любовь были бы изображены с такой пронизывающей интенсивностью, а ведь они по своей природе кажутся нам несовместимыми: когда начинается старость, любовь либо проходит, либо обращается в привычку, – здесь же она не только не умаляется, но ею становятся «надышанными» вслед за глазами и лицом едва ли не каждая пора кожи, похожая на потрескавшуюся от засухи земную кору, и даже складки грубой, сочащейся внутренним светом одежды.
Обращает на себя внимание, что практически на всех портретах мировой живописи, исключая одного только Рембрандта, модели, хотя и формально смертны, выглядят так, как будто смерть к ним никакого нутряного и существенного отношения не имеет и прийти к ним может разве что извне и насильственным путем, тогда как у Рембрандта, напротив, смерть настолько глубоко «вочеловечилась» в человека, что последнего отдельно от смерти даже представить невозможно, – она и в Исаака и Ребекку вошла так же глубоко, как их старение и как их вечная, верная, нежная, бережная, прекрасная супружеская любовь.
Вообще, глядя на полотна позднего Рембрандта, ощущаешь воочию, что жить – значит, подобно реке, плыть по течению, и как река всегда движется в одном направлении: от истока к устью, так все в нас как будто бы тоже свершается в одном и едином направлении, то есть от рождения к смерти: органы стареют и изнашиваются, исчерпывается изначально конечный запас делимости клеток, желания притупляются, мысли не взлетают уже далеко от земли, все трудней становится мотивировать себя на достижение целей и сами цели кажутся не стоящими того, чтобы их достигать, – и все чаще там, где прежде цвела жизнь неповторимостью каждого мгновения, видится лишь унылое однообразие однажды заведенного и никогда не прекращающегося механизма, к тому же еще «бессмысленного и беспощадного», – итак, жизнь идет к своему естественному завершению.
Но одновременно и параллельно нечто внутри самой жизни, подобно форели в горном ручье, возвращается назад, к истокам, к былому и прежнему, – и это нечто, как легко догадаться, есть наше повзрослевшее и набравшееся мудрости сознание.
Мы спонтанно окунаемся памятью в юность и детство, инстинктивно пытаясь ответить на извечные вопросы бытия: в чем смысл жизни? откуда мы пришли? куда идем? и почему все так произошло, как произошло? и могло ли быть иначе?
Разумеется, объективных ответов на эти вопросы нет и быть не может, но субъективные ответы – для себя самих – мы кое-какие находим, и это самый главный итог нашей жизни: то, для чего мы жили и что возьмем с собой.
Но, положа руку на сердце, что это за ответы? окончательны ли они? и в состоянии ли мы их внятно передать другому человеку? увы! ответы наши неопределенны, изменчивы и двусмысленны даже для нас самих, очертания их меняются, как берег в тумане с борта корабля, и поистине единственное, что прекрасно и благородно во всем этом деле и чем мы по праву можем в себе гордиться, – это наша вечная, неустанная и не подчиняющаяся никаким внешним обстоятельствам задушевная настроенность на решение самых важных вопросов жизни и смерти.
И вот она-то в конце концов вполне идентична той самой глубокой и беспредметной задумчивости, которая написана на лице рембрандтовских старичков и старушек, более того, эта скромная, но неотразимая задумчивость является даже отличительной физиогномической чертой его гения.
И она же украшает всех без исключения пожилых людей в повседневной жизни, обратите внимание: лица старых людей тем больше мельчают и проигрывают, чем они сильней погружены в обыденную суету, и напротив, ничто их так не украшает и не облагораживает, как вышеназванная рембрандтовская беспредметная задумчивость.
Что она такое по своей сути? и все и ничто одновременно.
На первый взгляд: это когда мы задумываемся о чем-то очень важном, но если нас спросят, о чем мы в данный момент думаем, мы вынуждены будем растерянно улыбнуться и беспомощно развести руками.
А при более глубоком размышлении открывается следующая перспектива: мне кажется, что все мы в глубине души мечтаем о таком спутнике жизни, с которым были бы готовы – при соответствующих малых изменениях – прожить также и следующую жизнь, и в то же время мы этого по каким-то иррациональным причинам страшимся: быть может, нас смущает чреватое скукой повторение кармического цикла, а может, мы смутно чувствуем, что подобные решения принимаются свыше.
Поэтому, если бы нас спросили, как же все-таки должны «в идеале» соотноситься любовь и смерть, мы могли бы, подчиняясь инерции прожитой жизни, ответить стихами.
Веет морщинок дыханья в лицо, падает с пальца сухого кольцо, сгорбившись вместе до края дошли и – незаметно порог перешли: стали в последнем блаженстве своем вечная под руку поступь вдвоем.Но если нас спросят, точно ли мы верим в то, что произнесли, нам придется, подумав, процитировать Достоевского: «Мы хотим в это верить».
Ну, а если нас в третий раз спросят, точно ли мы этого хотим, мы снова задумаемся и больше уже ничего не сможем ответить.
Как не дают последнего ответа рембрандтовские старики и старухи, смотрящие с полотен друг в друга, в своих зрителей и в себя самих.
Каждый догадается, чего больше в этих взглядах: любви или любящей доброты.
То единственное, чему мы верим
I. (На перекрестке двух дорог). – Если музыка, как убеждены мудрые люди, непосредственно выражает сущность вещей, тогда оба самые великие, без сомнений, музыканты должны показывать нам, наподобие путеводных звезд, главные направления нашей жизни, и прежде всего по части наиболее важного, но и особенно запутанного для нас отношения: отношения к женщинам, и просто по определению не может быть иначе… да так оно и происходит на самом деле.
Итак, Моцарт – это когда вы, будучи женатым и в общем-то больше любя свою жену, чем не любя, встретили женщину, которая мгновенно вас обворожила, и вы, до смешного быстро вообразив себя утлым суденышком в «океане страстей», идете с ней в постель… однако упоительные часы прелюбодеяния, как и следует, очень скоро сменяются горьким разочарованием: тут и укоры совести, тут и постепенное исчезновение новизны как единственного универсального эротического эликсира, тут и слабо шевелящиеся на дне испитой чаши, подобно черным червям, обманутые ожидания… и все-таки, хотя вы и пожалели о содеянном, вы в глубине души от него не отрекаетесь, вы продолжаете видеть в нем некий греховный и все же по-своему глубокий духовный опыт – именно духовный, и в этом все дело! – и вот с этим-то непостижимым двойственным ощущением: свершившегося греха, искреннего сожаления о нем и в то же время внутренней готовности воспринимать его отныне как часть прожитой жизни и даже как кровный кусок себя самого, – да, вы с этим как ни в чем ни бывало живете дальше: и это Моцарт.
А Бах – это когда вы, будучи женатым и тоже искренне любя жену, повстречали женщину, которая серьезно увлекла вас какими-то важными для вас качествами, которых, положим, нет у вашей жены, но вы все-таки нашли в себе силы откровенно ей (чужой женщине) сказать, что из вашей возможной связи не то что ничего хорошего не выйдет – нет, обязательно будет у вас много и нового и хорошего! – но просто, если взвесить как следует последствия адюльтера с чистым плодом его несвершения, второе перетянет первое, потому что одним из последствий измены наверняка станет досада на самих же ее участников, то есть на себя и на нее, а это значит, что более-менее серьезное отношение с новой женщиной уничтожается заведомо и на корню… хотя с другой стороны: а нужно ли оно вообще? и возможно ли оно помимо интимной связи? если и нужно, то лишь для того чтобы продемонстрировать вечную конфигурацию заменимости партнеров и вместе их судьбоносной предначертанности; если и возможно, то отныне только на расстоянии: так, что немые ее игроки – ибо что им теперь говорить друг другу? – будут на протяжении отпущенного им времени вращаться каждый в своем заколдованном круге, не в силах перейти заветную черту (при условии, что оба они не окажутся свободными)… и тогда, кто знает? быть может тогда эта их так и не состоявшаяся любовная связь станет той тайной, но тоже очень могущественной печатью, раскрыть которую сможет только Тот, кто ее изначально скрепил.
Как видите, все сходится.
II. (Несостоявшееся свидание). – Возвращаясь со свидания с женщиной, без которой не мыслилась будущая жизнь, свидания, которое не состоялось по причине неожиданной, непонятной и так и оставшейся без объяснений неявки томительного источника былого и всеобъемлющего, как казалось, счастья, а теперь вдруг болезненной причины тоже всеобъемлющего, как оказалось, несчастья, – итак, возвращаясь из городского парка, где, как и водится, должно было состояться свидание, и бредя бездумно по улицам – домой нельзя еще заявляться, ибо узкое жизненное пространство только усилит давление горя – вы разглядываете подробности бесконечно знакомого городского пейзажа с той рассеянной внимательностью, которая, замечая самую незаметную прежде мелочь, не принимает ее к сведению для сознания, но, как бы «отдыхая» на ней, как на камне посреди опустошительного наводнения, использует ее, чтобы хоть как-то осмыслить то состояние непрекращающейся тонкой душевной боли, которое вы могли бы в порыве страдания сравнить разве что со снятой со всего тела кожей, но гораздо справедливей – это вы поймете позже – было бы сравнить с обнажающимся поздней осенью деревом: да, это правда, что листья покидают его на глазах как вас покидают теплые чувства к той женщине, а также зеленые, клейкие надежды на такую прекрасную, как вам думалось, будущую совместную жизнь, и счет идет уже не по дням или часам, как прежде, а по минутам и секундам – таков спасительный механизм великого разочарования! да, это правда, что оголенному дереву должно быть холодно и тоскливо ввиду наступающих зимних холодов, как вам теперь холодно и тоскливо ввиду разверзшегося посреди жизни чудовищного и опустошительного одиночества! да, это правда, что вам все еще не верится, что так могло получиться, как не верит дерево, что пришла осень… стоп! вот где начинается поэтическая ложь, господа! на самом деле предчувствует дерево приход осени, как вы давно уже в глубине души предчувствовали разрыв с той женщиной – это раз! и пусть дереву на уровне ветвей и листьев холодно и тоскливо в конце октября, на глубочайшем уровне жизни ствола оно опять погружается в ту тихую и мудрую думу, которую по праву принято отождествлять с живой вечностью, и в которую, сознаете это вы или не сознаете, погружаетесь теперь вы сами во время вашей печальной прогулки, догадываясь печенкой, что ушедшая так внезапно из вашей жизни женщина оставила дверь открытой, открытой для других и более подходящих вам женщин – это два! и не жалеет дерево о своих опавших листьях, хотя, наверное, помнит о них, как не будете и вы, поверьте, очень скоро жалеть о несостоявшемся свидании, хотя, конечно, никогда о нем не забудете – это три! самое же главное и это – четыре: то огромное, холодное и бездомное небо, которое прежде уютно закрывали листья, и которое теперь вдруг так драматически обнажилось, напоминая свежевырытую могилу, – ведь и оно тоже символически чего-то стоит! но чего именно? о том лучше целомудренно умолчать, оставив весь этот наиболее пронзительный для человека позднеосенний пейзаж в качестве остановившегося заключительного аккорда к той музыке несостоявшегося любовного свидания, которое и на самом деле ничего, кроме музыки, после себя не оставило, потому что ничем никогда, кроме музыки, и не было.
Неизреченное. – Как странно, что тех женщин, с кем мы безусловно счастливы в супружестве, мы обычно не видим в сновидениях, а встречаемся в них мы регулярно как раз с теми женщинами, с которыми у нас, мягко говоря, проблематические отношения, но отсюда прямо следует, что безоблачная жизнь как бы не оставляет в области Бессознательного следов, и тем не менее у нас, простых смертных, нет, к сожалению, лучшей возможности постичь смерть и загробную жизнь – то есть не умом, а всем существом своим – как только через сравнение со снами, – вот и получается, что чем совершенней человеческое отношение, тем полноценней и безвозвратней оно уходит в небытие.
То есть по мере проживания счастливого супружеского жития-бытия мужчина и женщина незаметно для себя перестают придавать значение выразительным взглядам: в самом деле, чего им выражать? ведь любовная жизнь, достигнув апогея, начинает потихоньку и неизбежно перетекать в бытие, и ничто не может остановить этого естественного процесса, – вот почему, если присмотреться, большинство простых и трезвых взглядов, которыми обмениваются супруги спустя десятилетия, не содержат в себе ни былой страсти, ни даже какой-то особенной любви.
И здесь мы имеем, быть может, математическое доказательство того, что в нас на запредельной душевной глубине живет чувство более тихое, глубокое и всеобъемлющее, чем сама любовь, – в том смысле, что из него, этого загадочного чувства, вытекает любовь, и в него же она возвращается, а не наоборот.
Однако этому чувству очень сложно найти имя на человеческом языке, быть может оно есть гипотетический случай абсолютного блаженства, – это когда любящий мужчина ранним утром смотрит на спящую любимую женщину и в его взгляде: светлом, легком и безмятежном, как солнышко за прозрачным облаком, сквозит столько бережной нежности, что от нее спящая просто не может проснуться, но, с другой стороны, она не может и не проснуться, потому что та бережная нежность любящего взгляда должна коснуться самой души спящей, – так что же ей делать?
Лебединая песня. – Когда супруги прожили долгую совместную жизнь, выдержав, казалось бы, все главные испытания: такие как рождение и воспитание детей в духе семейной и гражданской гармонии, или умение сохранить в общении на каждом шагу драгоценное чувство любви, основанной на взаимном уважении, или чрезвычайно трудное дело организовать день, неделю, месяц и год так, чтобы в них не завелась рутина – эта смертельная ржавчина любого длительного человеческого отношения, или, наконец, венец всякого серебряного или золотого брака: редкая светоносная атмосфера, когда окружающие и уважаемые люди, глядя на благополучных супругов, не испытывают ничего кроме в лучшем случае восторженной доброты, а в худшем случае разве что доброй зависти, – итак, когда все эти и им подобные испытания с честью выдержаны и ничто уже, кажется, не может помешать усталым, но счастливым финалистам марафонского «забега любви» принять – даже не из рук каких-нибудь сомнительных богов, а из лона самого бытия – лавровую ветвь Филемона и Бавкиды, – тогда вдруг и предстает перед этими наилучшим образом сыгравшими свою роль людьми последнее и самое страшное испытание: тихий, стучащийся в сердце, пусть никем быть может открыто не заданный, но от этого отнюдь не менее роковой вопрос о том, согласились ли бы они, если бы жизнь можно было повернуть назад, прожить ее еще раз и точно так же, как они ее прожили.
«Самое ценное в любви – это ее длительность», – сказал Бальзак, но как мельница перемалывает зерно, так время перемалывает постепенно и страсть, и половое желание, и общие интересы, и теплоту, и нежность, и привязанность, и под самый финал даже память о совместно прожитых годах, – что же остается? а вот что: взгляды между супругами, в которых сквозит один и тот же болезненный и осторожный вопрос – жив ли я еще настолько, чтобы меня можно было уважать и любить?
И хотя ясного и определенного ответа на него вопрошающий, как правило, не получает, все же, не получая и откровенно отрицательного ответа, он уверяется не только в том, что жизнь его продолжается, но и в том, что соотношение между целями жизни и теми, кто их преследует, не изменилось со времен юности: иными словами, в глубокой старости супругам кажется, что в глазах друг друга они читают те же чувства, что и много лет назад, а если чувства и изменились, то в той же самой пропорции изменилось ведь и восприятие этих чувств, так что в общем и целом в отношении любящих супругов практически ничего не изменилось.
Это как с палубы корабля, плывущего посреди океана, нельзя определить, удаляется ли корабль относительно линии горизонта и, если да, то в каком направлении и с какой скоростью, – и в этом именно состоит главная ценность длительной или, лучше сказать, пожизненной любви: так что Бальзак совершенно прав.
Быть ко всему готовым. – То обстоятельство, что люди после смерти супруга, с которым они были связаны долгие годы, без особых околичностей вступают в новую связь, если она перспективна, и в то же время в глубине души не то что этого стыдятся, но как бы чувствуют некоторое смутное душевное неудобство, свидетельствует о подсознательной вере – а значит о реальном допущении – обоюдоострой возможности дальнейшего существования души: душа (или астральное тело) умершего супруга может претерпеть столь радикальные (тонкие) изменения, что для нее сожительство прежнего любимого человека с новым партнером будет уже совершенно безразлично, но с той же степенью вероятности она (душа) может с невероятной остротой – в том мире все чувства и мысли обостряются всемеро, как утверждают тибетские буддисты – ощущать и по-своему переживать «измену» бывшей своей половины, – и в особенности это касается людей, которые связаны приятельскими, дружескими или даже родственными узами.
В самом деле, идти в постель с человеком, который в каком-то смысле дождался своей очереди, в то время как ушедший в «мир иной» незримо продолжает разделять ложе любви… да, здесь требуется определенное самопреодоление, – но каков же его результат?
Он мог бы быть огромен: столь монументальное раздвоение могло бы повести и к осознанию космической связи троих избранных, и к ощущению хождения по запредельной грани, и к чувству ответственности перед неведомыми духами или богами, да мало ли еще что… но на деле, увы! все ограничивается – по крайней мере со стороны мужчины – либо мелочной упрямой радостью и гордым детским торжеством, если секс удался, либо, если он не удался, бюрократическим сетованием на то, что «при подобных обстоятельствах ничего другого и ждать-то было нельзя».
Тайна и ее разоблачение. – Как глядя на горы издалека, мы всякий раз снова и снова очаровываемся их величественной красотой, и более того, остаемся убеждены в существовании некоей тайны их красоты и величия – хотя заранее знаем, что никогда в их тайну нам не удастся проникнуть – и в то же время, сотни раз путешествуя по этим самым горам, мы не только не находим в них ничего таинственного, но слишком долгое пребывание посреди издалека казавшегося нам божественным пейзажа скоро порядочно наскучивает и мы возвращаемся назад и домой, – то есть опять туда, откуда мы снова видим его (пейзаж) в вечной дымке непроницаемой возвышенной тайны, и эта игра вечна как мир, – так точно, увы! не все люди, но только женщины и, увы! не все женщины, а только некоторые, неизменно притягивают нас, но чем? конечно же не красотой: она слишком относительна, и не сексуальным зовом: он слишком зависим от сотен посторонних обстоятельств, и даже не личным обаянием: нас привлекают часто совершенно равнодушные к нам женщины, – так чем же притягивают нас иные женщины?
Они притягивают нас именно двойственным и противоречивым осознанием как наличия в них некоторой заманчивой и неодолимой тайны, так и полного отсутствия ее, – и как наличие тайны пробуждает в нас весь репертуар возвышенных чувств, вплоть до поэтического обожествления, так предчувствие отсутствия тайны вызывает, напротив, сильнейшее половое влечение: собственно, секс и есть радикальное упразднение любой тайны и унижение любой возвышенности; но потом, когда пик наслаждения пройден и стало ясно, что природа волшебства женского обаяния по сути своей подобна фокусническим трюкам, призванным всего лишь усилить влечение мужчины, – да, в этот, пожалуй, самый субтильный момент любовной истории, вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением: «а король-то голый!», мужчина, именно настоящий мужчина вдруг с удивлением замечает, что женщина, только что, казалось бы, обнажившая перед ним все свои тайны и уподобившаяся невольно «голому королю», теперь, одеваясь перед зеркалом, ведет себя так, как будто осталось в ней нечто такое, во что он, обладавший ею мужчина, все-таки не проник.
И в этот момент им обоим становится на мгновение ясно, что ни тайна, ни ее отсутствие, ни даже сложнейшая игра между тайной и отсутствием тайны суть самое главное в любви, а самое главное есть ощущение тонкой и высшей жизни, которое их посетило под маской проникновения в эротическую тайну и которое, как драгоценное семя, ищет дальнейшего высвобождения.
И вот если оно, это семя, вызревает в длительную взаимную любовь, тогда и любовное отношение идеально завершается, а в сердцевине его целомудренно сохраняется и тайна эротического обаяния, если же большой любви не получилось, однако отношение продолжается, тогда и связь между такими любовниками, и эротическая тайна как то Высшее, что их связывает, обречены на скорое исчезновение, – действительно, нет ничего печальней, чем глядеть на далекие горы и не испытывать при этом никаких возвышенных чувств.
Познание в собственном смысле. – Женщина так уж создана, что, несмотря на неприступный вид, который она надевает на себя иногда как венецианскую маску, ей все-таки мужское вожделение – при условии хотя бы минимальной привлекательности мужчины – всегда приятней, чем полное равнодушие к ней со стороны мужчины, наибольшее же недоумение у нее вызывает, наверное, искреннее мужское восхищение, да еще смешанное с уважением перед ее умственными и нравственными достоинствами, зато без следа полового влечения, – да, бывает и такое!
Такая женщина, наверное, должна напоминать себе самой некоего египетского Сфинкса: величественного и абстрактного, но символизирующего по-прежнему монументальную Загадочность, на проникновение в которую, однако, – проникновение именно в библейском смысле познания женщины – как бы изначально поставлен крест: «Оставь надежду всяк сюда входящий!», – и вот проникающий (мужчина), быть может, правда, по собственной вине, давным-давно оставил надежду проникнуть в тайну Сфинкса (женщины), да и сам Сфинкс (женщина), огорченный и подавленный, что в него отчаялись проникнуть, не зная чем ему теперь заняться, с бессмысленной возвышенностью холодеет в недоступной человеческим эмоциям запредельной сфере между небом и землей.
А между тем женщине приятно оставаться загадкой в лице мужчине, и ей также льстит, что ее сравнивают иногда даже с жизнью в целом, но, если бы ей предоставили самой выбрать для себя символ или, точнее, образ загадочности – ибо все в мире предельно конкретно – она, думается, без сомнений выбрала бы легендарную Леонардову Джоконду, в которой нет абсолютно ничего абстрактного и где весь космос в лице его главных представителей – природы и человека-женщины – выражен с удивительной нежностью и теплотой, а сквозь них сквозит такая неисследимая глубина, еще и приправленная кое-какими гениальными парадоксами в духе их уникального создателя, что у нас прямо захватывает дух, и мы, ввинчиваясь испытывающим взглядом в испытывающий нас взгляд модели художника – как одна игла входит в другую – познаем на деле, во-первых, что в основе бытия лежит тайна, во-вторых, что в тайну эту невозможно до конца проникнуть, в-третьих, что в нее, несмотря на это, нужно стремиться проникать снова и снова по мере сил своих, потому что проникновение в тайну и есть сердцевина жизни, и в-четвертых, что подобный опыт неустанного и циклического проникновения в тайну, действительно, странным образом ассоциируется у нас с тем главным актом человеческого жития-бытия, который имеет тысячу наименований, большинство из которых почему-то пошло и унизительно, зато самое величественное из них есть в то же время по счастью и самое точное и верное.
Итак, познание женщины происходит только в постели и через постель, – это зафиксировано уже в Библии, и точно так же познание мира совершается исключительно через некоторый конкретный опыт – будь то с помощью первичной материи, исследуемой на уровне атомов, молекул, химических соединений, живых существ и так далее, или беря в услужение краски, ноты, мрамор, слова, или, наконец, используя опыт самой жизни, и никогда посредством чистого мышления, – и как женщина только после интимной связи открывает мужчине свою душу, так преображенная творческим опытом материя – и в области астрофизики, и на уровне познания эволюции, и в плане искусства, и в аспекте подведения итогов земной жизни, – да, везде и всегда послушная духу материя обнаруживает в своем (женоподобном) лоне такую одухотворенность, что любое проявление обыденной жизни, в том числе и половой акт, невольно становятся в один ряд с феноменами, которые мы привыкли считать образчиками так называемой «чистой духовности».
IX. О проникновении иглы
Не смотрите в глаза власть имущим! – Когда хозяин ругает собаку, та обычно с виноватым взглядом смотрит в сторону; когда родитель отчитывает ребенка, тот стоит перед ним с понурой головой, уставив плачущие глаза в землю; когда начальник остро критикует работника, тот молча кивает, лишь время от времени и для вида встречаясь с ним взглядом; когда царь разговаривает с подчиненными, те послушно кивают головами отводя глаза; зато когда гоголевский Хома Брут взглянул на Вия, все сонмище злых духов бросилось на него, и он умер от страха.
Здесь мы видим изначальный закон человеческой иерархии: повелителю не принято смотреть в глаза, а тем более долго и пристально, это во всех странах и во все времена рассматривалось как вызов и могло стоить головы дерзнувшему, таков вековечный этикет: отвечающий взглядом на взгляд утверждает свое с ним внутреннее равенство, а это уже бунт против положения вещей, никакой повелитель не прощает выдержанного до конца прямого взгляда, – разве что он признает такого человека в чем-то равным себе.
Сходным образом Будда на вопрос одного из учеников: как следует жить? ответил: живите так, чтобы Царь Смерти не видел вас, здесь сокрыт глубочайший смысл, – потому что вся до поры до времени накопленная энергия Смерти в урочный час с неумолимой яростью и некоторым даже злорадством обрушивается на нас прямо пропорционально выпячивающемуся из нас самосознанию нашей самости: чем дальше и самонадеянней выпячивается последняя навстречу миру, тем жесточе ударяет по ней своей секирой царица-Смерть, – тема Дон Гуана, но и толстовская тема.
Подытожил же ее задолго до них Будда, провозгласив, что только полное самоупразднение самости – ибо ее можно упразднить лишь изнутри, но никогда извне – начисто побеждает и саму смерть, – и он, как всегда, прав, таких победителей смерти на самом деле довольно много: поезжайте в Азию и справьтесь насчет сотен и тысяч буддийских монахов, чьи тела волей умирающего либо были превращены в радужные цвета, либо, неразложимые, остались на долгие годы сидеть в позе Лотоса с улыбкой на устах, – такое на Западе просто немыслимо и невозможно.
Итак, Смерти не стоит смотреть в глаза, потому что смотреть на нее будут разве лишь гордость и родственные ей побуждения, тогда как мудрость и смирение, вкупе с их проявлениями, как обычно, будут держать глаза долу, – и Смерть великой радостью и торжеством скосит ненавистные ей плевелы, оставив жить и процветать возлюбленные зерна.
Беда лишь в том, что любые внутренние качества настолько тесно взаимосвязаны, что отделить зерна от плевел практически невозможно: хотя это опять-таки только для нас невозможно, для Смерти же все должно быть возможно, – и пусть это недоказуемо, пусть в это нужно верить, но почему хотя бы раз в жизни не поверить во что-то поистине Высшее? ведь только по отношению к Смерти и практически все люди без исключения испытывают то идеальное соединение судьбоносного предназначения, тесно с ним связанного благоговейного ужаса, инстинктивного и предельного, идущего из самых глубин сердца, уважения и плюс еще какой-то неодолимой таинственной тяги, граничащей с запретной любовью, которое (соединение) далеко не всеми и далеко не в той степени испытывается по отношению к Богу и к богам… вот почему не следует смотреть Повелителю в глаза.
Фантазия на тему одной знаменитой цитаты. – Малыш напроказничал, отец собирается его наказать, мать с притворной суровостью нахмурила брови, а малыш с заплаканными глазами украдкой смотрит на мать: «Этот взгляд был мучительно красноречив. Он скорее бы умер, чем позвал на помощь. Но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке».
Ученик тупо смотрит на свои ботинки, учительница недоуменно взирает на доску, ученики с улыбкой переглядываются, а незадачливый ученик исподлобья взирает на приятеля за передней партой, который может подсказать ему правильный ответ: «Этот взгляд был мучительно красноречив. Он скорее бы умер, чем позвал на помощь. Но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке».
Юноша после многомесячных ухаживаний вошел, наконец, в интимный контакт с девушкой, которую он безумно любил, но по причине невероятного волнения, обычно сопутствующего первой любви, этот контакт прошел не так, как должен бы, и вот, уже одевшись и прощаясь, в дверях этот юноша, полный стыда и ужаса, смотрит украдкой и наискось, через зеркало трюмо, на свою полуодетую любовь, шокированную и задумчиво сидящую на постели: «Этот взгляд был мучительно красноречив. Он скорее бы умер, чем позвал на помощь. Но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке».
Мужчина долго живет в благополучном браке, но встречает женщину, которая была его первой любовью и с которой у него был болезненно неудачный сексуальный опыт, он пытается отыграться и отыгрывается: та женщина, не успевшая найти счастья в любви, заново в него влюбляется, но тот хитрый мужчина не хочет бросать жену и семью, – и вот однажды, как это обычно бывает в жизни, жена застает их в кафе, она подсаживается к ним и спрашивает мужа, кто эта женщина, а муж отвечает, что это давняя его знакомая, можно сказать, одноклассница, и в ответ на молчаливый, пронзительный, требующий немедленного разъяснения взгляд жены он, в свою очередь, незаметно и умоляюще поглядывает на ту вставшую между ними женщину: «Этот взгляд был мучительно красноречив. Он скорее бы умер, чем позвал на помощь. Но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке».
Муж состарился и одряхлел раньше жены, он не может ухаживать за собой, а у нее кроме него на руках внуки и домашнее хозяйство, встает естественный и оттого еще более страшный вопрос об отправлении его в дом для престарелых, и он сам знает, что другого решения быть не может, тем более, что он когда-то изменил жене, – и все-таки в последний момент он бросает на нее самый важный в его жизни взгляд: «Этот взгляд был мучительно красноречив. Он скорее бы умер, чем позвал на помощь. Но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке».
Человек умер – и предстал перед судом Господним, грехи его невелики: детское непослушание, недостаточное уважение к учителям, разочарование в первой любви, измена жене, нежелание пострадать и прочие мелочи жизни; проницающий его душу ангел готов уже подать Всевышнему милостивый отчет, но человек, по привычке не доверяя Высшим Силам, со смиренным и пристыженным взглядом смотрит на ангела: «Этот взгляд был мучительно красноречив. Он скорее бы умер, чем позвал на помощь. Но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке».
И тогда Господь, мыслью проникнув отчет ангела и не увидев в подопечном смертельных грехов, хочет услать его в горние светоносные сферы, дабы сделать вполне счастливым, но в последний момент, вспомнив о том, что божественная справедливость – самое главное, сует в астральные руки подсудимого великую книгу: ту самую, которую представший перед Судом любил больше всего на свете, как, впрочем, и большинство нормальных детей и подростков, – Господь это сделал для того, чтобы тот человек, внимательно перечитав ее, сам для себя выбрал следующую свою земную жизнь, – и в этой книге, как легко догадаться, есть уже знакомые нам строки: «Этот взгляд был мучительно красноречив. Он скорее бы умер, чем позвал на помощь. Но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке».
Призрачная магия вечерних фонарей. – Мартовские сырые прозрачные вечера, в воздухе стоит густой запах талого снега, только что начали кричать птицы и зажглись фонари, – в этот час прогулка самая волшебная и волнующая.
Невольно останавливаюсь перед каждым третьим фонарем, просто стою и смотрю на него, задрав голову, о чем думаю? ни о чем, потому что слишком много пластов души задействовано одновременно, – они и мешают мыслям сосредоточиться.
Ведь эту мою привычку смотреть подолгу на фонари я имею, кажется, с раннего детства, стало быть каждое созерцание фонаря впитало в себя тысячи полуосознанных мыслей, воспоминаний, каких-то побуждений, интуиций и тому подобное, – так что если помножить число всех моих остановок перед фонарями на все задействованные тогда душевные компоненты, выйдет величина, сравнимая с количеством атомов во Вселенной.
Итак, каждая остановка перед вечерним фонарем – несомненная для меня веха моей внутренней, духовной биографии, но время идет, старение неумолимо, и вот с годами не хочется уже вдаваться в бесчисленные подробности прожитой жизни, это стало слишком обременительным занятием, – зачем перебирать душевные монады, точно крупицы золотого песка, когда можно просто ограничиться их слитным и объединяющим образом?
Но выбран этот образ должен быть так, чтобы ни единая частица автобиографии из него не выпала, и если какой-то малой части моего существа суждено под самый конец пройти сквозь игольное ушко смерти, – ведь это совсем не исключено для каждого из нас, – пусть этим заключительным образом будет сопровождавший меня всю мою жизнь, как невидимый друг, мой взгляд на вечерние фонари: всегда разный и всегда один и тот же, как будто оптически выплескивающий вовне содержимое сосуда души моей, и в то же время мало чем, наверное, отличающийся от аналогичного взгляда на фонари любого другого человек, то есть мой и как бы уже не мой одновременно, а если так, то ведь правда, что я немного для себя прошу? и правда, что такое хотя бы в принципе возможно? – умоляю вас, любезный читатель, поддержите меня хотя бы морально.
Предновогоднее знамение. – Именно в третьей декаде декабря, обычно между четырьмя и пятью часами пополудни и обязательно при теплой солнечной погоде вдруг совершенно неожиданно для себя начинаешь физически ощущать удлинение дня, и светлая полоса неба между сумрачными облаками у самого горизонта указывает тогда на приближение нового года, то есть после долгого и планомерного спуска во времени куда-то в темноту и тишину – вторая декабрьская декада представляет собой самую низкую, самую бесшумную и самую спокойную точку года, своего года «мертвый сезон» – начинается новое восхождение к весне и возобновляется путь в будущее, однако первые шаги в этом направлении настолько робкие и чувствительные, что одновременно с чувством нарастающего следующего календарного года поднимается в душе, причем едва ли не с большей остротой, и дух года завершающего и вообще всех прошлых лет: в том смысле, что будущее не столько одаривает нас новизной, сколько обнажает старые раны, показывает границы возможностей и демонстрирует лишний раз шопенгауэровскую неизменность характера.
И что бы ни произошло в новом году, нам придется только снова и снова осознавать, что корни любых поступков залегают в нашем прошлом, в нашем характере и в нашей генетической судьбе, – так что в эти странные декабрьские дни как будто расходятся «пазы времени», по слову Гамлета, и прошлое и будущее в душевном переживании уже не разбегаются по разным и противоположным сторонам, как это обычно происходит в жизни, а наслаиваются как бы в одном направлении и вслед за светлой небесной полосой, означающей первое удлинение дня, в душе усиливается сложное чувство просветленной тоски и одухотворенной депрессии, потому что удлинение дня, символизирующее приближение нашей последующей земной жизни, идет рука об руку с сокращением дней этой нашей настоящей и все еще бесконечно дорогой нам жизни.
Еще один комментарий к «Гамлету». – Если правда, что умершие обретают свой самый красивый облик, то есть, умирая обезображенным болезнью стариком, человек возрождается в астральном мире тридцатилетним молодым человеком и уже не меняет этот облик до следующей инкарнации, то в таком случае мы имеем любопытный и неожиданный аргумент в пользу метафизики пушкинского искусства: Пушкина ведь тоже не интересуют процессы развития и старения личности (толстовская тема), но исключительно ее – личности – существенный сгусток, состоящий либо из неизменного простенького характера (второстепенные герои), либо из центральной всепожирающей страсти (главные персонажи), которая всецело определяет судьбу героя и которая прямехонько готова влиться в потустороннюю жизнь, заодно прочертив астральный облик ее обладателя.
Но если, как утверждают буддисты, правда и то, что этот астральный облик со временем все-таки порядочно энергийно истачивается, теряет краски и четкие контуры, а в конце концов попросту разрушается, и сей космический процесс остановить никак нельзя, так что в какой-то мере его (астрального облика) обладатель просто вынужден рано или поздно заново перерождаться, то это уже напоминает метафизику толстовского творчества.
И то обстоятельство, что они прекрасно дополняют друг друга, но не здесь – здесь они представляются достаточно несовместимыми, – а там, «на небесах», в свою очередь естественно подводит нас к метафизике творчества Достоевского, пытавшегося в каждой своей строке показать именно сопряжение таких несовместимых на первый взгляд миров.
В этом плане сам собой напрашивается следующий комментарий к шекспировскому «Гамлету»: когда говорят о том, что человек после смерти обретает наиболее благоприятный – а значит, как правило, юношеский – облик, и в этом облике продолжает свою астральную жизнь, то при таком подходе, с одной стороны, удовлетворительно решается труднейшая проблема соединения полового и человеческого в человеке: в том смысле, что сразу отметается каверзный вопрос о том, почему одни вещи проходят сквозь игольное ушко смерти, а другие нет, с другой же стороны и по той же самой причине становится неразрешимой другая и отнюдь не менее важная проблема времени и старения, полностью определяющих нашу земную жизнь: в том смысле, что все-таки непонятно, почему именно юношеский облик человека, а не какой-либо другой, продолжает астральные путешествия.
Ведь как в сновидении, под каким бы фантастическим обликом мы в нем ни фигурировали, у нас сохраняется незыблемое персональное самосознание, так точно и после смерти возможно и даже неизбежно явление умершего человека во всех его предшествующих возрастных обликах, – и только особый драматизм ситуации, например, обстоятельства смерти, могут привести к тому, что умерший будет долгое время существовать и являться живым в предсмертном образе, как это случилось с отцом Гамлета: стало быть не исключено, что именно внутренняя, космическая невозможность оставаться слишком долго в одном и том же астральном образе по всей видимости и побудила Призрак искать встречи с сыном как можно скорее – чтобы передать ему страшную тайну до тех пор, пока его предсмертный и трагический образ не разрушился или не претерпел такие существенные изменения, после которых никто, в том числе и собственный сын, его уже не смогли бы узнать.
Каденции одного неосвещенного падения. – Пока Дон Гуан с Каменным Гостем летят в Преисподнюю, с ними обоими должны происходить различные, но неизбежные преображения, свойственные каждому умирающему в соответствии с его земной участью, однако если Командор, увлеченный местью, с каждым пройденным в глубину вечного Мрака метром начинает все больше сожалеть о затеянном мероприятии, ибо его положение в посмертном мире ухудшается ежеминутно, и быть может нельзя уже вернуться из опрокинутого туннеля даже туда, где он был до посещения своего смертельного врага, то Дон Гуан, это воплощение греховной витальности, чей член столь же прям, остер и неотразим, как и его шпага, по мере сбрасывания внешних признаков и возвращения к собственной несотворенной сути, лишь усиливается и растет на глазах, приобретая образ в астральном смысле чудовищный, превосходящий размерами надгробный памятник павшему Командору и напитанный невероятными дьявольскими энергиями, так что, если бы им случилось сразиться во второй раз, то результат поединка напоминал бы опять далеко не равное единоборство Терминатора из жидкого металла (Дон Гуан) с Терминатором старой и очеловеченной конструкции (Командор).
И только молитвы, память и любящее внимание доны Анны могли бы еще спасти ее несчастного мужа, остановив или по крайней мере замедлив его падение, – ведь он, судя по всему, не покинул Чистилища, где молитвы живых в состоянии влиять на судьбу умерших, – но она, эта его прекрасная вдова, двойной пантомимой замерев в явном всем плаче по погибшему мужу и тайном для всех волнении по несостоявшемуся любовнику, бездействует, тем самым заранее и при жизни обеспечив себе угловое место в том заветном Треугольнике, два прочих угла которого, сплющившись, как в четвертом измерении, бок о бок продолжают свое ужасное падение.
Последнее напоминание
I. (Застарелый недуг). – Если действительно самая важная истина для нас состоит в том, что смерть к нам когда-нибудь придет, но никто из нас не знает точно, когда именно и при каких обстоятельствах она придет, – так что по мере набирания возраста начинаешь невольно повнимательней присматриваться к собственным хроническим заболеваниям: положим, там еще нет смертельной опасности как таковой, но ведь нужно сообразить и то, что смерть уже присматривается к нам издалека, уже пробует легкими толчками ту пока еще невидимую для нас дверь в нашем теле, через которую она к нам войдет, и если как следует поразмыслить, какая смерть для нас наилучшая: вследствие несчастного случая, во сне или от инфаркта, когда полностью отсутствует возможность мало-мальски к ней подготовиться, или мучительно-безнадежная: от рака, когда безобразный приговор парализует душевные силы, или от чужой руки, когда ужас и жажда мести надолго могут отвлечь нас от первичных задач посмертной реальности, или от старости, когда бессилие и старческий маразм безбольным, но страшным образом размывают личность, точно морская волна песочный городок, – итак, поразмыслив тогда здравым умом над предпочтительнейшим для нас видом смерти, мы приходим к выводу, что та самая хроническая болезнь, которая донимает нас теперь как одинокий комар ночью в южном отпуске, и о фантастическом выходе которой из нас в один прекрасный момент: ну, скажем в виде мерзкого извивающегося червя с калом мы втайне, быть может, мечтали, – она-то и является, пожалуй, той поистине идеальной дверью, через которую смерть могла бы войти в нас, но, к сожалению, не обязательно войдет, а почему?
Да потому что мы сроднились с нашим хроническим заболеванием, мы знаем его как свои пять пальцев, мы привыкли к нему до такой степени, что не можем уже себя физически без него и помимо него представить, мы видим, что оно в своей естественной замедленности нас щадит, и мы чувствуем, что этой замедленности нет предела: так что критический момент несовместимости с жизнью постоянно как бы отступает на шаг, и сколь бы плохо нам ни было, остается реальная надежда, что это еще не конец.
А когда смерть все-таки придет, мы, во-первых, будем благодарны ей за то, что она так долго оттягивала свой приход, а во-вторых, это будет полностью наша смерть – до той предельной степени, когда нам наше астральное тело невозможно будет помыслить без признаков былой хронической болезни – ведь чем является астральное тело как не духовным экстрактом всего нашего прежнего физического и психического жития-бытия? – и вот это отношение к собственному застарелому недугу пусть и не как к доброму старому другу, а хотя бы как к строгому, нелицеприятному, готовому вам при случае сказать правду в лицо и все же по большому счету справедливому и доброжелательному приятелю, – оно, это отношение к собственному больному органу, поверьте, настолько же серьезное, глубокое и полноценное, как и отношение к богу, человеку или к животному.
II. (Всего лишь намек, но как много за ним стоит). – Иные смертельные заболевания или несчастные случаи настолько трагичны, что уже просто попытка найти для них какие бы то ни было «высшие» причины приводит к обратным результатам: лучше оставить все как есть.
Да, иная страшная жизненная развязка напоминает занозу, которая бродит у самого сердца, – и тогда желание увидеть в ней (развязке) волю Господнюю или кармический приговор как-то вдруг нестерпимо начинает раздражать.
И вроде бы сознаешь, что объяснение само по себе глубокое и даже исчерпывающее, и душа вроде бы должна найти в нем успокоение… однако не находит, почему? начинаем ли мы в этот момент думать, что все было делом случая? нет, не обязательно! склоняемся ли к тому, что доискиваться до причин бесполезно? да, и это тоже, но инстинктивно продолжаем все-таки доискиваться.
Каков же итог наших попыток постигнуть «квадратуру круга»? мне кажется, что в самой последней нашей глубине: там, где таинственно соединяются все тихие шепоты сердца, все прозрения умудренного сознания и все опыты жизни, как свершившиеся, так и в особенности еще не сделанные, но уже верно предугаданные, итак, в точке соприкосновения главных наших параллелей и меридианов рождается великая догадка об одновременной возможности несовместимых между собой и исключающих одна другую причин: как, например, воли Господней, кармического приговора и случая.
Но ни постигнуть это умом, ни тем более выразить в словах нельзя: и приходится безмолвствовать, и оглушительное это безмолствование похоже как на первую реакцию после обнаружения неверности супруга, в которого мы верили как в самого себя, так и на предчувствие счастливого и взаимного объяснения в любви.
И если как следует взвесить обе составные части нашего пронзительного безответного безмолвствования, то вторая и светлая его субстанция перевесит первую и темную: это и будет тем тонким, но решающим намеком на то, что жизнь есть все-таки, несмотря ни на что, великий дар, а дареному коню, как известно, в зубы не смотрят.
III. (Заметки на полях одного великолепного ухода). – Все-таки человек настолько привязан к жизни, что никакое ухудшение физического состояния не может привести его к добровольному признанию не то что необходимости смерти – тут, как говорится, против природы не попрешь – а как бы даже просто ее желательности в том смысле, что никакой лучшей альтернативы в космическом плане нет и быть не может: и потому в подавляющем числе случаев человек цепляется за жизнь даже лежа на больничной койке с пищеварительным зондом и кислородным шлангом, без малейшего шанса на выздоровление, – и тогда он в полной мере уподобляется попавшему в узкую трубу несчастному, у которого нет пути назад и нужно ползти вперед.
Но беда тут в том, что освобождение от ужасного пребывания в узком и адском туннеле наступает ровно в той степени, в какой происходит разрушение тела и то обстоятельство, что умирающие в последней фазе умирания как правило ощущают странную, необъяснимую легкость, косвенно доказывает буквальную правоту вышеприведенного сравнения: умирающий человек действительно постепенно выползает из страшного туннеля, в котором очутилось его тело, но не назад, в жизнь, а вперед, в смерть, однако осознать это он уже не в состоянии: вместо умирания в сознании умирающего остается одно выползание или просто последнее освобождение.
Иными словами, обычный человек не в состоянии воспринять собственную смерть, точнее, он ощущает самый значительный в его жизни переход не как смерть, а как прорыв к новой и очень тонкой жизни, – но что это за жизнь? принципиально ли она отлична от прежней и земной? а может, она уже есть то самое бытие, о котором в присутствии Левина спорили его брат Сергей Иванович и профессор из Харькова, и которое можно смело считать краеугольной философией самого Льва Толстого? во всяком случае, придав уходу кн. Андрея характер отчуждения от всего живого, Толстой сделал самую удачную художественную зарисовку бытия, которое по определению должно быть, во-первых, эссенцией жизни, а во-вторых, ее же полной противоположностью.
И не беда, что тибетские буддисты утверждают, будто ментальное тело (умершего человека) есть всего лишь всемеро обостренная субстанция его прежнего и живого, не беда, что никакой принципиальной разницы именно с философской точки зрения между этим миром и миром иным нет и быть не может, не беда также, что ни один реально умерший человек не вел себя так, как Андрей Болконский на смертном одре, – все-таки его смерть остается самой потрясающей во всей мировой литературе, а это значит, что бытие существует, но где? только ли в искусстве? или еще и в жизни? или, может, в жизни, понятой как искусство?
Явление Командора. – В жизни нередко случается так, что людям, некогда связанным тесными родственными отношениями, уже нечего сказать друг другу и они расходятся, что называется, как в море корабли, – и находят в иных и новых людях более предпочтительную для них замену, что само по себе вполне нормально и даже неизбежно, однако складывается впечатление, будто такое расхождение по каким-то непонятным причинам не входило в планы главного Режиссера, – и вот тогда Он посылает им последний и заключительный акт драмы: акт, который связывает их крепче, чем когда-либо, хотя и на короткое время, – он обычно заключается в тяжелой и неизлечимой болезни одного из бывших родственников и никто, согласно первозданным законам человеческого бытия, не может от него уклониться: ни тот, кто страдает, ни тот, кто сострадает.
И хотя оба действующих лица за время ухода и заботы успевают сблизиться по-человечески так, как не могли они сблизиться прежде и будучи в тесном родстве, хотя оба, подобно кротким овцам, ищущим приюта во время грозы под одиноким деревом, чуть ли не жмутся друг к другу, предугадывая близкое явление Командора, который, правда, придет сначала подать руку только одному из них, но слишком уж явственно, что точно такое же пожатие холодной десницы ожидает и другого, пусть и гораздо позже, – итак, даже перед лицом этой трогательной и как будто предельной для этих двух людей демонстрации их человечности, точно по закону великого и предвечного контраста, главный Режиссер запускает на сцену не Любовь и Всепрощение в том или ином образе, – а ведь Он мог бы это сделать, у Него есть все возможности, – но именно безжалостную статую Командора, то есть голую, беспощадную и всем своим видом призывающую «оставить любые надежды» Смерть: и в общем-то нет никаких сомнений, что воплощения Любви и Всепрощения явятся позже в том или ином виде, однако в первую очередь драма все-таки должна быть сыграна до конца и с соблюдением всех жанровых правил, – вот что бросается в глаза.
Вообще, если главная цель нашей жизни – то есть та, которую ставит для нас верховный Режиссер, как бы его ни понимать, но отнюдь не та, которую мы сами для себя выставляем – заключается только в том, чтобы умереть в единственно положенное для нас время, в единственно положенном для нас месте и при единственно положенных для нас обстоятельствах, а все остальное, то есть вся прочая жизнь во всех ее неисчислимых подробностях, является всего лишь запутанным, но при ближайшем рассмотрении единственно возможным путем к поставленной цели, – тогда естественно и закономерно, что наша биография до известной степени уподобляется криминальному роману, где развязка умалчивается до последней главы, и решающий вопрос о том, где, как и почему умрет герой, держит нас до последней страницы в определенном напряжении, которое можно назвать здоровым в том случае, если читать роман было интересно даже независимо от неизвестного нам финала, или нездоровым в том случае, если после того как стало известно, кто убил, наш интерес к персонажам полностью свелся на нет, и нам совершенно не хочется вернуться к первым страницам и заново их перечитать.
И потому когда действие жизни подходит к финалу, то есть, как и полагается, все заканчивается смертью, иной раз даже не верится, что умерший – которого, положим, мы хорошо знали – мог прожить жизнь, в которой на первый взгляд ничего, кроме пьянки, склок, сплетен, супружеских разборок и прочего в этом роде не было, и однако тут же – точно ангел в нашем сознании начинает одолевать дьявола – сквозь пену и накипь повседневности в прожитой жизни умершего проглядывают знаки препинания вечного и бессмертного бытия, как то: восклицательный знак выбора профессии, женщины или образа жизни, вопросительный знак разного рода соблазнов, двоеточие выведенных из характера и обстоятельств поступков, чувств и мыслей, тире лучших и высоких побуждений, которые быть может так и не состоялись, точка с запятой вечных сомнений и угрызений совести и, наконец, великая и заключительная точка смерти, – и вот тогда уже не до криминальных романов, с которых, как нам прежде казалось, была списана та или иная жизнь, а читаем мы и перечитываем те биографические места, где не играет никакой роли, кто кого убил, на ком женился, кого родил, кем стал и что сделал, – и вот тогда мы возвращаемся к излюбленным страницам, чтобы взять у них самое чистое и бескорыстное: их художественную субстанцию, которая иногда пользуется, правда, острыми сюжетными поворотами, но ценность которой никогда от них не зависит, так что и никакого разочарования после того как мы дочитали роман до конца, мы не испытываем.
А это и есть главный признак любой художественности: вроде бы все уже знаешь наизусть, а все-таки перечитываешь заново, – вот в повседневной жизни аналогией художественной субстанции является все то, что никогда не приедается, а это опять-таки все те же знаки препинания в бесконечных вариациях, о которых говорилось выше – и даже не обязательно крупные бытийственные срезы, будь то семья, общество или профессия, но любая мелочь жизни, пронизанная ощущением великого и непреходящего бытия, – это и есть, пожалуй, то, что несколько высокопарно обозначается как «священная жизнь»: последняя по отношению к обыденной жизни есть всего лишь невидимая эссенция, но когда она вдруг непонятно по каким причинам исчезает, то человек теряет опору жизни, обращаясь к алкоголю, наркотикам, впадая в самую черную депрессию, и даже выходя на грань убийства и самоубийства, – иными словами, в писательском стиле великого Режиссера угадываются не в последнюю очередь черты классического криминального жанра: по странному совпадению того самого жанра, от которого мы все равно получаем наибольшее удовольствие.
Монументальная символика детских слез и детского взгляда
I. – Эти мгновенно просыхающие слезы в глазах ребенка, который только что был смертельно расстроен и вдруг ему пообещали какую-то радостную мелочь: такая сцена повторяется снова и снова, во всех поколениях и, кажется, во всех народах, – и если бы меня попросили назвать самую характерную особенность детского возраста, мне пришлось бы указать на вышеописанный эпизод: не знаю ничего более трогательного и вместе как бы уже обрисовывающего человеческую природу одним-единственным, но вполне монументальным штрихом.
Этот сиюминутный переход от страдания к радости, эта готовность обмануться мелочью и это хрупкое непостоянство! бывает, что губки ребенка еще искривлены предшествующим смешным страданием, а глаза уже лучатся грядущей смешной радостью, – невольно вспоминается милый сердцу пейзаж, когда солнце после непогоды уже заняло полнеба, а дождичек еще остаточно моросит.
И если есть в мире скрытая гармония, и любые Начало и Конец пребывают в тайном соотношении – а я убежден в этом – то аналогом мгновенного преображения страдания в радость, которое дарит нам детство, является второе и гораздо более потрясающее преображение отчаяния и ужаса смерти у подавляющего большинства неподготовленных к смерти людей в неописуемое астральное блаженство, столь характерное для процесса умирания, – но сравнение с просыхающими слезами в глазах ребенка остается все-таки в силе, потому что астральное блаженство, судя по всему, настолько скоропостижно, что ничего по сути в вечной смене страданий и радостей не меняет.
II. – Подобно тому как иной ребенок под неожиданным, пристальным и дружелюбным взглядом какого-нибудь чудака-взрослого сначала застывает как вкопанный, потом с робким и польщенным удивлением заглядывается на него исподтишка, как правило, спрятавшись за матерью, и под конец в его недоуменных глазках рассеивающееся опасение постепенно сливается с доверчивой улыбкой, – так почти у всех просветленных людей перед смертью сквозит в глазах этот божественный оттенок безоговорочного доверия к тому, что должно произойти.
Это именно не напряженное любопытство Льва Толстого – хотя и оно бесконечно лучше любого страха – но подкупающая улыбка малыша, символизирующая Человека как такового, замечающего роковой и необратимый взгляд на себя Существа, превосходящего его во всех отношениях, и все-таки, несмотря на неумолимость бытийственной роли, способного и даже как бы уже обязанного его понять, простить и полюбить.
Здесь все дело именно в этой искренне-смелой и вместе слегка заискивающей, типично детской улыбке, которая на нормального взрослого оказывает почти всегда обезоруживающее воздействие, – вот она-то и призвана, подобно царской печати, навечно скрепить самовольно провозглашенное просветленными людьми отношение к Смерти как любящему родительскому началу: также и здесь простая интуиция подсказывает нам, что самое лучшее для нас – это пока не поздно научиться такой улыбке.
Приговор не подлежащий обжалованию. – Все-таки что там ни говори, а в час решающего испытания, в чем бы оно ни состояло: в принятии ответственного решения, в необходимости лечь на операционную койку, в заботах о родных и близких, оказавшихся в критической ситуации, не говоря уже о настоящих несчастьях, или просто в резких и необратимых изменениях, которыми всегда беременна жизнь, – итак, в эти судьбоносные часы на нашем лице и особенно в глазах является одно и то же характерное выражение, которое без преувеличения можно назвать Каиновой печатью человеческого бытия, – и состоит оно иногда в тайном, но чаще явном и неустранимом никем и ничем беспокойстве.
Да, мы пронизаны беспокойством, как воздух в пасмурный день пронизан разбавленным замутненным светом, и что бы мы ни делали, о чем бы ни думали и какие бы эмоции нами ни владели, – темное солнце вечного беспокойства просвечивает их насквозь, пронзая тонкой иглой любой жизненный опыт, – так что если даже каким-нибудь фантастическим образом убрать все причины и поводы для беспокойства, исчезнет забота как младшая сестра беспокойства, но само беспокойство останется, – потому что оно неотделимо от природы времени, – помыслить же мир помимо времени нам просто не дано.
Беспокойство является без преувеличения главной музыкальной тональностью нашего восприятия жизни, и даже полный и гармонический покой, который мы в состоянии переживать, – и переживаем воистину, прямо пропорционально благоприятной карме, личной мудрости и удачному стечению обстоятельств, – даже этот прекрасный духовный покой в самой последней своей глубине таит бессмертную Кащееву иглу беспокойства, – и нет лучшего способа постичь великое сопряжение вечного покоя и вечного беспокойства, нежели через внимательное вслушивание в музыку Моцарта и И.-С. Баха: действительно, то ли потому, что эти люди творили в области музыки, являющейся по мысли Шопенгауэра непосредственным выражением Мировой Воли, то ли потому, что им удалось воплотить как никому до и после них обе существеннейшие и быть может единственные антиномии мироздания: жизнь и бытие, то ли по обеим причинам вместе, но Моцарта и Баха в длинной галерее гениев я бы поставил в самом начале.
Как незаметно, всепроникающе и непрерывно работает в нашем сознании дух времени: воспоминания возвращают нас в прошлое, однако, оказавшись мысленно в прошлом, у нас включается фантазия, и вот она уже, соединившись с воспоминаниями, направляет сознание по иным и возможным в свое время стезям, – так происходит своеобразная накладка будущего на прошедшее, и размышление о том, что было бы, если бы… – оно всегда щемит сердце, здесь бездна психологической субтильности, в плане музыкальной тональности – это, конечно, поздний Моцарт: томление жизни, разлитое буквально везде, и даже там, где должен быть вечный покой, – тема Командора.
Напротив, гармоническая уравновешенность, причем в каждой музыкальной строке, отличает И.-С. Баха, – и хотя в баховской полифонии постоянно звучат потрясающе страстные аккорды, это именно страсть от третьего, а не от первого, как у Моцарта, лица, и потому эмоции, получаемые от Баха, не размягчают и не расслабляют душу, а усиливают и концентрируют ее: трудно придумать более укрепляющую и благотворную душевную терапию, чем баховская музыка, тогда как в Моцарте много депрессивного, пусть эта самая великая и прекрасная депрессия, какая только может быть, но это все-таки депрессия, – мне вообще непонятно, как музыка Моцарта может лечить.
У Моцарта постоянное движение – то вверх, то вниз, там взлеты горе и скольжения в бездны, у Баха – сплошное восхождение ввысь, и даже там, где нужно немного спуститься, чтобы начать новое восхождение, он делает все, кажется, чтобы не пойти вниз, как бы «прокручивает» на месте, и все-таки в конце концов продолжает неустанное движение наверх. Прообраз музыки Баха, если оставить в стороне «гармонию сфер» и мысль о том, что если бы Господь-Бог вздумал создать музыку, он бы написал ее, как Бах – немного устаревшие представления – внутреннее развитие человека, просто развитие как таковое, и как бы рост и созревание духовности в душе, безразлично, в каком виде и в какой фазе, всегда от низшего к высшему, и разве что скорее мужское, чем женское по тональности.
Всю жизнь мы что-то делаем – точно скользим по волнам, но наша прожитая жизнь еще более тиха, глубока и загадочна, чем океанские глубины, в нее не войти уже никому, и даже мы сами, теребя ее беспорядочными усилиями памяти, находимся в положении читателя, который, затеяв разговор с любимым персонажем, потребовал бы от него всерьез ответа, – так что пока мы скользим по океанским волнам в нашей утлой ладье, мы – с Моцартом, а Моцарт – с нами, и даже когда мы заглядываем вниз, в глубину, и ощущение устрашающего величия охватывает нас – это тоже все еще Моцарт, – но если бы нам случилось вдруг утонуть, и первый ужас прошел, и восстановилось бы в нас новое, необъятное, великое и не знающее страха посмертное сознание, то это, пожалуй, можно было бы сравнить с музыкой И.-С. Баха.
Прошлое и будущее кажутся двумя гигантскими чашами, в одной из которых плещется жизнь бывшая и навсегда законченная, а в другой находится жизнь грядущая и как бы никогда до конца не способная завершиться, любопытная вещь! хотя будущее, любое будущее рано или поздно станет сначала настоящим, а затем прошедшим, то есть тоже обратится в чистое бытие, а значит нам следовало бы относиться к нему с доверием и видеть в нем источник того «вечного покоя», каким оно когда-нибудь сделается, мы испытываем по отношению к будущему несколько иные чувства и побороть их не в состоянии, будущее всегда и неизменно вызывает в нас смутную, тонкую, не до конца осознанную тревогу: иногда просветленную по тональности, иногда окрашенную беспричинным пессимизмом, мрачными предчувствиями и субтильной скорбью, – и был на земле один-единственный человек, который, можно сказать, адекватно, то есть вполне чувственно и одновременно вполне метафизически выразил эту тревогу будущего в своем искусстве, – Моцарт!
Как явился в мир, точно по странной аналогии, тоже один-единственный человек, воплотивший в своем творчестве противоположность жизни – чистое бытие как извечную субстанцию не только минувшего как такового, но и всего того, что им в данный момент еще не является, но когда-нибудь неизбежно будет – важнейший нюанс! – со всем его вытекающим отсюда всепоглощающим и всепобеждающим гармоническим покоем, непостижимой умиротворенностью при задействовании всех драматических и даже трагических поворотов как на душевном, так и на космическом уровнях, со всей его мужественной и глубоко духовной интимностью, где, кажется, нет ничего кроме непрестанного духовного развития в чистом виде, однако парадоксальным образом отсутствует единственный предмет и субъект духовного развития, то есть человеческое Я… – И.-С. Бах!
Однако даже спустившись из высокой сферы музыкального искусства в приземленную область повседневности, мы находим приблизительно то же самое: будущее не только вызывает в нас безотчетную тревогу, субтильное волнение и необъяснимое беспокойство, но ко всем этим чувствам примешивается еще что-то глубоко нечистое и к тому же абсолютно неустранимое, что-то бередящее и смущающее душу, что-то такое, что, как несмешивающаяся ни с чем гомеопатическая субстанция неспособно ни при каких условиях обеспечить нам душевный покой и дать полное нравственное умиротворение, – вот катарсиса-то, как любили говорить древние, нет и в помине в восприятии будущего! – Моцарт! Мы думаем: как многое изменится в мире через десять-двадцать лет, но нас уже при этом не будет, и это вселяет в нас тонкую горечь и непобедимое сожаление, между тем столетия, тысячелетия, эпохи и зоны минули, и нас в них не было, а может быть мы и были, да ничего в нас от этого не осталось, – однако тем поразительней в том и другом случае ощущение именно катартического покоя и некоего просветленного, если и заинтересованного, то без какой-либо примеси эгоизма, внимания к событиям минувшего, словно речь идет о близких персонажах хорошо знакомого романа, которыми интересуется новый, только что явившийся на сцену персонаж – мы сами, – И.-С. Бах!
Немаловажный нюанс: бытие и Бах – это ни в коем случае не прошлое как таковое, а скорее настоящее и будущее, которым суждено рано или поздно сделаться прошлым, и приять в себя его умиротворенную и всепримиряющую субстанцию, как по аналогии жизнь и Моцарт – это не только настоящее и будущее, но и прошлое, в чреве которого всегда дремлют беспокойство и томление, тоска и тревога, ожидание и скорбь, прошлое, беременное будущим.
Вот математическим доказательством такой беременности являются как раз многочисленные, неоднократно подтвержденные и все-таки непостижимые для человеческого ума предсказания будущего: в самом деле, мы привыкли к тому, что жизнь непредсказуема, и в этом заключается ее величайшее, неотразимое очарование, ведь когда мы отваживаемся на какое-то рискованное предприятие, мы реально осознаем и ощущаем каждой клеткой нашего существа возможность его краха, это порождает в нас тысячи сомнений, опасений и страхов, но параллельно дарит нам и то предельно простое и волнующее ощущение, которое мы не променяем ни на какое другое, и которое есть квинтэссенция жизни. Жизнь – это всегда одновременное наличие двух или нескольких экзистенциальных возможностей, исход которых непредсказуем и одной из которых часто является смерть: если же, напротив, исход известен заранее или предсказуем, ощущение жизни сходит на нет, по этой самой причине люди рискуют, дуэлируют, играют, отваживаются на чреватые гибелью предприятия, на каждом шагу подвергают себя опасности и тому подобное, – и все лишь для того, чтобы с максимальной остротой испытать чувство жизни, – впрочем, общее место. С другой стороны, если бы предсказания будущего не являлись строжайшими исключениями, а стали бы общим правилом, то та жизнь, которой мы живем и к которой привыкли, сделалась бы тотчас невозможной, ну а если забраться глубоко в прошлое, туда, где, казалось бы, нет ничего кроме чистого бытия, и реально, с участием фантазии, ума, воли и вкуса, задуматься о том, как сложилась бы наша жизнь или хотя бы отрезок ее, если бы в свое время мы поступили иначе, приняли иное решение, – из этого прямого накладывания будущего на прошедшее рождаются субтильнейшие веяния жизни, немыслимые для настоящего и невозможные в любой повседневности, – опять поздний Моцарт.
Итак, подытоживая: то невидимое и вездесущее Я, которое является камнем преткновения для практически всех восточных и западных духовных традиций – причем первые стараются любыми путями преодолеть его, а вторые трансформировать и сохранить – явственно присутствует в музыке Моцарта и полностью преодолено в музыке Баха, причем несмотря на это, а может быть благодаря этому, баховская музыка равным образом обращена как к уму, так и к сердцу человека, вызывая в слушателе постоянное ощущение сначала духовного, а потом уже и как бы заодно блаженства чувственного, – быть может это как раз косвенно и свидетельствует о высшей правоте буддизма и индуизма над любой западной философией или религией, тем более что в чисто музыкальном плане, скажем, на уровне фортепианной (клавесиновой) игры Бах значительно превосходит Моцарта: второй мог импровизировать минутами, а первый часами.
Итак, прошлое отсутствует, потому что оно уже прошло, будущее отсутствует, потому что оно еще не наступило, казалось бы, присутствует только настоящее, но нет, также и оно отсутствует, потому что ежесекундно утекает, точно вода сквозь пальцы, – по этой причине Анри Бергсон, французский философ и тончайший аналитик феномена времени, не разделял последнее на три классические категории, но справедливо говорил о» настоящем прошлого», «настоящем настоящего» и «настоящем будущего», а тем самым время, рассматриваемое с такой точки зрения, теряет постепенно свою квантовую, привычную нам природу, приобретая взамен антиномическую, то есть непрерывную и волновую.
В самом деле, что такое единица времени: секунда? минута? час? день? месяц? год? век? тысячелетие? или человеческая жизнь, замкнутая на себя? время насквозь условно, хотя упорно кажется нам абсолютной величиной, – быть может время, подобно свету, обладает и в самом деле двойственной природой, однако какова минимальная единица времени? сорок лет назад физики определили ее как временной промежуток, необходимый свету для прохождения расстояния, равного диаметру атомного ядра, и назвали эту единицу хрономом, но сейчас они, быть может, изменили свое мнение на этот счет, тем более, что нашлись якобы «параллельные миры», и даже мироздание с «обратным течением времени».
Кстати, мир, где события развиваются от будущего к прошлому, математически доказал бы, что никакого объединяющего Начала во Вселенной нет и быть не может, и что в основе мироздания лежит Абсолютная Пустота, в которой, однако, заложены все решительно возможности, как духовного, так и физического порядка, откуда все исходит и куда все возвращается, – последняя, между прочим, и ответственна за то, что любые проявления жизни создают свои собственные время и пространство и в них рождаются, живут и умирают, то есть от начала до конца они динамически замкнуты на себя самих, – в этом плане Оскар Уайльд прекрасно подметил, что милосердие Господа-Бога так велико, что он каждому живому существу подарил свой собственный мир.
Да, все в мире преходяще, но все преходящее оставляет после себя, согласно каузальному закону, кармические следы, эти следы разбросаны по тысячелетиям и они же таинственно объединяют тысячелетия, а заодно и непроходимые пространства в пределах этих тысячелетий, – тем самым от любого временного отрезка, пусть даже тысячелетия, остается как бы вечная тень: его кармическое участие в сотворении мира, которое уже из «Книги бытия» неустранимо, а то обстоятельство, что эта тень порой рассеивается, подобно туману, суть побочное явление: что делать! ну не находим мы пока никаких следов от Атлантиды или Лемурии, но они ведь в любой момент могут всплыть.
И в качестве встречного примера наши более-менее солидные знания о темном Древнем Египте и светлой Элладе, – ведь в каком бы культурно-историческом ракурсе мы к ним ни обращались, чистого и беспримесного ощущения их преходящности нет и в помине: каким-то непонятным образом они продолжают жить в нашем общечеловеческом сознании, и непрекращающиеся разнообразные исследования их жизни и в особенности литература и фильмы о них суть выражения этого нашего живого их осознания, – в конце концов не исключено, что мы в них что-то такое поняли, чего они сами в себе не понимали, – и это означало бы, что их существование для своего осознания потребовало нас, а значит и тысячелетия, нас от них отделяющие, превратились в секунду, не говоря уже о том, что наша связь с ними на уровне глубочайшего осознания тоже практически лежит за пределами времени.
Время, сознанием повернутое вспять, приобретает тем самым глубоко образную природу, которую простоты ради можно обозначить как живую вечность, – здесь также причина того любопытного феномена, что мы не в состоянии, как показывают психологи, ни воспринять первое мгновение нашего существования в этом мире, то есть свое рождение, ни последнее его мгновение, то есть собственную смерть: поэтому мы инстинктивно не верим в свою кончину, не можем себе ее представить и живем так, как будто бессмертны, хотя параллельно отдаем себе отчет в собственной смертности, на каждом шагу видим чужую смерть, мысленно ее переживаем за других и знаем точно, что нас ожидает та же самая участь.
Так художественная природа бытия запечатывает жизнь, не упраздняя ни начала, ни конца, ни пространственно-временной и каузальной связи между ними, но лишь незаметно отнимая у них их абсолютное значение и как бы подмывая почву под ними – глядь! лодка соскользнула с мели и поплыла, – на эту тему у Лермонтова есть прекрасное стихотворение: «Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой», – вот это самое скольжение по океану, состоящему из бесконечных смен настоящего, прошедшего и будущего, скольжение в утлой ладье, которая есть наше бренное тело, скольжение по грани антиномий, которые всегда и на каждом шагу, в ослепительной красоте и вместе смертельной опасности представляет нам жизнь, – это скольжение как основная музыкальная тональность человеческой жизни замечательно выражено в лермонтовском шедевре.
Ибо одно дело – реально пережить ту или иную критическую ситуацию и в особенности смертельную опасность, и совсем другое дело – ту же самую ситуацию рассматривать и обсуждать после того как она пережита: в первом случае мы имеем первозданную и стихийную жизнь, во втором – жизнь, сюжетно оформленную или чистое бытие, – оно тоже текучее, и человек его переживает, что называется, всеми фибрами души, но ясно, что переживание здесь остраненное и отчужденное, и описание пережитого ничем принципиально не отличается от художественного творчества.
Как пространство остается чистым и незапятнанным, какие бы вещи его ни занимали (любимое сравнение тибетских буддистов), так кристально чисто и непорочно бытие, со всех сторон окруженное и до мозга костей напитанное жизнью: так что, строго говоря, вовсе изгнать жизнь и оставить чистое бытие, невозможно, после безостаточного соскабливания признаков жизни со скрижалей бытия остается одна бессмысленная пустота, – это все равно что убирать одно за другим все телесные функции и характеристики, дабы добраться до души.
Ошибочный путь! хотя им шла практически вся классическая западная философия, – тибетские буддисты недаром настаивают в этой связи, что человек сразу после смерти трансформируется в некое ментальное тело, которое несет в себе все основные признаки прежней жизни и прижизненного характера, причем они усилены даже всемеро, душевные же странствия в сорокадевятидневный период между смертью и новым воплощением насыщенны в тибетской трактовке особенным драматизмом, а столько там неожиданных сюжетных поворотов! какова образная характеристика! поистине сродни шекспировскому перу!
Чего стоит одно явление абсолютной реальности как ослепительного Света, к которому люди не привыкли в жизни, которого инстинктивно пугаются и сторонятся также после жизни и потому выбирают другие – мутные, слабые, но приятные и привычные свечения, по цвету голубоватые, зеленоватые, желтоватые и так далее, – вот они-то для блуждающей в астрале от испуга Светом души и представляют, оказывается, самую великую опасность: подобно наземным огням для приземляющегося лайнера, свечения эти означают места предстоящего перерождения – чрево новой матери, а с ним – новую семью, новое окружение, новую нацию, новое время.
Мягкие, теплые свечения магически притягивают уставшие от астральных странствий души, они уже не в силах сопротивляться и продолжать безнадежный поиск, происходит приземление и реинкарнация, – а какими бесконечными страданиями она подчас чревата, это мы ежедневно узнаем из бульварных газет: нет, какова все-таки художественная выпуклость детали при совершенно нехудожественном в общем-то содержании!
Итак, прошлое, настоящее и будущее органически объединены волновой природой времени, это мы ощущаем на каждом шагу в жизни: когда мы, например, непредвзято думаем о прошлом, нам кажется, что если мы в нем и были, то ничего ровным счетом от этого нашего бытия не осталось, однако мы себя прекрасно в этом сознании чувствуем, вот что интересно!
Вместе с тем мы очень даже допускаем, причем не только логически, но и каждой клеткой своего существа, что прошлое и настоящее состоят в каузальной связи, а это значит, что все, что с нами происходит и произойдет в этой жизни, обусловлено так или иначе нашими прошлыми жизнями: смутное, правда, ощущение, но оно всегда присутствует, если прислушаться внимательно к пульсу душевной жизни.
А раз так, то и будущее имеет свой смысл, уже по одному тому, что оно – неизбежно, и хотя будущее по сути настолько же отдалено от нас, как и прошлое – в том и другом мы себя можем узнать примерно так же, как в тысяче темных зеркал, наведенных друг на друга – тем не менее когда-нибудь мы и в нем будем стоять крепко и обоими ногами, как стоим теперь в настоящем, и как стояли прежде в прошедшем.
То есть как будто нарочно получилось так, что связь между прошлым, настоящим, и будущим вышла самая что ни есть незаметная и субтильная, но в то же время, если прочувствовать и осознать ее до глубины души, самая что ни есть живая и экзистенциальная, – мы ведь очень благодарны судьбе за то, что в данный момент более-менее здоровы, хотя давно могли бы лежать в больнице с раковой опухолью, или что прошлогодняя автомобильная авария закончилась пустячно, хотя могла бы закончиться трагически, и все это произошло единственно благодаря «хорошей карме».
Так это или не так, до конца неизвестно, более того, последнее знание об этом отсутствует, но лучше все-таки жить с этим именно сознанием, чем с любым другим, нам попросту не найти в мире лучшего сознания! и точно так же мы будем себя чувствовать в любом будущем, хотя о «себе прежнем» даже не вспомним: также и там мы рады будем, что с нами не случилось пока многого, что могло бы случиться и что случается поминутно с другими людьми – когда же это произойдет и несчастье постучится в наш дом, кармическая связь с прошлым, поверьте! могла бы стать тем единственным горьким лекарством, которое способно лучше всех других врачевать раны жизни, а стало быть и примирить нас с ними.
Так что эта субтильная связь времен, через тысячи и тысячи неосознаваемых нами инкарнаций, быть может, и является единственным воплощением той тихо притаившейся в лоне времени вечности, ради существования и восприятия которой как будто только и сотворен наш мир, – а если это так, то никогда не выйти человеку из круговорота времен, всегда будет у него прошлое, настоящее и будущее, и всегда тень от будущего, медленно падая на проживаемую жизнь, будет вызывать в душе неосознанную тревогу, избавиться от которой точно так же невозможно, как уйти от собственной тени.
В этой связи давно уже обращено внимание на то обстоятельство, что наша ситуация ничем принципиально не отличается от положения приговоренного к смертной казни: единственная разница состоит в незнании смертного часа, если бы он был нам известен, мы в полной мере уподобились бы обитателям смертной камеры и разве что камера эта до поры до времени – пока не пришел час лечь на больничную койку, чтобы уже не встать с нее – является целым миром, – итак, неопределенность смертного часа, то есть уверенность в том, что он придет, и вместе полное неведение насчет того, когда же именно, – эта двойная неизвестность спасает нас одновременно и от ужаса вечной жизни и от страха безостаточного уничтожения.
Но если время, как сказано выше, имеет не только квантовую, но и волновую природу, то есть прошлое, настоящее и будущее не разделены пусть и бесконечно малыми, но онтологически непроходимыми промежутками, то, значит, предсказание будущего принципиально возможно, хотя, как и возвращение в прошлое с целью обнаружения, например, кармических корней, доступно лишь немногим и избранным персонам: причем если возвращение в прошлое, как правило, эпично по духу, то предсказания будущего чреваты, напротив, острейшим драматизмом или даже насыщены субтильной скорбью и тревогой, если речь идет об определении последнего часа.
Хотя здесь нет строгой логики: экстрасенс сообщает нам дату и обстоятельства нашей смерти, но он ничего не говорит нам о том, что будет за нею, ведь какое-то состояние сознания должно быть после завершения земной жизни, – и даже если это «полное ничто», его справедливости ради нужно воссоздать и описать, как воссоздаются и описываются предсказателями завершающие и судьбоносные часы людей, однако это как будто невозможно.
Экстрасенс действительно видит события земной жизни, в том числе и будущей, тогда как события сознания и вообще внутренней жизни он видеть не может, не говоря уже о сознании в будущем, а это, в сущности, и есть самое главное, – лишенные, таким образом, знания о дальнейшем и по-видимому бесконечном нашем странствовании и развитии, которое тоже заложено в нас на бессознательном уровне, мы, получив предсказание, наталкиваемся на ставший вдруг несомненным и зримым собственный смертный час, точно древний римлянин на меч.
А ведь умирающий в последние минуты, вместо того чтобы входить в смерть, как гвоздь в гроб, испытывает, судя по всему, невероятное расширение и углубление сознания в измерениях и масштабах непредставимых для живого и живущего человека, экстрасенс же понятия не имеет о подобных изменениях.
Тем самым искажается перспектива видения будущего: опять-таки одно дело увидеть свой смертный час во всех подробностях, а другое дело увидеть или ясно ощутить тот же час плюс к тому следующую фазу сознания, в чем бы она ни заключалась, – всего лишь изменение перспективы, но оно имеет решающее значение: вот почему в любом предсказании смертного часа незримо присутствует момент ужаса, и душа хоррор-жанра черными крылами чудовищно-громадного тропического мотылька бьется и полощется над тем несчастным, кто по стечению необычных обстоятельств или по собственному любопытству узнал о том, о чем знать ему ни в коем случае не полагалось.
В этой связи хотелось бы обратить внимание на один тонкий парадокс, заключается он в том, что мы не в состоянии пережить собственную смерть, этот любопытнейший момент крепко-накрепко закреплен психоаналитикой: дело тут в том, что самое последнее мгновение своей жизни умирающему просто физически воспринять не дано, точно так же, как засыпающий не может ощутить последнюю минуту перед засыпанием, и сходным образом для новорожденного недоступно восприятие первых минут вхождения в этот мир, – хотя от памяти ускользают не только первые минуты, но и первые недели, и даже первые месяцы, а то и первые годы.
То есть получается, что мы смертны, мы прекрасно осознаем факт и фактор нашей смертности, но саму смерть мы испытать не можем, так уж устроен наш мир, – и вот мы соединяем универсальный и до мозга костей экзистенциальный для нас феномен смерти с обликами мертвого тела, обрядами захоронения, смертельными болезнями, возможными причинами и источниками смерти и тому подобное, – короче говоря, с внешним аксессуаром чужой свершившейся кончины или ее окружением, кончины, которую тот умерший точно так же не ощутил в свою очередь в ее заключительной фазе: он, умерший, лишь замкнулся в момент смерти на самого себя и его прожитая жизнь образовала как бы подобие кокона, в который, повторяем, не в силах проникнуть никто. И в таком коконе, если рассматривать его изнутри, нет решительно ничего устрашающего или даже отталкивающего, напротив, если и искать так называемый «смысл жизни», то только в нем одном, – это ведь не что иное, как хорошо знакомая нам образная сущность человека, зато извне, снаружи кокон смерти выглядит иначе, – это ведь все то же мертвое тело с неумолимо прогрессирующими стадиями разложения: наши память, ум и воображение пытаются соединить несоединимое, так рождается феномен Ужасного, – да и не открыла ли уже психоаналитика, что ужас перед бессмертием едва ли не столь же глубоко заложен в психике человека, как и страх перед смертью? чему нас, собственно, уже теперь настойчиво учит хоррор-жанр.
Или, выражая ту же мысль в стихах. —
Жизнь по привычке устроив, тихо сквозь годы идем, и, ничего не усвоив, все еще лучшего ждем. Вдруг ты, как будто споткнувшись, впилась в незримый остов, и, от меня отвернувшись, замерла в море цветов. Так же сквозь тихие годы идем – а в груди рушатся синие своды: это ведь все впереди.Воскрешение Лазаря. – Положим, что Бога нет, а есть одна материя, последняя возникла из Первовзрыва, в этом согласны нынче все физики и астрофизики, о том же, что было до Первовзрыва, спрашивать недопустимо, потому что само время возникло вместе с Первовзрывом: тем самым можно без конца и края блуждать умом и опытом по бесконечным анфиладам Пространства и Времени – точно часами рассказывать о всех бесчисленных подробностях недавнего отпуска – и все-таки пройти мимо самого главного, то есть возникновениях самих Пространства и Времени, потому что все эти миллионы световых лет, отделяющие одну Галактику от другой, ничем в принципе не отличаются от той или иной поездки на ту или иную бухту во время отпуска.
Стало быть в нескольких предложениях описать суть и прелесть отпуска, не упустив красочных подробностей – это и есть пушкинский завет нам, но можно ли в пушкинском духе поведать о генезисе Вселенной? на серьезном и доказательном уровне это представляется абсолютно невозможным – недаром сама пушкинская манера письма считается устаревшей, почитайте любое современное физико-астрономическое исследование о тайнах космоса – что у него общего с нашим гением лаконизма? зато есть у Пушкина кровный брат по стилю, слава которого давным-давно превзошла пушкинскую славу, а родство до сих пор окутано глубокой тайной, мы имеем в виду Евангелие от Иоанна: вот оно-то, наподобие, скажем, «Маленьких трагедий», и является примером лаконичного рассказа о генезисе Вселенной.
«Вначале было Слово», – гласит его зачин, Слово в самом буквальном смысле признается первоосновой мира, это из Слова было все сотворено, Слово управляет потусторонним миром, Слово выдумало и Первовзрыв, и элементарные частицы, и Галактики, и пространство, и время.
Итак, в трех словах подано сотворение мира, а заодно и главный его действующий механизм: тонкое и невидимое управление материального начала началом духовным, здесь колыбель всякой истинной философии и теологии, ибо идеи Платона, энтелехии Аристотеля, лейбницевские монады, мировой дух Гегеля и мировая воля Шопенгауэра, – все это в конечном счете есть Слово, хотя и по-разному трактуемое, да ведь и Логос эллинов, это общее арифметическое их великого философского наследия, тоже есть всего-навсего Слово и ничего больше, опять-таки в самом буквальном смысле.
Но что же это за Слово? ведь обычно Слово никогда не выходило за пределы языка и мышления, а тут впервые Оно воплотилось в человеческом облике: для эллинов и вообще любого человека, склонного к философии – абсолютно немыслимое дело; чудо? положим, но чудес в жизни много: левитация, призраки, необъяснимые выздоровления, предсказания будущего, инопланетяне и прочие паранормальные явления, – все они зафиксированы и признаны потенциально возможным, – а если так, если материя таит в себе практически все духовные возможности, – значит ничего невозможного по сути в этом мире уже нет.
За исключением опять-таки Иисуса Христа как воплощенного Слова: вот это уже такое чудо, которое ни с каким духовным или материальным опытом людей ничего общего уже не имеет, – с таким же точно онтологическим правом можно утверждать, что Вселенная стоит на трех китах – и баста.
В одном человеке выразились вся суть и весь смысл универсального бытия, это не шутка, такого античность не знала; все думали, что Слово растворено во Вселенной как ее скрытая тайная сущность, а люди всех времен и народов в меру своих способностей и по крупицам собирают и выражают ее, – не тут-то было: Слово выразилось целиком и полностью в одном человеке, а поскольку облик, судьба и миссия этого человека ничего общего с интерпретациями Слова другими народами – прежде всего древними эллинами – не имело, постольку все эти интерпретации пришлось признать ложными: им, как двум медведям в одной берлоге, нельзя было отныне ужиться.
Итак, философия, а заодно искусство и прочие религии тотчас отпали за ненадобностью, однако жалеть тут совершенно не о чем, поскольку воплотившееся Слово есть по самому своему определению Бог, в данном случае – сын Божий, а если Бог, который представлялся прежде многоликим, загадочным и непостижимым, явился во плоти – что же может быть конкретней? – тогда, действительно, дальнейшие гадания о Слове делаются праздными и даже вредными.
Иисус мог исцелять больных и творил чудеса – это исторически подтверждено, хотя тот немаловажный факт, что и многие другие люди могли и могут по сей день исцелять больных и творить чудеса, остается пока за строкой: чтобы понять и прочувствовать сердцевину христианства, нужно всегда помнить, что никакие самые глубокие и тонкие мысли, когда-либо высказанные мудрыми людьми, и никакие великие исторические свершения не имеют с точки зрения христианства ни малейшего отношения к истине, но только Он один – и в каждом моменте своей уникальной биографии, итак, на одном Иисусе Христе нужно концентрироваться – и больше ни на чем, все остальное как бы само приложится.
В Его судьбе мы имеем, таким образом, совершенное единство биографии и бытия, пусть ценность других людей измеряется какими-то отдельными словами и делами, а между ними – пустоты, двоеточия и запятые, зато в биографии Иисуса Христа важна каждая деталь, драгоценна любая подробность, разумеется, и там есть какие-то поворотные моменты и композиционный стержень: рождение от непорочного зачатия, учение о любви, община учеников, предательство, суд, крестная смерть и воскресение.
Но поскольку особенность воплощения Слова заключалась не в какой-то потрясающей философии или произведении искусства, а человеческой жизни как таковой, со всеми ее невзгодами, разочарованиями и страданиями, постольку евангельский сюжет имеет право претендовать на ту исключительную смысловую гомогенность, которая как раз является отличительной чертой любого настоящего искусства.
Недаром Иисус так прямо и сказал о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь», – но кто же посмеет утверждать, что одна извилина пути важнее другой? или одна частица истины полнее другой? или одна фаза жизни драгоценней другой? тем самым и все человеческие судьбы уравнялись в каком-то последнем – и божественном – смысле, тогда как прежде разного рода иерархии власти, красоты или ума царили на земле.
Но тогда не учение возвещает истину, а сюжет, одним из элементов которого является учение: своего рода монолог главного героя, а если так, то и любая деталь такого сюжета может иметь решающее значение.
Стоит обратить внимание, как трактовались те или иные моменты в Иисусовой духовной и личной биографии, – и уже в зависимости от этой трактовки возникли не только три основные ветви христианства, но и все их дальнейшие ответвления, все известные нам секты, и шире – все бесчисленные оттенки личного верования: ну точь-в-точь как филологические исследования какого-нибудь Достоевского, коим нет числа… но где же тогда, спрашивается, сам Достоевский? в своих романах, конечно, однако разве попытки доскональней понять романы несовместимы с этими романами? и да и нет.
Когда Истина принимает образ судьбы человека, она достигает своего апогея и в известном смысле перестает существовать, – такова истина искусства, и такова же истина жизни и бытия, если признать за ними и в них измерение искусства.
Один из самых загадочных эпизодов жизни Иисуса, напоминающих и поцелуй Великого Инквизитора, и примирение мужа и любовника Анны Карениной во время родов, и всего Кафку, – это без сомнений воскрешение Лазаря: Лазарь был братом Марии и Марты, вряд ли он испытывал особую близость к Иисусу, Лазарь был уже в то время серьезно болен, и Мария, умащая ноги Иисуса мировым маслом, просила Учителя исцелить брата, однако Иисус не пожелал этого или не успел, и тогда уже Марта принесла Иисусу скорбную весть: Лазарь умер, Иисус скорбел и плакал, а потом отправился к могиле Лазаря, «Отодвиньте камень», – потребовал Он. – «Но умерший уже смердит, – возразила Марта.
Действительно, уже четверо суток пребывал Лазарь в состоянии смерти, Иисус воздел глаза к небу, прежде он лишь врачевал, но врачевать могли и раввины, теперь он переходил черту: повелевающий смертью был истинный Мессия, отодвинули камень, Иисус громко крикнул вглубь пещеры: «Лазарь, иди вон» – «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его было обвязано платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет».
Звучит по-органному мощно, действительно: что может зримей и убедительней символизировать власть духа над материей, чем воскрешение из мертвых? но есть там и одна побочная мелодия, которая коробит слух: с Лазарем обращаются, как с собакой. «Иди вон, – приказывают собаке, – и тут же, как бы поясняя рядом стоящему человеку, – пусть идет»: кстати говоря, любимая сцена Достоевского из Евангелия, она же смысловой центр романа «Преступление и наказание».
Но нужно все это представить себе воочию: посиневшее смердящее вздутое тело с черными пятнами, ссадинами и кровоподтеками, в полуразорванных погребальных пеленах и с безумным взглядом, не до конца осознающим, что с ним происходит и зачем его заставляют двигаться, вторгается в привычную жизнь.
Черт, как известно, сидит в детали: есть закон соответствия внешнего облика и внутреннего состояния души, – теперь мы знаем, что в состоянии клинической смерти люди нередко отправляются в астральные путешествия: чаще в райской тональности и гораздо реже в тональности адской, но возвращаются они в жизнь всегда так или иначе потрясенные до глубины души и внутренне преображенные, при этом разрушение физического тела ни в коем случае даже не началось, это решающий момент: люди возвращаются в жизнь в теле, куда еще не успела войти смерть.
Нам не дано знать, что испытывает душа, когда ее тело подвергается разложению, судя по всему, она такое тело заведомо оставляет, а значит в телах с начавшимся разложением могут пребывать только адские души, – гоголевская панночка, вампиры, Франкенштейн, зомби и в конечном счете хоррор как условие, результат и атмосфера запретной игры со смертью.
В наше время продление жизни с помощью медицинских аппаратов обогащает сюжет о Лазаре новым жанровым нюансом: можно, оказывается, годами пребывать в теле, но не жить полноценной жизнью, лишь отодвигая смертный час; мы не знаем, что испытывал воскрешенный Лазарь: желал ли он вообще своего воскрешения в прежнем теле? что из астральной жизни успел он увидеть? а может, и не умер он вовсе, а был похоронен заживо, как это, увы! случалось с тысячами и тысячами людей?
Увы! нет никакой возможности установить полную картину фактов, – и вот большинство теологов, психологов и писателей, прислушиваясь к голосу интуиции, склоняются к тому, что воскрешение Лазаря было одной из самых черных страниц в Книге человеческого бытия.
Евангелист Иоанн, правда, сообщает, что позже Лазарь возлежал рядом с Иисусом, но почему тогда ни один из прочих евангелистов ни словом не упоминает о Лазаре? и как подобное стремится к подобному, так тень одного раннего и скорее эпизодического воскрешения ложится на другое, чуть более позднее и монументальное, а чтобы убедиться в правоте вышесказанного, нужно всего лишь припомнить взгляд Лазаря, который, хотя и описан человеком, жившим на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий, является авторитетом родственным евангелистам как по букве, так и по духу, потому что все они в первую очередь художники, и лишь во вторую документалисты, вот как описан этот взгляд.
«Это было на третий день после того, как Елеазар вышел из могилы. С тех пор многие испытали губительную силу его взора, но ни те, кто были ею сломлены навсегда, ни те, кто в самих первоисточниках жизни, столь же таинственных, как и смерть, нашел волю к сопротивлению, – никогда не могли объяснить ужасного, что недвижно лежало в глубине черных зрачков его. Смотрел Елеазар спокойно и просто, без желания что-либо скрыть, но и без намерения что-либо сказать – даже холодно смотрел он, как тот, кто бесконечно равнодушен к живому. И многие беззаботные люди сталкивались с ним близко и не замечали его, а потом с удивлением и страхом узнавали, кто был этот тучный, спокойный человек, задевший их краем своих пышных и ярких одежд. Не переставало светить солнце, когда он смотрел, не переставал звучать фонтан, и таким же безоблачно-синим оставалось родное небо, но человек, подпавший под его загадочный взор, уже не чувствовал солнца, уже не слышал фонтана и не узнавал родного неба. Иногда человек плакал горько; иногда в отчаянии рвал волосы на голове и безумно звал других людей на помощь, но чаще случалось так, что равнодушно и спокойно он начинал умирать, и умирал долгими годами, умирал на глазах у всех, умирал бесцветный, вялый и скучный, как дерево, молчаливо засыхающее на каменистой почве. И первые, те, кто кричали и безумствовали, иногда возвращались к жизни, а вторые – никогда».
Как получилось, что этот небольшой рассказик под названием «Елеазар» далеко превзошел все прочее написанное Леонидом Андреевым? только так, что он, как любое великое искусство, восполнил давний пробел, как бы умышленно оставленный Ходом Вещей, – этот Ход Вещей, под которым можно подразумевать и материю, и дух, и Бога, и все их мыслимые и немыслимые комбинации, в конечном счете более всего подобен одаренному художнику, который вынужден иной раз хотя бы набросать замысел – у него голова трещит от сотен подобных и параллельных – а потом, спустя годы или столетия – время для него не играет никакой роли – вернуться к нему и не спеша обработать.
Так что, подытоживая, можно сказать, что и Достоевский и Леонид Андреев по-своему одинаково правы, потому что воскресение духовное и физическое – совершенно разные вещи.
Искушение древнее как мир. – В предсмертный час готовящееся покинуть тело сознание видит уже и заветный туннель сквозь рушащиеся обломки комнатного пространства, видит и Свет в конце его, предугадывает и Великое Существо, которое без упрека и с любовью спросит его о том, как он прожил жизнь, и отпустит дальше – в бескрайние астральные сферы: словом, сознание или душа готовы, наконец, попасть туда, куда они, согласно своей внутренней природе, всю жизнь стремились – к чему-то Высшему, да в последний момент как назло является воспоминание о чем-нибудь земном и ничтожном, но таком великом и трогательном, что отбросить его в сторону сразу и без колебаний оказывается невозможным: ну, скажем, воспоминание о первой любви, или о том, как впервые увиделось море, или о первом впечатлении от «Трех мушкетеров», да подобных моментов в жизни каждого не счесть, ими и жизнь красна.
И вот вам все восхождение идет к черту: ведь по убеждению буддистов последнее сознательное мгновение уходящей жизни есть уже первый бессознательный момент жизни надвигающейся, а это звучит очень даже правдоподобно, – и все начинается сначала: душа, вместо того чтобы подниматься в высшие сферы, возвращается на землю и начинается новая жизнь, – и так всякий раз, снова и снова, без конца и краю, без надежды на вечное успокоение и без страха навсегда потерять жизнь.
Наверное, это самый правдоподобный сценарий вечного круговорота жизни, потому что его правота начинается с ощущения настолько тонкого и вместе достаточно телесного, что сравнить его можно разве что с регистрацией в сознании появления первых морщин на ботинках или со столь же необъяснимым чувством внезапного и крошечного удлинения ногтей, – и лишь потом является вопрошающий, озабоченный и до сумасшествия глубокий взгляд, который, сверяя данные метафизических уровней сознания со свершившимися предметными и физиологическими изменениями, видит великую правоту поначалу гипотетического сопоставления, а заодно и впервые догадывается, что так оно и есть на самом деле, – и вот только вслед за взглядом, как за поводырем, истина на ощупь приходит в сознание.
Шаг в небо. – По-хорошему, единственный смысл явления смерти – то есть такой, который каждый человек сию же минуту, на месте, охотно и безоговорочно готов в ней признать – должен был бы заключаться в том, что, поскольку перед смертью человек стоит обычно перед выбором: умереть или жить дальше, но на гораздо менее выгодных, мягко говоря, условиях, то есть таких, которые чреваты – по крайней мере в последней фазе – настолько невыносимыми страданиями, что на фоне их смерть должна показаться каждому поистине желанным освобождением, и человек именно добровольно – в этом-то вся и соль! – должен был бы предпочесть смерть продолжению жизни, – и так в общем-то очень часто и происходит, но не всегда, и люди тоже нередко умирают внезапно и в расцвете сил: правда, в последние минуты или секунды они чувствуют то же самые, что и старики, у которых не хватает сил сделать еще один вздох, – таким образом, все дело здесь в разнице во времени: следует предположить, что она (разница) для смерти и стоящих за нею высших сил не имеет никакого значения, чего нельзя сказать о нас, простых смертных: мы по странной привычке склонны цепляться за каждый прожитый день, – однако, с другой стороны, больше всего на свете мы в конечном счете ценим наше так называемое «внутреннее развитие», и всем нам свойственно куда-то стремиться, иные плетутся по горизонтали, другие восходят по вертикали, но вторых мы всегда и единогласно предпочтем первым: так почему бы сразу не шагнуть в небо? ведь для этого нужно так мало (хотя и так много одновременно) – всего лишь взглянуть хотя бы раз и пристально на собственную жизнь с точки зрения существ, наверняка превосходящих нас в духовном отношении, то есть смерти и стоящих за нею высших сил, и дальше только придерживаться во всем этого правильного взгляда.
Искатели приключений. – Если закон энтропии, согласно которому любая энергетическая система стремится к сохранению динамического равновесия, действительно лежит в основе фрейдовского «инстинкта смерти», и любому человеку – шире, любому живому существу – присуще компульсивное стремление вернуться в неопределенное состояние, из которого он (или они) вышел (или вышли), то это столь же глубокое, сколь и спорное утверждение Зигмунда Фрейда, как и родственный ему постулат Шопенгауэра: «Целью жизни является смерть», следует уточнить в том смысле, что (по крайней мере) люди и в самом деле очень часто внутренне идут навстречу смерти (самоистязание как эпиграф к творчеству Достоевского), однако в последней они видят или, лучше сказать, предчувствуют отнюдь не аморфное и безжизненное состояние, а как бы некий апогей неопределенности и вместе предельную концентрацию невиданных и недоступных человеческому уму и воображению возможностей, – и как энтропия не является последней физикальной истиной Вселенной – ибо откуда же тогда возник Первовзрыв? – так точно инстинктивное возвращение к «дожизненному» состояние есть одновременно и прыжок в неизвестное будущее, и любой человек, склонный к жестокости, агрессии, самоубийству или убийству – вот они, классические по Фрейду психологические манифестации «инстинкта смерти»! – я уверен, на месте согласится, что именно этот момент, подобно Кащеевой игле, и лежал в сердцевине его разрушительных и саморазрушительных действий, – так что мы нисколько не погрешим против истины, если скромно провозгласим, что не склонность к жестокости в бесконечных ее интерпретациях, а именно тяга к приключениям в самом широком смысле как ближайший жизненный аналог прыжка в Неизвестное – чем всегда и везде, при любых обстоятельствах и для любого человека является смерть – итак, эта самая тяга к приключениям, стилистически объединяющая все решительно выдающиеся, да и просто оригинальные деяния людей во всех сферах практической, духовной и религиозной деятельности, будучи по определению одним из благороднейших побуждений человека, является вместе с тем и самым простым, самым естественным и самым центральным выражением фрейдовского «инстинкта смерти».
Ну а то обстоятельство, что любовь к приключениям – да здравствует детство и юность! – едва ли не в большей мере выражает также «инстинкт жизни» – и это уже точно каждый знает по собственному опыту – следует отнести, наверное, к тем счастливым случайностям, которые лишний раз подтверждают, что между жизнью и смертью существует действительно какая-то очень тонкая и глубокая связь.
Прощание. – Если во взгляде на природу смерти исходить из представлений буддистов или гималайских йогов – а не исходить из них, скрупулезно и беспристрастно рассмотрев все прочие точки зрения на этот очень важный для нас предмет просто нельзя – то обращает на себя внимание следующее любопытное обстоятельство: между последним мгновением жизни и тем, что за ним последует, точно такая же разница, как между любыми двумя сколь угодно малыми промежутками времени повседневной жизни, потому что в той степени, в какой смерть является прыжком в Неизвестное, меняется и сознание умирающего, все более приготовляющееся к такому прыжку.
Так проносящийся над нашей головой истребитель кажется нам молниеносным, тогда как глядя на него из кабины другого и рядом с той же скоростью летящего истребителя он представляется застывшим в воздухе, – вот почему самое лучшее утешение для умирающих состоит в том, чтобы по возможности каждым взглядом, каждым словом и каждым жестом давать им понять, что ничего особенного не происходит, что все хорошо и что нет по сути никакого преимущества у того, кто остается, как равным образом нисколько не проигрывает и тот, кто уходит.
И как первый – тот, что с любовью держит руку, пока не совершится последний затяжной выдох, покинет комнату и займется своими делами, так второй, покинув обезжизненное тело, тоже займется своими новыми делами.
И единственная разница состоит только в том, что невозможно с точностью сказать, какими делами он займется, но в любом случае следует предположить, что после некоей непродолжительной торжественной церемонии, способной внушить некоторый страх или некоторое восхищение, дела эти примут более-менее привычное обыденное направление.
И уметь заранее их в подобном ключе воспринимать, – а для этого нужно самому в это искренне верить – есть, по-видимому, наилучшее утешение для умирающих: поэтому одинаково хорошо до последнего держать руку близкого человека или, отлучившись почему-либо на минуту, пропустить тот решающий момент, после которого держать ее уже не нужно.
Кто знает, быть может тот близкий человек только и ждал, что вы на минуту уйдете: чтобы уйти, наконец, самому.
Преображение
Взовьются выси голубые стремглав – завесой эшафота, и чувства прежние, живые, как оборвавшаяся нота, последним взвизгнув диссонансом, замрут над нами – неземными… а мы под траурным убранством, такими станем вдруг иными, что все, чем жили мы когда-то, взглянув в нас сбоку ненароком, вдруг отвернется виновато с таким нечаянным упреком…Геометрия Лобачевского. – Замечательно выразился Мишель Монтень о том, что смерть нужно ждать в сапогах и за привычным делом, которое, однако, следует оставить без сожаления, – действительно, ведь после исполненного внутренней тревоги прохождения через Туннель, после великого и торжественного предстояния перед блаженным и безбольным Светом, после свидания с умершими родственниками и после кажущихся нам волшебными безграничных перемещений во времени и пространстве происходит… вот именно, что? да по всей видимости то самое, что мы на каждом шагу и наблюдаем вокруг: появляется вдруг откуда ни возьмись завернутое в пеленки маленькое красное кричащее тельце, и люди с умиленными улыбками склоняются над ним… спрашивается, созвучны ли с такой сценой идеальная смерть кн. Андрея или тем более добровольные уходы из жизни восточных Мастеров? никоим образом! а вот ожидание смерти в сапогах и за привычным делом более-менее созвучно, однако опять-таки не для всех, хотя и для подавляющего большинства, – итак, для кого Чехов, а для кого Лев Толстой: в смерти, таким образом, соединяются как две казавшиеся несоединимыми при жизни параллельные прямые, предельное человеческое равенство и предельное же художественное неравенство людей.
Вечная музыка одиннадцатой Одиссеевой песни. – Если буддисты правы и каждое мгновение жизни уникально и неповторимо, а значит оно непрестанно отсекает от вечного потока бытия одну частицу нашей сущности за другой, замыкая их и увековечивая в себе, как в золотой капле янтаря, – но это ведь и есть самая настоящая, пусть и «малая смерть», и она отличается от смерти большой и окончательной только количественно, но никак не качественно, то есть получается, что мы умираем не на словах, а на деле каждую минуту и не замечаем этого лишь по причине постепенного и волнового характера изменений.
Но иногда пазы времени раздвигаются и обнажается ее вторая и антиномическая, «гамлетовская» и квантовая природа, и вот она-то нас всегда и без исключения шокирует: так бывает, скажем, когда вы после двадцатилетнего отсутствия возвращаетесь в родные места.
Вы встречаете там друзей детства и юности, но на их обликах лежит что-то не от мира сего, нечто потустороннее, они напоминают вам теней, блуждающих в Аиде, а вы сами себе напоминаете Одиссея, сошедшего в Аид.
И тогда вам приходится заколоть жертвенное животное и угостить друзей и приятелей живой дымящейся кровью: иными словами, вы припоминаете в разговоре какие-то детали, которые поистине кровно связывали вас в те дальние минувшие годы, ибо все остальное уже не способно связать вас (слишком уж много было у вас и у них мгновений-смертей), по причине которых вы друг для друга почти что умерли.
Но именно почти, и если Одиссей встретился с матерью и соратниками по битве за Трою даже после их последней и окончательной смерти, то что тогда говорить о вас и ваших друзьях, всего лишь разделенными парой раздельно прожитых десятилетий?
И все-таки смерть есть смерть, сколь мала бы она ни была, и нужен древний обряд, чтобы пройти сквозь нее… и пока вы, интуитивно постигнув великий обряд, раздуваете памятью и воображением полузатухшие угли былых событий, где вы действовали плечом к плечу с вашими визави, вы возбуждены, голос ваш вибрирует, а глаза светятся: вы и они живете поистине полноценной жизнью.
Но это, увы! ненадолго – как только все темы исчерпаются и драгоценные детали совместного прошлого охладеют и потеряют остроту, начнется естественное и неостановимое взаимное отторжение, и ваши друзья и приятели постепенно опять обретут в вашем восприятии (и наоборот, надо полагать) природу загробных теней.
Да, когда жертвенная кровь связующих воспоминаний испита, каждому надлежит возвращаться на круги своя.
Но если прежде чем отойти, одна из теней скажет о вас напоследок что-нибудь особенно неожиданное, простое и веское, то знайте, это и будет последним словом о вас: там ведь, в Аиде все видят насквозь.
И только Будда и Гомер, из бездны вечного бытия с уважением засвидетельствовав взаимную правоту, проницают невидящими глазами ход земных вещей глубже и дальше загробных теней.
Рассекаемые мечом обоюдоострым. – Андре ван Лиз-бет – один из лучших знатоков йоги в Европе – приписывает выражение торжественного покоя в лице только что умерших – толстовская тема! – невольно свершившемуся расслаблению, – но это лишь при условии закрытия глаз: почему-то, в отличие от черт лица, которые действительно приобретают выражение покоя, немыслимое и невозможное в земных условиях, открытые глаза умерших внушают мистическое беспокойство и даже ужас.
Здесь сокрыт глубочайший смысл: черты лица, которые являются как бы профилем личности, музыкально соотносимы с той ролью, которую человек играет в жизни, во всякой же роли есть нечто сверхличное, что-то такое, что было до человека и, значит, будет после него, роль как начало сверхличное и сверхчеловеческое как раз и придает смерти любого человека глубоко успокоительный характер – по принципу: «Король умер, да здравствует король!»
Вот почему лицо умершего сравнительно долго сохраняет недоступное в жизни величие и достоинство: это в конечном счете величие и достоинство той роли, которую сыграл или мог бы сыграть в жизни человек, – так что даже в том мыслимо неблагоприятном случае, когда человек ровным счетом ничего нигде не достиг, уйдя по ту сторону только «простым смертным», он все-таки успел сыграть благородную роль хрестоматийного Кая, который просто – родился, жил и умер.
А вот глаза человека, его взгляд суть прямое отражение его внутреннего Я, поскольку же Я на корню срезается косой смерти, это не может не отразиться на взгляде, который мгновенно приобретает пустое и мертвое выражение и, чтобы его скрыть, умершим обязательно закрывают глаза.
Вообще же, после смерти выражение лица человека делается настолько возвышенным, что кажется, будто тот, кто прежде жил в этом теле, и тот, кто в нем теперь упокоился, суть разные и несовместимые между собой существа.
В эти часы снимается с умершего посмертная маска, впечатление от нее самое неизгладимое, потому что тот, с кого она снимается, не принадлежит на данный момент ни прежней своей жизни, ни возможному астралу, ни будущим собственным инкарнациям, он вне бога и вне любых живых и мертвых существ, он вытеснен из прежних «пазов жизни», но еще не опрокинут в следующую и заключительную фазу окончательного разрушения тела. Быть может умерший в посмертной маске просто есть, помимо определений того, что именно от него здесь и теперь есть: полное отсутствие воспоминаний и сожалений о прошлом, помноженное на столь же безостаточное отсутствие надежд на будущее, дает вполне убедительное, хотя и всего лишь психологическое, представление о том, чем может быть жизнь, обратившаяся в чистое бытие. Пройдет время – и на смену маске явится череп, тогда уже можно будет взять его в руки, как это сделал Гете с черепом своего друга Шиллера (хотя это был совсем другой череп, но не будем трогать легенду), а до него Гамлет с придворным актером Йориком – и не испытывать того благоговейного ужаса, который непроизвольно внушает посмертная маска.
Ужас прошел, потому что прешла индивидуальность, и все же поразителен тот факт, что умерший, возвратившись в лоно земное, долго и по сути никогда не смешивается с субстанцией земли: как проницательно отметил еще Леонардо да Винчи, морфологическое строение скелета принципиально неидентично структуре геологических напластований, да, человеческий скелет иной, нежели скелет земли, – индивидуальность, следуя своему роковому предназначению, даже в смерти как будто не желает возвращаться в материнское лоно природы и смешиваться с ее прахом. Очевидно, каждая фаза существования человеческого тела имеет свой особый смысл, и если в момент снятия посмертной маски мы еще можем допустить, что состояние, которое она выражает, выше и запредельней даже света, обещаемого иными религиями, то с момента разложения тела следует думать, что теперь уже, действительно, умерший к этому телу никакого отношения не имеет, – и либо вообще не живет, либо живет в другом (астральном) измерении, либо его кармические энергии создали новую личность. Сюда же сильная, странная, резкая мысль английского священника и философа Джозефа Гленвилла (1636–1680) из книги «Очерки о многих важных предметах», взятая Э. По в качестве эпиграфа к его знаменитой «Лигейе». – «И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – не что иное как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей». Вот почему в той степени, в какой умерший исчезает из мира, растворяется в иных субстанциях: земли, огня или воды, в зависимости от способа захоронения, – в той самой степени имеет место феномен катарсиса. Мне вспоминается одна эпитафия, которую много лет назад обнаружил я на безымянной могиле при Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. – Прохожий, ты идешь но ляжешь, как и я. Присядь и отдохни на камне у меня. Былиночку сорви – и вспомни о судьбе. Я дома, ты в гостях – подумай о себе. Восемь лаконичных немудреных строк, а не уступит, кажется, ничему в мировой лирике, отчего? да оттого, что мы находимся под впечатлением, будто сам умерший послал нам весточку из того мира.
У Лермонтова есть нечто подобное, но в одном случае – «Мне снился сон – в долине Дагестана…» посмертное состояние поэту как бы снится, а в другом – «Выхожу один я на дорогу…» о том же состоянии говорится в сослагательном наклонении. Между тем эпитафия, написанная в лирическом жанре, кажется нам вполне правдоподобной, а дальше этого, как известно, не может идти никакая поэзия; искусство вообще есть чистый вымысел, здесь же перед нами пограничный случай: с одной стороны, мы имеем дело как будто с реальным событием, человек фактически умер, но прежде распорядился выгравировать на собственном надгробном камне два сочиненных им – а может быть и не им? – четверостишья, с другой стороны, впечатление таково, что, умерев, автор эпитафии окончательно удостоверился в полной правоте своих слов, – не образ, созданный им, а он сам. И это производит несколько шокирующее впечатление, мы никогда не припишем автору анонимной эпитафии эпитет лирической гениальности, зато когда все без исключения великие стихи, которыми мы так восхищались в юности, с годами обветшают и забудутся в набравшем опыта и мудрости сознании, подобно декорациям однажды потрясшего нас спектакля, упомянутые восемь наивных, но чрезвычайно пронзительных строк останутся в памяти как огненное клеймо. Заодно о жанре эпитафии: отнюдь не всякая эпитафия удачна, напротив, как часто встречаются на кладбищенских камнях, особенно в средиземноморском ареале, разного рода посвящения, титулы, пожелания родных и даже фотографии молодых лет, все это достаточно неуместно и безвкусно, потому что в корне не соответствует положению дел, – смерть ведь упразднила начисто и безвозвратно чувственный облик человека – о каких фотографиях может идти речь? Стало быть и посвящение на могиле должно быть предельно скромным, например, имя и даты жизни, как распорядился Шопенгауэр, или еще лучше – безымянная могила, но ее устраивает обычно не человеческая рука, а судьба, иногда под маской стечения обстоятельств: так, монастырь св. Флориана в Амбуазе (Франция) был сровнен когда-то с землей, и останки Леонардо да Винчи оказались в общей могиле, какая общность судеб с Моцартом – его духовным собратом! В прошлом веке американский актер Стив Мэк Квин выказал отменный вкус в оформлении собственного захоронения: он завещал предать тело кремации, а пепел развеять с самолета над Калифорнией. Итак, что же хочет нам сказать удачная, талантливая, оригинальная эпитафия? всегда одно и то же: что умерший не уничтожен вполне смертью, но перешел в бытие, о котором мы не имеем представления, и о котором должны поэтому целомудренно молчать, не только ради него, чтобы не оскорбить его покой и память нашими произвольными, навязчивыми, а иногда просто нелепыми домыслами, но также ради себя самих, – дабы сохранить собственное достоинство и право на элементарную житейскую мудрость. Этот «инкогнито из Петербурга», живший, судя по состоянию могилы, где-то во второй половине восемнадцатого века, несмотря на малость своего творческого наследия, все-таки «уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог». В посмертной маске, вообще облике только что умершего человека слиянность его с тайной смерти полная, она и действует на нас поэтому наподобие шока, катарсиса как такового здесь быть не может, катарсис начинается с устранения с лица земли мертвого тела и оставления на его месте символических о нем напоминаний: могилы, креста, статуй, молитв, слез, цветов и тому подобное, но в первую очередь, конечно, воспоминаний. Так было и с Пушкиным: сначала с него сняли маску, потом было отпевание в Конюшенной церкви, положение Жуковским и Вяземским перчаток в гроб, погребение в Святогорском монастыре, затем скорбь всенародная и вечная память, – здесь-то и свершилась – как вечно свершалась и будет свершаться – подстановка Того, что не имеет имени, Тем, что так легко и послушно облекается в слова.
Не только ранняя и героическая кончина поэта умножила многократно художественный вес его творений, а также светло преобразила его преимущественно темную в зерне личность – ибо, умри Пушкин на тридцать лет позже, неизвестно, что бы от него осталось, в том смысле, что осталось бы наверняка меньше, чем теперь, – но она, эта героическая кончина, вообще как бы сыграла роль полностью противоположную той, какую она должна играть в судьбе простого смертного: вместо того, чтобы показать воочию, трупом и безобразным разложением, тщетность земной суеты, – да, таков именно главный урок смерти и ничего другого она нам сказать не хочет! – так вот, вместо этого насущного и необходимого людям, как воздух, урока, пушкинская смерть, напротив, вознесла и его творчество, и его самого в какое-то немыслимое измерение по ту сторону земных и небесных критериев, – чисто художнический, впрочем, вариант славы и бессмертия. Иными словами, смерть в случае Пушкина как будто достигла цели противоположной той, к которой, очевидно, стремилась, что это – исключение из правил? прерогатива гениев? или парадокс, лежащий в самой основе бытия? нет, все правильно: смерть как остановившееся прощание, по слову Рильке, есть в высшей степени поэтический феномен, и за ним скрывается вполне реальный смысл, – какой?
Смерть как прощание: кого с кем? положим, нас, пока еще живых, с теми, кто умер, последние ушли и никогда не вернутся на землю, но ведь мы тоже когда-нибудь уйдем вслед за ними, возможна ли встреча? вряд ли, – покинувшие этот мир уходят не в какое-то одно, общее для всех специфическое духовное пространство, а у каждого из них, по-видимому, есть своя «дверь в стене», и тогда уже никто никогда ни с кем не встретится, а если и встретится, то ненадолго: такая встреча даже нежелательна, настаивают эзотерики, она служит только тому, чтобы подкрепить мужество новопришедших и показать им их дальнейший путь, все, а дальше они опять идут одни, – этот момент и символизирует «остановившееся прощание».
Вот почему в искусстве не следует слишком подробно распространяться насчет того, куда именно ушли умершие: этого знать никто до конца не может, и мир наш так устроен, что почему-то чрезвычайно важно, чтобы никто об этом ничего до конца не знал. Какое простенькое правило и как нетрудно его уважить, настоящие, великие художники инстинктивно всегда ему следуют, но не только искусство – также и повседневная жизнь бесконечно выигрывает в поэзии, когда следует ему, и столь же много проигрывает, меняя поэзию на житейскую пошлость, когда изменяет ему, ведь не с одними «великими мира сего» прощаются как с героями удавшихся в художественном отношении произведений: не спрашивая себя мысленно, куда они ушли, но это великое прощание касается и любого из нас.
Каждый знает по опыту, какое воздействие на душу оказывает простая уединенная прогулка по кладбищу: как тут не вспомнить один любопытный эпизод из жизни Будды?
Однажды некоему буддийскому монаху по имени Ямака пришла в голову еретическая мысль о том, что как только монах осилит все соблазны, он, умерев, обратится в ничто, и с этим в общем-то понятным и допустимым соображением Ямака пришел к Сарипутте, любимому монаху и приближенному Будды, между ними произошел типичный диалог, который окончился тоже типичным провозглашением непререкаемого постулата Мастера о том, что же все-таки ждет человека, достигшего буддийского просветления, когда он умрет, – оказывается, вот что.
Нельзя сказать, что умерший есть, но нельзя сказать, что его нет, нельзя сказать, далее, что он есть и не есть одновременно, и нельзя сказать, что он ни есть, ни не есть, – эта четверичная формула отрицания основных комбинаций бытия и небытия, в том числе и самого отрицания, повторялась Буддой довольно часто и в разных вариантах.
То, что она сургучовой королевской печатью запечатывает рот фантазирующему разуму, очевидно, философии здесь, действительно, делать нечего, а непосредственному житейскому чувству, обитающему внутри каждого из нас? посмотрим.
На первый взгляд мы воспринимаем смерть так же, как Ямака, то есть умрем – трава из черепа вырастет, однако это не совсем так: в глубине души остается все-таки неясная, но твердая убежденность, что смертью все не закончится: хотя есть ли это отчетливая вера в бессмертие души? тоже нет, – в нас может присутствовать даже смутное ощущение таинственной связи между продолжением душевной жизни «где-то и как-то» и вот этим безобразным черепом, из которого трава начинает вырастать.
Но параллельно с этим в душе продолжает существовать как ни в чем ни бывало и допущение того, что тело наше необратимо разрушится, а душа в астрале претерпит такие изменения, что в ней уже не останется ничего, что мы могли бы назвать «нашим», иными словами, простенькое представление Ямаки о том, что после смерти ничего не будет, – оно есть, правда, и в любом из нас, но это лишь первая ступень осмысления тайны жизни и смерти, всего же их четыре – те самые, как легко догадаться, на которые проницательно указал в свое время Будда Шакьямуни.
И потому когда в погожий ноябрьский денек мы посещаем кладбище, где покоится близкий нам человек, мы обязательно проходим эти четыре заветные ступени, так или иначе, сознательно или полуосознанно, скоро или медленно, в прямом или обратном порядке или даже вперемежку, иногда в буддийском оригинале, но чаще в индивидуальном преломлении.
А то обстоятельство, что формула Будды вообще-то применяется только к буддийски просветленным людям, нас нисколько не смущает, просто по долгу чести и скромности мы обязаны допустить оговорку: у нас такое чувство, словно мы проходим четыре ступени, – и тогда все встает на свои места, этой оговоркой мы, в частности, показываем, насколько глубоко и искренне мы понимаем Будду, помните ключевую мысль из фильма «Доживем до понедельника»: «Счастье – это когда тебя понимают»?
Известно, что Будда после долгого колебания – проповедовать только что открытую Дхамму людям или оставить ее при себе – выбрал все-таки первый путь, а стало быть: пожелал быть понятым.
В своей замечательной книге «Путеводитель по жизни и смерти» тибетский мастер Чокьи Нима Ринпоче пишет:
«Ранее я объяснял, что мы ощущаем, когда прекращается внешнее дыхание и когда прекращается внутреннее. В этот момент человек переживает ясный свет дхарматы с сопровождающими его проявлениями света, звуков и цветов. Нам не удается остаться постоянными в состоянии изначально присущей нам пробужденности, и наши привычки заставляют сознание принять форму ментального тела и двигаться к бардо становления. Само бардо становления определяется как «период, начинающийся с появления неведения, и длящийся до вхождения в лоно следующей жизни». В то время, как ментальное тело путешествует по бардо становления в поисках места нового перерождения, человек испытывает страх, отчаяние и невероятные мучения. Человеческое сознание носится по бардо, как осенний лист на ветру… Все проблемы, испытываемые в бардо становления и в следующей жизни, вытекают из того факта, что во время нашей жизни мы не распознали свою изначальную природу, нашу просветленную сущность. Не узнав свою базовую природу, когда она обнажилась в сияющем бардо дхарматы, проявляясь как звуки, цвета, свет, мирные и грозные божества, мы впадаем в ужас и теряем сознание. Пытаясь спастись от этих впечатляющих и из ряда вон выходящих чистых проявлений, мы в конце концов попадаем в кармическое бардо становления. Эта склонность избегать узнавания природы сознания и прятаться от чистых проявлений в спасительную двойственность – вот та причина, которая несет нас к новому перерождению в одном из шести миров сансары… В это время мы обладаем так называемым ментальным телом; в отличие от нашего теперешнего тела, оно не состоит из физической субстанции. Оно кажется материальным, поскольку состоит из сущностей пяти элементов, и поэтому мы чувствуем голод и т. п. Хоть мы и не можем в это время употреблять физическую пищу, мы чувствуем необходимость как-то подкрепляться. Говорят, что ментальное тело в состоянии бардо живет благодаря запахам. Однако умерший человек может воспринимать запахи только от сжигаемых подношений, специально посвященных этой цели… Далее, в это время мы обладаем некоторой степенью ясновидения и способны воспринимать мысли других людей. Поскольку красный и белый элементы (от отца и матери) отсутствуют в этом ментальном теле, мы не воспринимаем внешне солнце и луну. Но ментальное тело определенным образом светится, так что, где бы мы ни были, мы освещаем все своим собственным свечением. Когда мы возвращаемся к себе домой, мы видим своих родных и пытаемся заговорить с ними, но они не могут воспринять наше ментальное тело и поэтому нам не отвечают. Мы видим, что они начали тратить наши деньги и использовать принадлежащие нам вещи, и это может рассердить нас; мы можем почувствовать сильную привязанность в своим бывшим вещам… Умерший человек может путешествовать и мгновенно попадать в любое место… Мы оказываемся в новом месте одновременно с возникновением желания попасть туда. Мы можем догадаться, что умерли, когда замечаем, что наши ступни не оставляют следов на земле, а наше тело не отражается в зеркале. Тут нам становится очень страшно, и мы думаем: «Неужели я действительно умер?» И постепенно мы понимаем, что это – так.
Переживаемое в бардо становления – исключительно следствие нашей личной кармы. Для некоторых эти переживания могут длиться недолго и быть довольно приятными, а потом смениться ощущением интенсивного ужаса. Говорят, что это враждебно проявляются пять элементов: некоторые люди чувствуют, что горят; некоторые – что их уносит поток; некоторые – что их разрывают на части. Но, опять-таки, все это зависит от личной кармы. К примеру, люди, убивавшие зверей или насекомых, могут ощущать, что эти звери и насекомые гонятся за ними, пытаются их съесть или разорвать на части… Изредка случается, что сознание, оставив тело, возвращается назад, в свой труп, оживляет его и продолжает жить. В Тибете это называется «возвращение из мертвых». Хотя духи умерших не видны обычным людям, ясновидящие или высокореализованные люди могут воспринимать их. Но сами духи видят друг друга, поскольку они находятся в одном и том же положении; они принадлежат к одному классу существ…»
И пока все это происходит с ментальным телом умершего человека, лицо его, идентичное с только что снятой посмертной маской, сохраняет выражение неземного покоя и величия, – если это не блестящая полифония в духе великого Иоганна Себастьяна, то что же тогда?
Удивительное совпадение начала и конца. – Никакой привычкой, никакой силой характера, никакой природной мудростью и даже никакой верой в Бога нельзя объяснить то встречающееся на каждом шагу в жизни пусть вынужденное поначалу, но в конечном счете кажущееся выстраданным, прочувственным и оттого вполне искренним смирение с внезапно постигшей нас жизненной катастрофой, которая может выражаться либо в полной потере имущества, либо – по возрастающей – в потере личной свободы, либо в потере очень близкого человека, либо, наконец, в предстоящей неизбежной потере собственной жизни, – и дело тут в том, что обозначенное примирение свершается на такой душевной глубине, куда не может «донырнуть» привычка, где по причине экстремальных глубинных условий не в силах жить и дышать все слагаемые характера, и куда – тоже в вследствие толщи воды – не проникает ни свет мудрости, ни наитие веры: поистине здесь, как и в отдаленных космических пространствах, действуют лишь первоосновные элементы, и быть может важнейшим из них является то самое великое равновесие бытия и небытия, о котором больше всего любят порассуждать философы, но с которым сами мы никогда не сталкивались, но именно до тех пор пока, не дай бог! нас не постигло великое горе, – и вот тогда в самый первый момент после пробуждения или в самый последний момент перед засыпанием, а также в иные кратчайшие и непонятно откуда берущиеся моменты жизни вы будете – поверьте! – вдруг совершенно ясно и отчетливо сознавать, что принципиальной разницы между прежней жизнью, когда вы были здоровым и социально процветающим субъектом, имели красивую жену и детей, и все у вас было «как доктор прописал», и теперешним плачевным и адским состоянием, когда у вас, как у того библейского Иова, все взято, нет никакой, а всю жизнь вы, оказывается, прожили во власти иллюзии такой разницы, – и вот на это уже первоосновное сознание будут постепенно «нарастать» и привычка смиряться с несчастьями жизни, и мужество как важнейшая черта характера, и мудрость, учащая нас, что рано или поздно мы потеряем все, что имели, и укрепляющая нас в любых испытаниях вера: так на атомы «нарастают» молекулы, на молекулы органические соединения, все более и более сложные… и все-таки эта вроде бы простейшая истина, что любые потери и приобретения подобны гирькам на весах, которые то кладутся, то убираются, а взвешивается на чашках весов одна пустота, и эта пустота – наша сокровенная суть, – да, все-таки эта простейшая истина кажется нам вместе и настолько сложной и непостижимой, что мы склонны приписывать ее устройство господу-Богу или иным Высшим Силам: так уж мы по всей видимости созданы.

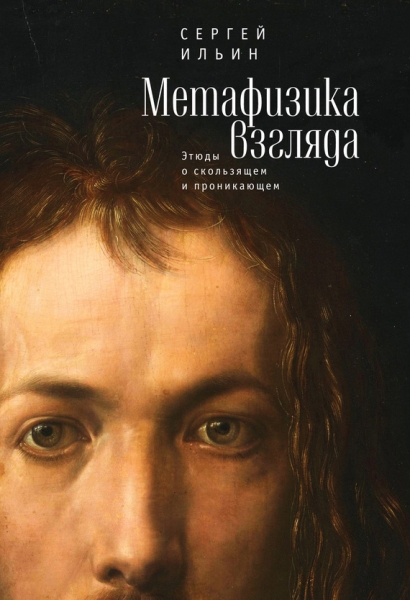
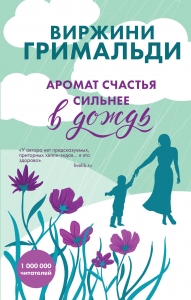
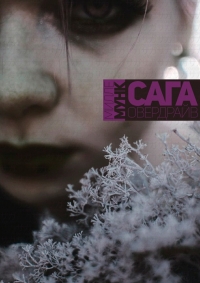
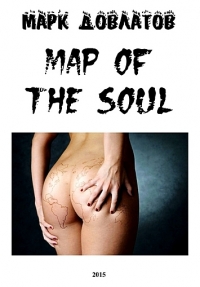
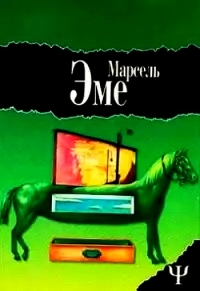

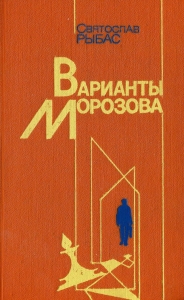
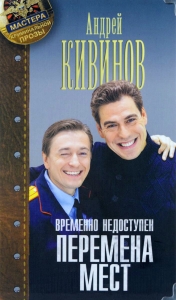
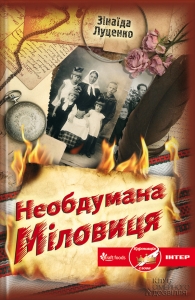

Комментарии к книге «Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем», Сергей Евгеньевич Ильин
Всего 0 комментариев