Геннадий Александрович Пискарёв Под пристальным взглядом
© Пискарёв Г.А., 2010
* * *
Вместо предисловия В строю бессмертных
Автор книги, не участник войны, писал о людях войны в мирное время. Его герои в основном простые обыкновенные люди, которые в общем-то не были окружены особым вниманием, а сами не рвались на трибуны и митинги. Но все они видели в лицо самую страшную в истории человеческую бойню, нередко собственной смертью попирая смерть. О них, о их чувствах и думах с предельной честностью поведал писатель читателю, пусть даже в виде небольших зарисовок и заметок не из «фронтового блокнота». Тихие его герои были жертвами и истинными творцами истории. Они с полным основанием могли бы повторить слова Константина Симонова: «Да, нам далась победа нелегко. Да, враг был храбр. Тем больше наша слава!» И уж, конечно, они по праву должны занять достойное место в строю бессмертных.
Автор книги стремится донести до читателя так же ещё одну не мало важную мысль. Россия две трети своей истории провела в сражениях. Обескровленная, опустошённая, она не раз оказывалась после них на краю гибели. Во всяком случае злорадных пророчеств и поминальных слов со стороны малодушных граждан и ворогов на этот счёт хватало в избытке.
Но Россия не погибла!
По воле Божьей, согласно утверждению великого русского философа Ивана Ильина, страна умела «незримо возрождаться в зримом умирании».
Далёкое прошлое – славное и трагическое, сегодняшний нелёгкий день – неопровержимое подтверждение этого удивительного опыта.
Абубакар АРСАМАКОВ
президент Московского индустриального банка
Часть I За что боролись
О том ли речь, страна родная,
Каких и скольких сыновей
Не досчиталась ты, рыдая,
Под гром победных батарей!
Александр ТвардовскийПод пристальным взглядом
Они, оставшиеся в живых моряки с недавно подорвавшегося на мине тральщика, шли в атаку в бескозырках и наспех натянутых поверх полосатых рубашек защитных гимнастерках. Краснофлотец Михаил Пискарев бежал впереди с автоматом наперевес, крича какие-то отчаянные слова, и, как во сне, не слышал своего голоса. Вдруг желтые брызги, выскочившие из ствола фашистского пулемета, хлестнули, будто осколки разбившегося солнца, по широкой его груди и он упал лицом в жесткую, зеленую от злости траву.
Он смотрел на меня в детстве каждое утро с фотографии, висевшей на янтарной сосновой переборке дедова дома, куда в летнюю сенокосную пору, чтобы я не остался без надзора, меня еще с вечера приводила мать. Его фотография среди многих других висела первой. Видимо, потому, что погиб он первым из шестерых дедовых сыновей. Остальные пятеро потом – кто на родной советской земле, а кто и за пограничными столбами Отечества, освобождая народы Европы от гитлеровского ярма.
Шесть братьев, шесть дедовых сыновей, один из которых мой отец, – в числе двадцати семи миллионов… Огромны потери, огромны печаль и скорбь. Огромна и память. Память народа, каждой нашей семьи, каждого человека.
Не каждого из нас непосредственно обожгла война, но в нашем селе жили дети изнуренного блокадного Ленинграда, на наших глазах почтальоны приносили солдатские треугольники и казенные конверты, из которых так часто выпадало бездонное горе. И видели мы, как даже на слезы не было отпущено времени тогда нашим старшим сестрам и матерям, отдающим последние силы фронту. Онемевшими от безумного горя увидели их после войны стоящими у железнодорожных перронов, мимо которых шли поезда, несущие счастье победы и великую радость встречи кому-то из жен и мужей, женихов и невест, отцов и детей.
Не каждого из нас непосредственно обожгла война, но отблеск ее кровавый есть в лицах и наших. Каждого жжет память о невернувшихся с фронта.
– И вдвойне она жжет того, кто прошел войну и остался живым, – это сказал мне как-то человек легендарной биографии, один из первых председателей двадцатипятитысячников Михаил Федорович Ткач. Прошедший горнило войны, тяжело израненный, он и в тогдашние свои 79 лет оставался в строю – по-прежнему возглавлял колхоз. И как! Хозяйство его считалось одним из лучших в округе, а сам он был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. Не память ли о погибших товарищах давала силу этому человеку, заставляя его работать с завидной энергией и упорством? И не в этом ли виделись нам истоки величия нашего, гордости и уверенности? Не случайно сказал мне уже сын Михаила Федоровича – колхозный бригадир, Ткач Валерий:
– Я понял и сердцем принял выкованные суровым временем и испытаниями отцовские принципы величайшего трудолюбия и беззаветного служения Родине. Он не мыслил жизни без них и мне, молодому, без них не прожить.
Под пристальным взглядом живых и мертвых фронтовиков росло и мужало послевоенное поколение. Под этим взглядом, пронзающим толщу лет, росли и мужали наши ребята. Недавно мы провожали в армию правнука Михаила Ткача. Понятно, плакала в преддверии долгой разлуки мать, грустили девчонки, родные. Но поднялся отец и сказал:
– Это что же такое, друзья? Почему я не вижу радости? Это ведь счастье, что нас сыновья защищать уходят.
Счастье сыновней защиты… Какие высокие мысли! Какие слова! Услышьте, услышьте их заокеанские господа, толкающие своих наймитов, оснащенных ядерным оружием, поближе к нашим границам, услышьте голос простого человека, провожающего в армию родного сына. В нем гордость, надежда и вера: не быть нашей земле поруганной, порабощенной, ибо в жилах ее защитников течет кровь истинных патриотов Отечества, знающих кого и что они охраняют.
В двух мировых войнах территорию Соединенных штатов Америки, скажем, не затронул пожар разрушения. А нас? Быть может, кто-то, кривясь в циничной ухмылке, заявит: «То было давно, молодежи не памятно». Ой, ли! Спросите тогда хотя бы об этом у трех братьев солдат: Николая, Владимира и Александра – сыновей Марии Григорьевны Яковенко, той, что двенадцатилетней девочкой пережила кровавую трагедию родного села Козари, где 11 марта 1943 года фашисты сожгли 4800 мирных жителей. Спросите – она вам расскажет, как гнали ее с матерью, отцом-инвалидом и двумя братишками, такими же, как она, малышами тем мартовским утром в огромный сарай посреди деревни, в котором уже лежали сотни и сотни трупов женщин, стариков и детей. Она вам расскажет, как заслонила мамка грудью ее и она, девчушка, упала, под тяжестью мертвого материнского тела, обняв братца Федю. Единственная из всех выползла она из этого, уже горящего сарая во двор и вытащила с собою живого, но раненого Федюшку, спряталась в погребе. А ночью, по мартовскому снегу, в одном платьице ползла с ним к скирде сена на опушке леса. Она вам расскажет, как до утра с ладошек талой водой из лужи поила она братишку, метавшегося в бреду и умершего на рассвете.
– Нет, я не кричала тогда от страха, – говорит она мне, оправляя рушник на портретах отца, матери, братьев. – Но до сего дня кричу и рыдаю во сне. И снится вот уже сколько лет одно и тоже: утро – ясное, ясное. И мы, папа, мама, братцы, идем под конвоем. И…просыпаюсь в холодном поту. До сих пор не могу смотреть кино про войну, слышать выстрелы. Мне плохо бывает от вида огня. Да будь же ты проклята, война, и кто ее затевает.
Так неужели она, не говорила об этом своим сыновьям – солдатам? Говорила. Еще и как! И не где-нибудь, а у кургана памяти жертвам фашизма, который вот уже несколько лет насыпает в центре села местный учитель Алексей Давыдович Щербак. Стар уже этот человек, но дав обет создать необычный памятник погибшим в войну землякам собственными руками, работает он упорно, без выходных и отпусков один, вручную таская землю на возвышающуюся над парком (посаженным им же) вершину величественного сооружения. Постарайтесь, хоть на минуту задуматься над этим всем, господа. Кого вы хотите обвинить в подстрекательстве к войне и кого хотите вы запугать.
Мы уверены в себе, сильны братской дружбой народов нашей страны, их великим духом единения, верностью заветам отцов. Вам еще, видимо, кажется странным, как это казалось и Гитлеру, что существует общность между народами, бескорыстная дружба и братство. Но мы это знаем прекрасно, как и все народности и национальности бывшего Советского Союза. Это знают наши хлеборобы и рабочие, ученые и солдаты. Каждый из них может назвать десятки свидетельств окрыленности этой дружбой, верности ей. Я приведу один – о нем мне поведал когда-то Сурен Саркисович Арутюнян, директор одного армянского предприятия. Ранняя юность Сурена тоже была опалена войной. Ушел на фронт со скамьи десятого класса. Служил в интернациональном полку, где были русские и белорусы, украинцы и азербайджанцы, армяне и грузины. Бывал в переделках разных. Но не них акцентировал он свой рассказ в беседе со мной, а на общенациональной спайке, что царила в их части. И вот тот пример:
– Попал наш взвод в окружение. В сумятице кое-кто потерялся, собирались потом, объединяли оставшиеся съестные припасы, делили на всех поровну, в том числе и на тех, кого не было в данный момент. Их долю хранить раздавали другим. Мне выдали паек на украинца Горняка. Долго мы пробирались, одновременно разыскивая своих товарищей. Отощали, съели свои пайки, но пайки отставших не трогали: встретимся – передадим, накормим их.
Вот так-то.
Тяжелы испытания, что выпали на долю народа. Мы не хотим, чтобы они повторились. И напрасно представляют нас завоевателями, захватчиками и поджигателями войны, различного толка злопыхатели. Наш народ по натуре-своей созидатель, труженик, а не разрушитель. В лютую годину он становится воином, хлебороб берет в руки оружие, но не затем, чтобы завоевывать чужие земли и мстить. Даже величайшее зло Второй мировой войны, в основном выплеснувшееся на нас, не ожесточило, не уничтожило добрых начал у россиян. Помнит мир спасенный, мир живой, что именно наши солдаты, не сняв пропахших кровью, потом и порохом шинелей, восстанавливали берлинское метро, пражские дворцы, мосты через Дунай… Наш народ великодушен и отзывчив на чужую беду, как отзывчивы все, кто сам перенес ее.
Ноют раны наших ветеранов войны и багряным светом горят их боевые ордена. Тем сильнее наше стремление к миру на земле, вера в человеческий разум, во всепобеждающую жизнь и труд. Вспоминаю, как ехали мы с фронтовиком Андреем Петровичем Губарем по местам партизанских боев. Он, бывший связной, дважды расстрелянный фашистами, чудом оставшийся в живых, попросил остановить машину, вышел на обочину дороги, а потом поспешил к одному из дубов-великанов, что стояли недалеко. Нагнулся, чего-то взял в руки, показал мне. То были оборжавевшие остатки автоматных гильз.
– Видишь, – сказал он, – они несли в себе смерть, но истлели. Жизнь взяла верх. Ради этой жизни и не жалели себя мы. И даже кое-кто из нас пришел с того света, чтобы делать ее вольной, свободной, красивой.
Прошла по земле война… На месте боев и пожарищ поднялись новые села и города, растут цветы и деревья. А в тихих парках и скверах, у обочин дорог, на лесных опушках встают из могил солдаты. С каменных пьедесталов, острых, как штык, обелисков смотрят они внимательно на нас и на нашу жизнь. Легко ли нам выдержать взгляд? Покойны ли души бойцов, стала ли пухом солдатам освобожденная ими от фашизма земля?
Знаю, в день лучезарной победы придет он, согбенный и седовласый, последний оставшийся в живых фронтовик моей деревни к скверику в центре села, где под мраморными плитами символически покоятся сотни не вернувшихся с кровавых полей его близких и односельчан. И я боюсь только одного, что он, обратится памятью к павшим и задаст тот же вопрос, что задал и мне при встрече неделю назад: «За что мы сражались?».
А я вспоминаю тот далекий май сорок пятого года. Ощущение неизбывной радости той поры и сейчас живо в моем сердце. Белая пыльная дорога, белые платочки деревенских баб и выцветшие добела гимнастерки возвратившихся с фронта солдат. Первая общая радость, с которой несколько сотен матерей и жен, получившие в войну похоронные, хоть ненадолго, но перестали думать, что в их дом навечно пришло несчастье.
Вспоминаю соседа дядю Мишу Бонокина. Перекинув через шею солдатский ремень, подтянув к нему косовище и придерживая двумя пальцами правой руки рукоятку, косит он за деревней молодую траву. Три девочки – малолетки точат поочередно батькину косу. Дядя Миша – инвалид первой группы, у него нет левой руки и трех пальцев на правой, он ранен в живот и ногу…
Дядя Петро на дрожках везет в больницу сына Алеху. Глубокий, рваный шрам пересекает лицо бойца. Он тоже, придя с фронта домой, сразу пошел работать. И вот беда, когда заводил рукояткой трактор, рвануло ее в обратную сторону, и отлетел от машины механизатор. Он скоро умрет в сельской больнице…
Что же заставляло моих земляков и миллионы их сверстников действовать так: не кичась фронтовыми заслугами, превозмогая недуги, чуть ли не на второй день по возвращении с войны идти на поле трудовое, требующее также великого напряжения и солдатского пота.
И, размышляя в этом направлении далее, начинаешь понимать суть войны народной, отечественной, в которой люди сражались не за Сталина, не за партию, а… за себя, защищали собственную национальную гордость и свои национальные традиции, хранителями и носителями которых были в первую очередь матери, деды, отцы. И видится в том великое единство народного духа, понимание всеми общего долга перед отчим краем, чем и могуча Родина, каждый человек.
Неужели же мы, ослепленные нынешними политическими баталиями и борьбой за передел власти, стали забывать об этом, вводя беспамятством в смятение стариков-ветеранов, давших нам величайший пример беззаветного служения Отечеству, государству, народу?
Опомнимся! Обретем свою историческую память, без которой невозможно существование никакой нации. Обретем согласие, крепость духа, которые держатся, как известно, на вере в святость общего дела, и тем утешим наших славных защитников Родины, самих себя. И тогда нынешний праздник Победы хоть и будет, как и всегда, со слезами на глазах, но слезами не горечи и безысходности, а светлой печали и гордой памяти.
Салют
Есть на Черниговщине село. Макошино называется. Стоит там на самом видном месте бронзовый монумент, на барельефе у которого выбиты имена и фамилии макошинцев, что не вернулись домой с войны. Много фамилий. 420. Даже по меркам сурового военного времени факт этот представляется, что и говорить, необычным. 420 человек из одного села сложили головы в боях с фашизмом.
Имена на белых плитах расположены в алфавитном порядке. Когда, читая их, доходишь до буквы «М», невольно останавливаешься: взгляд застывает на фамилии «Маглич», повторяемой несколько раз.
… Их было восемь братьев. Родились недалеко от Макошино, на хуторе Магличёвка, названном так потому, что жил там в ту пору отец их Савва Артёмович Маглич. Когда-то он бежал сюда от великой нужды. Беда и горе до конца преследовали земледельца. Он даже умер не своей смертью: утонул в Десне во время рыбной ловли.
И «идти бы по миру» потерявшей кормильца семье, если бы не взяла её под защиту сельская община. Прасковья Кузьминична, обездоленная, бесправная женщина, получила и тягло, и инвентарь, и землю. Землю на всех едоков: восьмерых сыновей и двух дочек. А когда началась коллективизация, Прасковья Маглич первая подала заявление в колхоз. Первая изъявила она и желание сселиться с хутора в село Макошино, которое должно было стать центральной усадьбой хозяйства.
К тому времени подросли её старшие сыновья: Федос, Николай и Иван. Активистами были братья, ходили по хуторам и станицам, ратовали за новую жизнь. И гордилась мать сыновьями, и боялась за них. Не одного агитатора лишила жизни в ту пору кулацкая пуля. Пытались свести кулаки счёты и с братьями Маглич. Тёмной августовской ночью подстерегли их около материнского дома, избили и бросили Федоса и Николая в колодец. А Ивана пристрелить хотели, но дала осечку винтовка. Тогда бандит, как штыком, из всех сил ударил в грудь парня дулом, и упал тот навзничь в сухую дорожную пыль.
Выжил Иван. Выжили и братья, спасённые случайно проходившими мимо дома Магличей односельчанами.
Разрасталось, хорошело село Макошино. Росли, набирали силу сыновья Прасковьи Кузьминичны. Крестьянские дети – они росли хлеборобами. Они были созданы для того, чтобы сеять зерно по весне, собирать по осени золотой урожай. Но много было недругов у нашей великой Родины.
В сорок первом году братья одели шинели. Они воевали за отчий край на земле и в воздухе, на воде и под водой. По морям, нашпигованным минами, ходил в бесстрашные походы Фома Савич. Храбро бились с немецкими стервятниками в небе лётчики: Кирилл, Федос, Михаил. В числе тех, кто грудью защищал Ленинград, был танкист Николай Саввич. Отчаянно дрался перебрасываемый с одного фонта на другой миномётчик Емельян. Бесстрашно сражались пехотинцы Иван и Григорий.
Только во сне видела теперь своих соколов ясных старая мать, оказавшаяся в фашистской оккупации. Сознание, что её сновья бьют гитлеровскую нечисть, поддерживало в Прасковье Кузьминичне силы. А когда советские танки вышибли с Черниговщины разбойничью свору, пошла работать старая в полевой госпиталь, что расположился в их селе. И всё вглядывалась в лица проходивших по улице бойцов. Всё ждала встречи с родимыми.
Однажды на дворе стирала она солдатское обмундирование. Вдруг услышала над головой нарастающий рёв самолёта. Вскинула глаза – несётся краснозвёздная птица над самым её домом. Видит что-то отделилось от самолёта, упало на огород. Подбежала – лежит там серая шинель. Уткнулась лицом в неё старая, заплакала от счастья. По запаху догадалась – это одежда Федоса.
Вместе с гостинцами, сахаром и печеньем, что лежали в карманах, достала она и беленький треугольник – письмо. И узнала из него Прасковья Кузьминична, что геройски бьются с лютым ворогом её сыновья и что сложили головы в этой страшной битве Григорий и Кирилл. Первый погиб под Воронежем, а второго – Федос хоронил лично в пылающем городе Сталинграде.
А потом получила весточки мать от других, оставшихся в живых сыновей. Залечивал раны, полученные на Днепровском плацдарме, Емельян, лежал в госпитале Николай, контуженный, выбитый из танка взрывной волной. Заживлял ожоги выбросившийся из горящего самолёта Михаил Саввич. Второй орден Красного Знамени получил подводник Фома. А Иван вскоре явился домой сам. Больной, страдающей астмой. Давал себя знать удар дулом кулацкой винтовки.
Перед окончанием войны пришли с фронта Михаил и Николай. Израненные, иссеченные. Но сразу же взялись братья за хлеборобское дело. Работали что было сил. Да только не надолго хватило их. Тяжёлые недуги, кровавые военные раны свели их в могилу.
И всё же не совсем обездолила война старую мать. С победой вернулись её сыновья Фома, Михаил, Емельян. Два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды украшали могучую грудь моряка Фомы, отливали рубиновым огнём два ордена Красной Звезды и два ордена Красного Знамени на парадном кителе авиатора Михаила, на гимнастёрке миномётчика Емельяна блестели медали, говорящие о том, что прошёл он нелёгкий путь побед от Москвы до Берлина.
Несколько лет назад Прасковья Кузьминична скончалась. За её гробом шёл взвод солдат. На могиле солдатской матери гремел военный салют.
Лес шумит
Лес подступает к Александровке плотной стеной корабельных сосен. В любую погоду, даже в пасмурную и дождливую, от медновосковых стволов исходит желтоватый, солнечный свет. В высоко вскинувшихся к небу колючих кронах гуляет верховой ветер. Ровный, спокойный шум царит над лесными просторами. И только в осенние дни ненастья, когда по земле расплывается серый стланик-туман, сосновый бор начинает глухо постанывать, а ветер в раскидистых тёмных шапках шумит тревожно. И тогда кажется, что вековой лес прячет в себе какую-то тайну…
Идёт по лесу Елизавета Леонтьевна, и чудится ей в порывах ветра то голос Данилы, то слова Василька, ненаглядного сынку.
Нет, время и лес рассказали потом все свои тайны, а тогда, в те суровые, грозные годы, всего не знал не только он, мальчишка, но и она, от которой, казалось, у её Данилы не было ни одного не сказанного словечка.
Непросохшие дрова горели плохо. Они свистели, шипели, едкий дым от них выбивался в комнату, слезил глаза. В тёмном углу, за печкой в качке плакал ребёнок. Елизавета Леонтьевна целое утро кружилась то около малыша, то у чугунков. Хлопотала и думала: «Ох, Данила, Данила, какой позор накликал ты на всю родовую. Идёшь по улице – глаз не поднять. Не диво, если б силой заставили, а то ведь сам в полицаи пошёл».
Трещат за окном мотоциклы. Со вчерашнего дня вертятся в деревеньке фашисты. Никак готовятся к облаве на партизан. Да туман, слава богу, в двух шагах ничего не видать.
Скрипнула дверь. Вошёл Данила:
– Дай, жинка, чего-нибудь поесть, как волк проголодался.
Высокий, красивый Данила садится за стол, довольно улыбается, и вроде бы совсем ни к чему ему, что думают о нём люди.
Она ненавидела его тогда. Ушла бы не задумываясь, куда глаза глядят, да только как стронуться с малышом-то?
– Гляжу я на него, – рассказывала она, вспоминая то давнее утро. – И такая досада у меня на сердце: Ишь, проголодался! Всю ночь фашистских коней пас на лесных полянах. Сдох бы ты вместе с ними. В сенцах – стук сапог, решительные, грубые шаги.
– Собирайся, Шолохов. Охота начинается.
– Где?
– А там, у Залозья, где стояночка-то у лесовиков.
Захватило дух у Елизаветы Леонтьевны. Ведь это ж туда муженёк ночью лошадей гонял!
– Дай-ка, жена, чистую рубаху по такому случаю.
Только бы сынок не прибежал домой сейчас, не увидел, как батька собирается.
Надел Данила белую с вышитым воротом рубаху, махнул добродушно жене рукой и вышел на улицу. Кинулась к окну Елизавета и видит: стоит во дворе сынишка и смотрит с болью на лице вслед проклятому людьми и богом отцу.
Поздно вечером воротился Данила, усталый, в грязюке весь. А на другой день узнала от соседок Елизавета: не накрыли полицаи партизан у Залозья. Одни только кострища неостывшие нашли. А когда возвращались, сами в ловушку попали.
Забилось, забилось у Леонтьевны сердце. Не Данила ли упредил? Он! Как она сразу-то не догадалась? Не может же человек враз перемениться!
Война началась – Данила день и ночь на железнодорожной станции пропадал: помогал эвакуировать оборудование с городских заводов, женщин, детишек. А однажды прямо с самой передовой, из-под носа у немцев, вывез на колхозной лошади брошенную пушку и где-то в лесу припрятал. А засада у деревенского кладбища, которую устроили красноармейцы немцам? С нашими воинами тогда тоже Данила находился. Никто, кроме Елизаветы Леонтьевны, не знает этого: ни сын Василий, ни соседки. Сказать бы им, да, чего доброго, повредишь. Нет уж, лучше молчать.
…Как ни старалась отговорить Елизавета Леонтьевна, зимой Василёк устроился на работу: рубить кусты под линией связи, что проходила рядом с железной дорогой. Однажды пришёл домой какой-то весь возбуждённый, радостный. В чём дело – не сказывает. А наутро весть по селу: потерпел крушение вражеский поезд. Кто-то повыдергал железной лапой костыли из шпал, развинтил пластины на стыке рельс и чуть сдвинул стальную колею в сторону. Важный груз везли фрицы – весь побился.
На другой неделе опять такая же история – полетел под откос гитлеровский эшелон с танками. Василия выследил провокатор, подосланный полицией в бригаду рубщиков кустарника, схватил парня, что называется за руку, когда тот во время обеденного перерыва доставал из своего тайничка большой гаечный ключ и железную лапу, которой выдёргивал из шпал костыли.
В тот же день немцы арестовали и отца, ничего не знавшего о настигшей его семью беде. Данилу отвезли в город, а сына привели в деревню.
Каратели пытались узнать, с кем он связан, по чьему заданию действовал. На глазах матери в родной хате пытали его страшно. А он только проклинал их. И ещё своего отца, который так и остался для него прислужником врага.
Младшего Шолохова расстреляли как партизана. Старший чудом уцелел.
…В краеведческом музее города Рогачева есть зал, посвящённый Великой Отечественной войне. Много интересных реликвий хранится сейчас в районном Доме славы. На одном из стендов – железная лапа и огромный гаечный ключ. Это с помощью их уничтожил три фашистских поезда паренёк из Александровки.
На стенах музея – портреты полководцев, солдат, партизан. Среди отважных сынов Родины – портрет Василия Шолохова. А рядом с ним – фотография батьки, Данилы Алексеевича, партизанского разведчика и связного.
До последнего дня своей жизни приходила сюда седовласая крестьянка Елизавета Леонтьевна Шолохова. Подолгу смотрела она слезящимися глазами на «примирённых», вставших рядом друг с другом отца и сына. Неизменно с ней находился, пока жив был, Данила Алексеевич, седой, молчаливый. Семь правительственных наград украшали его грудь. И шумел у Александровки лес. Светло, величаво, торжественно.
Дорога в Орловку
Где-то далеко-далеко, вдали от шумного города, за полями за долами, в окружении берёзовых рощ с крикливыми сороками стоит небольшая деревушка Орловка. В сенокос там дурманят травы, ароматный дух ржаного хлеба стоит в золотую осеннюю пору; синий душистый дым плывёт из печных труб морозными зимними вечерами.
В Орловке он родился. Там и теперь стоит небольшая хатка под черепичной крышей, где ночами долго не гаснет свет и старая женщина тревожно прислушивается к полуночным шорохам: может, приедет Андрей?
Когда поздним вечером кончается гулкий рабочий день, ему так хочется оказаться в той далёкой деревушке и, устало присев за деревянным столиком, смотреть, как радостная счастливая мать торопливо будет ставить перед ним нехитрую крестьянскую снедь, а утром пройтись улицей к обелиску с пятиконечной звездой, где покоятся его друзья-партизаны и где должен бы лежать и он.
* * *
Вот также мать ждала его и в ту суровую апрельскую ночь сорок третьего года. Ждала, чтобы передать сыну – связному отряда народных мстителей, что немцы готовят карательную экспедицию, что прохвост и пьяница Степаненко, ещё до войны прославившейся в здешних краях своей подлостью, выдал Ефима Легеду, Трофима Дынника, комсомольца Ивана Садового.
Как назло в эту ночь хмурое небо просветлело, из-за клочковатых туч выкатилась луна. Андрей вышел на большак, ведущий к деревне. Теперь только поле, ровное, как ладонь, легко просматриваемое с любой точки, отделяло его от заветного дома. Но вот пройдено и оно. И вдруг резкий окрик:
– Аусвайс!
От тёмного угла отделилась зловещая тень, повторила:
– Пропуск!
– Какой пропуск? Не видишь парень с вечеринки идёт! – Андрей засмеялся, залихватски сунул руки в карманы, чтобы под шумок выкинуть оружие в снег, но не успел.
– Руки! Руки!
Подталкиваемый в спину автоматами, он шёл под конвоем по улице родного селенья к зданию школы, где теперь размещалась комендатура. Всё здесь до боли близко и дорого. И всё осквернено. Вот вырубленный яблоневый сад, пьяные голоса полицейских у крыльца.
Дверь, ведущая во двор школы, распахнулась, и двое карателей выбросили в проём безжизненное тело. Слетевшая фуражка скользнула под ноги Андрею Губарю. И он узнал её: Ванюшки Садового.
Его втолкнули в бывший кабинет директора. Первое, что он заметил, – рыжие усы и разъярённое лицо волостного старшины Штесселя. Раздался оглушительный выстрел, и он увидел оседавшего на пол лучшего труженика их деревни Трофима Дынника.
– А вот ещё один партизан, господин Штессель! – Это суетился Степаненко.
Рука с парабеллумом качнулась в сторону Андрея. Выстрела он не услышал. Только брызнули осколками расколовшегося солнца искры из глаз и погасли в глухой и тяжелой тьме. И откуда-то издалека донёсся звон, будто кто ударил по рельсу, привязанному к крестовине посреди их деревни, которым в довоенные годы колхозный бригадир ранним утром извещал о начале рабочего дня. Как весело, празднично было тогда в деревне! Бывало, мальчишкой встанет Андрейка пораньше и просит бригадира позволить ему ударить в рельс. Здорово это – объявлять работу. А потом бежит за деревню, к чёрной кузнице, где давно уже «орудует» отец, сильный, как Микула Селянинович. Левой рукой он держит в щипцах ярко-белый кусок металла, а правой бьёт по нему молотом. Летят искры и кажется Андрею, что это не по железу ударяет отец, а по солнечному диску. Эх, батька, батька, неужель и вправду убит ты фашистом?..
Шла по земле война. Шли по земле солдаты. По травам, по топям, по первому снегу. Вспыхивали дымные жерла орудий. Рвались снаряды и мины И падали на земь солдаты.В ту ночь расстреляли шестерых. Наутро ко двору подогнали подводу. Полицейские покидали на неё трупы. Бородатый возница взял в руки вожжи, глянул на «поклажу» и оцепенел: с саней приподымался мёртвый Губарь.
На крики из комендатуры выбежал Штессель и, расстегнув кобуру, выстрелил в Андрея второй раз, в упор…
– Господин Штессель, ну что тебе до мёртвого? Отдай тело сына! – Татьяна Илларионовна, поседевшая за ночь, стояла на коленях перед волостным.
– Что ты с ним будешь делать? – спросил гитлеровец.
– Похороню у дома.
– Какие дикие нравы! – фашист поморщился и махнул рукой. – Бери.
Она осторожно, как живого, сняла с подводы «кровь горячую Андрюшеньку», положила на санки. Таял снег. Неистово трещали сороки. С крыш тяжелой слезой падала бриллиантовая капель. Цик, цик. И вдруг – или это послышалось матери? – «Пить, пить».
Она не помнила, как запыхавшись, бежала лесом в соседнюю деревню Дроздовку, где жили её родственники. Потом сама удивлялась, как это в минуту тяжёлого смятения сразу додумалась уйти из Орловки, где, конечно, же догадались бы, что сын её жив. Из Дроздовки через некоторое время она увезла его в Куликовку, а потом другое селение. Родственники, знакомые, соседи делились с ней последним. Доставали молоко, яйца, бинты, йод. До самого прихода Красной Армии прятала Татьяна Илларионовна себя и чудом оставшегося в живых сына. Прятала и лечила. Советские танки, мчавшиеся на Запад через Орловку, сын встретил на ногах. А через месяц ушёл в районный центр – в военкомат.
* * *
Как тяжёлый сон, наплывают воспоминания, застилают глаза, болью отдаются в голове, и пуля, сидящая чуть повыше затылка, начинает скрипеть, как старое, надломленное дерево на ветру.
Нет, в ближайший выходной он оставит на время свои бесконечные дела и поедет в Орловку, к родной земле, что лучше любого лекарства лечит гудящие раны. Машина наберёт скорость, устремится к окраине, где в маленьком парке в шинели, с тяжёлой винтовкой стоит гранитный солдат, выскочит к полю, за которым раскинется старое селение Червонный партизан. Отсюда брало начало партизанское движение на Украине в далёкие годы гражданской войны, здесь действовал подпольный райком партии в годы Отечественной. Быть может, у памятника народным мстителям, что высится в центре села, встретятся они с ныне здравствующим Героем Советского Союза Николаем Дмитриевичем Симоненко, командиром партизанского полка, вспомнят суровую молодость. Старый, седой партизан укажет рукою на родное село, утонувшее в яблоневых и вишнёвых садах и скажет:
– Не зря мы боролись. Прошла по земле война. На месте пожарищ, окопов, траншей Поднялись цветы и деревья. На небе сияет солнце, Играют, смеются дети. Идут по земле люди, Летят над землёй птицы, Солдаты лежат в земле.И снова будет дорога, обожжённые дупла старых лип, новые посадки. И будет шуршать под колёсами галька, постреливая камешками. Притормозит на повороте шофёр, и камешки зачастят, застучат, словно автоматная очередь. И опять оживёт память.
* * *
В эту переделку они попали под Ригой. Кольцо гитлеровцев сжималось. Батарея потеряла половину своего состава. Боеприпасы были на исходе. Прервана связь со штабом полка. Трое пытались исправить линию и не вернулись. Командир отделения связи младший лейтенант Губарь глянул на капитана Довбаша:
– Разрешите пойти мне!
Неподалёку разорвался снаряд. Лицо капитана дрогнуло. И Губарю показалось, что командир сказал: иди. Младший лейтенант метнулся в свежую воронку, из неё к ближайшему кустику. В разрывах потерялся крик Довбаша:
– Андрей! Назад!
Из-за леса выползали фашистские танки. Довбаш с тоской глянул на безжизненный аппарат. Рядовой склонившийся над ним виновато потупился, потом вдруг просиял:
– Товарищ капитан! Связь налажена!
А через минуту Довбаш увидел возвращающегося Андрея. Так же плотно рвались снаряды. Так же ловко полз по полю лейтенант. Но где-то, ещё невидимые, уже мчались навстречу фашистам краснозвёздные танки, присланные артиллеристам по просьбе капитана.
Ухнул очередной взрыв. Вместе с всплеском земли кверху взлетела сосна, под которую только что нырнул Губарь. Когда к нему подбежали санитары, Андрей неподвижно лежал недалеко от воронки, вцепившись мёртвой хваткой в зелёную запылённую траву.
* * *
Ныряет с пригорка на пригорок, петляет по полям перелескам дорога в Орловку. Бежит по ней поток весёлых машин. Свободно. Спокойно. Бежит среди них в воскресный день и скромный работяга «газик». Сидит в нём задумчивый согбенный человек, который помнит то время, когда в Орловку, как и в другие места в этих краях, пройти свободно и легко было нельзя. Этот человек пришёл «с того света», чтоб работать на этой земле, чтобы эта земля была свободной и вольной.
Петляет дорога. И чуть ли не на каждом километре то обелиск, то памятник.
Прошла по земле война. У пыльных дорог, синих опушек, В шумных больших городах и тихих станицах Стоят у могил солдаты, Скорбя о погибших товарищах. К ногам их несёт Отчизна Цветы и память веков.Поворот, ещё поворот, и вот она милая с детства Орловка. Он оставляет машину и размашисто шагает к домику с раскидистой вишней под окном. Он волнуется перед встречей. Улыбка, почти мальчишечья и немножко растерянная, сгоняет с лица суровую строгость. Нет, это приехал не высокий начальник из областного центра Андрей Петрович Губарь – приехал сын, любящий, долгожданный и ненаглядный.
Подарок невестке
И сейчас ещё не утратил стати Павел Яковлевич Марков. Голова на широких плечах сидит прямо и гордо, глаза проницательны, походка уверенна. Каким же, должно быть, лихим молодцом был он тогда, сорок лет назад: перетянутый командирским ремнём, в отутюженной гимнастёрке с золотыми погонами офицера.
– Ну, спрашиваешь! – довольный ветеран расплылся в улыбке. – Смерть девкам!
– Героем ходил, героем, – отзывается из кухни жена его – Валентина Фёдоровна, фронтовая подруга, с которой расписался Марков в победном сорок пятом. – А вот перед свекровушкой, перед матерью своей, за меня и словечка не замолвил…
Я вскидываю удивлённо глаза на Павла Яковлевича: о чём это хочет рассказать супруга его? Он усмехается и помалкивает, а Валентина Фёдоровна, будто и не было до этого воспоминаний о войне, как-то уж очень по-женски говорит от печи:
– Родилась-то я в Сталинграде. Городская, выходит. А он, деревенский, привёз меня на хозяйство. У свекрови, понятное дело, да и не только у неё – у всего Горлова – ко мне отношение такое: не наша, земли не видала, работать не сможет. Загодя «Валькой-белоручкой» окрестили. А эта белоручка, как пошла работать на ферму, так двадцать годиков без отпусков и оттрубила…
Эх, мать честная, думаю, уведут меня сейчас эти рассказы от намеченного пути. Приехал в семью фронтовиков подробнее узнать, а потом и другим поведать об опалённой огнем и омытой кровью молодости её – хозяин прошёл по дорогам войны от Москвы до фашистской столицы, награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского, хозяйка с Красной Звездой, а тут откровения эти, скажем так, характера слишком личного.
Но вот осмысливаю я жизненный путь Валентины и Павла и чувствую, не могу обойти этот момент – момент возвращения их в Смоленскую деревеньку Горлово, под крышу родительского дома Марковых. Даже не дома – землянки, дом-то сожжён был фашистами. Словно речной поток о каменный выступ, спотыкаются мысли мои об этот факт настороженного, придирчиво– внимательного отношения свекрови к своей молодой невестке – фронтовой медицинской сестре, прошедшей огни и воды и медные трубы. И что всего поразительнее, той, подымавшей, бывало, под пулемётным огнём в атаку бойцов, пришлось здесь перед людьми и матерью Павла как бы заново утверждать себя. Да в принципе пришлось это делать и Павлу. Неужели кроется тут что-то такое, перед чем отступает и блекнет геройство?
И вспоминается мне возвращение моего родного дяди Кости в бабушкин дом. Возвращение с девушкой-фронтовичкой, которую он представил родне как жену. Добрый мой дядя, боготворимый мной за ряд отливающих золотом орденов и медалей, знал ли он, что, несмотря на внешнее любезное отношение к его жене, ни бабушка, ни родня не оказывали до поры искреннего почтения невестке со стороны? А втихомолку осуждали и дядю Костю: жениться следовало ему на своей, деревенской. Вон их сколько невест-то, оставшихся без женихов.
Мне казалось тогда это каким-то особым эгоизмом деревни. Деревни нашей, глубинной и тыловой, до которой разрушительный пожар войны в прямом смысле не докатился: мы не были в оккупации. И хоть много ребят, ушедших от нас на фронт, не вернулось, хоть и тяжка была доля оставшихся работать на здешних полях женщин, детей, стариков, дух старой деревни, её моральные мерки и подходы к людям тут не сгорели в сатанинском огне зла и насилия. Но, задумываясь теперь над фактом возвращения с фронта Павла Яковлевича Маркова, я всё более убеждаюсь в том, что не только нетронутая деревня наша, но и прочёсанная, а то и вовсе уничтоженная военным ураганом земля отчая всё же сохраняла тот старый крестьянский дух, столь сильно действующий на питомцев и выходцев из тех ли, других ли мест. Будто вечными должниками своими считала деревня их. И что, быть может, покажется странным, они, воспитанники села, пролившие кровь, иссеченные в боях за народное счастье, воспринимали это совершенно спокойно и вроде бы даже с чувством вины.
Август сорок пятого года…Наш сосед Генаха Кокошников в белой сатиновой рубахе сидит на крылечке с гармошкой. Удалой и весёлый – Генахе всего девятнадцать. Девки – у палисадника. И им невдомёк, что кавалер их полз этой ночью со станции на четвереньках: костыли, дабы не увидели случайно их молодые односельчанки, выбросил из окошка поезда……Мы сидим за накрытым нарядной скатертью столом. Павел Яковлевич разложил по порядку свои награды, военные, мирные – от почётных дипломов до орденов Ленина. Рядом заслуги его жены – одних почётных грамот столько, что на бригаду бы хватило. А это что же такое? Брошка! Подарок невестке от матери Павла.
– Оценила Родина-мать – признала и мать родная, – улыбается Валентина Фёдоровна, характеризуя таким образом в итоге свои отношения со свекровью. Что ж, сопоставление сильное – ничего не скажешь.
– Ты тут спросил, что в войну я запомнил больше всего, – отвлекает меня от разговора с женой Павел Яковлевич. – Рассказал я тебе и про первый бой, и про первых убитых, и про то, как огонь вызывал на себя, но, пожалуй, врезалось в память больше всего вот это. Две польские девушки, две сестры, со вскрытыми венами на руках. Мы лишь границу тогда перешли, первое селение польское заняли. А они, сестрёнки-то, напуганные фашистскими разговорами о том, что русские станут казнить всех поляков, и решили с собой покончить. Спасли мы с Валюшкой их. Вместе жгуты накладывали. Потом уже в Берлине от девчушек на часть письмо благодарственное пришло. Да… Сколько же всякой гадости было наплетено про нас вражьей сволочью. Это, пожалуй, пострашней их пушек и бомб. И вот подумай теперь, каким он должен быть человек наш, чтобы грязь никакая к нему не пристала?
Незаметно разговор переходит на мирное время, на сегодняшний день.
– В новый дом скоро переезжаем. Хоть и этот не плох. Но колхоз как ветеранам войны и труда предоставляет лучше. Совершенно бесплатно!
Супруги говорят о подарке колхоза в общем-то просто, не связывая столь приятный факт с предыдущим рассказом о своих послевоенных лишениях, работе без сна и отдыха, воспитании детей и уж тем более фронтовых делах. Бесспорно, они знают всему этому цену. Но славное прошлое, нынешняя беззаветная преданность родному краю стоят в их сознании в особом ряду. Ими питается гордость и величие духа, разменять которые на что-либо они никогда не унизятся.
Письма в Судимир
Сенокос подходил к концу. Выкашивали лесные полянки, овражки, берега речушек. Неудобные для техники места. И люди, уставшие от многодневной напряжённой работы, не могли дать вручную необходимую выработку.
Председатель колхоза имени Парижской коммуны внимательно смотрел на секретаря парткома, невысокого, сухощавого, с обветренным лицом человека.
– Ну что, Михайлыч, как зажечь людей, а?
– Я полагаю, только личным примером.
В отстающую бригаду Егоренков ушёл с вечера. Перед этим попросил лучшего косаря Фёдора Козакова отбить ему косу. Тот, принимая заказ, ухмыльнулся:
– Может, завтра за мной встанешь, секретарь?
– А почему бы и нет, – весело ответил Егоренков.
…Уже солнце выкатилось из-за леса и начала подсыхать роса, уже давным-давно промокли рубахи на спинах, а секретарь косовища в землю втыкать не хотел. И всё подбадривал Козакова:
– А ну-ка, Фёдор, давай ещё по заходику.
В десятом часу Фёдор обернулся к идущему за ним секретарю, перевёл дух, пробасил:
– Сдаюсь, Михайлыч, сдаюсь. Ох, и зол же ты до работы!
На другой день в честь бригады, где работал Егоренков, на центральной усадьбе взметнулся флаг трудовой славы. По пятьдесят соток скосил каждый колхозник за день!
Домой секретарь возвратился уставший. Давала-таки знать себя контузия, полученная на войне, вчерашнее перенапряжение. Зато как воспряла духом бригада!
Дома его ожидало письмо от Никулиной Анны Владимировны.
«Дорогой Никита Михайлович, получила от Вас весточку. Так рада узнать, что Вы держитесь молодцом. А я начинаю сдавать. Шалит здоровье, но, однако, тоже работаю. Ведь у коммуниста до смерти обязанности, и он их выполняет».
Никита сел за письменный стол, открыл ящик. Ровной стопкой лежали письма боевых друзей. И вновь вспыхнуло в памяти…
Глухая апрельская ночь, неслышно движется по тёмной воде реки
Шпрее дощатик. Двадцать пять смельчаков вызвались первыми форсировать водный рубеж и закрепиться на левом берегу. Среди них только что подавшие заявления в партию рядовые Абрамов, Антонов. Тут же и парторг батальона – младший лейтенант Никита Егоренков.
В траншее их оставалось немного. В глаза летел песок, подымаемый пулями и осколками снарядов. Приближались, покачивая стволами пушек, «тигры». Егоренков на планшетке написал листовку: «Ребята, надо держаться, наши подходят. Смерть фашистам!»
На выручку на полуглиссере шла группа комсорга батальона узбека Селиджана Алимова. Едва бойцы выскочили на берег, как рядом вырос Егоренков:
– Алимов, знамя при тебе?
Селиджан распахнул шинель. Красное полотнище обвивало тело.
– Помнишь, что постановили на Одере?
– Водрузить знамя над первым правительственным зданием фашисткой Германии.
– Видишь, это уже недалеко, – парторг показал рукой в сторону, где из серой пелены дыма и весенних испарений то появлялись, то вновь исчезали контуры зданий министерства авиации, гестапо, приземистая рейхсканцелярия Гитлера.
Селиджан… Человек неуёмной отваги, которого родные и близкие считали погибшим. Сколько раз ходил Никита Михайлович с ним вместе в атаку, сколько раз стягивал бинтами из своего санитарного пакета раны товарища. Может, поэтому и звали их в батальоне – узбека и русского – братьями. Вот он, Селиджан Алимов. На фотографии. Молодой, подтянутый лейтенант. Снят после водружения Красного знамени над резиденцией Геринга. На обратной стороне карточки надпись: «Лучшему другу Егоренкову от Алимова (2 мая 1945 год)». А вот ещё фотография. Представительный пожилой человек в штатском сидит с Никитой Михайловичем и его женой Ниной Филипповной. Однако у пожилого Алимова те же добрые глаза, такая же милая улыбка. Фотография сделана совсем недавно, когда он, Селиджан, приезжал погостить к своему парторгу Никите Егоренкову на тихую станцию Судимир, что стоит на юге Калужской области.
…Станция Судимир. Примкнувший к железнодорожным путям посёлок, здание вокзала, газетный киоск на перроне – вот и все достопримечательности. Но идут сюда письма со всех концов страны: из Мурманска, Уфы, Алма-Аты, Ташкента. Пишут однополчане Егоренкова белорус Иосиф Карибский, башкир Исхар Гумеров, те, с кем свела его судьба на боевых перекрёстках при защите Советской Родины. Пишут красные следопыты, пишут историки.
«Никите Михайловичу! Если помните яркие эпизоды боев у имперской канцелярии, то опишите их. Генерал-лейтенант Рослый».
Яркие эпизоды… Они крепко остались в памяти. Вот бойцы батальона капитана Шаповалова разворачивают пушку, наводят на германский государственный герб, что «красуется» над входом в рейхсканцелярию. Гремит выстрел, и тут же:
– Ребята, за мной! – парторг батальона бросается вперёд. Злобно стучит пулемёт, падают боевые товарищи. Хоронясь за вывороченные плиты, Егоренков ползёт к канцелярии.
Вот он уже на крыше, над входом в логово Гитлера. Удар железным прутом по гербу – и орёл с паучьей свастикой падает на осколки щебня и кирпича. В громовом «ура» тонет треск пулемётов. Бойцы по поверженному гербу фашисткой Германии устремляются в здание. А над ними реет Красное знамя. Его подняла женщина Анна Владимировна Никулина, инструктор политотдела девятого корпуса.
После боя, дымя злой махоркой, солдаты шутили:
– Смотри, Никита, ты с этим орлом в историю попадёшь.
Слова оказались пророческими. Ныне орёл с фашистской свастикой, сбитый Егоренковым, кавалером ордена Красного Знамени, можно увидеть в Центральном музее Вооружённых сил страны.
Шёл со службы пограничник…
Самый первый раз Аннушка увидела Демьяна в тот день, когда её, тринадцатилетнюю девочку, забрал из детского дома и привёз на незнакомую железнодорожную станцию Степан Будяк. Стояло солнечное летнее утро. С «дядей Степаном», робко прижимая к груди узелок с вещами, вышла она из вагона и… утонула в разливах мелодий духового оркестра и огромной толпе народа.
Степан с Анютой растерянно оглянулись и увидели, что вслед за ними с поезда сходят четверо военных. Девочке сразу бросился в глаза тот, что шёл посередине – его поддерживали под руки, – бледнолицый, перетянутый ремнями, в красивой зелёноверхой фуражке. Это и был Демьян Ефимцев, пограничник, герой Хасана.
Они хотели было посторониться, пропустить военных вперёд, но толпа сомкнулась за ними, прижала к четвёрке. Анюта оказалась совсем рядом с тем, что шёл посредине. И тут она заметила, что на груди у него – орден Ленина, а на глазах – тёмная повязка. Из рассказов, услышанных после, Анюта узнала, что орден Демьяну вручал в Кремле будто бы сам М.И. Калинин, а глаза герой потерял в бою.
Девчонкой Анюта бегала на все встречи с Ефимцовым, которые устраивались в их округе, и, вероятно, ни один мальчишка, её сверстник, не знал тогда лучше пограничную службу, чем она. И всякий раз, когда Демьян начинал рассказывать о бое у высоты 558, сердце её начинало биться неровно и сильно. Как наяву, видела она блики на стальных штыках самураев, вынырнувших на рассвете из туманной пади, безжизненный провод телефонного аппарата, который связывал пограничный наряд с заставой, картины отчаянной, неравной схватки, слышала разрывы гранат и трескотню пулемётов. На миг, в тот самый момент, когда в ногах у сержанта Ефимцова разрывалась самурайская мина, на девочку обрушивалась кромешная тьма. Но открывала Анюта глаза, и мир и мир снова сиял вокруг неё красками. За окошком дома зеленела берёза, тянулись к солнцу в палисаднике мальвы, наливались соком в саду румяные яблоки. Мир ласкал радужным разноцветьем сидящих вокруг Ефимцова – всех, кто слушал его, но для него самого радость красок земных была закрыта навсегда. И боль сострадания пронизывала её сердце, когда солдат тяжело вздохнув, уходил со встречи.
По малолетству в те годы она не могла знать, конечно, что душа Демьяна тоскует не только по свету, но и по женской ласке, любви, которой ему испытать не довелось. Аннушка поймёт это после, когда самой придётся пройти через горнило войны, прошагать немало огненных вёрст в шинели солдата. Прошагать и снова вернуться в деревню Савино.
…Это было погожим летним вечером в первый послевоенный год. С полей тянуло запахом мяты, в лугах скрипели коростели, наяривала на «пятачке» залихватская гармошка. Деревня понемногу «оттаивала» после военного лихолетья. В Савино в тот вечер пришли на гулянку парни из дальнего села Новоалександровки. Девушки принарядились. Надела и своё лучшее платье, сшитое из голубого парашюта, и Анна. Проходя мимо соседского дома, заметила на крылечке незнакомого человека. Присмотрелась: Демьян!
Как давно не видела его Анна! Уж не чаяла встретиться: скольких людей развела за эти годы война. Она и сама намыкалась. Эвакуация, окружение, вражья неволя, побег, скитание в лесу и приют у школьной уборщицы Ульяны Стефановны Фёдоровой. Освобождение. Курсы медсестёр и форсирование Днепра. Первые раненые. Бой под Никополем. Двадцать шестой, истекающий кровью солдат, вынесенный ею из огня. Всплеск разорвавшегося снаряда, резкая боль в правой ноге и госпиталь.
В этой ужасной коловерти Анне иногда вспоминались встречи с Демьяном, и, странное дело, они будто согревали ей сердце, укрепляли дух. В госпитале она даже собралась написать ему письмо. Но куда? Вначале войны она слышала, что Демьян с матерью Анной Яковлевной и младшим братишкой уехал куда-то в заволжские степи.
После госпиталя Анну из армии демобилизовали. Вернувшись в Савино, она узнала, что Степан Будяк, взявший её когда-то из детского дома, погиб. Но хата его стояла целёхонькой…
И вот – эта встреча с Демьяном. Оказалось, он тоже вернулся в родные места. В деревню его захватили новоалександровские ребята. Но и гармошка, и девичьи песни только растревожили парня, и вот, грустный, печальный, сидит он, прислонившись спиной к стене.
Сострадание вновь, как в детские годы, пронзило сердце Аннушки. Только теперь к нему прибавилось (она поняла это сразу) тепло и нежность. И девушка робко шагнула к крылечку…
Такой шумной и весёлой свадьбы, как у Демьяна и Анны, давно не бывало и в этих краях. Гармонисты были с обеих сторон – с невестиной и жениховой. Веселились все. Даже дед Павло, про которого, шутя, говорили, что отец его тележного скрипу боялся и сыну тоже наказывал, не удержался на месте, когда Коля Змеевский бросил пальцы на баянные пуговки. До чего играл, окаянный! И всё поглядывал на креокую красавицу Аннушку. Забеспокоилась мать Демьяна – Анна Яковлевна:
– Удержишь ли такую приметную, сынок?
А он только улыбнулся:
– Не волнуйся, мама. Я её сердцем высмотрел. А сердце ошибается редко.
…Мы сидим в доме Ефимцовых. Хозяин показывает альбом с фотографиями, поздравления, что прислали ему недавно воины краснознамённого Тихоокеанского пограничного округа, хвалится новой формой, которую подарили ему друзья на День пограничника, с гордостью рассказывает о службе в армии младшего сына, Владимира, и о трудовых успехах старшего – Анатолия, колхозного механизатора. Анна Ивановна смотрит на супруга, рассказывает, обращаясь ко мне:
– Знаете, когда мы с Демьяном расписывались, в тот самый день весть в деревню пришла, что ждёт меня в военкомате награда – орден Красной Звезды. Оказывается, в войну получить не успела, так вот в мирное время пришлось. И в какой день! Такое совпадение даже представить трудно… – Анна Ивановна задумалась, припомнила что-то и опять расцвела в улыбке: – Тридцать лет прожила я с Демьяном. И все эти годы словно под музыку шла по жизни. Под ту самую, что звучала когда-то на станции, на перроне…
«Словно под музыку шла…» Наверное, не каждая женщина может сказать о себе такое. Её чувство к любимому человеку взошло и расцвело на доброй душевной основе – преклонении перед великими человеческими качествами, какими являются храбрость, стойкость и сила духа. Через всю жизнь она пронесла верность своему мужу-солдату. И судьба сторицей вознаградила эту прекрасную женщину за отзывчивость и сердце великое. Она любит и любима сама. У неё отличные дети, хороший дом, в котором уют, покой и достаток. Ей нравится дело, которым она занимается. За работу её уважают и почитают. Она депутат сельсовета, член районного комитета партии.
– Болеть за дела общественные Захарыч меня научил. Поди-ка, какой он сознательный, – рассказывает Анна Ивановна. – Помню, после войны телят у населения контрактовал. Возьмёт младшего братишку в поводыри и – по деревням. В правлении колхоза заседал, пропагандистом был. Да и сейчас идут к нему люди – и за советом, и так – о жизни потолковать.
– Ну, это ты слишком, Аня, – Демьян Захарович останавливает жену, но лицо растроганное, нежное, берёт Анну Ивановну за руку, что-то ласково шепчет ей.
Я смотрю на эту счастливую пару, и в воображении встаёт вдруг картина первой встречи.
Удивительно складываются всё-таки иногда судьбы людские. Удивительно. Кто бы мог думать тогда, на станции, что эти два человека через несколько лет станут опорой друг другу.
Да, удивительно складываются судьбы людские. Но правильно говорят и то, что судьба человека в отдельности чаще всего кроется в его собственном сердце.
Фронтовик
Мужчина лет шестидесяти, с очками – блюдечками на носу стоял у магазина и ругался. Ругался гневно, до багрового румянца на старых морщинистых щеках.
– Ведь подумать только! В рабочее время пьют, черти. Дело идёт насмарку. В конце концов пей, да человеческого достоинства-то не теряй!
– Во, распекает Васильич пьяниц! – с восторгом отозвалась проходящая мимо женщина, – правильно, вот, если бы все так поступали с ними, как он, право, меньше бы наши мужики пить стали.
– А кто он, этот Васильич? Управляющий? Бригадир? – спросил я.
– Кладовщик он, но бывший фронтовик.
– Я к спиртному с войны предвзято отношусь, – рассказывал мне потом Владимир Васильевич Опарин. – Помнится, это было под Ленинградом. Нашим командованием была предпринята попытка прорвать блокаду. Выступал и наш полк. Я там был комсоргом. Но дело не в том. Бои шли, что называется, жаркие. Запомнился мне один момент: венгры против нас были брошены. На машинах. Духовой оркестр. У солдат сигары в зубах. Пьяные. Психическая атака. Я пулемётчику кричу: – огонь! Огонь! А пулемёт молчит. Пулемётчик ничком ткнулся. Какая-то шальная пуля сразила.
Выручили нас артиллеристы. «Катюши» залп дали по немецкой передовой. И, знаешь, даже нам жутко было, когда начали рваться ракетные снаряды. Палёным запахло.
Ребята наши на прорыв пошли. Через немецкие окопы, блиндажи. Там-то и находили они этот дьявольский шнапс и ром. Пили. Дурели. Рассудок, осторожность теряли. Лезли на рожон и гибли зря.
– Владимир Васильевич, а на фронт вы как попали? Добровольцем пошли или вас мобилизовали? – наивно спрашиваю я.
– Добровольцем ушёл я. Но, мне кажется, это особого значения не имеет: в армии нашей ведь далеко не все были добровольцы, а дрались за отечество не щадя жизни. Был у меня друг Саша Шмаков. Не доброволец. Но случилось так, что мы с начала войны попали с ним в военно-политическое училище. Вместе с ним по тревоге выбыли в район боевых действий, недалеко от Ленинграда. В пути получили звания – младших политруков.
Когда мы прибыли на место, там готовился танковый десант, задачей которого было прорвать оборону немцев на фронте протяжённостью 5–6 километров. Нас, необстрелянных, для участия в этой операции не брали. Но Саша как-то попал.
И вот пошли наши танки в наступление. На броне – пехота. Немец прямой наводкой шпарит. Срезает с танков наших ребят. Сколько тогда погибло! Я-то, говорю, там не был, но видел, как возвращались обратно танки. «Немногие вернулись с поля». На одном привезли Сашу. Убитого. Его танкисты подобрали и вывезли, чтоб свои похоронили. Такие почести на войне не всем достаются. Похоронил я своего друга. А вскоре был ранен.
После госпиталя опять на фронт, и, представь, в те же места. Даже нашёл могилу Саши Шмакова. Из обломков самолёта соорудил ему обелиск.
– Владимир Васильевич, – спрашиваю я снова – А что вам всего больше запомнилось из военного времени?
– Окончание войны. До сих пор не могу определить того состояния души, не могу точно сказать, что овладело мною, когда мы услышали известие о том, что Германия капитулировала. Акт о капитуляции был подписан в пригороде Берлина Карлс-Хорсте. Как раз там стоял наш сапёрный батальон, где я был парторгом. Акт подписывался в здании Высшего инженерного училища бывшей немецкой армии. Непосредственно в здании я не был, конечно. Но видел, как шли машины с представителями воюющих держав. Помню, как щёлкали фотоаппараты корреспондентов, от вспышек аж глаза резало. Процедура подписания акта о капитуляции заняла минут 15. Чёрт возьми, думал я, неужели ради этих 15 минут было пролито море крови, искалечено, исковеркано миллионы судеб.
Разговор с Владимиром Васильевичем был долгим, интересным. Я узнал, что за войну Владимир Васильевич был дважды ранен, контужен. Узнал, что он имеет ряд наград: орден Красной Звезды и орден Отечественной Войны II степени. Он награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией».
– Владимир Васильевич! – задал я последний вопрос. – А как сложилась ваша судьба после войны?
– О, об этом надо говорить особо. Скажу, что не всё было гладко. Было время, когда я и метлы вязал, и кору драл, и металлолом собирал. Ведь я инвалид войны: работу найти для меня трудно. Работал я и бригадиром, и председателем сельского Совета, а сейчас тружусь кладовщиком в совхозе «Кургановский». Я фронтовик и не могу без дела.
У трёх дубов
Давным-давно, ещё до революции, стоял на просёлочной дороге Огорь – Фокино посёлок Кукшин. По дороге в ту пору ездило много всякого народу: купцы, крестьяне, брянские заводчики. Но со временем трасса изменилась, дорога заросла травой, выбитые колеи сровнялись, Посёлок Кукшин, жители которого кормились, можно сказать, за счёт проезжих, начал распадаться. Прошло ещё несколько лет, и единственным напоминанием о посёлке остались три громадных дуба в четыре обхвата каждый, стоявшие ранее под окнами кукшинского трактира.
Однажды совершенно случайно познакомился я здесь с человеком, назвавшим себя завхозом совхоза «Березовский» Яковом Трошкиным. Он стоял в стареньком прорезиненном плаще, сутулый и седовласый, прислонившись сморщенной щекой к шершавому, обветренному стволу одного из дубов. Один глаз Якова был повреждён, другой – то ли от грусти, то ли от едкого дыма костра – слезился.
– Старого друга встретили? – спросил я Трошкина, кивнув на зелёного великана.
– Да, партизанили вместе, – вполне серьёзно ответил Яков. Он присел на корточки, поднял посеревший уголёк и после некоторого раздумья медленно заговорил: – Зарастают старые пепелища. Так со временем зарастёт, наверно, и память о том, что здесь было. А дубы – молчуны известные.
* * *
Огорский комендант вызвал к себе Якова Егоровича Трошкина в конце 1942 года:
– Новая власть утвердилась, надо готовиться к весеннему севу. Ты как бывший бригадир знаешь, что сейчас следует делать. Собери людей, доведи задание до каждого.
Яков брёл по заметённому снегом полю в тяжёлом раздумье. Кое-где из-под снега торчали островки перепутанной ржи. «Какой урожай могли собрать осенью, если бы не война!» Два года назад на этих полях вышло по 18 центнеров ржи на круг, по 180 центнеров картошки взяли. Трошкина как лучшего бригадира полеводов объявили участником выставки. Честь-то какая!
Вечерело. Яков приблизился к местечку Горек. Глухое было местечко… Вдруг дорогу ему перегородили два лыжника, выскочившие из-за куста. В валенках, с автоматами на шее. Одного из них Яков узнал – Григорий Петрович Акимочкин, до войны был начальником пожарной охраны в Фокине. Это к нему пять лет назад приходил Яков Егорович наниматься на работу. Но потому, что один глаз у него на 100 процентов не видел (ох, уж этот глаз, из-за него Якова и в армию не взяли!), в приёме Трошкину было отказано.
– Здорово, Яков! Ты что немцам служишь? – сурово спросил Акимочкин.
– Будь тебе неладно, Петрович, за такие слова! Колхоз фашисты разогнали. Теперь всяк по-своему живёт.
– А ты знаешь, что брат твой двоюродный у нас в отряде?
– Так и я бы с удовольствием к вам.
– Вот этого-то как раз нам и не нужно. Будешь здесь работать. У немцев подозрений не вызовешь – инвалид. Ходи, наблюдай за передвижением войск, эшелонов через станцию, собирай оружие, продовольствие, а потом передавай нам. Знаешь три дуба у бывшего посёлка Кукшина? Там и будем встречаться.
…С самого утра мела метель. Пройдёшь по улице, а следа через минуту не видно. К ночи метель разыгралась ещё сильнее. В окошко, выходившее во двор, кто-то настойчиво барабанил. Яков тихонько слез с печки, вышел. На крыльце стоял Мишка Ковардаков, живший до войны Огори и знакомый Трошкину. Ближе к улице стояли ещё два человека.
– За тобой, Егорыч, – глухо сказал Ковардаков, – поможешь нести поклажу.
Шли лесом в направлении разъезда Березовский. Мешки давили плечи, снег слепил глаза. К железнодорожной линии подошли в полночь…
Четвёрка ушла километров за пять от железной дороги, когда раздался глухой взрыв, и в ночной тьме поднялось зарево.
– Готово! – воскликнул Мишка. – Что, Яков, хорош гостинчик мы преподнесли фашистам? Теперь можешь сказать, что принял первое боевое крещение.
…В мае сорок третьего года советские самолёты бомбили скопления фашистких войск под Брянском. Однажды отряду полицейских объявили, что немцами над Губиным болотом сбит самолёт. Нужно найти лётчиков.
Четырёхмоторный самолёт, разрывая серый туман, разостлавшийся над болотом, горел, как факел. Рядом с ним лежали два обгоревших человека. Третьего – капитана, изнемогавшего от ран, – немцы настигли в восьми километрах от бомбардировщика. Искали четвёртого, но найти не смогли.
…К Якову, пришедшему с облавы, подошла сестра Наталья:
– Знаешь, кого я видела в лесу? Лётчика, которого вы ищете.
– Врёшь!
– Точно. Он в ивняке хоронится. Я шла за хворостом и увидела его.
Яков Егорович бросился к лесу…
– Ну, брат, счастливый ты! – говорил потом рослый белокурый пилот Трошкину, когда тот, найдя его в лесу, привёл домой. – Ведь китель-то на тебе немецкий, я и выстрелил. Ладно промазал.
– Ты, Андрей, тоже в рубашке родился. Капитан твой на немцев нарвался, а ты на меня. Посидишь пока в подвале, а я свяжусь с партизанами.
Три дня и три ночи сидел лётчик в избе Трошкина. И всё это время никто не спал в доме.
…Яков с Андреем простились у трёх дубов. Расцеловались. Егорыч смахнул рукавом слезу, взглянул на разорванные унты пилота и снял с себя сапоги:
– Бери, Андрей, когда ещё попадёшь на большую землю, а ночи сейчас холодные.
* * *
Передо мной лежит пожелтевший от времени документ. Фиолетовыми чернилами ученической ручкой написано:
«Я, бывший комиссар Любохонского партизанского отряда Абрашин Николай Андреевич, подтверждаю, что житель деревни Гуда Огорского сельсовета Жиздринского района Калужской области Трошкин Яков Егорович имел связь с нашим партизанским отрядом с марта 1943 года.
Он регулярно предоставлял разведывательные данные о движении желездорожных поездов противника по линии Брянск – Жиздра.
Оказал помощь отряду в изыскании оружия. Им лично было доставлено два автомата и несколько винтовок.
Доставил советского лётчика, которого сбили во время налётов, конспирировал в своей квартире и сдал отряду для переправки через фронт.
Предупредил отряд за несколько часов о карательной экспедиции, которая уже следовала к месту расположения отряда в июне 1943 года.
Знаю Трошкина Якова Егоровича как человека, аккуратно выполнявшего наши поручения. Товарищ Трошкин вступил в немецкую полицию по нашему предложению.
О работе Трошкина знали командир Дятьковский партизанской бригады полковник Орлов, командир партизанского отряда Авдеев Е.Е. и командир отделения разведки Г.П. Акимочкин.
Подтверждаю: Трошкин Я.Е. за время совместной работы с отрядом проявил себя настоящим советским гражданином и патриотом».
…Спустя некоторое время я опять побывал у Трошкина. Сходил с ним вместе к трём дубам, вернее к двум. Один сгорел. Расщеплённый молнией в грозу, он лишился богатой кроны и теперь представлял собой почерневший столб.
– Вышел боец из строя, – промолвил Яков Егорович.
– Ничего он росток даст, – сказал я.
– Вот, говорят, книжка «Партизаны Брянщины» есть. Так там будто про Орлова упоминается. Верно? – спросил Трошкин.
– Упоминается в двух местах.
– А про наш отряд ничего не пишут?
Да ведь в брянских лесах действовало 139 партизанских отрядов! В одной книжке не расскажешь.
Ярко светило солнце, играя на новенькой медали Якова Егоровича, полученной совсем недавно. Седые от старости дубы стояли величественно и спокойно, как солдаты в почётном карауле.
Часы политрука
Директор восьмилетней школы Семён Тимофеевич Прокопкин живёт в стареньком отцовском доме. На высохшей, жёлтой, как янтарь, деревянной стене его избы висят на незатейливой цепочке карманные часы. В доме есть будильник, на противоположной стене тикают симпатичные ходики. И тем не менее, Семён Тимофеевич ежедневно заводит старенькие с обшарпанной крышкой часики. Они дороги ему особо.
Это было в 1941 году. В один из октябрьских дней в районе их посёлка Цветынь гитлеровцам удалось окружить одну из частей Советской Армии. Противник пустил против красных воинов танки, самоходные орудия, бронетранспортёры. Далеко разносилось уханье пушек, грозное рычанье танков, дробь длинных очередей танковых пулемётов…
Поздно вечером, когда утих бой, осторожно выбрался из подвала глава семьи Тимофей Прокопкин – семидесятилетний старец. У порога своего дома он обнаружил военного, лежащего без сознания. На гимнастёрке не успевшая засохнуть кровь. В бедре, груди, пояснице – раны. Старик Прокопкин – солдат первой мировой войны, не медля, смазал раны барсучьим жиром, сделал перевязку, переодел раненого в своё чистое бельё.
Более месяца находился у Прокопкина советский воин, политрук Попов. Однажды в посёлок ворвались немцы. Вскоре в сенях дед Тимофей услышал стук кованных фашистских сапог. На дворе кричали куры, пронзительно завизжал поросёнок. Несколько гитлеровцев чёной одежде вломились в хату, подошли к койке, где лежал политрук.
– Кто это? Солдат? Партизан?
– Это мой сын, – твёрдо сказал старик. – Тиф. Тиф у него.
Немцы поспешно удалились из дома.
…Политрук уходил декабрьской ночью. Тимофей уговаривал остаться: «Убьют! Не дойдёшь до своих». «Не могу, отец», – отвечал солдат. Он прижался головой к впалой груди старика, смахнул слезу. Потом сунул руки в карман, вынул часы, протянул Тимофею Ивановичу и быстрыми шагами направился в сторону леса.
Сейчас в письменном столе сына Тимофея Ивановича – Семёна хранится армейский треугольник – письмо с поблекшими от времени буквами, с пожелтевшими листами бумаги. Письмо адресовано отцу Семёна – Тимофею Ивановичу Прокопкину, умершему несколько лет назад. Датировано послание 1943 годом и говорится в нём следующее: «Я благодарю Вас за спасение моей жизни. И счастлив, что удалось выйти из окружения, попасть к своим в действующую армию. Я буду драться с заклятым врагом до конца. После победы вернусь к Вам, и мы встретимся, как большая родня. Политрук Николай Попов».
Письмо Тимофею Ивановичу от политрука Попова – единственное. Офицер погиб в боях за советскую Родину. Но до конца дней своих слышал старик Прокопкин стук часов Николая. Как самую дорогую реликвию хранит теперь эти часы и сын его – Семён Тимофеевич Прокопкин.
Поиск продолжается
Она ждала весточки от сына не один десяток лет. Извещению о гибели его, которое пришло ей в сорок первом, не верила. Закончилась война. Раненые, но живые пришли с фронта три старших сына. А его не было.
Весть от младшенького пришла недавно. Это было письмо от него самого.
…В один из августовских дней первого года войны жители калужского селения Дубровка Думиничского района были свидетелями неравного боя, что разгорелся между фашистскими стервятниками и краснозвёздным советским истребителем. Дубровчане видели, как, оставляя чёрные полосы в небе, упали за дальним лесом с глухим взрывом два фашистских самолёта. И видели они, как расчертив голубое небо красной лентой огня, скользнула на опушку леса подбитая советская машина.
Обгоревших лётчиков нашли медработники районной больницы. Когда пилотов везли в город, у одного из уцелевшего кармана выпало письмо. Его случайно нашёл один из жителей Дубровки.
Спасти лётчиков не удалось. Их похоронили со всеми почестями в райцентре.
Через многие годы выпавшее из кармана пилота письмо попало в руки красных следопытов Думиничской средней школы. С трудом разобрали ребята на треугольнике адрес «Ростовская область, посёлок Каменоломни. Будник Ефросинье Матвеевне». Письмо с соответствующей припиской было отправлено адресату.
Так ещё одна мать получила, хоть и горькую, но всё же весть о сыне.
Кропотливо работает в Думиничской средней школе клуб красных следопытов. Много дорог прошли ребята по местам боевой славы, немало установили они имён воинов, сражавшихся за их родной город. Около тысячи семей погибших солдат знают теперь, благодаря поиску следопытов, места захоронения родных и близких.
Благородное дело школьников не остаётся без внимания. Только от Комитета ветеранов войны более пятидесяти мальчиков и девочек школы получили похвальные грамоты. А сколько благодарных писем со всей страны приходит в школу.
…У большака за деревней Шваново насыпан холм земли. На холме мраморная плита, на которой выгравирована надпись: «Рогачёвы: Толя – 14 лет, Женя – 4 года. Зверски убиты фашистами 15 февраля 1942 года. С ними похоронен неизвестный солдат». Кто он, этот солдат? Поиск продолжается.
У обелиска
Посреди улицы стояло несколько человек. Празднично одетые, они нетерпеливо поглядывали в тот конец деревни, откуда, как всегда неторопливо, шагал Василий Хитров. Наконец подошёл и он. Молчаливо-суровый, худощавый, он и в шестьдесят мало чем отличался от того тридцатилетнего Васюхи-коммуниста, которого я босоногим мальчишкой увидел впервые в августе победного сорок пятого.
…Сегодня в Контееве открывают обелиск в память погибших земляков, и они, бывшие фронтовики, собрались туда.
На машину взбирались, подсаживая друг друга. Бригадир Михаил Кашин с орденом Отечественной войны и двумя медалями «За отвагу», протягивая руку нерасторопному Паше Виноградову, спросил:
– А ты что же, Павел, не надел награды?
Виноградов, побывавший в войну в восемнадцати госпиталях, потупил глаза, смолчал. На этот вопрос он ответил мне. Да и то после всех торжеств дня, когда выпил рюмочку «сладенького» с соседом, бывшим солдатом Геннадием Александровичем Кокошниковым:
– Проносил я в кармане Красную Звёздочку. Как глянул на то место, где дом твоего деда Николая стоял, сердце так и замерло. Шесть сыновей старика сложили головы. Где-то медали их? Где ордена?
В Глебовском в машину подсело ещё несколько человек. Николай Кокорин, широкоплечий, коренастый механизатор досадовал:
– Заболел портной, как назло. Я ему свои флотские брюки отдал перелицевать, а он заболел. Всё сохранилось у меня: и фуражка, и форменка, и ремень с якорем, но без клёшей это же не наденешь…
В машине ехали десять человек.
– Ребята, как мало-то нас осталось, – утирала глаза Нюра Орлова.
Сухонькая, в синеньком плаще, она выглядела школьницей, только вот морщины на лице, да глаза, наполненные синей болью. Какой же она была тогда, в суровом январе сорок третьего года, когда служила в батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи? Как справлялась она с солдатским лихом? Как пронесла на своих худеньких плечах послевоенную нужду и тяжесть непосильной работы? Одна, без мужа.
Приехали, когда всё было готово к открытию обелиска. С факелами в руках выстроились вдоль дорожки, ведущей к нему, красные следопыты Контеевской средней школы. Кольцом стояли колхозники, пенсионеры.
Председатель сельсовета Раида Александровна Чистякова уточняла очерёдность выступающих на предстоящем митинге. Была она в белом нарядном костюме, с золотыми серёжками в ушах. Серёжки подарила ей мужнина сестра – Татьяна, тоже участница войны. От души дарила, на всю жизнь благодарная ей. Восемнадцатилетнего брата её – Ивана – привезли из госпиталя, можно сказать, умирающим. На Курской дуге тяжко был изранен боец. И вот ему-то, инвалиду, и отдала молодая учительница Раида Постнова, первая красавица на селе, свою любовь и заботу. И поднялся на ноги солдат.
…Седой бетонный обелиск был прикрыт полотном. Вчера полотно ненадолго снимали, когда здесь остановилась машина с гробом фронтовика М.И. Яблокова. Того самого, что всё собирался сходить на центральную усадьбу колхоза посмотреть на место, где символически будут покоиться его друзья детства и юности, но так и не смог.
Работал Яблоков после войны председателем, бригадиром, руководил «бабьим царством». Нелёгкое дело. Но умел найти подход к обиженным войной женщинам и, где не могли они, становился сам. Дружил с Хитровым. Многие недоумевали, что объединяет их, столь разных. Михаил Иванович слыл в округе человеком добросердечным (его обожали), Хитров же – суровым, непримиримым, его побаивались. А объединяла их чистая совесть да ещё стремление во что бы то ни стало одолеть лихо первых послевоенных лет.
Заколыхались густые языки пламени над факелами, потянулись к платкам седые матери, без времени сникшие жёны, затихла молодёжь – поползло с остроконечной пики обелиска к красным плитам с высеченными буквами имён и фамилий белое полотно. Взметнулись к синему небу зелёные кроны деревьев. Не над могилами фронтовыми, а у порогов и окон отчих домов. Здесь должна быть всегда тишина и покой. Ведь за ясное небо, за мирную жизнь и сложили головы мои земляки.
Митинг начался. Говорит о народном подвиге школьный учитель Владимир Васильев. Грудь в орденах и медалях. Был тяжело ранен. Говорит ветеран о славных полководцах, боевых командирах, бесстрашных бойцах. А рядом застыли в строю иссеченные, израненные, убелённые сединами, отмеченные всеми видами воинской славы солдаты – его земляки. И те, что, напрягая все силы, растили хлеб для страны, что вынесли на руках своих из разрухи державу.
Замерли в красных галстуках пионеры, а рядом с ними – их деды и бабушки. Живые свидетели ратного времени, живые герои, живая доблесть наша, исконные, вечные труженики.
А небо такое голубое сегодня. Бушует, кипит зеленью лето.
Часть II Не юбилейные заметки
Есть власть. И власть от бога.
Под силу ей одной столпотворение.
А остальное – бесовство, морока
И ужас самоуправления.
Написав некогда спонтанно это четверостишие, я и в страшном сне не мог увидеть в ту пору того, с чем вскоре пришлось столкнуться непосредственно, стать свидетелем, а где-то соучастником крушения великой державы, её гордости и силы – мощнейшей Армии мира.
Прошло всего лишь полвека после величественного Парада Победы 45-го года, как отступление от твёрдых норм поведения и действия, установленных Высшими силами, сотворило с народом и страной нечто невероятное. Это «нечто» совершенно не вписывается в юбилейные ликования сегодняшнего дня. Но ни скрыть, ни умолчать о помрачении народа невозможно.
Человек с ружьём
«Мощнейшие взрывы, прогремевшие не столь давно на складах Тихоокеанского флота, по своей мощи равнялись взрыву ядерной бомбы…
50 процентов ракетных установок в войсках стратегического назначения эксплуатируются за пределами гарантийных сроков…
На особо радиационных и ядерно-опасных производствах не выделяются деньги на строительство складов для хранения ядерных боеголовок…
Беспредел, коррупция, социальная апатия личного состава, офицерского корпуса создают предпосылки для страшных негативных явлений…» (Данные из доклада Ю. Дерюгина, председателя Военно-научного общества «Безопасность Отечества».)
Давно известно положение об армии, как слепке с общества, универсально для всех времён. И удивительно ли, что деградирующие не по своей вине нынешние Российские Вооружённые Силы, полуразвалившиеся, униженные в Чечне и, по оценкам специалистов, имеющие боеспособность в шесть раз ниже, чем Советская Армия 1991 года, превращаются из института обеспечения безопасности государства в угрозу обществу.
Однако складывается впечатление, что в одночасье ставшее инертным общество до конца так и не осознало, что вместе со всем народом, попавшим в общенациональный кризис, в него вступили и войска, оснащённые не трёхлинейкой Мосина, ракетно-ядерным оружием необычайной сокрушительной силы.
Многие, наверное, знают: общий долг государства армии вырос до 17 триллионов рублей. Но широкой общественности вряд ли известно, что при норме питания военнослужащего 10555 рублей в день реально в прошлом году было отпущено вдвое меньше. В войсках появились случаи голодной смерти солдат. «Близка к катастрофической ситуация с обеспечением жильём военнослужащих». Это слова не оппозиционного лидера, а Генерального прокурора Юрия Скуратова, который, кстати, не исключает в Вооружённых силах возможности социального взрыва. По прогнозам военных специалистов в 1998 году следует ожидать, что 57 процентов офицерского состава не подпишут контракт о дальнейшем прохождении службы. Не из заявления Льва Рохлина, а по данным газеты «Красная звезда» узнаём, что 26 процентов офицеров готовы отстаивать свои права с оружием в руках.
Справедливо говорят: каков офицер, такова и армия. Так вот, офицерский корпус России на рубеже 90-х годов испытал на себе ряд неожиданных внутренних ударов, которые вызвали серьёзные деформации той морально-нравственной и психологической атмосферы, служащей основой устойчивости этого вида социума.
Следствием данных процессов явилось серьёзное снижение компетентности командиров, особенно старших. Начался отток из армии младших офицеров, посчитавших, ими потеряна перспектива служебного роста. В то время в год из армии уходило почти 30 тысяч молодых специалистов. Уходили лучшие, уверенные в том, что их высокий уровень позволит выстоять в условиях рынка. Уходили «инакомыслящие», а значит те, кто обладал крепким творчески потенциалом.
Механическое привнесение в военную организацию психологии индивидуализма разрушило природу своеобразной «артельности», заложенной в основу русской армии ещё А. Суворовым. Идёт распад офицерской общности. По данным, приведённым центром социологических, психических и правовых исследований МО РФ. 75 процентов опрошенных ныне не проявляют интереса к делам коллектива. 45 процентов солдат заявили, что офицеры к ним равнодушны, 14 процентов – что предвзяты, 11 процентов – жалуются на грубость и жестокость. В свою очередь 79 процентов командиров не удовлетворены взаимоотношениями со старшими начальниками.
За последние 5–6 лет резко изменился социальный облик основной части офицерского корпуса, включающих младших, средних и старших офицеров, которая является стержнем армии и определяет её состояние. Из сравнительно высокооплачиваемого престижного «сословия», офицерство превратилось в плохо обеспеченную группу с низким статусом. Денежное довольствие российских офицеров в 10–15, пенсия в 15–20 раз ниже, чем в армиях западных государств, где офицеры, как минимум, входят в средний класс. У нас – в бедное, а то и в беднейшее большинство населения.
С 1992 по 1997 год 80–90 процентов офицеров и прапорщиков высказывает свою неудовлетворённость материальным положением и условиями службы, отношением к ним со стороны власти. Значительная часть лётчиков, моряков и др., надрываясь в приработках на стороне, не имеет сил и времени совершенствовать профессиональное мастерство, исполнять добросовестно и в полном объёме свои обязанности. Прокуратура отмечает массовое распространение невыхода офицеров и прапорщиков на службу, халатное её исполнение. По этой причине резко снижается качество учёбы слушателей в военных академиях.
Протестный потенциал большинства войсковых офицеров сдерживается только их высокой ответственностью. В тоже время безысходность толкает офицерский корпус на самоубийства. По данным Комитета по обороне Государственной Думы, только в 1996 году покончили с собой более 500 офицеров.
Тяжёлое положение, в котором оказался этот род военнослужащих, в равной степени относится и к прапорщикам, и к рядовым, подавляющее число которых принадлежит к обедневшим слоям населения – 90 процентов. От общего количества солдат дети предпринимателей, притом не самых крупных, составляют всего полтора процента. Последний факт прискорбен сам по себе, если вспомнить, с какой решительностью и непреклонной волей Пётр I ставил в солдатский строй недорослей из дворянских семей. Неукоснительно выполнение закона всеми в равной степени – первый принцип демократического государства. Коль уж его провозгласили, то надо ему следовать. Кроме того откуп своих отпрысков от воинской службы, какой бы трудной и непривлекательной ни была, вызывает скрытый гул недовольства в армейской среде. По данным социологических исследований, более половины личного состава считают интересы бедных и богатых несовместимы, около одной трети негативно относятся к «новым русским».
По самым компетентным расчётам, признанных во всём мире, военный бюджет суверенной страны должен составлять не менее 5 процентов от ВВП. В противном случае содержать боеспособную армию трудно, да и вряд ли возможно совсем. Напомним, что М.В. Фрунзе, приступая к реформированию Красной Армии, сократил её с 5 миллионов до 500 тысяч. Однако при этом военный бюджет в период всего реформирования не опускался ниже 5 процентов от ВВП, а иногда и достигал 11 процентов. Так осуществлялась настоящая, а не потешная, как ныне, реформа в Вооруженных силах. Не случайно на одной из последних конференций, посвящённой армейским проблемам, прозвучала трезвая мысль: вместо того, чтобы бросать деньги на строительство воздушных замков в виде военной реформы, не сосредоточить ли все ресурсы и силы на том, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось от прежней, самой сильной армии в мире. И тут восстановить прежние органы управления и войсковые структуры, вернуть опытные, преданные делу и Отечеству кадры, очистить армию от коррупционеров и «коммерсантов» в погонах, по-серьёзному взяться за дисциплину следует безотлагательно.
Ведь посмотрите, что творится. В том же офицерском корпусе стала особо выделяться группа высших офицеров – генералов, которых сейчас в российской армии около 2000 тысяч. Более 90 процентов среди них получили высокие звания в последние 5 лет. Профессиональные качества многих из них в силу быстрого выдвижения, отсутствия опыта находятся на низком уровне. Немалая часть генералитета поражена коррупцией, сращиванием с криминальным бизнесом, стремлением к наживе за счёт государства и благополучия войск.
Столь интенсивно подобный процесс развивается в российской армии впервые за всю историю её существования. Офицеры России всегда служили Отечеству, а не Мамоне. В Западной группе войск формирование военного мафиозно-коррумпированного клана, охватившего элиту ЗГВ (генералов и офицеров управленческого звена и тыла) сразу после распада СССР, происходило как раз через демократические структуры: создание акционерных обществ, ставших престижным каналом сбыта «лишнего армейского имущества»; реализацию частными организациями товаров для армии, свободных от таможенного и налогового обложения; допуск немецких фирм к сотрудничеству. (Они извлекли для себя выгоду из того положения, по которому территории российских частей считались «заграницей» для Германии и, следовательно, находились вне налогового законодательства ФРГ.) Субвенции ЕЭС и гуманитарная помощь фактически ушли «налево»; операции с автомобилями, перегоняемыми офицерами, прапорщиками и мичманами в Россию. (На этих операциях, как на шампуре, нанизаны материальные интересы очень многих лиц.)
Вирус коммерционализации, взращённый и занесённый в армию элитой ЗГВ, впоследствии был распространён на многие структуры Министерства обороны, в результате чего возникла система плотных связей, «подстраховок», «прикрытий» и так далее. Другими словами, были заложены основы коррупции, поглотившей высшие эшелоны власти.
Более того, к военной элите добавляется качественно новый социальный слой, принадлежащий к военно-коммерческому клану (ВВК). Он состоит из тех, кто сегодня близко стоит к военно-материальной сфере, приватизации военного имущества, его перераспределению, закупкам и продаже оружия. Армия стала продавать всё подряд: от сапог до списанных авианесущих крейсеров и ракетных комплексов. Причём реализацией военного имущества занимались командиры всех ступеней и рангов. Распродажа армии оптом и в розницу привела её к нищете, несмотря на то, что Вооружённые силы с 1992 по 1995 год были сокращены на 1 миллион 200 тысяч человек. Последующий указ Президента, запрещающий коммерцию в Вооружённых силах, не смог остановить уже сформировавшееся явление.
Процесс коммерционализации сознания затронул не только широкие слои высшей военной элиты. Слепой призыв к обогащению, ежедневно ретранслируемый средствами массовой информации, взят на вооружение многими военнослужащими, стал главным кредо их жизни. По официальным данным Министерства обороны, дело дошло до того, что в Вооружённых силах появились случаи продажи танков, БМП, ЗРК и самолётов. Оружейный бизнес процветает особенно в тех местах, где дислоцируются воинские части, выведенные из Чечни. В Будённовске, например, за гранату Ф-1 просят бутылку водки, автомат Калашникова продают по цене 250 тысяч.
Армия не готова к тому, чтобы вести эффективную борьбу с рассмотренным нами феноменом. Для этого у неё нет ни опыта, ни средств, ни поддержки со стороны государства. Более того, эта борьба может вступить в острое противоречие с официальной идеологией, в основу которой заложены крайний индивидуализм, эгоцентрическая, псевдолиберальная идея. Между тем процесс коммерционализации сознания набирает силу. Погасить его можно только усилиями всего общества, если оно осознаёт необходимость решения ряда неотложных задач, главные из которых подъём социально-государственного статуса военнослужащих в обществе и осуществления совокупности мер, направленных на воссоздание коллективистской психологии в офицерской среде за счёт реализации специальной государственной программы в средствах массовой информации.
В своё время известный российский философ, литератор Константин Леонтьев, разбирая «Анну Каренину», между прочим, заявил, что Вронский нам нужнее и важнее самого Льва Толстого. Без Толстых мол, великому народу можно жить долго, а без Вронских не проживёт он и полувека. Леонтьев, будучи сам не последним писателем, который, как известно, искренне преклонялся перед силой пера Льва Николаевича, решился всё-таки на такое экстравагантное заявление, дабы особым образом подчеркнуть значение армейского человека в государстве. Значение, как надо понимать, не утратившее своей исключительности и в наше время.
Часть III Было, но быльём не поросло
Эта часть книги представляет собой драматическое произведение, в котором действие разыгрывается в позапрошлом столетии и отражает события, сильно волновавшие тогда и русское общество, и русскую армию.
В наше время те события, похоже, повторяются и будоражат умы как штатских, так и военных граждан страны в не меньшей мере. Поэтому считаю публикацию данного материала в книге вполне уместной.
Зачем в руках булатный нож Неоконченная кавказская драма по мотивам произведений отечественной классики
Пролог
(Горный пейзаж. Каменные глыбы устремлены в заоблачную высь. Царственные, загадочные отроги, переходящие в цветущую долину, по которой бежит река-родник. Путник сидит на камне. Это собирательный образ. Он медленными глотками пьет воду; говорит, обращаясь в зал):
– Разве не видят те, которые не уверовали, что небеса и земля были единым целым, а мы разъединили их.
(Звучат барабаны, взяв друг друга под руки, выплывают две шеренги юношей и девушек в плавном черкесском танце; звучат слова из пушкинской поэмы):
Ущелий горных поселенцы В долине шумно собрались Привычны игры начались Верхами юные чеченцы, В пыли несясь во весь опор, Стрелою шапку пробивают Иль трижды сложенный ковер Булатом сразу рассекают(Танец окончился. На сцене появляются русские офицеры. Одна из девушек подходит к первому из них и поет песню):
Стройны наши молодые джигиты, И кафтаны на них серебром выложены. А молодой русский офицер стройнее их, И галуны на нем золотые! Он, как тополь, между ними, Только не расти, не цвести ему В нашем саду!..Голос ведущего (собирательный образ):
– Мы, вайнахи, как и горы Кавказа, характером своим особые. Мы податливы на частые смены настроений. К нам нужно привыкнуть. И тогда мы становимся самыми надежными друзьями. И думами наши люди богаты. Нас важно просто понять. Даже заклятый враг чеченского народа генерал Ермолов писал: «С чеченцами, народом сильным, живущим в состоянии совершенного равенства, не признающим никаких между собой властей, а потому и зависимости, употребляю я единственное средство – «терпение».
Самой большой ценностью для нас является свобода. Во имя ее мы за последние три столетия претерпели огромные бедствия, и символом непокорности нашей стал неподдающийся дрессировке волк. У нас – почитаемый, всюду – проклинаемый.
(Гремит гром, сверкают молнии. На сцене два перекрещенных луча. На их фоне появляется юноша-чеченец).
– Именем моего народа русские матери пугали на Кавказе своих детей, как и чеченские матери – именем русских, своим наличием народ лишил сна и не малолетних.
Не спи, казак: во тьме ночной Чеченец ходит за рекой.А ведь давно ли вайнахи жили, в мире и в дружбе, как с другими племенами, так и с Россией. «Ты, великий государь, – писали они царю Михаилу – первому царю в династии Романовых, – ты благоверен и милостив, а нас, инородцев, жалуешь паче иных своих государственных людей и обиды нам, живучи под твоею царскую рукою, никакие, ни от кого не бывает.»
Наша свобода только с Россией. Это понимали наши предки. И вот всеобщее затмение. Но и в горниле страстей и безумия, теплилась вера в
совестливость и справедливость. Прорастали на каменистой почве жестокости счастливые семена добра, подымались из недр народных рыцари, великаны и исполины, хранители великих заветов дружбы, чести и достоинства, для которых даже кровавая бойня народов не затуманила истинного предназначения человека: жить друг с другом в любви, украшать трудами землю и славить творения Всевышнего.
(Всходит лучезарное солнце и гаснет под грохот пушек, выстрелов ружей, от порохового дыма.)
АКТ 1
Картина 1
(Аллея старинного сада. Белая церковь. Село Тарханы. Два ряда крестьянских изб. Народное гулянье – в центре солдат, вернувшийся с Кавказской войны. Исполняет песню. Слушают с большой заинтересованностью. Особенно мальчик, благородного вида, барин. Это Миша Лермонтов. Солдат поет под гармонику, проникновенно, эпично.)
– Хас-булат удалой, Бедна сакля твоя. Золотою казной Я усыплю тебя. Дам кинжал, дам коня, Дам винтовку свою. А за это за все Ты отдай мне жену. Она мне отдалась До последнего дня И Аллахом клялась, Что не любит тебя. – Князь, рассказ ясен твой, И напрасно ты рек: Вас с женой молодой Я вчера подстерег. Полюбуйся поди, Князь, игрушкой своей: Спит с кинжалом в груди Она в сакле моей! Тут в отчаянии князь Саблю выхватил вдруг; Хас-булата глава Покатилась на луг. Долго молча стоял Князь у трупа столбом. Смолкли птиц голоса. От реки лишь был гром. С ревом, стоном река Билась в камень-скалу Князь – убийца вскричал, Прыгнул вниз и – ко дну. Пала наземь роса, Ветры стихли без сил. Грех людской, как свечу, Бог – Аллах загасил.Картина 2
(Сцена поворачивается, на ней появляется чеченское селение; мальчик и пожилой отец его.)
Отец мальчику:
Ты хочешь знать, что означает слово чеченец?
Мальчик:
Да, отец.
Отец:
На нашем с тобой родном языке оно звучит «нахчо» и состоит из двух половинок: «Нах» – это люди, и «Чо» – земля. Стало быть, мы люди земли и живем на земле людей. Запомни, сынок, людьми рождены мы по милости Божией, а остаться ими долг наш. Да, это счастье – родиться человеком, но высокий долг и тяжкий труд им остаться. Именно поэтому не может быть «нахчо» тот, кто преступает границу человеческого.
Мальчик:
Отец, но ты мне много рассказывал о войнах, где люди убивают друг друга.
Отец:
О, если бы это осталось только в рассказах…
Картина 3
(И опять поворот сцены. Снова мальчик Лермонтов. Но сейчас он в имении бабушкиной сестры Е.Х. Хастовой возле станицы Шелковской. У ворот орудие, сторожевые башни, казаки, солдаты, офицеры, штабс-капитан. Лермонтов подходит к последнему. Завязывается разговор.)
Лермонтов:
Вы долго были в Чечне?
Штабс-капитан:
Да, я лет десять стоял там, в крепости с ротою. Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, славу Богу, смирнее, а бывало на сто шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит. Чуть зазевался, того и гляди, аркан на шею, либо пуля в затылок… А молодцы!
Лермонтов (задумавшись, в сторону):
– По камням струится Терек, Плещет мутный вал; Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал.(К воротам подъезжает горец. Лермонтов нервно поворачивается к штабс-капитану.)
Лермонтов:
Кто этот джигит с разбойничьей рожей?
Штабс-капитан:
Мой старый кунак… Говорят, что он любит таскаться за Терек и Кубань с абреками. Пригоняет к нам в крепость баранов. Продает дешево, только никогда не торгуется… Что запросил – давай, хоть зарежь, не уступит!
Лермонтов (опять задумавшись, величаво):
– Тебе, Кавказ, суровый царь земли — Я снова посвящаю стих небрежный: Как сына ты его благослови И осени вершиной белоснежной.(Сцена уплывает)
Картина 4
(Вечер. Барская усадьба П.А. Осиповой, тетки А.П. Керн, в Тригорском. Пушкин и хозяйка, светская, пожилая женщина.)
Прасковья Александровна:
Любезный друг, Александр Сергеевич, вы так грустны последнее время…
Пушкин:
Ах, Прасковья Александровна, я даже не в грусти, а в бешеной тоске. И лишь ваша нежная дружба в состоянии ее успокоить.
Осипова:
Да в чем же причина столь несвойственного вам настроения?
Пушкин:
Я в ссоре с отцом.
Осипова:
С Сергеем Львовичем? Да из-за чего же?
Пушкин:
Больно и трудно молвить… Батюшка мой принял на себя поручение полицейских властей следить за моим поведением
Осипова:
Но ведь вы, Александр Сергеевич, такой шалунишка. И обязанности отца…
Пушкин (резко):
Милейшая, Прасковья Александровна, обязанности отца и обязанности полицейских властей не одно и то же. Последних интересуют не «шалости» мои, а верноподданность царю-батюшке.
Осипова:
Господь с вами, Александр Сергеевич, а разве вы не слуга государю?
Пушкин (с улыбкой):
Я тружусь во славу Корана, о том, кстати, и брату своему, Левушке, в письме сообщил.
Осипова (растерянно, недоуменно):
Христианин… Коран… Это совместимо?
Пушкин:
Позвольте я вам процитирую несколько строк: «Бог послал к Вам книгу, полную света, да приводятся ею на путь спасения любящие его, да извлекаются из тьмы, и особенною его благодатью направляются на путь спасения».
Он милосерд, он Магомету Открыл сияющий Коран. Да притечем и мы ко свету И да падет с очей туман.Осипова:
О боже!
Пушкин (подходит к окну):
– А вы, о гости Магомета, Стекаясь к вечери его, Брегитесь суетами света Смутить пророка своего. В паренье дум благочестивых, Не любит он велеречивых И слов нескромных и пустых: Почтите пир его смиреньем. По что ж кичится человек? За то ль, что наг на свет явился? Что дышит он не долгий век, Что слаб умрет, как слаб родился? За то ль, что бог и умертвит И воскресит его по воле? Что с неба дни его хранит И в радостях и горькой доле?Осипова (восхищенно):
И это тоже Коран?
Пушкин:
Это мое «Подражание Корану». Вам посвящаю, нежное, человеколюбивое сердце, Прасковья Александровна. И знайте: я признаю смирение перед Всевышнем. К этому призывает наше Евангелие. И, как видите, Коран.
(Сцена уплывает)
Картина 5
(Появляются бричка, узкая дорога. Пики гор. Пушкин. На встречу арба с телом убитого чеченца на бурке. Рядом ружье покойника. Суровые лица сопровождающих.)
Пушкин:
Как убит был этот человек?
Один из чеченцев:
Мщения крови.
Русский солдат:
Для них убийство – простое телодвижение.
Другой русский солдат:
Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдался тем, что ружье его долго было заряжено.
Пушкин:
Что делать с таковым народом?
(От толпы чеченцев отделяется человек, по-видимому старейшина; обращается к Пушкину, положив руки на грудь, поклонившись):
– Кто ты, путешественник?
Пушкин:
Я – сочинитель, поэт.
Старейшина:
Благословен час, говорят на Востоке, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу, он не имеет благ земных. И между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются.
Пушкин (пораженный):
Позвольте узнать и мне, кто вы, столь учтивый и образованный незнакомец?
Старейшина:
Бей-булат Теймиев.
Пушкин (восхищено и опасливо):
Славный Бей-Булат!? Гроза Кавказа!?
Бей-Булат (миролюбиво улыбаясь):
Поэт, вот моя рука. Она будет тебе порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.
(Сцена уплывает)
Картина 6
(На дороге появляются российские друзья Пушкина, служащие на Кавказе, среди них сосланный, лишенный дворянства, декабрист Михаил Иванович Пущин. Объятия, поцелуи, бурная суматоха. Она понемножку стихает. Пушкин уединятся с Пущиным.)
Пушкин:
Мишель, дорогой, как тебе тут, без чинов, без привилегий?
Пущин:
О, Александр! Я на многое теперь гляжу другими глазами. В столице, мы, декабристы, колебали монарший трон. А здесь есть народы (чеченцы), которые давно не знают никакого монарха.
Пушкин (шутливо):
Живут без царя. Надеюсь не в голове.
Пущин:
То-то. Их общественное устройство намного выше, чем в любом просвещенном государстве. Они живут, поверишь ли, по законам былого Новгородского вече.
Пушкин:
Поразительно. А ведь, кажется, дикие племена. Хотя встречал я среди них персонажей весьма колоритных. И вообще, думается, у нас с ними много общего. Они простодушны и доверчивы, как мы. Их часто используют враждебные им силы, как и нас. Хула на них безмерна. Но ведь хулой не исправишь положения. И нет правды, там, где нет любви. Выезжая из Москвы, я видел Ермолова. Улыбка неприятная, потому что неестественная. Голова тигра на геркулесовом торсе. Но он все же был для меня усмирителем буйного Кавказа. Теперь, полагаю: Ермолов – шарлатан.
Пущин:
Верно! Здесь это понимаешь с особой силой. И знаешь, друг мой: наш меднолобый император ссылая вольнодумцев – своих подданных на Кавказ, под черкесские пули, не получит того результата, которого хочет. Вызреют еще более грозные силы против него.
Картина 7
(Сцена затуманивается, на ее фоне появляется Лермонтов)
Лермонтов:
– Там в колыбели песни матерей Пугают русским именем детей; Там поразить врага – не преступленье; Верна там дружба, но вернее мщенье; Там за добро – добро, и кровь – за кровь, И ненависть безмерна, как любовь.(Выплывает фигура Авторханова, она как бы поднимается над сценой)
Авторханов:
Для нас, жителей гор, Лермонтов не просто «певец Кавказа», он свой поэт по духу. Пушкин, тоже восхищенный Кавказом, все-таки взглянул на великий хребет, как сказал Антокольский, с высоты: «Кавказ подо мною»… Лермонтов так не сказал бы никогда. Потому что был внутри Кавказа. Но они оба были вдохновлены на свои великие творения неистребимой любовью горцев к свободе. Их восхищал героизм наших воинов, таких как: Бей-Булат Теймиев.
Лучшие сыны России: Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, как и их кавказские единомышленники, а иногда опережая их в мыслях, сумели подняться до горних высот служения не властителям, а народу и Всевышнему. Поборов в себе национальные предрассудки, они верили, что люди, распри позабыв, в великую реку соединятся. Ради этого они не жалели ни сил своих, ни жизни.
(Сцена уплывает)
АКТ 2
Картина 1
(Ночь. Перед войсками стоит Бей-Булат. За ним Кадий и Народный судья.)
Бей-Булат:
Воины Чечни! Честь и щит народа! (чуть помолчав) Что такое регулярные войска? Это – железная дисциплина, железный порядок, добровольное и беспрекословное подчинение своему долгу и командиру! Живущие вокруг нас народы говорят, что чеченцы по природе своей – не признают порядка, закона и дисциплины!.. Почему они так говорят? Мы болезненно самолюбивы и каждый из нас считает себя чуть ли ни самим Пророком! Чеченец не терпит ни чьего давления над собой сверху! Но ведь даже среди самых примитивных животных и диких зверей есть заложенные самим Богом нашим нерушимые законы. Среди них есть ведущие и ведомые. Есть беспрекословное подчинение одних другим! И мы должны научиться подчиняться воле тех, кого мы сами поставим над собой «ведущими»!
(громко)
Посмотрите на стоящих среди вас трех парней. Всмотритесь в их лица. Они чьи-то сыновья, чьи-то братья и опора старости отцов! Вчера ночью, самовольно оставив пост, они вышли на большую дорогу и, объединившись с шайкой грабителей, с оружием в руках, которое народ вложил в их руки для защиты закона, остановили купеческий караван русских, шедший в Чечню для мирной торговли с нашим народом. Умертвив купцов, они сняли с трупов даже одежду и оставили их тела без погребения!..
(кричит)
Где и когда это было среди чеченцев?!
(гул среди войск)
Со временем сотворения человека «Не убий» и «Не укради» являлись и являются основополагающими заповедями, начиная от Моисея, Иисуса Христа и пророка Мухаммеда! Кто же совершает это гнусное деяние? Пойдет ли на это человек, творец и созидатель?! Умный и мудрый? Труженик и пахарь?!
(народ молчит)
Между нами, кавказцами, извечная месть…
(помолчав)
Кого выбирают своей жертвой мстители? Они выбирают самых достойных, самых сильных и самых жизнеспособных, на чьих плечах лежит ответственность за продолжение рода. Если мы не остановим этот разгул, лет через 15–20 мы получим узколобую нацию рабов, уродов и карликов, которая станет легкой добычей любого завоевателя!
(завершая)
Я выбираю Божье слово для совестливых и «Хенапийский» кинжал для отступников!
(Сцена уплывает)
Картина 2
(Входят: генерал Греков, ротмистр Садо и несколько офицеров. Из глубины появляется генерал Ермолов, князь Черкасский и генерал Зыков.)
Ермолов:
Ротмистр Садо, в течении двух недель, у тебя под носом орды чеченцев истребляли двухтысячную армию генерала Грекова. Где ты отсиживался?
Садо (глотая):
У меня не было крыльев, чтобы преодолеть разделявшие нас теснины гор, девственные леса и свирепые реки, где стреляет каждый куст, камень, дерево и тьма ночи, генерал Ермолов!..
Ермолов:
У тебя не хватило воинского умения, чтобы сдержать клятву Великому Русскому Императору, Садо! А твои соотечественники заслуживают – увы – только одного – поголовного истребления! По-го-лов-но-го?! А теперь, чтоб вы не прятались за дикой природой Чечни, приказываю:
Уничтожать леса, взрывать башни, предавать огню все, что сопротивляется русскому штыку!
(впился в Грекова)
Где твои войска, генерал Греков?! Кто окружил, и кто разбил тебя?
Греков:
Меня разбил полководец Чечни – Бей-Булат.
Ермолов:
Надо лишить чеченский народ такого предводителя.
Греков:
Одного Бей-Булата уничтожить можно.
Ермолов (удивленно смотрит на него):
Ваши соображения?
Греков – Садо:
Прикажите ввести их.
(Садо делает знак и в собрание вводят двух избитых до крови чеченцев. Первый из них обращается к Садо):
– Чего хочет от нас этот сатана?
2-ой к Садо:
И почему ты – чеченец, служишь врагам своего народа?
Садо:
Я воспитан русскими офицерами и не считаю их врагами моего народа. А Сардар хочет получить голову вашего кровника Бей-Булата.
(Чеченцы пытливо посмотрели на Ермолова, а потом на Садо.)
Ермолов (с вызовом):
Решитесь?!
1-ый (нагло):
Твоя цена, Сардар?
Ермолов (хмуро):
300 червонцев, если вы останетесь живы.
(Чеченцы растерянно заколебались)
Черкасский:
Он ждет ответа!
1-ый (глухо):
Это невозможно, Сардар!..
Ермолов:
Почему?! Вы отказываетесь убить своего кровника?!
2-ой:
Такие головы так просто не достаются.
Ермолов (хол одно):
Расстреляйте их!
(Греков и Садо двинулись к ним с пистолетами.)
1-ый (крикнув):
Дайте нам подумать!
2-ой (также):
Мы должны подумать!
1-ый:
Но цену и условия игры со смертью мы будем назначать и ставить сами!..
Ермолов (дал знак своим):
Покажите им!
(Садо и Греков подводят их к потайным дверям)
Садо:
Посмотрите сквозь эти решетки!
Греков:
Что вы видите?
(Оба чеченца припали к решеткам и, дико крикнув, – «Отец-ц?! Дада-?» Отшатнулись назад!)
Ермолов (холодно):
А теперь говорите свои условия!
Картина 3
(Все уходит во тьму, из которой возникает костер, около него расположились Бей-Булат, Народный Кадий, Судья и двое чеченцев, знакомых нам по лагерю Ермолова.)
1-ый чеченец (сдерживая себя):
Когда за стальными решетками мы увидели своих старых и беспомощных отцов, мир для нас перевернулся!..
2-ой:
Мы не знали, что нам делать, что сказать и как быть! Броситься на русских или покончить с собой?
1-ый:
Такое мог придумать только Ярмол. Ухмыляясь, он сказал: «Теперь вам придется принести мне голову Бей-Булата или я сниму их с ваших отцов».
2-ой:
Мы рухнули на колени, и оба выкрикнули одни и те же слова: «Мы не знаем, что с нами будет, но если вы люди, то дайте нам проститься со стариками!»
1-ый:
Сердце чеченца Садо дрогнуло. Может, он вспомнил своего отца.
2-ой:
Садо развернулся и ушел, а Черкасский повел нас к дверям, где томились наши старики. Страж открыл дверь, и мы вошли в Ад.
1-ый:
Мы не помним, что там было, говорили мы или они… Но когда мы выходили русский страж шепнул нам: «Их сегодня ночью увезут в тюрьму»…
2-ой:
Мы думали, что все русские враги и звери… Но они оказались людьми и милосерднее, чем мы – чеченцы!.. А потом нас отпустили за твоей головой, Бей-Булат.
1-ый:
Но мы, собрав себе подобных, устроили ночную засаду и, не убив ни одного русского, освободили своих стариков!.. А теперь, Бей-Булат мы в твоей власти.
Бей-Булат:
Я даю вам двух коней, оружие, вы – моя охрана.
(Что-то вроде немой сцены)
Кадий:
Что будет дальше, Бей-Булат?
Не вечно же штык и кинжал?!
Бей-Булат:
Если бы я мог лицом к лицу встретится с Ермоловым, я постарался бы убедить его, что мир с Кавказом – победа России… Но между нами с непробиваемыми щитами вражды, стоят враги России, для которых мир с Кавказом – потеря их чинов и богатства!
Народный судья:
А если смирение и покорность! Это ведь тоже выход Бей-Булат?
Бей-Булат:
Для чеченцев – это путь к постыдному рабству. А рабство – хуже смерти!..
Народный судья:
Но если нет выхода, зачем напрасные жертвы в борьбе с могучей Империей?
Кадий:
Мы же знаем, что рано или поздно умрем! И все-таки мы живем, надеемся, боремся и страдаем… Для чего?.. Зачем и почему?..
Бей-Булат:
Может, после нас придут потомки, которые сумеют ответить на этот вопрос и найти путь мира и согласия с Россией… Однако, я составил план одного дерзкого сражения с войсками Ермолова.
Кадий:
Говори, Бей-Булат!.. Мы слушаем тебя…
Бей-Булат:
Если вы и народ верите тому, что я из любви к его свободе готов пожертвовать собой, то прошу уполномочить меня и этих двух юношей, на исполнение задуманного плана и не дальше, как завтра, вы и народ будете знать, что угодно Аллаху: Мир или Война!..
Кадий (спокойно):
Ты не раз доказал народу и нам, что ты готов умереть за него, и поэтому Чечня и мы готовы без малейшего возражения исполнить все, что ты найдешь для нее полезным…
Бей-Булат:
Спасибо народу и Вам за доверие. Я приказываю, чтобы все конные и пешие ополчения Чечни были готовы к сражению, Ермолов как талантливый полководец привык сражаться лицом к лицу на поле брани. Дадим ему это сражение. Пусть он поймет, что чеченцы могут сражаться даже в Аду!..
Кадий (поднимаясь):
Да будет так, Бей-Булат! Мы никогда не воевали с другими народами, но мы умели защищать свою свободу.
(Взмолился)
Боже Великий! Используй нас, как инструмент Мира!..
Там, где ненависть – сеять терпение, там, где отчаяние – сеять надежду. Мы все в твоих руках!..
Все:
Аминь!
(Все уходит в темноту)
Картина 4
(Появляется вековой лес. Друг против друга войска чеченцев и русских. Посреди Лермонтов, он пишет и читает вслух.)
– Все это было под Гехами, мы проходили темный лес.
Огнем дыша, пылал над нами лазурно-едкий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий. Из гор Ичкерии далекой, Уже в Чечню на бранный зов, Толпы стекались удальцов!(Войска расходятся и вместо них справа и слева выходят Бей-Булат с охраной и Черкасский с Грековым и Садо.)
Черкасский:
Выслушай меня, славный Бей-Булат! Я говорю с тобой от имени Сардара Кавказа генерала Ермолова. Пусть наши воины, отложив на время злое оружие, выставят друг против друга отборных парней. В схватке они докажут нам и самим себе, кому им подчиняться: русскому штыку или чеченскому кинжалу?!
Бей-Булат:
Мы принимаем этот странный вызов, князь Черкасский! Что-то подобное и мы хотели предложить Сардару Ермолову! Но ваше предложение человечней. Это сохранит многие жизни горцев и солдат.
Они оба крикнули:
Отбор-р!
С русской стороны закричали:
Ур-ра-а!
С чеченской:
Свобода или смерть!
(Справа и слева, без оружия, выходят крепкие русские парни и такое же количество чеченцев. С глухими рыками они бросаются друг на друга, начинается их жестокая битва;
Над нею корнет Лермонтов):
– И два часа в струях потока, как звери молча, с грудью грудь, сшибались и, глухо падая на землю, ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть, но мутная волна была тепла, была красна!
Я осмотрелся!.. Среди лежащих трупов в живых я был один!
(выходя на зал)
Тогда я понял: млечный путь Не для людей был сотворен!.. Мы канем все, наш след сотрется. Такой наш рок, такой закон!(Все уходит в темноту)
Картина 5
(Снова высвечивается ставка Ермолова. Справа и слева к стоящему столу входят: справа Ермолов, Черкасский, Греков и Садо. Слева Бей-Булат, Кадий и его охрана. Они без оружия и лица их скрыты башлыками.)
Бей-Булат (обращаясь к Ермолову):
Сардар, я слышал, что вы за голову Бей-Булата отдаете 300 червонцев?! Если это, правда, я могу услужить вам, и не дальше, как в эту ночь голова Бей-Булата будет здесь перед вами, не за 300 червонцев, а за то, что вы из любви к человечеству избавите непокорный чеченский народ и ваших храбрых солдат от кровопролитных битв!
Ермолов (поражен):
Кто ты такой и каким образом ты можешь исполнить все, что ты говоришь и обещаешь?!
Бей-Булат:
Узнаете, когда я представлю вам голову Бей-Булата!..
(Ермолов еще сильнее заинтересованный жадно ловит слова лазутчика, и желая хорошенько понять его, спрашивает):
– Сколько же червонцев ты хочешь за голову Бей-Булата?
Бей-Булат:
Ни одной копейки.
(Ермолов и Черкасский смотрят друг на друга с недоумением)
Ермолов (с иронической улыбкой):
Ты небывало бескорыстный лазутчик, чеченец! Я требую от тебя решительно и откровенно сказать свое желание.
Бей-Булат (твердо):
Мое желание состоит в том, что бы вы, получивши в эту ночь голову Бей-Булата, повернули свои войска обратно в крепость «Грозную» и там, пригласивши к себе всех членов народного мехкхела, заключили с ними прочный мир на условиях, что отныне русские не будут строить в Большой и Малой Чечне крепостей и казачьих станиц, освободят всех арестантов, невинно содержащихся в Аксаевской крепости.
(Повисла тишина.)
Бей-Булат:
Если вы, Сардар, согласитесь на указанные условия и дадите мне в безотлагательном исполнение их поруку, то прошу вас верить тому, что голова Бей-Булата будет в эту ночь здесь, но повторяю, не за деньги, а на вышеуказанных условиях!
Ермолов (Черкасскому):
Не правда ли, мы имеем дело с весьма загадочным человеком.
Черкасский:
При всем своем желании я не верю ни одному из его слов. Думаю это очередной трюк Бей-Булата.
Ермолов:
Чем черт не шутит?! Чем меньше мы ему будем верить, тем больше нас обрадует, если сверх ожидания нашего, через несколько часов он явится с головой любезного нам Бей-Булата? (вдруг) Что скажешь ты, чеченец Садо?!
Садо (уверенно):
Мне кажется, что этот человек говорит правду…
Ермолов (приказал):
Скажи ему все, что он желает, есть благо народа, и поэтому я охотно соглашусь с ним, пусть он только скажет, кого он хочет иметь порукой…
Бей-Булат:
Честное слово Сардара Ермолова и милость Царя Николая I.
Ермолов (помолчав):
Пусть будет так!
(он протянул ему руку)
Вот тебе моя рука и с ней даю тебе честное слово русского генерала, что, получивши от тебя голову Бей-Булата, нарушителя спокойствия целого края, я исполню с большим удовольствием все твои желания. Теперь я свое кончил, так же требую от тебя, как истинного мусульманина и гордого чеченца, верную присягу на Аль-Коране, что ты исполнишь в точности свое обещание!
Бей-Булат (не выпуская его руки):
Я благодарю Бога, что мои надежды и ожидания полностью оправдались!.. Наконец чеченский народ будет избавлен от разорительной, ни вам, ни нам, ненужной войны! (он выпускает руку Ермолова) Теперь, Сардар, моя присяга тебе не нужна! (внезапно снимает башлык) Вот вам голова Бей-Булата. Она всегда была готова стать жертвой для спокойствия своего народа! Поручаю себя Богу и правосудию!..
(Изумленные Черкасский, Греков и Садо одновременно крикнули):
– Это он! Он сам!..
Ермолов (поспешно):
Да кто же он?! Кто «Он – сам»?!
Черкасский:
Это Бей-Булат, ваше превосходительство.
(Повисла гробовая тишина, Потрясенный Ермолов долго не может прийти в себя! Его никогда наплакавшие глаза наполняются слезами!)
Ермолов (тихо):
Таким и должен быть Рыцарь Кавказских гор, Бей-Булат…
(помолчав)
Я хочу спросить у тебя, сына Кавказа, в чем просчет России и мой лично по отношению к кавказским народам?!
Бей-Булат:
Я не судья, Сардар… Ни тебе, ни твоей двуглавой Отчизне. Наш судья – неутомимое время, которое рано или поздно расставит все на свои места… Но коль ты спросил, я скажу тебе свое личное мнение. Буйные сердца кавказцев легче завоевать добром, терпением и лаской, чем громом пушек, окриком и плетью! Сила – это удел духом слабого народа, а кнут только для труса и негодяя!
Силой оружия можно завоевать и подчинить себе духом слабый народ, но сильный и гордый народ, каким бы малым он не был по численности, победить и подчинить надолго нельзя. Его можно только уничтожить, что вы и пытаетесь сделать! Мне кажется, любой народ, но сильный и гордый народ, приходящий к другому с мечом или миром, как бы велик он не был, прежде чем заговорят пушки и мечи, обязан понять и изучить его. Я не хочу сказать, что мой народ лучше или хуже других народов мира, но у нас другая религия, другие нравы и обычаи, другое воспитание и отношение к жизни и смерти!.. И тот, кто не хочет этого понять, сеет вражду, ненависть и непонимание среди народов!..
(Снова повисла тишина)
Ермолов (тихо):
Ты свободен, Бей-Булат! От имени своего Императора, я назначаю тебя старшиной всей Чечни, генерал Бей-Булат.
(Чеченцы и русские обнялись. Все уходит во тьму.)
Картина 6
(Ночь в Петербурге. В пространстве появляется Николай I и Ермолов.)
Николай I:
Скажите, генерал, что за народ, чеченцы? Действительно умственно развиты, физически крепки, закалены, с детства в голоде и лишениях?
Ермолов: – Вы, безусловно, правы, Ваше Императорское Величество!.. Эти черты чеченцев признаны всеми народами Кавказа, даже их врагами. А честность и правдивость есть отличительные качества всех Кавказских народов. Каждый горец, стремясь оставить по себе добрую память среди своего Отечества, избегает делать то, что по их народному понятию считается стыдом! Командование считает, что для Империи было бы выгоднее иметь чеченский народ своим союзником, нежели врагом… К этому страстно стремится Бей-Булат…
Николай I:
Он награжден лично вами. Получил чины генерала и старшины всей Чечни?! Не так ли, Алексей Петрович?!
Ермолов:
Да, Ваше Императорское Величество! Ведь бесстрашие его и чеченцев мы могли бы использовать в авангарде наших наступающих войск!..
Николай I:
Мы не можем, генерал, при нашем движении на Юг и Средний Восток, оставлять за своей спиной непредсказуемые и воинственные племена кавказцев!.. Покорность или истребление – другого пути у нас нет. (жестко) А Бей-Булат должен быть мертвым…
(Погружается все во тьму)
АКТ 3
Картина 1
(Старик, чеченец, и молодой паренек, его сын. Долина. На траве косы. Старик и сын отдыхают после работы. Ночь звучит музыка и романс на стихи Лермонтова.)
В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сиянье голубом.
Паренек:
Отец, а почему наше село называется Ермоловка? По имени того грозного генерала, чей памятник стоит в большом городе? Он что… построил его?
Отец:
Он построил для нас тюрьму, по велению царя.
Сын:
Как? Нам в школе говорили, что Ермолов выводил народ наш из тьмы предрассудков, освобождал его от злых людей.
Отец:
Сынок, видишь небо над головой. Большое, красивое, недосягаемое. Такое же небо есть в наших душах. Но такие люди, как тот царский генерал, не хотят, чтоб оно было у нас.
Сын:
А разве мало одного неба над головой?
Отец:
Ах, сын мой. Да ведь если не будет неба в твоей душе, ты не увидишь его и над головой. Ты станешь безбожным животным.
Сын:
Я не хочу этого.
Отец:
Этого не хочу и я, этого не хотели твой дед, и прадед… Они знали, чтобы подняться к небесам, к Богу, надо быть свободным. Это знание давало им силы. И были моменты – они добивались много. Ты должен об этом знать.
(Сцена уплывает)
Картина 2
(Плененный Шамиль в Петербурге. Его принимает царь Александр II)
Александр II (зачитывает):
Правительство русское представляет вам совершенно свободно исполнять навсегда веру ваших отцов. Поставленные над вами правители будут управлять по шариату и адату, а будут отправляться в народных судах, составленных из лучших людей, вами самими избранных и утвержденных начальством. Земли ваши, которыми вы владеете или которыми наделены русским начальством, будут утверждены за вами актами и планами в неотъемлемое владение ваше.
Шамиль:
О, Великий русский Государь, если бы нам такие права были даны Вашим отцом… Не было бы тринадцатилетней войны. Не были бы убиты сотни и сотни тысяч людей, с нашей и вашей стороны, а мы бы жили в сверхсчастливой стране.
Картина 3
(Шамиль смотрит на портрет Николая I. Поворачивается к нему и Александр II,
Всплывает фигура Федора Тютчева. Поэт читает, глядя на изображение Николая I):
– Не Богу ты служил И не России. Служил лишь суете своей. И все дела твои, И добрые, и злые, — Все было ложь в тебе, Все признаки пустые: Ты был не царь, а лицедей.Появляется Авторханов:
– Действующую армию Николай I довел до 20 тысяч солдат и офицеров. Но умирая, в 1855 году, он стоял на Кавказе там же, откуда он убрал Ермолова, – на границах Чечни.
Но была и разница!
При Ермолове были «мирные» и «немирные» чеченцы, но когда правительство Николая I предъявило ультиматум о разоружении мирных чеченцев, они получили ответ: «Чеченцев никто не разоружал – разоружали только их трупы» – и, восставши, чеченцы присоединились к знаменитому имаму Шамилю, написав на своем знамени стих из Корана: «О, избранники Бога, вы никогда не знали ни страха, ни траура!»
Картина 4
Вихрь во дворце. Проплывают лики повешенных декабристов. Пушкин с Натали.
Николай I с возгласом: «Пушкин принадлежит не нам, а будущему поколению!»
И выстрел из тьмы. Пушкин падает.
Лермонтов в вальсе с Варварой Лопухиной. Подплывают к Николаю, Лермонтов горячо императору:
– Под маской все чины равны.
У маски ни души, ни званья нет.
Опять выстрелы. Лермонтов покачнется. Зигзаги молний взорвут небо. Пространство вздыбится. Голос поэта:
– Наш дух Вселенной вихрь умчит К безбрежным, мрачным сторонам. Наш прах лишь землю умягчит Другим чистейшим существам.Картина 5
(Видения уплывают.
Появляется Авторханов):
– Их будет много чистейших сынов Кавказа и России. И будут опять борьба, горения страстей, надежды, нечеловеческие муки, падения, взлеты. Царское правительство не выполнило своих обещаний по окончанию тридцатилетней войны на Кавказе. Предпринимается переселение наиболее свободомыслящих, неугодных черкесов, чеченцев, дагестанцев, осетин в Турцию.
Гряло новое столетие, а с ним и то, о чем потрясающе пророчествовал Лермонтов.
Настанет год, Росси черный год, Когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь; Когда детей, когда невинных жен Низвергнутый не защитит закон; Когда чума от смрадных, мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать, И станет глад сей бедный край терзать; И зарево окрасит волны рек: В тот день явится мощный человек,(В пространстве появляется медленно идущий Призрак Сталина)
И ты его узнаешь – и поймешь, Зачем в руке его булатный нож: И горе для тебя! – твой плач, твой стон Ему тогда покажется смешон; И будет все ужасно, мрачно в нем, Как плащ его с возвышенным челом.(Занавес)
Часть IV Когда блестят звёзды
Да, былое не порастает быльём. Но жизнь не стоит на месте, и новое время рождает всё-таки новые песни. Они, понятно, уходят корнями в прошлое, если, конечно, это настоящие песни. А корни у них, как и у нас, к счастью, одни. У нас единый Создатель, под пристальным взглядом которого формируется гармония человеческих отношений.
Ноев ковчег
Эрнест Хемингуэй будто бы сказал, что, проведя в Риме лишь один день, о нём можно написать целую книгу, а прожив в вечном городе год, опустишь в бессилии руки.
Парадоксально, но факт. Однажды, в разгар кровавой бойни на Северном Кавказе, услыхав из уст мало знакомого тогда мне профессора Хажбикара Бокова одну только фразу о том, что чеченский народ никогда не воевал с Россией, а сражался с колонизаторскими порядками, с коими вечно бился и русский народ, я, опираясь на это пронзительное откровение, написал потом не одну статью, так или иначе связанную с творчеством и судьбой учёного, ингуша по национальности и, как всё более убеждался, патриота России «по вероисповеданию».
Судьба впоследствии очень близко свела меня с этим человеком, после каждой встречи с которым мне открывались новые и новые горизонты его захватывающе-неординарного мышления и каких-то невероятных, пробивающихся из глубин человеческой сущности ведических знаний. Стоит ли говорить, насколько сильным было моё желание всё услышанное и прочитанное (о Бокове, кроме газетно-журнальных публикаций, написаны книги, брошюры) осмыслить по-своему и отобразить не в статье-однодневке, а капитальном труде, который, ей-богу, стал бы философским бестселлером.
«Мы все глядим в Наполеоны». Но… Обросший знаниями об уникальном мыслителе – из-под пера Хажбикара вышло 50 научных монографий, и писателе – он автор семи книг рассказов, трёх романов и семи повестей, я, подобно путешественнику, задержавшемуся в Риме на год, оказался как бы погребённым под камнями великого города. И всё же один камень – сверкающий, драгоценный, волшебный, даёт мне возможность ещё и ещё раз взглянуть изнутри на «боковский феномен».
Камень этот – камень стояния Хажбикара Хакяшевича, камень его веры – веры в Россию и народ её. Народ, состоящий из множества национальностей, но объединённых единой судьбой. Он грезит обретением нравственного смысла личного и национального бытия каждым гражданином в его спокойном движении в будущее, которое немыслимо без преемственности и твердости духа. Величия духа. А он проявляется только у народа великой страны. Величие. Иного России не дано. Вот постулат, на котором строится вся «интернационально-национальная» концепция учёного, отдавшего добрую часть своей жизни изучению и толкованию сложнейшей сферы человеческих взаимоотношений – национальной. Кстати, сентенция, вынесенная в начало абзаца, есть название одной из книг Хажбикара Бокова. Так что, не так уж далёк был от истины тот, кто сказал: – «Если бы сербы не придумали поговорку: «На небе – Бог, на земле – Россия», её, наверняка, придумал бы ингуш Боков».
Статус великой державы – не мишура на наряде модницы, которую можно снять и выбросить, считает искренний патриот, – это единственное условие самостоянья россиян в мировой истории, в истории каждого, отдельно взятого народа, вовлеченного в могучее поле российского взаимодействия.
Подобные взгляды, что не раз отмечалось аналитиками «боковской мысли», находили и находят поддержку далеко не у всех и, в частности, у представителей определённой части вайнахов, с которыми «посланника мудрых гор Кавказских» роднит кровь. Вообще-то и впрямь нельзя не подивиться непоколебимым убеждениям Хажбикара, утверждающего, что отход от совместного исторического пути с Россией приведёт к исчезновению многих кавказских этносов, в то время, когда там, на Кавказе, вскипают национальные конфликты, когда обострена память о войнах с царской Россией и сталинских депортациях. Уж кто, кто, а те же ингуши распрекрасно знают, что значит быть оторванным от родного очага, где мать пела тебе колыбельные песни, где сделал ты первые шаги. Такого наказания придумать человеку не может никто, если нет в нём сатанинского начала.
Но сатана – не Бог. А Бог, он не в силе, – в правде. Правда же заключается в том, что он, Хажбикар Боков, оказавшийся в восьмилетнем возрасте выселенным, как и большинство его соплеменников, с любимых гор в метельные полупустыни Павлодарской области, что в Казахстане, остался жив, получил впоследствии наравне со всеми блестящее образование и вернулся в родной и солнечный край.
Россия, великая Россия переварила жестокости времени, материнским нутряным теплом отогрела замерзшие души детей своих – рыжих, белых и смуглых, с лицами как «кавказской национальности», так и «рязанско-славянской внешности».
Есть Россия, и есть власть. Есть Отечество и есть режим. Что далеко не одно и то же. Сильные мира сего не раз ввергали державу в различные авантюры, а расплачивался за них, как правило, народ – русский народ по самому высокому счёту. Почему-то в стране, где он значится титульной нацией, в стране, которую злопыхатели окрестили «тюрьмой народов», главным заключённым оказывался «титульный гражданин». Эта вызревшая, выношенная в беспокойной душе Хажбикара Бокова мысль стала впоследствии своеобразной пружиной, подталкивающей его к определённым действиям и поступкам. Это она побудила его, номенклатурного работника, по определению должного бы дрожать за своё место, обратиться в нелучшие времена к написанию острейшего романа-хроники «По зову судьбы». Это она вскинула его, депутата Верховного Совета РСФСР, Председателя Президиума ВС Чечено-Ингушской АССР, на высокую правительственную трибуну с требованием покончить с существующим ущемлением (кого бы вы думали?!) – русских и России, чтобы стала она равной среди равных союзных республик.
Столь неожиданная позиция представителя нацменьшинства, мало сказать, настораживала, она отталкивала Бокова как от правящей верхушки, так и от части национальной, с националистическим душком, интеллигенции горного любимого края. Но она же делала личность «ингушского русофила» поистине легендарной, что имело свои плюсы, давало Хажбикару Хакяшевичу редкую возможность восславить человеческую свободу, говорить «царям» и народу, пусть с улыбкой, но истину. Его книги: «Не навреди», «Интерес с этническим окрасом», «В горах рассказывают…» – это собрания поучительных историй, притч, афоризмов, нравственное, назидательное ядро которых несёт в себе огромной силы очистительный заряд, врачующий в одинаковой мере болезни сознания и «бронированных» чинуш, и, так называемых, простых людей. Диапазон тут трудноизмерим: от товароведа-языковеда с овощной базы до членов партактива республики и даже самого Генсека ЦК.
Нельзя не отметить особый дар Хажбикара писать о людских изъянах не обидно для конкретного человека. Достаточно прочитать хотя бы новеллу «Встреча с вождём», чтобы убедиться в этом. Добродушие, юмор, наивное, вернее нарочито простоватое отношение к происходящему, в котором зачастую принимает участие сам автор (а если и нет, то всё равно каким-то удивительным образом создаётся иллюзия его присутствия) притягивает читателя, вовлекает в действие, отчего эффект воздействия на сознание растёт в геометрической прогрессии.
Крестьянский сын, выросший на природе, он судит о сложных вещах просто и ясно. Но за всем этим, как и за обычными вроде бы результатами труда селянина, кроется большая работа, в данном случае работа души. Бросающаяся порой в глаза прямота в оценках того или иного события – непрямолинейность. Твёрдость в суждениях – не застывшая форма обычных понятий. Это кристалл, огранённый огнём пережитого.
В его системе взглядов превалирует убеждение: всему основа – человеческий созидательный труд, а труд человека на земле философ Боков, подобно французскому просветителю Жан-Жаку Руссо, считает разновидностью искусства, называя крестьянский двор или саклю «Ноевым ковчегом».
Хранитель преданий, семян народной мудрости, знаний, божественной, святой морали и веры, что предки защищали не щадя своей жизни, он и сам, как Ноев ковчег. Слежу за ходом его рассуждений в очередной беседе: «Мы знаем: есть эталон красоты, веса, плодородия почвы… Но имеется ли мера, по которой можно судить о разумности наших действий? Мудрые люди толкуют: такой универсальный показатель существует. Всё, что мы делаем, к чему стремимся, всё выверяется на одних весах, накладывается на один эталон, имя которому – природа. К сожалению, мы давно повернулись к ней не лицом, а другим, неприличным местом».
Боже мой! Так уж не от того ль сотрясают землю катаклизмы, топят наводнения, сжигают пожары, а люди мечутся, что угорелые? Похоже. Ведь ещё академик Вернадский предупреждал: как ни лукавь, что ни придумывай, но лишь по состоянию природы можно определить не только здоровье человека, но и достоверно судить о его морали, культуре, способах хозяйствования.
– Есть на Каспии в Аграханском заливе, – слышу снова голос Хажбикара Хакяшевича, – живописнейший островок, куда любят приехать отдохнуть и поразвлечься граждане: кое-кто увлекается, выпьет лишку, меру потеряет. И беда. На островке нельзя долго задерживаться, его периодически затопляет море. Забудешься, забалуешься – не заметишь надвигающейся воды и – пучина, гибель.
Я потрясён. Что это? Очередная новелла Хажбикара? Пролог философского размышления? Трудно сказать, но в любом случае нечто, не оставляющее тебя беспечным, заставляющее задуматься вдруг не об обыденном, а вечном, космическом. О деяниях и воздаяниях. О том, что человек, чтобы выполнить свою миссию, должен понимать: «быть» важнее, чем «иметь». И ловлю себя на мысли: такое или подобное ощущение возникает по прочтению творений Бокова постоянно. В этом, вероятно, и кроется причина того, что творчество его близко, понятно и ценимо одинаково, что людьми высокого полёта мыслей – учёными, что простолюдинами, вросшими в землю корнями (отчего, быть может, сакрал они ощущают только сильнее).
Сказанное писателем-гуманистом, академиком Боковым находит отклик в душах людей разных национальностей – ингушей, якутов, белоруссов, немцев (а, может, им только думается, что они разные: ведь предки-то у всех одни – Адам и Ева).
Профессор Боков желанный гость на всевозможных симпозиумах – отечественных и зарубежных, где обсуждаются острейшие проблемы современного социума, непростые вопросы совместного бытия «человеков» на нашей крошечной в Божественном мироздании планете. «Молитва о мире» – одна из последних книг Хажбикара.
Слова молельщика, в первую очередь молельщика о России, ждут с нетерпением читатели уникального журнала «Жизнь национальностей», который, он возвратил из небытия, создал заново, превратив в литературно-художественное, научно-публистическое и некоммерческое издание.
Как и прочие творения самобытного автора, публикации журнала, материалы под рубрикой «колонка редактора» нередко находили высокую оценку у известных политиков и государственных деятелей, как-то: Ю. Лужкова, Л. Кезиной, А. Яковлева, у искушенных работников культуры и искусства.
Совсем не случайно, что книги Х.Х. Бокова охотно издают не только в России, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья – в республиках бывшего СССР, распад которого мыслитель объясняет далеко не одними объективными причинами. Напротив, как и известный политолог Тойнби, чьё мнение ценится в мире весьма высоко, он склонен видеть не мало причин гибели великого государства в неразумности действий его верховных правителей.
Когда-то, ещё в годы расцвета, именуемого почему-то ныне застоем, поведал Хажбикар Хакяшевич в одной из книг старую горскую легенду, суть которой сводится к тому, что свершившие священный акт «кровной мести» отец и сын, опасаясь ответного удара, вынуждены покинуть родной аул. В дороге сын вдруг спросил родителя: «Отец, одолев супостата, мы победили или нет?» – «Конечно», – ответствовал тот. – «Тогда почему же мы убегаем?»
Какая великая мудрость, какое стремление понять что-то сверхъестественное кроется в наивном вроде бы вопросе мальчика. Разве не раздирала также наши души боль от сознания украденных у нас побед? Разве не убежали мы из Советского Союза, оставив с великим напряжением завоёванные некогда рубежи, открыв двери нечисти, что волнами всемирного потока захлестнула непорочные, не привыкшие иметь дело с сатанинскими силками чистые, не развращённые сердца людей. Нечисть правит бал в бизнесе, политике, на экранах телевизоров, в прессе, и даже конституционный гарант прав граждан, обессилевших от злобы, растления, беспредела, не может пока остановить этот шабаш.
Ныне покойный выдающийся русский философ (земляк мой – костромич) Александр Зиновьев, определяя собственную сущность как аналитика и отметая «прилипшее» к нему определение «пессимист», сказал: «Я – учёный, оперирую точными понятиями, а пессимизм с оптимизмом больше соответствуют сфере духовно-эмоциональной». Эта беспощадная зиновьевская логика привела его к поистине апокалипсическому выводу, когда он задался целью проанализировать путь человечества, оказавшегося в тисках «западнизации»: – «Похоже на то, что это будет история, которая по своей трагичности намного превзойдёт все трагедии прошлого».
Возможно ли избежать столь кромешной участи? Что говорит по этому поводу не менее чтимый философ Хажбикар Боков? Он соглашается с коллегой. Соглашается в том, что история повторяется, и не обязательно в виде фарса (это было бы ещё полбеды), а как – ещё большая трагедия. Эту горькую истину нам довелось познать в полной мере уже в сегодняшние дни.
Но прошу обратить внимание, Боков не столь подвержен унынию в отличие от Александра Зиновьева, игнорирующего духовно-эмоциональную сферу в логике. Объясняется это, пожалуй, тем, что Хажбикар Хакяшевич стал использовать не только в писательском своём творчестве, но и в исследовательской работе духовные инструменты. Одним из первых, если не первый, обратил он внимание на феномен совести – совести как основы человеческого понимания и благополучного разрешения современных проблем государственного строительства в России да и всех нынешних, кризисных противоречий в международной, национальной политике.
– Всё зависит от людей, – решает старая дворянка Любовь Сергеевна, доживающая в крайней бедности свои дни на окраине города Грозного в комнатке саманного домика. Вроде бы затёртое выражение. Но в устах этой дамы оно звучит просветлённо – ново. Потому как произносит она его после прихода к ней, отторгнутой большевистским режимом в разгар собственных деяний, главы Президиума Чечено-Ингушского Верховного Совета Хажбикара Бокова. Приходит тот, как говорится без охраны, а после визита изыскивает возможность оказать ввергнутой, быть может, и в заслуженные страданья аристократке столь необходимую ей в тот момент материальную и медицинскую помощь
Что руководило поступком, да, да поступком Хажбакара Бокова? Наверное, смысл прожитой жизни. И память. Память нелёгкого детства. Память о том, как он, пастушок-ингушонок, в пёстро-коричневом полушубке из овчины домашней выделки и нелепой косматой шапке, словно толстовский Филиппок, мнётся неловко перед строгим школьным учителем в далёком казахском селе и умоляет «принять учиться». У учителя Рэпа (такого же переселенца, поволжского немца) на глазах – слёзы. У мальчишки в глазах – надежда.
Надежда… Она не угасает в нём и теперь. Не угасает в трудах (только что вышла в свет книга его, название коей «Надежда – Россия»). Она светится, лучится в добрых кротких глазах провидца, чисто, широко распахнутых миру, что свойственно, говорят только детям. А им, как гласит Святое писание, принадлежит Царство Божие.
Воскресение и вознесение
«Когда кипит морская гладь
Корабль в плачевном состоянии».
Не знаю, но почему-то именно эти слова душевнейшего поэта России С. Есенина, ставшего чуть ли не символом ее, а, между прочим, и автором непревзойденных «Персидских мотивов», пришли мне на ум, когда прочитал в книге Ахмета Хатаева «Враг народа» потрясающую мусульманскую притчу. Не могу не пересказать ее.
Пророк Мухаммед спросил Архангела Джабраила, посетит ли он землю после смерти его и сколько раз? Архангел ответил: сойду десятикратно. Первый – когда изобилие земли оскудеет. Потом дважды, если люди потеряют любовь. В четвертый раз я спущусь с небес, чтобы узреть лишенных стыда жен, матерей и невест. В пятый и шестой разы – увидеть несправедливых правителей, народ без терпения, богатых без милосердия. Будет восьмой раз, когда ученые потеряют знания. А затем, уж, при девятом моем пришествии, мне ничего не останется, как забрать у людей Святую книгу. А во время десятого – и Веру саму. И наступит для живущих последний день, когда солнце взойдет с Запада.
Зловещий смысл этих пророчеств падения рода человеческого тогда, наверное, не только мне, но и писателю, поведавшему откровения Джабраила, представить было не просто. И уж тем более то, что за этим неминуемо последует – хаос безбожия, разгул бесовщины, вселенского зла, торжество кровавого бизнесмена – «золотого тельца», когда ум воспротивится признать жуткую явь за правду.
Взгляд выхватил в груде битого кирпича голову и руки ребенка. «Может ли быть такое?» Широко раскрыты глаза девочки кричали о том, что она воочию увидела страх погибели, и ужаснулась ее кровожадности. Руки, простертые навстречу смерти, застыли в немом вопросе: «За что?» А может быть, она не сразу уступила злому року, какое-то время боролась с ним, пыталась жить? И потому тянулась к свету вместе со своей куклой…Где-то высоко в небе подобно коршунам, выискивающим очередную жертву (а может, святую книгу – Г. П.) летела пара самолетов. Разглядывая через многосильные окуляры испуганное лицо нефтяного города, посыпанные пеплом варварства белоснежные вершины гор.
Эти строки, сочащиеся невыносимой болью, – запредельная правда, и они тоже из книги Ахмета Хатаева. Новой, недавно вышедшей. С пронзительным названием «Ночи без бога».
Книга – как бы третья часть единого произведения, начало которому положили повести Ахмета, вероятно, многим известные «Эшелон бесправия» и упомянутая выше – «Враг народа». В них, как доводилась мне говорить в печати, Хатаев проявил себя не только как самобытный художник, но и историограф чеченского народа – народа с горькой судьбой, изгнанного в середине прошлого столетия очередной раз с родной земли. Знакомясь с неизвестными ранее и приведенными в книге документами об этой трагедии, углубляясь вместе с автором в потаенные слои самосознания и культуры чеченцев, с помощью языка коих были, оказывается, расшифрованых надписи на камнях древнего государства Урарту, невозможно было не содрогнуться от той жестокой доли, несправедливости, гонимой участи, что с завидным упорством преследует, во все времена, умных, гордых, свободолюбивых, но беззаветных и простодушных вайнахов.
Однако, сердечно сочувствуя несчастным, а художественное, эмоциональное изображение происходящего автором еще и усиливает сострадание, вдруг начинаешь ощущать, что подспудно, против воли, в тебе начинает зреть крамольная мысль. И она проявляется тем явственнее, чем глубже проникаешь в творчество историка-гуманиста. Более того, начинаешь понимать, что он сознательно культивирует в читателе некое своеобразное прозрение, методично и неуклонно подводя его к закономерному вопросу: «А только ли вайнахов коснулось, говоря словами бездомного русского поэта Николая Рубцова, «веянье тонкого хлада?» И почему? Ответ у Хатаева приготовлен. Он с особой четкостью и ясностью прозвучал в заключительной части трилогии со своеобразным, на многое открывающим глаза, названием. Потому-то и почувствовал я, читая сей труд, что смотрю на «проклятый чеченский вопрос» глазами даже не русского человека, а просто человека, оказавшегося со своим собратом по людскому сообществу, перед лицом одной и той же отчаянной беды – безбожием, сатанизмом, всемирным злом, которые ядовитыми змеями вползли в трещины, возникшие между нами в результате отхода от всеобщих небесных начал в человеке, таких, как благочестие, почитание предков, стремление к добру, знаниям, трудолюбию.
Ныне, когда мир оторопел от чеченско-русской трагедии (повторяю, чеченско-русской, а может быть, и общечеловеческой), когда коренным образом пересматривается взгляд на историю развития общества, как историю борьбы классов, кое-кто начинает пленять массы идеями огромной энергии и накала, заменяя в марксистско-ленинском учении эту самую борьбу классов…борьбой религий.
Какое чудовищное, дьявольское измышление. «Все под единым Богом «ходим», хотя и не в одного веруем», – это наша, русская поговорка, утверждающая великую истину единого Творца и Спасителя, близость и родство между людьми различных национальностей. Она прямая наследница учения Христа, провозгласившего: «Нет для меня ни эллина, ни иудея». Но ведь точно такой же подход к вере, к братству народов звучит и в Коране. Важно знать, что «ислам» в переводе с арабского означает мир, безопасность, спокойствие, чистоту намерений. Пророк Мухаммед говорил: «Вы никогда не войдете в рай, пока не уверуете в Бога. Но вы не уверуете в Бога, пока не полюбите друг друга».
Чего еще надо! И царство Божье есть. Оно внутри нас. Да плоть людская так слаба. Мы забыли заветы своих пророков, великих предков. И то ли от усталости, то ли в силу других корыстных причин прислонились, по определению Хатаева, к сатанинскому дому лжи. «Мы ленивы и не любопытны». Помните эти слова Александра Сергеевича Пушкина из его «Путешествия в Арзрум»? Пушкина, озвучившего негасимую мечту людей доброй воли о том,
Когда народы, распри позабыв, В единую семью соединятся…Безусловно, гений России прекрасно понимал роль конфессиональной доминанты, составляющей основу любого национального бытия. Но при этом поэт охарактеризовал мир ислама как близкий русскому менталитету, увидел в этом мире союзника России. Разумеется, при определенной духовной миссии со стороны ее. Сожалел искренне: «Но легче нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать книги людям, не знающим грамоты». Не случайно, стало быть, старался он, великий гражданин, внушить императору Николаю I, к сожалению, безуспешно, что все добрые дела и реформы начинаются с просвещения – просвещения любовью, которое в молитвенных текстах напрямую связано со светом. В его функции – разгонять тьму, что равнозначно очищению от греха.
Однако, что ж я о Пушкине? Да то, что коснулся его и Ахмет Хатаев в своем творении-эпопее, не боюсь такого определения. Коснулся и высек искру, поведав о знаменательной встрече Александра Сергеевича с человеком, которого тот называл не много, не мало – «Грозою Кавказа» и «Славным Бейбулатом». Да, то был Бейбулат Теймиев, искавший в грозные годы «ермоловского покорения», вопреки всему, пути к миру, а не бряцавший оружием, зовя тем самым в свой дом большую беду, понимая, что война не рождает сынов. Как злободневно, насущно все это сегодня.
«Смирись, Кавказ: идет Ермолов», – кто не знает этих слов русского поэта-пророка, толкуя порою их смысл, что ни на есть самым «сверправозащитным», «сверхдемократическим» образом. А что, если он, как и Бейбулат, а впоследствии и знаменитый Кунта-Хаджи, призывал чеченцев к непротивлению злу не безропотно покориться всесильному завоевателю, коего называл он (найдено в незавершенных работах Пушкина – Г. П.) – не удивительно ли – «великим шарлатаном». Призывал смирить гордыню, дабы спастись чеченцам как этносу.
«Если народ исчезнет, то все остальное перестает иметь значение». Какие слова…Они приведены в книге Хатаева. Слова просвещенного кавказца Кунта-Хаджи, с самого начала сумевшего понять, что сабля Шамиля ведет к погибели народы Кавказа. Он, прочитавший тысячи страниц истории человечества, износивший десятки пар обуви, как пишет Хатаев, на пыльных дорогах Ближнего и Среднего Востока, нашел ключ к спасению. Задолго до сына индийского народа Ганди и великого Льва Толстого сделал открытие, суть которого состояла в ненасильственном сопротивлении злу, отыскании и использовании иных путей для преодоления препятствий, чинимых несправедливостью, в игнорировании зла, неучастии в делах его носителей.
«Умейте жить с русскими, – взывал подвижник-просветитель. А ему как бы вторил российский, православный мудрец Федор Михайлович Достоевский: «Долго еще не поймут…теперешние…единения в братстве и согласии…объяснить им это беспрерывно делом и великим примером будет всегдашней задачей России впредь…Воплотить и создать, в конце концов, великий и мощный организм братского союза племён…не мечом, а убеждением…любовью, бескорыстием, светом… – вот цель России, вот и выгода ее, если хотите».
Смирись, гордый человек. Эта мысль, похоже, особо любезна и автору рецензируемой книги. Смирись, покайся, вознесись к свету из тьмы, воскресни для новой жизни, ибо нет вознесения без воскресения, не верь тому, кто утверждает, что «колесо жизни» крутят будто бы свинья, змея и курица. Первая – как символ уродства, вторая – коварства и третья – легкомыслия.
Вообще, книга Ахмета Хатаева представляется мне явлением необычайным. Ведь в ней отражены события прямо-таки библейского масштаба. Спектр суждений, мыслей, взглядов на деянья и судьбы народов, властей и их подручных, развернувшийся здесь, настолько разнообразен, что порою теряешься и кажется, что ты в мире хаоса. Тем не менее, это не так. Суждения взаимосвязаны, все движется, подает импульсы. Это комок нервов, где чувствуется центральная нервная система, есть голова и видно, куда она клонит.
Да, в книге мозаично приведены различные философские умозрения, показаны люди всевозможных рангов и положений: Джохар Дудаев, ответственные работники Администрации Президента России, генерал федеральных войск Лютов, деятели науки, искусства, православный поп-отец Фёдор, мулла Хизир, боевики, российские солдаты и офицеры, простые люди…Все ищут правду (она разная), ко всем автор внимателен и терпим. Даже к апологетам сталинско-бериевского режима. О ленинской же политике на Кавказе сказано с явной теплотой. Что ж, так, наверное, и должно быть в эпохальном произведении, которое по жанру, как определил бы я, сродни творениям живописца Ильи Глазунова, таким, как «Великий эксперимент», «Мистерия XX века», «Вечная Россия» – полотнам, где, думается, ярко заявил о себе новый творческий метод освещения жизни – философско-исторический реализм. Метод, позволяющий взглянуть на эту самую жизнь, по выражению одного из героев Хатаева, не из-за бруствера, а сверху, по-божески – «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии».
Поступив так, мы, вероятно, приблизимся к Истине, где в подлинном свете вырисуется и амбициозный чеченский президент, рядящийся в тогу борца за независимость народа, а на самом деле лишь тешащий непомерное тщеславие. И тот же Лютов – современный двойник николаевского сатрапа Ермолова, слепой бездушный исполнитель недавнего сумасбродного российского правителя – бесчувственного, неразумного проводника закордонной воли масонского мирового правительства.
И в белых одеждах, а не по колено в крови, как те, одержимые гордыней и неутолимой жаждой славы и власти, Герои, которым «поется» гимн в картине знакомого нам Ильи Глазунова, увидятся людям их святые ратоборцы: Александр Матросов, мой земляк, костромич Юрий Смирнов, распятый фашистами-сатанистами, как Иисус, на кресте, легендарный Ханпаща Нурадилов…Без них, все-таки, вопреки мнению Брехта, как и без великих государственных личностей, было бы трудно народам – будь то Пётр I на позолоченном царском троне или казак Емельян Пугачёв в мужицком сермяжном зипуне. «Как жаль, что не нашлось среди чеченцев во власти нового Теймиева, способного обойти стороною зло и отвести от чеченских очагов испепеляющую всё и вся войну». Эта, приведенная Хатаевым в книге сентенция доктора исторических наук, недавно оставившего сей бренный мир Джабраила Гакаева, с кем доводилось мне встречаться, не веское ли доказательство тому, сколь велика все же в истории роль личности. Скажу к слову: как жаль, что не допустили до себя в свое время кремлевские властители консультантов, что могли бы, подобно Грибоедову, графу Воронцову, подсказать: не гоже воевать с вайнахами, с ними надобно торговать, использовать лучших на государственной службе.
Однако примечательно, что имена славных чеченцев и русских поставлены Хатаевым в один ряд. Значит, мы едины.
С небесной высоты непременно разглядим мы «молодящееся личико» старой западной дамы-демократии, этой богомерзкой болтуньи-начетчицы, уходящей корнями к евангельским книжникам и фарисеям, тем, что обрекли, как известно, на казнь самого Иисуса Христа. У нее редкая способность менять черный цвет на белый, и наоборот.
Поразительно самомнение её, полагающей, что без нее в других частях света, как верно подмечено Хатаевым, люди и кусок хлеба не смогли поделить по совести. При этом «неукротимая «правозащитница» и «человеколюбица» напрочь забывает о разграбленных ценностях, скажем, Востока. Что-то не слышно требований вернуть, допустим, индийскому народу похищенный из Тадж-Махала самый древний из существующих на свете алмазов – «Кох-и-Нор».
И, может, поймём мы, наконец: нет в мире случайностей, что они есть ни что иное как «мощнейшее, мгновенное орудие Провидения». Это опять же по Пушкину. В его творчестве, кстати, тоже нет ничего случайного. Конечно же, не просто так поместил он в том же «Путешествии в Арзрум» мало, как кажется, исследованное приложение, данное, правда, на французском языке, – «Заметка о секте езидов». Есть перевод ее. Потрудитесь, граждане, прочтите. И увидите тогда, быть может, среди нынешних политиков, царедворцев, властителей, дипломатов, да и в своей среде этих самых езидов, что считают первым правилом: заручиться дружбой дьявола и с мечом встать на его защиту.
Будьте бдительны, благоверные. Не забывайте, что все мы очень схожи между собою. Нас породили божеское начало и земля. Мы нужны Создателю: в наших сердцах пролегает поле нескончаемой битвы его с сатаной. Жизнь людская бесценна, как бы ни пытались свести ее к нулю нелюди. В Писании сказано: убийство одного человека Аллах приравнивает к убийству рода человеческого.
Храните себя. «Мы, умерев, заново не родимся, состарившись, заново не помолодеем. Родившие нас матери заново нас не родят», – не так ли гласит чеченский эпос? Даже в подстрочном переводе, приведенном Ахметом Хатаевым, он вывернул душу мою наизнанку. И захотелось на этом остановить свой разговор о книге, которая, не сомневаюсь, найдёт и других, более вдумчивых и прозорливых, читателей и рецензентов.
«Что там у вас хорошего?»
Врезалось в память. Тёмной августовской ночью возвращаемся мы домой из гостей с бабушкой Варварой Ивановной из села Контеево. Там 28 августа отмечается ежегодно праздник Успенья Пресвятой Богородицы. Ночь, как это бывает в конце последнего летнего месяца, была повторю, тёмная-претёмная. Но зато, как неистово ярко светили тогда звёзды на небе. Не знаю, что осенило меня, мальца (я тогда ещё и в школу не ходил), когда, глядя на мигающие небесные светила, восторженно воскликнул:
– Бабушка, а звёздочки-то, будто чьи-то глаза!
И бабушка, добрая, неграмотная старушка, спокойно так отвечает:
– Это, внучек, смотрят на нас жившие когда-то люди. Отец твой на войне погибший, братья его убиенные, мой тятенька с маменькой, дедушки и прадедушки – все, все, кто жил и работал славно на благодатной земле. Звёзды – глаза их и души. Они радуются, блестят, если у нас хорошо, и темнеют, никнут, когда мрачнеем мы. Запомни это.
В моём детском сердце прошёл трепет.
Потом, повзрослев, заходя в божий ли храм, или крестьянскую избу, где в красных углах стояли ещё иконы, вглядываясь в суровые лики, я иногда думал: да уж святые ли изображены здесь народными живописцами? Не пахари ли и сеятели Древней Руси смотрят на нас сквозь века с немым вопросом во взоре: «Что там у вас хорошего?» И как-то беспокойно и стыдно становилось вдруг, если гнездились в душе дурные помыслы и будоражили совесть неправедные дела.

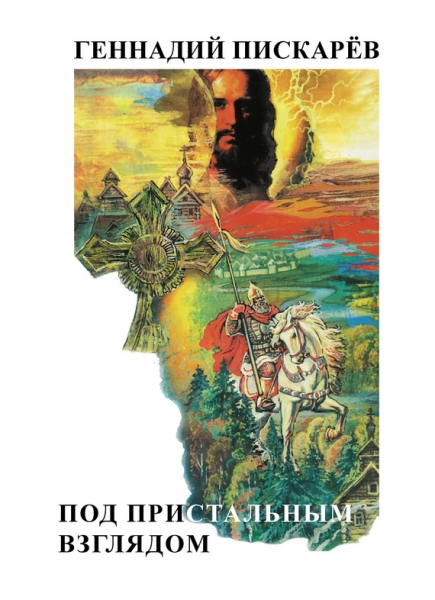










Комментарии к книге «Под пристальным взглядом», Геннадий Александрович Пискарев
Всего 0 комментариев